Привенчанная цесаревна. Анна Петровна
Энциклопедический словарь,
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. 1-а, Спб 1891
ННА ПЕТРОВНА, цесаревна и герцогиня Голштинская — 2-я дочь Петра Великого и Екатерины I, родилась 27 января 1708 г., умерла 4 марта 1728 г. Будущий супруг Анны Петровны, герцог Гольштейн-Готторпский, Фридрих Карл, приехал в Россию в 1720 г. в надежде при помощи Петра Великого возвратить от Дании Шлезвиг и приобрести снова право на шведский престол. Ништадтский мир (1721 г.) обманул ожидания герцога, так как Россия обязалась не вмешиваться во внутренние дела Швеции, но зато герцог получил надежду жениться на дочери императора, цесаревне Анне Петровне. 22 ноября 1722 г. был подписан давно желанный для герцога контракт брачный, по которому, между прочим, Анна Петровна и герцог отказались за себя и за своих потомков от всех прав и притязаний на корону Российской империи. Но при этом Пётр предоставлял себе право по своему усмотрению призвать к сукцессии короны и империи Всероссийской одного из рождённых от сего супружества принцев, и герцог обязывался исполнить волю императора без всяких кондиций. В январе 1725 г. Пётр опасно заболел и незадолго до смерти начал писать: «отдать всё...», но далее продолжать не мог и послал за Анной Петровной, чтобы продиктовать ей свою последнюю волю; но когда цесаревна явилась, император уже лишился языка. Есть известие, что Пётр, очень любивший Анну, хотел ей передать престол. Бракосочетание герцога с Анной Петровной состоялось уже при Екатерине I — 21 мая 1725 г., в Троицкой церкви на Петербургской стороне. Вскоре герцог был сделан членом вновь учреждённого Верховного Тайного Совета и вообще стал пользоваться большим значением. Положение герцога изменилось по смерти Екатерины I (умерла в 1727 г.), когда власть перешла всецело в руки Меншикова, вознамерившегося женить Петра II на своей дочери. Меншиков поссорился с герцогом голштинским, супругу которого не желала видеть на престоле противная Петру II партия, и добился того, что герцог с Анной Петровной оставили Петербург 25 июля 1727 г. и уехали в Гольштинию. Здесь Анна Петровна умерла 4 марта 1728 г., едва достигнув двадцатилетнего возраста, разрешившись от бремени сыном Карлом-Петром-Ульрихом (впоследствии император Пётр III). Пред кончиною Анна Петровна выразила желание быть похороненной в России близ могилы её отца в Петропавловском соборе, что и было исполнено 12 ноября того же года. По свидетельству современников, Анна Петровна очень походила лицом на отца, была умна и красива; очень образованная, говорила прекрасно по-французски, по-немецки, по-итальянски и по-шведски. Известно также, что Анна Петровна очень любила детей и отличалась привязанностью к своему племяннику Петру (сыну несчастного царевича Алексея Петровича), остававшемуся в тени в царствование Екатерины I.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
АННА ПЕТРОВНА (1708—1728), цесаревна Всероссийская.
ПЁТР I АЛЕКСЕЕВИЧ, император Всероссийский, отец Анны Петровны.
ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА, императрица Всероссийская, супруга Петра I, мать цесаревны Анны Петровны.
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, цесаревна Всероссийская, сестра Анны Петровны, в будущем — императрица Всероссийская.
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, царевна, сестра Петра I, тётка и крёстная мать Анны Петровны.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, царевна, сестра царя Алексея Михайловича, тётка Петра I.
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, царевна, дочь царя Алексея Михайловича, сводная сестра Петра I.
ПРАСКОВЬЯ ФЁДОРОВНА, царица, супруга сводного брата и соправителя Петра I Иоанна Алексеевича.
ЕКАТЕРИНА ИОАННОВНА, герцогиня Мекленбургская, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны.
АННА ИОАННОВНА, герцогиня Курляндская, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны, в будущем императрица Всероссийская.
ПРАСКОВЬЯ ИОАННОВНА, царевна, дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны.
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, царевич, сын Петра I и его первой супруги, царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной.
РОМОДАНОВСКИЙ ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ, государственный деятель, соратник Петра I.
РОМОДАНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ФЁДОРОВНА, боярыня, сестра царицы Прасковьи Фёдоровны.
МОНС АННА ИВАНОВНА, гражданская супруга Петра I.
МОНС ВИЛИМ ИВАНОВИЧ, брат Анны Ивановны, камергер.
МАВРА ЕГОРОВНА ШЕПЕЛЕВА (по мужу — графиня Шувалова), приближённая Анны Петровны и Елизаветы Петровны.
НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ, художник, персонных дел мастер.
СТРОГАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, барон, придворный.
ЗОТОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, сын первого учителя и соратника Петра I Никиты Моисеевича Зотова, генерал-майор.
КАРЛ-ФРИДРИХ, герцог Голштинский, супруг Анны Петровны.
ПЁТР III ФЁДОРОВИЧ, император Всероссийский, сын Анны Петровны и герцога Голштинского Карла-Фридриха.
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ, государственный деятель, дипломат, придворный двора герцогини Курляндской.
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, его сын, государственный деятель, выдающийся русский дипломат.
ТОЛСТОЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ, государственный деятель, соратник Петра I, выдающийся дипломат.
ИЗМАЙЛОВ ИВАН, архангелогородский губернатор.
МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, государственный деятель, соратник Петра I.
АРСЕНЬЕВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА, дочь стольника, сестра жены А. Д. Меншикова.
АРСЕНЬЕВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА, жена А. Д. Меншикова.
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, кабинет-секретарь Петра I.
Часть I МОЛОДЫЕ ГОДЫ БАТЮШКИ
1671 года Генваря 22 в неделю Великий
Государь царь Алексей Михайлович приходил
перед обеднею с духовником к святейшему
патриарху Иоасафу для благословения
законного второго брака сочетания. Сего ж
числа Великий Государь венчался в соборной
церкви и после венчания за час ночи приходил
от Великого Государя боярин и оружейничий
Б. М. Хитрово с короваем и с сыром, да с
убрусом и с ширинкою. Генваря 23 в шестом
часу ночи приходил к святейшему патриарху
Иоасафу от Великой государыни царицы
Натальи Кирилловны Меньшой Дружка
Иев Демидов Голохвастов с овощами,
с сахарной коврижкою.
Из Домовой книги патриаршьего Приказа. 1671.Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю,
о которой подробно писать рука моя не может,
купно же и сердце.
Пётр I — Петру Апраксину. 25 января 1694.0 кончине матери своей царицы Натальи Кирилловны.Пётр I, патриарх Адриан[1].
— Владыко! Владыко! Государь Пётр Алексеевич к крыльцу идёт. Торопится, владыко, только что не бежит. Принимать-то где его будешь — в Столовую палату спустишься аль тут — в передней келье останешься? Нам-то, нам что делать велишь?
— Здесь останусь. Разговор у нас, видать, потаённый будет. В келейке в самый раз.
— Подавать чего надо ли?
— Без угощенья какой разговор. Романеи выставь давешней. Заедок набери. Да яблок, яблок красных, что в рядах сторговал, непременно выставь. Чтоб одно к одному — любит их государь.
Тепло в патриарших палатах. Куда как тепло. Чуть-чуть ладаном росным потягивает. Иной раз дымком сосновым: его святейший больше берёзового жару любит. Огоньки лампадок колеблются: полом ветерок ходит — как ни оберегайся.
А оберегаться надобно. Неможется святейшему. Давно неможется. Никому виду не подавал. На поставлении всё голова кругом шла — один келейник Пафнутий знал. Зорко следил, чтоб огреха какого не случилось. Не случилось. Поставили. А здоровья не прибавилось. Вот и сегодня после ранней обедни прилечь задумал — не вышло.
— Владыко! Отец!
— Здравствуй, государь. Здравствуй на многие лета. Обрадовал ты меня приходом своим, сказать не могу, как обрадовал. Думал, недосуг тебе в твоих делах и заботах.
— К тебе прийти недосуг! Да что ты, владыко! После кончины матушки один ты у меня близкий человек остался. От тебя одного честного слова и утешения жду. Больше не от кого. Не верю. Никому не верю.
— А сестрица как же, государь?
— Наталья-то? Наталья и впрямь за меня живот положит. Только сколько она в нашем змеевнике может! Всего ничего. Дай Господь, сама бы была жива и здорова.
— Разуверять не стану, государь. Надо бы мне тебе по сану моему о любви к ближнему толковать. Надо бы...
— А совесть не позволяет, верно, владыко? Не так чтобы мне матушка в деле помогала. Где там! Всего-то опасалась. Куда ни поеду, отговаривала.
— Как же матери иначе. Ведь о своём рожоном дитяти пеклась. Что ей до государства, был бы сын жив-здоров.
— Да нет, владыко, ты тех времён не застал, когда покойная царица за престол для сына билась. Чего добиться могла, иной разговор. А без престола меня видеть не могла.
— И то понять можно, государь. Мать сундуки для сына выворачивает — что получше ищет, а тут царство!
— Лежало у тебя сердце к ней, владыко, знаю, что лежало. Не то что у покойного кира Иоакима. Тому Милославские ближе были. Знаешь, о чём я тут на днях подумал: как это в нашем царстве все патриархи каждый к своему государю прилежали. Ни один о державе не заботился. Вспомни-ка, патриаршество кто ввёл? Борис Фёдорович Годунов. Затем и ввёл, что Иов, первый наш патриарх, за него до последнего стоял.
— Прав ли я, государь, не прав, только, по моему разумению, не должна власть церковная царской противостоять, только что во всём помогать. Государству церковному в Государстве мирском негоже быть. Державе то не на пользу. Мудрый человек покойный Никон[2] был, ан чем его мудрость Московии нашей обернулась: раскол да раздоры, сшибки братоубийственные, будто настоящих врагов округ не хватает. Другое дело — патриарх Филарет...
— О предке[3] не говори. Не люблю. Сан свой от кого получил? От вора и расстриги? От вора тушинского? Что — цены разбойнику не знал, а ведь и потом от сана не отказался, с себя не сложил.
— Не о том, государь, вспоминать надо, не о том. Теперь-то уж и тайны в том никакой нет, что он государством управлял. Без малого десять лет, как из польского плена вернулся, его из Смутного времени к свету выводил.
— А может, дед Михаил Фёдорович[4] и без него бы не хуже справился? А тут то прабабка, великая старица, всем распоряжалась, ни в чём никому пощады не знала, то Фёдор Никитич власть перехватил. Матушка сказывала, даже в семье воли ему не дали, на всю жизнь обидели — в свои игры играли.
— О чём ты, государь?
— О том, владыко, что полюбилась царю безвестная дворяночка, помнится, Марья Хлопова. Хороша ли, плоха была, не о том речь. Ему по сердцу — вот что главное. Сговорили их честь честью. Её в терем ввели, а там и порешили…
— Как порешили, государь? Не было такого в царских теремах.
— Не было? Ан было. Порешили на свой способ. Стали к венцу убирать, волосы в косе так затянули, что в глазах у девицы потемнело, сознания лишилась. А прабабка рада-радёшенька. Мол, порченую девку подсунули. Марью из дворца. Всю семью в ссылку в Сибирь. А деду иную девицу по их расчёту подсунули: царь — значит, наследников иметь должен. Смирился бедолага. А Марью всю жизнь помнил. Семейство из ссылки вернул. Должности всем нашёл. Её оправдал. Да прок какой! Счастье-то мимо прошло.
— О чём поговорить со мной хочешь, государь? Вижу, тяжко у тебя на сердце. Это в твои-то молодые годы! Скажи, что душу гнетёт, глядишь, вдвоём и разберёмся.
— Да уж, владыко, коли говорить, только с тобой. Никогда не забуду, как кир Иоаким перед кончиной собрал на собор всё московское духовенство и архиереев, чтобы торжественно «папёжников» осудить.
— Сборник кир Иоаким собирался издать в опровержение латынян. «Остен» его назвал. Не успел. Скончался.
— А в завещании нам с Иоанном Алексеевичем предписал иноземцев сторониться. Ни в чём им на русской земле ходу не давать. Не брату завещал — мне. Мне одному!
— Что покойников тревожить, государь. Ты за державу в ответе, тебе и решать, что лучше.
— Неужто его бы слушать стал. Да вот Иоанн...
— А государь Иоанн Алексеевич чем тебе помеха? Плох он со здоровьем, совсем плох. Вон как в молодые-то годы одряхлел. Видит еле-еле. Да тут ещё паралич прихватил. Ещё в прошлом году, государь, тебе о том толковал.
— Может, и одряхлел на вид, да дело своё мужское, гляди, как справляет. Прошлым годом царица Прасковья Фёдоровна царевну Анну Иоанновну принесла, в этом — царевной Прасковьей Иоанновной подарила. Екатерине Иоанновне уже четвёртый годок пошёл. Глядишь, и до сынка дело дойдёт.
— Всё равно моложе царевича Алексея Петровича окажется.
— Моложе... Вот из-за того покойная родительница и заторопилась меня женить, камень на шею навязала. Думай теперь, как жить. Глаза б мои её, постылую, не видели.
— Грешишь, государь, грешишь! Чтоб так о супруге богоданной, перед святым алтарём венчанной! Смириться бы тебе, государь, получше к царице Евдокии Фёдоровне присмотреться. Ну, другая показалась, ну, побаловался маленько — кто Богу не грешен, царю не виноват, так ведь это проходит, государь, верь, проходит.
— У меня не пройдёт! И слов на меня не трать, владыко. Знаю, иначе говорить тебе сан твой не позволяет, а ты по-человечески на дело взгляни. Оженили меня, когда ещё и к девкам-то не тянуло. Выбора сделать не дали — хоть на первый взгляд, словом перемолвиться не успели. Да оно и слава Богу, потому что никаких слов у Евдокии Фёдоровны отродясь не водилось. Окромя пуховой постели да сытного стола, знать ничего не хочет. Чуть что в слёзы. Чего ревёт, чего хочет, сама сказать не может. Скажешь, владыко, все теремные девицы у нас такие? А как же царица Прасковья Фёдоровна? И обиход знает, и словечко ввернуть в беседе сумеет, и во всяком разговоре, хоть самой сказать нечего, сидит слушает. Знала сестрица Софья Алексеевна, какая поддержка братцу её, головкой слабому, нужна. И здесь не промахнулась!
— Твоя правда, государь, всем царица Прасковья Фёдоровна взяла. И красотой ни с кем не поделилась.
— Что уж там! Так и говорят, первая красавица. И с царевной Софьей, умница, не дружилась, Так-то ловко от лишних встреч увёртывалась. Всё в сторонке держалась. Будто в правительницу не слишком верила.
— И так быть могло. Или не по душе ей правительница пришлась. Говаривали, будто царевна Софья от невестки всё наследника добивалась, а та и забеременеть не могла, даром что Иоанн Алексеевич куда моложе был.
— Скажи, владыко, пока Василий Юшков их царским хозяйством не занялся. С 1684-го года супруги без деток жили, а с 1691-го, как Юшков пришёл, за дело принялись.
— Юшкова убрать хочешь, государь?
— Пока нет. Чего зря невестку обижать. Хотя с сыночком дело может выйти непростое. И всё равно, владыко, не тем голова занята. С тобой посоветоваться хотел. Надобно смотр новым войскам произвести. Потешным, как в народе их звать стали. Поглядеть в деле, они ли, стрельцы ли лучше. Войско готовить. Только смотр необычный, а вроде бы сражение промеж них. Там всё и прояснится.
— Сражение, государь? И где же? А людишкам ли беды какой от того не будет?
— Место выбрал под Кожуховом. Время — с половины сентября, как все работы полевые кончатся. А людишки — Бог милостив, много не сгинет. Понарошку ведь биться будем, так что если только случаем кого пришибёт, заденет.
— Тебе, государь, виднее. Коли нужно моё благословение, даю его с лёгким сердцем.
— И ещё, владыко, надобно мне собрать как можно больше ратных. Больно много народу на местах засиделось — о деле военном начисто забыли. Так вот хочу собрать подьячих всех приказов для обучения ратному делу — конных с пистолетами, пеших с мушкетами. Помещиков тоже из двадцати двух городов.
— Широко размахнулся, государь, широко. Господь тебе в помочь. Себя, Пётр Алексеевич, береги. А насчёт приказного семени доняли они меня, куда как доняли.
— Это что окна твоих покоев на Ивановскую площадь выходят? Гляжу, и через притворенные оконца гул стоит.
— А как ему не быть. Это ещё сегодня день обыкновенный, а то надысь перед Московским Судным приказом били кнутом дворянина Семена Кулешова будто бы за ложные сказки. Днём раньше Земского приказу дьяк Пётр Вязьмитин перед Судным приказом подымай на козел и бит батогами нещадно — своровал в деле. А что крику стояло, как Григория Языкова с площадным подьячим Яковом Алексеевым батогами правили — те и вовсе в записи записали задними числами за пятнадцать лет. Семьи собрались, бабы вопили, старухи выли — светопреставление и только.
— Владыко, — только сейчас на ум пришло — а не по той ли ты причине все покои свои перестроить велел — от площади отгородиться, да чуланчики маленькие?
— Всё-то ты, государь, доглядишь. Да и холоду не люблю. В маленьких чуланчиках тепло дольше стоит. Забыл спросить, персону-то матушкину хотел ты дать списать — списал ли?
— А как мне её, родимую, было около себя иначе оставить? Михайла Чоглоков преотлично списал во успении в самый день кончины. У меня теперь в опочивальне висит — душу греет.
— Большую бы ты, государь, радость матушке доставил, коли бы мир в своей семье навёл. Так она, покойница, убивалась, что о доме забываешь, куда бы ни отлучился, первым долгом в Немецкую слободу скачешь. Гостей у немки принимаешь.
— Не надо про то, владыко. Мой грех, я в ответе и буду. Встретил я Анну Ивановну в 1691 году, с тех пор одна она у меня — свет в окошке. И так завсегда останется. Не вправе я тебе того говорить владыко, сам знаю, но была со мной моя Аннушка и будет. И никого мне больше не надо. Прости на дерзком слове.
— Бог простит, государь.
* * *
Пётр I, царевна Наталья Алексеевна
На Троицу не иначе вся Москва в Красном селе собирается. Боярских дворов множество — все отбором стоят, гостей ждут. Кругом балаганы, карусели, скоморохи изгаляются. Органы округ слышны. Девки все в алых сарафанах. Ленты на головах пунцовые. Хороводы водят. Песни голосят. Ко дворцу царевны Натальи Алексеевны подтягиваются: никогда на угощенье не скупится, деньги щедрой рукой раздаёт. Не то что братец её родной, государь Пётр Алексеевич.
— Наконец-то заехать решил, Петруша. Заждалась тебя. На Кокуй вона какие колеи прорыл, а ко мне ни ногой. Хоша бы в Преображенское пригласил — кажись, сто лет не была, а вспомнить хочется.
— Не узнала бы, Натальюшка. Что тебе до военных-то дел. Ничего другого там боле и нету.
— А, знаешь ли, братец, куда меня потянуло? В церкву нашу дворцовую, что в Преображенском дворце. В ней ведь батюшка государь Алексей Михайлович с матушкой нашей венчался. В Кремле для их свадьбы места не нашлось. Всё в Преображенском собралось — всё наше семейство.
— О том и речь, Натальюшка. Хочу, чтобы Кремль нашим с тобой был.
— Милославские там.
— До поры до времени.
— До какой поры-то, Петруша. Иоанн Алексеевич немногим тебя постарше, а что немочный, так, сам знаешь, гнилое дерево два века скрипит. Прасковья Фёдоровна времени не теряет — так наследниками и сыплет.
— Наследницами, сестрица, наследницами. Невелика разница: одной царевной больше, одной меньше. А чтоб Милославские себя на коне не видели, надобно мне в поход пускаться.
— О, Господи! Далеко ли?
— На тёплое море — под Азов.
— С турками, что ли, воевать?
— С ними, умница моя. Без того к морям нам не выйти и южных границ наших не замирить.
— Иоанна Алексеевича возьмёшь?
— Смеёшься! Что с ним в походе делать? Пусть здесь за нас Бога молит. Не должна армия двух начальников видеть. Один для них есть и будет государь — Пётр Алексеевич.
— Не боязно, Петруша?
— Баталий, что ли?
— Каких баталий! Москву без себя оставлять. На кого полагаться можешь? Софья Алексеевна хоть и в монастыре, а руки у неё длиннющие — куда хошь дотянутся. И стрельцы её, сам говорил, любят.
— Нёс собой же её в обозе возить. Владыке Адриану верю: не простит ему Софья поддержки, что мне оказал. Никогда не простит. Так что он меня держаться верно будет. За самой Софьей поп Никита Никитин присмотрит, что приход у Саввы Освящённого, рядом с Новодевичьим монастырём получил.
— Никита Никитин — кто таков?
— Знаешь ты его, Натальюшка, знаешь. Сынок у него старший живописец отличный, надежды большие подаёт — Иван. Да и младший вроде персоны писать горазд.
— Тебе виднее, братец, а всё боязно.
— Да и ты, Натальюшка, чуть что приглядишь. А это что за красавицы стол у тебя принялись накрывать?
— Видишь, и на Кокуй ездить не надо. Не замечал ты их, видно, как заневестились, в возраст вошли, а всё из Алексашкиного стада.
— Меншиковского? Быть не может!
— Ещё как может! Тоненькая да маленькая — сестрица родная Александра Даниловича Аксинья. Аксинья Даниловна Меншикова. А те две уже, почитай, девятый год при мне — Арсеньева сиротки. Красавица статная — Дарья, а что пониже росточком, сутулая — Варвара.
— Дарья и впрямь хороша, а эту бедолагу в монастырь бы. В миру судьбы своей не найдёт.
— Всё в руках Господних. Дарья хороша, да глупа, а уж слезлива вне всякой меры. Чуть что, так и зальётся, платье своё всё вымочит. А Варвара — умница редкая. Секрет тебе скажу: Александр Данилович к ней за советом ездит, с великим почтением о ней отзывается.
— Не знал, что он к тебе и без меня наезжает.
— Не ко мне, братец, — к сестрицам Арсеньевым. Иной раз по часу в саду с Варварой толкует. Она его уму-разуму наставляет.
— Остаётся мне к тебе с визитом мою Анну Ивановну привезти.
— А вот этого, Петруша, не делай. Придворные твои — дело одно, а родная сестра, царевна — дело другое. Нехорошо получится. Матушку вспомни: как бы её огорчил. Я тебе, хоть и младшая, заместо неё. Выговоры тебе делать — не моё дело. Живи, Петруша, по своему разумению, но, покуда есть у тебя супруга законная, воздержись.
— Приказывать не стану. А жаль. Умница моя Анна Ивановна. Обхождение лучше всех наших теремных красавиц знает: и как при застолье быть, и как в танцах пройтись. Повадлива. На скольких диалектах толкует — завидки берут.
— Я тебе резоны свои, Петруша, сказала. Не мальчик — сам разобраться во всём должен.
* * *
Пётр I, патриарх Адриан
Снова в поход государь собрался[5]. На турку. Скольких людей в прошлый поход Азовский полегло — не унялся, решил на своём настоять. Боярам толковал, надобно выход из Дона в море Чёрное отпереть. Первый раз не вышло — флота не было. Жизнь показала: флот потребен. Распорядился суда рубить в Воронеже. Мало что зима лютая выдалась, всё равно работы вести. А таких морозов даже старики не помнят: деревья трещали да раскалывались.
Владыка Адриан сколько раз государя принимал.
Никто не знает: отговаривал ли, нет ли. Вот и теперь ждал. День особенный — празднество Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы. Губы сами стихиру повторяют: «Как духовная пения ныне принесём Ти, Всесвятая? Еже бо в неплодней Твоим зачатием весь мир освятила еси, и Адама от уз избавила еси, и Еву от болезни свободила еси. Темже ангельстии лица празднуют, Небо и земля радуются, и совосплещут души праведных, песни верно взывающи во славу Зачатия Твоего...»
Людишек, видно, николи жалеть не станет. Это Иоанн Алексеевич нет-нет да прослезится, пригорюнится. Петра Алексеевича единый раз в слезах видел, как царицу Наталью Кирилловну погребали. Чуть не в голос кричал. Всхлипов не стыдился. Да ещё когда Фёдора Троекурова отпевали — слёзы смахивал, от людей отворачивался. О милосердии толковать с ним не приходится. Месяц от месяца лютее нравом становится. Возражений слышать не хочет. В немилость у государя впасть — велика ли корысть. Никак приехал? Он и есть. Только что не бежит — шаги гудят по плитам железным...
— Благослови, владыко. Видеть мне тебя крайняя нужда. Порассказать о делах.
— Да пребудет с тобой Божье благословение во веки веков, государь. Слышал, опять в поход собираешься. Никто не доносил — приказные под окнами голосили.
— И правильно голосили. Помнишь, владыко, как я их всех для Кожуховского дела[6] созвал. Помещиков ловить по Москве да по городам подмосковным пришлось. Всех дел-то месяц в службе моей побыли, а уж в октябре их с почётом и благодарностью по домам отпустил. Велик ли труд, шуму такого не стоил.
— Тебе, государь, виднее. На то тебе Господом власть вручена. Творец Вседержитель тебя и просветит, что делать надобно.
— Может, и Господь, да туго дело у нас идёт, владыко. Сам знаешь, осаду нашу турки в этом году отбили. На Воронеже теперь флот рубим. Галеры по голландским моделям готовят, двадцать три штуки. Там строительством Лефорт, генуэзец один — де Лима и француз де Лозьер управиться должны к весне.
— Веришь им, государь. К тебе на службу поступили, турки больше заплатят, к ним перейдут. Своими бы обзавестись — с них и спрос настоящий.
— Твоя правда, твоя. Да где их в одночасье взять. Учить надобно, а на первых порах какой-никакой победы добиться. Не дремлют ведь Милославские. Каждое лыко в строку мне ставят. Каково это с врагами и снаружи и изнутри бороться!
— Может, зря опасишься, государь? Что тебе Иоанн Алексеевич? Его ведь и подучить никто не сумеет.
— Не сумеет, владыко? А как он у меня тут против похода нового восстал? Чуть что ни пригрозил согласия своего не дать. Переломить-то его можно, да слухи такие мне не на пользу. Европейские монархи вон как ухо востро держат.
— Откуда бы решимость такая? Мне государь Иоанн Алексеевич ничего не говорил.
— Видишь, владыко, не так-то братец и прост, как на вид кажется. Я просил царевну-сестрицу царицу Прасковью Фёдоровну порасспросить.
— Ей-то веришь, государь?
— Может, и не очень, да проболтаться посеред бабьих разговоров каждая может. Вот она твердит, будто виделся государь-братец с одной царевной Марфой Алексеевной, а ведь та не разлей вода с былой правительницей.
— Опамятуйся, государь! Разве не царевна Марфа Алексеевна царевича Алексея Петровича крестила? Сам же её крёстной матерью выбрал!
— Вот она на лопухинской стороне и стоит — лишь бы мне навредить. Да Господь с ними. Сейчас мне Воронеж важнее. Окромя галер, ещё два права, каждый по 44 орудия, срубить надо, да брандеры — для огневого наступления.
— До весны хочешь успеть, государь? Нешто поспеешь?
— Должен поспеть! Должен. Иначе турки снова сил наберутся.
Умеют воевать, сучьи дети, позавидовать только — что на воде, что на суше. Нам бы таких солдат.
— Иноверцев? В русском войске?
— Так что из того? Военное дело, что каждое ремесло, — мастеров требует. А мастерству нация безразлична: хоть немец, хоть татарин. Сам знаешь, англичане у великого князя Московского Дмитрия Донского на Куликовом поле воевали, за артиллерию отвечали. Чем плохо? Вот только об одном тебя, владыко, просить хотел: за царевной Натальей присмотри. Побереги её для меня. О Анне Ивановне моей не говорю — не станешь. Если только надо мной, грешным, не смилостивишься.
* * *
Царица Прасковья Фёдоровна,
царевна Наталья Алексеевна,
Ф. Ю. Ромодановский, В. М. Арсеньева
— Государыня-царевна, Фёдор Юрьевич князь Ромодановский к тебе. Очень спешно, говорит. За время неположенное извиняется, а всё равно на своём стоит — тебя бы немедля увидеть. Сказывала, легла уж царевна — как можно...
— Хватит, замолчи, Стеша. Сей час что ни что на себя накину, да в моленную выйду. Не дай Господь, с Петром Алексеевичем нашим что случилось. Сердце зашлось.
— Государыня Наталья Алексеевна...
— Да ты садись, садись, Фёдор Юрьевич. Лица на тебе нет. Что случилось, ты не томи, скорее сказывай.
— Не знаю, как и сказать, царевна. Государя Иоанна-Алексеевича...
— Захворал тяжко, что ли? Эка невидаль.
— Нету его больше, царевна. Нету. Помер государь.
— Как помер? Так мы вместе всенощную отстояли. Простились...
— Вот и простились. В одночасье помер. Мы уж царицу Прасковью Фёдоровну маленько придержали — будто дохтур с ним, а я к тебе. Делать что будем? Государя ли Петра Алексеевича ждать али как?
— Ты-то что присоветуешь, князюшка? Ждать? А как?
— Не ворочаться же государю из похода — пути не будет. Да и нужды особой нет. Свободен теперь наш Пётр Алексеевич, слышь, Наталья Алексеевна, совсем свободен, как сокол в поднебесье! Вот уж когда крылышки порасправит! Вот уж когда по своей мысли всё направит! Оно грех, конечно, а как за родимого не порадоваться.
— Сама знаю, Фёдор Юрьевич, да вслух порадоваться негоже. Одна мысль, поскорее бы с погребением покончить. Неужто мазями покойника натирать да невесть сколько времени хранить? Тут Милославские такое устроить могут! Во всех смертных грехах обвинят. Оно и к лучшему, что братца не было.
— Э, царевна, одним этим ртов не заткнёшь. Да что о Милославских толковать. По христианскому обычаю завтра и погрести надобно. Ты вдовую царицу примешь ли? Покуда жена моя с ней занимается — как-никак сестрицы родные. А дальше тебе надобно приголубить Прасковьюшку, приободрить.
— Сей час к ней и пойду — как иначе, да никак она сама идёт. Прасковеюшка, матушка, горе, горе-то какое...
— К тебе, царевна, пошла, у тебя поддержки да помощи перед государем Петром Алексеевичем просить. Что мне теперь без его опеки — одно слово, пропадать с дочками-то моими.
— Полно, полно, царица-матушка. И так ни от кого ты не зависима. Жить станешь по своей воле. А чего не хватит, братец николи тебе ни в чём не откажет. Сама знаешь, благоволит он тебе, куда как благоволит.
— Знаю, знаю, государыня-царевна, да вещи-то это разные: царица при царе али вдовая царица. Одной почёт и уважение, про другую и забыть можно. А ведь мне дочек и учить, и обихаживать, и как-никак пристраивать. Вон Василий Юшков говорит, Измайлово-то наше куда как приупало. Покойник, царство ему небесное, не хозяин был. Где уж! Ни о чём не позаботится, ни на что внимания не обратит. Лишь бы не беспокоиться. Вроде свою думу думает, а на деле без мысли часами сидит. О чём ни попроси, всё завтраками кормит. Кабы не государь Пётр Алексеевич, совсем пропадать. Я и то, знала бы ты, Натальюшка, как покойной царицы Натальи Кирилловны матушки твоей, царствие ей небесное, боялась, ох, и боялась. Как она на меня глядела, будто виноватая я перед ней в чём. Знаю, в чём вина моя перед ней была: а вдруг сына рожу раньше её невестки. При Петре Алексеевиче не в пример легше стало, дай Господь ему долгий век да доброго здоровья.
— Погоди, погоди, Прасковеюшка. Что так разговорилась? Не ко времени, царица, разговоры такие. Теперь бы о погребении супруга твоего новопреставленного пещись надобно. На всё свой черёд придёт. Ты не только братцу, ты и мне к сердцу припала. Родная ты нам стала — обидеть не дадим. Фёдор Юрьевич тут был. Поди, надобно к патриарху сходить.
— Пришёл уже владыка в опочивальню. Едва не первым пришёл. Молитвы творит. Мне выйти велел, покуда не уберут покойника.
— Персону супруга во успении списать захочешь ли?
— Персону? Да нет, что уж — не надобно. Ничего не надобно. Пойду я, государыня-царевна.
— Девицы мои тебя проводят, Даша да Варя. Заботливые они. Вели хочешь, с тобой и останутся.
— Как велишь, государыня-царевна.
Пошла небога. Нелегко ей. Жилось безрадостно с таким-то мужем, теперь и вовсе никому не нужна. Распиналась за государя, а как он на самом деле решит. Ведь не уговоришь, не умолишь.
Январей боюсь. Господи, как боюсь. Вроде бы и счастливый месяц — матушка с батюшкой венчались. А, может, потому так недолго и пожили, что в январе. В январе объявленный наследник государя Алексея Михайловича — царевич Алексей Алексеевич помер. Лет-то ему всего шестнадцать было. А батюшка государь Алексей Михайлович в январе же отошёл. Господи, да никак Иоанн Алексеевич с ним день в день преставился? Страсть какая. А матушка Наталья Кирилловна тремя днями раньше, от и молись теперь январь пережить.
И почему братец обмолвился, будто ослобонит его скоро Иоанн Алексеевич? Обмолвился? Никак Дарья да Варвара Михайловны вернулись. С Варварой потолковать...
— Что царица-то наша вдовая?
— Платье заказала мастерицам, чтобы печальное к завтрашнему утру готово было. Нам тоже, государыня-царевна, надобно.
— Убивалась ли?
— Не голосила, нет. И к покойнику не заходила — там по нём монахи псалтырь читают. Сказала, по-печальному убраться надобно и дочерей убрать.
— Ну, и слава Богу. Достался ей покойник, никто не осудит, коли мало слёз прольёт.
— Лить-то завтра надобно будет, а нынче лучше передохнуть.
— Деловая ты у нас, Варвара.
— Деловая не деловая, государыня, а жить-то надобно.
* * *
Пётр I, царевна Наталья Алексеевна
Октябрь на дворе, а в теремах уже жаром пышет. Истопники над печами на половине царевны Натальи Алексеевны трудятся. Не любит царевна холоду. Не то что зябнет — в платье немецком по вся дни ходить хочет. Шея да грудь раскрытые. Руки и вовсе едва тафтой прикрыты. Сапожек домашних на меху и тех не наденет — всё бы ей в туфельках пуховых на каблучках щеголять, да и те с ног теряет, на пол оступается. Старшие царевны только губы поджимают, а ей всё нипочём. Усмехается да недобро так тёмными глазами глядит — вылитый братец государь Пётр Алексеевич.
— Натальюшка! Родненькая моя!
— Ох, Петруша, дождаться тебя не чаяла.
— Видишь, сердечушко зря знобила.
— Да нет, братец, тёмных мыслей не держала. Об одном думала — намаялся ты, государь, ох, и намаялся. Ко мне-то от Евдокии? Сыночка увидел?
— Успеется. Ты-то жива ли здорова?
— Что мне деется, государь.
— Слыхал, пожар в Кремле случился. За тебя тревожился.
— У Бога не без милости — обошлось. Кровля наша расписная да с позолотой на Грановитой палате сгорела.
— Досадно, да обойдётся. У тебя-то дома какие дела?
— Но мелочи всё, Петруша. Стольник Михайла Арсеньев помер, сиротками Дарья да Варвара Михайловны остались.
— Чай, не обидишь.
— Известно, не обижу. Да кабы и обидела, у них другой покровитель сыскался — меня покрепче.
— Ишь ты! Кто бы это?
— Да твой Александр Данилович, подарки девушкам шлёт, вниманием не обходит.
— На которую же глаз прокурат положил?
— Верь не верь, на обеих.
— И на горбатенькую? Никогда не поверю.
— К ней первой идёт, с ней разговоры разговаривает.
— Ну, уж Данилыч без расчёту ничего делать не станет. Видно, и впрямь к девице присмотреться надобно. Погоди, погоди, сестрица, ты о певчих мне писала, за них хлопотала. В чём дело-то у тебя?
— Просить хотела, чтобы ты их, государь, в Китае расселил. Им поспокойней да до службы ближе. Что там одни патриаршьи певчие дьяки хозяйничают, мог бы, Пётр Алексеевич и государевы станицы обок них разместить.
— Твоя правда, сестрица. Велю дворы им там отвести. Пусть на одной улице живут, и называется она Певческая. Рогатки у вылетов поставим, чтоб ночной порой никто не тревожил. А певчий дьяк — слово мне такое не нравится. Пусть отныне певчими зовутся.
— Вот и ладно, государь. А «Азбуку» Истомина Кариона смотрел ли?
— В руках держал прошлым годом, как он её напечатал. А чтобы читать да листать, времени не было.
— Жаль, Петруша. Тебе бы понравилась. Сразу видно, Карион к музыке сердцем прилежит. «А» у него — воин с трубой. «Ж» — мужик с рогом, «звезда» — скоморох с трубой. «К» — воин и опять с трубой. «О» — органы. «Р» — рог. «С» — свирель. «Т» — опять труба, «Ц» — цевница. А уж «Пси» — пение сладкое, тут тебе и скрипица, и цитра, и свирель, и мандолина. Страницы листаешь, на душе радостно. И вот ещё что сказать тебе хотела. Алёшенька, сыночек твой, и за букварём, и за «Азбукой» Кариона сидит. Псалтырь учит — очень Никифор Вяземский его хвалит.
— С Никифором долго его не оставлю. Учителей из иноземцев найду.
— Почитать он тебе хотел, похвастаться.
— Успеется. Сегодня на вечер Анна Ивановна куртаг готовит. Гости съедутся. Неужто опять не приедешь?
— Прости, братец. Об Анне Ивановне говорить ничего не стану: ты в деле — ты и в ответе, а мне матушкину память рушить ни к чему. Без меня повеселитесь.
— Жаль, Натальюшка, сердечно жаль. Да, сказывали мне, в Преображенском ты была, в мой дворец заходила.
— Ну, уж и дворец, братец. По сравнению с батюшкиными хоромами только что не изба.
— Не показалось тебе жильё моё, сестрица?
— Греха на душу не возьму, не показалось. Нешто так государю жить следует? Ни послов принять, ни гостей угостить. Чисто съезжая изба у твоих потешных. Вон какой ты молодец на улицы-то московские выезжаешь. Кафтан бархатный аль сукна англиского до полу, по подолу да вороту опушка соболевал. Шапка бархатная с бобром. Сапожки телятинные, носки загнуты. Конь вороной, как ночь чёрная, браслеты на ногах в ладонь широкие, серебряные. Сбруя одна чего стоит. А обстава кругом — поглядеть любо-дорого. И как после сказки такой в Преображенскую избу меститься?
— А мне больше покамест и не надобно. Есть где столы накрыть, ассамблею устроить, есть где ночь переспать, есть где станок токарный запустить. Чего ещё надобно?
— Будто и семейства у тебя нет.
— Пока нет. С Евдокией жить не буду. Рано ли поздно, ослобонюсь от неё. Так что нечего и гнездо вить.
— Не передумаешь, Петруша?
— Не передумаю, сестрица. С Евдокией мне не жизнь. О ночи с ней подумать не могу — что руки протянет, что на шее повиснет, что ровно клещ какой прижиматься станет. Глаза б мои её не видели.
— Любит она тебя, братец. Все глаза по тебе выплакала. Патриарх её утешать принялся, она навзрыд, а там и памяти лишилась.
— Для чего ты говоришь всё это, Натальюшка? Скушно мне с ней, так скучно, хоть верёвку намыливай. А ты причитать принялась, ещё скушнее стало... На тебя непохоже, сестрица.
— Страшно мне за тебя, Петруша, ой, страшно. Ради кого семью рушишь? Счастье своё найдёшь ли?
— Найду не найду, а искать буду. Так-то, сестрица. Дай, обойму, родная, покрепче, да и идти мне пора. Итак засиделся.
— Петруша... Не гневись, братец. Всё спросить тебя хотела...
— Так спрашивай. Одни мы.
— Я об Анне Ивановне. Нет, нет, ничего противу неё говорить не стану. Одного в толк не возьму, чем приворожила она тебя. Никак третий год пошёл, от неё не отходишь. Матушка толковала, слово она немецкое приворотное знает, не иначе.
— Слово, говоришь. Может, и слово, только как его выразуметь. Помнишь, каково мы жили, покуда танцам польским не выучились. Какие такие учителя у меня были. У дьяка Виниуса голландский перенимал.
— Быстрёхонько ты на нём говорить-то начал, да так чисто-чисто.
— Не только ты, сестрица, Виниус тоже нахваливал. У сына датского комиссара Бутенента фехтованием да верховой ездой заниматься стал — другим человеком себя почувствовал. А там, спасибо Францу Яковлевичу, танцев попробовал разных.
— Да уж Лефорт тебя с глаз не спускал. Что танцы! Не для тебя, что ли, он в доме своём на Кокуе пиршества всякие устраивать стал? Там и с девками немецкими сводить.
— Вот такого толка не люблю! Ни с кем меня Франц Яковлевич не сводил — нужды не было. Сам себе дам для танцев выбирал. Аннушка первой была. Как улыбнулась, книксен сделала, как ручку свою беленькую протянула...
— Ты и весь белый свет забыл.
— Осудить хочешь, Натальюшка? Как матушка? Не надо. Богом прошу, не надо. Ни с кем, как с тобой, говаривать не приходилось.
— Прости, братец, Христа ради, прости! Не подумавши я. Да и ничего такого в жизни не видывала.
— Не видывала, говоришь? А как же батюшка родительницу нашу в матвеевском доме увидал? Только что не прислужницу? Каждый день зачастил к боярину. Света Божьего, окромя родительницы нашей, для него не осталося. Это верно, что государь, это верно, что любую мог себе в супруги выбрать, да тебе ли не знать, как сводные наши с тобой сестрицы-царевны переполошились. Вся родня стеной встала, бояре. Каждый на свой лад отговаривал, а батюшка ни в какую. Вот и я...
— Женат ты, Петруша.
— Женат... Э, что там, поживём — увидим.
* * *
Пётр I, патриарх Адриан
— Всю землю Русскую порадовал ты, государь, своей великой победой. Исполать тебе, Пётр Алексеевич, что испытание такое перенёс, не дрогнул да и войску дрогнуть не дал. Писем твоих царских ждал все месяцы с великим нетерпением, не переставая молитствовать за успех дела твоего праведного.
— Благослови, владыко. Очень весточки от тебя нам всем помогали. Спасибо, не скупился ты на них. А победа... Тебе одному, владыка, как на духу, сказать могу: о победе говорить куда как рано. В письмах не писал, а на словах...
— Никак не доволен ты, государь?
— Чему быть довольным, владыко.
— Азов-то взяли.
— Взяли. Только на договор, владыко, не военным промыслом.
— Не пойму тебя, государь.
— Да проще простого всё. Флот мы в Воронеже срубили, сам знаешь. И модели голландские для стойки положили — прамы называются. Столько с ними заботы приняли. Сам посуди, суда огромные, вроде ящиков деревянных, по рекам да мелководью к Азову не проведёшь. Пришлось разобрать, сухим путём до Черкасска везти, а там заново собирать. Выходит, дважды время на них потратили. А по морю ходить они не могут — у берегов держаться должны, крепости обстреливать. Без них бы Азов не взяли, а всё равно мороки много. О новом флоте думать надобно.
— Дорого тебе обойдётся, государь. Откуда деньги возьмёшь?
— С бояр потребую!
— С бояр, говоришь... Как бы недовольство большое не вызвать. Ведь еле-еле замирились, а тут дело такое — мошну развязывать. Переждёшь, может, малость, государь. Всё в своё время придёт.
— Повременить? Нет, владыко, нет у меня времени. Никакого! За три года надобно ещё пятьдесят пять кораблей и фрегатов построить, одиннадцать бомбардирных судов и брандеров. Непременно! Бояре пусть платят, горожане, да и священству в стороне стоять, с твоего благословения, не позволю. Не станешь спорить, владыко?
— Не стану, государь. Церковь во всём тебе помогать должна, хоть и нелегко это будет, ой, нелегко.
— Слыхал я, владыко, церкву себе в Новинском положил построить? Сказывали, обетную. Так ли?
— Так, государь, обетную.
— Об обете говорить не станешь, и не надо. Деньгами тебе помогу. Строй, раз надобность есть.
— Не сказывал я тебе, государь, что приключилось со мной. Когда покойный кир Иоаким определил мне казанский митрополичий престол, едва въехал я в город, моровая горячка началась. Жесточайшая. Людей где постигнет, там и кончит — до домов не успевали добраться. Была уже раньше такая в Казани — сколько тысяч людей унесла, а тут снова. И вроде бы от приезда нового митрополита. Московского. Им не нужного.
— Глупости! Тёмен народ, вот и болтает.
— Тут уж мне, государь, никого просвещать не приходилось. С слёзной молитвой обратился я к девяти мученикам Кизическим — известно, при моровых болезнях помогают. Всю ночь молился, коли прекратится поветрие, монастырь в их имя заложить близ Казани, все деньги на него потратить. И, веришь ли, государь, с утра никто более не захворал. Будто Господь заклятие какое с города снял. А я принялся обитель строить да кончить не успел — патриарший престол принял. Да интересно ли тебе, государь? Может, заскучал?
— О твоих делах я всегда любопытен, владыко. Только ты о Казани толкуешь, а храм твой в Новинском заложен.
— Сейчас и до Москвы дойду, государь. Только-только в сан меня поставили, ан болезнь лихая прихватила. Речь отнялась, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Так-то лихо, понял, не встать мне с одра болезни, может, вскорости, а может, и совсем. А сознание ещё теплится, и стал я в отчаянии Господа молить и мучеников Кизических: коли здоровье мне вернут, церкву построю обетную. Сам Бога молить буду, другим людишкам в бедах их помогу. Вот наутро и оклемался. Язык ворочаться стал. Рука-нога — пара недель прошла — ожили. Вот я и должен обет мой...
— Нечего дольше и толковать, владыко. Построишь свою церкву. Сам на освящении буду, благословение в новом храме от тебя приму. О деньгах не печалься: сколько надо из казны возьмёшь.
— Утешил ты меня, государь, слов нет, как утешил. Только отвёл я тебя от дела главного: как победу-то праздновать будешь. Что надо делать, чего не доделал — твоя государская печаль, а народ повеселить непременно надо. Ему сомнения твои государские ни к чему. Ему всё просто должно быть. Город, поди, украсить велишь, а уж мы во всех церквах службу самую радостную отслужим. С звоном колокольным. С певчими. В облачении светлом. Чтобы в родех и в родех людишки вспоминали, твоё государское имя славили.
— Спасибо тебе, владыко, за всё великое спасибо. Да никак побледнел ты? С лица спал? Нешто неможется? Келейника твоего сейчас кликну, ты только сиди, сиди, не тревожься.
— Прости, что огорчил, государь, и впрямь неможется. Да это от радости. Ждал тебя. С раннего утра не присел, вот оно и аукнулось.
— Владыко, Христом Богом тебя прошу — себя побереги. Православному миру ты нужен, а уж как мне, сказать не могу. Один ты у меня, владыко, как отец родной, как семья моя. Мне без тебя никак. Никак, владыко.
Медлит Пётр Алексеевич. У окна остановился. Из новинских патриарших палат луга видать до самого Ходынского поля. В стороне внизу речка Пресня плещется. Государь братец Фёдор Алексеевич загородный дом себе построить хотел. Зверинец завёл. Не лежало сердце у него к Измайлову. После батюшки государя Алексея Михайловича ни у кого не лежит. Под снегом не видать, как в патриаршем огороде гряды протянулись. Хозяйство преотличное. Печётся о нём кир Адриан. При первой способности в Новинское из Кремля спешит. Как весне каждой радуется.
И владыка знает: не о всём государь ему сказал. У патриарха свои способы ни единой мелочи в доме царском не упустить. Муторно на душе у молодого царя. Тревожно. А вот делиться не спешит — что-то ещё про себя решает.
— Владыко!
— Не духовник я твой, государь. Нет тебе нужды передо мной исповедь держать.
— Какая исповедь! Спросить тебя хотел, сколько раз государь Иван Васильевич женат был? Не мог ведь без церковного разрешения — молитвенник был редкий. Подумал тут на досуге я, как это царевич Дмитрий мог на престол вступить, кабы не порешили его?
— Крови был царской, а других наследников не осталось.
— Да я о браке, владыко.
— О браке... Что ж тут сказать, по законам нашей церкви православной, три их может быть — не более. Вон видишь в окне своём теремном, государь, ты, что ни день, паперть собора Благовещения. Коли внимания не обращал, погляди — на Замоскворечье она выходит. Пристроили её, когда государь Иван Васильевич четвёртую супругу себе взял[7]. В храм войти не смел — не положено, так на паперти службы отстаивал.
— А церковь святая сожительства ему по четвёртому разу не запретила?
— Нет, государь, благословила. Жил царь по благословению разрешительному, а это уж совсем не то — не по закону святому.
— А жён почему так много имел?
— Одни помирали, как прабаба твоя, государь, царица Анастасия Романовна, других в монастырь отсылал.
— Соглашались?
— Что о том толковать, государь, — дело прошлое, тёмное. Да и не первым в таком череду государь Иван Васильевич был.
— А до него кто же согрешил? Не знал я.
— Батюшка Ивана Васильевича — великий князь Московский Василий III Иванович.
— Его родительницу отрешил?
— Нет, государь, ради его родительницы первую супругу свою — великую княгиню Соломонию Юрьевну Сабурову.
— Не показалась великому князю?
— Двадцать лет, государь, прожили в мире и согласии. Вот только потомством Господь не благословил. Вот великого князя и подговорили молодую жену взять, а великую княгиню Соломонию по бесплодию её в монастыре поселить[8]!
— Поселить или постричь?
— Постричь, государь.
— Не соглашалась? Насильно постригали?
— Государь, ни к чему разговор такой. Дел у тебя, сам говорил, великое множество. Что время попусту терять.
— Погоди, погоди, владыко, а что государь Иван Васильевич всю жизнь братца своего по отцу искал? Откуда тут братцу взяться? Вспомнил, не Соловьём ли разбойником его называли?
— Не след тебе, государь, людскую болтовню слушать.
— Нет, ты ответь, владыко, откуда братец-то взялся?
— Может, и не было никакого братца, государь.
— А если был?
— Болтал народ всякое. Болтал и про то, что постриглась Соломония беременной. Потом уже в суздальском Покровском монастыре родила, как на грех, мальчонку, а враги великого князя его и припрятали. Куклу заместо него погребли.
— Вот, значит, как: и беременную княгиню постричь можно.
— Не повторяй ты этих сплёток, государь.
— А уж если не на сносях, то и вовсе грех невелик.
— Государь!
— Не буду, не буду тебя тревожить, владыко. У меня и впрямь важная новость для тебя есть. Боюсь огорчить — плох ты нынче — как бы не повредить здоровью твоему.
— Уж лучше говори, государь, не томи.
— Помнишь, владыко, толковали мы с тобой, что хорошо бы мне за рубеж съездить, чужих порядков поглядеть, чужим наукам подучиться? Вот и решил я, что настал мой час в путь отправляться.
— Тебе? Государю? Одно дело послов послать, доверенных людей, а государю-то самому как же?
— Да вот так. Положиться ни на кого не могу. Недаром говорится, свой глазок — смотрок, чужой — стёклышко. А Азов мне спать спокойно не даёт. Флот России нужен — это одно. Без союзников не обойтись — дело другое. Мне бы союз европейских государей противу турок составить. Послов к каждому в отдельности посылать долго и хлопотно. А тут коли я вместе с послами, к скончанию каждый договор в два счёта довести можно.
— Не пойму тебя, государь, — и послы едут, и ты едешь. Государь со свитой ездить может, а послы...
— В том-то и хитрость моя, владыко. Ехать я решил под чужим именем, как десятник Михайлов, чтобы среди свитских людей затеряться. Тут и церемония попроще выйдет, и мне, покуда послы переговоры вести будут, свобода — что захочу, то и посмотрю. Государи, чай, ни в одном моём желании не откажут.
— Думаешь, прознают, что ты, государь?
— А чего дознаваться — наши сами кому надо словечко шепнут.
— Всё ты уже продумал, государь.
— Пока братец Иоанн Алексеевич с нами был, не с руки получалось. Нынче совсем другое дело. Вот и хочу поспешить.
* * *
Пётр I, Михайло Чоглоков
Велено во успении матери... Натальи
Кирилловны написать на полотне
живописным письмом персона длиною
два аршина с четвертью, ширина полтора
аршина и зделать рамы флемованные
(с волнообразной рейкой по рельефу — Н.М.)
и прикрыть чернилами (вычернить — Н.М.).
И того ж числа велено писать живописцу
Михаилу Чоглокову своими припасы. И
февраля во 2 день живописец Михайло
Чоглоков тое персону против указу написав
и зделав флемованные рамы, принёс в
оружейную палату. И того же числа по
приказу окольничего Ивана Юрьевича
Леонтьева та персона переставлена в
Оружейную большую казну.
1694. Из Столбцов Оружейной палаты.— Михайлу Чоглокова позвали?
— Позвали, государь. Который час сидит дожидается.
— Ко мне его. Быстро! Михайло! Рад тебя видеть. Прости, учитель, что ждать заставил — с делами трудно рассчитать.
— Как можно, государь, вашему величеству себе извинений искать! Моё дело служилое: надо — хоть до ночи, хоть и с ночью подожду. А что учителем ты меня, государь, назвал, великая для меня честь.
— Что за честь, Михайло, ты меня кисти учил в руках держать, мастерства своего азы преподал. Спасибо тебе. А вот теперь посоветоваться хочу. Слыхал, что викторию по поводу побед азовских сделать надобно. Дело в Москве неслыханное, так мы и всю жизнь переиначивать собрались. Без живописных дел не обойтись.
— Замыслил что, государь?
— Убирать станем мост Каменный, башню кремлёвскую Водовзводную. Огни потешные по всему городу зажжём. А вот по улицам и по мосту хочу картины расставить преогромные и на них весь поход Азовский представить. Битвы там, осады, турок побеждённых. С аллегориями. Сможешь, Михайло?
— Дело непривычное. А сделать, почему же, можно и сделать. Вон на гравюрах иноземных сколько викторий представлено. Поглядеть да на московскую мерку и перевести. Вот только...
— Материалы получишь. Помощников — сколько потребуется.
— Я не про то, государь. Вот москвичи-то уразумеют ли? К живописи они непривычные.
— Тоже тебе беда! Не привыкли — привыкнут. Раз государь повелел, глядеть будут да похваливать, а там и впрямь попривыкнут. Для начала солдат около картин поставим, чтоб беды какой не случилось. Ты, Михайло, своим делом занимайся и помни: нет у тебя времени, совсем нету. Чем быстрее картины свои смастеришь, тем раньше викторию отпразднуем.
— Постараюсь, Пётр Алексеевич.
— Вот и старайся мир удивить, нам оно сейчас, ой, как надобно.
— А сколько оказ быть-то должно, государь?
— Как ты сказал — оказ? Точно! Лучше не скажешь. Двадцать мне на вскидку надобно. А для башни Водовзводной прикинь, как фонари цветные в бойницах расставить, из каких бойниц ткани яркие да ковры вывесить. И ещё у оказ помусты придумай — певчие с музыкантами там стоять будут, кантаты победные исполнять.
— Торговцев там в шалашах да на развалах, государь, сам знаешь, полным-полно. Каждый себя и свой товар выхваляет. За ними и оказ не увидишь.
— Не будет торговцев. Никаких. Отныне у Боровицких ворот только трубы мусикийские да гимны величию державы Российской звучать будут. Какое сравнение с Красной площадью. Там был торг, пусть и остаётся. А здесь — чистота, порядок. Зрелище великое и на веки вечные.
* * *
Пётр I, Фёдор Юрьевич Ромодановский,
Иван Григорьевич Суворов
В Преображенской избе холод лютый. Печи на дню по два раза топят да прок какой, коли двери на улицу настежь стоят. Входит народ, выходит. Сам государь Пётр Алексеевич на двор который раз выбегает — невтерпёж ждать, когда курьер с коня сойдёт, ботфорты от снега в сенцах обметёт. Стоит на снегу. Кафтан нараспашку. Рубашка расстёгнута. Волосы по ветру разметались.
— Слышь, Фёдор Юрьевич, Циклеришка проклятой признался! Сам признался: убить меня хотел. Дом зажечь, а меня под шумок убить! Вот ведь до чего дошло. Как только мы поспели!
— Вот и верно в народе говорят, государь, раз предал, от другого раза не воздержится. Иуда — одно слово.
— О чём ты, Фёдор Юрьевич?
— Как о чём? О Циклере. Нешто не он царевну Софью Алексеевну выдал тебе с головой — о шкуре своей пёкся? Теперь твой черёд наступил. От такого иного и ждать нечего было.
— Осуждаешь, что о Софье рассказал? Осуждаешь?!
— Не в суде дело, государь, — в натуре. А у Циклера она подлая. Как ты его под Азов взял! Он бы и туркам тебя продал, кабы изловчился, пёс смердящий. Э, да это никак Иван Григорьевич спешит. Гляди, в грязи весь — лица не видать.
— Суворов? Отлично! Изложи всё дело, Иван Григорьевич. Приговор у меня готов, а вот пропустить ни единой мелочи нельзя. Гниль выжигать надо до последней крошечки. Давай, давай, Григорьевич!
— Дела все, государь, пересмотрел, как велеть изволил. Известно, Циклер Иван Елисеевич, сын полковника из кормовых иноземцев. Отец верно тебе служил. Нареканий по службе никаких. Потому и сынка его Ивана в службу записали за год до твоего рождения, государь.
— Это что ж выходит — двадцать шесть лет в службе?
— Так выходит, государь. Через восемь лет, в правление твоего братца, великого государя Фёдора Алексеевича, в стольники произведён, а сразу после кончины Фёдора Алексеевича — стрелецким подполковником.
— Погоди, Иван Григорьевич. От себя, государь, прибавлю: в те поры Иван Елисеевич правой рукой Шакловитого заделался, а уж какую дружбу с Иваном Милославским завёл — все только диву давались. Уж на что Иван строптив да высокомерен, а Циклера как равного принимал. Одно слово — собеседник.
— Что о Милославском толковать, Фёдор Юрьевич! Лучше вспомни — не ты один мне рассказывал — как царевна ему доверяла, души в Ивашке не чаяла, самым ревностным приверженцем называла.
— Он и в походы Крымские, государь, ходил.
— Тут-то хвастать нечем: за сто вёрст киселя хлебать таскались. Одного позору в Москву навезли. Не за что было его отмечать. Одного не пойму, с чего было ему всех друзей разом мне выдать?
— Не уразумел, Пётр Алексеевич? А ведь просто всё. Куда проще. Не подумал, государь, что, может, Циклеру место Васьки Голицына по ночам снилось.
— Да полно тебе, Фёдор Юрьевич! Циклеру-то?
— Чему дивишься, Пётр Алексеевич? Собой пригож. Отважен — ничего не скажешь. У царевны какой год на виду да под рукой. Голицына моложе. Без княгинюшки любимой, без сынка взрослого, без внуков. Может, царевна на него и не глядела, а надеяться кому запретишь!
— Ходили такие слухи, государь. Прав князь Фёдор Юрьевич, ходили. Стрельцы о них поминали.
— Ну, уж если ты говоришь, Иван Григорьевич.
— Спасибо, Иван Григорьевич, что поддержал, а то поди докажи нашему государю. Только Циклер увидал, что впереди него Федька Шакловитый протиснулся. Уж тот никому дороги не уступит. С Хованскими управился, глазом не моргнул, а уж тут и толковать нечего. Прикинул наш немец, к тебе сани и развернул. О заговоре царевны сообщил. Где правду сказал, где прилгал. Награду, может, и получил, да не ту, о которой мечталось. Ну, думным дворянином стал — эка, прости, Господи, невидаль. Ну, воеводство в Верхотурье получил — это ведь то, как посмотреть, то ли награда, то ли ссылка.
— Доносчику испокон веку первый кнут полагался.
— Твоя правда, Иван Григорьевич. Циклер так и понял. Да и когда государь пожелал его к строению крепостей на Азове назначить — невелика прибыль оказалась.
— Выказал бы себя, в Москве оказался.
— Ишь ты как рассуждаешь, государь. Выказал бы! Что Циклер в фортификационном деле понимает. А сидеть ему на море далёком, век первопрестольной не видать. Вот тут и решил о им же проданной царевне вспомнить.
— И Софья Алексеевна поверила!
— Государь, позволь старику как на духу сказать. Много ли мы об истинных намерениях царевны знаем. Её самой никто не спрашивал...
— Солгала бы!
— Что уж ты так, Пётр Алексеевич! На мой разум, лгать бы Софья Алексеевна не стала, а вот говорить, может, и отказалась бы. А Циклеру я всё едино не верю.
— Софью обелить собрался, Фёдор Юрьевич? К тому клонишь?
— Ив мыслях такого не держал. С царевной, известно, ухо востро держать надобно, да это уж иной сказ. Ты же, государь, правды добиться собрался — разве не так?
— Прости меня, государь, на смелом слове, только зачем тебе эта правда сдалась? Царевну понадёжней припрятать надобно, а Циклера...
— Так полагаешь, Иван Григорьевич? Ладно, дело говоришь. Как оно у тебя там дальше в деле стоит?
— А так, что в феврале 13 дня явились в Преображенскую избу два стрельца — Елизарьев да Силин — и на Циклера донос принесли. Что намерен он вместе с окольничим Соковниным и стольником Пушкиным заговор измыслить.
— А этим двум чего понадобилось? Им чем не житьё было?
— Э, государь, у каждого за пазухой свой камешек припрятан. На всех государю не угодить, всем не потрафить. С Соковниным, сам понимаешь, за сестру покойную, боярыню Федосью Морозову, обида на сердце лежит, за сынка её единственного Иванушку.
И у Пушкина своё оправдание найдётся. Вон как под пытками Циклер признал, что простить тебе не смог упрёки в дружбе его старой с Милославским. Видишь, государь, одних упрёков хватило. А Софья Алексеевна...
— О Софье думать нечего: постриг, и весь сказ. Под клобуком о престоле раз и навсегда хлопотать перестанет. И Марфу Алексеевну тоже. И чтоб в разных монастырях сидели. Чтоб переписки никакой! И встречаться николи не могли!
— А как, ваше величество, насчёт заговорщиков — что суду-то сказать, о чём упредить, чтоб разнобою не случилось?
— Золотой ты человек, Иван Григорьевич, ничего не упустишь. Упредить! Что ж, так и поступим. Тело Ивана Милославского из могилы вырыть!
— Господи, государь, да на что тебе покойник сдался! Двенадцать лет в земле сырой лежит. Надо ли покой его тревожить?
— Замолчи, Фёдор Юрьевич! Надо! Ещё как надо! Другим в острастку.
— Так ведь прах там один, в гробу-то! Смрад один и тлен.
— А нам гроб раскрывать ни к чему. Вот как сделаем: поставим его под плахой, на которой заговорщиков казним. И им пострашнее будет, и другие призадумаются, как против царя Петра Алексеевича бунтовать, заговоры всякие затевать!
— День какой, государь, назначишь, на казнь-то?
— Назначу, Иван Григорьевич, тянуть не стану. Мне ехать в чужие края надобно, а тут на тебе — заговор!
— Может, повременишь, Пётр Алексеевич, при обстоятельствах таких?
— Плохо ты меня, Фёдор Юрьевич, знаешь. Ты у меня о державе пещись будешь, а я днём не поступлюсь. Пиши, Иван Григорьевич, — на Герасима-грачевника казнь состоится.
— Может, какой другой...
— Не будет другого, князь. Нетто забыл примету: на Герасима-грачевника кикимору выживают, по прилёту грачей о весне гадают: дружная ли будет. Вот мы её дружной и сотворим. Пиши: четвёртое марта! А дальше распоряжения будут: головы заговорщиков на железные рожки воткнуть и на несколько дней на Красной площади выставить для устрашения народу всенепременно. Как Васьки Голицына в Сергиевом Посаде. Сыновей Циклера в Курск на службу и в Москву николи не отпускать... Может, ещё людьми станут.
* * *
Фёдор Юрьевич Ромодановский,
Иван Григорьевич Суворов
На площади народу не так чтобы много собралось. У эшафота толпятся, а в улицах ни души.
— Как полагаешь, Фёдор Юрьевич, заговорщиков жалеют?
— Ну, уж и жалеют! Если б и жалели, виду не показали. Праздник государь, сегодня. Пироги пекут, пиво мартовское пробуют. День такой — радошный. Кому охота на кровушку-то глядеть, хотя и преступную. Каждому до себя.
— Плохо похлопотали. Зря, что ли, головы полетят? Согнать надо было, Иван Григорьевич, силой согнать. Сам знаешь, недолгий век стрельцам остался, как ни крути, кончать с ними пора.
— Своё-то они, государь Пётр Алексеевич, отслужили. Кем, как не ими государство Московское воевало.
— Было — прошло. На старой телеге в дальнюю дорогу не поедешь. Ну, что там — всё готово, нет ли? Нам ещё в Новинское скакать — не ближний край. Владыка положил сегодня храм свой святить — опоздать можно, да не больно. Цариц с царевнами тоже не вижу.
— Как можно, государь. Государыня-царевна Наталья Алексеевна давно приехала — в возке дожидается. Солнце солнцем, а мартовское тепло не больно греет — зябкое.
— О царевне не спрашиваю. А что царицы наши?
— Царица Прасковья Фёдоровна тоже приехала. Прощения просила, что без царевен. Недомогают они у неё — о здоровье их печалуется.
— Без её царевен обойдёмся. А старшие где?
— До той поры не приезжали.
— Вот, значит, как! Нет для них царской воли!
— Государь, да не бывало никогда, чтобы особы женские на казнях из семейства царского...
— Замолчи, Фёдор Юрьевич, замолчи! Не бывали, будут бывать. Это кого, значит, нет? Из сестриц моих сводных — Евдокии, Марфы, Екатерины, Марии, Феодосии Алексеевен. Ишь, в какой ряд выстроились, отродье Милославских!
— Татьяны Михайловны, государыни царевны, тоже.
— Тётку в покое оставь. Седьмой десяток разменяла. Бог с ней.
— Царевич Мелетинской, наконец-то! Тебя, Александр Арчилович, дожидались. Да ты и сестрицу-красавицу с собой захватил. Ай, спасибо, ай, молодец! Дарья Арчиловна, дай родственным обычаем тебя расцелую. Царю, как скажешь, можно ли? Разрешишь?
— Разрешу, государь. Ты нам ближе родного. Только и попенять тебе хочу. Что это ты с тестюшкой Александра Арчиловича удумал? Из земли покойника вынимать, сон вечный тревожить? Кабы покойница Федосья Ивановна, дочь его единственная, жива была, тогда что? И тогда бы казнь такую удумал?
— Тогда бы, может, и не удумал. А Федосьи Ивановны второй год уж нету. Зато вдовец наш при каком приданом её богатом остался. Селу Всехсвятскому со всеми его угодьями кто не позавидует. Не в накладе ты, чай, Александр Арчилович? А невесту мы тебе сыщем такую, что даже Дарье Арчиловне по сердцу придётся. С ней одной советоваться будем. Э, да вы долго там? Палач-то где? Пора!
Топит, топит мартовское солнышко снег в сугробах. Колеи по улицам водой заливает. От полозьев и то брызги летят, бриллиантами переливаются. Пётр Алексеевич и Александр Арчилович верхами. Дарья Арчиловна к царевне Наталье Алексеевне в возок подсела — в пути веселее: из Лефортова в Новинское не ближний путь.
Над Новинским звон. Большие колокола гудят. Мелкие часто-часто перекликаются. Владыка на паперти встречает в облачении пасхальном: дождался своего обетного храма. Помолодел весь. Государю не терпится: паперть в два шага перемахнул. В храме остановился — хор певчих поёт. Народ нарядный, радостный. В пояс кланяются.
Князь Фёдор Юрьевич посмурнел: вроде бы после казни-то исповедаться надобно. Владыка понял, вздохнул да и поторопил: государева воля — не им судить. Не им... освящается храм сей в память Девяти Мучеников Кизических, что людям облегчение и здоровье от всяческих недугов приносят, горячки, трясовицы, моровых поветрий... Чтобы обходила их беда и несчастие, чтобы жили семьи спокойно и мирно... Отстояли освящение. Не очень храм государю Петру Алексеевичу по душе пришёлся: прост, незатейлив. Разве что на огородах Новинских сойдёт, а денег всё равно жалко. Мог бы столицу украсить, а так...
С паперти сбежал — кругом грязь невылазная. Глина со снегом смешалась. Кони еле копыта вытягивают. Храпят. Для пешеходов мостки накладены. Все идут опасятся — подолы подымают. Не так надобно, всё не так. Вон даже на Кокуе...
— Тебе, Фёдор Юрьевич, государство оставляю. Тебе за державой, да и за Москвой глядеть. Чего смурной-то?
— Баловство это, государь, прости на смелом слове.
— Баловство, говоришь. А если и баловство? Не может себе царь его позволить? Да и ты нешто можешь все мои помышления знать?
— Не могу. Да и не хочу, Пётр Алексеевич. Не моё дело. А как слуга твой верный...
— Опять не понял ты, князь! Не должен ты себя слугой чувствовать! Царём! Вот ведь в чём дело. Мыслить по-царски! Решать по-царски! Что тебе на меня оглядываться? Я далеко буду, а с тебя Россия спросит. В случае чего не вздумай с владыкой совет держать. Ни к чему тебе его советы. Старый он человек, хворый. Верный, это да. Только годы да хворь много отнять могут.
— А я и не собирался, государь. Мир духовный — мир светский, законы у них, что ни говори, разные.
— Значит, будет у тебя титул князь-кесаря и Его Величества. Так тебе сподручней будет с боярством нашим справляться. Преображенского приказа с тебя не снимаю — тут у тебя Суворов Иван Григорьевич преотличный помощник. Как полагаешь?
— Как не согласиться: столько лет вместе. Князем Иваном как распорядиться собираешься, государь? Сынком моим.
— Сынком твоим в своё время займёмся, не бойсь. А так впереди дел невпроворот. Вот кабы Господь сподобил собрать воедино королей английского и датского, папу Римского, Штаты Голландские, курфюрста Бранденбургского да ещё Венецию в придачу противу турок...
— Далеко мыслями залетаешь, государь. Жизнь покажет, что выйдет. К обстоятельствам применяться надо, а ты, Пётр Алексеевич, горяч больно, ой, горяч.
* * *
Пётр I, Анна Ивановна Монс
На Кокуе весна. Снег лежит — домов не видать. А всё равно весной тянет. Улицы расчищенные. По обочинам, никак, ручейки зажурчали. Первые. Вороны на деревьях перекликаются. В садах все дорожки мало что видны — песочком речным присыпаны. Ворота там и тут отпираются намасленные: ни тебе визгу заржавленного, ни перекосу от зимнего времени. Возок к дому подъедет, дамам на землю ступить в туфельках можно. Кавалерам в ботфортах и подавно.
У дома Анны Ивановны вереница возков. Тянется к ней народ. Двери для всех нараспашку. Хозяйка мало того что красавица, модница, ещё и каждого приветить умеет. Каждому свои слова ласковые найдёт. Без чарки да овощей разных, фруктов засахаренных нипочём не отпустит. Послы в её доме днюют и ночуют. Прусский барон Кайзерлинг толковал, в Монсовом доме что в Европе.
— Либлинг, наконец-то. Ждала тебя. Так ждала!
— Правда, Аннушка, правда? А я думал, гостями развлекалась.
— Как можешь, либлинг. Гости — чтобы время без тебя убивать. По мне лишь бы ты рядом был — никого более и не надо.
— Розочка ты моя, выпуколка ненаглядная. За каждым разом красивей становишься.
— Полно, либлинг. Так не бывает.
— У других не бывает, а у тебя только так.
— И всё равно уезжаешь, Питер? Меня одну оставляешь? Надолго ли расставанье наше?
— Врать не стану, рёзхен-розочка моя, не знаю. Спешить к тебе стану, но дела все сделаю. Зато когда вернусь...
— Что случится, когда вернёшься, либлинг? О чём думаешь?
— Раньше времени говорить не стану, а переменить всё хочу. Как есть всё. Дождись только, рёзхен. Слышишь? Дождись непременно.
— Какой ты смешной, либлинг! Как бы могла тебя не дождаться. В твоём доме, в твоём царстве.
— Да не о том я — о сердце. Не отвращай его от меня, Аньхен.
— Это я тебе говорить должна, либлинг, чтобы на красавиц европейских не загляделся. Сколько их там — не бедной Аньхен чета.
— И думать так не смей, слышишь, дороже тебя у меня никого нету.
— А её высочество царевна Наталья? Знаю, не любит она меня. Всегда может неправду на Аньхен наговорить, а ты поверишь.
— Кабы могла, давно бы мы с тобой не были. Значит, не может, и разговор этот о сестре ни к чему. Лучше скажи, каких подарков тебе привезти, рёзхен.
— Одного себя, либлинг. А всё остальное твоё сердце тебе и подскажет.
— Ты у меня украшения любишь.
— Потому что они тебе нравятся на мне, либлинг. Ты любишь, когда я их на ассамблеи надеваю. Вот и погляди, что бы хотел на твоей Аньхен видеть, когда нам ещё придётся с тобой танцевать.
— У тебя на глазах слёзы, Аньхен? Ты так расстроена?
— Расстроена? Мне страшно подумать о неделях без тебя, либлинг, ты никак не мог бы взять меня с собой? О, нет, нет, я сказала глупость! Если бы мог, мне не надо было бы тебя просить, не правда ли? Мы не можем быть вместе столько, сколько я бы хотела.
— Почём знать, Аньхен. Дай мне только власть по-настоящему в руки взять... А пока пора прощаться, рёзхен.
— Сейчас? Совсем? А я надеялась, ещё вечер или ночь...
— Нет, нет Аньхен, меня ждут.
— Так пусть подождут, ваше царское величество. Вы подарите вашей Аньхен ещё час, и мы проведём его вместе. Да, да, ваше величество. Раз у нас не осталось ночи, пусть это будет день — мы задёрнем занавеси. Скорее же, Питер. Мой Питер!
* * *
Царица Прасковья Фёдоровна, вдова Ивана V,
боярыня Настасья Фёдоровна Ромодановская
У Малого Вознесения благовест негромкий, ровный. Большой колокол загудит — по усадьбам да переулкам соседним ровно бархатом разольётся. Долго-долго в округе слыхать. А звонарь будто ждёт: как совсем поутихнет, легонько малого перезвону добавит. Колокола жаворонками встрепенутся, откликнутся, и снова большой загудит. Часом не один-другой прохожий остановится, заслушается. А князь Фёдор Юрьевич Ромодановский — усадьба у него обок приходского погосту — на гульбище выходит. Каждый праздник звонарю подарки посылает — за душевную усладу.
Вот и теперь боярыне молодой, супруге Фёдора Юрьевича, к ранней всенощной идти, ан гости на двор. Ни много, ни мало возок царский.
Оно и сам государь Пётр Алексеевич гость на дворе княжьем не редкий. Только тут другое: вдовая царица Прасковья Фёдоровна, сестрица боярынина. В первый раз после погребения супруга своего державного. Дородная. Рослая. Из возка выходить трудится — слуги под локотки держат.
— Сестрица-матушка, государыня Прасковья Фёдоровна, вот нечаянная радость! И в мыслях не держала, что честь нам такую окажешь. Назавтра сама к тебе собиралась — утрудить боялась.
— Полно, полно Настасьюшка. Тут дело такое: потолковать на особности надобно. В теремах неспособно.
— Известно, какой там разговор! Проходи, проходи, государыня. Где прикажешь принимать тебя?
— От челяди подалее. Да хоть в образной. Есть дома кто?
— Нетути, сестрица, нетути. Князь Фёдор Юрьевич, сама знаешь, государя Петра Алексеевича провожал, оттуда в Приказы отправился. Дьяка прислал, чтоб до ночи не ждать.
— Вот и ладно. Тогда давай, Настасьюшка, сразу к делу...
— Слушаю, сестрица. И впрямь смурная ты какая.
— А какой быть прикажешь? Государь Пётр Алексеевич был у меня перед отъездом. Прощался.
— Благоволит он к тебе, сестрица.
— За то мне по вдовьему моему положению только Бога благодарить надобно. Хорошо говорил, душевно. Царевнами заняться обещал. Одного уразуметь не смогла: сказал, что по возвращению из поездки своей велит мне за царицу быть.
— Как это, Прасковьюшка? Не пойму что-то.
— Вот-вот, и мне невдомёк — что за притча за такая. Спросить-то я спросила, да снова не поняла. Надо бы у Фёдора Юрьевича твоего справиться. Есть же царица Авдотья Фёдоровна, законная супруга государя. Так почему же не к ней послы иноземные должны с поклонами да подарками являться? Почему не её — меня честью да приношениями одаривать?
— Да государь-то тебе что сказал?
— Плечиком дёрнул: а вот уж это не твоё дело, государыня-сестрица. Я своё: как буду в глаза царице глядеть, ей-то что говорить? Рассердился. Чуть что не закричал: приказано — так тому и быть. Считай, нет никакой Авдотьи Фёдоровны.
— Это что же государь с ней делать-то собирается, Господи, спаси и помилуй. Живая же она...
— Веришь, Настасьюшка, обнял меня, поднял — до земли ему поклонилася, обычаем трижды расцеловал. Подожди, говорит, подожди, невестушка: ворочусь, полный порядок в доме нашем царском наведу. Поменьше, говорит, с Авдотьей якшайся. Нешто какая сорока лжу какую тебе, государь, на хвосте принесла, спрашиваю. А нечего, говорит, и приносить. Умница ты у нас, Прасковьюшка, великая умница. Который раз остаётся братцу покойному позавидовать, что ему — не мне красавица такая досталася.
— Ой, сестрица!
— Не о том думаешь, Настасьюшка, как есть не о том. Что на уме у государя с Авдотьей, вот чего вызнавать надобно. Князь-то твой ничего такого тебе не говорил?
— Скажет он, как же! Ты, государыня, другое дело.
— Так от моего имени разговор-то наш ему передай. Пусть бы растолковал мне, куда дугу гнуть, на что надеяться.
— Государыня-сестрица, а ведь я к тебе с делом завтрева ехать хотела. Ты смутилася, так и нам с князем Фёдором не легше. Посетила нас царица Авдотья...
— Да ты что, Настасья? Когда такое случилося?
— Вчерась. Не со мной — с князем Фёдором Юрьевичем толковать хотела, как только государь Пётр Алексеевич на Кокуй перед отъездом с прощальным визитом отправился. Того в толк не взяла, что князь при государе каждую минуту.
— Тебе-то что сказала? Чего хотела?
— Сказала. Да как ей сиротине не сказать: не простился с ней государь при выезде. Сынка благословил: ему Никифор Вяземский царевича Алексея Петровича подвёл. А о царице ровно забыл. Как на крыльях на Кокуй помчался к своей любезной.
— Тихо, тихо, Настасья! Ополоумела, что ли? Не твои это дела, не тебе о них и судить. Ты, боярыня, больно скора на язык стала. Нешто довелось тебе со свечой в ногах у немкиной постели стоять, чего слова всякие непотребные говоришь.
— Да полно тебе, Прасковьюшка, воробьи под застрехами про немку государеву который год чирикают.
— По-воробьиному жить решила, Настасья Фёдоровна? Без кола, без двора? Забыла, какой государь наш на руку скорый? Поехал на Кокуй — ему знать зачем. А вот Авдотья... Что ещё она толковала? Поди, сразу не отъехала?
— Где сразу! Насилу дождалась, когда восвояси отправится. Всё плакала — рекой разливалася. Глядеть больно.
— О чём толковала? Господи!
— Девичество своё поминала. И что в крещении Прасковьей наречена была. Как покойница царица Наталья Кирилловна в невесты государю её выбрала, имя на Евдокию сменили. Будто в честь великой княгини московской Евдокии Суздальской, супруги великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского. Кстати, и родителю её имя сменили: из Иллариона Фёдором заделался. 27 января 1689 года брачный венец приняла, а почти через год царевича Алексея Петровича родила, ещё через год Александра Петровича — полгодика пожил всего, в 1693-м — Павла Петровича. Они-то не жильцами оказались.
— Хоровитые оказались, вот что.
— Царица Авдотья иначе толкует. Будто как сошёлся государь Пётр Алексеевич с немочкой-то своей в 1691 году, так и пошла у них пря. И покойная царица Наталья Кирилловна сторону невестки не принимала. Сама поначалу выбирала, а так разонравилась, видно. Выговаривала государю Петру Алексеевичу, да не очень. Царица Авдотья не знала, как с бедой своей справиться.
— Жалостливая ты у нас, Настасьюшка. Только, сестрица, не твоя это печаль. Плакальщица какая за чужие беды сыскалась. Не так уж и молода Авдотья под венец шла, мы с ней однолетками замуж выходили: по двадцати-то лет.
— Ты, государыня-сестрица, договорить-то мне дозволь. Так вот, царица Авдотья сказывает, что после Павла-то Петровича отлучил её от себя супруг. Она и рада других деток родить, а он и знать её не желает.
— Это, выходит, с того года, что немке дом на Кокуе построил?
— Вроде бы так. И будто Христом Богом она молила, чтобы к ней возвернулся. В ногах валялась. К духовнику государеву ходила.
— К Петру Васильеву, что ли?
— Имени не называла.
— Акромя него некому быть. Так Пётр Васильев николи супротив государя слова не скажет. А что царице присоветовал?
— Будто промеж супругов не ему вставать. Будто их мир да согласие в руках Господних. А её, мол, дело — мужа слушаться и волю её беспрекословно исполнять.
— Вот и выходит одно к одному: не отрешил бы государь Пётр Алексеевич супругу свою напрочь.
— Неужто в монастырь?
— Откуда мне знать. При способности со своим князем потолкуй да мне весточку перешли. Вот и тут ко мне царица Авдотья направиться хотела — девки донесли. А я к тебе уехала. Ничьими слезами её делу уже не поможешь.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна
Боялась. Брату не призналась. Хотела страх подавить. Сама справиться. Толковала ему. Осторожно, чтобы не обидеть, беды горшей не наделать: нельзя государю страну покидать. Милославских кругом полно. Отмахнулся: не бойся, Натальюшка, за тобой Фёдор Юрьевич присмотрит.
Спросила. Не один раз. А ему, князю, во всём веришь? Не задумываясь, головой кивнул: кому же, как не ему. Забыла, каково он под Кожуховом потешными командовал. Как под Азов со мной ходил. Помнишь, сестрица?
Всё помнила. И того забыть не могла: одна остаётся в Москве. Совсем одна. Государю что: был — уехал. Ей-то, царевне, куда уехать, случись какая беда.
Перед самым отъездом решила впрямую сказать. Не получилось. Простился загодя. Обещал перед выездом заглянуть — времени, знать, не хватило. Говорили, у Анны Ивановны задержался. Увела немка в опочивальню средь бела дня. Боится государя потерять. А на сестру часу не осталось. Записочку прислал.
Вот теперь и выбирай: то ли в Преображенском сидеть — нет, среди стрельцов да потешных ни за что! Можно в Красном селе — дом маловат, до дворца руки не дошли, да и на самой проезжей дороге. Выбрала Воробьёво. Плохо, что на отлёте, да, кажется, спокойнее.
А вот на письма всегда время находит. Весточками радует, как бывало: что ни день матушке писал.
Выехали из Москвы на сорок мучеников Севастийских. Владыке молебен отслужил. Слова стихиры не обрадовали:
«Страстотерпцы всечестнии, воини Христовы четыредесяте, твердии оружницы, сквозе бо огнь и воду проидосте и Ангелом сограждане бысте, с ними же молитеся Христу о иже верою хвалящих вас. Слава давшему вам крепость, слава Венчавшему вас, слава Подавающему вами всем исцеление...»
У кого спросить, есть ли знамение какое? Лучше не спрашивать — кругом глаза любопытные, злые. Так и ждут, как у братца-государя нога подвернётся. А он будто и опасности не видит. Ото всего отмахивается. Ты, сестрица-царевна, в случае чего к владыке обращайся. Он твои страхи рассеет. Того не заметил: хворает владыка, тяжко хворает. Даже скрываться с хворью по-настоящему перестал. В последний раз в соборе после литургии осведомилась о здоровье. Улыбнулся глазами одними: должен дожить, государыня, до возвращения государя, непременно должен. Обет положил...
А братец выехал, ровно ничего за спиной не оставил.
Город Рига не по вкусу пришёлся. В Митаве и Кёнигсберге празднества ему устроили — всё отпировал. Как ребёнок веселился. Любит попировать да за чаркой посидеть, ой, любит Пётр Алексеевич.
Из Кольберга через Любек и Гамбург заторопился до верфи добраться. В Саардаме. Сама у послов осведомлялась: почему так. Плечами пожимают: не иначе кто присоветовал, потому как славы у этой верфи никакой нет. Восемь дней там пробыл. Топориком помахивать начал. Разохотился, да вскоре, видно, заскучал — в путь дальше пустился.
Зато из Амстердама сколько месяцев цидульки шли. С середины августа до середины следующего мая. Спрашивала в Посольском приказе, что за нужда. Переговоры ещё в ноябре, сам написал, завершились.
Из ума нейдёт, как братец в путь собрался. Пятью днями раньше, 4 марта, дядюшки Мартиниана Кирилловича не стало. Двухлетнюю дочку Наталью Мартемьяновну осиротил. Даже заглянуть в Высокопетровский монастырь времени не нашлось, где наши родственники лежат.
Началось всё в год провозглашения братца государем. Тогда первым оказался на кладбище в Петровском монастыре дядюшка Иван Кириллович — Оружейной палатой ведал. Стрельцы растерзали его 15 мая. За ним в августе тётушка Евдокия Кирилловна девицею преставилась.
Да это всё не то. 1691-й самый страшный оказался. Братец с Кокуя не выезжал, а тут 11 апреля супругу Мартиниана Кирилловича, Евдокию Васильевну, схоронили. 30 апреля — деда, Кирилла Леонтьевича. 1 августа — Фёдора Кирилловича, кравчего. Ровно мор какой на всё семейство наше напал.
Вот и теперь 2 августа супругу Льва Кирилловича, Параскеву Фёдоровну, в Петровский монастырь свезли. Братцу отписала — и помину в письмах нету. Англией занялся.
* * *
У послов иностранных головы кругом: что бы это значить могло. Через три месяца, как Великое посольство выехало из Москвы, тронулся в путешествие по тем же странам боярин Шереметев Борис Петрович. Персона, может, и важная, но в сумнительстве находящаяся. Ни тебе близости с государем, ни бесед с ним на особности, а вот на ж поди!
Секретарь австрийского посольства Корб поспешил с донесением своему правительству: «Нет ничего обыкновеннее, как высылать из столицы под личиной почёта тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним расположение внушают опасение». Вывод торопыга сделал: Петру трон обезопасить надо от покушений Софьи, а Борис Шереметев, известно, на её стороне.
Иностранцы, они всегда так. Там недодумают, там недослушают. Да и кто им, уж коли на то пошло, правду-то всю выскажет. Какая там правительница Софья, когда нелады у боярина с князем Василием Васильевичем Голицыным. Тут уж не до шуток. На дух друг друга не принимают, а царевна, лишь бы любимца не огорчить, от кого хошь отречётся.
В указе самого Бориса Петровича ничего не высказано: будто едет «ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей креста святого военных поведений, которые обретаются в Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают главные в воинстве кавалеры».
Чисто царский регламент высказан! А на деле — какими такими военными делами доводилось боярину заниматься?
В тринадцать лет в комнатные стольники произведён, в тридцать — в бояре, как правительница Софья державой заниматься стала. В посольство князя Василия Васильевича Голицына вошёл, которое о Вечном мире договариваться поехало. Князь Голицын, известно, главный, Шереметев среди четверых послов.
Как мир заключили, всем подарки богатейшие от царевны были сделаны. Борису Петровичу досталась чаша серебряная позолоченная, кафтан атласный, к жалованью прибавка немалая и сверх того четыре тысячи рублей. Плохо ли!
Тем же летом посольство в Польшу один возглавил для утверждения окончательного Вечного мира. Хитрость такую измыслил, чтобы на аудиенцию не у короля — у королевы напроситься, а там и поддержку её получить.
В Вену отправили для переговоров — договора с императором Леопольдом I не добился о совместной борьбе с Оттоманской империей. А вот верительные грамоты исхитрился в первый раз не министрам — самому императору вручить. Честь для державы Московской немалая. Царевна боярину за то преотличную вотчину в Коломенском уезде подарила.
Живи да радуйся! Только Борис Петрович до славы куда какой жадный. В военную службу напросился. Командование войсками нашими в Белгороде и Севске получил. Тут у него нога и подвернулась — в прю с князем Василием Васильевичем Голицыным вступил. Ото всяких дел его тут же отстранили. Да и как бы иначе быть могло. В почётной ссылке боярин оказался. А государь Пётр Алексеевич пришёл, не стал боярина ко двору вызывать. Не верили ему Нарышкины, ни в какую не верили.
Первый раз боярина в Азовский поход востребовали, да только на должность совсем особую. Армией генералы Лефорт, Головин и Шеин командовали, а Борису Петровичу поручили турок отвлекать — разорять их крепости по Днепру, чтобы с главного направления сбить. Дело невеликое, а поди ж ты, государь к докладу Шереметева прислушался. Оттуда его особенная поездка и наметилась. Будто бы никто его в вояж не отправлял — сам собрался, да с такой пышностью, что без государевых денег тут обойтись никак не могло. Двадцать с половиной тысяч рублей потратил — глазом не моргнул, а скупенек боярин, куда как скупенек. За лишний рубль с каждого шкуру спустит. А тут...
22 июня из Москвы выехал. Не спеша. С роздыхом. Три дня в коломенской своей вотчине, правительницей подаренной, провёл. Всю родню туда собрал — пировал напоследях, прощался перед дальней дорогой.
Вотчину свою под Кромами не обошёл. Неделю цельную в ней провёл. Хозяйство проверил. Управляющего распёк. Во все дела сам входил. Зато оттуда выехал уже под чужим именем: называться стал ротмистром Романом. Поляки первые неладное заподозрили. Объявы никакой о путешественнике не имели, так сутки в тюрьме на всякий случай задержали. Как уж там дело уладилось, никто толком не знал. Но уладилось — в дальнейший путь пустился. И про все записки наиподробнейшие вёл.
На аудиенции у короля польского курфюрста Саксонского объявил, что едет сложить благодарность свою к святейшему папскому престолу, к апостолам Петру и Павлу, что помогли ему одерживать победы над врагом. Это-то и придворные слышали, а в остальном говорил с королём много и тайно. А в конце аудиенции проводил его король до самых дверей — высший почёт оказал.
В Вене приём чисто царский оказан боярину был — стоял на особливом месте при столе. Императору сказал, что путь держит на остров Мальту, к мальтийским кавалерам, дабы, видя их отважное храброе усердие, большую себе охоту к восприятию воинской способности приобрести.
В Венеции боярин записал, что угощали его сахаром и конфетами на ста восьмидесяти блюдах и вина выставили ему шестьдесят бутылок.
На гостеприимство папы римского тоже пенять не приходилось: прислал папа Шереметеву на подворье рыб многих, и сахаров, и вин разных множество, а всего на семидесяти блюдах.
До Мальты добрался боярин на день Бориса и Глеба. Вздохнул про себя: соловьиный день — на Москве соловьи петь начинают. Озаботился как на следующий день — Мавры-рассадницы капусту высадят в вотчинах из рассадников в гряды. Первый раз по зиме кашу молочную станут варить.
О Мальте что плохого скажешь. Тут же посвятили боярина в кавалеры ордена Мальтийского креста. В кушанье и питьё много было удовольствия и великолепности, и в конфетах также.
Но дел, видно, немало оказалось: в Москву Шереметеву удалось вернуться только 10 февраля 1699 года. Тут уж австрийский секретарь всё записал:
«Князь Шереметев, выставляющий себя мальтийским рыцарем, явился с изображением мальтийского креста на груди; нося немецкую одежду, он очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почёте у царя».
Может, оно и верно: доволен был государь Пётр Алексеевич поездкой боярина. Очень доволен. В том, что удался антишведский союз с Данией и Саксонией, не столько себе и Великому посольству заслугу приписывал, сколько Борису Петровичу. А накоротке с боярином так никогда и не был.
Были у боярина заслуги. Были и какие важные, как понимал государь, недостатки. Пить не умел. Пил мало. На пьяных с отвращением глядел. Сторонился всего Всешутейшего и Всепьянейшего собора.
А уж об обращении простом и слышать не хотел. Почитал, что государю следует на расстоянии от придворных выпивох да шутников держаться. Куда дальше, коли сам государь Бориса Петровича иначе как на «вы» звать не хотел. Редко-редко по плечу хлопал. Обнять и вовсе никогда не обнимал.
И ещё — нетороплив боярин. Куда как нетороплив. Ни за что спешить не станет. Не то что годы его пожилые — достоинство своё так понимал. Государь иной раз раздосадуется, а всё сдержаться старается — уважает.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна
1699 года февраля 3 дня, на Вселенскую родительскую мясопостную субботу, происходили казни стрельцов на Красной площади, в Китае и на Болоте, за Москвою-рекою. На Красной площади был у казни государь Пётр Алексеевич да боярин Михаил Никитич Львов и прочие.
Думала, какая на братца обида. Слава тебе, Господи, что приехал живой и здоровый. Что поспел вовремя. Что ничего дурного семейству их не стало. Страх самый когда был — в июне.
В первых днях — то ли на Луку, то ли на Митрофания, а скорее, на Митрофания: девки толковали — пора гречу и льны сеять. В Великих Луках взбунтовались четыре стрелецких полка. Шутка ли, целых четыре! Надо полагать, вместе с начальниками, иначе как бы дружно так на Москву двинулись. Ни от кого не крылись: государыне царевне Софье Алексеевне помочь, из монастырского плена вызволить да на престол отеческий возвести.
На князя Фёдора Юрьевича смотреть страшно было. Ему ведь государь братец за Софьей Алексеевной доглядывать поручил, и вот те какое дело! То ли царевна их позвала, то ли кто другой подсказку сделал. Быстрым ходом к первопрестольной двинулись.
Многих в те дни страшные не видала, а девки толковали: притих народ. За государя заступаться не стали. Ждать принялись. Известно, чей верх, тому и кланяться придут, в ножки кинутся. Верили, многие ещё в царевну-правительницу верили.
Фёдор Юрьевич, аки лев рыкающий, метался — сама к нему к Малому Вознесенью заехать решилась. Раз за разом повторял: предупреждал же братца, говорил же, покуда есть Милославские, николи покою не будет. Всё равно станут воду мутить.
И то сказать, что им с братцем мириться — ведь первые они, старшие. Покуда был жив государь Иоанн Алексеевич, ещё куда ни шло, а без него-то нешто так просто престол уступят.
Ещё спасибо, у Прасковьи Фёдоровны сынка не родилось — тогда бы и вовсе не отбиться.
1699 года февраля в 4-й день, на благоверного великого князя Юрия Володимировича Владимирского, Преображенские солдаты кликали клич на Ивановской площади, перед Николою Гастунским, чтобы стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы и всяческих чинов люди ехали бы в Преображенское, кто хочет смотреть разных казней, как станут казнить стрельцов и яицких казаков, а ехали б без опасения. И того числа казнены стрельцы, а иные четвертованы, всего 192 человека.
Шутка ли — три с половиной месяца в английском королевстве провёл. В письмах о делах государственных намекал, а на деле? Все говорят, на верфи в каком-то городке трудился. И впрямь плотником заправским заделался.
Как только оторвался от английских занятий! Анна Ивановна тут, сказывали, хуже царицы Авдотьи в слёзы пускаться стала. Писал ли ей что братец, нет ли. Поди, писал. А всё равно из Англии в Вену собрался. Задумку имел союз противу турок наладить.
Понимать надо, не вышло. Вену бросил — к Венеции направился. А тут известия от наших. Говорили ведь, предупреждали: не замирил стрельцов, не договорился с ними. Вот и взбунтовались. Правительница ли бывшая Софья Алексеевна виновата, начальники ли ихние, кто знает. Только велено было курьеру, про сон и отдых забыв, к государю домчаться, в Москву сей же час вернуть. Если не опоздает...
Да не мог он к сроку вернуться. Спасибо, Шеин с бунтовщиками расправился под Воскресенским монастырём. Кого следовало, казнил. Выходило, без государя дело обошлось. Только теперь, примчавшись в Москву, никому не поверил.
Вернулся на праздник Петровской иконы Божьей Матери, 25 августа, и сразу на Кокуй, к Анне Ивановне. Ни тебе жены, ни сестры, никаких родных... Скрываться не стал, что одна дорога была — в её опочивальню.
А на следующее утро, прямо из её дома, на Преображенский двор — вершить суд и расправу. За бороды первых сановников государственных схватился — сам кромсал как умел, как выходило. Следствие начал по новой, будто Шеин ни о чём не дознавался.
Во всём правительницу бывшую обвинил. Вместе с ней Марфу Алексеевну, что никогда ему покорства не проявляла. И — кому бы в голову пришло — царицу Авдотью. Не за бунт стрелецкий — тут уж её вины, ищи, не ищи — не сыщешь. А просто. Постричь велел. Насильно. Полагала, владыка своё слово скажет. Не сказал. Так и не стало царицы Авдотьи, а у царевича Алексея матери.
Не мне братца-государя судить. Не мне... А вот стрельцов казнить стали. За один месяц больше тысячи положили. Обезглавили. За октябрь. Три месяца переждали и снова сотнями начали. И братец сам хвастал: по десяти, а то и двадцати голов кряду на плахе рубил. И Алексашка Меншиков. Вместе.
* * *
Пётр I, царевна Наталья Алексеевна
— Ничему, Петруша, в жизни не завидовала — тебе завидую: коль довелось тебе столько повидать. Кабы не читала, не сведома была чудес этих заморских, легше бы было, а так... Всё перед глазами картины дивные встают, только рассмотреть ничего толком нельзя.
— Неужто, сестрица, про тебя забыть мог. Всю дорогу помнил. Вот и копию с журнала, что каждый день вёл, велел тебе списать. Для интересу. Где был. Чего видел.
— Да ты что, Петруша, цельный журнал? Да такой толстый! Господи! Вот порадовал, братец, вот порадовал! Как отъедешь, тут же читать примусь, обо всём позабуду.
— Вот и погляди, как люди живут и как нам жить надобно. Сама разумеешь, за что прямо с ходу браться буду. Читай, умница моя, Господь с тобой. Завтрева заеду.
«Копия з журнала ево величества Петра Первого... когда, он своею высокою особою изволил ходить при свите посолской за море 7206 от Рождества Христова 1697 году.
С Москвы майя 11-го дня через Клин Тверь Торжек великий нов Град оттоль в Нарву июня 2: дня из нарвы июня 11 дня кораблём в Любик июня 23 дня тут видел в церкви престол из мрамора резан зело изрядно и органа в которых одна труба 16: аршин а из Любика в Гамбурх.
В 25: день тут видел метальника в камеди, которой метался зело дивно.
Июля 11-го дня в Амстердаме был в дому где собраны золотые серебряные и всякие руды и как родятца алмазы изумруды королки всякие каменья и морские всякие вещи и как золото течёт от земли от великого жару.
в Амстердаме видел младенца полтора года мохната всего сплошь толсто гораздо лице его поперёк две четверти привезён на ерманку тут же видел слона великого которой с каменем играл и трубил по турецки и по цесарски и стрелял из мушкета и многие вещи делал и имеет синьпатию с собакою которая непрестанно с ним пребывает зело дивно на ярманке видел металъников которые через трёх человек перескочи налёту обернётся головою вниз и встанет на ноги.
У доктора видел телеса человечески анатомию жилы и мозг телеса младенческия и как зачинается во чреве и родится.
видел сердце человеческое лёхкое почки и как в почках родится камень а вся внутренняя разнятся разно и жила та на которой лёхкое живёт подобно как тряпица старой жилы те которые в мозгу живут.
видел 50-т телес младенческих в спиритусах от многих лет нетленны.
видел кожу человеческую обделана толще бараньей а кожа которая у человека на мозгу живёт вся в жилах косточки малинькия будто молоточки которые во ушах живут.
тут же видел которой родит через естество собою болшую мышь без шерсти а родит от себя подобно себе сквозь спину и видели тут многих малиньких половина вышла больше 20. тут же жуки предивные и бабочки великие собраны зело изрядные.
приехали в гагу с послами сентября 15: дня встречи были за две версты до города встречали два человека стат а под ними было 50 карет, о шести конех и сидели по два человека а сидел князь Александра Голицын как приехали в город на посолской двор приехали два человека стали поздравлять посолское величество в добром приезде ко двум приехали... человек стат а в них один президент потчивал за столом а приехали в каретах о шести конях мы встречали у корет послы не сошли...
в гаге Франц Яковлевич (Лефорт) ездил за город в сад в своей карете которая дана тысяча восемьсот червонных у лошадей были шлеи бархатные вызолоченные сидел с ним в карете: ещё были три кареты о шти конях в которых наши дворяне сидели.
а как сведали что мы поехали за город многие поселение жёны нарочно выезжали загород все на шти конех после того ездили дважды в камедию которая нарочно для нас сделана как поехали из камеди ночью несли перед каретою 20-ть свеч больших вощаных.
во амстердаме октября 28 дня были огненные потехи зело изрядные перед всеми вороты во всём амстердаме огни горели великие... пускали зело предивн за одну ночь чаю несколько тысяч пущено не видать было неба и стрельба была великая во всю ночь что мир состоялся у многих европейских государей со французским королём, в амстердаме видел штуки разные и бумаги режет девка может персону человеческую взрезать и многие персоны королевския режет и продаёт за великую цену.
в амстердаме был у жидов в церквах и видел великое богатство и из рядные церкви и книги Моисеевы зело украшены в амстердаме ж был в церкве у кватеров которые собравшись в церкве и сидят часа три с великим смирением никакова слова никто не молвит всякой ожидает на себя очищения и познавши и то муж или жена встаёт и учит людей а в то время как молчит хотя великую досаду делает не противитца и ответу не даёт.
в амстердаме устроенный изрядныя домы где собираютца во всякой вечер девицы изрядныя девиц по 20 ти и по 15 ти и музыка непрестанно а кто охотников приходят кто которую девицу полюбит то те взявшись за руку изволил с нею итти в особую камору или к ней в дом и ночевать с нею без всякого опасения потому что те домы нарочно для того устроены и пошлины платят в ратушу, а домов таких с двадцать а называют их шпилгоус или домы игральный а нигде домы есть которые те дела исполняют только тайно а домов таких в амстердаме з двесте и зело богаты домы а кто охотники нанимают на месяц на два или на неделю и живёт без всякого опасения хоша год.
в амстердаме был в доме где сидят сумасбродныя люди которые соверщенно без ума всякому зделан особливой чулан и ходит напросте непрестанно смотрят поят чистят и берегут а которые не дерутца просто ходят по двору а з двора не пускают.
на месяц смотрели и можно видеть что есть земли и горы а мерою та труба зрительная сажен десяти (около 21 метра) во Амстердаме видел голову человеческую сделана деревянная и говорит человеческим голосом заводить как час и заведя молвит как кое слово и она молвит и тут же видал сделаны две лошади деревянные на колесе и садятца на них и ездят зело скоро и снимают кольца.
всех церквей разных вер в амстердаме пятнадцать
в Амстердаме был у жидов в церкве и смотрел обрезывание кто обрезывает младенца прежде молитву сотворит и потом положит младенца и возьмёт крайнюю плоть и щиплет щипцами серебряными и отрежет немало после возьмёт в рот ренского и сосёт кровь тою же кровью и вином мажет у младенца уста.
обедали в Амстердаме на большом или постоялом дворе десятник и послы трое всего было 32: человека а заплатили денег 207 ефимков из Амстердама ездили в Ротердам а ехали на Лейден в Лейдене были во академии и смотрели многих вещей из Лейдена в Дельфт смотрели церкви большой где погребаются оранския князья из Дельфта в в Ротердам в Ротердаме церковь большей смотрел тут видели славного человека учёного персонуиз меди отлиту в подобие человека и книга медная в руках и как двенадцать ударит ... имя ему Еразмус (Эразм Ротердамский).
в Амстердаме был где дважды на неделе собираютца учёные люди и рассуждают между собою о разных вещах богословских и филозовских.
в Амстердаме ужинал в таком доме где ставили нагие девки есть на стол и питьё подносили все нагие девки было их тут пять девок только на голове убрано а на теле наги перевязаны лентами руки флёром.
смотрели курфюрста бранденбургского двора его и садов во одну сторону двора река воаль за рекою построен сад изрядный прешпект на горе фонтан з гор ход зделан через реку в сад по одну сторону двора ево гора превеликая кругом рощи в роще просека 12-ть дорог со всякой дороги видеть можно поогород а в рощах напущено зверей оленей лосей вкруг видел ста с три в горах построены фонтаны изрядные и величиною та роща кругом ходу четыре часа.
смотрели церкви католицкой кругом её высечены страсти спасителевы из алебастра на одной стороне распятие на другой стороне когда молился святый боже да мимо идёт чаша сия и прочил все страсти в церкви сечены
в Берлин приехали в 29 день генваря город великой столица курфюрста брандебургского у курфюрста были на дворе и ходили во всех ево палатах были и дочь ево видели девицу и сына ево девяти лет говорит латинским французским и немецким языком первая палата курфюрстова обита шпалерами другая шпалерами а третья бархатом четвёртая кружевами золотыми покоевы ево палат убраны письмами изрядными и ещё палата в которой стоит поставец один с хрустальными сосудами ещё палата стоит персона из воску сделала так жива что неподобна поверить, что человек работал сидит в креслах что ближе смотреть то болше кажет себя дива
во Гданьске же были в во оружейных палатах с той пушки и мортиры ядра и порох все пушешные инструменты
тут же мужики зделаны каких лат как войдёшь в палату то встанет сам и шляпу поднимет и машет
ехали четыре дня переехали реку Вислу от Гданьска четыре мили обедали в городе Елблюк девять миль от Гданьска город великой в Кролевец приехали февраля 20 го дня наняли две коляски дали сто ефимков ехали 10 дней
от Майя ехали четыре мили и поехали курляндского князя землёю зело самой нужной проезд и народ самой хуже наших крестьян.
Февраля 27 дня приехали в Нитов поутру столица князя Курляндского а город небольшой и строение худое того ж числа приехали в Ригу конец совершён».
«Вроде бы всё перелистала. Нет, ещё о водах — Петруша больно о них заботился. Больно много в семействе нашем от болезни каменной прибралось — всё надеялся исцеление найти, заранее подумать.
«Смотрел где натуральные колодцы горячие в одном безмерно горячо немножко рука терпит другой не так горяч.
Построен великой дом и палаты изрядные зделано место где палата каменная сажен пять с сот из досок на котором водоводе зделаны две трубы для того что пар непрестанно идёт от воды посерёдке зделано место где ходят в воду выкладено около изрядно глубиною по шею человеку около перила зделаны два маленькие чердаки и ступени в воду сколько уступил и сядут поделаны лавки в воде а где кто хочет отворить двери другия зделаны в воду и плавать можна вдоль сажени три поперёк полтора а вода непрестанно течёт тут приведена труба великая а другою трубою вода течёт а вода в колодезях солона».
Чего ели, и того не упустил! «Из Крофорта ехали водою рейд наняли лодку дали 28 ефимков от персоны по четыре ефимка а ехали четыре дни обедали в кронфорте заплатили по ефимку от персону ества была салат гусь жареной три курицы, в росоле потрох гусиной аладьи пряженые капуста с маслом дрозды, жаркия да фруктов блюдо обедали и ужинали по червоному платили от персоны...»
Неужто не сосватает братец сестру в иную державу? Неужто здесь, середь царевен век вековать? У бабки Арины Михайловны с королевичем датским не вышло[9], так то время другое было. Не заартачился бы государь Михаил Фёдорович, батюшка Алексей Михайлович половчее в разговорах оказался, дело бы и сладилось. Не сохла бы в теремах до полувеку, не убивалась бы по ночам над судьбой своей незадачливой. Крёстная ведь мать Петруше. Пяти годочков крестнику не было как прибралась, а всё её добром да молитвой поминает. Господи, хоть надо мной сжалься!
* * *
Царевна Наталья Алексеевна
и Настасья Фёдоровна Ромодановская
— Слыхала ли, Настасьюшка, нет больше нашей царицы. Увезли Авдотью Фёдоровну. Ни с кем, даже с сыном родным проститься не дали.
— Государыня-сестрица, неужто правда? Неужто решился государь?
— Другое скажи: не позабыл среди казней-то всех лютых. Не забыл!
— Да так оно незаметней пройдёт, государыня-сестрица. Как ни толкуй, кому сегодня до царицы дело, когда кругом покойники одни. Голов-то, голов сколько рубят, ровно капусту перед Покровом, сказать страшно. Господи, прости и помилуй нас, грешных. До каких времён страшных дожили. Когда же увезли-то?
— Вчерась, на зачатие честного славного пророка Предтечи и Крестителя.
— Как же на такой день можно? Святые Захарий и Елизавета от бесплодия разрешены были, а тут плодовитую жену...
— Замолчи, замолчи, сестрица! Не нам судить. Тебе супруга своего пуще собственного глаза беречь надо. Он-то что о царице говорил?
— Немки он, государыня сестрица, не любит, ой, не любит. Твердит, мол, наступит час, во всём государя обманет да до беды доведёт.
— Уж не ей ли, Господи, прости, государь место ослобонил?
— Да ты что, Настасьюшка! Блудливой-то девке!
— Больно государь к ней сердцем прилепился. Откуда ни возвернётся, к ней первой мчится. У меня спросил, что народ о ней толкует.
— А ты что, сестрица-государыня?
— Я что! Слыхом не слыхивала никаких разговоров. Да и кто бы это осмелился о царском доме сплётки всякие распускать.
— Поверил государь-то?
— Поверил не поверил, да я в стороне осталась. Не задалась царице жизнь, ничего не скажешь. Только вот что я тебе скажу, Настасьюшка, не первый день дело-то это задумалось.
— Ещё бы не первый! Фёдор Юрьевич, сама слыхала, говорил, что государь дядюшке своему, Льву Кирилловичу Нарышкину, из Лондона отписывал — уговорил бы Авдотью Фёдоровну постричься.
— Ой, страх какой! Неужто Лев Кириллович за дело такое взялся?
— Про то не знаю. А просьба государева была. Может, и не захотел Лев Кириллович. А, может, царица ему отказала. Вон наперёд послал архимандриту суздальского Покровского монастыря предписание царицу постричь. А он, сказывают, ответил, что помимо воли царицыной ничего делать не станет.
— И Авдотьи Фёдоровны не примет? Куда ж её тогда повезли?
— Нет, на житьё примет со всеми почестями царскими, а на постриг насильственный нипочём не согласный.
— Даже если патриарх прикажет?
— А нешто патриарх так распоряжался? Владыка в стороне оставаться хочет. И нашим, и вашим угодным быть. Гляди, как после первых же казней хворать тяжело начал. Переживать переживает, а государю слова поперёк не скажет. Сказывают, с постели сволочётся, у образов упадёт и застынет. В слезах весь молитвы творит. Да стрельцам-то от того не легше.
— Уж не знаю, что думать. Как же это молитва владыки до Господнего престола не доходит.
— Государю сколько раз доносили: расхворался владыка, в чём душа держится. Сказал: всех, кого надобно, казнит, тогда и святейшего наведать приедет.
— Не заступился Алексей Петрович за матушку, не заступился.
— Да ты что? Малец такой! Шесть годков исполнилось — что он может!
— А то и может. Вспомни, сказывали, как Фёдор Алексеевич, государь покойный, царицу-родительницу Наталью Кирилловну хотел из Кремля отправить? Подучили тогда Петра Алексеевича — ему и вовсе пяти лет не было — в ножки государю царствующему упасть, согласие на жизнь в теремах вымолить.
— Когда это было!
— Всегда так бывало. А Иван Васильевич Грозный как по смерти своей матушки великой княгини Елены Васильевны за любимца её боярина Овчину-Телепнева да сестру его, няньку свою Аграфену Челяднину, бояр просил?
* * *
Пётр I, Фёдор Юрьевич Ромодановский
Где и найти государя в свободную минуту, как не в токарне. В Преображенском малом дворце, кажется, покоя важнее неё нету. Государь в полотняной рубахе. На груди полы разошлись. Передник кожаный до земли. Рукава засучены, руки в жилах взбухших. Со лба пот ручьями. А зябко в токарне, куда как зябко. Дверь в сенцы отвором стоит. Сквозняком каждого прохватывает.
— Будь здоров, князь Фёдор Юрьевич, будь здоров Князь-Кесарь. Пришёл о Всешутейшем соборе узнать? Пожалуй, на этой неделе по времени не выйдет. Зато следующую прямо с него и начнём!
— О другом я, государь. Вести из Суздаля.
— Об Авдотье, что ли? Что решили, наконец? Будет ли конец волынке этой? На кого ни доведись, терпенье лопнет.
— Постригли царицу, государь.
— Постригли! Вот и ладно. Не забыть бы в обитель дачу вложить, чтоб на нищету свою жаловаться перестали.
— Кричала Авдотья Фёдоровна очень, государь. В беспамятство два раза впадала. Лекаря прямо в храме держали.
— Так не померла же. Жива-здорова. Такую, Князь-Кесарь, через коленку не перешибёшь. А беспамятство её — от досады, ни от чего иного. Вот точить рамку кончу и на Кокуй с вестью радостной к Анне Ивановне. Попируем, как Бог свят, попируем.
— Государь, а что с царевичем станет?
— А что с Алёшкой стать может? Заниматься им, покуда суд да дело, сестрица-царевна Наталья Алексеевна согласилась. За штатом царевичевым присматривать. Вон там сколько народу набежало.
— Родные все, государь.
— Это ты о том, что Нарышкины? Нешто думаешь, я больно им верю? Слава одна, что родственнички, а на деле ещё посмотреть надо. Значит, кто там у нас? Учителем пока оставили Вяземского Никифора. Не больно-то он мне по душе, но до лучшего пусть мальцом занимается. Привык к нему. Воспитателями Нарышкины — Алексей и Василий. Округ Нарышкины — Василий и Михаил Григорьевичи, Алексей и Иван Ивановичи, да Вяземских пятеро с Никифором — Сергей, Лев, Пётр и Андрей.
— Ещё духовник, государь.
— Ах, этот! Поп Верхо-Спасского собора кремлёвского Яков Игнатьев. Ну, и понятно, всё воспитанием заведует пока тоже поп Леонтий Меншиков. Как перебрались к царевне Наталье Алексеевне в Преображенский дворец, всех, что ни день, как на ладошке вижу. Менять, менять их надо, Фёдор Юрьевич. При Авдотье беспокойства много было. Чуть что вопить начинает, в ноги кидаться: того не тронь, этого не замай. Теперь другое дело. Со всеми разберусь, дай срок.
— Что ж, государь, царевича по малолетству его, конечно, жаль, но твоя правда — не помощники, воспитатели-то эти, они тебе. Не говорил я тебе, государь, а вроде бы знать тебе следует.
— Ты о чём, Князь-Кесарь?
— О показаниях стрельцов под пытками. Много глупостей плели — со страху чего не наговоришь! Вот и тут монастырский конюх Кузьмин такие слова молвил, будто ты, государь, немцев любишь, а царевич их не любит. Мол, приходил к царевичу некий немчин, слова какие-то говорил, а царевич сильно озлился и на том немчине платье сжёг и всего его опалил.
— Не слыхал о таком. А было и на самом деле?
— Проверял, государь. Было. Не донесли тебе в то время.
— Могут и в другой раз не донести, а что из мальца тогда вырастет, сам знаешь. Это он сейчас в свои-то осемь лет вытворять себе позволяет! Значит, старшие на подначке стоят, поощряют.
— Ты на сына, государь, зла не держи. Где в его-то годы разобраться. Отца ведь не видит. Никогда не видит.
— Няньку из царя решил сделать, Князь-Кесарь? Не выйдет! Возиться с мальцом не буду.
— А может, надо бы, государь. Не ты сына в руки возьмёшь, от Лопухиных к нему руки протянутся. Как запретишь царевичу матушку родимую вспоминать? А ведь сколько народу на чувствах-то сыновних в доверие к нему войти сумеют.
— Не каркай, Князь-Кесарь, не каркай. Теперь уже знаю, какого воспитателя искать станем. Из студентов университетов немецких подберём. И чтоб дело военное любил и знал. И чтоб царевича походя языку немецкому учил, без языка ему никак нельзя.
— Один ведь он у тебя, государь.
— Сегодня один, а там как Бог даст.
— Прости мне любопытство моё проклятое, государь, только что ж ты теперь в одиночестве в твои-то молодые годы коротать собрался. Есть у тебя Анна Ивановна — хорошо, но ведь государю и супруга законная потребна. Порядок такой заведён, не тебе его менять.
— На всё своё время, Князь-Кесарь. Нынче ещё до матримониальных дел руки не доходят. Да, хотел я тебе новость и радостную, и забавную сказать. Веришь, в Амстердаме послу Фёдору Алексеевичу Головину множество прошений о принятии в службу российскую подано было. А мне так понравился знаменитый тамошний живописец и рещик Адриан Шхонебек и живописец-арап Ян Тютекурин.
— И впрямь арап? Подлинный?
— Самый что ни на есть. В Оружейную палату к нам просится. Я и согласие сразу дал. Забавно!
* * *
Фёдор Юрьевич Ромодановский, его жена Анастасия Фёдоровна
— Фёдор Юрьевич, батюшка, несчастье какое случилось али что? Сказывали, народ сломя голову в Немецкую слободу поскакал. Кругом переполох великий. Плохо с кем, что ли?
— Франца Яковлевича не стало, Настасьюшка, генерала нашего Лефорта. Кончился в одночасье.
— Так ведь молодым совсем был. Что ж ему приключилося?
— Не ведаю, что дохтуры насочиняют. А не старым человеком был, это верно. Едва за сорок перевалило — какие его годы! А человек хороший, ничего не скажешь. Сплёток не плёл. Как государь его ни любил, никогда любовь его в корысть свою не обращал.
— Так государь и так его не обижал, кажись.
— Не обижал, не обижал. Ему попервоначалу туго пришлось, как в Москву попал. Характер у него шебутной был, у покойника. Своевольный. И то сказать, из купеческой семьи богатой. Отец его по торговым делам определил во французский город Марсель ехать, а Франц Яковлевич возьми да поступи волонтёром в военную службу в Голландии, чтобы с теми же французами воевать.
— Самостоятельный!
— Да с чего бы ему самостоятельным быть? Дурной — двадцати лет не исполнилось, как в Россию с полковником Фростеном собрался. Сам признавался: и страны такой не знал, и путей-дорог в неё не ведал. Чином капитана поманили, он и разлетелся к нам ехать.
— И давно это было?
— Да как сказать — в год после кончины государя Алексея Михайловича. В Архангельске-то он высадился, а в Москву без прошения, заранее отправленного да рассмотренного, ни-ни. Не чаяли до первопрестольной добраться. А и добрались — разрешение себе выхлопотали — ещё года два не у дел болтался, спасибо удалось ему жениться на свойственнице генерала Гордона.
— Англичанке никак?
— Всё-то ты у нас, Настасьюшка, знаешь. На англичанке. А вместе с супругой и чин капитана получить. С Гордоном два с лишним года в Малороссийской Украйне с татарами воевал. В Крымские походы в оба ходил. Князю Василию Васильевичу Голицыну больно приглянулся.
— Поди, и царевне тоже, правительнице-то?
— Да ты что, Настасьюшка, разве бы князь такое допустил? Да Франц Яковлевич о царевнино расположение и не старался. Ему застолье весёлое, друзей побольше, вина море разливанное. А уж рассказчик был, покойный, поискать да не найти. Тем и государя Петра Алексеевича купил. Государь ему всю былую службу да дружбу простил да забыл. И то сказать, умел Франц Яковлевич государю при каждом случае угождать, ох и умел.
— Про ассамблеи-то лефортовские мы все наслышаны.
— Ассамблеи ассамблеями. А Франц Яковлевич для большей забавы к своему дворцу на Кокуе преогромную залу пристроил — для танцев и развлечений всяких. Моду взял потешные огни при каждом случае пускать. Мастеров для такого дела повыписывал из-за границы. В дела государственные ни Боже сохрани не мешался. За то и врагов особых не нажил. Разве кроме Меншикова Алексашки, так тому лишь бы одному округ государя крутиться. Франц Яковлевич всему государя научить успел. И как новомодное платье одевать да носить, как танцы иноземные танцевать. Как с дамами разговоры разговаривать. А уж языкам иностранным, кажись, без перестачи государя подучивал. И не то что настырно, по-учительски, а между прочим — чтоб не было его величеству в обиду. Добрый был человек, ничего не скажешь.
— Поди, и офицер отважный — государь таких особо жалует.
— А вот этого не скажу. Трусом не был. Страха не ведал. А вот чтоб в военном деле разбираться, так нет. Ему бы по чужой команде действовать. Тут уж лучше него человека не найти. Хотя одно дело разумное сделал. Государь его и в полного генерала и в адмирала произвёл. Полковником первого выборного полка сделал. Вот тут Франц Яковлевич вместо того, чтобы солдат своих и офицеров по частным квартирам размещать возле своего дома в Немецкой слободе для них общие помещения построил. Казармы по-иностранному. И солдатам удобнее, и ему за всем хозяйством и делом полковым приглядывать легче. Отсюда и название утвердилось Лефортовой слободы. Очень государю понравилось. Трудно Петру Алексеевичу без Лефорта будет, трудно. Мало кому верить на престоле можно, а вот Франц Яковлевич разу единого не подвёл государя. Сам любил его. Другом государевым был, это точно.
* * *
Пётр I, патриарх Адриан, его слуга Трефилий
Никто великого государя и не ждал в Патриаршьем дворце. Сам с утра не ведал, что решит святейшего навестить. Не по болезни его — часто кир Адриан прихварывать стал, — по делу неотложному.
О школах надобно думать. В странах европейских побывал, ребятишек там поглядел. По-иному их учат, совсем по-иному. У нас дьячки да попы безместные — сами в грамоте путаются, а за грош любого наставлять берутся. Траты у родителей выходят великие, а проку никакого. Снова в Преображенском приказе разговор такой зашёл. Со святейшим посоветоваться надобно. Невниманием не обижать.
— Что владыка?
— Утреню отстоял, великий государь.
— Отстоял, а дальше что?
— Прилечь изволил. Жалился — сил нетути.
— Дохтур был?
— Не дал святейший дозволения на его приход.
— Ещё что! Глупость одна. Сразу видно, самому владыке не справиться.
— Всё по Божьему произволению, государь. Испокон веку так люди жили.
— Испокон веку, говоришь? А откуда тогда поговорка-то наша русская взялась — не нами придумана, не нами и кончится: Бог-то Бог, да сам не будь плох? Да ладно, Трефилий, что тут время терять — веди к святейшему. Где он расположился?
— В чуланчике у келейки, великий государь.
— Словно в нору мышиную забился. Воздуха ему надобно свежего, а вы тут...
— Никак серчаешь на патриарха, великий государь? Здравствуй, здравствуй и благоденствуй на многия лета.
— Зачем поднялся, владыко? Я бы к тебе...
— В чуланчик мой тебе, Пётр Алексеевич, не затиснуться, да и полегчало мне сразу, как голос твой услышал. Радость какая!
— Спасибо, владыко, на добром слове, а я к тебе с делом. Помнишь, толковали мы с тобой: школ в государстве нашем мало. А те, что есть, наставниками грамотными похвастать не могут.
— Как не помнить, государь, дело это для народу наиважнейшее.
— Обещал ты, владыко, сочинить о том извещение, чтобы на всю державу объявить. Обещал ведь?
— Виноват, великий государь, силы изменили. Всей бы душой, вот только повремени — очнуться мне дай.
— Не виновать себя, владыко. Не смог, так не смог. Вот я сам о наших с тобой мыслях речь написал. Благоволи послушать. Что не так, исправишь, дополнишь. Много хочу в новом году сделать — школы открыть, летоисчисление изменить: не век нам от всего Божьего мира счётом времени отгораживаться.
— Предки наши, великий государь...
— Со старым счётом жили, сказать хочешь. Верно, да жизнь иной была. Да и что за грех летоисчисление не от сотворения мира вести, а от рождения Господа нашего Иисуса Христа?
— Не в грехе, государь, дело — в обычае. А обычай он, как известь кирпичики, людишек между собою слепливает. И жить-то им так, по родительскому обычаю, легше, покойнее.
— Вот покою этого я и не хочу. Господь сотворил человека, сам в Священном Писании читал, для труда и забот. Вот и пусть в державе моей трудится и заботится. Плут и тот без земли и дела ржавеет, а человек и вовсе в прах превратиться может до времени. Ты мне, владыко, на один-единственный вопрос ответь: есть в новом летоисчислении грех?
— Греха, великий государь, нету, но...
— А больше ничего и знать не хочу. Каково это нам с иноземцами торговать будет, когда ни во времени, ни в порядке уразуметь друг друга не можем. Так благословишь, святейший?
— Благословлю, государь, хоть и со стиснутым сердцем. Верь, нелегко мне. Как людишек уговорить-то? Шум ведь подымут.
— А царская власть на что? Быстро уймутся. Лучше позволь, святейший, речь мою тебе прочесть. Время торопит!
— Твоя воля, великий государь. Для меня в том одна радость.
«Во имени господни извещение.
Изволил великий государь царь святейшему патриарху глаголати, быв у него октоврия месяца в 4 день ради посещения в немощи.
Что священники ставятся, грамоте мало умеют, еже бы их таинств научати и ставити в той чин. На сие надобно человека и не единого, коих сие творити; и определите место, где быти ему.
Чтобы возымети промысел о разу млении к любви божией и к знанию его христиан православных и зловерцев: татар, мордвы, и черемися, и иных, иже не знают творца Господа, и для того во обучение хотя бы послати колико десять человек в Киев в школы, которые бы возмогли к сему прилежати.
И благодатию Божиею и зде есть школа, и тому бы делу породеть мощно, но мало которыя учатся, что никто школы, как подобает, не назирает. А надобно к тому человек знатный в чине и во имени и в доволстве потреб ко утешению приятства учителей и учащихся. И сего не обретается ни от каких людей. Быти тому како?
Евангелское учение и свет его, си есть, знание Божие человеком, паче всего в жизни сей надобно. И из школы бы во всякия потребылю люди, благоразумно учася, происходили в церковную службу и в гражданскую воинствовати, знати строение и докторское врачевательное искусство.
Ещё же мнози желают детей своих учити свободных наук и отдают зде иноземцом оныя, ини и же и в домех своих держат, будто учителей, иноземцов же, которыя славенского нашего языка не знают прав говорити. К сему ещё иных вер, и при учении том малым детём и ереси своя знати показуют, отчего детем вред и церкви нашей святей может быти спона велия, а речи своей от неискусства повреждение.
А в нашей бы школе при знатном и искусном обучении всякого добра учинилися. И кто бы где в науке заправился в царскую школу, хотя бы кто побывать пришол, и он бы ползовался.
И сего смотрети же надобно и прирадеть тщательно зело. Но яко вера без дела, а дело без правыя веры мертво есть обоя, тако слово без промысла, а труд без чина и без потреб не успеет ползовати.
Ещё же велия злоба от диавола и козни его на люди, еже бы наука благоразумная где-либо не возимела места, всячески бо пропинания deem в той.
Господь же Бог во всём помощь сотворит людем спасительну».
— Что скажешь, владыко?
— Дай тебе, великий государь, Господь поспешение во всех твоих замыслах. Коли хочешь, назову тебе помощников в делах школьных.
— Нет, владыко, обожду, когда сам к делам приступить захочешь. При тебе никаких заместителей мне не надобно.
— Всё в руце Божьей, великий государь, продлить ли человеку живот свой или...
— Не продолжай, владыко, не продолжай!
— Не стану тебя огорчать, государь, а всё надо быть ко всему готовым. Как царевич там? Давненько его не видал? Учение у него по твоей ли мысли идёт?
— Что тебе, владыко, сказать. Приставил я к нему, поди слышал ты, учёного немца. Из Данцига. В Лейпцигском университете учился. О семье его доведался. Отец — богатый горожанин. Сын в науках успехи имел. Мартин Нейгебауэр называется. Пока ещё сам его не видел. Когда до Москвы доберётся, тогда рассудим.
* * *
Пётр I, Анна Ивановна Монс,
Фёдор Юрьевич Ромодановский,
Борис Петрович Шереметев
1699 года декембрия в 20 день издан указ
Великого Государя о праздновании нового
года отныне с 1 января. Ради того празднества
украсить все дома сосновыми и еловыми
ветками, а также можжевеловыми по образцам,
выставленным в Гостином дворе. В знак веселия
отныне следует поздравлять друг друга. На Красной
площади устроить огненные потехи, а по дворам
стрелять из пушек и мушкетов, а также пускать
всяческие ракеты.
Не опустел Лефортов дворец. Снова двери настежь. Иллюминация — глаз не оторвёшь. Хвоей окрест пахнет. Фонари цветные горят. Возок за возком в ворота въезжают. Все знают, принимать гостей будет сама Анна Ивановна. Что там платья немецкие наимоднейшие, главное — от блеску бриллиантов глаза слезятся. Вся горит переливается. Хороша! Ничего не скажешь, хороша. А уж как после возвращения государя расцвела. Щёчки пухленькие. Розовые. Губки вишнёвые. Капризные. Глаза — что твои незабудки. Брови вразлёт. На высоком лбу локончики золотятся. Государь с кем ни поговорит, всё к ней оборачивается — налюбоваться не может.
— Вот видишь, видишь, рёзхен, всё по твоей мысли вышло. И торжество, как в Европе. И гостей — дай Бог уместиться в таком-то зале. И скрываться тебе ни от кого не надобно.
— Мой Питер, ты настоящий волшебник! Ты пойдёшь со мной танцевать первый танец, правда? Самый первый! Если бы ты знал, как мне это важно. Ведь знаешь, разное люди толкуют...
— Танцевать с тобой, рёзхен? Непременно. Только обожди немножко. Без меня начинайте. Тут ещё по делам потолковать надо с Шереметевым и Фёдором Юрьевичем.
— В такую-то ночь! Это безбожно, либлинг!
— Великий государь...
— А вот и ты, Князь-Кесарь. Извини, Анна Ивановна, освобожусь, тотчас тебя сыщу. Давай-ка князь, в затишный покой зайдём, потолкуем. Князя Бориса Петровича что-то не вижу.
— Здесь Шереметев, великий государь, где же мне ещё и быть.
— Тогда начнём. Итак, господа, одиннадцатого ноября сего года заключили мы тайный союз с королём польским курфюрстом Саксонским Августом.
— Договор, ваше величество, договор. Оно точнее будет.
— Буквоед ты, Борис Петрович, ещё какой буквоед. Пусть договор. И по тому договору обязались мы незамедлительно вступить в Ингрию и Карелию по заключении мира с Турцией.
— Но не позже апреля года 1700-го, государь.
— Погоди, Фёдор Юрьевич, до апреля ещё дожить надо. Другое сейчас важно. По нашему договору...
— Скажите иначе, ваше величество, по плану Паткуля — им он выгоден, не нам.
— Да уж, только выхода у нас пока иного нет, как понимаю. Значит, Лифляндия и Эстландия переходят к Августу. Но мир с Турцией у нас пока не заладился, и время это следует использовать для создания новой армии.
— Ничего не скажешь, нужда крайняя, потому что по распущении стрельцов никакой пехоты наше государство не имеет.
— Стрельцов поминаешь добром, Борис Петрович.
— А что мне скрываться, государь. Не одному государю они верой и правдой служили. Сколько животов за землю русскую положили. Если кто в какой заговор и вошёл, начальников судить надобно — их вина, их игры. А стрелец — что ж, солдат он. Отличный солдат. От отца к деду.
— Некогда разбираться было, боярин. Некогда! Семнадцатого ноября объявили мы набор новых двадцати семи полков, разделили их на три дивизии и подчинили командирам Преображенского, Лефортовского и Бутырского полков.
— Что делить-то, государь. Для начала набор завершить надо. Ещё неизвестно, как-то он пойдёт. Так полагаю, раньше будущего лета с формированием их не управиться.
— Спешить надо, Фёдор Юрьевич, изо всех сил спешить.
— За спешкой дело не станет, государь, был бы от неё толк. Это ты у нас такой скорый, ровно в кипятке купанный.
— Либлинг! Государь, я заждалась тебя! Ты же обещал!
— Иду, рёзхен, иду!
* * *
Пётр I, Борис Петрович Шереметев
— Государь, союзники наши великое неудовольствие выражают: не стояло такого в нашем договоре с Августом, чтобы входить нашим войскам в шведские пределы.
— А что, это невыгодно нам, Шереметев?
— Выгода выгодой, государь, а договор...
— То-то вы, Борис Петрович, всегда буквы договора держались.
— Я же не монарх, ваше величество.
— А монарху тем более воля поступать, как его державе удобней. Неужто о союзниках печься? Да они нас при первом же случае кому хошь продадут. Не так разве, Фёдор Юрьевич?
— Так, великий государь. Дивизии Головина и Вейде к середине июня мы сформировали полностью, экипировали, вооружили. Что ж людям без дела стоять?
— Положим, к ним ещё кое-какие части присоединили.
— Правильно, Борис Петрович. Общим числом до сорока тысяч набежало. Как же тут на шведские земли не заглянуть, Карлу XII не потревожить.
— Да и то сказать, государь, ведь дождались мы мира с Турцией? А там и выступили.
— На следующий же день.
— На следующий, Борис Петрович. Без ленцы твоей, фельдмаршал.
— И всё равно, великий государь, долгонько наши собираются. Сноровки ещё нужной нет. Что под Кожуховом, что под Азовом проверяли ведь — в проволочках вся наша беда. В военном деле быстрота — половина победы.
* * *
Анна Ивановна Монc
Государь словно забыл про московские свои дела. Письма и те почти писать перестал. Анна Ивановна положила, дальше так пойдёт, самой в лагерь военный ехать. Иного ждала от возвращения государя из стран европейских. Иного... Ничего не обещал, уезжая, это так. Царица Авдотья в теремах жила, хоть им и оставленная.
Так ведь нет теперь Авдотьи. Год целый после её пострига прошёл. Слухи ползут: сняла с себя иноческую одежду, в царской по Суздалю разъезжает. Не может Питер не знать об этом. Не может! А молчит. Почему молчит?
Для кого место возле себя бережёт? Иностранную принцессу выискивает? Может, и так быть. Для царского дома дело обычное. А если новая супруга по сердцу придётся? Если...
Мой Бог! Сколько этих «если». Пусть бы земли побольше ей подарил. Титул дал. В других государствах принято так. Дом в Лефортовой слободе — экая невидаль! А нового ничего не видать. На все вопросы: подожди, Аньхен, да подожди. Чего ждать?
Сколько денег переплатила, чтобы у прислуги в теремах что разведать. Никакого проку. В семье государя одни женщины — что старух, что ровесниц пруд пруди. Не любит их. Сам говорил, и не раз, не любит. Надоели. Так ведь они рядом, а его Аньхен в Лефортове.
Теперь ещё война не задалась. Покуда государь русские войска у Нарвы собирал, шведский король Карл не то что с Данией покончил — в Эстляндии и Лифляндии высадился. Теперь — генералы на ассамблее говорили — на Нарву пошёл. Господи, что-то будет!
1700 года 13 октембрия скончался кир Адриан. Тело покойного окутали в гробу сверх всего зелёным бархатом. Для выноса покойного был изготовлен одр с рукоятками — катафалк, обитый чёрным бархатом. После погребения чёрный бархат с одра и с гробовой крышки был употреблён на покров на гробницу, а остальной роздан кусками на камилавки домовым священникам и другим служебникам на шапочные вершки — в поминовение по святым патриархе.
В день кончины кира Адриана милостыни было роздана более чем трём тысячам нищих, на второй день — 1600 человекам, в день погребения — пяти тысячам, шестистам колодникам в московских тюрьмах и двумстам безместным священникам.
У надгробницы кира Адриана на доске вырезано: «Патриарш свой престол правил десять лет пятьдесят три дни: от рождения своего имел шестьдесят третие лето с октября 2 дня. Его же душу да упокоит Господь в вечном своём небесном блаженстве. Всяк зрящи гроб сей помолися».
* * *
Пётр I, Фёдор Юрьевич Ромодановский,
Никита Зотов
— Надо же, на какой день владыки не стало. Празднество сие любил. Толковал о нём. Как приезжал в Москву архимандрит Афонского монастыря в первый год правления государя батюшки. Как захотел тогдашний патриарх Никон непременно иметь в первопрестольной список древнего образа, а архимандрит Пахомий обещался просьбу его исполнить... Как 13 октября 1648 года прибыл к нам список с тремя афонскими монахами, а государь, патриарх и великое множество народу встречали его у Воскресенских ворот Китай-города. Как пожелала его иметь в своих покоях государыня Мария Ильинична. Как ни за что уступать её никому не хотела...
— Пока не благословила ею дочь свою царевну Софью. Вишь, сколько наговорил, каждый поп многословию твоему, Князь-Кесарь, позавидует. День как день. Вот только теперь разбираться с церковным хозяйством придётся. Случай способный, да и время подошло.
— С чего начинать будешь, государь?
— С монастырского приказа.
— Это как же понимать надо? Приказа?
— А как, по-твоему, князь, можно единообразие в государстве нарушать? Деньги в одном котле быть должны и счёт им один вести следует.
— Да разве, государь, твой батюшка порядок не определил в Уложении-то, без малого полвека назад?
— Потачку великую духовенству дал. Тратился на них без меры. Да ещё Никон тут государство в государстве под своим скипетром устраивать вздумал. Оно и по сей день аукается.
— Так ведь и расходы у них немалые, государь?
— А кто их считал-проверял? Собирают монастыри хлеб с крестьян и запродажный хлеб и скот, деньги немалые, а где те деньги у них, на какие расходы, того не ведомо. Потому и положил я, церковные власти и учреждения, духовные лица и подвластное им население чтоб государству служили. Это у государства право и власть за доходами ихними наблюдать и производительному употреблению оных сурово способствовать... Никому потачки в деле таком не давать. Оставлять им лишь на неотложные церковные нужды и то по строжайшем рассмотрении, вон Зотов указ должен был сочинить, если управился ко времени.
— Управился, государь. Как не управиться, коли на то твоя воля.
— А коли управился, давай читай, что получилося.
«Именным указом Великого Государя, генваря 24 дня 701 году повелевается: дом святейшего патриарха и домы же архиерейские и монастырския дела ведать боярину И. А. Мусину-Пушкину, а с ним у тех дел быть дьяку Ефиму Зотову, и сидеть на патриаршем дворе в палатах, где был патриарший Разряд, и писать МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ, а в Приказе большого дворца монастырских дел не ведать и прежние дела отослать в тот же приказ».
— Ничего больше и не требуется. В остальном Иван Алексеевич порядок наведёт, тут уж сомневаться не приходится.
— А то, что не имел Мусин-Пушкин отношения к делам церковным, государь?
— Тем лучше. Ни с кем не спелся, а он и спеваться не станет. И в Смоленске воеводой был отличным. В Астрахани и вовсе жителей местных от мятежных казаков и кубанцев каменной стеной огородил, да и доходы государственные как оттуда увеличил. Нынче всё время в походах. Такого вокруг пальца не обведёшь, на серой козе не объедешь. Уж коли сам Курбатов за деловую смётку боярина поручился, какие ж сомнения.
* * *
Пётр I, Александр Меншиков, архиереи
— Государь, архиереи просят о приёме. Что изволите им сказать?
— Ты о чём, Алексашка? Почему архиереи? Им следует оплакивать кончину патриарха, а не добиваться аудиенции у царя.
— Но почему же, государь? Они должны знать, кто отныне станет их главой. Говорят, среди них началась нешуточная схватка.
— Схватка? Им не о чём спорить.
— Вы уже выбрали будущего патриарха? Но тогда следует, вероятно, им об этом сказать.
— Никакого патриарха не будет.
— Я не ослышался, государь? Не будет патриарха? Но как же тогда?
— Что можно и чего нельзя? Думаю, Курбатов прав: достаточно будет назначить вместо патриарха местоблюстителя патриаршьего престола.
— Э, да наш прибыльщик и до церкви добрался.
— И, надо сказать, с умом. Другого такого, как кир Адриан, не будет. Да его и не нужно. Как-никак это церковный царь, а местоблюститель станет подчиняться государственным учреждениям, на первых порах Монастырскому приказу.
— Значит, Мусину-Пушкину.
— Значит, ему. А местоблюстителем пусть станет митрополит Рязанский Стефан Яворский. Человек он разумный. Понятия государственные имеет. И свою братию обойдёт, и моих приказов два раза повторять не придётся.
— Да уж, о Яворском плохого слова не скажешь.
— И не надо. Ты думаешь, просто мне было с покойным владыкой, хоть и ладили мы с ним во всём. Об одних постах сколько разговоров пустых было. Я постов не признаю, признавать не собираюсь и солдат моих голодом морить не намерен. Дело солдата — война, а монахов — пост и молитва. Так ведь не решился Адриан на такое благословение. Пришлось к константинопольскому патриарху писать, чтобы своё позволение дал. Тот-то, известно, не откажет, с нашей державой ссориться не станет. Куда ему без нас. А насчёт архиереев... Здесь они, что ли?
— Здесь. Как им ни отказывал, что государь, мол, занят, упорствуют. Сказали, что готовы на морозе хоть неделю у дворца сидеть, лишь бы разговору с вашим величеством дождаться.
— Вот и дождались — зови их.
— Великий государь!..
— Не обессудьте, святые отцы. И впрямь принять вас раньше бы следовало, да не получилось.
— Великий государь, мы о поставлении нового патриарха. Чин не простой. Подготовиться нужно. О гостях заморских поразмыслить.
— Ничего не нужно, святые отцы, — патриарха отныне не будет.
— Государь!..
— И спору об этом тоже не будет. В нашей державе нет нужды в патриархе.
— Церковь святая ослабнет, великий государь. Кому, как не патриарху, за неё заступаться!
— Перед кем? Перед кем, святые отцы? Перед иноземной верой, так на то наша армия есть и государь. Перед государем, может быть? Так вот мне распрей в моей державе не нужно. Хватит, нагляделись! Каждый своё гнёт, а государю ещё и с вашим братом бороться. Вы за всё стоите: и за имущество церковное, и за поборы с людишек, и за то, чтобы из ваших никого в армию не брать, под ружьё не ставить.
— Государь, где тебе при всех хлопотах твоих ещё и о душах людских печься. Наше это дело, церковное, потому и о патриархе просим.
— О душах! Об этом мы с киром Адрианом перед самой его кончиной говорили. Ещё слишком много среди монашествующих и священничествующих людей малограмотных, хищных, к стяжательству расположенных. Церкви образование не меньше, чем всему народу нашему, нужно. И тут споров не будет. Сам свою державу на верную дорогу выведу. Сам! И служить вы все державе станете — не патриарху!
— Сразу всех не переменишь, государь! Нешто во всех приходах разом такое содеется. А пока...
— А пока раз о патриархе просите, вот вам патриарх — регламент духовный. По нему и действовать будете. Митрополиту Рязанскому отныне положенный в сём регламенте порядок блюсти накрепко и без споров.
— Не готов я, государь, к службе такой. Позволь хоть с мыслями собраться.
— А я ведь, преосвященный, не в рассуждения с тобой пускаться собираюсь. Царь я тебе или не царь? Больше скажу, хоть и не хотел попервоначалу, противомыслящим сему тоже патриарх найдётся — вот вам патриарх булатный. Кортик сей видите? Без дела он в руке моей не останется.
— Как прикажешь, великий государь.
— Так-то оно лучше, патриарший местоблюститель. И ещё одно запомните накрепко. Чтобы всем попам в своих приходах накрепко смотреть — о сборищах подозрительных, словах для власти поносных, измене всякой и всяческой немедля сообщать полиции. Да, да, не ослышались, святые отцы, — не своим властям, а гражданским. Тем, кому порядок положено в державе нашей блюсти.
— А ежели на исповеди, великий государь? По чину нашему не положено священнослужителю никому...
— Да вы что? Не положено! Положено то, что державе и государю в помощь и на пользу. Что же это выходит, ограбил человек, скажем, казну или кого там ещё, убил, а вы в тайне то держать станете. Такому не бывать. Нужда будет — сам к Духовному регламенту статьи нужные прибавлю. Время придёт, всё как есть исправим. А сейчас ступайте.
— Благослови тебя, Господь, государь. Да пребудет с тобой милость Господня ныне, присно и во веки веков.
— Вот и хорошо. А по делам всем теперь к митрополиту Рязанскому обращайтесь. Ко мне дорогу забудьте. Порядок во всём должен быть. А уж Стефан Яворский, коли нужда, дело мне представит.
— Со всеми вроде разобрались делами патриаршьими.
— Нет, великий государь, ничего ты не приказал в отношении хора. Распускать его, когда и с какими наградами. Может, кого из певчих захочешь в свой хор взять. Голоса-то отменные.
— Распускать, говоришь?
— А что же ещё. Коли кого из членов фамилии царской Господь к себе призовёт, певчих всегда распускать положено.
— Так то теремных, а этих. Нет, погоди, сколько их?
— Как положено, две станицы. На правом клиросе пятеро, да на левом столько же. Это певчих дьяков. Да подьяков шесть станиц: две станицы больших, две меньших да ещё две новоприбылых. Сам знаешь, всюду они пели при службах патриаршьих, кроме Успенского собора. Там обходились местными священниками и дьяконами. Ещё на всех службах торжественных, при твоём, государь, дворе да при твоих столах. Твои-то, царские, понаряднее, патриаршьи попроще. Стихари-то у них на разные случаи разные — белые, серебряные, золотые, чёрные, а на каждый день — ряса дьяконская суконная.
— Вот их всех к нашим царским и причислить.
— Куда их столько, великий государь? Это же за сотню набежит. Всех пои, корми, одевай.
— Не разоримся.
— Помилуй, государь, а с жильём как? Ведь они что ни певчий, то свой двор. Вон, было время, перед самым твоим рождением, патриарх Иоаким для них землю в Китай-городе у князя Голицына купил. Мало показалось, при государыне царевне Софье Алексеевне ещё соседнюю огородную землю Троицкого монастыря прирезал.
— Выходит, есть у них дворы?
— Есть-то есть.
— Так и оставим.
— А кормовые, государь? Тут тебе и рожь, тут тебе и овёс. Одежонка всякая, что для постели надобно.
— Раз надобно, значит, надобно. Забыл, по сколько лет неокладные певчие в хору трудятся — ждут, когда место кормовое освободится. Стараются, изо всех сил стараются.
— Да разве ты, великий государь, своими, царскими недоволен? Голоса-то у них бесперечь лучше.
— Голоса лучше, потому что каждому из патриаршьего хора лестно в царский попасть: что воли, что окладу больше. А вот распевов стольких мои не знают, а на них вся служба церковная православная держится. Ведь владыка за то, что распевы наидревнейшие усвоили, их отличал. Беречь их надо.
— Твоя воля, государь. Одевать-то их как будем?
— А вот одевать теперь по-мирскому.
— Да они, государь, с непривычки и шагу ступить не сумеют, не то что в покоях твоих показаться.
— К хорошему быстро привыкнут, не бойсь. Что им справить надо?
— Ну, как положено. Во первых статьях штаны красные суконные.
— Отлично. И кафтан красный. Кафтан верхний суконный, подкармазиновый, на белке с шестью серебряными пуговицами. Да ещё другой — суконный аглицкий, на зайце.
— Шапки какие?
— Шапка из сукна с бобровой опушкой. Рукавицы тоже с песцом.
— И говоришь, не привыкнут? А там, глядишь, и вовсе в немецкое платье оденем. За голоса никогда стыдно не было, за одёжку тоже больше стыдиться не будем. Соберёшь их всех завтра в патриарший храм на спевку. Сам с ними концерт проходить стану. Люблю.
Часть II «КАТЕРИНА-САМА-ТРЕТЬЯ»
Корнелиус де Брюин,
царевна Наталья Алексеевна
После возвращения моего, после
девятнадцатилетнего странствия, в моё
отечество, мною овладело желание увидеть
чужие страны, народы и нравы в такой
степени, что я решился немедленно же
исполнить данное мною обещание читателю
в предисловии к первому путешествию,
совершить новое путешествие через Московию
в Индию и Персию. ...Главная же цель моя
была осмотреть уцелевшие древности,
подвергнуть их обыску и сообщить о них свои
замечания, с тем вместе обращать также
внимание на одежду, нравы, богослужение,
политику, управление, образ жизни...
Корнелиус де Брюин. 1700.И всё-таки он и сам не слишком понимал, как оказался в Московии. Та странная встреча в Лондоне, в мастерской его друга, модного портретиста Георга Кнеллера[10]. Мужчина в простой одежде, который на холсте приобретал латы, рыцарское вооружение, все знаки королевской власти.
Натурщик? Но Кнеллер относился к нему с полным подобострастием, как и все спутники непонятного незнакомца. Русский десятник Пётр Михайлов! О нём уже ходили легенды: русский царь, инкогнито работавший простым плотником на корабельных верфях, в то время как его посольство, соответственно дипломатическому протоколу, наносило визиты и принимало визиты, ездило на роскошнейших лошадях и в самых дорогих каретах.
Десятник обратил на него внимание после слов Кнеллера. Ещё бы! Прославленный путешественник. Автор вышедшей в Дельфте книги с описаниями и изображениями. Ни одним изданием современники так не зачитывались, ни об одном столько не толковали. Малая Азия, Египет, острова Греческого архипелага, и это после успешных занятий у модного венецианского живописца Карло Лотти.
Восемь лет в Венеции рядом с таким мастером позволили открыть собственную мастерскую, приобрести собственных заказчиков и толпы поклонниц. Остроумный рассказчик, любезный кавалер — и прозвище «Прекрасный Адонис». Очередь заказчиков и заказчиц на портреты его кисти не знала конца.
Десятник меньше всего был похож на выходца из далёкой и, как многие говорили, полудикой страны. Он свободно говорил по-голландски, всем интересовался, но и только. Прямого приглашения известному путешественнику посетить Московию не последовало. Это позже Кнеллер передал, что русский царь был бы рад видеть «Прекрасного Адониса» в своих владениях. Когда сам в них вернётся. И когда сложатся для того благоприятные обстоятельства.
Совместить путешествие в давно привлекавшую его Персию и острова Индийского океана с проездом через Московию — эта мысль приходит спустя два года. Совершенно неожиданно. И также стремительно де Брюин оказывается на палубе отплывающего в Московию торгового корабля. Без официального приглашения и обычного для русской страны запроса. «Прекрасный Адонис» всегда верил в свою звезду.
Первое впечатление — множество судов на рейде города Архангельска. Одиннадцать голландских, восемь английских и два гамбургских. 3 сентября 1701 года. В огромном каменном гостином дворе — «Палате» хранятся и продаются товары — и иностранных и русских купцов. Множество иностранцев, в том числе успевших обзавестись собственными домами. Архангельск растянут по берегу реки на три-четыре часа ходьбы. Все дома построены из дерева и обшиты изнутри тонкими красивыми дощечками. В каждой комнате своя печь, которая топится снаружи. И повсюду лавки и магазины, переполненные товарами.
Никто не препятствует гостю сразу же выехать в Москву, но ему кажется невозможным так быстро покинуть эти северные края. Ему понадобится четыре месяца, чтобы разобраться в покрое одежды местных жителей, конструкции детских люлек, оленьих упряжек, впервые увиденных де Брюином лыж, которые он опишет как обтянутые кожей широкие деревянные коньки. А ещё беседы с шаманами, купцами, знающими север вплоть до юкагиров и чукчей. Наконец, надо подготовиться и самому к далёкому путешествию. Это лошадей можно брать на перегонах, сани же должны быть собственными — в виде ящика, набитого соломой, прикрытого меховыми полостями, в которых путешественнику приходится лежать, отбивая себе бока на лихих ухабах, а потом отпариваясь в бане.
В Европе говорили о неприязненности ортодоксальных священников к представителям любой другой веры. Но в Холмогорах местный архиепископ Афанасий устраивает в честь «Прекрасного Адониса» пышнейший приём. Он разбирается в искусствах, любит их и готов позировать приезжему художнику. Только ли это! Архиепископ рассказывает, что у Де Брюина есть настоящая соперница по мастерству — старая царевна Татьяна[11] и, по местному обычаю, он добавляет имя её отца — покойного русского государя, Михайловна. Царевна всю жизнь занимается живописью, пишет портреты, и никто в царской семье или в церкви ей в этом не препятствует.
С ней можно увидеться? Архиепископ смеётся: почему же нет. Царевна сама непременно заинтересуется гостем. Ему лишь надо вовремя ввернуть похвалы её талантам. Царевна это любит, и тогда «Прекрасному Адонису» откроется дорога и в царские терема.
А библиотека архиепископа! Старинные рукописные и новейшего издания европейские книги, особенно о путешествиях, нравах и обычаях народов. И разговор с высоким князем православной церкви отличается непринуждённостью и живостью: Афанасию знаком голландский язык — а как же иначе бок о бок с Архангельским портом! — и он свободно изъясняется по-латыни. Этому учат в московских школах.
На пиру в архиепископском доме можно позавидовать редкому выбору вин и — певчих. Какие голоса и в каких сложнейших песнопениях сопровождают стол! Правда, только мужские — от малолеток до убелённых сединами артистов.
Афанасий не хочет отпускать гостя и под конец спрашивает, что произвело на него наибольшее впечатление. Де Брюин не колеблется: торговля домами. Оказывается, в России их строят разборными, в таком виде продают, а потом за несколько дней полностью собирают на новом месте.
«Относительно зданий ничто не показалось мне так удивительным, как постройка домов, которые продаются на торгу совершенно готовые, так же как покои и отдельные комнаты. Дома эти строятся из брёвен или из древесных стволов, сложенных и сплочённых вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время».
В русских деревянных домах теплее в любые морозы, а о прочности — архиепископ смеётся, — вспомните, кремль в Архангельске сложен из брёвен и превосходно защищает город.
Чудо! Он повторит это слово множество раз: настоящее чудо — во всём, с чем приходится сталкиваться. Чего стоит одна каменная и деревянная Вологда с собором, построенным одним из итальянских мастеров, сооружавших соборы в московском Кремле.
Де Брюин ещё не увидел по-настоящему Московии, но уверен: Вологда — её жемчужина. И останавливается он в доме у одного из многочисленных обосновавшихся здесь голландских купцов. Родные обычаи, родные порядки и даже одежды, против которых не возражает никто из местных. А какими взглядами дарят «Прекрасного Адониса» красавицы-незнакомки на улицах. С ними невозможно познакомиться, но зато легко наглядеться вдоволь.
Путешественнику рассказывают, рассказывают, рассказывают. Без переводчика: всегда находится под рукой человек, которому знаком один из доступных художнику языков. И ещё — сплошной ряд возов по всей дороге на Москву. Днём и ночью. С хлебом. Прежде всего с хлебом. Им есть чем торговать и есть чем угощать гостей.
А потом ещё красавец Ярославль. Неописуема живописная Сергиева деревня — художника поправляют: посад — у знаменитого на всю Московию монастыря, где монахи становятся воинами и сражаются лучше всяких солдат. Всего дорога из Архангельска в Москву занимает полмесяца. «Если бы я захотел придумать себе самое фантастическое путешествие с приключениями, то не мог бы сделать этого лучше». Сразу по наступлении нового 1702 года «Прекрасный Адонис» въезжает в Москву.
Никакие восточные сказки не сравнятся с яркостью, пестротой и многообразием московской жизни.
Кажется, москвичи не уходят со своих улиц — так много на них дел, забав и приключений. Обряды, связанные с празднеством Крещения Господня, — московские совершенно неповторимы, и Де Брюин смешивается с толпой, чтобы всё как есть рассмотреть.
«В столичном городе Москве, на реке Яузе, подле самой стены Кремля, во льду была сделана четырёхугольная прорубь, каждая сторона которой была в 13 футов, а всего, следовательно, в окружности прорубь эта имела 52 фута. Прорубь эта по окраинам своим обведена чрезвычайно красивой деревянной постройкой, имевшей в каждом углу такую же колонну, которую поддерживал род карниза, над которым были видны четыре филёнки, расписанные дугами... Самую красивую часть этой постройки, на востоке реки, составляло изображение Крещения...»
Спустя ещё несколько дней по приезде «Прекрасного Адониса» приходит известие о победе русских войск над шведским генералом Шлиппенбахом. Это повод для очередного праздника, но уже совсем особого — представления из живописи и иллюминации. Путешественник видел достаточно всякого рода праздников, но здесь иное: наглядный урок и пояснение зрителям, что если пока ещё не всё благополучно складывается в войне со шведами, победят всё же русская правда и русское оружие.
«...Около шести часов вечера зажгли потешные огни, продолжавшиеся до 9 часов. Изображение поставлено было на трёх огромных деревянных станках, весьма высоких, и на них установлено множество фигур, прибитых гвоздями и расписанных тёмною краскою. Рисунок этого потешного огненного увеселения был вновь изобретённый, совсем непохожий на все те, которые я до сих пор видел.
Посередине, с правой стороны, изображено было Время, вдвое более натурального роста человека; в правой руке оно держало песочные часы, а в левой пальмовую ветвь, которую также держала и Фортуна, изображённая с другой стороны, с следующею надписью на русском языке: «Напред поблагодарим Бог!»
На левой стороне, к ложе его величества, представлено было изображение бобра, грызущего древесный пень, с надписью: «Грызя постоянно, искоренит пень!»
На третьем станке, опять с другой стороны, представлен ещё древесный ствол, из которого выходит молодая ветвь, а подле этого изображения совершенно спокойное море и над ним полусолнце, которое, будучи освещено, казалось красноватым и было со следующей надписью: «Надежда возрождается»...
Кроме того, посреди этой площади представлен был огромный Нептун, сидящий на дельфине, и около него множество разных родов потешных огней на земле, окружённых колышками с ракетами, которые производили прекрасное зрелище, частью рассыпаясь золотым дождём, частью взлетая вверх яркими искрами».
А музыка! Бог мой, какая в Москве музыка! Как требовательны к ней москвичи и какие совершенные музыканты услаждают их слух даже на уличных празднествах! Гобоисты, валторнисты, литаврщики — их можно видеть и в военном строю, и во время торжественных шествий. Целые оркестры из самых разнообразных духовых инструментов вплоть до органов выстраиваются у триумфальных ворот, на улицах. Но без них не обходится и ни один праздник в домах. Удивительно только, что москвичи явно равнодушны к струнным. Здесь одинаковая редкость скрипотчики и мандолинисты.
Жильё — но ему могли бы позавидовать самые богатые и титулованные лица в Европе. Первый домохозяин художника — прижившийся в Москве голландский купец, и это ему приходится накрывать столы на триста человек гостей. И он не исключение. Московские застолья непременно объединяют по несколько сотен человек. Понятно, что при таком размахе приходится держать целые толпы челяди, еле справляющейся с кухней и приведением в порядок покоев.
Де Брюин мечтает быть представленным «десятнику Михайлову», и это оказывается совсем простым. Через какой-нибудь день художник встречает царя у очередного голландского купца. Пётр не признается в той давней, лондонской, встрече, Де Брюин не осмеливается о ней напомнить. Но никаких протокольных условностей царь не признает. Разговор начинается самый живой, и Пётр, именно сам Пётр, служит переводчиком с голландского языка, который не представляет для него никаких трудностей. На первых порах это расспросы о Египте, Каире, разливах Нила, разнице между портами Александрия и Александретта: Пётр и его окружение достаточно сильны в географии. Им достаточно знакома и история.
В дверях комнаты показывается высокая статная женщина. Царь обращается к ней, также по-голландски: «Сестра, разреши тебе представить художника Де Брюина — он будет нашим гостем. И надеюсь, ты найдёшь для него хотя немного свободного времени...»
Величавая красавица с широко обнажёнными белоснежными плечами поворачивается к гостю: «Если вы нуждаетесь в моей опеке...»
— Я не смею надеяться на такое счастье.
Длинное с тонкими чертами лицо. Свободный разлёт бровей. Шапка рассыпающихся по плечам пышных кудрей. Парик? Смелый взгляд умных глаз с оттенком восхищения...
— Почему же. Мы всегда рады гостям.
Протянутая для поцелуя рука подтверждает благожелательность слов. Художник опускается на колено. На длинных пальцах ни золота, ни камней. Может быть, он чуть горячее касается губами руки, выдающей возраст принцессы: Наталье около тридцати. Художники не ошибаются.
— И вы посетите меня в моём Воробьёвом дворце. Завтра же. С утра.
Потом «Прекрасный Адонис» начнёт расспрашивать своих новых московских знакомых. Она замужем? Конечно, нет. Часто бывает при дворе? Почти каждый день, но много принимает и сама. Чем принцесса занимается? Что будоражит её любопытство? Театр и только театр.
— Бог мой, она участвует в любительских постановках? Это невероятно! После всех рассказов о Московии!
— Нет. Она — нет. Этим занимались дочери покойного государя, её сводные сёстры, в прошлом.
— Почему в прошлом?
— Они почти все заточены в монастыри. Ничего не поделаешь, борьба за власть. Без жертв она не обходилась никогда. Царевна Наталья держит актёров и сама сочиняет драматические произведения.
— Она писательница?!
— И считается, с немалыми способностями. Её пьесы пользуются немалым успехом. Она же сама их и ставит.
— И государь не возражает?
— Принцесса Наталья его любимая и единственная единоутробная сестра.
Из Лефортовой слободы на Воробьёвы горы — возница только головой покачал: вёрст пятнадцать набежит. От мороза марево над городом. Поседело всё — что ограды, деревья, что люди. Солнца не видать. Лошади белым кружевом закучерявились. В возке под медвежьей полостью и то до костей пробирает.
— Не рано ли едем к принцессе?
— Так приглашала же с утра. Сама время назначила.
— Утро и позже может быть.
— В Москве не может — позже день начинается. К полудню, почитай, половина его кончается.
— Не обеспокоить бы.
— Так царевна уж обедни, поди, отстояла — что раннюю, что позднюю.
— Принцесса так богомольна?
— Порядок, господин, соблюдать надо. Уж на что государь наш Всепьянейший да Всешутейший собор разводит, а что ни день и на службе Божьей бывает, и по вечерам с певчими концерты поёт. Духовные.
— Вы сказали, Всешутейший и Всепьянейший собор?
— А, выходит, ещё о нашем диве московском не слыхали. Коли с государем подружитесь, своими глазами увидите — дал бы вам лишь Господь целым и здоровым оттуда уйти. Не всем удаётся.
— Не понимаю. Это развлечение такое?
— Может, и развлечение, да кому как оборачивается. Дело тут такое шутейное. Вроде бы все церковные чины есть — разные бояре их изображают. Обряды тоже вроде как церковные — и снова шутейные.
— Смеяться над церковью? Вы ничего не путаете?
— Трудно тут объяснить. Оно и церковь и не церковь. Похоже и не похоже — всё на шутовство да пьянство поворачивает.
— С шутами? Шутам такое позволено?
— Какими шутами! Там главный-то Князь-Кесарь, как его государь называет, сам боярин князь Фёдор Юрьевич Ромодановский. Он и в походах военных себя выказал, и когда государь с Великим посольством по европам ездил, на государстве за него оставался. Все дела вершил. Государь к нему завсегда с самым что ни на есть великим почтением. Иначе как стоя и говорить не говорит. А князь Фёдор Юрьевич перед ним как царь настоящий сидит да ещё и выговаривает. Государь, сказывали, и письмо ему писывает словно царскому величеству, а подпись ставит иностранную — одним именем: мол, Питер, и ничего больше.
— Но должна же быть тому какая-то причина?
— Откуда нам-то про ту причину знать. Захотел государь, и всё тут. Кто бы это спорить с царём стал на Руси-то!
— А Всепьянейший, как вы сказали, собор?
— А что собор? Объявляет Князь-Кесарь когда ему быть, все съезжаются в Преображенское, и пошла потеха. Господи прости! Уж таково-то наши бояре чудят, что и на поди.
— И кто же эти господа? Я ещё не знаю, но надеюсь узнать.
— Узнаете, беспременно узнаете. Скажем, первым патриархом собора-то шутейного был двоюродный дед самого государя Матвей Филимонович Нарышкин. Что росту, что силушки был богатырской — помер в одночасье, царство ему небесное. Бородища лопатой. Волосы седые до плеч. Глаза что у ястреба. Глянет, так страх и пробирает. Патриархом Милакой его на соборе-то звали. А ещё один — архиепископ Прешпурский. Всея Яузы и всея Кокуя патриарх так это первый учитель, что государя в младенчестве грамоте учил — Никита Зотов. Этот и веком помоложе и подобрее. А кличут его — «святейший и всешутейший Аникита». Очень государь ему доверяет, всю канцелярию свою передал. Сказывают, выдумщик, каких сроду никто не видывал. Что почуднее в соборе-то случается — всё он присоветовал. У государя тоже свой чин имеется, только самый махонький: протодьякон Питирим. Вот как у нас. Гляди-ка, сударь, за разговором не заметили, как приехали.
— Вот эта улица?
— Какая ж тут улица, сударь! Это дворец Воробьевский так протянулся — конца не видать, а уж в тумане и вовсе. Очень его государыня царевна любит. Пожалуй, больше всех остальных на Москве, что ей предоставил братец.
— Ваше высочество, я не мог не воспользоваться вашим милостивым разрешением вновь оказаться перед вами и выразить своё величайшее уважение и восхищение...
— Уважение — понятно, а восхищение, милостивый кавалер, чем же?
— Ваше высочество, я в затруднении ответить в двух словах. Простите мою невоспитанность человека, не знакомого с московскими обычаями, но я никогда представить себе не мог, чтобы московские женщины были так прекрасны. Но и среди такого цветника вы, ваше высочество, не знаете соперниц.
— Вы решили говорить мне комплимент, Де Брюин?
— Это не комплимент, ваше высочество. Это, если позволите, заключение художника, написавшего на своём веку многие десятки портретов. Многие коронованные особы дарили меня своей благосклонностью, заказывая свои портреты. Я имел возможность присмотреться к их внешности, но уверяю вас, ваше высочество, ни у кого я не видел такой царственной осанки и...
— Короче говоря, вы хотите, чтобы я заказала вам свой портрет. Я была бы не прочь, но мне нужно сначала узнать планы моего царственного брата. В конце концов, мой портрет — это всего лишь каприз, а у государя есть какие-то государственные планы, связанные с вашим мастерством и вашей славой.
— О, нет, ваше высочество, я меньше всего думал о заказе и никогда не унизился бы до того, чтобы выпрашивать его у царственной особы таким образом. Нет, нет, принцесса, всё, что я говорил, я говорил от сердца.
— Не вижу ничего обидного для художника в получении заказа. Это же ваша профессия, Де Брюин.
— Вы правы, принцесса. Но я уже давно освободился от необходимости заказов. Моё небольшое состояние позволяет мне удовлетворять свои прихоти в отношении странствий по разным землям.
— Я обидела вас, Де Брюин? Я этого, поверьте, никак не хотела.
— Я слишком преклоняюсь перед вами, принцесса, чтобы воспринять любое высказанное вами слово за обиду.
— И всё равно я предпочитаю повторить, что не хотела обидеть вас. А ваше восхищение...
— Оно вызвано ещё и беседой с вами, ваше высочество.
— Мой Бог, чем же?
— Вас одинаково интересуют история, география. Вы много читали.
— Это такая редкость?
— Даже среди европейских принцесс. Кажется в порядке вещей, когда прекрасные царственные особы больше внимание уделяют туалетам, причёскам, особенностям поведения женщин в других странах.
— Почему же, я тоже интересуюсь туалетами и трачу время на причёску, особенно для ассамблей.
— О, это видно по безукоризненному вкусу ваших платьев, ваше высочество. Я снова позволяю себе дерзость судить как художник.
— Дерзость? Я вам её разрешаю.
— Но занимаясь необходимым туалетом, вы думаете совсем о другом. Или я не прав, принцесса? Я узнал, что вы увлекаетесь театром и сами пишете пьесы.
— Оказывается, наш двор — это двор сплетен.
— Приятных сплетен, ваше высочество. Если бы мне посчастливилось увидеть хоть один спектакль вашего театра!
— Вы серьёзно этого хотите? Хотя это естественное любопытство путешественника. Вам это понадобится, чтобы потом описывать свои впечатления, не правда ли?
— И да, и нет, ваше высочество. Описание, книги — всё это дело достаточно далёкого будущего. Я думаю сейчас не о них — только о том чуде, которое открывается моим глазам.
— О, Де Брюин, давайте продолжим московское чудо и всё-таки пройдёмся по моему дворцу, который я обещала вам показать. Надеюсь, он тоже вас не разочарует.
— Но этому дворцу нет конца!
— Зависит от того, что считать концом, Де Брюин. В нём по 120 комнат на каждом этаже.
— И целых три этажа!
— Нет, нет, всего два на каменном, как у нас говорят, подклете, или основании. То, что вы называете третьим этажом, имеет совершенно особое назначение — любоваться Москвой. Оденьте же шубу, и мы выйдем на открытое гульбище. Кроме него, здесь только маленькие помещеньица — чердаки и переходы — сени.
— Боже, но так наверняка чувствуют себя птицы, взмывая над землёй. Это восхитительное, ни с чем не сравнимое ощущение. И вот там вдали с этими золотыми главками...
— Москва, де Брюин. Там Москва. Но ветер может нас снести отсюда. Давайте спрячемся в сенях.
— О, позвольте, ваше высочество, мне ещё немного задержаться. Я должен сохранить в памяти это впечатление. А вон там внизу, за рекой, эти бескрайние поля.
— Они не бескрайние и они относятся к увеселительной усадьбе фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Если бы вы знали, как они хороши весной и летом.
— Это нетрудно себе представить.
— Пойдёмте, пойдёмте, Де Брюин. Вы непривычны к нашим морозам и ветрам. Я не хочу стать причиной вашего нездоровья.
— Ваше высочество, я подчиняюсь вашему приказу. Но, ваше высочество, я хочу молить вас об одной величайшей милости. Мне бы так хотелось нарисовать общий вид Москвы. Без него все мои словесные рассказы не будут иметь смысла. И здесь, я убеждён, лучшее место для художника.
— Так в чём же дело? Я буду только рада, если вы станете сюда приезжать — при мне или без меня. Я отдам приказ прислуге в любое время пускать вас и выполнять каждое ваше желание.
— И, может быть, я получу тем самым возможность видеть вас, ваше высочество.
— Может быть.
* * *
А. Д. Меншиков, Де Брюин,
вдовая царица Прасковья Фёдоровна
Дорога и впрямь недалёкая. Оглянуться не успели — уже в ворота каменные возок въезжает. Измайлово... Перед ними то ли речка, то ли ров крепостной. Собор огромный. Пятиглавый. Другие церкви поменьше. Кругом лес стеной. Заснеженный. Сине-белый. Господи, неужели олени? Олени и есть. На опушке остановились. Воздух ноздрями тянут.
— Чему удивились, господин художник? Тут в лесу зверья всякого полно. От деда-прадеда государева ведётся: зверинец.
— Для охоты царской?
— Зачем? Можно и для охоты. Только государям московским надобно, чтобы побольше разного зверья да птицы в московских угодьях развелось. Откуда только послы иноземные их сюда не привозили. Даже из тёплых земель. Ничего, приживаются. Вот мы и на месте. Сейчас слуги всю вашу кладь в покои заберут.
Покои низенькие. Тёмные. На полу красное сукно. Пороги высокие. Без привычки как есть зацепишься. От печей жаром пышет. Кафельки все голландские. Весёлые.
Вошла в комнату женщина. Немолодая. Высокая. Полная. Глаза тёмные. В причёске жемчуга крупные заделаны. На плечах накидка соболевал. Слов не надо, царственная особа.
Меншиков до полу поклонился. Быстро-быстро говорить стал. Государя поминать. Женщина согласно кивнула. Руку протягивает — для поцелуя.
— Рада знакомству, господин Де Брюин. От государя много о тебе добрых слов слышала. Гостем будешь.
— Бесконечно признателен за благожелательный приём...
Меншиков с голландского на русский быстро-быстро переводит. Наверно, что-то и от себя говорит. Царица Прасковья улыбнулась:
— Без фриштыка тебя Меншиков к нам привёз. Не годится так, сударь.
— О, еда это после работы.
— Нет уж, голубчик, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Девица вошла. Поднос в руках. На подносе чарка водки, оковалок буженины, огурчики солёные.
— Закуси, голубчик. Хозяйке всегда радость, когда гость до конца всё ест, на затравку не оставляет.
Меншиков согласно кивает: надо есть. И при царице. Еле с собой справился, да ещё стоя. Девица так и застыла с подносом. Всё съел — в пояс поклонилась, вышла.
— Вот теперь не грех тебе, господин живописец, и за работу приняться. Пойдём-ка в другую палату. Там моих дочек и увидишь.
Вошли — на лавках три красавицы. Не стесняются. Глаз не опускают. На поклон улыбнулись. Ручки для поцелуя протянули. Таких писать — одна радость. Спросили, как Москва — по душе ли пришлась. Морозы не докучают ли. Маленькие, а этикет знают. И красота у них разная. Старшая и младшая смуглянки, средняя — белокурая с васильковыми глазами, кожа белая-белая, глаз не оторвёшь.
Меншиков подсказывает: принцесса Анна Иоанновна. Дольше всех молчала, а потом возьми да по-немецки и заговори. Шутит, а глаза суровые. Может, грустные. Царица ни разу с ней и словом не перекинулась. Сразу видно, старшую — Екатерину отличает. Та и впрямь шутница, хохотушка.
— О, принцесса, вы с сёстрами составляете целый цветник.
— А цветник мог быть и ещё больше. У нашей матушки все дочки родились. Было пятеро, а теперь только трое осталось.
Принцесса Анна присмотрелась:
— Вы нас очень красивыми представьте, господин художник. От вас зависит, чтобы мы замуж вышли за прекрасных и богатых принцев.
— Вы будете скучать по своей прекрасной Московии, принцесса.
Губы сжала. Волчонком смотрит:
— Не буду. Ни за что не буду. Уехать бы скорее.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, Де Брюин
На этот раз царевна Наталья Алексеевна приказала — быть художнику в Преображенском дворце. Согласилась на свой портрет — государь Пётр Алексеевич захотел его иметь. Может, сам его величество захочет поглядеть на работу.
— Я видел государя в русской одежде, ваше высочество. Какое это удивительное зрелище. Величественное и...
— Вы подбираете слова?
— Да, ваше высочество, не знаю, как сказать точнее. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, царь на коне, тем более таком огромном и вороном, должен вызывать у простолюдинов страх.
— Что же вас в этом смущает, Де Брюин. Не знаю, как в других государствах, но в Московии это обязательно. Мне думается, то же впечатление царский выезд произвёл и на посла французского короля. Кстати, вы были во Франции, Де Брюин?
— Нет, ваше высочество, и, к великому сожалению, не видел раньше короля-солнце, как зовут французы Людовика XIV.
— Почему раньше?
— Потому что ни одна страна не сравнится с великолепием Московии. Мне не удастся ощутить свежести впечатления.
— Жаль, вы не сможете мне описать Франции.
— Эта страна особенно вас интересует, принцесса?
— У государя в отношении неё есть свои планы. Скорее всего один из портретов моих племянниц, написанный вами, поедет в Париж.
— Я так понимаю, в матримониальных целях.
— В целях сватовства.
— Но Франция так далеко от Московии.
— Тем не менее у неё могут быть общие с нашими интересы. Шведы, с одной стороны, и турки — с другой, также, мне кажется, далеки от Франции, не правда ли?
— Я стараюсь держаться вдалеке от политических интриг, принцесса. Участие в них далеко не всегда выходит на пользу простому человеку. У меня есть моя профессия и моё дело.
— Наверно, вы правы. И всё же мне чуть-чуть досадно, что предполагаемое сватовство коснётся только моих племянниц, тем более они ещё так молоды и имеют перед собой целую жизнь.
— Я понимаю, ваше высочество, государь слишком привязан к вашему высочеству, чтобы согласиться расстаться с вами.
— В царских семьях об этом не думают. Расчёт, простой расчёт — вот что главное. А я в этот расчёт входить уже не могу.
— Вы не хотите покидать Московии, ваше высочество?
— Не притворяйтесь же, Де Брюин, чтобы сделать мне приятное. Я не собираюсь скрывать: мне много лет, и любой монарх предпочтёт юную супругу.
— О, как вы неправы, ваше высочество! Годы не отложили на вас никакого отпечатка, поверьте художнику, постоянно пишущему портреты. А кроме того, у монархов, насколько мне довелось их видеть и даже общаться с ними, возраст вообще не принимается в расчёт. Во Франции есть такая весёлая песенка, если её можно назвать весёлой, что королям доступно всё, кроме женитьбы по выбору сердца. Они всегда приносят себя в жертву обстоятельствам и государству.
— Поэтому мой брат представляет исключение. Вы уже наверняка слышали: женатый по воле нашей матушки, он расстался со своей супругой, которая теперь коротает свою жизнь в монастыре.
— У них не было потомства?
— У них двенадцатилетний сын, и вы не могли его не видеть в моём дворце. Брат доверил мне наблюдение за его воспитанием. Но сын не удержал моего брата.
— Но, простите меня, ваше высочество, за бесцеремонность, я видел редкую красавицу, по слухам, пользующуюся симпатиями его величества. У монарха не может быть безвыходного положения, и двор — не монастырь.
— Ах, вы об Анне Монс. И вы находите, что она так хороша?
— В меру своего происхождения, ваше высочество.
— Да, она дочь виноторговца, но больше десяти лет не теряет расположения брата.
— У меня на родине говорят: любовь не выбирает.
— Так говорят?
— И ещё: любовь всегда права. Её бесполезно оспаривать.
— В народных поговорках есть много мудрости.
— Опыта поколений, ваше высочество.
— Я рада, что вы об этом сказали. Любовь не выбирает — это почти девиз нашей семьи и во многих поколениях.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, Де Брюин
Апрель выдался на редкость тёплым. Всегда этот месяц уносит остатки зимы, а тут и вовсе: талые воды хлынули на слободы московские — чистый потоп. В Лефортовой слободе, как ни чистили улицы, а всё вода поднялась лошадям по брюхо. В возки захлёстывает. Норовит на полу остаться.
Деревья будто в сказке зеленью опушаться стали. Птицы запели. Благовест церковный громче стал, звончее — так и несётся над городом. Люди улыбаются. Никуда не спешат.
— И всё-таки этот день настал: вы уезжаете, Де Брюин.
— Если бы вы знали, ваше величество, с каким тяжёлым сердцем.
— Вы даже ошиблись в моём титуле. Я готова поверить, что рассеянность ваша порождена вашей растерянностью. После такой покойной жизни снова все неудобства дальней дороги.
— Я привык к ним, принцесса, и если бы меня что и могло смутить, то только холод. А он, слава Богу, выпустил меня из своих цепких объятий.
— Вы так и не привыкли к нему, Де Брюин?
— Откуда бы, ваше высочество. В моей родной Голландии, тем более в Италии, морозы в диковинку, а путешествовал я только по тёплым краям.
— Куда спешите и теперь. Никакие соблазны не могут вас удержать.
— У меня есть цель. И обязанности перед моими читателями.
— Если бы я могла вам предложить место придворного живописца...
— О, я благодарю вас за такую великую честь, ваше высочество!
— Я сказала, если бы, Де Брюин. Но у меня по-настоящему нет своего двора, и я не могу распоряжаться своим штатом.
— Я не понимаю вас, ваше высочество.
— Всё, что существует в царском доме, принадлежит моему брату. Только он выделяет деньги на содержание двора каждого из членов царской семьи, а нас очень много, поверьте мне.
— Но вы, ваше высочество, вы единственная, и его величество относится к вам с величайшим почтением.
— Да, единственная родная сестра. Это и много и немного. Всё зависит от того, насколько точно я буду угадывать и выполнять желания его величества. А так... Вообразите себе, у его величества есть шесть тёток по отцу, и ни одна не пожелала променять теремную жизнь на монастырскую. Вы познакомились с вдовой брата государя?
— И очарован обходительностью и простотой обращения царицы Прасковьи, как и красотой её юных дочерей.
— Вы умеете быть любезным, Де Брюин.
— Это моя обязанность, и притом непременная, ваше высочество.
— Не думаю, чтобы царица Прасковья понравилась вам своим обращением, и вряд ли вам пришлась по вкусу простота нравов её двора. Они заставляют вспомнить о недавнем прошлом Московии, закрытой для моды и порядков Европы. Но Бог с ней. Насколько я знаю, после окончания портретов вы ни разу не посетили Измайлово.
— Вы правы, ваше высочество, но не почему-нибудь...
— Оно показалось вам бедным и непохожим на жилище государей, не правда ли? Между тем вы, вероятно, заметили, рядом со старым дворцом брат строит для невестки новый. Это будут брусчатые хоромы, которые государь решил покрасить под кирпич. На самом деле государь очень благоволит к невестке.
— Но мне и старые хоромы показались очень представительными.
— Вы очень любезны, Де Брюин, но вы уезжаете, и это главное.
— Со стеснённым сердцем, ваше высочество.
— Вы повторяетесь.
— И буду повторяться, пока вновь не окажусь в вашей столице, ваше высочество.
— Вы рассчитываете снова оказаться у нас?
— Я говорил вам, ваше высочество, мой обратный путь я вижу только через Москву.
— Когда же это случится?
— Года через полтора-два.
— Боже, как долго.
— Но ведь и путь мой далёк и нелёгок, принцесса.
— Могу себе представить.
— Я хочу взять на себя смелость обеспокоить вас просьбой, принцесса. Если она обременительна, ради Бога, так и скажите. Я сумею понять.
— О чём вы, Де Брюин?
— На обратном пути я хотел бы задержаться в Москве. Хотя бы ненадолго. Но государь не выразил никакого желания меня вновь здесь видеть. Я в растерянности.
— Государь мог быть занят иными мыслями. Я, это я вас приглашаю задержаться в Москве. Вы будете моим гостем.
— О, ваше высочество, я так тронут!
— Для этого есть полное основание: вам надо ещё поправить ваш вид Москвы из Воробьевского дворца, не правда ли?
* * *
Пётр I, Ф. Ю. Ромодановский, барон Гюйсен
— Вот оно как с иноземцами-то, государь, получается. Ты к ним всей душой, а они к тебе всей спиной.
— Что это на тебя нашло, Князь-Кесарь?
— На меня, говоришь, государь, нашло. А может, на кого другого, кто тебе Мартина Нейгебауэра воспитателем царевича сосватал?
— Так ведь нет уже Мартина. Выжили его Вяземские да Нарышкины. Кто только вокруг Алёшки не старался немцу досадить да помешать. А жаль. Мог бы полезным царевичу быть.
— Да ты что, государь, новостей последних не знаешь?
— Новостей крутом предостаточно, Нейгебауэр-то здесь к чему?
— Так вот, ваше величество, в Берлине книжечка такая вышла. Без автора. Только написать её никто, кроме Мартина, не сумел бы. Всё подлец расписал — и какое жестокое у нас обращение с иноземцами, и как не умеют в России офицеров, принятых на службу, уважать, какие насмешки да издевательства над ними чинят. А главное — чтобы никто ни под каким видом не давал себя сманить на российскую службу.
— Ты что, Фёдор Юрьевич, всерьёз?
— Ещё как всерьёз. Перевели мне, как книжечка называется. Сейчас цидульку найду. Вот — «Записки принятого на службу немецкого офицера к высокопоставленной особе о том, каким избиениям и унижениям иностранные офицеры подвергаются на службе у московитов».
— Значит, так оно и было на самом деле. А ещё жалобам Мартина значения не придавал. Думал, много о себе возомнил, капризничать стал.
— Государь, сам посуди, так оно было или не так, только книжечку эту уже несколько раз печатать принимались — спрос на неё велик больно. А теперь делать-то уж и нечего.
— Во первых статьях компанию вокруг царевича разогнать. А с сочинением-то этим... Фридриху королю и королю саксонскому отписать придётся, чтобы в своих землях язву эту пресекли. И объяснить посланникам нашим: дело, мол, деликатное, но неотложное. Иначе, мол, досада будет государю Петру, и коли дружить с ним хотят, сами бы средства для пресечения изыскали. И барона Гюйсена ко мне немедля пригласить. Видел я его недавно, поди, ещё уехать не успел. С ним посоветоваться надобно.
— Барон Гюйсен, ваше величество.
— Видишь, барон, сам не знал, что так скоро мне запонадобишься.
— Я весь к вашим услугам, государь.
— Книжечку Нейгебауэра видал?
— К величайшему моему сожалению, ваше величество.
— Сожалеть уже нечего. Обезвредить мне её по возможности надо. Люди учёные, офицеры, солдаты опытные державе нужны, а кто после такого пасквиля сюда поедет. Охотников не найдётся.
— Не так всё плохо обстоит, ваше величество. Европа полна подобных взаимных пасквилей...
— Значит, и средства какие против них есть?
— Есть, конечно, ваше величество. Едва ли не лучшее — издать опровержение на положения господина Нейгебауэра. Обвинить его во лжи и клевете. Раскрыть неприглядные стороны его собственной жизни в России. Это может быть пьянство, распутная жизнь, воровство, в конце концов. О, не смотрите на меня так, государь, всякое действие рождает противодействие. Такова жизнь, нравится нам это или нет.
— А где же охотника книжку такую сочинить найти?
— Его не надо искать, ваше величество, он перед вами.
— Возьмёшься, барон?
— Почему же нет? Я состою на службе у вас, государь. Но если хотите большого успеха в нашем предприятии, следует выпустить ещё одно сочинение — в поддержку.
— Кого же возьмёшь себе в поддержку?
— Опять-таки самого себя, ваше величество. Одно сочинение может выйти под моим собственным именем, второе — под вымышленным. Это может быть даже вполне реальный человек, которому придётся заплатить за его имя. Как принято во всех цивилизованных странах.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, В. М. Арсеньева
— Никак новости у тебя какие, Варварушка. Раскраснелась вся, сама не своя.
— Да уж не знаю, как и сказать, государыня-царевна. Девки-сороки на хвосте принесли. То ли верить, то ли нет.
— И где ж эти сороки побывать успели?
— Да всего-то, государыня царевна, до Лефортовой слободы съездили — сама ж велела аграманту на шубейку достать, а у нас весь вышел.
— Насчёт аграманту верно, а ещё что.
— Мимо дому Анны Ивановны проходили. Веришь, государыня, таково-то им любопытно показалося: опять у крыльца карета посланникова стоит — ровно привязал её там кто на веки вечные.
— Час-то который был?
— С утра пораньше, государыня, когда добрые люди ещё кофий пьют аль и вовсе в постели нежутся. И кучера, государыня, нету. Видно, в доме давно. Лошадей попонами прикрыл и, поди, чаи гоняет.
— Попонами, говоришь?
— То-то и оно, государыня царевна. И лошади вроде как дремлют, а торбы у них привязаны.
— Ишь ты, прокурат какой, этот граф прусской. То ли чего через Анну Ивановну добиться собирается...
— То ли, государыня царевна, от самой Анны Ивановны чего уже добился.
— А что в прошлый-то раз было?
— Это недели три назад-то? Семён из слободы на ночь глядя ворочался. Позднёхонько. Уж во всех домах свет погасили. А во дворе Анны Ивановны карета посланникова. И тоже без лакеев, без кучера. И в окнах свет.
— Может, гости припозднились.
— Гости, государыня царевна! Когда свет-то не во всех окнах, а в двух только на втором этаже. Семён даже лошадей придержал — присмотреться, в каком бы это покое.
— Сестре-то Дарье говорила?
— А как же, государыня царевна! Любопытно ведь.
— И сегодня тоже?
— Сегодня не успела ещё.
— И не говори. Ни словечка никому не говори, Варварушка. Добра из этого для тебя же первой нипочём не будет. Мне скажешь, пусть промеж нас всё и остаётся.
— Поняла, государыня царевна. Только вот государь...
— Со стороны, хочешь сказать, узнает. Тем хуже для того, кто каким словом подозрительным об Анне Ивановне обмолвится.
— А может, государыня царевна, поразведать побольше? На всякий-то случай. Всякие ведь разговоры ходят, не мне вам пересказывать. Чуть что не царицей иные иноземцы Анну Ивановну видят.
— Да ты что, Варварушка, несёшь без колёс. Как только подумать такое могла!
— Не я подумала — людишки болтают. Слободские. Им на каждый день оно виднее.
— Им виднее, а нам, слава тебе Господи, не видно. Забыла пословицу: от дурной птицы дурные вести. Государь сам разберётся.
— А если поздно будет? А если прознает Пётр Алексеевич, что сведомы мы были разговоров-то слободских, тогда, государыня царевна, как быть? Страшен государь наш во гневе, ой, страшен!
— Пугать-то ты меня не пугай. А дознаться до правды, может, и не мешало бы.
— Ведь нужды нет, государыня царевна, самой-то братца огорчать. Другим ненароком подсказать можно. И государю стыда не будет, и птица дурная в ваш дворец не залетит.
— Что ж, Варвара, дознавайся. Не хочу, чтобы братцу позор от немки проклятой был.
— О чём и речь, государыня царевна. Да вы себя не тревожьте. Время не торопит. Мы потихоньку, полегоньку всё и разведаем. Может, и впрямь видимость одна. Всяко бывает.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна,
сёстры Арсеньевы, А. Д. Меншиков
Господи, так сердце порой и сжимается, на сестёр Арсеньевых глядючи. Только, кажется, своим Данилычем и живут, только о нём и толкуют. Слова насмешливого сказать не позволят — все писем ждут, все подарки готовят.
Какие такие у сирот деньги — во всём ужиматься надобно. Так нет, что ни есть, всё на Данилыча тратят. То о штанах толк идёт. Мерку припасли, лишь бы портной потрафил. Мастерская царицына палата им плоха. Кого-то в слободе сыскали. К себе зазывают, кажется, каждую пуговку обсуждают.
Другие бы сказали, непристойно девицам. А им нужды нет. Ни на кого не смотрят. Никаких сплетен не слушают.
Отписал им Данилыч, что потрафили со штанами, за камзол схватилися. Дарьюшка ещё жмётся, а Варвара бойкая: и совету попросит, и мелочи всякие дорогие возьмёт, коли разрешишь.
Сказала ей, лучше бы одеваться надобно. Горбунья горбуньей, а в новомодном платье всё лучше на небогу смотреть. Отмахнулась. Не женихов, государыня царевна, искать. Коли какой охотник на приданое моё сыщется, всё равно возьмёт, разбираться не станет.
Посмеялась: а где приданое-то? Строго так поглядела: Александр Данилович, как разживётся, своей милостью, поди, не оставит. Этот голодранец-то. Откуда заявился, какого роду-племени, и не спрашивай. Государю всё равно, а уж сестре государевой и вовсе ни к чему разговоры такие разводить.
Одно доподлинно известно, родители меншиковские в подмосковном селе Семёновском век свой окончили. У церкви приходской там погребены. И сестра Катерина тоже.
У девиц Арсеньевых спросила — руками замахали. Наветы всё, государыня царевна! Происхождения Александр Данилович самого что ни на есть дворянского, только захудал род его. Будет у Александра Даниловича время, во всём сам доподлинно разберётся.
Чисто околдовал государев любимчик девок. Писать письма не горазд. С грамотой едва справляется. А подарков не жалеет. Каких никаких, а за каждым разом привозит. Девки потом хвастаются, наглядеться на обновки не могут. Дешёвенькие. Зато твердят: не дорог подарок — дорога память.
Позавчера от государя братца письмо пришло. Мол, приедет Александра Меншиков, да не один. С гостьей. И ту бы гостью принять и при дворе царевнином приютить — не обижал бы её никто.
Кто б это был? Лучше кругом не спрашивать. Сплётки пойдут, братец разгневается. Одно братец помянул: пленная это. Веры не нашей. И языка нашего толком не знает, хоть худо-бедно изъясниться может. То ли вдова по солдате, то ли мужняя жена. Выходит, происхождения самого простого.
Шум во дворе. Девицы со всех ног бегут:
— Государыня царевна, Александр Данилович приехал. До вашей милости, видно.
— Пусть зайдёт.
— Да не один он, государыня. — Варварушка всё доглядела. Может, вызнать успела: — В возке с Александром Даниловичем особа женского полу. Высокая. Статная. Мороз морозом, а грудь не запахнула. И руки в рукава прятать не стала. Будто холода не чует.
— Молода ли?
— Да в молодых летах, только в каких, не разглядишь. Ой, Александра Данилович, наконец-то!
— Ваше высочество, государыня царевна, приношу свои поклоны и наинижайшее верноподданническое усердие. Простить прошу, что в виде дорожном, неподобающем осмеливаюсь явиться перед вами. Только строжайший приказ вашего братца, а нашего великого государя заставил меня преступить правила приличия.
— Вон какой ты у нас иноземец, Меншиков. Не узнать! Разве что галстух — Дарья да Варвара Михайловны его выбирали.
— Премного вашим фрейлинам, ваше высочество, благодарен за знаки дружества и расположения.
— Вот им самим об этом и скажешь. А теперь о государевом деле.
— Его царское величество велел доставить к вам на двор пленную.
— Кто такая?
— Катерина Трубачёва.
— Выходит, русская, по фамилии судя.
— Прозвище это, государыня царевна, только и всего. А история её простая. Литвинка она. Из литовских крестьян. Родилась в Лифляндии.
— Лет-то ей сколько?
— Говорит, двадцать только-только исполнилось.
— Ну, и откуда взялась?
— Государь просил, чтобы ваша милость попридержали её. До поры что сам в Москву вернётся.
— Я с тобой в загадки, Александр Данилыч, играть не буду.
— Да загадок особых нет, государыня царевна. Сирота она. Как отца потеряли, мать девчонку в услужение отдала пастору одному. От пастора Катерина к суперинтенданту перешла. У того дочери были, так она много от них переняла. Грамоте научилась, рукодельничать, хозяйство вести.
— Да это мне зачем? Не о служанке говорим.
— Простите, государыня, заболтался.
— Так что — у суперинтенданта её и взяли в плен?
— Ни Боже мой! Суперинтендант из Лифляндии в Ливонию переехал, там и жених ей сыскался — шведский драгун. Обвенчались они, а на следующий день после свадьбы драгуна в полк забрали. Катерине опять пришлось в услужение идти, благо пастор нашёлся.
— Больно подробно жизнь ты её знаешь, Александр Данилович.
— Да разговорчива Катерина больно. Не хочешь знать, так узнаешь.
— С кем разговорчива? С тобой, что ли?
— И со мной, государыня царевна.
— Как это и с тобой?
— Тут так оно вышло, государыня царевна. Катерину в плен взяли. От пастора, а фельдмаршал Борис Петрович Шереметев её в услужение к себе взял. Справная. Добрая. Весёлая.
— А ты?
— А я у фельдмаршала Катерину занял.
— Глаз положил, значит.
— Без женской руки, государыня царевна, в походной жизни никак нельзя.
— А что девицы мои Арсеньевы к тебе рвутся, этого мало?
— Гостьям дорогим за доброе внимание и радение завсегда благодарность и признательность. Так они как приехали, так и уедут. Походное житьё не для них.
— Им о Катерине расскажешь ли?
— Как можно, государыня царевна! Я о государевых делах ни с кем толка не веду.
— Вот оно что. Значит, Катерина...
— Государю последнее время услужала. Очень его величество доволен был. Потому и просил вас, государыня царевна, её, покуда суд да дело, приютить.
— Что ж, зови свою пленную, а сам к девицам своим поспешай. А то, не дай Господь, ревновать начнут, одна Дарьюшка нас в слезах утопит. Ступай с Богом.
Покои девиц от царевниных всего-то два шага. Только в переход вышел — Варвара из темноты, словно дожидалась.
— Александр Данилович!
— Варвара Михайловна, разговор у меня к тебе.
— Знаю, потому и решила встретить. О бабе, что привёз.
— О ней. От государя.
— Поняла.
— Вы уж пообходительней с ней. Катерина покладистая, ссор не ищет. Сама своего места ещё не знает. А государю нужна.
— Взамест Монсихи? Так с досады долго ли заниматься ею станет. С Монсихой, гляди, без малого десять лет — не шутки.
— О том и речь. Чтоб ему с Катериной, лучше показалося. Она ловкая. Может, и придёт конец Анне Ивановне.
— Пора бы. А то...
— Ох, Варвара Михайловна, дурных мыслей и в голове не держи, не то что вслух не говори. Сам слышал, государь ей говорил: «В нашу столицу вскоре поедем. Тебе по душе придётся. Всё на голландский лад сделаем».
— Плохо. Ещё хуже, всем места под дворцы отводит, а о Монсихе ни полслова. Что хошь, то и думай. Может, жребий ей высокий уготован. Ведь государь наш...
— Может, и во дворце её приютить, хочешь сказать. Да нет, Варвара Михайловна, на мой разум обратного пути уже не будет. Обидела Монсиха государя, так обидела. Поспешила, ничего не скажешь — предусмотрительная.
— Думаешь, не на шутку государь разгневался?
— А чтоб на шутку не сошло, о Катерине позаботиться надо. Очень государю в злую минуту по сердцу пришлась. Только бы Дарья Михайловна чего не подумала...
— О тебе-то, Александр Данилович? Не подумает. Сама всё объясню. А теперь уж к нам милости просим, гость дорогой. Сколько дожидались! Глазыньки все проглядели.
* * *
Пётр I, А. Д. Меншиков,
царевна Наталья Алексеевна
— И это правда? Это правда, Алексашка? Ты жизни, подлец, не обрадуешься, если соврал? Лучше сразу признавайся: по злобе да по расчёту на Анну Ивановну наклепал. Изобью до полусмерти, но не убью. А так пощады не жди! Говори, соврал?
— Никак нет, государь. Правда, чистейшая правда. Можете на месте убить, измордовать, как вашей душеньке угодно, только правда останется правдой.
— Какая правда? Всё говори. Всё — до мельчайших подробностей. Откуда вызнал? Откуда, собачья твоя душа? Анна Ивановна в сговоре с прусским посланником! Это придумать такое надо! Чем докажешь, чем?
— Чем доказывать! Да вся Лефортова слобода о том только и толкует. У любой бабы спросите, человека дворового. Который месяц карета посланникова с утра до ночи, а может, и с ночи до утра, во дворе Анны Ивановны простаивает.
— Не кроется человек со своими визитами, только и всего.
— А чего ему крыться, когда господа о свадьбе сговариваются. Кайзерлинг уже и среди других посланников хвастался: будет Анна Ивановна его супругой. Так-то, государь!
— Он говорит, не она.
— А вот её-то вы напрямую и спросите, да не по простоте душевной, а с подходцем. Мол, всё и так от Кайзерлинга знаете. Что-то она тогда запоёт.
— А если отречётся?
— А вы ей про карету, про свет, что только в её опочивальне во всей слободе одно всю ночь светится, когда карета посланникова во дворе ночует. Людей-то кругом пруд пруди: обо всём расскажут, всё до мелочи донесут.
— Чего же раньше молчал, пёс смердящий?
— Обмануться боялся, напраслины не взвести да вас, Пётр Алексеевич, зазря не растревожить. Считайте, государь, труса Алексашка праздновал. С кем не бывает.
— А царевна Наталья Алексеевна знает?
— Наверняка не скажу, а сдаётся, знает. Очень она к Катерине благоволит.
— Хватит о Катерине! Иди сестру сюда пригласи. Быстро! Никаких слуг — сам слетай. Мигом!
Поверить? Чует сердце, придётся поверить. Придётся! Не посмел бы Алексашка врать. Значит, весь двор знает. Все знают. И Наталья...
— Ты, сестра? Пошёл вон, Алексашка, слышь, и под дверями не стой — насмерть зашибу.
— Братец...
— Значит, правда. Значит, знала и молчала. И ты туда же!
— Государь братец, не верила. Поверить не могла. Столько лет в ладу да миру.
— Кто донёс? Кто?
— Что тебе, государь братец, от имён? Верные люди. Сто раз всё проверить заставила — ошибиться хотела...
— Значит, правда. И давно это?
— Что давно-то?
— Продала меня Анна Ивановна? Замену мне подобрала?
— Кто ж об этом скажет, Петруша, если сама не признается. Мало ли что люди болтают.
— Ты-то, Наталья, ты как считаешь?
— Что я! Дворовые сороки, поди, года полтора как про посланника начали стрекотать. То первым приедет, последним уйдёт — люди примечают. То на подарки не скупится — один другого богаче.
— Подарки?! Она у него подарки?
— Ты-то не больно щедр, государь братец, а любой бабе подарок в радость. Посланник и бриллиантов не жалел, и с золотишком не жался.
— И она брала? При всех?
— Чего же не брать, когда то на рождение, то на праздник какой, то на именины. Случай всегда найдётся, была бы рука широкой.
— Ещё что?
— В церковь в его карете стала ездить. Там и сидели вместе.
— Господи! И никто словом не обмолвился?
— Государь, кто бы решился? А я своими глазами ничего не видела. Знаю, как матушку родительницу нашу обносили. Разве нет?
— А она-то, она что говорила? Ведь толковали же твои сороки.
— Толковали. Будто измены твоей бояться стала — что у тебя баб там в армии-то много завелось.
— И всегда много было.
— И что, коли тебе надоест, на бобах оставаться придётся. Пока молода, надобно и о своей судьбе подумать, а посланник прусский — кто бы в слободе не знал, — света Божьего за ней давно не видит. Так уж лучше на тот случай, коли отставка ей выйдет, сразу под венец пойти.
— Всё рассчитала! Всё как есть рассчитала, дура немецкая! А ведь я жениться на ней, сестра, хотел. Думал в новую столицу с новой царицей перееду. Думал...
* * *
Пётр I, А. И. Монс
До знакомого дома верхом домчался. Поводья кинул, прислужника дожидаться не стал. Двери ногой распахнул. В прихожей никого — будто вымерли. Испугались? Шорох за спиной. Обернулся — она. Нарядная. Как на ассамблею вырядилась. Куафюра уложена. Декольт самый что ни на есть глубокий.
— Либлинг! Наконец-то. Я уж думала, не дождусь.
— Чего не дождёшься, Анна Ивановна?
На шею кинулась — так и повисла. Дышит горячо. Смеётся.
— Чего? Будто не знаешь, либлинг!
— А кого ждала?
— Кого же мне ждать? Что с тобой, либлинг? Ты нездоров?
— Со мной что? А с тобой что, Анна Ивановна? Ты лучше о себе расскажи, госпожа Кейзерлинг недошлая. Всё выкладывай, слышь, всё как есть. И без того всё знаю.
— А раз знаешь, зачем мне рассказывать?
— Ах ты вот как? Смелости какой набралась, подлая! Всё выкладывай, что с господином Кайзерлингом задумала! Как смела!
— Я не вижу за собой никакой вины. Господин прусский посланник Кайзерлинг давно вошёл в число моих адорантов, и вы это отлично знали, ваше величество. И пользовались этим. Разве не так?
— Я что, сватал тебя за него, что ли?
— Не сватали, но сами хотели, чтобы я ему куры строила.
— Греха в том великого нет. Раз сам тебе сказал.
— И я так считаю, государь.
— А вот ночи у тебя коротать!
— Кто рассказал вам такую сплетню, государь? Не иначе девицы Арсеньевы. Горбунья тут всё время крутилась: то туда, то обратно проедет. Из возка выглядывает — того гляди вывалиться может.
— Она ли, кто другой — разница какая. Было или не было?
— Что было, государь? Что визиты господина Кайзерлинга затягивались? Но я никогда не ложилась спать с курами. Пусть это делают амантки господина Меншикова. Тем более что их две на него одного — каково ему, бедняжке.
— Алексашку брось. Что с Кайзерлингом? Будешь отвечать или нет?
— Я и так отвечаю, ваше величество. Наши отношения никогда не переходили дозволенных границ. Но вы завели себе амантку и изволили привезти её в Москву. Но и этого вам показалось мало. Вы устроили её в доме вашей сестры, её высочества Натальи Алексеевны.
— В доме Натальи?
— Не делайте вида, ваше величество, что этого не знаете. Господин Меншиков открыто провёз эту женщину через всю Москву и поручил заботам царевны Натальи. Он сказал, что эта женщина дорога вам и все должны о ней заботиться. Он что-нибудь перепутал?
— Не в этом дело. Я пользовался услугами этой женщины, но мне рекомендовал её Меншиков.
— Бог мой! Какое мне дело до этих подробностей. Я ничего не хочу о них знать.
— И ты не написала мне? Ничем не поинтересовалась? Неужели ты думаешь, что кроме тебя...
— Не продолжайте! Да, вы знали других женщин, но вы не привозили их в Москву и не селили во дворце.
— Я ничего не поручал Меншикову.
— Очень может быть. Вы всегда его хвалили за то, что он умеет читать ваши мысли. Разве не так?
— Я не поручал ему устраивать Катерину.
— Ах, Катерину! Между тем её имя Марта.
— Успела узнать!
— Почему же нет? Она не скрывает своего имени и с соотечественниками достаточно откровенно говорит о своих бедах. Прислуга должна это делать, чтобы оправдаться в глазах своих будущих нанимателей. Муж на одну ночь — драгун, а потом... Впрочем, эту литанию имён, через чьи руки она прошла, вы должны, ваше величество, знать куда лучше меня.
— Это не имеет отношения к Кайзерлингу.
— Имеет, и самое большое. Вся свита царевны Натальи говорит о вашей привязанности к этой женщине.
— Да уж, они, видно, постарались.
— Для этого и не нужно было никаких стараний. Я готова была забыть об этой женщине, если бы вы мне писали, если бы вы, как обычно, сразу по приезде приехали ко мне. Но ничего этого не случилось.
— Это моё дело. Когда ты начала торг с посланником?
— Торг с посланником? Вы несправедливы, ваше величество. Я просто сказала господину Кайзерлингу, что, возможно, отвечу на его чувство, если... если увижу, что лишилась своего места в вашем сердце.
— Вот так вот? Если уйду с этой государевой службы, перейду на другую? Только-то и всего?
— Да, господин Кайзерлинг с радостью согласился ждать решения моей судьбы. У него не было никаких претензий.
— Ещё бы! У него претензии, коли соглашается на такое дело!
— Я ничего не держала в тайне. Я посоветовалась с родителями и сестрой, представила им своё положение, если вы обратите внимание на другую избранницу, и они признали мою правоту.
— Да сердце-то у тебя было иль нет?
— Сердце? Я столько лет ждала вас. Я была настолько наивна, что думала, всё дело в вашей супруге. Но от супруги вы избавились, а моё положение осталось тем же. Вы делали всяческие намёки о перемене моей судьбы, и снова вы ничего не сделали. Я не стала богатой, не получила ни поместий, ни титула. У меня по-прежнему нет официального положения при вашем дворе. Кто я, вы не хотите ответить на этот вопрос? Не можете? Тогда в чём вы меня упрекаете? Какую вину на мне видите? Я была вам верна столько лет. Чем же вы отплатили мне за мою верность?
— Значит, в цене не столковались.
— И конец наших отношений — каким он станет? Вы не можете меня отправить в монастырь, как вашу супругу. Я даже не ваша подданная. Господин Кайзерлинг мне объяснил, что я совершенно свободна и вольна делать, что мне заблагорассудится. Я предпочла брак сомнительному положению и я...
— А вот и ничего ты не можешь. Много тебе посланник разъяснил! Больше ты его не увидишь. Никогда! Будешь сидеть в доме, со двора ни ногой!
— Вы не можете меня арестовать!
— Могу и арестую! В кирху тоже больше ходить не будешь. Чтобы все окна в доме были завешены. Гостей не принимать. Родне отказать.
— Вы сошли с ума, государь!
— Может быть, но государь здесь один я!
* * *
Де Брюин, А. Д. Меншиков
Его величество государь Московский быстр на решения, скор на ногу. Александр Меншиков ему под стать. Примчался к купцу Ван Балену, на хозяина и внимания не обратил. Шуба нараспашку. Голова без шапки. Снег с ботфортов и то отряхивать не стал.
— Где Де Брюин?
— Ещё не выходил из своего покоя. Завтракать не изволил.
— Звать! Звать немедля!
— Вы ко мне, ваше превосходительство?
— К вам, господин художник. Собирайтесь! Едем к царице Прасковье Фёдоровне в Измайлово.
Краски, кисти, всё, что для работы требуется, с собой берите.
— Для какой работы, ваше сиятельство, чтобы мне не ошибиться с выбором материалов?
— Портреты маленькие требуются трёх принцесс.
— Вы хотите, чтобы я сегодня начал первый из них?
— Как начал? Государь хочет, чтобы все три были за день готовы. Времени у нас нет, надо послу передать, который в Вену едет. Не ждать же ему, покуда вы соберётесь.
— Но, ваше сиятельство, я не говорю о самой работе — краска должна просохнуть, а это потребует нескольких недель.
— Вы шутите, господин художник! Не нам, и не вам нарушать государеву волю. И не будем тратить времени на пустые препирательства. Лошади у крыльца — едем.
* * *
Царевна Софья, настоятельница Новодевичьего монастыря,
отец Вонифатий, послушница Анфиса, отец Никита Никитин, врач
Над Новодевичьим монастырём облака кипят. Тёмные. Словно изморозью опушённые. Июль в разгаре. Ночи светлые. Душистые. Небо высокое. Лёгкое. Заря с зарей уж не сходятся, а всё равно во втором часу ночи день занимается. А тут облака...
Мать-привратница загляделась. Не захочешь, крестным знамением себя осенишь: к чему бы? От келейки царевниной послушница бежит. Запыхалась вся. К покоям матери-настоятельницы свернула. В дверь застучала. Дробь по всей округе отозвалась.
Не иначе случилось что. Опять стучит. Видно, заспали в покоях.
— К матери-настоятельнице мне скореича... к матери-настоятельнице.
— Переполоху не устраивай. Входи, входи, Анфиса. Что у тебя?
— О, Господи, царевна посхимленья требует.
— Сколькот раз говорено: нету царевны. Никакой царевны в обители нашей нету! Сестра Сусанна, так и говори. Захворала, что ли?
— Нет, матушка, не то. Задыхаться стала. Вся пятнами багровыми пошла. Воздух ртом хватает. Так и сказала: конец мне приходит. Схиму, мол, мне! Сей час схиму!
— Схиму, говоришь? О Господи, нет того чтобы во сне помереть, шуму не устраивать. Куда теперь посылать за разрешением? Кто знает, можно ли посхимить сестру, али государь прогневается, не приведи, не дай, господи!
— Матушка-настоятельница, да. вот и отец Вонифатий спешит.
— Откуда узнал, отче?
— Черничка прибегла. Как же духовнику-то при таком деле не быть.
— Как думаешь, можно ли посхимленье разрешить?
— Ой, матушка, не моего ума дело. Тут повыше меня сан да ум надобны. А я — что я...
— К князю боярину Фёдору Юрьевичу бы спослать.
— Да что ты, матушка, не поспеть, нипочём не поспеть. Плоха царевна-то, совсем плоха.
— Тогда хоть к Савве Освящённому, к отцу Никите Никитину — ему государь доверил за сестрой Сусанной приглядывать. Каждый, поди, день наведывается.
— К Савве Освящённому — это можно. Если конюха какого верхом отправить. Быстро обернуться должен.
— Эй, кто там! Конюха ко мне, какой под руку подвернётся. И коня ему седлать.
— А сама, матушка-настоятельница, в келейку-то царевнину не пойдёшь ли?
— Пусть отец Вонифатий идёт. А коли час ещё есть, лучше отец Никита, а то ведь всё равно ни одному слову не поверит. Всех переспрашивать станет.
— Твоя правда, матушка, обожду я лучше. Не лекарь, чай. А в грехах царевниных лучше и слушателем не быть. Господь с ней.
— Анфиса-то куда делась?
— Никак обратно в келейку побежала. Там никого при царевне не осталося. Без призору оставлять тоже негоже. Господь силён, а сатана умён. За всё ответ держать придётся. А сестре-вратарнице велеть ворота немедля на запор закрыть. Никого не впускать, не выпускать. До царского приказу.
— Ты уж, матушка-настоятельница, прости, только и в Преображенское спосылать человека надобно. Может, и с провожатым. Ночным временем оно вернее.
— Спасибо тебе, отец Вонифатий, а то совсем растерялася. А ну как тревога ложная, тогда как ответ держать будем?
— Господь такого не допустит. Пора, пора сестре Сусанне государя от такой тяготы ослобонить. Своё пожила. Кутерьмы вон какой наделала. Без малого пятьдесят годков землю грешную топтала, исход один остался. Такого конца никто не минует.
Знойко в келейке. Куда как знойко. Окошки не открыть. Двери железные, тяжёлые, ровно в погребе. С воли войдёшь, плесенью охватывает. Обстановки никакой. В первом покое — лавка для послушницы. За ним, в царевнином, — другая лавка. Вроде бы пошире. С накатничком. Подушка пропотевшая вся.
Была зелёная — почернела. Кресло резное. Зелёного бархата, до белизны истёртого. Налоец для книг. Вон их сколько на столе — горкой лежат. В поставце деревянном — тарель, кружка, ложка с вилкой. Деревянные. У вилки зубец обломался, как зуб гнилой торчит. Сундучок под ковром.
Мечется царевна. Мечется. Не то что жаром — судорогой пробирает. Знает, не поможет никто. Ждут все. Ждут её конца. Вон и сейчас воды бы хоть подать. Некому.
Петли железные завизжали. Никак келейница воротилася. Одна. По шагам слышно — одна. Кувшином железным загремела. Наконец-то!
— Государыня царевна, потерпи маленько. Потерпи. Время-то ночное. Глухое. Пока людей с постели подымут.
— Священника мне... Схиму...
— Сказала. Матери-настоятельнице всё сказала. Гонцов она во все концы разослала. Теперь уж скоро.
— Гонцов... зачем...
— Поди, велено ей так. Откуда мне знать. Отец Вонифатий пришёл. С матерью-настоятельницей толкуют.
— Схиму мне...
— Ой ты, Господи! Я-то, матушка, что поделать могу. Я стараюся...
— И сестёр... Марфу... Марфу позвать...
— Матушка царевна, какая ж тут Марфа Алексеевна. В обители она, сама знаешь. Оттуда, поди, неделя пути будет. Да и государь...
— Если заслабну, пока придут, скажи — Софьей пусть нарекут...» Софьей, слышишь... На гробнице напишут: София Алексеевна... Никакая не Сусанна... слышишь... Бог наградит...
— Да вот и они никак идут. Из покоев матушки-настоятельницы выходят. Отец Никита. Архиерей какой-то. Незнакомый. Дьякон наш соборный. Господи, да это никак дохтур. Может, оклемаешься ещё, государыня царевна. Плохо тебе тут, ой, как плохо, а всё едино жизнь — другой не будет.
— Не надо... другой... Анфисушка...
— Здесь, здесь я, царевна-матушка. Сделать чего надобно?
— В подголовнике... вынь... деньги там... осталися... себе рубль возьми... серебром... Рубль...
— Да что ты, матушка-царевна!
— Скорее... не успеешь… остальные князю... Василию Васильевичу... Голицыну... На похороны мои сёстры приедут... Царевне Марье... передай... скажи... скорее...
— Всё, всё исполню, царевна-матушка.
— На кресте поклянись... князю... Василию... в ссылку...
Келейница еле успела к стенке прижаться — дверь настежь. Отец Никита Никитин — глаза тёмные, шустрые. Всё оглядел:
— Поди прочь, сестра. Из келейки-то прочь выйди.
Выскочила. А сама под окошком замерла. Голоса еле слышны, а всё разобрать можно. Дохтур заговорил:
— Не жилица, нет.
— Надежды не оставляете, господин дохтур?
— Никакой, господа. Разрешите откланяться.
Царевна пить никак просит. Не загремел кувшин — не дали. Слова какие-то богослужебные заговорили. Подпевают. Ладаном потянуло. Как им про Софью-то сказать? А надобно. Обещалась ведь. Дверь приоткрыла — сердце в пятки ушло, а они уже с посхимленьем поздравляют — мать Софию. Слава тебе, Господи, хоть тут над царевной сжалился. Что это? Никак отходную читать стали, новопреставленной рабы твоея Софии...
А дни-то, дни какие стоят. Покойница как Андрея-наливу любила. Озими в наливе. Овёс до половины дорос. Греча на всходе... Всё в поле хотела. В Александрову слободу доехать. С сестрицами на последах повидаться...
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, врач Амос Карлович
— Родила, что ли, Амос Карлович?
— Благополучно разрешилась от бремени ваша служанка, ваше высочество. При складе её организма так и должно было быть.
— Не служанка она, Амос Карлович. Какая там служанка. Потому и беспокоюся, чтобы государю братцу доложить.
— Понимаю, ваше высочество. Но вот обрадовать не смогу.
— Как так? Кого родила-то Марта? Девочку, что ли?
— Нет, ваше высочество. Младенец был мужеского полу.
— Был? Как это был?
— Он родился очень слабым, ваше высочество. Так что госпожа Арсеньева распорядилась тот же час послать за священником для обряда крещения. Простые люди верят, что иногда обряд этот возвращает к жизни. Хотя, мне думается, что суеверие это...
— Не интересуют меня суеверия твои. Крестили, говоришь. В какую веру? Имя какое нарекли?
— В православную, ваше высочество. И нарекли именем Петра.
— Петра... Сколько прожил Пётр-то?
— Всего несколько часов. Я неотлучно при нём находился. Госпожа Арсеньева сказала, что такова ваша воля.
— Всё правда. А ко мне сама не собралася.
— Госпожа Арсеньева занята при родильнице. Та очень плачет.
— Ну, это ещё неизвестно, плакать или радоваться ей надо.
— Это её первенец, ваше высочество. Женщины очень сильно переживают именно первенцев. Потом для многих роды входят в привычку. Конечно, каждый младенец матери дорог, но самый первый!
— Значит, скончался Пётр Петрович. А Марта, говоришь, в порядке?
— Роженица больше всего убивалась, сможет ли она ещё иметь деток.
— Вот уж и впрямь в её-то положении причина убиваться. Однако пойду навещу её. А что ты ответил ей, Амос Карлович, на вопрос её? Будет ещё рожать, нет ли?
— На всё воля Божья, но с точки зрения медицины — почему бы и нет. Она здоровая, крепкая, телосложения мускулистого. Ей родить — не такой уж большой труд. Если понадобится.
— Понадобится ли, не понадобится, не знаю. Опять-таки слова ваши государю Петру Алексеевичу передать должна. А ну полюбопытствует.
— О, вы вполне можете, ваше высочество, успокоить государя. Но я обязан вам передать, ваше высочество, ещё одну странность. Роженица, оплакивая младенца, сказала, что надо было ей принять ортодоксальную веру, тогда её сын остался бы жив.
— Домысел больной!
— Она несколько раз возвращалась к этой мысли. И мы говорили с ней по-немецки, так что я не смог спутать смысл сказанного. Мне было странно и, не скрою, не совсем приятно слышать эти неразумные слова — ведь мы принадлежим с роженицей к одной конфессии, и даже сам государь говорил, более разумной и взвешенной, чем позиция ортодоксальной церкви. Я даже попенял ей, но роженица не обратила никакого внимания на мои доводы.
— У неё свои доводы, Аммос Карлович. И планы тоже. Но сказать и об этом я государю непременно скажу. Я и не думала, что они так серьёзны. К тому же Марта так некрасива, не правда ли?
— О, я не знаток по части того, что называют женской красотой. И не думал с кем бы то ни было роженицу сравнивать.
— Да чего ж её сравнивать — жизнь сравнит. Мне, Амос Карлович, бывшая царица Евдокия Фёдоровна вспомнилась. Разве не красавица была даже по вашим понятии лекарским?
— И не только лекарским. Знаю, русские считают таких красавицами.
— Русские! Высокая. Стройная. Подбористая. Лоб высокий. Брови соболиные вразлёт. Глаза ясные, большие. Улыбаться смолоду любила. Да ведь вы же, Амос Карлович, царевича Алексея Петровича принимали, разве нет? И крестничка моего царевича Александра Петровича — Господь ему всего-то полвеку отпустил. И царевича Павла Петровича, что при родах скончался.
— Но ведь Евдокия Фёдоровна была царицей...
— Вы правы, а сходить к роженице всё равно надо.
* * *
Пётр I, Ф. Ю. Ромодановский
Бушует в Москве лето. Зною настоящего ещё не видали. К августу ближе о себе знать даст. А теплынь редкостная. Ровная. Изо дня в день парится земля. От зелени дух идёт — голова кружится. Под вечер цветами так и обдаёт. Сады не сады, а в каждом дворе на грядках снопы целые. Яркие. В пчелином жужжании. Не успеют на солнце обсохнуть — снова дождичком крупным, тёплым взбрызнет. Благодать...
На дворе Князь-Кесаря Фёдора Юрьевича снова высокий гость. Раз за разом государя хозяин принимает. Радуется. А тут вроде насупился, в глаза не глядит. Государь сразу приметил:
— Погоди, погоди, давай-ка на вольном воздухе останемся. Пусть твои слуги здесь нам угощение спроворят.
— Как велишь, великий государь.
— Никак смурной ты, Фёдор Юрьевич. Один ко мне вышел. Супруги не зовёшь.
— Велишь, позову.
— Я велю! А ты-то что? Что тебе, князь-кесарь, не показалося? Или опять толковать примешься, мол, не твоё дело, не тебе государевы дела обсуждать?
— Как с языка у меня снял, государь. Так и скажу.
— Ан нет, не получится. Не получится, князь-кесарь. Хоть далеко протодиакону Питириму до сана твоего высокого, а иной раз может и он от тебя ответа потребовать. Говори, о чём мысли твои? Не о Марте ли моей? Так нет больше Марты — есть Катерина Алексеевна. Чего ж тебе ещё?
— Правды хочешь, государь? Что ж, будет тебе и правда. Крестилась ли пленная прачка в нашу веру, в своей люторской ли осталась — разницы для меня никакой. Да и для других тоже. А вот то, кого ты, государь, крёстными родителями ей выбрал, тут уж...
— Погоди, погоди, а ты знаешь, что Катерина Алексеевна только-только сына мне родила? Петра Петровича?
— Прости на смелом слове, Пётр Алексеевич, да мало ли у тебя таких-то сынков по всему белому свету посеяно? Не счесть? Бык до бойни бык, мужик до гроба мужик. Не я так придумал — предки испокон веков говорили. Не слыхал и слыхивать не желаю, брался ли ты за дам наших придворных. Может, и такого примеру в странах европейских нагляделся.
— А что, Князь-Кесарь, может, и у нас обычай такой ввести, как думаешь?
— Тьфу, мерзость какая. Да и то сказать, доброму делу люди всю жизнь учатся, а мерзостное с ходу постигают. Не чудо. Да ты меня, государь, от главного дела не отводи.
— Так что тебе Катерина Алексеевна далась? Чем дорогу перешла?
— Ничем. Не видел я её в глаза. Бог даст, никогда и не увижу.
— А зря. Куда как хороша. Есть на что поглядеть.
— А кто тебе запретить, государь, может. Вот в потёмках и гляди, благо ночным временем все кошки серы. У царевны ты её поселил — плохо. Очень плохо. Ещё куда ни шло прислугой. А то, прости Господи, настоящей полюбовницей.
— Ну, и распалился ты, Князь-Кесарь. Того гляди в страх меня вгонишь. Заикаться твой великий государь начнёт.
— Такого Господь Бог не допустит, а вот с обиходом полюбовницы твоей тебе крепко подумать надобно. Родила от тебя. А как же бабе не родить? Порядок такой Господом Богом установлен, чтобы по каждому соитию дитя зачиналося. Державе твоей, делу твоему главному от того ни в чём не лучше; Только полюбовница твоя хитрой бестией оказалася: креститься в нашу веру пожелала.
— Хитрость-то тут какая? Привязалася она ко мне, быть рядом всё время хочет. И чтоб не попрекали меня немкою, как с Анною Ивановной. Вот и все дела.
— Спорить не стану. Сами разберётесь. А только как ты мог, государь, крёстными родителями государыню царевну Екатерину Алексеевну и сына своего законного, наследником державы Российской объявленного Алексея Петровича пригласить? Как, скажи?
— Так согласились же, не противились.
— Кто? Царевич? Мальчоночке-то всего четырнадцатый годок пошёл! Как это ему отказаться? За мать боится.
— Ах, вот что! О матери, значит, вспоминает!
— Уймись, государь. Господа Бога ради, уймись. Заповеди наши забыл? Чти отца своего и матерь свою, и да благо будет ти на земли. Державу свою по разумению своему переделывать можешь, заповедей Господних никто тебе переписывать не даст. Преступить их ради воли своей государской собрался? Знаешь ли, какая смута, раздор и разорение на всей твоей земле начнётся? Должен царевич о матери каждодневно вспоминать, молиться за неё должен.
— А я сказал, не должен! Хочет моим наследником стать, память о Евдокии всякую стереть обязан, иначе нет ему здесь пути-дороги. Никакой. Его счастье, что слова противного мне не сказал. С первого слова согласился восприемником от купели стать.
— Кого? Полюбовницы отцовской?
— Хватит, Князь-Кесарь! Из себя собрался меня вывести?
— А мне всё равно, великий государь. Одно знаю, кроме Ромодановского, никто тебе правды не скажет. И рта мне из-за своей же пользы не затыкай.
— Ладно, кончай.
— Кончать? Так вот я о Екатерине Алексеевне[12], государыне царевне. Ей-то каково твою полюбовницу из купели принимать, подумал? Ты новокрещённой дорожишь, твоё дело. А для всех? Для пребывающей в девичестве царевны каково это? Вся челядь иначе, как блудной девкой, твою полюбовницу не называет. Зачем же старшую сестрицу свою так бесчестишь?
Или ты с Милославскими счёты сводишь? Не так, государь, такое дело делать надобно, не так. И полюбовниц никаких сюда привязывать не след.
— Разговорился ты! Не иначе к непогоде. Наболтал с три короба. А теперь я скажу. Много лет ты со мной, Князь-Кесарь, а всё в расчётах моих разобраться не можешь.
— Скажешь, государь, и здесь расчёты государственные?
— Марта о крещении первая заговорила. Я и подумал: после такого Анне Ивановне рассчитывать не на что.
— Всё об Анне...
— Погоди, Фёдор Юрьевич. Анна Анной. Ты и то в расчёт возьми, тринадцать лет мы с ней в любви и согласии прожили. Не шутка.
— В грехе и согласии греховном.
— Пусть греховном. Но тем же надо было и Евдокии показать, что ждать ей нечего и воду мутить незачем.
— Да что тут мутить, коли пострижена она.
— Э, там! Постриг всегда насильственным признать можно. Думаешь, до меня слухи об её братце бунташном не доходят? Будто все кругом воды в рот набрали? Не набрали! Вон как боярство московское его слушает, хороводы вокруг него водит.
— Так и укоротил бы его, государь.
— Укоротил, говоришь. Совет хороший, да не с руки мне со всей Москвой из-за одной Евдокии воевать. Не стоит того одна постылая жена. Нешто примеров таких в прошлом не бывало?
— Бывало, бывало, только и там хвастаться было нечем что Василию III Ивановичу, что сынку его Ивану Васильевичу Грозному, что внуку, царевичу Ивану Ивановичу.
— Иные времена, Фёдор Юрьевич. А с Екатериной Алексеевной вот что тебе скажу. Никогда она супротив матушки и меня не выступала. Всегда от сестёр особняком держалась. Одна у неё радость — покои свои украшать да чем богаче да чуднее, тем лучше. Её бы воля, все живописцы Оружейной палаты у неё бы одной трудились рук не покладая.
— Да ведь она только что сестрицу Софью Алексеевну земле предала.
— Сам знаешь, и не подумала. Опять в сторонке держалась. Одна царевна Марья Алексеевна убивалась по Софье — тут и сомнений нет. А Екатерина Алексеевна снова доказала мне свою верность: не только крёстной согласилась стать — имя своё крестнице пожаловала. Вот и родилась из Марты Екатерина по крёстному отцу царевичу — Алексеевна. И кончили разговор. Обсуждать тут нечего.
* * *
Пётр I, А. Д. Меншиков
— Мало было шведов, так ещё и стрельцы проклятые подоспели. Просчитался. Теперь-то понимал — просчитался. Тех, что в 1682-м в Кремле московском бунтовали, казалось, куда дальше — в Астрахань отправил. Туда же и тех, что в 1698-м за Софьей пошли.
Много набралось бунтовщиков. Не утерпели. Тридцатого июля, в ночь на Иоанна Воина, в набат ударили. Вместе с горожанами на воевод набросились. Всех порешили. А там и за полковников взялись. Начальных людей никого не пропустили. Три сотни голов полетели. Не нужен им царь Пётр Алексеевич. Антихристом — иначе не называли. Себя — вольницей русской. На Москву стали собираться.
Усмирять? Чьими руками? Армию брать с иноземными военачальниками, бунт расплескается ещё шире. Свой нужен. Чтобы знал, где силой взять, где договориться, когда и подкупить.
О Борисе Петровиче Шереметеве подумал. В стрелецких розысках участия не принимал. Сторонился, а уж сам охоты к делу такому никогда не выказывал. Спросил, когда из Италии вернулся, что о бунтовщиках думает. Плечами пожал: ты, государь, в деле, ты один и в ответе. Что мне поручишь, за то и ответ держать буду.
За спиной шёпот услышал: за Катю на Алексашку обиду затаил. Больно по сердцу пришлась. Сам виду не подал. Теперь-то и вовсе: одно слово — государева воля.
Преобразованиями тоже не занимался. То ли соглашался, то ли нет. Лишнего слова не вытянешь, а по своей охоте никогда не рассуждал.
За советами к нему хоть не обращайся. От Кати наслышан: никогда о государе слова не говорил. Разве имя к случаю помянет — и только.
Нельзя его из армии брать: со шведами воевать научился. Другие генералы на равных, а он и победить потщится. А куда денешься? И дворянство его почитает. Придётся в Астрахань посылать.
В канун Рождества Богородицы указ подписал. Передал фельдмаршалу. Объявил: собираться станет. Известно, торопиться не любит. Или расчёт такой имеет. Повторяет: поспешишь — людей насмешишь. Ты, государь, задачу задал, а уж как справлюсь, сам увидишь. Когда время придёт.
До Москвы только на Артемия добрался. Двадцатое октября — зима на пороге, а фельдмаршалу всё ничто. До середины ноября в столице задержался. Любит с родными повидаться. Гробы родительские посетить. Распоряжения по хозяйству отдать. Что правда, то правда: хозяин, каких поискать.
В конце ноября до Нижнего Новгорода добрался — смотр своим войскам устроил. Поил — кормил не жалеючи. 18 декабря, на преподобного Севастьяна Пошехонского, в Казань вступил. С великою неохотою. Добивался, чтобы зиму в Москве с войсками переждать.
Наотрез отказал. Гневом пригрозил. Сержанта Михаилу Ивановича Щепотьева приставил — для понуждения и наблюдения. Озлился боярин, но смолчал. Царский приказ — не воевать со стрельцами, пригрозить и миром уладить. Что за победа на своей-то собственной земле над своими же подданными? Такое только от великой нужды допустить можно.
Щепотьев доносил: бунтует фельдмаршал астраханцев, чтобы противу него с оружием выступили. Чтобы непременно усмирять народ пришлось. Кажется, и так, куда ни кинь, кровь рекой.
Добился своего. Усмирил народ. Награждать пришлось. Две тысячи четыреста крестьянских дворов — мало ли! Поклонился в пояс. Слова нужные сказал — не больше. Спросил: можно ли к настоящему делу — к шведам ворочаться. Разрешил.
В дверях Алексашка. На себя непохож. Бледный. Лицо в поту:
— Государь, не хотел тебе весть такую сообщать. Да потом подумал, лучше уж мне сказать, чем постороннему какому...
— Дурная весть? От кого? Кто привёз?
— Не то, государь. Лев Кириллович...
— Дядюшка? Что с ним?
— Долго жить приказал, государь.
— Лев Кириллович? Да ему лет-то всего ничего было. Четырёх десятков не отсчитал. Господи! Как такое случилось? Да говори ты толком, душу не мотай!
— Что я знаю, государь. Слуга примчался. Что он сказать мог. Заслаб-де боярин за столом. Сидел со всем семейством, кушал, в добром здравии был и враз заслаб. На стол завалился. Покуда добежали, покуда приподнимать стали, а он уж и дух испустил, упокой, Господи, его душу.
— Кончился, значит. На него да на Фёдор Юрьевича только и полагаться мог. Им одним верил. Льву Кирилловичу, пожалуй, безоглядно. Кабы не он, никуда бы с Великим посольством не поехал. За ним как за каменной стеной.
— Известно, государь, при Фёдоре Юрьевиче супруга-то из Салтыковых. Через царицу Прасковью Фёдоровну к Милославским потянуть может.
— Что плетёшь, очнись! А тётка Анна Петровна, вдова новопреставленного, не из Салтыковых? Я Прасковье Фёдоровне больше чем тебе поверю.
— Государь!
— Вот тебе и государь. Дна у неё второго нету, а у тебя — кто их считал, да коли и считал, наверняка ошибся.
— За что ж напраслина такая, государь?
— О напраслине время скажет. А вот теперь нового начальника Посольского приказа искать надобно. Вот где загадка-то — сразу и не решишь.
А дел всё равно всех не переделать. Не быть в Москве столице. Не быть! Так этого в одночасье не сделать. Пока и о первопрестольной тревожиться надо. Улицы мостить. Иначе — в грязи тонуть до скончания века. От деревянных мостовых какой прок — за два года как есть все сгнивают. Камнем мостить. Только камнем.
И никаких резонов, мол, трудно. Налог натуральный установить. Как это прибыльщик наш главный, Курбатов, делал: способ изыскать. Для начала каждый, кто в город въезжает, по три камня с собой привозил. Не больно-то накладно, а глядишь, и набежит сколько надо.
На деньги людишки не больно тароваты, а тут всего-то камни. Коли не хватит, в небольших проездах можно разрешить и деревянные настилы.
О московских дворцах думать нечего. И сады тут разбивать — тратиться резону нет. Катю спросил — жмётся, а всё больше Петербургом интересуется. Про Летний сад расспрашивала. Мол, гулянья там. Веселье. Празднества.
Оно верно, что празднества, да на каждый день всех пускать, порядку не будет. Разрешил по воскресеньям. И для чистой публики. Чернь всякую и солдат не пускать. Главное сейчас — фонтаны устроить. Архитектору Ивану Матвееву поручил сделать колесо великое — для подъёма воды в фонтаны.
Кикин, адмиралтейский советник, заранее побеспокоился: нужны ему к фонтанному делу люди и отдельно те, которые умеют трубы лить. На такое дело и денег не жалко, не то что людей.
Дал же им указ, чтоб беглых солдат кнутом бить и ссылать на каторгу в новопостроенный город Санкт-петербург, чтоб и впредь иным таким с службы и из полков бегать было неповадно.
А кроме каторжных на каждый год по сорок тысяч человек высылать на строительные работы туда же изо всех губерний. С девяти дворов одного человека. Что из того, что пешком добираться должны. Не лошадей же на них тратить. И всего-то по два месяца отрабатывать — невелико дело, а для новой столицы какое подспорье.
— Алексашка! Это нам ещё совет с Борисом Петровичем, фельдмаршалом нашим, совет держать придётся. Не всегда-то он моих приказов слушает. Тянет.
— Староват, государь. Годы — с ними не повоюешь.
— Староват, говоришь? А нашему Фёдору Юрьевичу на целый десяток лет больше, так за ним иной молодой не угонится.
— Это уж от Господа Бога, государь. Как кому какой склад достанется. Может, фельдмаршала и на покой отпустить пора.
— Ишь ты, спорый какой! На покой! А с кем воевать буду? Кто, кроме Бориса Петровича, управу на шведов нашёл, ну-ка назови? Какая там старость, когда голова на плечах, а опыту весь генеральский совет позавидовать может. Мало ли что ходить трудно, встаёт да кряхтит. Тут и поддержать можно. И на руках донести. И без крайней нужды не гонять. Ну так что, есть у тебя какой другой толковый совет?
— Подумать надо, Пётр Алексеевич.
— Подумать! А я уже придумал. Женить его, Алексашка, надо, и немедля.
— Женить?! Господи, помилуй душу грешную. На носилках его, что ли, на кровать супружескую носить али как?
— На носилках! А как насчёт нашей Катерины Алексеевны? Сам же говорил, каким молодцом фельдмаршал, на неё глядя, становится. Так это в палатке, после боя да перед боем. Выходит, кровь-то у фельдмаршала нашего не совсем остыла, а?
— Может, и ваша правда, государь.
— Правда всегда у государя, на носу себе заруби.
— Не иначе и невеста у вас на примете появилася?
— А как же, появилася, да ещё какая. От такого богатства наш фельдмаршал и вовсе арабским жеребцом взовьётся.
— Кто, государь, кто?
— Вдова Льва Кирилловича Нарышкина. И тётку пристрою, и около фельдмаршала свой человек появится. Вот и давай зови сюда жениха. С невестой я в одночасье столкуюсь.
— Кто ещё там?
— От государыни царевны Натальи Алексеевны штафет, государь.
— Давай, поглядим. Слышь, Алексашка, что ж ты, подлец, словом не обмолвился, что Катерине рожать пришло?
— Просчитаться боялся, государь. Да потом, роды-то, они и затянуться могут.
— Не у Катерины Алексеевны. Она у нас как солдат на штурме — уже управилась. Сестра пишет, всё обошлось.
— И с кем же поздравлять вас, ваше величество?
— С сыном, Алексашка, с сыном. Молодец Катерина. Может, и права была, что в нашу веру крестилась. Младенец живой, здоровый. Бог даст, долгий век проживёт.
— Родильница-то как?
— Царевна пишет, что рада-радёхонька. Дела кончим, поеду сына поглядеть.
— Как назовёте, ваше величество, новорождённого?
— Павлом, пожалуй. С Петром незадача вышла, может, Павел поможет.
* * *
Вдовая царица Прасковья Фёдоровна,
Н. Ф. Ромодановская
— Вот и ушла государыня царевна Татьяна Михайловна, ушла голубушка, защитница наша. Совсем без неё осиротели. И так живёшь, каждой тени боишься, а тут одна надежда была....
— Помилуй, государыня царица, что тебе от неё? Старая — кажись, всех в семье пережила. Да и кто с ней считался? Будто нужна она была государю Петру Алексеевичу!
— А вот и не права ты, Настасьюшка, ой как не права. Государь милостью своею вдовую царицу Прасковью, может, и дарит. Да откуда узнаешь, как дела у нас с новой его полюбовницей пойдут. Немка, она и есть немка. Да и на что ей семейство такое — одни нахлебники.
— Не ей судить. По мне Монсиха куда лучше была, Прасковьюшка.
— Э, сестрица, ночная кукушка завсегда денную перекукует. Уж, кажется, чего только государь Пётр Алексеевич о ней не знает, а ни на что и смотреть не хочет. Вроде как невесту из доброго дома взял, по всем правилам высватал.
— Так-то оно так, а от покойной царевны какой тебе прок?
— Тот, Настасьюшка, что ндравная царевна покойница, царство ей небесное, была. Никого не боялася. Никто ей в теремах не указ. Расположением патриарха Никона дарила, и трава не расти — никто с ней не справился. Из всего семейства супруга моего покойного жаловала. Всё нас опекала — троих дочек моих крестила.
— Так и с государем Петром Алексеевичем ладила.
— Не она с ним, он с ней ладил. Уважением дарил. Ты-то помнить не можешь, как покойную царицу Наталью Кирилловну укоротила.
— Да ты что, сестрица? И царица того не запомнила? На государыне царевне не отыгралась, как сынок к власти пришёл?
— То-то и оно, что не вспоминала. А царевна Татьяна Михайловна её при всём семействе отчитала, что Петра Алексеевича — мальчоночкой ещё был — с отпевания государя Фёдора Алексеевича увела.
— Решительная!
— Да ещё какая! Слышала, поди, как царевна-правительница Софья Алексеевна спор о вере с Никитой Пустосвятом в Грановитой палате устроила, чтобы расколу церкви нашей православной предел положить. Так вот Татьяна Михайловна об руку с правительницей села, выше царицы Натальи Кирилловны и их всех царевен. Не просто сидела — слово брала, не хуже правительницы толковала.
— Хворала, говорят.
— Разве что от тоски. Очень после кончины царевны правительницы Софьи Алексеевны по любимице и крестнице своей Марфе Алексеевне печаловалася. В Александрову слободу съездить порывалась. Да ведь на всё государева воля, а Пётр Алексеевич и слышать о таком богомолье не хотел. Посылочки-то узницам-сестрицам строго-настрого запретил передавать. Они там, Господи, спаси и помилуй, червивую рыбу едят, чтобы голодом не примереть, а помочь никак нельзя. О дохтуре для них сколько раз государю говорила, что об стенку горох. Ни тебе помощи, ни снисхождения. Как тут не захворать!
— А разве не хотела покойница с государем мир и лад устроить? Ведь крестила же наследника.
— Не она сама того хотела: патриарх Иоаким уговорил, Мира искал — для царской семьи. Покойница и согласилась. А всё равно и царевича-наследника не больно жаловала. Только нас — Милославских по корню.
* * *
Пётр I, Ф. Ю. Ромодановский
Вчерась себе не поверил. Посланника прусского будто в шутку про Анну Ивановну спросил. Посуровел Кайзерлинг. Окаменел весь: давно, мол, не имел чести и что без вечеров у Анны Ивановны в слободе куда скушнее стало.
При всех. Не смутился. Все глядят, любопытствуют. А посланник голос поднял, чтобы всем слышно было: вина госпожи Монс никому не известна, потому и наказание её непонятным для всех остаётся.
Кровь в голову бросилась. Не удержался бы, кабы не Князь-Кесарь. Откуда только взялся: государь, дело у меня срочное, благоволи сей же час выслушать доклад.
Все отступились. Посланник откланялся. А дела у Ромодановского никакого нет. Только головой качает. Молчит.
— Осуждаешь, Князь-Кесарь?
— Не моё это дело, государь.
— А ты от ответа не уходи! Не крути, Фёдор Юрьевич! Так своей прямотой кичишься, а тут хуже царедворца. Не только за Анну Ивановну осуждаешь. Слухи дошли, что и за Катерину не милуешь.
— Не обижай, Пётр Алексеевич. Царедворцем князь Ромодановский николи не был и вовеки не будет. Свой род помнит — чай, Стародубские мы, Рюриковичи. Честь для Рюриковичей превыше всего.
— Вон оно как! Романов пусть грешит, а мы, Рюриковичи, даже суда над ним худородным не снизойдём.
— Не то говоришь, государь, не то! И родов наших сравнивать ни к чему. Ты на престоле — значит, на то Божья воля. Распорядок такой от Господа Бога положен.
— Так люди ведь деда выбирали. Могли Михаила Фёдоровича, могли и кого другого. Вон о князе Дмитрии Михайловиче Пожарском по сей день говорить не перестают, да и не о нём одном.
— Выходит, не могли — на всё Господне произволение. А о неправоте твоей так скажу. Для тебя, государь, и для меня, государева слуги, какими титулами ты меня по воле своей неограниченной ни величай, каких поклонов мне ни клади...
— Соратника, Князь-Кесарь, дорогого соратника. Мне без тебя...
— Погоди, государь, дай договорить. Что соратник, что слуга — не о том сейчас речь. Ответ у тебя, царя Всея Руси Петра Алексеевича, и меня, князя Фёдора Юрьевича Ромодановского со всеми предками моими славными, перед Господним престолом разный. Ты за державу в ответе. Каждому в жизни его предел положен. Вон баба за свою печку да хлев в ответе, мне за свои приказы отвечать, а тебе за всю державу! То, что бабе в грех поставится, мне не каждым разом зачтётся, а царскому величеству и вовсе не заметится.
— И какой же это поп с тобой, князь, согласится?
— Не то что у грехов перед Господом смысл разный. Вес, скажем так, иной. Битву проиграешь, жизни солдатские не путём положишь — одно. А коли против какой заповеди согрешишь — не нам тебя судить. Один у государя судия — Всевышний. Умолишь ли его, нет ли — от наших советов пользы всё едино не будет. Ты вон с какого крутояра на округу государственную глядеть должен, а мы — каждый на своей высоте.
— Разгрешить меня хочешь, Фёдор Юрьевич.
— Разгрешить! Эко слово сказал. Не поп я и не молитвенник твой. Тебе, государь, самому решать. Только с тебя за весь народ православный вперёд спросится.
— За каждую душу христианскую, сказать хочешь.
— За каждую тварь живую, что дыханием своим хвалит Господа — так-то будет вернее.
* * *
Де Брюин, царевна Наталья Алексеевна,
В. М. Арсеньева
— Государыня царевна, матушка, художник наш вернулся, право слово, вернулся!
— Какой художник, Варварушка?
— Господи, да этот самый, голландец, что портреты царевен племянниц и ваш писал, ну, Корнелий-то этот? Неужто забыли?
— Де Брюин? С чего взяла?
— Да как с чего? Вся слобода гудит: целым обозом приехал. К ван Балену на двор прямо завернул.
— Вот уж и впрямь неожиданность какая. Может, ошиблась, Варварушка? Мало ли у нас тут приезжих.
— Нет и нет, государыня царевна, никакой ошибки. Не то что разгружаться у Валена стал, а сразу о тебе спросил.
— Обо мне? А это откуда известно?
— Так мальчишка с ихнего двора прибежал. Ему хозяин велел упредить. Мало ли что. Я мальчишке грош дала.
— Де Брюин... Обещался через полтора-два года вернуться, а вон сколько времени прошло. Четыре года... Думала, и в живых его уж нет, аль другой дорогой добираться решил.
— Государыня царевна, что там годы считать. Ведь вернулся же! Вернулся! Может, прикажешь послать его к нам позвать. Чего время-то зря тянуть. Разреши, матушка?
— Пусть сам заявится.
— Да мало ли, как дела у него сложатся. Ещё кто что прикажет, а уж раз ты велела, и разговоров не будет.
— Разве что...
— Разреши, матушка. Я вмиг спроворю. Парня к Балену будто о новом товаре спроситься пошлю, а как он художника-то увидит, так и твой приказ передаст.
— Быть по-твоему, Варварушка, посылай.
Вернулся. Живой. Братец ничего не говорил, что ждёт. Интересу к нему больше нет. Или за всеми другими делами недосуг. Задержать не удастся. Как братец посмотрит, а с ним теперь не сговоришь. При Монсихе сам о неудовольствии сестры думал, иной раз слушал её. А при Катерине разошёлся. Никто ему не указ. Катерина при нём собачонкой вьётся. В глаза засматривает. Ластится. Не знает, как угодить. Иной раз не выдержишь, скажешь, мол, что уж ты так-то, а она: всем, мол, государю нашему обязана. Всем. И жизнью самой. А что характер у него, так только рукой машет. Оглянуться не успели, во всём ему нужной стала. Да что там нужной — удобной. Никак прислужник ворочается. С чем бы...
— Государыня царевна, за час здесь будет. Только сказал, пыль дорожную стряхнёт да костюм какой положено наденет. Таково-то обрадовался! Парню попервоначалу не поверил.
— А парня ты какого послала?
— Да немца пленного — как бы им иначе без хозяина договориться?
— Обо всём ты, Варварушка, подумать успеваешь.
— Мне бы тебе, государыня царевна, угодить, сама знаешь.
— Спасибо тебе. Да стол прикажи накрыть. Человек с дороги.
— Приказала, приказала уже, матушка. Дарьюшка за всем присмотрит, а Аннушка меншиковская на кухне командует. Оглянуться не успеешь, скатерть-самобранка развернётся.
— Какой-то он стал...
— А каким ему стать? Был из себя видный, красавец писаный, таким и остался. Велико ли дело — четыре года. Ой, никак подъехал.
— Ваше высочество, как я ждал этой минуты. И как верил, что она наступит.
— Рада вас видеть, Де Брюин. Очень рада.
— Вы всё так же милостивы, принцесса. Бог мой, вы прекрасны, как никогда. Годы увеличивают богатство венца вашей красоты.
— Не надо, Де Брюин, годы ни к кому не бывают милостивыми.
— Как бесконечно вы отличаетесь от всех принцесс мира, ваше высочество! Любая женщина восприняла бы восхищение ею как нечто естественное, вы же подобны древнему философу. Вы препарируете всё, что происходит вокруг вас.
— Такая я есть, Де Брюин.
— Как ваша жизнь, ваше высочество? Я был уверен, что вы забудете вашего преданного слугу. По крайней мере, за всеми теми развлечениями, которыми так богат московский двор.
— Да, развлечений здесь по-прежнему много. Но государь посвящает своё время военным действиям. И сегодня Москва находится в прямой опасности. Есть предположения, что шведский король Карл XII направит свои полки на нашу столицу. Вы увидите, как строятся новые укрепления, земляные бастионы. И у нас уже есть воевода боярин Михаила Черкасский. Вам будет любопытно увидеть этого благородного человека.
— Вы верите в благородство при дворе, ваше высочество?
— Это исключение я делаю для одного боярина Черкасского. Когда мой брат был провозглашён царём, а это случилось двадцать пять лет назад, князь своим телом прикрывал брата и нашу матушку. Между тем многие считали его достойным самому занять царский престол. За него было и всё наше войско — стрельцы, которых теперь уже нет. Он и слышать не хотел о собственном возвышении.
— Но Бог с ними, с государственными делами. Как ваша жизнь, ваше высочество? Это единственное, что меня по-настоящему интересует.
— Я всё время при дворе.
— И у вас не возникает желания хотя бы время от времени удалиться в ваши родовые владения, почувствовать себя независимой и свободной?
— Вы так и не узнали Московии, Де Брюин. Это невозможно.
— Почему же? Неужели ваш брат государь так настаивает на вашем постоянном присутствии?
— У меня нет родовых владений. А выехать одной в любую государеву подмосковную слишком сложно и вызовет ненужные толки. К тому же обратили ли вы внимание, что у нас женский двор и в то же время нет женской особы рядом с государем. Брат по-прежнему не женат. Поэтому официальные обязанности царицы выполняет вдовеющая царица Прасковья, которую вы посещали в Измайлове. Но она представляет иную ветвь царствующего дома.
— И государю спокойнее, когда рядом находится его любимая сестра.
— Вы так догадливы, Де Брюин, что вам вряд ли стоит вообще задавать вопросы.
— Вы по-прежнему опекаете наследника престола, ваше высочество?
— О нет, те времена прошли. Царевич Алексей достаточно взрослый, чтобы жить отдельно ото всех со своим придворным штатом. Государь уже начинает подыскивать ему невесту среди европейских принцесс.
— А та очаровательная немка в слободе, которая собирала вокруг себя столь шумное общество?
— Вы имеете в виду Анну Монс. Забудьте о ней. Она уже три года находится под домашним арестом и не имеет права посещать даже церковь. Так решил государь.
— Я не спрашиваю причины столь сурового решения.
— Здесь нет тайн. Она пожелала выйти замуж за прусского посланника, ещё пользуясь расположением государя.
— Достаточно опрометчивый шаг. И посланник, естественно, уехал.
— Вы так думаете? Как раз наоборот. Он продолжает выполнять свои обязанности и, по слухам, ждёт освобождения своей невесты, чтобы вступить с ней в брак.
— В самом деле неслыханная история.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, Де Брюин
Не дождался приглашения к царю. Не дождался... Почему бы, сразу и не поймёшь. Всю Москву изъездил. Всё порассмотрел. Ждал. Пока Александр Данилович не передал, чтобы быть ему во дворце Преображенском. Государь там не живёт — только царевна Наталья. У неё и ассамблея состоится.
А ведь торопился. Думал, может, и на пару лет задержаться. Приустал, да и пока книгу станешь писать, доход постоянный пригодился бы. Царевна говорила о должности придворного художника. Тогда. Теперь и она словом не обмолвилась.
Государь по-прежнему всего любопытен. Расспрашивал, как к Астрахани плыть довелось. Как у села Мячкова, за Коломенским, на судно армянских купцов погрузился, а ехал — стал перечислять пристани, как их рисовать довелось. Белоомут, Шилово, Дединово, Рязань, Касимов, Муром, а там уж по Волге.
Альбомы рассматривал. Каждой мелочью интересовался. Потом о Персии всё вызнал. Даже о Персеполисе слышал, что, мол, Де Брюин первым его описал. Народ какой, обычаи, города. Только в конце проговорился, сам поход задумал в низовья Волги, на берега Каспия. Только-то и всего.
О Москве спрашивал: заметил ли какие перемены. Как не заметить! Государь порадовался и будто экзаменовать стал. А потом встал и, слова не сказавши, к другим гостям вышел. Царевна Наталья глаза отвела. Зато царица Прасковья совсем заговорила. В Измайлово к себе стала звать. Мол, дворца не узнать. Не стыдно гостей принимать. Оглянуться не успел, и царевна вышла. Словом не перемолвились. Понял, уезжать придётся. Уезжать... В голове одна мысль: в Голландии покровителя найти, с его помощью книгу издать. Не найдётся больше сил в дальнюю дорогу ехать. Шестой десяток за плечами. Волосы сединой припорошило.
Москва и впрямь удивить может. На Курьем торгу здание аптеки выросло — всю армию лекарствами и снадобьями снабжать. Поинтересовался: восемь в ней аптекарей, пять подмастерьев да ещё сорок работников. Государь денег не пожалел. За лекарственными травами людей по всей стране посылают, даже до самого Китая.
На Яузе городская больница появилась без малого на сто больных. Врачей не так много — один хирург, один просто доктор, ещё аптекарь, так всё бесплатно, за всё город должен платить.
Рядом с больницей суконная фабрика. Царь Пётр рабочих и мастеров из Голландии вызвал — целое поселение голландское. Родной язык с русским мешают.
У Новодевичьего монастыря — стекольный завод зеркала по три аршина с лишним в высоту выделывает.
Китайгородскую стену вычинили. Кремль подновили. На Красной площади театр городской возвели. За четыре-то года! Спектакли идут день за днём.
И ещё — из Голландии латинский шрифт для Печатного двора привезли, книги на нём печатать стали.
Узнал и о царе Петре. Новая у него амантка — литвинка. Крестьянка. С лица, говорят, ничего. А так коренастая, сильная. Одной рукой полупудовый сосуд удержать может, не дрогнет. Дома своего не имеет. У принцессы Натальи живёт. Прячется. Обхождения не знает.
От принцессы Натальи приглашение пришло — в Воробьевский дворец. И снова зима. Снова всё в морозном тумане. Будто и не было четырёх лет. Мебели побольше стало. А обои поновлять пора. Сама принцесса говорила, что дворцу уж тридцать лет, и строить его начал её старший покойный брат — царь Фёдор. На свой вкус. Достроить не успел — двадцати лет умер.
Рассказывать о нём не стала. Обмолвилась только, что подростком под карету попал, колесо по груди проехало. Выжить на первых порах выжил, да захирел.
— Задумались, Де Брюин?
— Я невольно вернулся на четыре года назад, ваше высочество.
— Тогда всё вам показалось лучше.
— Нисколько, ваше высочество. Я пожалел о том, что не подумал всерьёз о возможности просить о службе при московском дворе.
— Тогда вы не стремились к этому.
— Я чувствовал себя в растерянности от множества впечатлений.
— И не знали, на чём остановиться.
— Ваше высочество, если быть совершенно откровенным...
— Почему же нет, мы с вами старые знакомые.
— Я испугался самого себя. То, что мне мерещилось, не могло стать явью, но могло отвлечь меня от моего действительного предназначения — быть писателем и описателем.
— Мне трудно поддерживать разговор, Де Брюин. В Москве не принято говорить на такие темы. Скажу одно: тогда государь, пожалуй, мог предложить вам место в придворном штате. Сегодня его мысли заняты другим. Мой брат меньше всего думает о дворе, разве что о вещах самых необходимых.
— Но вы всё также занимаетесь театром, ваше высочество?
— Ода.
— Вы не разрешите мне стать зрителем хотя бы одного вашего спектакля?
— Разрешу, если вы не окажетесь слишком суровым судьёй. Вы видели немало театров, и у вас есть возможность сравнить мои пробы с настоящими артистами.
— Ваше высочество, поверьте, я не театрал, и потом я буду прежде всего воспринимать сочинителя и его мысль, а не тех, кто эту мысль станет воплощать.
— Это случится только через месяц. Вы не торопитесь с отъездом?
— Нет, ваше высочество, и признаюсь, буду рад любому промедлению.
— Вы по-прежнему любезны, Де Брюин. И, кстати, вы же хотели закончить ваш вид Москвы. Пользуйтесь этой возможностью — я вам её предоставляю. Если хотите, вы можете и поселиться здесь. Прислуги и удобств здесь не меньше, чем в Преображенском дворце, а лошади для поездок в город всегда будут в вашем распоряжении.
— Ваше высочество, я не премину воспользоваться такой пропозицией. Москва столько раз снилась мне с этого удивительного места. Благодарю вас, от всей души благодарю.
— Я почти узнаю прежнего Де Брюина.
* * *
Пётр I
Знал, с Лопухиными не так просто справиться. Евдокия не больше полугода монашеское платье носила. В мирском по Суздалю разъезжает. Притворялся несведомым.
В Москве хуже. Не угадала покойная родительница нрава невестки. На красоту её польстилась да повадливость. А Евдокия поначалу сумела молодого мужа завлечь. Отца её Фёдора Аврамовича тогда подмосковным Ясеневым подарил. Ездили к нему с молодой супругой. Сады там куда как хороши. Яблоневые. У пруда Церковь Знамения с шатровым верхом. Ему не нравилась — деревянная. Тёсом крытая. Зато с лестницы всходной такой простор округ — душа поёт.
Ещё — дубов много. Всегда эту породу любил. А тут могучие. В два обхвата. У одного скамья круговая. Сидели с Евдокией. Она к нему всё ластилась. Оторваться не могла. Надоедная.
В дарственной оговорка была, коли род Лопухиных кончится, вернуть Ясенево во Дворцовый приказ. Евдокию в монастырь отправил, словом своим поступился: оставил село былому тестю, да ненадолго. Фёдор Аврамович в год-два так одряхлел, ослеп, что водить его под руки водили. Говорят, по дочери убивался.
Снова обижать старика не захотел: Ясенево сыну Авраму передал, пользоваться разрешил. Толковым на первых порах ему показался. В Европу со всеми ездил кораблестроению учиться. А работать не пожелал. От службы всякой наотрез отказался. Около племянника увиваться стал.
Чтобы письма сестрины сыну передавал — в том не замечен, а в остальном поздно спохватились: только ему одному Алексей доверять стал. Где бы с родителем поговорить, к дядьке тянулся.
Никогда Лопухины в чести особой не были. Зато теперь к Авраму все, кто с царём не согласен был, прибиваться стали. О Софье Алексеевне сразу забыли, а тут без малого десять лет хороводы свои московские водят.
Может, подмётное дело помогло последнее слово сказать. Всем немедля в новую столицу собираться.
Из Москвы старого духу плесенного нипочём не выкуришь.
С деньгами туго — вот что плохо. Если разобраться, в 1701 году армия обходилась в 982 000 рублей, нынче вдвое дороже. Известно, сто тысяч солдат вместо сорока дешевле не обойдутся.
Да ещё за первые полтора года войны со шведами королям польскому и прусскому субсидий, ни много ни мало, полтора миллиона выдать пришлось. А во что расходы на флот, на артиллерию, на то, чтобы дипломатов во всех странах содержать, обошлись? Опять в полтора раза больше, чем при начале военных действий. Тогда два с небольшим миллиона, теперь три с небольшим.
А с народа получить всего-то около полутора миллионов можно. Поначалу не думалось о том. Приказывал со старых учреждений государственных остатки брать. Только позже понятно стало: дела государственные порасстроились. И опять хватать перестало. Вот тут и ломай голову как хочешь. Нет расходов важнее военных, а как их покроешь?
Начинали с того, что армию содержали на главные доходы государства — таможенные и кабацкие пошлины. Новую кавалерию в 1701-м набрали — пришлось новый налог назначить: драгунские деньги. Для содержания флота — корабельные.
Петербург принялись строить — объявили сбор денег рекрутных и подводных. Столько налогов оказалось, что объединили их в один — окладные деньги.
Мало, всё равно мало. Того хуже — недоимки. В них большая часть сбора оставаться стала. Тогда и пришлось на порчу серебряной монеты идти. Всю её перечеканили, чтобы низшего достоинства была, а ходила по прежней цене.
За порчу монеты, поначалу казалось, все дыры прикрыть удастся. В первые три года едва не по миллиону получали — с субсидиями иностранными расплачиваться стали. Ан на четвёртый год доходу в три раза поубавилось, и так уж и пошло — по триста тысяч.
С субсидиями справились, а беды себе ещё горшей наделали. Монета в обращении по цене упала до старой цены. Все поступления казны ровно настолько же приупали.
Самому бы во всём разобраться, до всего дойти. Да не любил никогда денежных дел. Головы для них не имел. Да и к войне готовиться приходилось — не до того.
Чиновники переобручку придумали. Обложили оброком все бани, все владельческие рыбные ловли, мельницы, постоялые дворы. Казне передали продажу соли, табаку. Лишь бы время тяжкое пережить. Лишь бы войну со шведами закончить.
А чтобы денежное управление государством упростить и армии целиком подчинить, решено было поборы с отдельных местностей прямо в руки командующих генералов передавать, минуя всякий учёт и проволочку. На первых порах на таких условиях получил Меншиков Ингерманландию, другие командующие — Киев и Смоленск, чтобы привести их в оборонительное относительно шведского короля положение, Казань — для усмирения волнений, Воронеж и Азов — для строительства флоту.
Так дошло до того, чтобы все города дальше чем в ста вёрстах от Москвы расписать частьми к Киеву, Смоленску, Казани, Азову и Архангельскому. Коли Господь даст войну выиграть, тогда разберёмся.
* * *
Екатерина Алексеевна (Марта Скавронская)
Изо всех сил крепилась: не закричать бы, не дай Господь, обеспокоить. Проситься хотела, чтобы из дворца на время родов в деревушку какую отпустили — всем бы легче было. Государыня-царевна плечами пожала: выдумываешь, Катерина. Где такое видано! Да и разговоров поменьше. Своим приказать можно, а так по всему городу разнесётся. Царевне виднее.
Бабка повивальная — немка. Слова лишнего не скажет. Отмалчивается. Иной раз глянет, будто посочувствует. И то сказать, что с дитём делать. Царское, а незаконное. С голоду не умрёт, пока государь жив. А если что — костей не соберёшь.
Плакала ночами, когда государь не приходил. Горько плакала. Хотелось как у всех. С родными. С соседями. С родильным столом. Младенец в кружевах да лентах. Уж как ни бедны семьи были, а на такое торжество хватало. Пастор в дом приходил. С напутственным словом. Полы после родов добела мыли. Двери настежь отворяли, чтобы широкая была младенцу дорога.
Так это в деревне. Лифляндской. И Марты нет — есть Катерина. К имени вроде бы и привыкла, а часом и забудешь откликнуться: Катеринушка. Государь Катей кличет. Сама не своя.
Боялась, не отдали бы младенца. Спросить не решалась. Да и кого спросить? Государыня царевна сама в государевой воле, а государь — почём знать, какой стих найдёт, что удумает.
Бабка сказала, дочь будет. Хорошо ли, плохо ли? Никакой ребёнок здесь не нужен. Ни у одного судьбы никакой нет. Царица Прасковья проговорилась: не было такой стыдобы в царском доме, никогда не было. Прижитой младенец — такого и не придумаешь! Не то что бранила — удивлялась. Да и к чему прижитые младенцы, когда первая супруга государева родителя, царица Марья Ильинична, тринадцать раз рожала. Год за годом младенцев в царский дом приносила. Сначала столы пышные ставили, потом пирогами обходиться стали — чтоб рождение царевича ли, царевны отметить.
Кабы с ней такое случилось, давно бы государю надоела. Он и на последнем месяце нетерпеливился: скоро ли опростаешься, не надоело тебе тяжёлой ходить?
Шутки шутками, а обида горькая: хоть бы пожалел когда. Не было такого. Не было, и всё тут. Катя улыбаться да веселиться должна. Наряжаться, да не тратиться. Денег не давал. Это уж государыня царевна втихомолку совала.
Один раз деревеньку решил отписать, махонькую. На двенадцать дворов. Раздумал. Мол, рваться туда будешь, обо мне забывать. Сама тогда подтвердила: ничего мне, государь, от вашей милости не надобно. Катя вами жива, вами весела, вами всем довольна. Улыбнулся: ты у меня умница, не жадная.
Об отдельном домике тоже не побеспокоился. Чтобы двор у неё свой. Плохо ли? Хоть там сама себе хозяйкой была бы. Царица Прасковья сказала, после Монсихи нипочём верить не станет. Любил её крепко, да вот обманула его. Мол, твоё счастье, Катерина, что вовремя на глаза государю попалась. Теперь пользуйся да себя построже соблюдай. Не любит. Слова добрые говорит, а не любит. Сразу видно. А принцессы её за версту обходят. Не замечают. Только Аннушка, Анна Иоанновна лучше других. Поласковее. Может, потому что у матушки не любимая. Там всех главнее старшая, Катерина.
Никто не обижал, это правда. Да разве в одной обиде дело? Вон Борис Петрович какой обходительный был. Всё по-доброму, всё с улыбкой. Иной раз как дочку приласкает. Не грусти, Марта, ты молодая, красивая, покладистая. Устроим твою судьбу, вот увидишь, устроим. За плечи возьмёт — руки большие, тёплые, в синих жилах все, а ещё сильные.
Устроили! Не успел Александр Данилович глаз положить, тут же от Марты старик отказался. Прощаться не пожелал. Слова последнего не высказал. Была — хорошо, нету — того лучше.
Господи! И чего мысли такие в голову лезут. Неуместные! Государыня царевна после бабкиных слов спросила: а ну коли и вправду дочка будет, как назовёшь, Катеринушка? Да разве мне решать! Как прикажут.
Царевна поглядела и улыбнулась: а знаешь что, Анной назови. Вскинулась тогда вся: как же Анной, когда Монсиха... Царевна головой кивает: как раз потому. Государь к новой Аннушке сердцем прилепится, о старой поминать перестанет. В нашем царском доме это имя особое. Им не шутят. Подумай, Катерина, подумай.
Мне думать! Мне как прикажут. Может, и права царевна. Только если дочка по сердцу государю придётся, а может, и взглянуть не захочет. Вон сынка, наследника, и то не больно жалует, а тут... А коли сын — что бабке стоит ошибиться? С сыном как?
Царевна Наталья про имя для девочки толковала: Анна, мол, особое оно, не простое. У государя Ивана Васильевича Грозного бабка так прозывалась — Глинская Анна, из князей литовских. В Москве, что правда, не больно её жаловали. В колдовстве винили. Будто сердца у живых людей вынимала, кровью город кропила, оттого и пожары по Москве шли страшные. Страшнее быть не могло — за два часа все улицы выгорали.
А сам государь Грозный дочку хотел — непременно царевну Аннушку. Вторая супруга ему восьмерых дочек будто родила, всех Аннами нарекали, ни одна до году не дожила. Так все в рядок под собором в Александровой слободе и легли. Жил там государь Грозный не один год...
Потом будто, когда супруга тяжёлая ходила, в завещании неродившуюся дочку имением наделил. Так и написал, царевне Анне, когда родится. Принцессе Наталье лучше знать, как оно было. Только зачем государю тот давнишний-то? Зачем ему? Вот если Монсиха, другое дело. Сказывали, государь её из-под ареста домашнего освободил. Разрешил на люди в кирхе показываться, а чтобы в гости ни-ни. До церкви и обратно. Один брат её провожает. Ещё в лета не вошёл, а красавчик сестре под стать. Вилим Монс.
Что, если государь ей милость вернёт? Что тогда? Одно счастье — прусский посланник словно на посту около Монсихи стоит. В кирхе каждый раз подходит. Слова любезные говорит. Все заметили. Варвара Михайловна рассказывала. Следит. Следит неотступно. Не хочет Александр Данилович, чтобы Монсиха снова в силу вошла, ой не хочет. Он её запутал, не иначе. Уж так ловок, так ловок.
Опять боли подступили. Повитуха руку даёт, чтоб держаться за неё. То же твердит: терпеть надо, фрейлен. Теперь уж что — теперь только терпеть. Поторопиться надо. Вы, фрейлен, сильная, молодая, в двадцать четыре года только и рожать. Государь велел, чтоб к его возвращению всё кончить. Покои убрать. Постарайтесь, фрейлен.
Царевна Наталья Алексеевна заглянула. Своими мыслями занята. Слова ласковые, а глаза тёмные, неулыбчивые.
— Каково справляешься, Катя?
Надо справиться. Мысли-то у царевны далеко. Что ни день в Воробьёво ездит. Художник там Москву изображает. Сказывали, красота неописуемая.
Может, и так. Только у царевны своя забота — догадаться нетрудно. Ждала художника. Сколько лет ждала. А вот, поди ж ты, не складывается всё по её желанию. Сама хотела государю напомнить, может, оставит голландца при дворе. Отмахнулся: у нас теперь свои художники есть. Вон один Иван Никитин чего стоит. Надобно, чтоб твой портрет списал. Второй раз с тем же делом не подступишься. Не то и вовсе беды наделаешь.
В семье у них, видно, так — художники в чести. Старая царевна Татьяна Михайловна, государю тётка родная. Горой за патриарха опального встала. С братом не посчиталась. По благословению патриаршьему живописному делу училась. Такой портрет самого патриарха с клиром написала, что лучше и не сделать. Некрасивые все. Обрюзгшие. Бороды растрёпанные. Глаза заплыли. А как живые. Для царевны, видно, никого другого и не надо.
Патриарха, Никоном его звали, от двора отрешили, в монастырь сослали. А она за ним. В монастыре себе покои особые выстроила. После его кончины почти всё время там проводит. Вспоминает.
Не любит она государя. Сердцем чую, не любит. Государь к ней со всем почтением — первенца ведь его, царевича Алексея Петровича, крестила. А она лишь бы государя лишний раз не встретить.
Сестрицу государеву Марфу, что теперь в монастыре заточена, больше всех из своих крестников любит. Простить её муку государю не может. Гордая, а просила его о милости. Наотрез отказал. Царевна и отошла от него сердцем. Даже словом перекинуться, видно, трудно.
Тоже хотела государя просить: нешто можно старую женщину в монастырской тюрьме держать. Можно сослать куда подальше. Так глянул — обомлела вся: не твоё дело. Раз и навсегда запомни: не твоё!
* * *
Пётр I, Екатерина Алексеевна
— Ну, ты и молодец. Катя! Настоящий солдат!
— Почему солдат, мой государь? Вы хотите напомнить о моём неудачном браке? Но я даже не знаю, жив ли Иоганн Крузе, и, наверно, не узнала бы его, если встретила. Столько лет, столько перемен!
— О драгуне можешь забыть. Погиб. Ещё под Мариенбургом погиб. Знаем наверняка. Нечего и поминать. Я о другом, Катя. Велено было тебе до моего приезда родить, ты и родила. Приказ есть приказ.
— О, ваше величество, фрейлен Катрин, очень старалась. Фрейлен так хотелось вас порадовать счастливым исходом.
— Вижу. Всё вижу. Ценю. Дай-ка расцелую, Катя.
— Я огорчила вас, мой государь.
— Огорчила? Это чем же?
— Девочка. Вы вряд ли хотели девочку.
— По правде, никого не хотел. Одна ты мне, Катя, нужна. А коли дочка родилась, то пусть будет дочка.
— Сынкам моим Бог веку не дал. Дочке тоже... Хворает Катрин...
— Не судьба, значит. У нас говорят, Бог дал, Бог и взял. А эту непременно тебе в утешение оставит. Красавицу вырастишь, умницу.
— Мне бы так хотелось, чтобы вы её полюбили, мой государь.
— А уж это какую вырастишь, Катя. Ты мастерица мне угождать, вот и постарайся, слышишь?
— Я так мало могу, мой государь.
— Зато я могу всё. Как дочку-то назовёшь?
— Ваша воля, государь.
— А у тебя-то никаких желаний?
— Есть одно. Но, может быть, это глупость и вам не понравится.
— И что же?
— Анной... Аньхен, мой государь.
— Вот как. Аньхен... Что же, пусть Аньхен. Где она? Покажите-ка мне её.
* * *
Вдовая царица Прасковья Фёдоровна,
царевна Екатерина Алексеевна
В Измайловском дворце шёпоты. От поварен и людских до царицыных покоев. Вслух кто бы решился, а так — будто ветер шелестит. Родила. Опять родила немка государева. Нет на бабу угомону. Что ни год по младенцу в подоле тащит. Добро бы мужняя жена. Законная. Перед святым алтарём венчанная. А так — приблудная девка.
В Лефортову слободу Меншиков привёз в 1704-м году тяжёлую. Еле царевне Наталье Алексеевне доставил, по дороге не растерял. В дороге порастрясло — чуть не на следующий день родила. Петром окрестили. Мальчика-то.
Недолго пожил. Через год прибрался. А немка в сентябре 1705-го нового притащила. Павлом нарекли. Не то чтобы государь радовался, а доволен был. Все заметили.
В 1706-м, в декабре, дочка Катерина на свет появилась. Эта полтора годика, поди, дотягивает. Тут ей и сестричку принесли. Анной назвали. Вдовой царице Прасковье Фёдоровне так объяснили, будто хочет немка своих дочек в честь её царевен назвать. Появилась Катерина, за Катериной Анна. Одна Прасковья осталась. Да у немки не задолжится. Оглянуться не успеешь — новый младенчик орёт.
Сама не кормит — все знают. Кормилиц берёт, будто боярыня какая. Себя не утрудит. Хотя и обходительная, правда сказать. Никого злым словом не обидит. Сплетен не плетёт. Всё норовит каждому улыбнуться. Поговорить-то не всякий с ней и станет, а на поклон как не ответить. Да и государя лучше не гневать. В чести у него немка. Слов нет, в чести.
В покоях царских царевна Екатерина Иоанновна к вдовой государыне прибежала. Запыхалась. Личико, что твой маков цвет.
— Государыня матушка, слыхала, честь-то немке какая!
— Катеринушка, в который раз остерегать тебя надобно: о немке ни полслова. Не приведи, не дай Господи, до государя Петра Алексеевича дойдёт. Что те за труд по имени-отчеству величать?
— Немку-то? Да ты что, государыня матушка! Я-то царевна рождённая, а она, она — как только тётка Наталья такую покрывать может!
— Сказала, перестань! Гневу моего дождаться хочешь? Дождёшься, как Бог свят, дождёшься. Сколько раз говорено: во всём мы от государя зависимые, от милости его, от щедрот несказанных.
— Несказанных! Откуда, государыня матушка, такие слова у вас берутся! Это наши-то два задрипанных учителишки — за них, что ли, благодарить до скончания века надобно? Или за дворец — от избы не отличишь? Или за женихов — который год государь их для нас ищет, сыскать не может? За что?!
— Что на тебя, Катерина, нашло? Грибов поганых объелась? Где только зимним временем сыскала.
— Нашло, государыня матушка? А то, что восприемниками от купели новорождённой-то этой Аннушки, знаете ли, кто будет?
— Ну, уж это кто государю под руку подвернётся.
— Ну, уж и подвернётся. Государыня царевна Наталья Алексеевна да сам объявленный наследник — царевич Алексей Петрович. Видали ли честь такую для выпорков, хоть и царских?
— Точно ли, Катеринушка?
— Точнее некуда. Девицы Арсеньевы на всю Москву раззвонили, чтобы народ служивый, выходит, с подарками да поздравлениями спешил.
— Выходит, и нам, царевна, поспешать придётся.
— К немке? Быть того не может.
— В семнадцатый год вошла ты, Катерина Иоанновна, а ни на волос не поумнела. Коли такая воля государя, расстараться надо.
— Матушка!
— Что — матушка? Ты то в толк возьми, мог Пётр Алексеевич нас куда хошь на неисходное житьё сослать. Так ведь не сослал. Сама знаешь, нет такого посланника, чтобы матери твоей чести не отдал, подарков не передал.
— А ты, матушка, те подарки Петру Алексеевичу.
— Верно. Так и что из того? И нам с тобой немало перепадает.
— Без его ведома.
— А при дворе царском всегда так — изворачиваться надобно. Сейчас пойдём подарки Катерине Алексеевне по причине благополучного разрешения от бремени Анной Петровной готовить. Угодить бы только!
* * *
Царевна Екатерина Алексеевна, царица Прасковья Фёдоровна
Варварушка Арсеньева и тут первая: не смотри, что росточком мала, спина колесом — всё в землю смотрит. Добежала до роженицы Катерины Трубачёвой — подарки свои да сестрины уж раньше снесла — с вестью: вдовая царица Прасковья идёт. С поздравлением.
Катерина разволновалась, раскраснелась вся. Не было ещё такого. Может, и впрямь лучше дела её пойдут. Царица Прасковья приветливая, да куда какая расчётливая. Шагу без прикидки не ступит.
— Катерина Алексеевна!
— Что уж вы так меня величаете, моя государыня. От вас мне и имя одно в честь.
— Полно, полно, Катя. Сама знаешь, я к тебе всем сердцем.
— Как благодарить мне вас, моя государыня?
— Это нам тебя благодарить надобно, что порадовала нашего государя Петра Алексеевича дитём. Дитё — всегда радость в доме.
— Да ведь девочка, моя государыня.
— А у меня что? Одни девки и есть. Они мне всю судьбу перекорёжили. Кабы царевич был...
— Но ведь у вас был, моя государыня. Мне говорили.
— Был, Катя, первенец мой. Супруг мой захотел, чтобы в честь прадеда его по матушке, царице Марье Ильишне, назвали. Очень почитал Илью Даниловича Милославского. А может, и сестрицы царевны подсказали — пророк Илья на колеснице огненной.
— Хворал, моя государыня?
— Почём мне знать, Катеринушка? Я в горячке родильной маялась. А он-то, голубь мой, всего десять дён прожил и долго жить приказал. Бабка-ведунья мне потом толковала: не надо бы имени такого давать.
— Имени, моя государыня?
— Ну, да, имени. Не показали мне его. Не показали.
— Как вам было больно, моя государыня.
— Ещё больнее, Катя стало, когда вторую дочку — царевну Марью Иоанновну родила. О Илье толковали, не доносила я его. Кто знает. А Марьюшка моя такая раскрасавица родилась. Повитухи только руками развели. Крестить её всё равно заторопились. Честь-то, честь какая, Катеринушка. Восприемниками сам патриарх кир Иоаким и государыня царевна Татьяна Михайловна быть вызвались. В Чудовом монастыре крестили. Да ты ещё толком нашего здешнего уклада не знаешь — что для нас Чудов монастырь.
— Мне говорили, моя государыня, что это великая святыня.
— Вот-вот, великая. Три годика я на звёздочку мою радовалась. Уж такая, веришь, весёлая, такая утешная. Всё к отцу государю Иоанну Алексеевичу тянулася. И он ей одной улыбался. На руки не брал, упаси Господи, а улыбался, светло так, радошно.
— Моя государыня, вы раните своё сердце.
— Как не ранить. Вот царевна государыня Татьяна Михайловна, как не стало Марьюшки, персону её во успении написать потщилась. Писала и плакала, девки говорили. Так плакала. Царевну Федосью Иоанновну я к тому времени родила. Годок ей уж был. И за сестрицей ушла. Сороковины отплакали, и ушла Федосья Иоанновна. Её-то архимандрит Чудова монастыря крестил и снова государыня царевна Татьяна Михайловна.
— Какое несчастье, моя государыня.
— Спасибо, Господь мне Катерину Иоанновну послал. То же ещё Марья Иоанновна жива была. Господи, никак я со счёту сбилася, кого когда рожала, когда хоронила. Помню только, на Епифания да Германа в мае Феодосию Иоанновну схоронили, а Катериной Иоанновной я в тот же год в октябре на Анастасию Овечницу разрешилась. Роды лёгкие были, что твой праздник. Вот и у тебя всё как славно обошлось. И день хороший для Аннушки ты выбрала.
— Вы полагаете хороший, моя государыня?
— А как же — на перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Ведь часть головы святителя покоится у нас, в Успенском соборе. Помяни моё слово, Катя, умница она у тебя будет редкая.
— О, была бы хоть немножко счастливая, моя государыня. Большего я для неё у Бога просить не могу. Счастливая бы.
— Ты нашей веры. Катя, вот доброго совета и послушай. Надобно новорождённой нашей молитву Иоанну Златоустому записать да с собой носить, как подрастёт. Молитву ту в Успенском соборе освятить, чтобы крепка была. Я уж позаботилась, вот она.
— О, моя государыня, вы так добры!
— О младенце как не позаботиться. Да и для тебя сделать всегда сделаю. Ты чуть что, ко мне обращайся, Катя.
— Как можно, моя государыня!
— А так и можно. Все мы о государе нашем, дай ему Господь долгие лета и всяческого процветания, печёмся. Его ведь Аннушка кровиночка, что ни толкуй.
— Моя государыня, вы принесли мне весну!
— Весна в свой черёд придёт — так уж Господом Богом положено. А молитву-то сберегательную я тебе сейчас прочту. Коли запомнишь, да творить её почаще будешь, дочке лучше будет. «Уст твоих, яко же светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища списка, высоту нам смиренномудрия показа, на твои словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.
Возвеселися таинственно честная церковь, возвращением честных твоих мощей, и сия сокрывши яко злато многоценное, поющим тя неоскудно подавает молитвами твоими исцелений благодать, Иоанне Златоусте». Крещению-то когда быть назначено?
— Не знаю, моя государыня. Как прикажут.
— А родителев крёстных уже знаешь? Правда, что ли, что государыня царевна Наталья Алексеевна?
— И царевич наследник Алексей Петрович, моя государыня. Так сказал государь.
— Вишь, какая дочка-то у тебя счастливая. Кто бы не позавидовал.
* * *
Пётр I, Екатерина Алексеевна
— О, мой государь, вы сделали меня такой счастливой!
— Я тебя, Катеринушка? Да чем же? Я ничего тебе давненько не даривал.
— И не надо, мой государь.
— Как не надо? А чем же тебе ещё развлечься?
— Мне не надо ничем развлекаться, лишь бы вы были недалеко, мой государь. Лишь бы я могла ваше величество не слишком редко видеть. Вы заняты государством — я это понимаю. Но когда вы здесь, так трудно ждать вас, пока кончатся придворные празднества.
— Тебе бы хотелось бывать на них, правда?
— О, как я смею о таком думать. Каждый должен знать своё место в жизни, тогда будет порядок, и жизнь станет спокойней.
— Так тебя учили с детства?
— Так говорила моя матушка. Она была очень хорошая женщина, и её все соседи уважали. Не её вина, что мой батюшка так рано скончался и оставил её без средств к существованию.
— Не сомневаюсь, Катеринушка. Но времени-то у меня не больно много. Раскрой секрет, поведай, чем это я тебя сегодня осчастливил.
— Вы никогда не догадаетесь, мой государь: вы пожелали посмотреть на Аньхен. Первый раз после её рождения! И она, кажется, понравилась вам.
— А знаешь ли, почему?
— Как я могу знать, мой государь, но я вся внимание.
— Я сам удивился. Я вдруг понял, что вместе с её рождением произошёл перелом в нашей войне. Может, это так совпало, а может, Аньхен оказалась нашим талисманом.
— Правда? Правда, мой государь? Но если вы даже просто подумали так, это замечательно.
— Я не больно люблю младенцев.
— Но вы же государь и солдат.
— Верно. Но Аньхен так заулыбалась мне.
— Так потянулась к вам, мой государь. Она сердцем поняла, кто вы.
— Не знаю. Но смотреть на неё было приятно.
— О, как я надеюсь, что дальше вы будете ещё получать больше удовольствия. Аньхен непременно похорошеет — так говорят все и сама государыня царевна Наталия.
— А кто, кроме сестры, заглядывал к тебе, Катерина, из нашей семьи? Царица Прасковья Фёдоровна? Царевны Иоанновны?
— О, мой государь, это была бы слишком большая честь для Аньхен.
— Значит, не удосужились.
— Но, мой государь, её высочество царевна Екатерина Алексеевна два раза присылала подарки Аньхен.
— Она — крёстная мать. Это другое. А сама заходила?
— Но разве это имеет такое значение, мой государь? Если бы знали, сколько подарков Аньхен получает от фрейлен Варвары и фрейлен Дарьи. И с ней приходит даже играть фрейлен Анисья, сестра самого господина Меншикова. Они так добры.
— Они добры? А какими же ещё они могли бы быть!
— Мой государь, вы так строги к людям, так многого от них требуете. Но это, наверное, обязанность монарха. Вы не можете иначе.
— Тебе бы хотелось всех оправдать, добрая твоя душа.
— Но я живу среди них каждый день, государь, и как я могу не благодарить их за их снисходительность и внимание. Перед ними я их не заслужила. И вот теперь с Катериной Петровной...
— Да, жаль, что Господь не дал первой моей дочке веку.
— Господь дал знак с самого её рождения, мой государь. Она была так слаба и так часто болела, что я старалась не напоминать вам о ней. Предсказание повивальной бабки сбылось: она прожила всего полтора года.
— Не обижайся, Катя, что не был на похоронах. Дел много.
— Я всё понимаю, мой государь. И потом обречённое дитя.
— Вот видишь, а у самой глаза в слезах. Не смей, слышишь! Не люблю бабьих причитаний.
— Нет, нет, мой государь. Вам просто показалось.
— А Аньхен береги, крепко береги.
— Мой государь, а я хотела обратиться к вам, если вы разрешите, с просьбой и очень боюсь, что вы в ней мне откажете.
— Напротив, я её непременно исполню — вместо подарка. Говори, говори!
— Государь, вы опять отправляетесь в поход и будете жить в лагере вместе с солдатами?
— А как же иначе?
— Позвольте мне стать вашей маркитанткой.
— Ты собираешься вести лагерную жизнь?! Полно, Катя.
— О, подождите мне отказывать, мой государь. Я буду проводить целые дни безвыходно в вашей или любой вами назначенной палатке. Я буду заботиться о вашем белье, постели, еде. И — мне не будет так страшно за вас, мой государь. Я умоляю вас!
— Нет! А впрочем... Ладно подумаю.
* * *
Пётр I, А. Д. Меншиков
— И всё-таки это всего лишь мальчишка, которому случайный успех ударил в голову. Не больше того.
— Государь, даже страшась твоего гнева, не могу с тобой согласиться. Всё верно, Карл на десять лет моложе тебя, и он пришёл к власти, когда ты находился в Великом посольстве, но...
— Какие ещё «но»? Всем известна его беспечность, любовь к забавам и придворным развлечениям. Он не может быть настоящим полководцем.
— И снова, государь, я только частично соглашусь с тобой. Ты прав, у Карла не хватило ума понять, сколь опасен для него наш секретный договор с Данией и Полыней о внезапном нападении на его государство с трёх сторон. Но он мог о нём и не знать. И если бы условия договора осуществились, шведский король неминуемо пошёл бы на большие уступки земель.
— Вот-вот, война началась, и первый же его приказ взять Ригу ни к чему не привёл.
— Ты, государь, забыл, что польский король приказал одному саксонскому отряду вторгнуться в Ливонию и захватить Ригу, а шведский губернатор Эрик Дальберг все королевские планы порушил.
— Любую крепость можно с ходу и не взять. Тут обстоятельства складываются по-разному.
— То, что Августу захватить Ригу не удалось, можно любыми обстоятельствами объяснять. А вот то, что как раз после Риги Карл всякие забавы забросил и за дело всерьёз взялся, с этим, государь, не поспоришь.
— Удача к нему повернулась.
— Скажем, удача. Как это он одним ударом Данию-то от нас отделил и Фридриха Датского к миру с ним склонил в Травендале? Он, доносчики говорят, и с Польшей так полагал разделаться — только тут ему наше вторжение в Ингерманландию карты маленько спутало.
— Что ж, в быстроте решений Карлусу не откажешь.
— И в точности, государь, тоже. Вспоминать не хочется, только для дела непременно нужно.
— Не красные девки, можем и полынной настоечки хлебнуть. Быстро это Карлус в Пернове высадился и к Нарве подошёл. И себя в бою отменно показал.
— Да уж куда лучше, коли дважды под ним лошади убиты были.
— Сам знаю, и об отваге его солдатской слова плохого никому сказать не позволю.
— А ведь мог бы, тогда же мог войну миром окончить. Англия с Голландией посредниками быть вызывались. Наотрез отказался.
— Иной расчёт имел. Ведь те державы хотели его на свою сторону склонить в разделе испанского наследства поучаствовать, а ему оно ни к чему было. Вот и отказался.
— Еле начала 1702 года дождался — на Польшу накинулся. Куда тебе — и Варшаву, и Краков одним махом взял.
— Ну, уж тут не военные его заслуги. Исхитрился с конфедератами в дружбу войти. Уговорил их короля Августа низложить, а Станислава Лещинского, себе удобного да угодного, избрать.
— Себе, может быть. А поляки с новым королём никак в комитиву войти не могли. Зря, что ли, Карлус столько времени в Польше провёл — всё ставленника своего поддерживал, польские страсти унимал. С поляками ведь ухо востро всегда держать надобно.
— Так ведь в 1705-м мир с поляками заключил.
Торговались с ним, торговались, а напоследок сдались. И выторговал он у них немало.
— Ты то, государь, в расчёт возьми, что свободу вероисповедания он у конфедератов выторговал. У них же и о помощи против России договорился. А Август-то в своей Саксонии и править, и воевать с ним продолжал. И это, по-твоему, успех, Пётр Алексеевич?
— Успех, да ещё какой. Карлус и в Саксонии успешно воевал. Заставил Августа от польского престола отречься, да, кстати, и от союза с нами. Альтранштедтский мир — долго он нам помниться будет.
— И ещё год в Саксонии провёл. Любит успехи свои закреплять да подкреплять. Осмотрительный какой стал.
— А что — не закрепил, что ли? С римским императором договор заключил, чтобы имела Швеция в его владениях и делах особые преимущества. И стала Швеция ни много ни мало членом имперского союза. Вот в какие герои наш Карлус-то вышел.
— А всё сестрица его ненаглядная, Гедвига София. Она его всю жизнь на ратные подвиги подзуживает.
— Полно тебе, не столько она, сколько супруг её Фридрих Гольштейн-Готторпский. Ему только бы чужими руками воевать да с чужой славы сливки снимать.
— А как перед Карлусом европейские державы стелиться стали! Тут тебе и Франция дружбы искать стала, и Англия не у дел остаться побоялась.
— Вот и говорю, тут ему слава в голову ударила: Саксонию бросил, решил походом на нас идти.
— Да, пришлось нам отступать. Благо он, Неман перейдя, решил у Вильны войскам роздых дать.
— И что ему, казалось, ещё нужно. Предложил я ему мир. Почётный. Ведь из-за одного Петербурга раздор вышел. Не захотел его мне уступить. Один Петербург.
— Вот теперь рассчитать надобно, какой путь в наши края выберет: то ли на Москву двинется...
— А куда же ещё. К обороне столицы старой готовиться надобно. Бастионы дополнительные возводить. И к осаде, и к штурму готовыми быть. Тут и наследнику дело найдётся. Пусть себя выкажет. Коли есть что выказывать.
* * *
Пётр I
Кто бы не разобрался: нужна была шведскому королю Москва. Только Москва. Планы свои составил. В успехе не сомневался. Если бы не пожары. Такого ему видеть не доводилось: перед ним горела земля. Армия сжигала всё, что могло пригодиться чужой армии. Горел хлеб. Горел провиант. Когда приходилось, то и деревни. Идти по пустыне в преддверии зимы? Король сам знал, что такое морозы, снежные заносы, бездорожье. Решил ждать.
Борис Петрович усмехнулся: с удобствами не воюют. На войне на удобства не рассчитывают. Ишь, какой победитель выискался. Король и на самом деле повернул на юго-восток. Украина показалась куда доступнее и приветливей. Тут тебе и союзник Мазепа, и запорожские казаки, готовые насолить московскому царю.
Казалось, лучших союзников поискать. Это они свои земли знали. Уверили — лучший путь на Полтаву. Укрепления в городе небольшие. Армии всего-то четыре тысячи с небольшим солдат. Из обывателей под ружьё встать могли от силы тысячи две. Неужто препятствие для королевской армии?
Зато склады в городе большие, да и денег немало хранится. Верил и не верил. Колебался. Но передышка была нужна. Пока турки согласятся с Россией войну начать или хотя бы польский король, всем шведам обязанный, Станислав помощь подошлёт. Всё медлили, всё не торопились. Ждали, чья чаша на весах времени перетянет. Одно дело — дворцы Европы, подписание соглашений, другое — бескрайние украинские степи.
Отряд генерала Шпара получил приказ начать осадные работы у Полтавы, и снова одни проволочки. Работы пришлось запорожцам поручить, а те отродясь не торопились. Только и у гарнизона полтавского провиант и амуниция должны были в конце концов истощиться. Может, промедление Шпару и на руку выходило.
Не вышло! За Меншиковым мало кто угнаться мог. Как вести дошли о затруднениях гарнизона, по левому берегу реки Ворсклы к городу направился. Одного не рассчитал Алексашка — болота! Болота при впадении в Ворсклу ручейка неприметного Коломака.
Так в них завязли, что до города всего девятьсот человек переправить удалось — гарнизон пополнить. Тут уж бригадир Головин исхитрился — его заслуга.
Борис Петрович плечами пожимал: с одного наскоку такие дела не делаются. Людей положить — не велика заслуга. Не любил Александра Даниловича. Так и считал: выслужиться ему надобно изо всех сил — не служить верой и правдой. На то ни ума, ни благоразумия нету. Только на государевой снисходительности и держится.
Шпар 30 апреля к Полтаве подошёл, 26 мая к Меншикову на выручку шереметевские части подоспели. Вся армия русская на левом берегу Ворсклы в четырёх-пяти вёрстах от города, близ деревни Крутой берег расположилась.
Запорожцы перед шведским королём завинились — не больно прытко на осадных работах трудились. Да и гарнизон наш своё дело делал. От его вылазок сколько раз многое заново начинать приходилось.
Положим, штурмы шведские что 25 мая, что 1 июня не удались. Четвёртого июня государь к войскам подоспел, сам увидел: во всём полтавский гарнизон нужду терпел лютую. Хочешь не хочешь надо город освобождать. Вот только как?
О битве и думать не хотелось. Попервоначалу решили перебраться на правый берег Ворсклы. В одном месте стали переправу готовить, в другом — для отвлечения шведов — отряды генералов Ренне и Аларта с ходу переправили, чтобы стали окапываться. У деревни Петровки. До Полтавы всего восемь-десять вёрст.
Попался на приманку Каролус — отправился эти позиции осматривать. Тут его в ногу и ранило — дальше на носилках носили. Но от осадных работ шведский король и не подумал отказываться. Шведы от нападений казаков да небольших русских отрядов, как от назойливых мух, отмахивались. Толку никакого.
Только и ещё один просчёт определился — с главной переправой. В таких топях болотных у слияния Коломака с Ворсклой завязли, что и не выбраться. Оставалось иное место для переправы искать, казакам не верить — на своих полагаться. А сражение всё равно шведам давать — больше полтавский гарнизон выдержать не мог.
Каждую деревеньку государь изучил. Каждую пядь земли на всю жизнь, кажется, запомнил. Дотошно воевали, иного слова не подберёшь. Дотошно. День за днём. Но тут сложилось всё куда как удачно. У шведов во всём недостаток. В строю не более тридцати тысяч. У наших снабжение полное, да под ружьём пятьдесят тысяч.
Ворсклу перешли, где Ренне и Аларт переходили. В лагере укреплённом расположились у той же деревни Петровки. Передохнули — ещё версты на три к Полтаве продвинулись и снова окопались.
Каролус заволновался. Узнал, что государь русский ещё и новых подкреплений ждёт. Снова своих на штурм Полтавы кинул. Уж на что люди измотались, изголодались — устояли! День целый отбивались. Одного уразуметь не могли, почему русская армия вдали держалась. Три версты — не бросок: могли на помощь прийти. Не пришли.
Зато шведский король ещё раз просчитался. В окопах около Полтавы оставил самую небольшую часть войск. А все остальные с севера Полтавы в два часа ночи 27 июня двинул против русских. Всего солдат тысяч двадцать пять при четырёх орудиях. Конница вроде бы и прорвалась, да сильным огнём русских была смята. К утру освободили Полтаву, а в девять утра государь двинул вперёд всю армию.
Схватились по всему фронту жарко, да коротко. В одиннадцать утра от шведской армии и помину не осталось: толпой бежали напролом, неизвестно куда, неизвестно зачем. И то сказать, оба монарха себя щадить не стали. Под Каролусом носилки ядром вдребезги разбило. Все драбанты вокруг короля были перебиты. Государю три пули досталось: одна шляпу пробила, другая в крест на груди попала, третью в арчаке седла нашли.
Потери — без них на войне не обходится. Наших полегло четыре с половиной тысячи, шведов в три раза больше — если с пленными считать.
А шведов гнали до деревни Переволочны. Тут уж конец их военной славе окончательно положили. Одолели!
* * *
Екатерина Алексеевна, В. М. Арсеньева
Время бы в Воробьёве пожить, да как государыне царевне сказать. Сама туда частенько ездит. Одна любит оставаться, а нахлебниц своих и не думает с места подымать. И то сказать, тут тебе и девицы Арсеньевы который год неотлучно при Наталье Алексеевне. Тут тебе и сестра меншиковская. О себе Катерина и не поминает. Умеет быть тише воды, ниже травы.
Ей бы хоть в Красное село из Преображенского выбраться. Нравится там — на Литву похоже. Дома весёлые. С крыльцами затейливыми. Ворота везде отбором стоят — народ друг к другу в гости ездит. Прислуга да челядь целыми днями туда-сюда снуют. Разносчики со всяким товаром мелькают...
— По воскресеньям и вовсе гулянье целое — из Москвы приезжают семьями. Пруд огромный — что твоё озеро. Деревья кругом раскидистые. Шалаши с товарами раскинуты. Музыканты бродячие. Потешники. На праздники балаганы просторные.
У государыни царевны свой двор. У господина Меншикова тоже. Говорят, государь Пётр Алексеевич эти места смолоду жаловал. Под парусом на лодках хаживал. Так то детская потеха. Теперь не то.
— Никак посмурнела, Катеринушка? Обидел кто?
— О, нет, фрейлен Барбара, вовсе нет. Просто подумалось, как там наш государь, как господин Меншиков. Война ведь там.
— Верно, что война, да дело это такое мужское. Что себя крушитъ без толку. Будет минутка свободная, может, весточку о себе подадут. Ты-то писала ли государю?
— Как можно, фрейлен Барбара! Кто я такая, чтобы обращаться к самому государю. Я так признательна государыне царевне, что разрешает дописать несколько слов в своих письмах государю. Её высочество так снисходительна.
— А всё равно, Катеринушка, напоминать о себе надобно. Знаешь, как оно в походной-то жизни — мало ли что подвернётся, какие обстоятельства случатся. Пусть вспоминает — это тебе на пользу.
— Вы, конечно, правы, фрейлен Барбара, только я не могу преодолеть робость. Да и кому я могу передать письмо, кроме её высочества?
— Да мы сегодня с Дарьюшкой грамотку Александру Даниловичу будем сочинять. Вот носки да галстухи ему у торговцев в Лефортовой слободе самые добрые сыскали — тоже пошлём. Не хочешь ли и своё письмецо присочинить?
— С превеликим удовольствием, фрейлен Барбара. Я так вам признательна. Вы так заботитесь обо мне. Я этого ничем не заслужила.
— Заслужила, заслужила, нравом своим добрым заслужила, Катеринушка. Послушай, а чтой-то круги у тебя под глазами залегли? Не тяжёлая ты часом?
— Мне стыдно признаться...
— Какой стыд. Радость эта. Глядишь, к возвращению государя сынка ему здоровенького подаришь.
— Зачем он ему, фрейлен Барбара? Если бы даже родился сын...
— Опять твердить примешься, что бастард. А я тебе, Катеринушка, так скажу, никто судьбы своей не знает. Наследник наследником, а ведь не любит его государь. Не сложилось у него с царевичем, как есть не сложилось.
— Но почему? Царевич никогда государю не перечит. Разве не так? Всегда всё делает, как прикажет отец.
— Э, Катеринушка, не о том говоришь. Одно дело делать. Другое — что на сердце иметь. Уж как хотелось государю его на свой лад переделать, ан не вышло.
— Но царевич ещё так молод.
— Молод! Для царственных особ возрасту иной счёт, чем нам, грешным. Вон батюшка нашего государя, царь Алексей Михайлович, шестнадцати лет на царствование вступил. А его родитель Михаил Фёдорович того раньше. А для нашего государя у времени и вовсе приспешённый счёт. В прошлом году война со шведом в самом разгаре, а наследник царевич, всё за книжками с учителями сидит, наук самых что ни на есть простых — государь Александру Даниловичу жаловался — одолеть не может. Да ведь что зубрит! Четыре части цифири, склонения и падежи, географию читает да историю.
— О, я ничего не знаю из этих наук. Ну, может быть, цифирь, ещё читать и писать, но это по-немецки. Русскому я никогда не научусь — он такой трудный! Но география, история! Принц должен быть очень учёный, если ему и этого мало.
— Вот и говори с тобой потом! Тебе-то зачем все эти науки знать, а ему государством управлять — тут уж спроста ничего не сделаешь.
— Но фрейлен Барбара, государь недоволен занятиями принца, а сам ищет ему невесту. Значит, хочет его женить, не правда ли?
— И государь с тобой об этом не толковал?
— Никогда! О, никогда! Это же семейные царские дела — какое я могу иметь к ним отношение.
— Вот как! Это ещё два года назад барон Гюйсен сыскал царевичу подходящую невесту. Государю понравилась. Значит, так тому и быть.
— Я слышала, это очень знатная принцесса.
— Ещё бы — Шарлотта Вольфенбютельская. Дочь герцога Людвига — сразу и не выговоришь — Брауншвейг-Вольфенбютельского.
— И скоро должна быть их свадьба?
— Как тут сказать? Вот государь отправляет царевича в Дрезден языкам подучиться, в военных и политических делах поднатореть. А там, поди, и до свидания с невестой дело дойдёт. Может, и до обручения.
— Какая же разница, кого мне Господь приведёт родить в канун Нового года?
* * *
Пётр I, Ф. Ю. Ромодановский
— На своём стоишь, Фёдор Юрьевич.
— Стою и стоять буду, государь. Не может быть держава без объявленного наследника. А уж коли наследник объявлен, то не враждовать с ним следует — учить да заботиться.
— Мне с Алёшкой враждовать? Ты часом умом не тронулся, Князь-Кесарь? Не много ли юнцу чести?
— Твоя же кровь, государь. Твой первенец. Недоволен ты им — твоё родительское право. Но и то в расчёт возьми, много ли ты о нём заботился. Отрешил от себя Евдокию Фёдоровну — снова твоё дело. Только к чему царевичу за мать всю жизнь платиться?
— Толку от него, сам видишь, нет и не будет, помяни моё слово.
— А как бы тому толку быть? Прости меня на правдивом слове, не досмотрела за ним царевна Наталья Алексеевна. Да и то сказать, не её это девичье дело.
— Хотел же я его сразу после Великого посольства в Дрезден учиться отослать, может, дело бы и было.
— Так чего ж не отослал? От одного, что генерал Карлович долго жить приказал, а ты его царевичу в наставники выбрал? Неужели другого бы не сыскалось, была б только на то твоя государева воля. Гюйсену поверил! Да такого льстеца и пройдохи свет не видывал. Тебе-то он угождать умел, а царевичу от него какой толк?
— Как-никак невесту Алёшке сыскал.
— Невесту! Да нешто таких принцесс в Европе искать надобно. Навалом их в каждом герцогстве. Не иначе взятку с герцога-родителя получил.
— Да уймись ты, Фёдор Юрьевич. Партия, как ни посмотри, отличная.
— Это для наследника российской державы да ещё после победы нашей под Полтавой? Окстись, Пётр Алексеевич! Одно дело годом раньше, другое — нынче.
— В самый раз Алёшке.
— В самый раз! Эко слово какое сказал. Нешто не исправился царевич за последние-то годы? Нешто ты сам не был им доволен, когда он тебе прошлым годом статьи об укреплении московской фортеции представил? Ведь обо всём для обороны московской позаботился: и как гарнизон исправить, и как несколько пехотных полков составить, и как сыскать да обучать начать недорослей. Неправда, что ли?
— Ну, это-то...
— Что это-то, государь? А нешто не царевич Алексей Петрович набирал полки при Смоленске? Не он отсылал в Петербург шведских полоняников? Извещал тебя о военных действиях против донских казаков да их разбойника-атамана Булавина?
— Невелико дело. Старался, видно.
— Да что ж ты такой, Пётр Алексеевич, к правде отпорный! В этом году царевич Алексей Петрович приводил тебе полки в Сумы, магазины в Вязьме осматривал.
— О другом забываешь, Князь-Кесарь, что Алёшкина «собор да компания» о царе Петре говорила. Не скрываясь, на всех углах толковала. Они-то Алёшкины слова повторяли, что желает он скорейшей отцу смерти. Это как?
— Смерти желает, а изо всех сил на пользу отца трудится? Ты, государь, все соборы да компании не переслушаешь. Обнесут и обоврут кого хочешь, и концов не сыщешь.
— Велишь не слушать, Князь-Кесарь?
— Зачем не слушать? Вот их-то всех к ногтю и прижать, от царевича немедля удалить, в Тайной канцелярии расправиться. Ты мне другое, государь, скажи. Уразуметь не могу, обо всём ты знаешь, а будто нарочно ничего делать не хочешь. План у тебя, Пётр Алексеевич, что ли, супротив сына такой? Себя оправдать, если от престола ему отказать решишься?
— Далеко больно замахнулся, Князь-Кесарь.
— Далеко, да ведь и ты, Пётр Алексеевич, только вдаль и глядишь. За тобой угнаться не всякому дано. Так что же с царевичем Алексеем Петровичем станет?
— А уж это от него одного зависит.
— Угодит он тебе или не угодит? Ты же всё заранее знаешь.
— Угодит ли, говоришь. Вот пусть годика два-три за границей поживёт. Ума поднаберётся, обхождения. Я потому и Александра Головкина ему в товарищи назначил — в пример и для присмотру.
— Не покажется молодой Головкин царевичу.
— Видишь, сам сомневаешься.
— В чём сомневаюся — в дружбе-то ихней? Невеликое дело. Могут и не подружиться. Главное, чтобы дело не стояло.
— Как-никак Гаврила Иванович мне родственником доводится. Уж лучше на его сына положиться.
— И ещё, государь, прости на дерзком слове, откуда тебе другого наследника взять? Нету его у тебя и взяться ему неоткуда.
— Хочешь сказать, что Катерина меня очередной дочкой наградила. Даже поздравлять её охоты не было. Имя и то дал ей самой выбрать — Елизавета. Только и дела, что родилась сразу после Полтавы.
* * *
Пётр I, Гаврила Иванович Головкин
— Вот, пожалуй, теперь и за невест наших возьмёмся. В самый возраст племянненки мои вошли. Катерине, гляди, уже девятнадцать набежало, Анне — семнадцать. Прасковья годом моложе. Хороши девки, есть на что поглядеть.
— А женихов каких, государь, видишь?
— Я вижу, а ты нет? Что с тобой, великий канцлер? Давай, давай, Гаврила Иванович, мыслей своих не таи.
— Тут и таить нечего, государь. Курляндией заниматься в самую пору. Прибрал её к рукам Борис Петрович, вот и надобно, думается, статус для неё постоянный определить.
— С языка у меня снял, Головкин! Мороки чтоб у нас с ней более не было. А знатно нас покойный герцог Фридрих Казимир при Великом Посольстве принимал, ой и знатно есть что вспомнить.
— Мот он был, государь, мот каких поискать. Отец, герцог Яков, сколько лет в заключении провёл. Строгих правил был правитель. Ведь за что шведы на его земли замахнулись — подозревали, будто симпатия у него с вашим батюшкой, государем Алексеем Михайловичем.
— Думаешь, симпатия была?
— А почему бы и нет? Вот и поплатился герцог шведским нашествием да сидением в рижской крепости.
— Не так уж долго там сидел — всего-то года два, пока шведы по Оливскому миру от Курляндии не отказались. Да и давно это было.
— Давненько. Герцога Якова в год вашего, государь, восшествия на престол не стало. Так что вышло, вы с молодым герцогом Фридрихом Казимиром вместе к власти пришли — каждый на своём.
— Ну, молодой герцог душу-то и отвёл после скудных отцовских хлебов. Такие праздники придворные стал устраивать, такие иллюминации и фейерверки...
— Что пришлось не одно герцогское владение заложить. Вот до чего дошло.
— Опять о бережливости твердить станешь, Гаврила Иванович. Прижимист ты у нас, ой и прижимист.
— Я-то, может, и прижимист. А кто у меня парик на каждом приёме посольском, почитай, на каждой ассамблее с гостями заграничными с головы стягивает да на себя надевает? И это государь Российской державы! А вот Головкин, видите ли, прижимист!
— Да больно парик-то хорош, Гаврила Иванович. Мне такого ни в жизнь не сыскать, а ты не обеднеешь, что государю своему послужишь. Нет разве? А насчёт Курляндии — верно, что береги, что не береги, война Северная началась, вся страна в театр действий военных превратилась. Тут уж всё прахом пошло.
— Только и опекун молодого герцога, осиротевшего Фридриха Вильгельма, не больно об интересах племянника заботился. Больше думал, как бы его престола лишить да самому на него и взобраться.
— Вот тут им обоим Полтава и помогла. То земли курляндские из рук в руки переходили, а после Полтавской победы шведы навсегда от герцогства отказались.
— Не говори так, государь, «навсегда» слова такого в политике не бывает. Мало ли что и как обернётся. Сегодня Фридрих Вильгельм на штыках шереметевских туда вернулся, а там...
— Надобно женить герцога на одной из невест наших измайловских. Похлопочи, Гаврила Иванович. Кому, как не тебе новым союзом заняться.
— Займусь, как прикажете, государь. Только которую предлагать-то из измайловских царевен? Какой расчёт у вашего величества?
— А никакого. Пусть всех трёх посмотреть ему дадут — какую выберет, та и его. Главное — тянуть не надо. -
* * *
Пётр I, А. Д. Меншиков
— Тебе нашим делам, государь, только радоваться да радоваться. Двинулась Российская держава, полным ходом на запад двинулась!
— Что это развеселился ты больно, Данилыч? Не иначе с Петербургом дела не больно здорово идут. Ты у меня любитель с одной чашки весов на другую новости кидать. Давай докладывай. И без утайки, слышишь?
— Ну, государь, для тебя это не новость: своей охотой никто в новую столицу не поедет. Знатными ты распорядишься, а вот с мастеровыми морока одна. Чего, кажется, ни придумываем.
— Погоди, погоди, администратор. А нешто моим указом этого году не было велено на вечное житьё с посадов и уездов народ начать переселять? Какой у нас тут порядок-то сложился?
— По указу распорядился ты, государь, четыре тысячи семьсот двадцать мастеровых людей с жёнами и детьми переселить, чтобы были у Адмиралтейства и у городовых дел.
— Помню. На память до сей поры не жаловался. Велел я, чтобы для всех переселяемых дома строить. Заблаговременно!
— А как же иначе, Пётр Алексеевич.
— Денег на переведеновцев сколько отпущено? Людям-то они дадены али старым обычаем в пути позатерялись?
— Опять по твоей воле, государь, в первый год положено собрать с губерний по двадцати дву рубли на каждого человека. Двенадцать рублёв денежного довольствия и по десяти на хлеб.
— Наряд по губерниям как распределился?
— С Московской губернии — 1417 человек, с Петербургской — 1034, с Киевской — 199, со Смоленской — 298, с Казанской 667, Архангелогородской — 555, Азовской — 251, Сибирской — 299.
— Стал народ прибывать?
— Никак нет, государь. Ждём.
— Торопить губернаторов надо. Пригрозить построже. Деньги народ тут неплохие получает, так что только нерасторопностью губернаторской промедление объяснить можно.
— Прости на смелом слове, государь, не только.
— Какие ещё препятствия тебе ведомы?
— Слухом земля полнится, государь. Почитай, повсеместно известно, что работать здесь куда как трудно.
— Работа везде не сахар, не баловство.
— Так-то оно так, только сам посуди, государь, уроки-то у нас здесь у рабочих какие. День рабочий на строительстве от восхода до заката — пока свету хватает.
— Нешто перерыву на обед не бывает? Как можно?
— Бывает, государь. Как не быть. Только сам посуди, государь, летом оно, может, и не так уж плохо — целых три часа, осенью и весной — два, а зимой — один.
— Хватит им, и толковать нечего.
— Да я не о себе говорю, Пётр Алексеевич, это как народ понимает. Теперь за каждый прогульный день штрафу семидневное жалованье, за каждый час прогула — однодневное.
— Фискал доглядывает?
— А как иначе. Фискал да ещё с помощником. В их пользу четвёртая часть штрафных денег идёт, вот они изо всех сил и стараются.
— Воскресные дни есть?
— Нетути, государь. Какие ещё воскресные? Все тридцать дней в месяце работают.
— Жалованье на месяц какое им выходит?
— Алтын в день, за месяц тридцать алтын.
— Рубля не набирается. Маловато. То-то Синявин мне ещё когда докладывал: хлеб давать натурой работным людям приходится, чтобы голодом не примиряли.
— С моих же слов и докладывал.
— Гаврила Иванович сказывал, консулы и посланники правительствам своим сообщают, что больно много у нас людей здесь мрёт. Оно и не их дело, да вот они в рассуждения пускаются — виноваты в том лица, заведующие содержанием этих несчастных, страдающих от алчности начальников. Так-то, Александр Данилыч!
— Алчность! А куда с поносом и цынгой деваться? Они людей допреж всякого голода косят. Вон гость-то наш нынешний датский посланник сам убедился — в госпиталь изволил заглядывать.
— Датский, говоришь. Юст Юль, значит, так это он датскому королю отписал, что в Петербурге уже шестьдесят тысяч погибло, да и каждый год будто бы до двух третей работников мрёт. Не успеваем новых привозить. А с госпиталем что?
— Для адмиралтейских мастеровых. Их лекарь Пуль лечит, и славно лечит. Никто не жаловался ещё.
— Помирал, пожаловаться не успевши, так, что ли?
— Шутить изволите, государь. А для лечения людей Канцелярии от строений из Москвы только что приехал лекарь Фёдор Петров с учеником Андреем Татариновым.
— Только канцелярских? Не годится. Пусть займутся и офицерами, и солдатами батальона городовых дел.
— Будет исполнено, государь. А с побегами как распорядишься?
— С побегами? Давай указ подпишу, чтобы их отцов, матерей, жён и детей, и всех, кто в их домах живут, арестовывать и держать в тюрьмах, покуда беглецы не вернутся. В Петербург. Дома́ же бежавших опечатать до моего специального указу.
* * *
Царица Прасковья Фёдоровна, А. Д. Меншиков
У вдовой царицы Прасковьи в доме переполох. С раннего утра Александр Данилович Меншиков примчался. Царица не то что куафюру не кончила — в одном пеньюаре принять светлейшего решилась: больно настаивал. Мол, государева воля — объявить незамедлительно должен. В мыслях запуталась: что за оказия? Прогневала ли чем? Недоглядела ли чего? Уж, кажется, и так старается что есть сил...
— Государыня царица, политес нарушить пришлось — дело неотложное. Сватом я к тебе, царица.
— Сватом? Господи помилуй, чего спех-то такой?
— Государю нашему виднее. Жених завидный объявился. Нарочный к нему нынче же выехать должен.
— Это что же, жених неосведомлён или как?
— Не твоя печаль, государыня царица. Государь хочет, значит, всё сладится. О вот о женихе сказать могу одно — завидный.
— Вот спасибо-то нашему государю. Не оставляет заботой своей племянниц своих. Не знаю, как и благодарить.
— Так вот, государыня царица, жених не из наших — герцог.
— Не из наших? Это что же, дочке моей уезжать от меня придётся?
— А как невест замуж выдают? Конечно, придётся.
— Далеко ли, Александр Данилович?
— Да не очень — в Курляндию. Герцог-то Курляндский Фридрих Вильгельм.
— Это там, где война идёт?
— Не идёт, государыня царица, а шла. Где её только не бывает. На Москву и то и татары, и поляки хаживали. Обычное дело.
— Спросить, Александр Данилович, боюся, дочку-то какую?
— А это уж дело жениха — какую выберет.
— Это что ж, как царские смотрины из моих царевен государь задумал?
— Угадала, государыня царица. Это чтобы по сердцу молодые друг другу пришлись. А всё равно выйдет — герцогиня Курляндская. На своих владениях. Со своим дворцом, штатом придворным — куда лучше. Почёт царский. Детки пойдут. Наследники.
— Верные твои слова, Александр Данилович, а только почему государь сам новости такой мне не поведал? Я бы...
— Времени у него, государыня царица, вовсе нет. Да и слёз бабьих, прости на таком слове, государь не любит.
— Знаю, знаю. А делать-то мне что надобно?
— Царевен приодеть, принарядить да и к мысли такой приготовить. Оглянуться не успеешь, а уж жених из Митавы в Петербург примчится супругу себе молодую выбирать. Поторапливаться надо. Так согласна ли, государыня царица? Мне ведь благословение твоё материнское нужно государю передать?
— Согласна, Александр Данилович, как не согласна.
* * *
Царица Прасковья Фёдоровна
Обошлось со смотринами. Слава тебе, Господи, как нельзя лучше обошлось. Государь надумал, чтобы герцог не один раз царевен наших увидел: и за столом, и на куртаге, и в театре.
А он, как есть мальчишечка, герцог Фридрих-Вильгельм. Всего-то осьмнадцати лет. Всю жизнь с учителями да воспитателями, а тут девицу себе выбрать дозволили.
Другой бы растерялся али из себя чего строить стал. Фридрих-Вильгельм с первого раза как к Анне Иоанновне потянулся, так и отходить больше не захотел. В глаза смотрит. В танцах норовит ручку пожать. За питьём да мороженым быстрее служителя кидается.
Анна расцвела вся. И так хороша — стройная, высокая. Лицо белое-белое, еле румянец пробивается. Волосы русые. Глаза васильковые. Ресницы вскинет, чисто море бездонное. Одна родительница красоты такой замечать не хочет. Ей бы Катерина одна при ней была — только ею налюбоваться не может.
Все заметили — обрадовалась царица Прасковья Фёдоровна женихову выбору. Ещё как обрадовалась. Катерину сразу прятать стала.
Да ещё так вышло: Анна по-немецки худо ли бедно изъясниться всегда могла, а тут ровно подменили: болтать стала. Будто другой человек. И танцевать пустилась. Плохо её учили — государь братец не больно на учителей для племянниц тратился. Не думал, что будет от них прок. Только и герцог — не танцор. От волнения, что ли, сбиваться стал. Вышло ещё хуже Анны.
Братец спросил, каково мне сватовство видится. Что скажешь? В домах царских о чувствах кто говорит? Подходят друг другу. На первый взгляд. Разговаривать стали. Чего ещё желать.
Государь братец задумал торжества свадебные на весь мир. Чтобы через посланников все правительства европейские знали: Курляндия отныне под покровительством Российской державы. Наши родственники — наша защита.
Прасковьюшка пришла счастливая: и от Анны избавилась — никогда царевну не любила, и любимку при себе сохранила — без Катерины шагу не ступит, и государю угодила.
Спросила, не надо ли невесте подарок Катерине Алексеевне сделать. Конечно надо. Коли об остальных дочерях да о самой себе думать, ещё как надо. Братец государь всё время свободное с Катериной Алексеевной проводит. Аннушке полтора года, на руки её берёт. Агукается. Лизанька в колыбели ещё — к ней не подходит. А Аннушка уже норовит к братцу пойти. Радуется.
Учителя невестины — ещё свадьбы не было — уже принялись о недоплаченном жалованье просить. К Прасковьюшке не пошли. Знают, какие у неё деньги. Меня просили походатайствовать перед государем. Сказала: после свадьбы. Тогда, может, и герцог за жену их наградит.
* * *
Екатерина Алексеевна
Сама не знала, что о новой столице думать. Вроде бы прижилась в старой. Полюбить не полюбила — странная она, Москва-то, — привыкла. В обычаях худо ли бедно разобралась. К Лефортовой слободе не тянулась. Знала, для них, слободских, навсегда отщепенкой будет. Вон они не перестают Анны Ивановны поминать — хоть бы глазком взглянуть! Ведь старая уже: с государем без малого двадцать лет назад сошлась. А он помнит. Ей ли, Катерине, не знать: помнит. Вроде бы с гневом, а всё равно — память.
Оно верно, дел государских не счесть. Понимала — помехой стать нельзя, так ведь и из памяти выпасть тоже просто.
После Полтавы прямо на встречу с королями польским да прусским, царевна Наталья Алексеевна сказывала, помчался. Лишь к середине декабря в Москве объявился. К самым родам Лизхен. Спасибо, легко прошли. На второй день уж за столом с государем сидела. Только и удалось повидать, словечком перекинуться.
Забот было много, как викторию Полтавскую в Москве отпраздновать. Что фейерверки, что потешные огни, что снова Люминатский театр на Кремлёвском холме. Придумать такое надо: фигуры преогромные, из досок сколоченные, живописцами раскрашенные, меж огней движутся, а зрители по ту сторону Москвы-реки толпятся, смотрят.
Так ведь по-настоящему не поглядишь. Если только из окошка кареты, чтоб не объявляться всенародно. Иной раз царевна Наталья придумает, иной и забудет. Недосуг ей с другими возиться.
Сказывали, в Кремле, в Грановитой палате неслыханной красоты приём был. Будто вельможи сетовали: один государь, без государыни. Только тем и отшучивался, что, мол, противник его Карлус Шведский и вовсе холостой, всё время военному делу посвящает.
Сердце от шуток таких зашлось. Оно и верно, как государю без государыни. А коли жениться надумает, что ей при новой, законной, супруге делать останется? Царевна Наталья Алексеевна держать не станет. В деревню сошлют с дочками. Или того хуже — в монастырь какой на неисходное житьё. Письма-то продолжаешь подписывать: «Катерина-сама-третья», да ведь шуткам непременно конец придёт.
Вон долго ли государь в Москве погостил — всего-то до середины февраля 1710 году, а там в Петербург: и к театру военных действий ближе, и море его любимое под рукой.
В половине лета дождался взятия Выборга — со взморья не уезжал. Что ему там дела семейные! Да и не семья она с дочками ему. Всё о царевиче Алексее толковал. Большие надежды на невестку возлагал: мол, ночная кукушка денную перекукует. Бог даст, возьмёт принцесса царевича в руки, на путь истинный наставить поможет.
Боялась царевича. С самого первого раза боялась. Ещё совсем мальчиком был, крёстным отцом назвали, а волком глядел. Не раз, и не два в спину слова ненавистные говорил. Где ж его судить: родная мать каждому дороже. А тут вроде разлучница перед ним.
Надо бы о себе да дочерях подумать. Хоть хутор какой, хоть деревеньку в собственность получить. Государю не говорила. Царевна Наталья Алексеевна только головой покачала: не любит государь подарков делать, ой, не любит. Жди, когда сам припомнит. А ежели нет? Ежели раньше образ мыслей к ней и к дочкам переменит?
На родины и то дарить забывал. Что поднабралось украшений всяких — всё от его родни. Его уважить хотели — ей давали. Не щедрой рукой. Да и какой с них спрос, когда царица Прасковья на одних милостях государевых жива. Как есть побирается со всем своим дворцом и штатом.
Один раз Александру Даниловичу вроде бы намекнула. Расхохотался: что, Катерина, не Меншикову чета, государь-то наш? Это у Меншикова рука широкая. Всё, что на тебе есть, всё от него, беспутного. Остановила его как могла: о дочках ведь речь. Посоветовал: не торопись. Бог даст минуту, подскажем Петру Алексеевичу, а нет, живи лучше как живётся. Денег кое-каких сунул — в утешение.
* * *
Пётр I, Г. И. Головкин
— Государь, я понимаю, как вы раздосадованы таким поворотом событий. Кто бы мог подумать, герцог Курляндский, такой молодой, такой полный сил, и эта нелепая смерть на почтовой станции.
— Не верю, чтоб это была простая болезнь, не верю.
— Но, ваше величество, простудная горячка всегда быстро уносит людей. Герцогиня Анна Иоанновна говорила, что её супруг под действием винных паров слишком долго задержался на дворе, и вот...
— Именно под действием винных паров он не должен был простудиться.
— Тем не менее это произошло. Возможно, он не был приучен к нашему климату.
— А чем же климат Петербурга отличается от Митавы? Глупость!
— Но так или иначе надо снова решать проблему Курляндии. Герцогиня отвезла тело супруга в Митаву, присутствовала при погребении и теперь просит разрешения вернуться в Россию.
— Анна просится в Россию? Ерунда! С тобой не иначе говорила царица Прасковья.
— Да, но она представляла интересы дочери и делала это крайне неохотно, тем не менее...
— Что тем не менее, канцлер? Ты хочешь сказать, что Анну следует вернуть в Россию?
— Это вполне возможно. Она не нужна в Курляндии. Там правление принял на себя былой опекун покойного герцога, его дядя Фердинанд. Правда, курляндские дворяне от него не в восторге, но он имеет все законные права на власть.
— Нас не могут ни интересовать, ни устраивать его права на власть. Ты мне, Гаврила Иванович, дипломатию свою тут не разводи. Вошли мы в Курляндию, там и останемся.
— Хорошо бы, государь.
— Хорошо бы! Вот и думай, что делать теперь, думай, канцлер, — дело у тебя такое.
— Ваше величество, государыня царица Прасковья Фёдоровна принять её просит. Очень просит, государь.
— Кто приехать позволил? Вольничаете тут, Макаров. Ладно, зови. Только на будущее, чтобы таких визитов у меня не было.
— Постараюсь, ваше величество. Но государыня в большом расстройстве, так что...
— Что, впрочем, ничего не значит. А, невестушка! Что это решила ни свет, ни заря в гости ехать? Дела неотложные?
— Прости за вольность, Бога ради прости, государь. О Анне я, Пётр Алексеевич. Ведь ревёт белугой.
И в самом деле: ни тебе царевна, ни тебе мужнина жена. Ничего не скажешь, не повезло девке.
— Мне не повезло, Прасковья Фёдоровна. Мне и державе Российской. Герцога жаль, дел наших и того больше.
— Анне-то нашей что делать прикажешь? Куда её теперь?
— Не твоя забота, невестушка. Герцогине Курляндской ни в Петербурге, ни в Измайлове твоём не место. У неё свои владения есть — там ей и жить отныне.
— Ой, что ты, государь, одной-то? Да что ей делать-то там? Кругом немцы. Ни одной души знакомой.
— Не причитай, невестушка, нужды нет. Штат герцогине составим — не велик труд. Человека опытного пришлём, чтоб делами её занимался. У герцога покойного имения там остались — управлять ими надобно.
— Да нешто Аннушка справится? Смилуйся, государь!
— А ей и справляться нечего. За неё всё делаться будет. Ума поднаберётся, может, и сама делами заниматься станет.
— Где ей, государь, в осьмнадцать-то лет?
— Постареть успеет.
— Успеть-то, известно, успеет. А с мужем-то как, государь?
— С каким мужем? Вдовствующая она герцогиня, вдовствующей и останется.
— Что же это до скончания века, государь?
— А ты скольких лет, невестушка, овдовела?
— Тридцати двух, государь. Уж свой бабий век отжила.
— Считай, такая у тебя судьба, а у дочери иная. Пока Анна Иоанновна вдовствующей герцогиней будет, дотоле и сидеть в Курляндии на своих владениях право имеет. Да ты не убивайся, Прасковьюшка, вот Гаврила Иванович наш расстарается, глядишь, и жениха какого Анне сыщет, чтобы права и земли с выгодой для державы нашей соединить.
— А если, государь, в монастырь Аннушка захочет — и такое случиться может.
— В монастырь? С ума она спятила, что ли? Не будет ей никакого монастыря. Гаврила Иванович, прикинул ты, кого бы в Курляндию герцогскими владениями распоряжаться послать?
— Подумать ещё, ваше величество, надобно, крепко подумать.
— Подумай, канцлер. А ты, Прасковьюшка, ступай. Герцогиня твоя герцогиней и останется. Что-то сдаётся мне, плакать по ней ты не больно станешь. Ступай.
— Думается мне, ваше величество, приезжать герцогине в Петербург надобно не по-родственному — по правилам иноземных государей.
— И то верно. Всё невестке растолкуешь. Она хоть и повсхлипывает, а сообразит. Так и Анна лучше себя держать станет.
— Ну, Гаврила Иванович, все дела, кажись, перерешили, обо всём с тобой столковались, пора и честь знать. Время позднее.
— Государь, тут ещё одно...
— Что ещё? До завтра не потерпит?
— Потерпеть может, государь, но это просительница и давненько дожидается.
— Где дожидается? Кто?
— В карете.
— Да ты почём знаешь?
— Сам ей присоветовал: глаза не мозолить, а в случае чего незаметно и отъехать.
— Скажи, тайны какие. Ну, Гаврила Иванович, никак ты в дела амурные какие на старости лет ввязался.
— Я-то нет, а вот помочь и впрямь согласился.
— Да о ком речь?
— О госпоже Монс.
— Что-о-о?! Это у тебя в карете госпожа Монс сидит?
— Так и есть, ваше величество. Очень уж просит аудиенции у вас. А без посредника решительности не найдёт. Опасается.
— Что ей нужно?
— Ничего не говорила, ваше величество.
— Плакала?
— Не видал я что-то, чтобы Анна Ивановна когда слёзы лила. Нрав не тот.
— Изменилась? Сильно?
— Изменилась? На словах не расскажешь. А, кажется, красоты былой не потеряла.
— Отошли прочь — не о чем мне с ней говорить. Хотя... Зови. Так проще будет.
От неожиданности кровь в голову ударила. Все годы вроде бы рядом, в одном городе, а как за каменной стеной. Весточки единой о себе не подала. Прошения какого. И все молчали — гневу царского боялись. Да если по совести, какой гнев — обида одна. Горьчайшая. И по сей час на зубах скрипит, полынным настоем горло перехватывает.
— Госпожа Монс, ваше величество.
— Ступай, Макаров. Больше ты мне не понадобишься.
— Ваше царское величество...
В реверансе придворном самом что ни на есть глубоком присела, едва ручкой пола не коснулась. Как те дамы в Версале. Туфельки самый кончик приоткрыла. Только что не улыбнулась.
— Хотела меня видеть, Анна Ивановна? Говори, в чём твоё дело? За братца, что ли, Видима хлопотать решила? Так он и сам за себя постоит. За три года службы полным молодцом себя показал.
— Я благодарю вас за Вилима, ваше величество, но вряд ли моя благодарность послужит ему на пользу. Я могу только в душе молиться за милостивого монарха.
— И за ваших родителей, которые наградили Вилима умом, отвагой и настоящим бесстрашием. В кампании Полтавской он выказал себя одним из лучших. Но раз это не его судьба, то в чём ваше дело?
— Я решилась просить ваше величество проявить своё великодушие и в отношении сестры заслуженного офицера. Я прошу вас дать мне разрешение на брак.
— Вот как! И кто же твой избранник, Анна Ивановна?
— Барон Кейзерлинг, ваше величество.
— Что?! Твой амант?! Это столько лет вы остаётесь верны этой вашей амурной истории?
— Барон Кейзерлинг никогда не был моим амантом, ваше величество.
— Врёшь! Врёшь, Анна Ивановна, был! Иначе бы...
— Я никогда не осмелилась бы возражать монарху, но правда мне дороже, ваше величество. Барон Кейзерлинг НИКОГДА не был моим амантом.
— Ты ещё поклянись мне в этом на Евангелии!
— Могу поклясться. Но в вашей комнате, кажется, нет священных книг. Велите принести.
— Почему же раньше не поклялась?
— Потому что вы от меня не требовали этого. Вы отвергали всякие доказательства моей невиновности.
— Всё было и так ясно.
— Тогда бесполезно к этой теме возвращаться. Прошедшие годы принесли столько злого, что счесться сегодня уже невозможно.
— А Кейзерлинг все эти года ждал тебя?
— Я не спрашивала и не имела права спрашивать отчёта с барона. Да, барон бывал в моём доме достаточно часто, и своё первое предложение он сделал мне семь лет назад.
— И он настолько пришёлся по сердцу тебе, что ты через семь лет готова стать его женой?
— Да, ваше величество, я почту это за честь.
— Это для тебя честь, это?
— Ваше величество, я всего лишь дочь виноторговца.
— Кейзерлинг собирается оставить должность прусского посланника и уехать с тобой?
— Ни в коем случае, ваше величество. Его живейшее желание продолжать службу при вашем дворе. Я буду иметь возможность часто видеть русского царя. После многолетнего домашнего заключения.
— Ты по-прежнему танцуешь?
— Не знаю, ваше величество. За все эти прошедшие годы мне не приходилось танцевать, да и годы...
— На тебе они не сказались. Пусть барон просит у меня твоей руки. Раз ты так настаиваешь, он её получит.
* * *
Медаль «В ПАМЯТЬ ЗАВОЕВАНИЯ ЛИФЛЯНДИИ
В 1710 ГОДУ». Лицевая сторона: погрудный портрет
Петра I, в лавровом венке, латах и мантии,
застёгнутой тройным аграфом. Надпись (по-латыни):
«Пётр Алексеевич, божиего милостию император
России великий князь московский». На обороте:
Геркулес, держащий на плечах земной шар с картой
Лифляндии. Надпись (по-латыни): «У меня достаточно
силы для поднятия тяжести. Овидий. Метаморфозы».
Медаль «В ПАМЯТЬ ВОЕННЫХ УСПЕХОВ РОССИИ
В 1710 ГОДУ». Лицевая стороны — см. выше. Оборот:
в центре овальный щит с гербом России. Вокруг него
в восьми щитах планы завоёванных в 1710 году
городов. Надпись (по-латыни): «Год, полный успехов».
Пётр I, Екатерина Алексеевна
Кто спорит, была победа под Полтавой. Праздновать её можно как угодно шумно. В Москве. Пётр Андреевич Толстой качал головой: государь — чистое дитя. Нарадоваться не может. Только не так-то прост Каролус, как хотелось бы, ой не прост!
Укрылся в Молдавии — чай, не в Швецию свою уехал. Значит, кончать военных действий не собирался. Значит, ухо держать востро беспременно следует.
Борис Петрович Шереметев тоже остерегал государя: следить и следить, что Каролус придумает.
Так и вышло. Посланник его в Константинополе граф Понятовский расстарался. Кто знает, какие доводы привёл, только турецкий султан решился на войну с Россией. Не явно. Поначалу исподтишка.
В ноябре 1710 году крымскому хану Девлет-Гирею велено было к походу готовиться, а тем временем царского посланника Петра Андреевича Толстого в Семибашенный замок посадить, чтобы никаких дел противу султана не начинал, никакими взятками советников его не подкупал. Известно, мастак был в этом деле.
Не успел новый год наступить, как Девлет-Гирей со своими войсками на русские земли вступил. Кто ж о таком думать мог! Потому с ходу все степи прошёл, у Харькова призадержался. Только тут ему сразиться с русскими отрядами впервые довелось.
Не понравилось. Увёл своих хан в Крым. Зато поляки своё дело делать начали. Те, кто короля Августа не признали, вместе с буджакскими татарами Днестр у Бендер перешли. Всю страну от Немирова до Киева опустошили. Раззор такой, что подумать страшно.
И на этот раз Борис Петрович Шереметев вовремя на помощь пришёл. Атаковал новую силу, сколько отрядов поразбивал, в Бессарабию не то что отойти — бежать заставил.
Гаврила Иванович услыхал о первых распрях меж союзниками, перекрестился. Теперь, государь, передышка нам наступит. С мыслями да с войсками собраться. Какая там Полтава! Настоящее дело только теперь и начнётся.
А заминка у союзников из-за того, что верховный визирь Балтаджи-паша в преданности Девлет-Гирея засомневался. Измену разыскивать стал да кстати и у молдавского господаря Кантемира: больно дружны они всегда с Девлет-Гиреем были.
У Кантемира и без паши врагов в достатке. Самый большой — господарь валахский Бранкован. Промеж него и народа молдавского, который русских туркам предпочитал, Кантемиру выбирать долго не пришлось: стал на сторону царя Петра склоняться. Не то чтобы окончательно, а пока в переговорах.
Бранкован ещё раньше с русскими толковать начал: пообещал русской армии все продовольственные припасы в достатке, двадцать тысяч сербов для поддержки и своих тридцать тысяч солдат.
Король Август в стороне не остался — тридцать тысяч солдат тоже обещал.
Всех скопом посчитать — вместе с русскими тридцатью—сорока тысячами для победы над турками за глаза хватит. Лёгкая должна быть война. Так и сказал государь на совете 18 января. Одни согласились, другие, вслед за Борисом Петровичем, в сомнении остались. От Шереметева иного ответа не жди: считать только своих надо. Союзники — помощь неверная. А тут главной нашей армии не откуда-нибудь — из-под самой Риги до Днестра маршировать. Силы солдатские тоже предел имеют.
Государя не переспоришь, дело известное. Как синь-порох вспыхивает. Ни одной кампании сам от начала до конца не воевал, вот труда военного по-настоящему и не знает.
Катерина в последний раз осмелилась напомнить о себе:
— Мой государь, я знаю, вы уезжаете надолго. Позвольте мне сопровождать вас в обозе. Умоляю вас, государь.
— С ума сошла, Катя! Твоё дело дома сидеть.
— Не могу, мой государь. Не могу больше ждать и переживать, только ждать вдалеке от вас. Вы обещали подумать над моей просьбой ещё раньше. Но сейчас настало время. Вы сами сказали, что не знаете, насколько затянется кампания.
— Лёгкой не будет.
— Вот видите, видите, мой государь. В обозе одним человеком больше, одним меньше — какая разница. Но я хоть случайно смогу видеть вас. Хоть услышу от других последние новости о вас.
— Смерти, Катя, не боишься? Такая храбрая сделалась?
— Все люди боятся смерти, мой государь. Но ведь люди берут в руки оружие и идут на бой. Да и о каком страхе мы с вами будем говорить, когда во много раз страшнее не иметь от вас неделями никаких вестей. Вот это настоящий страх, от которого можно умереть. Поверьте, мой государь, поверьте и разрешите сопровождать вас, умоляю!
— А все неудобства похода, помнишь ли ты о них?
— Я знаю их не меньше вашего, мой государь. Господь с ними, я согласна на всё, лишь бы быть невдалеке от вас.
— Любишь так, что ли? Не пойму тебя. Катя. А впрочем, собирайся.
— О, вы сделали меня самой счастливой, мой государь!
* * *
Царевна Марфа Алексеевна, Пафнутий
Кружит метель. Который день кружит. В поле ни зги не видать. По двору монастырскому в Александровой слободе — Успенскому девичьему монастырю черничка пройдёт, след прямо у ноги заметает. А тут, гляди, розвальни в ворота заворачивают. Розвальни и есть. Сестра, что на часах, потолковала-потолковала, да и створку пошла отворять. Кто бы это? Мать-игуменья строго-настрого велела дозор держать, чтоб, не приведи, не дай, Господи, кто к царевнам не наведался.
— Отколе ты тут такой, мужик, взялся?
— Аль чем не угодил, матушка? Дровец продать привёз — не возьмёте ли? Цена сходная.
— Угодил, угодил, да больно дёшево за воз берёшь. Не иначе себе в убыток. Неспроста это, бесперечь, неспроста.
— В убыток, матушка, не в убыток, а прибыль и впрямь маловата. Да что поделать — зарок положил: чтоб у брата старшого дела пошли, завезти в монастырь пять возов по сходной цене. До Троицы далеко, да ещё в такую заметь. До вас поближе — скотину не морить.
— У брата-то что за дела? Не воровские какие?
— Упаси, Господи! Как можно — он по торговому делу. Далеко ехать собрался — под самый под Архангельск.
— А что сюда, к келейке, заворачиваешь, на работный двор не едешь. Лясы тут точить? Аль любопытствуешь?
— Дак несведомы мы, где у вас, матушка, что. Коли ваш приказ будет, мы и подале куда подъедем. До келейки-то от ворот всего ближе. И соломы у порога, гляди, одни ошмётки лежат. Как есть ничего не осталось.
— Не осталось, не осталось! Хозяйственный какой. Ты, вот что, подожди-ка тут с обозишкой своим — як матери-игуменье сбегаю: поспрошусь, как грузом твоим распорядиться, да и денег для расплаты возьму. А ты, ни Боже мой, к келейке не суйся. На возу сиди, слышь, мужик. И возчикам своим вели. Я мигом.
— Ушла доглядчица треклятая. Сбегаешь ты по такому-то снегу, как же. В самый раз к дверям подобраться. Государыня царевна, Марфа Алексеевна! Я это — Пафнутий, от господина губернатора Измайлова. С весточкой тебе и поклоном нижайшим. Государыня...
— Пафнутий! Отчаянный ты какой! Решился-то как?
— Да не такой уж и отважный. Обратно, погодушка самая что ни на есть способная. Вот тебе, государыня-царевна, письмецо. Съестного тут тебе, поди, припрятать надобно. Денежки тоже — может, черничек купить аль ещё для каких дел. Ох, нехорошая какая ты, государыня-царевна, стала. Недомогаешь, поди? Личико как есть восковое, кровинки нету. И то сказать, в таком подземелье безысходном. Дай хоть ручку поцелую, ненаглядная ты наша государыня.
— Полно, полно, Пафнутий, какие уж тут причитания. Всё минуло. Всё переболело. Поклонись от меня боярину своему, низко поклонись. Скажи, вспоминаю его часто. Очень. Да что уж... Ох, идти тебе надобно — никак кто в замяти бредёт. Ступай, с Богом, добрый человек.
В келейке задух плесенный, сладкий. Стенки каменные осклизлые. Рукой притронешься, обтирать надобно. Федосья так и не проснулась. Вот и пусть спит, коли Бог сон послал — не часто такой радостью попользуешься. Первым письмецо прочту...
Господи! Да что же это такое? Быть того не может! Преставилась, преставилась Софьюшка наша. Чёрную схиму перед кончиной принять успела — имя девичье себе возвернуть: сестра Софья. Не будет на гробнице Сусанны проклятой. То-то Петру Алексеевичу радость! То-то на его улице праздник. Избавился. Наконец, избавился. До конца под рукой — в Новодевичьем монастыре на Москве держал. Для досмотру. Кто за царевной-правительницей только не следил: шагу ступить без соглядатаев не могла. Где там!
Разве забудешь, как покойная царица из голодранцев Наталья Кирилловна ссылке великой царевны радовалась, как добро князь Василия перебирать кинулась — дня не подождала.
Всё сама доглядела. Во всё руки свои жадные запустила. Каждую князь Васильеву вещичку разобрала. А пуще всего на кровать княжью позбрилась. Такой, видно, хоть и царицей называлась, в глаза не видывала. Кроватей-то у Василия Васильевича много разных было — побаловать себя Голицын любил. Кабы не он, не трусость его безмерная да не любовь сестрицына великая, сидеть бы государыне Софье Алексеевне на престоле отеческом, а нам... Да что там! Выбрала себе Нарышкина ту кровать, что сам Иван Салтанов, мастер преискуснейший, строил. Сто рублей ей цена — подумать страшно. Ореховая. Верх на витых столбах. Внутри кровати испод и стороны камкой немецкой осиновой обиты. А на верхней доске — персона.
А убор кроватный чего стоил. Софьюшка сколько раз толковала — за князя радовалась. Одним сердечушко знобила — с княгиней своей Василий Васильевич ночи проводил. С княгиней — не с царевной. Теперь-то что толковать: любил супругу, до конца любил. Ни на кого менять не собирался.
На кровати бумажник, да зголовье, да три подушки пуховых. На бумажнике да на зголовье наволочки атласу рудо-жёлтого, а сверху ещё наволочки с застёжками немецкими. На верхней подушке наволока камчатная цвету алого, на нижних — одна серебряным, другая золотным кружевом обшиты. И в каждой духи трав немецких.
Господи! О чём это я? Глупости какие в голову лезут. Софьюшка! Вот теперь осиротели мы навеки. О братцах покойных что скажешь. Государями были.
На царство венчались. Цариц себе брали. Фёдор да Иоанн Алексеевичи. А так — велико ли их счастье?
Фёдора двадцати одного года погребли. Иван тридцати долго жить приказал. Ему ли не житьё. Не хворал — старел быстро. Здоровьем и впрямь не крепок, да не жалился. В одночасье убрался. Больно с руки его смертушка Петру Алексеевичу пришлась. Больно ко времени.
Про бисер подумалось. К рукоделью душа никогда не лежала. Дело теремное, подневольное. Не любила. Софьюшка — она на все руки. Сноровиста. Батюшке государю Алексею Михайловичу ковёр расшила. По бархату серебро да золото тянуть не всякая изловчится. Узор диковинный. У кресла государского лежал. В престольной палате. Послы заморские и те дивились.
Евангелие сама переписала. Сама знаменила, изукрасила. В сундуке лежит. В ссылку собирали, не призналась, что сестрино. Что дорогое, больно засомневались. Одно — книга священная: смилостивились. Над царской дочерью. Над царевной! К ряду с чашей да тарелью серебряной поклали. Князь Фёдор Юрьевич Ромодановский распорядился: будет, мол, что в обитель на помин души внести. Когда помру. Догадливый.
Поначалу думала — для утехи Пётр Алексеевич добра сестрице ссыльной, из теремов изгнанной, не пожалел. Радовалась. Рухлядь кое-какую случалось надевала. Со временем поняла: горькая твоя, государь, милость. Горше некуда. Чтобы душу рвать. Глядеть да помнить: быть — было, вдругорядь не вернётся. С годами сундук открывать, что с жизнью прощаться. А теперь, после Софьюшки, самое время пришло.
Стенка загудела — в колокол большой ударили. Надо же келейку к колокольне Распятской прилепить! Заблаговестят — дрожит вся. Крупка с кирпичей струйками сыплется. Звонарь лестницей карабкается — и то отдаёт.
Подняться б туда. Хоть разок. Окрест взглянуть. От духа плесенного, приторного оклематься. Да нет — поздно: сил не хватит. На всё поздно. Колокольня вона какая — едва не в небо упирается, у звонов одни касатки вьются.
Старица Агафоклея сказывала: при Грозном царе смерд выискался. Крылья изделал, с колокольни лететь хотел. Убился. Насмерть.
Что это в голове — чуть что Грозный да Грозный. Сестрице Федосье и вовсе тень его мерещится, по углам тёмным смотреть боится.
И то сказать — всё здесь его. Семнадцать лет замест Москвы здесь, в Александровой слободе, жил — царствовал. На первопрестольную гневался.
Как наш Пётр Алексеевич — задумал новую столицу на отъезжих болотах строить: чернички толковали.
Грозный в Троицком соборе все службы стоял. Под собором восьмерых дочерей новорождённых от кабардинских черкес девицы Марьи Темрюковны схоронил. В хоромах жил. Невест выбирал. В речке Серой — сразу за воротами — жену-однодневку утопил. Кажись, из Долгоруковых. Печатню в палатах обок собора завёл. На колокольню сам звонить ходил. Иной раз с царевичами Иваном да Фёдором подымался.
Господи! Не наважденье ли — царевичей как наших младших братцев звали. Неужто думал о том наш батюшка Алексей Михайлович? Примерялся. А ведь какое имя — такая судьба — не переиначишь. Спину ломит. На лавке невмоготу спать. За ночь зимнюю, длинную все жилки переберёт — повытянет. Еле дня дождёшься — в кресла пересесть. Дышать-то и легше, а вздремнуть всё неспособно. Спинка прямая, низкая. Подлокотничек узюсенький — не примостишься. Было время, глядеть любила: ножки точёные, бархат веницейской косматой. Только что зелёный — в обители иному нельзя. Вот в теремах алый да малиновый душу радовал. Чистый праздник.
Где там зелёный. Память одна. Истёрся. Добела истёрся. Как иначе: вся жизнь между креслами да лавкой. У Федосьюшки-сестрицы и вовсе лавка одна. Где спит, там и дни коротает. Во всей келейке шесть шагов — хошь сиди, хошь лежи, к смерти готовься.
Лекарства бы какого. Сколько раз царевне Наталье Алексеевне отписывала. Об одном за все годы и просила — об лекаре. Зелейщицам здешним какая вера — опоят в одночасье. Лекаря бы царского.
Путь в слободу, коли на подставных, всего-то два дни. Где там! Ни привета, ни ответа. За своими дела ми царской сестрице любимой не до опальных сестёр. А ведь все одной семьи — все Алексеевны.
Привстать бы. Задухом томит. В глазах темно. Руки не поднять. Десны болят. Цынга — ею все братцы и в теремах уходили...
* * *
Де Брюин, граф Давид фон Моллем, его жена
На пороге шестидесяти лет он вдруг понял простую человеческую истину: былые силы его начали оставлять, былые цели стали терять свою значительность.
Вернуться к живописи — мастерская в родном Амстердаме продолжала его ждать. Но он слишком мало уделял времени этой профессии. Возвращение к ней могло оказаться болезненным и попросту невозможным: былых заказчиков не было, приобрести новых в его возрасте могла помочь только мода, неожиданный поворот обстоятельств. А он не искал ни того, ни другого.
Среди мольбертов, красок, вороха рисунков он не находил душевного покоя, предпочитая размышлять о книгах. Хотя и книги требовали немалых душевных усилий, а задуманные огромные гравюры, сопровождавшие рассказ о путешествии через Московию, утомили. Да он никогда толком и не любил гравюры.
Всё чаще в памяти вставала терраса на горе, словно взлетевшая в небо над этой странной Москвой. Приветливые говорливые люди. И темноглазая почти суровая женщина, сказавшая ему неожиданные слова о том, что он может остаться, и не будучи штатным художником. Просто её гостем. Может, он не понял смысла сказанного?
Резиденция одного из его близких друзей и почитателей Давида фон Моллема под Утрехтом, которую он выбрал для жизни, чем-то напоминала подмосковное Воробьёво, а графиня — русскую принцессу.
— Вы написали превосходную книгу, метр Де Брюин!
— Вы безмерно снисходительны, ваше высочество.
— Нисколько. Мне казалось, что может быть занимательнее путешествия по египетской пустыне, остаткам империй древних. Пирамиды, Малая Азия, Эллада, пути крестоносцев. Вы описали их с такой живостью и изобразили с такой убедительностью. Читая вашу первую книгу, я сам почувствовал себя крестоносцем, странствующим рыцарем, пилигримом, наконец. Но на этот раз вы превзошли себя. Персия, Индия, тёплые океаны, а главное — Московское государство. Это совершенно сказочный мир, к тому же мир, в который рано или поздно нам предстоит войти. Россия, верьте мне, всё громче будет заявлять о себе в делах Европы. Эхо её отношений с турками и шведами не может не отдаваться и на наших северных берегах. Вы давно задумали это русское путешествие, метр?
— О, нет, ваше высочество, всё определил случай. Всего лишь случай.
— По всей вероятности, любопытный?
— В высшей степени.
— Расскажите же, Де Брюин. Моя супруга великая охотница до увлекательных историй. Но и я не откажусь узнать новые подробности о северной державе.
— Мне остаётся лишь повиноваться. После выхода моей книги, которую вы изволили так незаслуженно высоко оценить, я направился в Лондон. Речь шла о её переводе. К тому же мне давно хотелось навестить моего друга художника Георга Кнеллера, чьё имя, может быть, достигло и слуха вашего высочества. Георгу посчастливилось угадать вкус многих коронованных особ, и ему едва хватает времени на все те заказы, которыми его удостаивают. Портрет — это истинное искусство, как бы ни отзывались о нём члены высокочтимых академий.
— Вас так заинтересовало мастерство вашего друга? Но вы сами в совершенстве владеете им. Ваши портреты прелестны, и вы много их пишете.
— Мне придётся открыть перед вами свой маленький секрет, графиня. Я никогда не располагал достаточными средствами для столь дальних и необычных, как вы изволили сказать, странствий. И потому я не расставался с кистями и красками. В каждом городе, куда мне доводилось попадать, я предлагал свои услуги портретиста. Обычно они охотно принимались, и вместе с необходимыми средствами доставляли ещё и покровительство высоких заказчиков, что в чужой стране было тем более ценно. Удача не оставляла меня, и хотя мои портреты были небольшими по размеру, в дальних краях они пользовались успехом. Кнеллер — другое дело. Он мастер подлинно парадных портретов, и в Европе имеет мало себе равных.
— Метр, я разгадала и вторую часть вашей тайны: вы приехали к Кнеллеру, чтобы он написал ваш портрет. Вы доверяли ему, не правда ли? Теперь припоминаю: гравюра вашего портрета была исполнена по его оригиналу.
— Вы вдвойне льстите мне, графиня, сохранив в памяти и гравюру, и даже автора оригинала.
— Вы, кажется, ждёте нового комплимента, де Брюин. Ведь именно эта гравюра разошлась по Европе с вашим милым прозвищем: «Прекрасный Адонис». Кто из ваших собратьев по перу и кисти мог бы похвастать таким именем?
— Молодость, всего только молодость, графиня, и бесконечная снисходительность окружающих. Но то, что было преувеличением в своё время, превратилось и вовсе в насмешку спустя пятнадцать лет.
— Как всякая женщина, дорогая, вы отдаёте предпочтение внешним качествам перед внутренними. Между тем метра Де Брюина повсюду знают как «Летучего голландца». Но продолжайте же ваш рассказ. Мы все внимание.
— Итак, Кнеллер действительно взялся за мой портрет. Мой издатель хотел непременно его видеть выгравированным, считая, что это будет способствовать успеху книги.
В мастерской всегда толпилось множество народу. Мой друг убрал её с большим вкусом, так что она скорее напоминала салон, располагавший к долгим беседам, чтению и даже музицированию. Он не пропускал ни одной книжной новинки, тем более газеты. Все они лежали на столах. Известные музыканты были его частыми гостями, облегчая заказчикам скучный труд позирования.
В первый же свой приход я обратил внимание на одного из посетителей. Начатый его портрет, подобно моему, стоял на мольберте. Это был молодой человек где-то, около двадцати пяти лет. Очень высокий. Худощавый. В модном дворянском платье немецкого покроя. Кнеллер писал его в кирасе под зелёным кафтаном с большими золотыми пуговицами, с белым шейным платком и без парика. Прекрасные тёмные кудри обрамляли его высокий лоб и подчёркивали белизну лица, ещё не потерявшего полноту юности. Широкие брови и большие, чуть навыкате тёмные глаза сообщали его облику что-то восточное, а тонкие усы над яркими пухлыми губами подчёркивали молодость. Его манеры отличались непринуждённостью человека, привыкшего повелевать, хотя и не старавшегося подчёркивать свою власть. Со своими спутниками он держался просто, хотя их почтительность не могла уйти от глаз постороннего наблюдателя. Известная угловатость движений объяснялась их стремительностью. Молодой человек внимательно следил за происходившим и живо откликался на него.
Я не сомневался — передо мной был принц крови, путешествовавший инкогнито. Английским языком он не владел, но бегло изъяснялся по-голландски, который тоже не был его родным языком. Он задавал Кнеллеру множество вопросов, на которые мой друг не успевал отвечать. Несколько его замечаний по поводу портрета свидетельствовали о знании приёмов живописи. В ответ на изумление Кнеллера молодой человек сказал, что в детстве занимался живописью, теперь же увлечён гравированием, уроки которого брал у Адриана Схоонебека.
Чтобы сосредоточиться на портрете, мой друг постарался включить меня в разговор. Речь зашла о моих путешествиях. Молодой вельможа заинтересовался особенностями строительной техники в долине Нила и поливными системами. Он был в этих вопросах достаточно осведомлён, но хотел выяснить для себя немало практических подробностей. Теперь настала моя очередь с трудом удовлетворять его любознательность. По счастью, в какой-то момент один из сопровождающих вельможу лиц что-то сказал ему на непонятном языке. Молодой человек встал, обнял Кнеллера, обещал ему ещё один сеанс и вышел с такой быстротой, что дверь за ним захлопнулась прежде, чем до неё успели дойти его спутники.
Кнеллер спросил, догадался ли я, с кем мне довелось беседовать. Я признался, что нахожусь в полном неведении. «Ты не читал последних лондонских газет?» — «Откуда же? Я только что с корабля». — «Тогда всё понятно. Ты имел счастье быть представленным русскому царю». — «Тому самому, что работал на верфях Саардама?» — «А теперь учится тому же искусству на верфях Лондона. Как ты понимаешь, он не раскрывает своего инкогнито и называется плотницким десятником Петром Михайловым». — «Удивительная причуда для коронованной особы», — заметил я. «Но не для него, — возразил Кнеллер. — Если ты узнаешь его ближе, ты убедишься — это совершенно необыкновенный человек. Тем более необыкновенный на троне». — «Откуда такая возможность может появиться, — возразил я. — Через сеанс ты закончишь портрет, моё время в Лондоне тоже очень ограничено. Я благодарен судьбе за этот действительно счастливый случай».
Однако судьбе угодно было распорядиться моим будущим иначе. Уезжая из Англии, я посетил Кнеллера, и мой друг передал мне, что русский царь Пётр очень заинтересовался мною, что он читал мою книгу и был бы рад меня видеть в своём государстве, если я решусь туда выбраться. Ехать в Россию? Даже после знакомства с её монархом я не испытывал подобного желания. Восьмилетняя работа над книгой в тишине амстердамского дома сделала меня настоящим Анахоретом. Тоска по дальним странам вспыхнула с новой силой. В моих мечтах было посетить Персию и увидеть памятники её древности, я думал об Индии, островах Борнео и Целебес.
И всё же милостиво брошенные слова царя Петра не выходили из головы. Их нельзя было считать настоящим приглашением, но после них я мог надеяться на благоприятный приём в его стране. В конце концов, Индии и тем более Персии можно было достичь не обязательно водным путём. В те же места можно было добраться и по суше, тогда самой удобной оказывалась дорога через Московское государство. Недолго раздумывая, я поднялся на палубу военного корабля, который сопровождал направлявшиеся в Россию голландские торговые суда, и 1 сентября 1700 года прибыл в город на реке Северной Двине — Архангельск.
— И вы вновь встретились там с царём?
— Нет, графиня. Я имел счастье лицезреть его величество только через несколько месяцев. В Архангельске я был слишком поражён новыми впечатлениями, чтобы сразу же пуститься в путь в столицу. К тому же меня не связывали никакие обязательства. Местные чиновники вскоре сообщили мне, что царю известно о моём приезде и я вправе располагать своим временем как мне заблагорассудится.
— Но мне говорили, что вы и в будущем рассчитываете на встречу с русским монархом. Где же это?
— О, это такая же сказочная перспектива, как и всё, что связано с Московским государством. Верные источники донесли мне, что государь собирается вновь совершить большое путешествие по западным странам.
— И оставить надолго своё государство? Разве военные дела Московии складываются так благополучно, что он может себе позволить подобную эскападу?
— Я не слишком интересуюсь политикой, графиня. Но мой корреспондент сообщил о полной победе царя Петра над Карлом XII.
— Это известно всей Европе, я думаю.
— Но это не всё, графиня. Именно победа над шведами якобы развязывает руки русскому государю в его желании лично провести переговоры со многими монархами и заключить новые союзы.
— Вы поедете навстречу этому посольству?
— Это будет зависеть от его состава.
— То есть? Вас не интересует сам царь?
— Нет, графиня. Я узнал царя достаточно хорошо. Меня приглашала в свой штат его сестра принцесса Наталья. Это удивительная женщина, увлекающаяся литературой, театром. Она баснословно богата и может себе позволить содержать несколько огромных дворцов. Мне запомнились милостивые её разговоры и то множество вопросов, которые всегда были для меня приготовлены.
— Принцесса молода? Хороша собой?
— Принцесса Наталья всего одним годом моложе царя, а красота... Да, она настоящая русская красавица.
— Это значит?
— Она похожа на фламандку в расцвете возраста и сил.
* * *
Пётр I
Может, тогда впервые оценил слова старика Шереметева: выжидать и терпения не терять, великая наука, государь, от неё больше, чем ото всяких блицев, в военном деле проку бывает.
Выжидать! Вот этого никогда не умел. Смешно как, слова Катины вспомнились: соколом вы, государь мой, родились, лисицей никогда. Ждали на этот раз Кантемира. Согласился отдать Молдавию под покровительство России, а договор решился подписать только 13 апреля. Договор! А со своими силами присоединиться к русской армии медлил. Шереметев решиться господаря заставил: выслал в Яссы свой вспомогательный отряд на четыре тысячи солдат. Тут уж выхода у хитрого молдаванина не оставалось.
Борис Петрович как ни в чём не бывало продвигаться вперёд стал. Любимые его объяснения: потихоньку, государь, помаленьку да с Божьей помощью дело своё сделаем. С пятнадцатью тысячами войска только к 5 июня подошёл к реке Пруту у села Чечора.
Казалось бы, крыться с передвижениями надо. А он наоборот — шуму вокруг такого наделал, будто невесть сколько войска ведёт. И — на первых порах выиграл. Турки уже навели мост через Прут у Исакчи, а великий визирь переправу своих отрядов подзадержал. Известий о множестве русских испугался, да ещё о том, что молдаване на их сторону перешли. Борис Петрович не то что лазутчиков турецких не казнил, своих, купленных, на их место засылал, чтоб небылицы в лицах своим пашам докладывали.
А уж когда Кантемир к Борису Петровичу со своими боярами явился, приняли его чуть не с царскими почестями, лишь бы подписал манифест всем молдаванам за оружие браться.
Вот только между словами да пирами и делом нестыковка вышла немалая. Через две недели молдаване семнадцать полковников и семьдесят шесть ротных командиров под ружьё поставили, а рот укомплектовать не успели. Да и среди призванных командиров шатания пошли.
Чего один молдавский боярин Лупа стоил! Припасы для русской армии не закупил, Шереметева ложными слухами о турецкой армии заморочил, а великого визиря уговаривать стал Дунай перейти. Мол, русских на самом деле не так уж и много, и оголодали они порядком, и продовольствия у них не будет.
Теперь вся надежда была на короля польского Августа — государь его в Галиции, в местном Ярославле дожидаться остался. Появилось, наконец, его войско. Тридцать тысяч под командованием генерала Синявского, только проку от них не оказалось никакого. Дошли до границ Молдавии и встали как вкопанные. Ждут, чем разборки русских с турками закончатся. Мало того, что сами в дело не вошли, так и армию двенадцатитысячную Долгорукого-старшего, что с ними вместе выступать предполагал, задержали.
Своя армия к тому времени, правда, подтянулась. Да после перехода от Риги какие у солдат силы! Передышка им нужна, отдых да еда, только откуда их взять?
Дальше и с молдаванами трудности настоящие начались. Кантемир просил поспешить со вступлением в Молдавию — известно, турок как огня боялся. Уверял, будто тридцати тысяч совместного русско-молдавского войска на всё про всё хватит. А Бранкован ото всех своих обязательств отказался да ещё планы русских союзников туркам выдал — вину свою перед великим визирем решил загладить.
На военном совете о терпении и речи не было. Государь взорвался: сей же час наступать! Никаких подкреплений из России не ждать! Из всех генералов один барон Галлард возражать стал. Все позиции государю и совету представил, что положение у них не лучше, чем было у Каролуса перед вступлением в Малороссию. Наступать — смерти подобно.
Пётр только отмахнулся. Каролус! Где он теперь! Государь все войска велел вперёд двинуть. До Прута довёл, а там и с Шереметевым соединился. Думал, разумно поступил. В Яссы съездил — там его как спасителя от турецкого ига встречали. Со стороны — чистая победа, а на деле?
Велел государь армии в Молдавию углубиться, а вся армия-то от силы тридцать-сорок тысяч, ещё казаков до десяти тысяч да молдаван семь. И это при, подумать страшно, шестидесяти двух орудиях. Обозы огромные, солдаты еле ноги передвигают и кормить их нечем.
При переходе через Днестр войска разделились на пять дивизий. Первой командовал сам государь, второй — генерал Вейде, третьей — князь Репнин, четвёртой — барон Галлард, пятой — генерал Ренцель.
Султан Ахмед III не столько армии русской испугался, сколько бунта всех своих христианских подданных. Предложил Петру немедленно мир заключить и обязался все земли уступить до Днепра. Государю показалось, это ли не предвестник победы.
Без малого всю конницу отправил Браилов крепость штурмовать. Браилов взяли, только донесение об этом доставить государю не сумели — великому визирю его первым доставили. Великий визирь всю свою армию собрал и двинул. До двухсот тысяч солдат у него оказалось. Первую атаку русские войска, собранные все вместе, отбили. Да сколько можно отбиваться, когда у тебя всей пехоты около тридцати тысяч, а у турок в семь раз больше!
Наши оглянуться не успели, как турки русский лагерь окопами окружили, на высотах батареи расставили и даже к воде подступ закрыли. Есть не есть, а пить-то солдату надобно, да ещё по тамошней жаре.
Вот тогда-то и случилось чудо. Государь уже письмо написал Сенату, что ежели в плен к туркам попадёт, не почитать его более государем и не исполнять даже его собственноручных велений. Подписал 9 июля, а на следующий день турки ни с того, ни с сего объявили, что готовы мир подписать. Одиннадцатого июля и подписали. Славы мало, зато армию как-никак спасли. Россия возвращала туркам Азов со всей округой, крепости Таганрог, Троицкая и другие укрепления по Дону и Днестру обязывалась срыть до основания. Более того. Пётр обещался не вмешиваться отныне в дела Польши и признать запорожцев находящимися под властью Турции.
И никакие силы не могли помешать туркам намерение своё мирное осуществить. Ни крымский хан, ни Понятовский, ни сам Каролус, примчавшиеся в турецкий лагерь. Визирь до того озаботился уходом русской армии, что по её пути расставил отряды янычар, чтобы никто на солдат не нападал. Так 12 июля и начался обратный марш на Москву.
* * *
Пётр I, царевич Алексей
— Что ж, Алексей, последняя у тебя возможность стать наследником отеческого престола. Последняя. Хочу думать, воспользуешься ты ею надлежащим образом. Невесту тебе нашли преотличную. Тебе самому она по сердцу пришлась...
— Государь батюшка, я подчинился любому бы вашему выбору. Меня столько лет наставляли, что монархи не имеют права на личные чувства и ничем не поступаются ради интересов своей державы.
— Из сей витиеватой преамбулы следует, что невесту ты выбрал бы себе иную.
— Как вы, государь батюшка, выбрали себе супругу.
— Опять за старое, пащенок! Не тебе меня учить, и престол твой от меня зависит. От меня одного, слышишь!
— Я так и высказал свои мысли, государь батюшка. Шарлотта София красивая и, полагаю, достойная девушка, но я бы предпочёл невесту нашего вероисповедания.
— Выходит, три года жизни европейской не помогли.
— Это моё внутреннее убеждение, государь батюшка, а так я целиком повинуюсь вашей воле.
— Пусть так, лишь бы вёл ты себя достойным образом. Не срамил свою державу перед европейскими государствами.
— Мои учебные успехи должны вас удовлетворить, государь батюшка.
— Хорош новобрачный: об уроках родителю рассказывает.
— Но три года — немалый срок.
— Ещё бы! За это время мы победили шведов — кто о них теперь всерьёз в Европе говорить станет! Справились с турками. Бог даст, на долгие годы. Петербург отстроили. А ты уроки!
— Вы же знаете, государь батюшка, как я хотел разделять с вами тревоги и трудности военного времени. Они стали бы для меня превосходной школой.
— Ненадёжен ты, Алексей, больно ненадёжен. Ни смелости, ни решительности в тебе нет. Может, за эти годы чего и поднабрался. Да ты не бойся, случаев повоевать да покомандовать у нас впереди ещё хватит. Доволен, что в Торгау свадьба состоится? Город нравится?
— Это вместилище людей иных духовных чаяний, государь.
— Это ты про что? Что Лютер здесь в 1530 году со своими сподвижниками составил Торгауские статьи?
— Они и стали основой Аугсбургского вероисповедания.
— Всё верно. Да только ты хоть вчитался в них? Смысл их уразумел? Любопытно ведь с попами нашими о них потолковать.
— Не читал и читать не стану, как того требует наша православная церковь. Никакие ереси не Должны смущать умов истинно верующих.
— Вот те на! Вот и договорились! А ведь трудно мне с тобой придётся, Алексей Петрович. Только теперь снисхождения с моей стороны не жди. Сам ищи, как с государем ладить да в ладу жить. Я тебе шага навстречу не сделаю, так и знай.
— Но, государь, вы же не стали настаивать, чтобы принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская вероисповедание сменила. Вы же с уважением отнеслись к её вере.
— Не вера это — престиж государственный, дело политическое. Зато все ваши дети останутся в православной вере, как прилежащие России и российскому престолу.
— Я хочу надеяться, это будут сыновья.
— Хорошо бы, да как их загадаешь.
— Разрешите осведомиться, государь, о вашем здоровье. Я знаю, после всех тягот Прутского похода вы направились на воды.
— Был в Карлсбаде, был в Теплице. Каменная болезнь — она у нас в роду, кого только не скручивала.
— Я не знаю никого из Лопухиных, кто бы болел ею.
— Значит, Лопухин ты, Алексей, прежде всего Лопухин. Ради рода своего материнского любые мои запреты нарушить готов.
— Я, кажется, государь батюшка...
— Вот именно, кажется. А кто в году 1707-м к инокине Елене в Суздаль тайком ездил? Не ты ли?
— Государь, сын не вправе отрекаться от своих родителей, тем более в беде.
— Это ты бедой монастырскую жизнь называешь? Ангельский чин так для себя определяешь? Хорош, нечего сказать.
— Но ведь чин этот ангельский, когда принят человеком сведомым его трудностей, иначе сказать добровольно.
— Ещё и это! Из последних сил держусь, Господь свидетель, только и ангельскому терпению с тобой, Алексей Петрович, конец быстро наступить может. Ладно, после свадьбы поедете в Россию.
— А вы, государь? Разве это не будет нашей совместной поездкой? Помнится, вы из Петербурга в середине января нынешнего года выехали и до сей поры там не бывали?
— Не бывал и ранее Нового года быть не собираюсь. Здесь в Европе дел невпроворот, и никто их за меня не сделает. Так что сами попутешествуете.
— День для венчания, слышал, сами выбирали, государь батюшка?
— Что тут выбирать. По обычаю, на Покров Пресвятой Богородицы.
Часть III ПРИВЕНЧАННАЯ ЦЕСАРЕВНА
Хто скрываетца от службы, объявить в народе,
кто такого сыщет или возвестит, тому отдать
все деревни того, кто ухоранивался.
Указ Петра I Сенату. 2 марта 1711.Вдовая царица Прасковья Фёдоровна,
царевна Екатерина Ивановна
Едва успела царица Прасковья Фёдоровна на постелю сесть, к подушкам пуховым привалиться — после обеда всегда ко сну клонило, а тут ещё приугорела маленько ввечеру. Голова что пивной котёл. Покрывальце на соболях натягивать стала — грохот на крыльце.
Так и есть, Катюшка. Где только с утра пораньше носило. Погода стылая. С Ладоги ветром промозглым тянет. А ей всё нипочём.
— Государыня матушка, слыхала? Слыхала или нет? О свадьбе царской? Долгожданной!
— Какой свадьбе, Катюшка? Кажись, уж некому в нашем семействе ни жениться, ни мужем обзаводиться.
— На мужей-то, положим, спрос великий. А свадьба государя Всея Руси, царя и великого князя Петра Алексеевича! Что ж тебя-то, государыня, невестушка любимая, среди гостей да свидетелей не было? Аль с нарядами замешкалась? Ко времени не попала?
— Уймись, Катюшка, уймись! Толком скажи, речь о чём.
— Объясняю. Толком объясняю. Государь Пётр Алексеевич сочетался самым что ни на есть законным браком со шлюхой литовской Мартой Скавронской, иначе Катькой Трубачёвой, ещё иначе — государыней отныне Екатериной Алексеевной.
— С ума сошла!
— Уж лучше б сошла. Так нет. Чистую правду говорю, государыня Прасковья Фёдоровна. Это вам своим родом кичиться надо было, чтобы царское семейство в невестки выбрало, чтобы дозволение дало в опочивальню к государю Иоанну Алексеевичу войтить, обязанности супружеские исполнять. Вам — не Катерине Трубачёвой!
— Да где ж такое случиться могло? Не наврали тебе часом?
— Наврали? Никому б не поверила, кабы собственными глазами не увидела. Собственными! Как тебя сейчас вижу.
— Где увидела, Катюшка, где? Аль позвали тебя в подружки, а ты и согласилася, родной матери словечка не вымолвила?
— Позвали! Меня позвали, коли тебе ничего не сказали? Сорока на хвосте принесла, а уж я не утерпела, проверить решила. В карете к меншиковскому дому поехала. Будто прогуливаться охота пришла.
— К светлейшему? Это что — в его домовой церкви?
— А как же — в его и есть. Только подъехала, с парадного крыльца выходят. По ковру по расстеленному. Пётр Алексеевич наречённую свою под белы ручки чисто принцессу какую ведёт. Смеётся весь. На руки подхватил да в карету и посадил. Царскую карету. С гербами. Слышь, государыня матушка, с царскими гербами.
— А дочки, дочки-то как?
— Что дочки? За ними идут. Разнаряженные.
— Сами, что ли? Малютки такие?
— Через порог сами перешли, а там уж няньки на руки подхватили. Значит, привенчанные они теперь, государыня матушка. Для кого стыдоба, для кого слава во веки веков.
— Выходит, цесаревны...
— А о чём речь?
— Цесаревны... А вы с Прасковьюшкой...
— Никто мы больше с Прасковьюшкой, сестрицей моей бесталанной. Кому нужны? Для чего? И так-то хорошего мало видели, а тут и вовсе среди челяди придворной оказалися. И ничего уж, государыня матушка, в деле таком не исправишь, никого не умолишь.
— Я сейчас... Я к государю...
— Торопись, торопись, государыня матушка, молодожёнов первой поздравить. Глядишь, и тебе лишний кусок с царского стола перепадёт, дочек досыта подкормишь.
— Да перестань злобиться, Катерина, Богом прошу, перестань.
— Боишься, государыня матушка! Вон как боишься! Побоялась и мысли государевы разведать, а ведь от них вся судьба наша зависит. Перестанет нас государь дядюшка замечать, и прощайтесь царевны Иоанновны с жизнью придворной, с мужьями именитыми.
— А боле ничего не разведала, Катюшка? Как и что оно там. Хотя у светлейшего всё равно что в семье царской: всё шито-крыто. Кто из них лишним словечком обмолвится.
— Вот и не угадала, государыня матушка. Обмолвились. На радостях обмолвились. Государь дядюшка за услугу великую снова Алексашку землями наградил, будто и не пользовал Данилыч новой царицы.
— Ох, не береди ты сердца, Катюшка. Что тут поделаешь. Лучше всё расскажи.
— А расскажу тебе со слов Варвары Михайловны вот что. Будто государю и невдомёк было с Катериной венчаться: Алексашка подсказал.
— Такое дело? Не верится что-то.
— Хошь верь, хошь не верь. Изо дня в день талдычил, какую великую службу Катерина Трубачёва ему сослужила, как это драгоценностями своими пожертвовала? Да не в этом ведь дело.
— Не в этом? А в чём же, поясни, Катюшка.
— А в том, что пришлось государю дядюшке разрешить госпожу Анну Монс ото всех арестов — прусский король просил. Тут и опять Кейзерлинг подвернулся — с предложением брачным.
— Через столько-то лет и не отстал?!
— Вот и дивись сколько хочешь. Не отстал. Все годы Анны Ивановны добивался. Ни разу в кирхе без него не бывала. У людей на виду. Государь дядюшка досадовать не переставал, только толку никакого. Пришлось просьбу прусского короля уважить. Кейзерлинг с Анной Ивановной тут же о браке и объявили. На оглашение подали.
— Надо же, настырные!
— Как хошь обзывай, а вся слобода Лефортовская у них перебывала с поздравлениями. Свадьбу решили только что не всем миром праздновать — и с огнями потешными, и с шутихами, и с театром люминатским, чуть помене кремлёвского.
— Горько-то, поди, как государю Петру Алексеевичу. Обида какая.
— Жалей зятюшку больше, государыня матушка. То-то он о тебе больно печётся. Да Бог с ним. Я к тому, что как дело со свадьбой Анны Ивановны завертелось, он и о своей с Катькой Трубачёвой объявил.
— Ну, и к чему это, Катюшка?
— Господи, да к тому, чтобы поняла Анна Ивановна: могла государыней царицей стать, а станет всего-навсего посланниковой женой.
— И то дочке виноторговца хорошо, чего уж.
— Кто спорит, да с царицей сравнения нет.
— С царицей! Нетто ей такое в голову прийти могло, сама подумай? А, видно, любил её государь, крепко любил. Да уж, что-что, а любить в их семействе умеют.
— О ком ты, государыня матушка? О Софье Алексеевне?
— О правительнице и говорить не хочу. О первой невесте дедушки нашего государя Михаила Фёдоровиче. О Хлоповой Марье. Как к ней сердцем прикипел, как по ней убивался. Всю жизнь доведоваться не переставал, где она да что. Царица Евдокия Лукьяновна до слёз обижалася. А государь, сказывали, с памятью своей и не крылся. Всё о ненаглядной расспрашивал. Земли да деньги родным давал.
— Что ж она, замуж вышла?
— Царская невеста? Да ты что, Катюшка! В девках век скончала.
— Жаль. Обоих жаль. Только я тебе, матушка, про ещё одно чудо расскажу. Государь дядюшка велел и Алексашке под венец идти в одно время с ним. Конец, мол, вольной жизни, и всё тут.
— С кем под венец-то, Катюшка?
— С Дашкой Арсеньевой. Сказывали, от счастья слезами вся изошла. А Варвара чернее тучи. Да что поделаешь, нет у нас обычаю мусульманского стадом жён держать. Пришлось горбунью обидеть.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна
Про себя думала, нет и не было у братца семьи. Когда это было, что ей, сестрице любезной, торопился письма писать. Теперь и того нет. После венчания наследника с принцессой Шарлоттой заглянул в Петербург, да и в июне следующего года опять в путь. На девочек, цесаревен своих, и смотреть не стал. Ты за ними приглядишь, сестрица, и весь сказ.
Снова год целый в России его не было. В июне 1712-го поехал к нашим войскам в Померанию. В октябре написал, что лечится водами опять в Карлсбаде и Теплице, в ноябре, что попал в Дрезден и Берлин, оттуда к нашей армии в Мекленбург. Кажется, какой тут географии учиться, когда всё своими глазами пересмотрел.
Одну только памятку по себе и оставил, дочку Наталью. В июне, перед государевым отъездом, Катерина её зачала, в марте родила.
Братцу и горя мало. Не нужна ему в путешествиях Катерина. Полюбовницей разве что в полковом лагере пригодиться могла, а венчанной супругой одна морока: тут и о штате думать надо и об этикете придворном. Всегда обязательствами скучал, а с Катериной и вовсе: ни обхождения, ни разговору на европейский манер не знает.
Сказала ему перед отъездом — рассмеялся: наследника должна мне родить. Вместо Алексея, спрашиваю. На всякий случай, отвечает, а глаза шальные, весёлые. До смерти рад, что уехать может.
Из Мекленбурга в самом начале 1713 года в Гамбург и Рендсбург отправился. В феврале через Ганновер и Вольфенбюттель в Берлин к королю Фридрих-Вильгельму.
В Петербург примчался, месяца не побыл и в Финляндский поход, а там чуть не полгода морским поездкам отдал. Будто на воде лучше ему, чем на земле.
Катериной не занимался. Каждый раз дитя ей оставлял. За Натальей в сентябре 1714-го пришла на свет Маргарита. Отшутился, если так дальше пойдёт, во всей России на моих девок женихов не хватит. Расстаралася ты больно. Катя. Другая бы обиделась, эта смеётся: сам виноват, мой государь, больно ты горячий. Что там, немка!
* * *
Пётр I
Знал, многие из сподвижников так и не могли ему простить новой столицы: слишком дорого обходился ещё не построенный, ещё не обжитой город всему государству Российскому. Фёдор Юрьевич не уставал повторять: разоряешь державу, государь, ради чего разоряешь?
Иногда у самого захватывало дух, сколько платила его Россия на строительство Петербурга, и это при том, что продолжала со всех сторон идти война.
Во время финляндского похода на Петербург собрали 242 700 рублей. С каждых земель на свои определённые цели. Московская губерния оплачивала мастеровых людей, — и иностранцев, и русских, — всё начальство. Канцелярия городовых дел, обеспечивала покупку всевозможных материалов — от железа, стали, гвоздей до стекла, бумаги, свинца, кирок и вёдер. На московские деньги изготавливались и суда для перевозок.
Другое дело — татары. С них государь решил брать особый налог: слишком много среди них оказывалось беглых. Этими деньгами оплачивались мастеровые, переведённые на постоянное жительство в новую столицу, архитекторы, «железные мастера», батальон городовых дел, перевозка материалов, оплата труда арестантов.
Все собранные деньги присылались губерниями в Москву, где их принимал особый высланный из Петербурга комиссар Канцелярии городовых дел и отправлял на берега Невы. А было это тем более хлопотным делом, что платились сборы обычно медью. В таком виде и доставлялись в Москву.
Государь хотел было и тут порядок навести. Не вышло. Да и то сказать, в одном 1713 году с Московской губернии удалось собрать тринадцать тысяч двести рублей, из них десять тысяч копейками да алтынами. Чего стоило их пересчитать да по две с половиной тысячи в каждую бочку уложить.
Каждый счётчик складывал пересчитанные им медяки в особый мешок, опечатывал личной печатью. А уложенные в бочки, те же мешки опечатывались по второму разу уже государственной печатью. И хоть сдвинуть такую бочку было делом нелёгким, обозы в Петербург уходили в сопровождении провожатых из губерний.
Государь у комиссара спросил: а взвешивать деньги для скорости нельзя ли? Оказалось, нельзя. Недостача может быть, и немалая. Да и обоза без сопровождения не отправишь. Получил, скажем, в том же году в Москве комиссар Фёдор Пыжов с трёх губерний — Московской, Киевской и Сибирской 25 292 рубля. Значит, обоз выехал под охраной десяти солдат, одного подьячего и восемнадцати провожатых от губерний — чтобы на них в случае чего недостача не легла.
Подвод потребовалось ни много, ни мало сорок пять: тридцать четыре — для денег, четыре — для провожатых, семь — для подьячего и солдат.
Расходы росли как на дрожжах, и платить их полагалось губерниям, хотя деньги уже и принял комиссар. Сами поставляли подводы, сами кормили за свой счёт провожатых, выделяли и счётчиков денег.
Иногда казалось, нищета сведёт с ума. Какие проекты, какие планы — ни на что толком не хватало денег. Государь нервничал, злился. Иной раз требовал с угрозами, иной наказывал. Видеть, как туго строился его город, не хватало сил.
Трудно было со всем. Не только с деньгами на строительство. Не складывалось всё и с людьми. В Петербург отправляли как на каторгу. Вон дворянин Яков Пещеряков привёл из Азовской губернии партию работных людей с сорока четырьмя проводниками — от побегу. На работных же людях для охранения в дороге от побега были двоешные цепи, всего 410 железных цепей общим весом в двадцать четыре пуда. О ближних местах и говорить не приходилось. Случалось, от взрослых не оставалось ни одного человека — одни малолетки, не сумевшие увернуться от охранников.
Во время финляндского похода внимательнее пригляделся к своему новому городу, решил запретить строить каждому на свой лад. Чтобы стояли все дома вдоль улиц, как никогда в России не бывало, а хозяйственные постройки непременно внутри дворов. Дома чтобы выводить в одну высоту и непременно по образцовым чертежам.
Архитектор Доменико Трезини, что крепость Петропавловскую возводил, образцы сделал домов: для именитых горожан, для зажиточных и для подлых, иначе — совсем безденежных. Для застройки набережных полагался особый проект.
Кирпича не хватало, так велено было строить дома из брусьев — не из брёвен. Непременно обшивать тёсом и расписывать под кирпич.
Пожаров особо опасаться. Потому крыть крыши черепицей или дёрном. Трубы выводить печные на один аршин выше кровли, а печи ставить на особых фундаментах, а не на полу, на расстоянии не менее двух футов от стен. Трубы выкладывать такими широкими, чтобы человек пролезть мог, а потолки подмазывать глиной.
Князь-Кесарь еле сдерживался: до тебя, государь, наши предки жить не умели. Ты людишек, что ли, родил, ты их на свет произвёл? Не хуже тебя, как жить, знали.
Знали. Но только ему та их жизнь была не нужна.
Сестра тоже нет-нет да говорила: умнее всех себя ставишь. Так ведь его же власть, ему и командовать. Осенью 1714 года запретил по всей стране каменное строительство, чтобы все каменщики волей-неволей в новую столицу бы потянулись. Даже для Москвы исключения не сделал. Даже для начатых уже строительств храмов.
Снова Фёдор Юрьевич в спор пускался. Нетто забыл, государь, кто так вот над державой нашей издевался? Борис Годунов! Престола захватчик и детоубийца. Так тому, душегубу, кремль смоленский строить надо было, от поляков обороняться, а тебе что? Не может человек от отеческих обычаев сразу отступиться, да и должен ли, не подумал?
Скажи кто другой, не спустил бы. Князь-Кесарь — другое дело. Да и стар стал. Скоро на покой отправлять придётся.
* * *
Пётр I, Б. П. Шереметев
— Вот теперь, государь, ты и впрямь можешь отпраздновать победу над Каролусом. Только теперь!
— Это почему же, Борис Петрович.
— Выходит, не доложили ещё тебе, Пётр Алексеевич о сейме шведском, что решил он о короле.
— Не успел, вероятно. Так ты, фельдмаршал, и расскажи.
— С твоего позволения, государь, я с более ранних времён начну. Сам знаешь, не по душе Каролусу наш мир с Ахметом пришёлся.
— О мире до конца слышать не хотел.
— Верно, не хотел. И хотя всё время науськивал на нас султана, сам решил в Бендерах целое государство шведское устроить. Турки требовали, чтобы восвояси отправлялся, а Каролус с горсткой своих солдат укрепился в Бендерах и ни в какую.
— Помнится, турки и татары тогда напали на него — выбить со своей земли хотели.
— Напали. Десять тысяч турок и татар. У короля разве что человек о тысячу могло набраться. Город уже весь сдался, а он с пятьюдесятью своими головорезами в одном-единственном доме отбивался.
— Храбрец! Всегда отличным солдатом был.
— Да полно тебе, государь! Какой это отличный солдат без царя в голове? Чему его храбрость послужить могла? Дом, понятно, турки подожгли, а когда король захотел в другой перебежать, споткнулся, упал и был захвачен в плен.
— Так у него нога с Полтавы больная, вот и споткнулся.
— Разгрешил дурака, государь, ничего не скажешь. Турки отвезли своего ненужного гостя в замок Тимурташ, что около Адрианополя. Что привезли — стали шведов просить, чтобы забрали, за ради бога, своего короля, покуда ещё чего не накуролесил.
— Сам Каролус не согласился уехать?
— Где там! Ни в какую. Так вот вопреки его строжайшему запрету был созван сейм, и сейм этот решил побудить всеми средствами своего короля в Швецию вернуться и заключить мир.
— За короля стали решать верноподданные!
— А как иначе, государь? До скончания века воевать? Людей терять, страну разорять? Султан как узнал о решении сейма, тут же Каролуса со всяческим уважением отпустил. Вот тот через Венгрию и Германию в самый короткий срок добрался до Стральзунда.
— С армией?
— Какой армией, государь? Один-одинёшенек с единственным слугой. Теперь, надо полагать, уймётся.
— Думаешь, фельдмаршал? А на мой взгляд, опять за старое примется. Не может Каролус не воевать — солдат он, настоящий солдат.
* * *
Пётр I, П. А. Толстой
Пётр Андреевич с новостями не торопился. За версту видно, опасился, мялся. Дурных вестей всегда не любил, а тут...
— Да уж говори, говори, Пётр Андреевич! Всё равно сказать-то придётся.
— Не я скажу, другие выложат. Известно. Только...
— Огорчениями не стращай. Мы сейчас морем заняты, ещё немножко…
— Не о театре я военных действий, государь. О наследнике царевиче Алексее Петровиче.
— И впрямь интересоваться им забыл. Чего ещё учудил Алёшка?
— Нехорошо с принцессой, государь. Больно нехорошо.
— Ссорятся? На принцессу не похоже.
— Слова что — ветер один. На вороте не виснут. Рукоприкладствует Алексей Петрович. Во хмелю.
— Пьёт?! Кто дозволил? Упреждал ведь! Опять недоглядели.
— Собор и компания к нему вернулись, государь. Трёх лет-то будто и не бывало.
— Говорил, гнилая кровь лопухинская всё равно аукнется.
— Что ж, выходит, твоя правда — аукнулась.
— С собутыльниками разберусь. А с принцессой что? Чем подлецу не угодила?
— Прости на дерзком слове, государь, только царевичу ничем не угодишь. Заладил одно: люторка, и весь сказ. Помыкает принцессой как может. К столу не зовёт. Бывает, днями с ней не видится.
— Вот те и воспитали наследничка. А мне в Вольфенбюттель ехать, глазами перед родственниками принцессиными светить. Ну, подлец! А дальше что?
— По-немецки говорить перестал. Только по-русски да ещё с бранными словами. Собор да компания за животы хватаются.
— Морды немытые! Всех в шею! Всех гнать!
— Не говорили мы тебе, государь, думали, образумится. Сами с Алексеем Петровичем говорить пытались, куда! И нас теми же бранными словами понёс. С Гаврилы Ивановича парик содрал, потоптал весь. Буйствует.
— Так, значит. Мало мне военных дел. С ними справляемся с божией помощью, а с одним пащенком нет. Что ты тут о рукоприкладстве говорил?
— Да уж давно Алексей Петрович моду взял принцессу там толкнуть, когда и стукнуть. А тут прибил после попойки своей, как есть прибил. На личике синяки оставил — неловко ведь, государь.
— Неловко! Эх, лишил бы я его немедля наследства, кабы сына имел. Кабы принцесса внука мне принесла. Внука, слышь, Пётр Андреевич! Ему письмецо напишу такое, что задумается. Принцессе подарки послать надобно подороже — пусть хоть ими утешится. С родными сношения имеет?
— Частенько пишет.
— Читаете?
— А как же, государь. Письма-то грустные, но пока впрямую без жалоб. Крепится, видно.
— И чтоб у меня ни единого словца про Алёшку не прошло. Бог даст, укорочу подлеца, приведу в веру христианскую.
* * *
Пётр I
Только теперь испытал настоящее счастье: его флот! Его детище! И его победы — собственными руками. Здесь-то он уже ни в чём не уступал Каролусу.
Другие могли не знать — он знал всю шведскую историю наизусть. Мечтал — также будут знать наследники, потомки. Битва при Вазе. Сражение морское, а место знаменитое. Династия Вазов царствовала целых сто лет в Швеции — в первые годы правления батюшки государя Алексея Михайловича сошла на нет. Почти столько же в Польше — в год его рождения прекратилась на польском троне.
Об этих королях есть что вспомнить. Воинственные. Храбрые, честолюбивые. Власть любили превыше всего.
И вот ведь детей все имели множество. Дочерей в девках не оставляли. А иссяк королевский род. Одно имя осталось. Зато гордое.
Каролус из того же рода. От Вазов пошёл Пфальцский дом. Первый в отделившемся роду — Карл X всего шесть лет правил. В 1660-м скончался. Его сын единственный — Карл XI на датской принцессе женился. Троих детей имел — Каролуса XII, дочерей Гедвигу-Софию и Ульрику-Элеонору. Швеции удачи не принёс. Голодали. С церковью немало король боролся, чтобы государству подчинить.
И вот теперь Каролус. Откуда воинская доблесть взялась — мальчишкой пятнадцатилетним на престол вступил. Никому подчиняться не стал. С самого начала в одного себя верил. Переоценил, видно. И то сказать, повернулась к нам лицом Фортуна, времени бы не упустить!
Отчётов из Петербурга не читал. Разве что на слух принимал. Дворцовой суматохой и вовсе интересоваться перестал. Не до них!
Цидульки всякие от Катерины. Письма от Натальи... Ничего им не понять в новой жизни, перед ним раскрывшейся. По Саймскому водному пути двинулись, с Божьей помощью.
Нейшлот — одна из самых оживлённых гаваней. Вокруг крепости Олофсборга, которую Эрик Аксельсон Тотт в год кончины государя Иоанна Васильевича IV построил.
Место выбрал преотличное — на острове. В проливе Кюренсальми. Пролив два озера соединяет — Хуакивеси и Пихлаявеси. Ключ Саволакса.
Алексашка смеётся: и как тебе, государь, имена эти даются. Будто всю жизнь только их называл. Не называл, так буду называть. И ты будешь. Потому что здесь будущее нашей державы. Да и вообще — Нейшлот это по-немецки. По-шведски — Нюслот. По-фински — Савонлинна. Так-то, Александр Данилыч! Привыкай, любезный.
Медаль «В ПАМЯТЬ СРАЖЕНИЯ ПРИ ГАНГУТЕ 27 ИЮЛЯ 1714 ГОДА». На лицевой стороне: погрудное изображение Петра I, в лавровом венке, латах и мантии, застёгнутой тройным аграфом. Надпись (по-латыни): «Пётр Алексеевич божией милостию царь Российский великий князь московский». На обороте: вид сражения между островами. Впереди фигура Победы с венком и трезубцем в руках. Надписи (по-латыни): «Первые успехи русского флота» и «Морская победа при Аландских островах 27 июля старого стиля».
О такой победе и не мечталось. Мыс Гангут. Длинный. Окружённый шхерами. На самой северной оконечности Финского залива. Маневрировать нелегко. Бой вести — того труднее.
Сам взял на себя команду русской эскадрой. Под флагом шаутбенахта Петра Михайлова.
Шведский адмирал Ватранг хотел русские галеры в гавани Твермине задержать — до Гангута одиннадцать вёрст.
Не вышло. Бой завязался отчаянный. Нашим удалось взять галер шведских шесть, один прам и два бота. Вместе с командовавшим ими контр-адмиралом Эренши льдом.
Шхеры очистили от шведов до самых Аландских островов.
И командующему дали чин адмирала. Адмирал Пётр Михайлов!
Бой отгремел. А всё остыть не удавалось. Залпы виделись. Пушки в ушах палили. Заснуть не мог. Вроде, слава тебе Господи, конца благополучно достигли. И вроде жалко — такое не повторится. Вот она удача, вот она!
* * *
Пётр I, Г. И. Головкин
— Государь, новости из Петербурга. Принцесса Шарлотта благополучно родила. Вас можно поздравить с внучкой.
— Опять с девочкой! Мне кажется, над моим домом тяготеет какое-то заклятие: женщины и только женщины! Ради этого не стоило женить Алёшку.
— Но это всего лишь первый блин, ваше величество. Повторение может дать желаемого наследника. Врач сказал, что принцесса находится в добром здравии и вполне расположена к материнским обязанностям.
— Утешил, ничего не скажешь!
— И это несмотря на все семейные огорчения принцессы, ваше величество.
— Ты хочешь сказать, Гаврила Иванович, что Алёшка по-прежнему не унялся и обхождения с супругой не изменил?
— К сожалению, государь. Незадолго до родов он прибил принцессу, и ей удалось спастись только бегством. Если бы царевич не выпил лишнего, что помешало ему устремиться за женой, результат мог бы оказаться самым плачевным.
— Проклятое семя! Сколько раз я его предупреждал. Грозил. А он знает, я своему слову хозяин.
— Царевич неоднократно говорил в своём соборе и компании, что ненавидит принцессу и что ему только силой могли навязать жену-люторку.
— Даже языка на привязи не держит. Совсем обнаглел, мерзавец! Дай вернуться в Петербург! Уж там-то мы поговорим на мой манер!
— Государь, но я должен передать царевичу, какое имя вы хотели бы дать новорождённой.
— Это его дело.
— Но Алексей Петрович заявил, что его вообще не интересует судьба дочери принцессы. Мне не кажется возможным настолько огорчать родильницу. Скандал непременно дойдёт до её родных по всей Европе.
— Твоя правда, Гаврила Иванович. С Алёшкой расправлюсь по возвращении, а пока напишу ему несколько строк острастки, да и ты ему от моего лица передай, чтобы поостерёгся, крепко поостерёгся. Так дальше пойдёт, не видать ему ни престола, ни дворца.
— Всенепременно передам, государь.
— А знаешь, Гаврила Иванович, одного в толк не возьму. Не кота ведь в мешке получал, когда женился. И встретился с Шарлоттой заранее, и поговорить мог, и сам мне толковал, что по сердцу пришлась, что на супружество с ней согласен. Да и в Торгау держался как подобает. Как подменили парня!
— Может, так оно и есть, государь. Три года в странах европейских пожил, иными глазами на всё смотреть привык. В узде себя держал. На их языке изъяснялся, вроде и мыслями ихними думал. А тут вся старая бражка к нему прибилась. Нрав у Алексея Петровича не больно устойчивый. Все попы и начали его подговаривать, округ воду мутить.
— Не выгнал я их в своё время. Сам виноват, не выгнал!
— Да их не то что выгнать, иных и на поселение отправить не грех бы было для пользы дела.
— Не хотел Алёшку мутить.
— Думал ты, государь, по-доброму, ан всё наоборот получилось. Честно скажу, принцессу жалко. Образованная. Всё книжки читает. В деда да прадеда пошла. Август Брауншвейг-Люнебург-Данненборгский учёным среди учёных слыл. Тридцатилетняя война шла, а как разумно да человеколюбиво страной своей управлял. Не случайно современники его «Божественным старцем» прозвали. Библиотеку какую в Вольфенбюттеле организовал. До Мафусаилова века[13] Господь сподобил его дожить. Дед Рудольф тоже учёностью отличался.
— Хватит мне литанию читать. Сам знаю, да что нам-то с тобой толку, когда к тому же принцесса девчонку родила. И вот что, Гаврила Иванович, нарекут её пусть Натальей, а сестра ею и займётся. Нечего принцессе младенцем голову морочить, да и Алёшке неведомо что в голову его дурную взбредёт.
* * *
Царевна Наталья Алексеевна, И. Н. Никитин
У царевны Натальи Алексеевны во дворце проба новой пиесы её сочинения. Дым коромыслом. Художники. Актёры. Музыканты. Сама государыня царевна впопыхах. Еле сыскать удалось.
— Государыня царевна!
— Ванюшка, ты ли? Вот и славно, что меня сыскал. Слыхала, государь и тебя в Европу с собой берёт. Скоро ли в путь собираешься?
— Нет, государыня царевна, отдельно нам с братом его величество ехать приказал. Он-то в Италию когда ещё доедет, а нам туда прямой путь. Поспешать велел.
— Это что — умения живописного, что ли, поднабраться, выходит? По мне, ты сам кого хочешь научишь, Иван Никитич. Да не моё дело. Как братец пожелает.
— И поучиться, государыня, и на работы разные поглядеть, и кое-что для петербургских дворцов прикупить.
— Да уж у нашего Петра Алексеевича без работы не посидишь. У меня другое, Ванюшка. Персону ты мою преотлично представил. Хочу тебя о племянненке моей старшенькой попросить — об Анне Петровне. Хочу, чтобы ты, коли время ещё есть, списал мне её, красавицу. Управишься ли до отъезда?
— Для вас, государыня царевна, управлюсь. Я полагал, что государь может захотеть для сватовства какого али переговоров дипломатических с собой портрет цесаревны забрать, тогда не успею: краски не просохнут.
— Для меня. Для меня одной, Ванюшка. Если удобно тебе, у меня и можешь во дворце расположиться. Не возить же к тебе в мастерскую цесаревну нашу.
Двух дней не прошло, всё во дворце готово. Торопит Наталья Алексеевна персонных дел мастера Ивана Никитина. Над душой стоит. С крестницей сама в залу пришла.
— Аннушка, вот это и есть наш знаменитый персонных дел мастер Иван Никитич. Прошу любить и жаловать.
— Глубочайшее почтение моё, государыня цесаревна.
— Здравствуй, Иван Никитич. А ты разрешишь мне вопросы тебе задавать, коли захочется?
— Всенепременно, государыня цесаревна. Извольте обо всём спрашивать, что только знаю. Как живопись масляными красками ведётся. Как картина устроена. Как лаком её покрывать надобно.
— Чтобы краски не темнели, правда?
— Правда, государыня цесаревна.
— И про пяльцы твои, которые блейтрамом называются, знаю. Поди, знаешь, Иван Никитич, государь батюшка живописи у самого Михайлы Чоглокова учился, только недосуг ему всё.
— Нешто мыслимо драгоценное государево время на простое ремесло тратить.
— А вот и не простое, Иван Никитич! Государь батюшка сколько раз говаривал: дьяков да подьячих вон целая Ивановская площадь, а живописцам всё от Бога. Их беречь надобно.
— Вот спасибо на добром слове и государю, и тебе, цесаревна.
— А ещё, Иван Никитич, государыня тётенька велела меня с горностаями написать. Только у меня ещё нет горностаев. Как быть?
— Оденем тебя, цесаревна, и в горностаи, и в бриллианты. Как царица у нас будешь.
— Правда, Иван Никитич? Вот славно!
— А там, глядишь, и ваша собственная мантия, цесаревна, подоспеет. Ждать-то вам уж совсем недолго. Того гляди заневеститесь.
* * *
Цесаревна Наталья Алексеевна,
цесаревна Анна Петровна
— Фимка! Фимушка! Детки где? Детки...
— Да полно тебе, государыня царевна, что с ими деется! Мамки при них, кормилица тоже, чай, доглядят. Лежи себе, государыня царевна, да отдыхай, недуг свой гони прочь.
— Некуда мне его, Фимка, гнать. Это он меня с того света пришёл подгонять. Зажилась, видно, Наталья Алексеевна. Зажилась, никому не нужна.
— О, Господи, прости, откуда слова такие у тебя, государыня, берутся! Сорок три годочка всего-то! Забыла, что ли, поговорку: сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять.
— Не дотянуть мне до ягодки, Фимка. Теперь уже точно знаю, не дотянуть. Сил моих больше никаких нету. Да не о болезни я — о детках. Как-то они без меня останутся.
— В царском дворце да без призору! Окстись, царевна!
— Креститься мне нечего. Не видишь, что ли, не любит государь братец Алёшеньки. Не любит, а справедливости от Петра Алексеевича, известно, ждать не приходится.
— Жалеешь, царицу Евдокию, государыня царевна?
— К чему ты это? Её никогда не любила, а вот род наш...
— Так теперь у Алексея Петровича и сынок на свет появился. Наследник, если, не дай Господь, что случится.
— Вот я тебя о детках и спрашиваю. Натальюшке вот-вот два годика стукнет. Утешная такая. А Петруше восьми месяцев нету. Жизни принцессе Софии стоил. Какая-никакая, а всё мать. Кто о них теперь позаботится, когда Катерине Алексеевне до своих дело.
— Сынка ждёт, что и говорить и не одного. Петру Петровичу тоже осьмой месяц пошёл.
— За него я спокойна. За ним братец сам доглядит, а за внуками...
— Да брось ты сердце своё крушить, государыня царевна. Вон цесаревна Аннушка к тебе прибежала. Пустить ли?
— Как же не пустить. Только она одна по своей воле к тётке и забегает. Все под одной крышей живём, а она одна моих дверей не забывает, красавица наша.
— Тётенька, крёстненька, который раз к тебе стучусь, не пускают меня. Сказывают, неможется тебе. Правда ли, крёстненька? Чем захворала ты, государыня тётенька? Кабы батюшка государь знал, ни по чём бы не уехал.
— Уехал бы, Аннушка. Ещё как уехал. Дела у него государственные, а нас родственников-то у него сколько — нетолчёная труба. Сосчитать не сосчитаешь.
— Что ты, крёстненька! Ты у нас с батюшкой одна-единственная. Тебя ли не любить, за тебя ли не печаловаться!
— И где ж это ты слов таких набралася, племянненка? Печаловаться — надо же такое сказать! Из-за меня тебе печаловаться нечего. Добром станешь поминать, вот и ладно.
— Как это поминать, крёстненька, почему поминать?
— На каждого свой час приходит, девонька.
— Не твой, не твой, государыня царевна! Только бы не твой!
— За слёзки твои светлые спасибо, крёстная моя доченька. А воля на всё Господня. Ему виднее.
— Государыня тётенька, нешто не хватит смертушке по нашему дворцу бродить? Пусть другой двор поищет!
— Что ты говоришь, Аннушка? О чём ты?
— А как же, крестненька, девки толковали — страх меня облетел.
— Отчего, девонька? Ну-ка расскажи.
— Да что тут говорить. За один этот год двух сестриц моих похоронили: в мае — Наталью Петровну, в июле — царевну Маргариту Петровну, в октябре — принцессу Софию. Не люблю, государыня тётенька, похорон. Боюся их, особливо когда прикладываться к покойнику заставляют.
— Так родные ведь, Аннушка.
— Они холодные...
— И со мной не простишься, доченька?
— С тобой? С тобой, государыня тётенька? Да я тебя отогрею! Своими руками отогрею! В личико твоё белое дышать стану, сколько сил хватит, чтоб не заледенело!
— Да не пугайся, не пугайся так, доченька. Дай благословлю тебя, родненькая. Сама не хочу вас оставлять. Ступай себе с Богом.
— А когда ещё прийти позволишь, государыня тётенька?
— Завтра, девонька, приходи завтра. Устала я, моченьки моей нету. Лечь мне, лечь скорей на постелю надобно.
— Государыня царевна, может, дохтура ещё позвать, коли так неможется?
— Нет, Фимушка, не надо дохтура. Просто отжила раба Божия Наталья свой век. Как матушка наша родительница: её в сорок три года не стало. При братце бы хотелось. С ним проститься. Один он останется, один-одинёшенек.
— Слухам о Катерине Алексеевне веришь, царевна?
— А ты? Чай, куда больше моего знаешь, ты-то веришь?
— Да я, государыня царевна, что...
— Ты что! Молодая Катерина Алексеевна. На двенадцать лет братца государя моложе. Здоровая. Кровь в ней так и играет. На неё ни в чём ни усталости, ни удержу нет. Государь братец делами занят, а она... Пока невенчанной была — одна, после венца — уверенности понабралась.
— И то сказать, государыня царевна, государь Пётр Алексеевич тоже не её одну на Божьем свете видит. Чай, слухи-то до неё доходят. Да и государь с делами своими амурными не больно-то кроется, с обиды мало ли что бабе в голову втемяшится.
— Вот и думаю, без перестачи думаю, чтобы у братца государя огорчений поменьше было. А помирать без него придётся. Кроме него, родимого, никого на свете у меня нет.
— Бог милостив, государыня царевна, доживёшь.
— Как дожить, коли неизвестно, когда обратно путь держать будет.
— Так-таки ничего тебе и не поведал?
— Сама знаешь, ничего. Мол, как дела пойдут.
— Да ведь дела-то у него — сейчас нету, сейчас объявились.
— Всю жизнь так.
— Тебе бы, государыня царевна, ему перед выездом о недуге своём сказать. Аль теперь весточку послать, что так, мол, и так.
— Где-то он теперь. По депешам посмотреть. Писем писать не обещался. Мол, времени не будет. А вот отписки из депеш велел мне присылать. Вон гляди, Фимушка, 8 апреля, на преподобного Руфа, сыграли они в Данциге свадьбу, продали Катерину Иоанновну.
— Поди, рада царевна без памяти.
— Будет ли чему радоваться, время покажет. А вот государь наш на радостях пошёл колесить. Царицу свою в Данциге оставил, сам куда только не ездил. На Симеона вернулся, пару деньков в Данциге побыл и опять колесить принялся. И названий таких городов немецких отродясь не слыхивала. На память мученицы Арины, 5 мая, снова в Данциге оказался — именины крёстной своей, государыни царевны Ирины Михайловны, отметить, и опять в путь. Тут уж и вовсе не разобраться: то ли на суше государь братец, то ли на море. Нет, Фимушка, не видать мне родимого — не судьба. А на утро Аннушку ко мне пусти.
— А как же, государыня царевна, не пустить. Развлечёт тебя, от мыслей тяжёлых отвратит.
— Не про то я, Фимушка. Сама хочу, коли силы позволят, ей про крёстного своего рассказать.
— Про кира Иоакима? Так не любит его памяти государь Пётр Алексеевич.
— Потому и хочу сама рассказать. Аннушка запомнит. Ей до всего дело есть, всему она любопытная. Кабы Алёшенька таким был...
* * *
Царевна Екатерина Ивановна
Боялась... Не тогда, когда выезжали из Петербурга. Что там! Государыня невеста! Без пяти минут герцогиня Мекленбургская! Наконец-то — двадцати пяти годков с плеч не скинешь. Засиделась в девках. Думала, государь дядюшка уж и не вспомнит. Век вековать на матушкиных нищенских доходах оставит.
Из дворца ихнего (прости, Господи, дворец!) выходила — не оглянулась. Знала, государыня-матушка, сестра, челядь вся на порог да на двор высыпала. Не оглянулась. В покоях простились. От матушки благословилась, и будет. В путь бы скорее.
О женихе ни разу не подумала. Что уж тут, какой достанется, и ладно. Думала, с каждым справится. Другие же живут — и она проживёт. Веселиться станет. Театр придворный, свой, получше, чем у царевны Натальи заведёт. Чай, не оплошает перед немцами.
И дорогу всю страха не было. Любопытство одно. Государь ещё двадцать седьмого января в путь пустился. Ему везде одно море да флот снились. Да всё равно дорогу проложил для супруги своей — Екатерина Алексеевна только одиннадцатого февраля тронулась. Обоз преогромный. Всё шутила: твоё, герцогинюшка, приданое никак не уложишь. Смех сказать, невесте-то приданого не показали. Торопились. А ей что, всё равно своего нету. Уж какова царская милость будет, на том и спасибо.
С царицей куда лучше. Весёлая. Остановки в пути любит. Чуть что и к чарке приложиться не откажется. Вот теперь поживёшь, герцогинюшка, смеётся. Что ни будет, а всё лучше Измайлова, правда?
Робость в Нарве закрадываться начала. О ней всегда со страхом говорили. Что народу нашего полегло в 1700-м, что людей в плен шведы позабирали! Толком царевича Милетинского Александра Арчиловича, что всей артиллерией командовал, и не помнила. Одно разве — первым красавцем при дворе слыл. Кто только на него не заглядывался. Любимец дядюшкин. Уж как дядюшка государь по его полону убивался, как выкупить любой ценой хотел, матушка рассказывала. Не отдали шведы. И Ивана Трубецкого не отдали. Мол, пусть у нас сгниют, русской земли больше не увидят.
Многие шепотком рассказывали: Милетинский царевич всему виною и стал. Крепость всю окопами земляными окружили. Две недели бомбардировали. И всё без толку. Будто бы батареи не там, где следует, расставили, пушек много непригодных оказалось, а там и снарядов не хватило. Государь кинулся в тыл обозы торопить, а тут шведский король Карл XII нежданно-негаданно налетел. И солдат у него будто бы меньше, и орудий всего ничего, да наши начальники смутились. Кого ранило, конница Бориса Петровича Шереметева в бегство ударилась. И не они одни: солдаты наши все некормленые, толком не одетые, начальников немецких своих стали убивать.
Кажется, семьи не осталось, чтобы кто-нибудь в плену не оказался. Государь строго-настрого запретил по погибшим панихиды служить, тем паче по пленённым. Будто и не случилось никакой беды. Матушка-государыня белее снега тогда делалась, как кто ненароком Нарву помянет. Всегда опасливой была, а тут...
Спросила нынче у офицеров, говорят, спустя четыре года государь Нарву взял. Народу положил что не мера. Тридцатого июня 1704-го бомбардирование начал, девятого августа на штурм пошёл. В те поры ему и Катерина Трубачёва подвернулась. Посчастливилось бабе.
В соборе обедню отстояли. Всего восемь лет назад, сказали, его из лютеранского в православный перевели. Сам государь на освящении был. Остановились в государевом дворце, что у самой крепостной стены. Свита в Персидском дворце разместилась — государь в нём склад персидских товаров решил устраивать.
Двенадцать лет со штурма прошло, а всё, кажется, порохом потягивает. На домах да городских стенах подпалины. Народ волком смотрит. В Юрьеве не лучше. Немцы Дерптом его называют. Тоже у шведов был — Борис Петрович со своим войском захватил в 1704-м.
С государем дядюшкой в Либаве съехались. Как только место это ни называется. Для немцев — Либоу, для местных — Лиепая, для наших — Либава. Курляндские владения. Государь наглядеться не мог: гавань торговая, военная, море почти что никогда не замерзает.
Племянницы вроде и не замечает. Один раз повернулся на каблуках. Кинул со злостью: вон какие богатства у твоей сестрицы были бы, кабы ума хватило в Измайлово не рваться, наседка безмозглая! И тебе, мол, урок, чтоб не дошлой герцогиней не стала, чтоб сообразила, как детей рожать да мужа в руках держать. Гляди, как наша государыня что ни год дитё приносит. И тебе поторопиться надо будет, да ещё девок не рожать — от них толку!
Вот когда страх подступать стал: одна! Совсем одна и всем должна. Всем угодишь, что самой себе-то останется? А жалиться некому. Государь даже камермедхен нашу взять не разрешил — супруга будущего не раздражать. Мол, в их обычаи входить с первого же дня надобно. Вспоминать нечего и незачем — на то старость есть, а ты, племянненка, в соку в самом, тебе жить да жить.
Четыре дня в Либаве погостили. У государя свои дела, у царевны Екатерины свои. В последнюю ночь крестную вспомнила. В августе 1706-го плохо ей стало. Меня позвала. Не государыню-матушку, хоть и благоволила к ней. Простить не могла, что государю прислуживается. Царского своего достоинства не помнит. Мне ничего не говорила — в теремах слышать пришлось.
Давно уж все дни на постели проводила. А тут в креслах встретила. Милостиво так. К коленям её припала: «Государыня царевна! Крёстненька!..» Голосу нету — словно слезами залило, такая-то она вся прозрачная, что свеча восковая, от дыхания клонится, от сквозного ветру к земле припадает.
«Что ты, что ты, Катеринушка! Господь с тобой, дитятко моё милое. У каждого свой час. В чужую могилку не ляжешь, своей не уступишь. Да и не знала я, что крёстную так любишь. Вишь, как поздно знатьё приходит. А то всё одна да одна...»
«Вот видишь, должна была твоей матушке отдать, себе задержала. Сестрица твоя. Мария Иоанновна. Три годика ей Господь белым светом полюбоваться дал. К тому времени, что ей уходить, и другая царевна, Феодосия Иоанновна, пришла на свет да и убралась, ты, крестница, народилась. Ты-то свет Божий в октябре го увидела, а Марьюшку Господь в феврале го призвал. Как сейчас помню, на память Алексея митрополита Московского. Ко мне всё льнула. Как её забирать из моих палат, слезами заходится, душу рвёт.
Мне на память всё баба наша, Великая Старица, приходила. Своих рожёных деток так не любила, как внучку старшую, царевну Ирину Михайловну. Всё в кельях своих её держала. Кукол внучке шила. За лоскутками в Мастерскую палату посылала».
Велела помочь к окошку подойти: «Кабы в Новом Иерусалиме дни свои скончать. Не дал Господь такой благодати. Может, грехом посчитал, как за патриарха Никона стояла».
Повернулась. В глаза строго-строго поглядела; «Как жить будешь, Катеринушка? Жениха в теремах можешь и не дождаться». В шестнадцать-то лет вроде и не страшно: что-нибудь да будет.
Снова поглядела: «Может и ничего не быть. Кому как не мне знать». На посох оперлась, несколько шагов через силу переступила: «Править бы тебе по характеру твоему, Катеринушка, править, как царевна Софья правила. Старшая ты из Иоанновичей. Старшая! Бог умом не обидел. Хваткая ты. С людьми ладишь».
Похолодело внутри: что говорит! «А царевич Алексей Петрович как же?» На меня долго смотрела. Молчала. Потом: «Младшие они в царском доме. От Нарышкиной. Нешто не видишь, как Пётр Алексеевич с немцами крутит, от немки своей полюбовницы не выходит». Не утерпела: «Государыня-царевна, да он уж, сказывали, другую нашёл. Тоже немку». Головой покачала: «Знаю. Софьюшка бы куда лучше была, кабы от князюшки своего в полное помрачение не пришла. Попомни слова мои, доченька, у простых людей, может, и иначе, а у нас, порфиророжденных, от любовных мечтаний одна беда бывает. Ничего, кроме беды. Берегись ты счастья этого, Катеринушка, пуще грозы-мулоньи берегись. За день один всею жизнью платиться будешь. Добрая память сотрётся, злая ни во веки веков тебя не оставит».
* * *
Пётр I
Больше всего об Амстердаме думал. Не то что дела какие особенные: по сердцу город пришёлся. Всё мечталось такую же столицу на Неве поднять. Такую, да ещё лучше. Больше. Просторнее. Да ведь надо же — не задалось чтой-то.
На Николу Зимнего день в день добрались. Без государыни. В Вестфалии оставить пришлось. В Безеле. Второго января того же года, 1717-го, сыночка родила. Павла Петровича. Обрадовался: Шишечке на подмогу. Теперь о престоле беспокоиться не приходится. Два сына — это ли не благословение Господне!
Рано благодарственный молебен оказалось заказывать. Дохтур здешний, немецкий, только головой покачал: тяжёлые роды, ваше величество, куда какие тяжёлые.
Это девятые-то тяжёлые? Плечами пожал: тут счёт не важен. Очень роженица намаялась. Не надо бы ей на сносях в путь пускаться.
Так ведь в пути уже понесла. Не в Петербург же возвращаться. Доносила — всё честь честью, а с родами, видно, не справилась. Помер сыночек на следующий день после родов. Сутки прожил — еле окрестить успели, и уж нет Павла Петровича.
Катя умница: толком и не всплакнула. Как, говорит, убиваться-то на чужой стороне. Вот только сыночка бы в Петербург отправить. Сама проводить в путь решила, да и прийти в себя ей надобно.
Так всё поначалу складно в Амстердаме пошло. Да через три недели лихорадка прихватила. Огневица. Как раз на первомученика и архидиакона Стефана. Вспомнилось, Михайла Чоглоков этого мученика в храме Покрова в Филях написал, государыня матушка так и ахнула: «Ты ж государя нашего Петра Алексеевича как живого представил!»
Не одна матушка Наталья Кирилловна — все, кто видел, сходству дивились. Москва далёкой-далёкой представилась, будто во сне каком.
Ничего доктора с лихорадкой поделать не могли. Два месяца трепала. Одни толковали, будто заморская какая, из Индий привезённая. Другие — будто поветрие моровое. О таком, верно, покойный Кир-Адриан говорил. Девятью мучениками спасался. В здешних местах нешто найдёшь.
Одна радость — письма Аннушкины. И как только грамоту одолела. Восемь годков всего-то, а разумница, каких поискать. Сыночка бы такого...
На Сретение Катя в Амстердам приехала. Не научилась ещё нашим праздникам — всё по подсказке. Спасибо камер-юнкер расторопный оказался. Уж на что Монсов поминать не любит, а тут Видима как могла хвалила. Угодлив. За всё с охотой берётся. Ничего не упустит. Видно, и Безель таким скушным не показался.
И то сказать, был когда-то городок крепкий. И крепость при впадении реки Липпе в Рейн. Начался в XIII веке с монастыря, который во времена нашего Ивана Васильевича Грозного сами же горожане и срыли. Город и в Ганзейский союз входил, и владычество испанцев, хоть и недолгое, пережил. Теперь у курфюрстов Бранденбургских. Приветили Катю, ничего не скажешь.
На вид государыня наша молодец молодцом, а съездили с ней всего-то на четыре дня в Саардам и Утрехт, с лица спала. Невмоготу, видно.
Может, годы уже не те. Так с Шишечкой, будь на то Господня воля, и останемся. На сердце тревожно.
Снова один в путь пустился. Пусть поживёт в Амстердаме. Через сколько месяцев дела окончать удастся, кто знает. С пустыми руками не вернусь, а пока договоришься да оглядишься — раньше лета не выйдет.
Ещё письмецо от Аннушки. Здоровья да благополучия желает. Буковки чистенькие, ровнёхонькие — что твой писарь. А подпись по-голландски поставила. Доченька...
* * *
П. М. Бестужев-Рюмин, А. П. Бестужев-Рюмин
В Митаве дом обер-гофмейстера П. М. Бестужева-Рюмина. Сынок младший Алексей Петрович места себе найти не может.
Вырываться, вырываться отсюда надобно. Засидишься — забудут. Как Бог свят, забудут. Батюшке оно, может, и сойдёт, мне — нет. Как быть? С герцогиней подружиться — в Петербурге не простят. От Аннушки в сторонке держаться — она не помилует. С её-то нравом! Лишь бы государь сюда пожаловал. По всей Европе колесить собирается, почему бы и сюда не заглянуть. А я бы своего не упустил, костьми лёг — не упустил.
О преосвященном Феодосии, помнится, рассказывали. Рано постриг принял. От отца ни кола, ни двора не получил. На воинскую службу и ту денег не набралось. Понятно, к духовникам подался. А тут с игуменом Новоспасского монастыря не поладил. Грамотеи тому не понадобились, коли сам в книгу раз в год по обещанию заглядывает, буквы, кажется, и те перезабыть успел.
Укротил молодого монаха — на скотный двор в Троице-Сергиев монастырь сослал. Только в первый же приезд государя Феодосий изловчился за спиной его во время службы в соборе оказаться. Ближе не подойдёшь — не допустят. И начал петь на всех языках. Одну молитву по-гречески, другую по-латыни, третью и вовсе на польском, а там и на немецком. Царь услышал, обернулся, подозвал. А там уж Феодосий охулки на руку не положил — государя своими прожектами так завлёк, что тот его распорядился тотчас ко двору направить. Место настоятельское где-то определил.
Неужели я бы не сумел? Первый раз не вышло, может, на обратном пути выйдет. А всё батюшка — совсем оттеснил, всё в первом ряду быть хотел. Герцогиню и ту застил.
Савка список с подённого журнала исхитрился прислать. Дорого заплатить пришлось — плевать, не в деньгах счастье. Значит, выехал государь со свитой из Петербурга в Гданьск на Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, значит, 27 января 1716-го. Ещё говорили, надо бы в Успенском соборе государю службу торжественную отстоять — как-никак часть головы святителя там сохраняется.
Вот тут путь и лежал через Нарву, Дерпт, Ригу в Митаву. Здесь задерживаться не стал. Весёлый, шумливый. Анна Иоанновна заикнулась: ей бы на свадьбу сестры... Отмахнулся: сиди, где сидишь. Был бы герцог жив, другое дело, а так нечего измайловский курятник разводить. Зло сказал, обидно. Сколько дней она с опухшими глазами ходила. Батюшке докука — утешать да развлекать.
Государыня Екатерина Алексеевна с невестой выехали из Петербурга позже, отдельным поездом. Сёстры здесь едва обняться успели, надо было к месту встречи с государем — в Либаву спешить. Царевна Екатерина Иоанновна тоже не больно с сестрицей любезничала — мужа бы ей поскорее, герцогство собственное, корону. Анна Иоанновна расплакалась, а сестра через плечо при отъезде кинула: у каждого своя судьба. Значит, Господа не умолила.
Из Либавы всё наскоре: Мемель — Кёнигсберг — Гданьск. Государь Пётр Алексеевич будто книжку читал — страницы перекидывал: скорее, скорее. Ни одной толком не дочитывал. Глянул поверху и дальше поехал. На преподобного Иоанна Лествичника в Гданьск герцог Мекленбургский приехал, у бискупа Варминского, князя Потоцкого, ассамблея препышнейшая по этому поводу состоялась. Велено было представителя герцогини Курляндской прислать. 23 марта туда же в Гданьск король польский прибыл. Государю нашему и там неймётся: не дожидаясь свадьбы, решил в Кёнигсберг заглянуть. Еле отговорили, чтоб не опоздать.
Большую надежду имел, что представителем герцогини Курляндской меня пошлют. Где там! Не по чину. Батюшка поехал. Сиди гляди, как Анна Иоанновна только не волосы на себе рвёт. Одна мамка Василиса унять могла, да и то не каждый раз. Одно верно: не только государь — сестрица тоже видеть её не хотела. Разговор пустой — родная кровь. Каждому до себя.
В середине мая дважды побывал государь в Гамбурге — очень ему по душе пришёлся. Тогда же и двор принцессы Фрисландской в Алтонау посетил, в любезностях перед властительницей рассыпался. Похоже, и её высочеству по душе пришёлся. 23 мая имел встречу с курфюрстом Ганноверским, в десяти вёрстах от Ганновера, в Гамбурге верфи смотрел. Дважды ещё в Ганновер возвращался... Июль весь в Копенгагене провёл вместе с государыней Екатериной Алексеевной. Что ни день на корабли ездил. Нарадоваться, говорили, кораблестроительному делу не мог.
— Чего колдуешь, Алексей? Герцогиня о тебе спрашивала, неудовольствие высказывала, что никого из штата на глазах нет.
— Неужто Василиса куда-то запропастилась?
— Ты что, Алексей, ума решился? Что говоришь? Как смеешь?
— А что мне сметь? В лакеях не ходил и ходить не буду, тем более у такой, прости Господи, герцогини.
— Ой, Алёшка!
— Да не пугай меня, батюшка — не из пугливых. Лучше помоги выбраться отсюда. Нам с тобой вдвоём в этой берлоге всё равно тесно. Неверно, что ли?
— Как помочь-то? О чём думаешь?
— Когда государь собирается в Митаву быть? И будет ли, как думаешь?
— Кто за государя поручится? Но только лежит Митава у него на пути. Вот 6-го сентября, на Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех, прибыл в Магдебург. Супруг и Мекленбургские его принимали. Недоволен остался и очень.
— Что так? Обязательства какие разве были?
— Того я неизвестен, а только дня у них не задержался. Неделю в Берлине пробыл. Оттуда в Мемель и сушей в наши стороны двинулся. В Мемеле полагал быть на Преставление Сергия Радонежского.
— Выходит, 25-го.
— А оттуда до нас два дни езды. Вот и считай.
Часть IV ДОЧЬ МОЯ АННУШКА
Пётр I
Ждал ли бегства сына родного? Всего ждал — не бегства. За рубеж! В чужие государства! Прямо за посольством отцовским. Не постыдился. О собственной славе дурной не поразмыслил.
Катя, как всегда, успокаивать принялась: обойдётся, государь. Как-нибудь да обойдётся. Ей лишь бы кругом спокойствие. Да и то сказать — тяжёлая. Посерела вся. Силится улыбаться, а, видно, нелегко ей. Всё равно не удержался — прикрикнул. Что обойдётся, государыня царица? Как обойтись может?
Федос осторожненько намекал: не запугать бы царевича. От страху чего человек ни выкинет — хуже будет. Может, его ещё в пух завернуть, чтоб не обеспокоить? А?!
Это всё Кикин проклятый да Фёдор Дубровский подметнули царевичу. И Абрам Лопухин. Дядюшка любимый. Уж этот всё знал. Всё присоветовал.
Так ведь не один в бега пустился: немку пленную с собой прихватил; Евфросинью Фёдоровну. При живой супруге ни одной ночи без проклятой не обходился. Кронпринцесса родами маялась, а этот сукин сын развлекался. Стыда не имел.
Додуматься надо: через Данциг, где только что свадьбу Екатерины Иоанновны отгуляли, в Вену, прямо к канцлеру Шёнборну. Десятого ноября там оказался. О покровительстве римского императора Карла VI просить стал — шурина своего! После всех безобразий, что с кронпринцессой вытворял.
Другой бы сразу от ворот поворот ему дал, а императору в масть. Лишь бы России насолить. Планы царские расстроить. Путь царевичу открыл: через Тироль в замок Эренберг. Пять месяцев в Тироле отдохнул, а оттуда в мае 1717-го в неаполитанский замок Сент-Эльмо.
Не верил Петру Андреевичу, что сумеет дурака уломать да обломать. Уговорил! Уговорил, старая лиса. Александр Румянцев один бы не справился, а Толстой долго толковал, да своего добился.
Трусил царевич. Толстой так и сказал, только на том до согласия и дошёл, что гарантии женитьбы на немке дал. Со мной связаться не мог. На свой страх и риск действовал. Всё обещал. Без оговорок. С одним условием: будет тебе и женитьба, и венчание церковное — только в России. Как границу нашу переедем, так полная тебе воля, царевич.
Поверил дурак. Больше всего за Евфросинью хлопотал. Мол, на сносях, скоро родить. Чтобы, не приведи Господи, чего с немкой не случилось. Пошутить даже изволил. Мол, во всём батюшкиному примеру следую, даже жену из пленных выбрал. Толстой рассказывать не хотел. Потом решился.
Выехали в обратный путь 14 октября 1717-го. Пробирались потаённо, чтоб внимания на себя не обращать. За царевичем день и ночь следили. С немкой договорились. Много денег захотела — так ведь опять посулами на первых порах дело обошлось. Её больше всего опасались: у неё в руках царевич как воск.
В Москве встретились 3 февраля. На попразднество Сретения Господня. С Катей с утра и говорить не стал. Сжалась вся: что не решишь, мой государь, во всём меня обвинят, одну меня! А как мне между отцом и сыном становиться? Грех это, великий грех.
Грех! Вон и Стефан Яворский поторопился с утра о молитве денной напомнить: «Творец всяческих и Избавитель наш Материю Девою в церковь приносится, темже старец. Сего приём, с радостию взываше: ныне отпущаешт раба Твоего, Блаже, с миром, яко же изволил еси».
Мол, день сегодня такой, государь. Смягчи сердце своё. Вспомни: «Симеон, на руки от Девы приём прежде всех век Рождённого, Спаса видех, вопияше: просвещение Твоея славы концем: ныне отпущаеши раба Твоего, Блаже, с миром, яко видех Тя днесь.
Напоследок веков рождена на спасение человеков, Симеон, понесый на руках Спаса, радуяся, вопияше: видех свет языков и славу Израиля, ныне отпущаеши, якоже рекл еси, яко Бог, от сущих зде велением Твоим». Попамятуй, государь, о снисхождении к первенцу твоему.
Чужими встретились. Чужими. Не о прегрешениях своих говорить с первых слов стал — о Евфросинье. Что обещали ему венец с ней брачный. Жизнь безопасную. В тишине и достатке. И что тогда...
* * *
Пётр I, цесаревна Анна Петровна
— Ты что, Алексей Васильевич? Сказал не беспокоить, ты снова никак с докладом.
— Я не знал, как поступить, государь. Цесаревна Анна Петровна...
— Что ещё с Анной Петровной? Вчерась никак видел её — жива, здорова.
— Не о здоровье речь, государь. Просьба у неё к вам.
— Просьба? За столом бы и высказала.
— Говорит, там неуместно. Так как ответить прикажете, ваше величество?
— Ответить? А цесаревна здесь, что ли?
— Здесь, государь.
— Ну, что поделаешь, зови.
— Я отвлекла вас от важных дел, государь батюшка?
— Всех дел не переделаешь, да видно, у тебя что-то важное. Тогда говори скоренько, Аннушка, не тяни.
— Государь батюшка, я о крёстной...
— Крёстной? Хочешь чьей-то крёстной стать? Так что меня спрашивать? Сама и решай, цесаревна.
— Нет-нет, государь, я о моей крёстной. О государыне царевне Наталье Алексеевне.
— А здесь что за новости?
— Погребсти крёстную... Без погребения третий год пошёл лежит. Вот я и подумала — не забыли ли, государь.
— Не забыл ли...
— Мне ли не знать, сколько забот у вас. Но ведь это последний путь царевны тётеньки, государь. Отбыть бы его не прикажете ли.
— Отбыть надобно, твоя правда, Аннушка. Что говорить, виноват перед памятью сестрицы, ещё как виноват. Только знаю, она бы меня простила.
— Простила, заранее простила, государь батюшка. Я хоть и мала была, когда она скончалась, а сердцем всё поняла. Любила она вас, государь батюшка, больше жизни любила.
— Погоди, погоди, что же это у меня получилось. По числам не помню, а по схеме так выходит. Преставилась царевна сестрица...
— В июне 1716-го, государь.
— Вот-вот, я потом посчитал, мы тогда в Ростоке были, на галерной эскадре. О кончине-то я узнал в июле, когда эскадра к Копенгагену подошла.
— Курьера, мне сказывали, в день кончины крёстной к вам направили.
— Ну, оно понятно. Как же иначе. Толька в Копенгагене мы не более недели пробыли. Ещё государыня туда к нам приехала. Потом на кораблях я был, опять в Копенгаген вернулся. Да всего не перечесть: где что посмотреть, где чему поучиться, с кем встретиться.
— Вы себя, государь, совсем не жалели.
— Да ещё государыня на сносях была. А городов, городов сколько, Аннушка! Тебе бы поглядеть, цесаревна. Да ты у меня везде первой красавицей бы смотрелася. И ещё портретов сколько с меня писали разные живописцы. Тоже время терять пришлось. А иначе нельзя — порядок такой для монархов заведён.
— Государь...
— Ничего, Аннушка, придёт и твоё времечко — всего навидаешься.
— А теперь вы очень заняты, государь.
— Погоди, погоди, как же у нас так с похоронами получилось? В начале октября 1717-го вернулись мы в Петербург.
— Вы, государь батюшка, той поры что ни день с утра в Адмиралтейство ездили, а после обеда по петербургским постройкам.
— Верно. И тебя пару раз брал, цесаревна, чай, помнишь.
— Как не помнить, батюшка.
— Ты у меня умница — всё смотрела, обо всём расспрашивала. Да, а в середине декабря в Москву пришлось ехать.
— На Стефана Сурожского, государь.
— Ишь ты, как помнишь. Царевича мне дождаться надобно. Вот как привезут его Пётр Андреевич и Румянцев, и к погребению приступим.
— Но, может, государь, ещё до возвращения царевича Алексея Петровича, сколько дорога-то у них займёт.
— Не выйдет, Аннушка, никак не выйдет. Алексея мне здесь допрашивать надобно. Только здесь! И всех сообщников его, что в Москве угнездились. А Наталью Алексеевну погребсти в Петербурге следует. Что же это мне, да ещё зимним временем, взад-назад ездить? Сил на то нет, да и двор будоражить ни к чему. Ждала Натальюшка своего часу, ещё подождёт.
* * *
Пётр I, Г. И. Головкин
Ударил. Со всего маху. По лицу. Не сдержался. Обещали! Предателю и выродку! Кровь из носу потекла. А глаза что у волка — огнём загорелись: «Обещались! »
Бить не стал — руки слушаться перестали. «Пиши! Сей час пиши!» Замешкался. Покуда чернильницу да перо сыскали, на стол поставили:
«цареви... Алексея Петровича, каковой подал по изустном своём извинении Его Царскому Величеству в Столовой полате 3 февраля 1718 в Москве.
Пресветлейший государь батюшка.
Понеже, узнав своё согрешен... перед вами, яко родителем и государем... писал повинную и прислал оную из..., так ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушёл и отдался под протекцию цесарскую и просил ево о своём защищении. В чём прошу милостивого прощения и помилования.
Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сын Алексей
Февраля в 3 де. 1718 г.».
Макарову велел копию немедля снять и передать в Посольский приказ — для хранения на вечные времена.
Головкин подивился. Мол, на что тебе, государь? Что в такой цидульке — одни дела семейные. Тут всё по мелочи расписать надобно, коли хочешь... Ещё не знает, чего хочу. Да и говорить ему до поры до времени не стану.
Головкин спросил: что на мысли имеешь, государь? От престола отстранить Алексея Петровича хочешь, не так ли? Положим, что на первых порах так. Вот и надобна, говорит, мотивация обширная, всеубеждающая. Чтобы и для государств европских и для народу российского понятна была.
Повернулся: напишешь, Гаврила Иванович? Врать не стал: не справлюсь, государь. Почём мне знать, о чём хочешь сказать, про что промолчать пожелаешь. Сам рассчитай, государь. Хоша кабинет-секретарю продиктуй. Твоё это дело — семейное. Им на веки вечные и останется.
Манифест Петра I о лишении старшего сына Алексея прав наследования престола всероссийского и о назначении наследником малолетнего своего сына Петра, от 3 февраля 1718 года.
«Божиею милостию мы, Пётр Первый, царь и Самодержец Всероссийский и протчая и пр. и пр., объявляем духовного, военного, и гражданского и всех протчих чинов людем всероссийского народа, нашим верным подданным.
1. Мы уповаем, что болшой части из верных подданных наших, а особливо тем, которые в резиденциях наших и в службе обретаютца, ведомо, с каким прилежанием и попечение мы сына своего перворождённого, Алексея воспитать тщились. И от тово от детских ево лет учителей не токмо русского, но и чюжестранных языков придали и повелели его оным обучать, дабы не токмо в страхе божием, и в православной нашей вере греческого исповедания был возращён, не для лутчаго знания воинских и политических или гражданских дел и иностранных государств состояния и обхождения обучен был и иных языков, чтоб читанием на оных гисторий и всяких наук воинских и гражданских; достойному правителю государства принадлежащих, мог быть достойной наследник нашего всероссийского престола.
2. Но то наше всё вышеписанное старание о воспитании и обучении помянутого сына нашего видели мы вотще быти, ибо он всегда вне прямого послушания нам был и ни о чём, что довлеет доброму наследнику, не внимал, ни обучался и учителей своих от нас представленных, не слушал, и обхождение имел с такими непотребными людьми, от которых всякого худа, а не к ползе своей научитися мог. И хотя мы его многократно ласкою и сердцем, а иногда и наказанием отеческим к тому приводили, и для того и во многие компании воинские с собою брали, дабы обучить воинскому делу, яко первому из мирских дел, для обороны своего отечества, а от жестоких боев ево всегда удаляли, проча наследства ради, хотя во оных и своей особы не щадили; також иногда и в Москве оставляли, вруча ему некоторые в государстве управления, для предбудущего обучения; а потом и в чюжие края посылали, чая, что он, видя так регулярные государства, поревнует и склонится к добру и трудолюбию.
Но всё то наше радение ничто ползовало, но сие семя учения — на камени пало, пенеже не точию оному следовал, но и ненавидел и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, не упражнялся непрестанно во обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели.
3. И хотя мы, желая его от таких непостребств отвратить и ко обхождению с честными и знатными людьми склонить, увещевании своими возбудили, чтоб он избрал себе в супружество из знатных чюжестранных государей свойственницу, (как инде обыкновенно, тако и у предков наших росийских государей чинилоась, что и з другими гесудареми своились), дав ему на волю, где он излюбит. И он, у любя внуку тогда владеющего герцога Волфенбителского, а своячину родную Его Величества, ныне государствующего цесаря Римского, а племянницу короля Английского, просил нас, дабы скорую ему оную в жену исходатайствовали и позволили на ней женитца, что мы и учинили, не пожалел на сие супружество многих изждивений.
4. Но, по совершении того супружества (от которого мы чаяли особливого плода и перемены худых обычаев и поступков ево, сына нашего) усмотрели мы весма всё противное той надежды нашей, ибо, хотя оная супруга его, сколко мы усмотреть могли, была ума доволного и обхождения честного, и он её по своему избранию взял, но однакож он с нею жил в крайнем несогласии и ещё вяще умножил обхождения с непотребными людьми, на стыд дому нашему пред чюжестранными государи, с тою супругою его свойственными, в чём нам великие жалобы и нарекании были. И хотя мы его частыми напоминании и увещевании к поправлению приводить трудились, но всё то не успевало.
5. Напоследи он, ещё при оной жене своей, взял некакую безделную и работную девку и со оною жил явно беззаконно, оставя свою законную жену, которая потом вскоре и жизнь свою скончала, хотя и от болезни, однакож, не без мнения, что и сокрушение от непорядочного его жития с нею много к тому вспомогло.
6. И видя мы его упорность в тех непотребных его поступках, объявили ему на погребении помянутой жены его, что ежели он впред следовать нашей воли и обучатца тому, что наследнику государства пристойно, не будет, то его лишим наследства, несмотря на то, что он у меня один, (ибо тогда ещё другого сына не имел). И дабы он на то не надеялся, понеже мы лутче чюжого человека наследником назначим...»
* * *
Цесаревна Анна Петровна
Колокол в Александро-Невской лавре жидко звонит. Редко. Известно, погребение — какая радость. Государь никому не велел жалобного платья носить. Только на отпевание, да и то не всех обязал быть. Не к чему, сказал. Сам мыслями далеко. В первые же дни мартовские как в Петербург, уже с царевичем, приехал, обряд погребения сестры назначил.
Сам слезинки не пролил. Глаза сухие. Злым блеском блестят. Государыня матушка предупредила, ни словечка поперёк не говорите. А ещё лучше — на глаза государю не попадайтесь.
Во дворец как ни примчится, так к сынку в детские покои: сынком налюбоваться не может. Днями слова странные обронил. Вот тебе путь к престолу, царевич Пётр Петрович, и освободим. Мал ты больно, да я скоро помирать не собираюсь. Лишь бы ты, царевич, жил да благоденствовал.
Спросила у государыни матушки: как этот путь к престолу расчистить. Ведь есть уже объявленный наследник? У государыни на всё один сказ: Петру Алексеевичу виднее. Всё по его воле будет. И спрашивать не смейте.
...И гроб у крёстной простой. Сказывали, потому что тело набальзамировано, так один в другой вставлять надобно. Кто знает, как взаправду. Спросила, можно ли будет с крёстной попрощаться. Владыка Федос зло так взглянул: через три года-то? Только с гробом.
Покрывало богатое, царское. А регалий царских никаких. Служба недолгой показалась. Очень, сказывают, крёстная хотела, чтобы в Вознесенском монастыре в московском Кремле. Государь и слушать не стал. Лежать, мол, моей сестре в моей столице. Какая ещё Москва! Какие ещё дедовские гробы! Оно и верно, в Высокопетровский монастырь, где Нарышкины лежат, почти что никогда не заглядывал.
Владыка Федос слово прощальное сказал. О просвещении. О театре. О том, что была государыня царевна всем новшествам присильна — всё разумно принимала. Во всём брату царственному содействовала.
Слово отличное. Только книжное такое. Будто и родных никого у покойной нету.
Внуки отпевание не достояли. Что великая княжна Наталья, что великий князь Пётр Алексеевич заранее из церкви ушли с мамками своими. Может, государь распорядился. А только за ними и другие к выходу подбираться стали. День весенний. Радостный. Подморозило только чуть-чуть. Ледок повсюду блестит. На ветках по льдинкам птицы прыгают. Воробьи в первых проталинах верещат.
А лица кругом смурные. Озабоченные. Кому бы царевич Алексей Петрович заботы не прибавил. Каждый за себя опасается. Государь государем, а сразу видно, все боятся, мамка сказала.
После похорон батюшка подошёл, на руки поднял, расцеловал. «Ах ты моя печальница! Видно, любила тётку-то. Спасибо тебе, Аннушка».
* * *
Пётр I, А. Д. Меншиков
Частенько стал государь со светлейшим толковать, будто выговориться хочет.
— Нет больше царевича Алексея Петровича. Так тому и быть. А знаешь, Данилыч, что мне вдруг в голову пришло: сам я виноват в жизни его непутёвой. Знаю, когда упустил мальца, дал по кривой дорожке от отца в стан врагов государства российского уйти.
— Полно, государь, никогда ни в чём не были вы перед покойным виноваты. Он перед вами — без меры. И перед Россией тоже.
— Нет, нет, оставь, Данилыч, было такое в моей жизни. Ты-то помнить не можешь. Тебя при этом не было. С покойным Князь-Кесарем мы о первом иноземном учителе царевича толковали.
— Знал я его, Мартина-то, а как же.
— Мартина-то знал, а того, может, не знал, какую он кляузу сочинил на Россию.
— Книженку какую-то, что ли? Полно, государь.
— Да будет тебе с твоим утешением. Не доглядел я, недосуг было за царевичевым штатом глядеть. Авдотья в монастыре, да кабы и была — её это кумпанство. Не моё. Наталья Алексеевна покойница не больно мальцом заняться умела. Я Мартина велел к царевичу принять, а уж тут вся ватага над ним принялась всласть насмехаться да со свету сживать. Выгнать бы мне всех их тогда, оставить Алёшку с одним Мартином, вот дело бы и было.
— Что это вы, государь, так высоко этого учителишку оценили?
— Высоко, говоришь. Значит, не знаешь, как дело-то дальше повернулось. Написал он всю правду о своей жизни.
— Не иначе наврал!
— Скорее приврал, может быть. Только по его книжонке народ перестал охоту к русской службе проявлять.
— Ну, поопасились один, другой, а там опять гужом потянулись. Здесь ли им не житьё, здесь ли им не заработки. В Европе такие и не снятся.
— Помолчи, Данилыч! Хватит! Как баба на торгу разболтался. То важно, что книжёнку раз за разом перепечатывать стали. Тут Бюйзен и присоветовал антидот сочинить и там же, в немецких и саксонских краях напечатать. Сам писать вызвался. Раз именем своим назвался, раз имя у какого-то Симона Петерсона из Альтоны купил.
— Да верить только ему, государь! Поди, самому себе же в карман и другие деньги положил.
— Вот только денежки эти дорого ему достались. Нейгебауэр-то молчать не стал. Один свой антидот против шельмовства Петерсона из Альтоны выпустил, а второй напрямую против барона. Названия точно не повторю, а только обозвал он в нём барона всяческими поносными словами, лжецом и прохвостом.
— Вот молодец! Защитился, выходит.
— Защитился, да так ловко, что пригласили его на шведскую службу со всяческим почётом, назначили шведским посланником в Константинополь. Таких похвал дослужился, руками разведёшь.
— Посланник — это хорошо, да ненадолго.
— То-то и оно, Данилыч, что после службы дипломатической стал он нынче канцлером Померании, а это уж не шутки. Вот и говорю, многому бы покойный царевич у него научиться мог, по-иному жизнь увидеть.
— Кабы захотел.
— Да сколько ему лет-то было — всего тринадцать, как Нейгебауэра отослали.
— Э, государь, вы себя в такие годы вспомните. Никак уже потешными занимались. Сами говорили, царевна Софья Алексеевна какие козни вам строила, а вы и сами стояли и государыне родительнице опорой были.
— У Алексея характер иной.
— А я о чём говорю: кровь в нём дурная с вашей смешалась и верх взяла. Жалеть о его судьбе России нечего.
* * *
Вдовая царица Прасковья Фёдоровна,
царевна Екатерина Ивановна
Во дворце царицы Прасковьи Фёдоровны как в осаждённой крепости: двери изнутри брёвнами подпёрты, окна ставнями прикрыты да ещё и войлоками затянуты. В печах ветер воет — голосов человеческих не слыхать. Царица в образной лампадки велела всё как есть позажигать: не горят — гаснут. О свечах и разговору нету: в темноте приходится сидеть. В поварне огня в очаге не развести, да и дров сухих нету: на дворе все поленницы разметало и водой унесло.
Всякого навидались в ненавистном городе, а такого страху ещё не бывало. Одной Катерине Иоанновне, герцогине Мекленбургской, всё нипочём. То песню затянет. То шутить начнёт. Над царицей и то подтрунивать. Мол, уж коли крестное знамение не обережёт, то и стараться нечего. Что будет, то будет. А случиться всякое может. К царице с разговорами пристаёт. Любопытствует:
— Доведалась ли, матушка, что государь Пётр Алексеевич о герцоге толкует? Зря, что ли, в Петербург его со всей свитой пригласил.
— А чего тут доведоваться: гость и гость. Эка невидаль.
— Вот и невидаль, матушка-государыня. Не Прасковьюшкина ли судьба приехала?
— С чего взяла, Катеринушка? Услыхала что?
— Чего других слушать, когда своя голова есть. Сколько их принцев на памяти было, все за твоими дочками, государыня, приезжали, о супружестве с ними старались. Может, какого другого припомнишь?
— Припомнить, пожалуй, и не припомнишь. Да ведь теперь, Катеринушка, у Петра Алексеевича собственные дочери заневестились. Не до нашего семейства ему.
— Ну уж, государыня матушка, ты о другом лучше скажи, не задались у дочек твоих их супружества. Так оно вернее будет.
— Всё в руце Божьей, Катеринушка. Так бы счастья для вас всех хотелось, а вот на поди, нет его, счастья-то.
— А кто ж тут, государыня матушка, на судьбу свою жалуется? Уж не я ли?
— Ты! О тебе разговор особый, Катерина. Больно много воли ты взяла. Как бы молва дурная не пошла. Государь такого не простит, ой, не простит.
— Поймает на чём, тогда и печаловаться стану, а пока нечего.
— Вон Аннушка наша век целый одна кукует на чужбине, сердце-то за неё хочешь — не хочешь болит.
— А вот это лишнее, государыня матушка. За нашу Анну Иоанновну ты себя не круши. Если чего ей, бедняжке, и, не хватает, так только денег — наряды обновить, башмачки заказать, новый выезд устроить, карету французскую заиметь.
— Чтой-то не пойму тебя, Катеринушка. Намекаешь на что или кажется мне?
— Кажется, государыня матушка, кажется. Я к тому, что Анна Иоанновна сама себе хозяйка. Бедновато живёт, так и мы в Измайлове не больно-то широко размахнуться можем.
— Все прихоти твои, Катеринушка. Могла бы и потише жить. Поскромнее. Всего бы тебе и хватало.
— Ас чего это мне себя укорачивать? Жизнь одна, да и молодые годы, ой как быстро бегут. В твои лета войду, тогда и уняться можно будет.
— Господи, опять ветер завыл. Будто нечистая сила в дом рвётся. Того и гляди в море-окиян снесёт.
— Ты, государыня матушка, о нечистой силе не ко времени не думай. Сколько раз обходилось и теперь обойдётся. Порадовалась бы, в Москву скоро поедем. В Измайлове того гляди окажешься.
— Это с чего тебе в голову взбрело, сорока ты непутёвая?
— Ничего не взбрело. Вишь, как вода город крушит. Теперь его опять отстраивать придётся. А пока суд да дело, государь не иначе в Москву отправится.
— Неужто и впрямь?
— А как же иначе? Коли дворец так ломает, что с обывательскими-то лачугами да шалашами наделает. Уедет государь в Москву, как Бог свят, уедет.
— Прасковеюшка! Откуда ты, доченька? Я уж спосылать за тобой хотела. Мы тут с Катериной лясы точим, а тебя нет как нет.
— Да неужто не видишь, государыня матушка, спала наша Прасковеюшка, богатырским сном спала. Вон и сейчас еле глазыньки свои продрать может.
— Неужто и впрямь спала, Прасковеюшка? В такую-то жуть?
— Спала, государыня матушка. Во сне-то оно спокойнее. И мыслей никаких нет — отступают.
— И что за мысли тебя, доченька, гнетут? Никогда ты мне не говорила, не делилася.
— Да что ей делиться, государыня матушка, когда мы обе твоего разговору с государем дяденькой дожидалися. Чтоб сказал он тебе, чего здесь принц Голштинский искать приехал.
— И ты тоже, Прасковеюшка? Плохо ли тебе с матушкой?
— Плохо ли, хорошо ли, а порядок такой испокон заведён, чтобы девке бабой становиться. Чему же удивляться Прасковеюшке, государыня матушка. Дознаться надо, хотя не сомневаюся я, жених ли герцог Прасковеюшке ал и не жених.
— Прямо так государя и спросить? Ой, боязно как.
— А за дочку родную не боязно, государыня матушка? Что её-то томить. Соберись с силами да и спроси. Мы уж тогда с Прасковеюшкой изо всех сил постараемся.
* * *
Пётр I, Г.И. Головкин, герцог Голштинский,
цесаревна Анна Петровна
— Большую обузу на себя берёшь, великий государь. Не пожалеть бы пришлось. Оно на первых порах всё лёгким кажется, а на деле — поди-ка развяжи такой узелок с герцогом-то.
— Да что тебя страшит, Гаврила Иванович? Приехали голштинцы в Петербург, пусть гостят. Чай, не объедят.
— Не в еде дело, Пётр Алексеевич. С делами своими, как соринка в глазу, торчать будут. При каждом случае, удобном и неудобном, о себе печься, свои резоны выставлять. Герцог-то сам и молод, и к делам непривычен, а вот Бассевич — дело другое.
— Да, характеру в молодом человеке не видать. Мягок. Больно мягок.
— Скажите, нерешителен, государь. Он, может, что и сообразит, а на своём настоять нипочём не сумеет. Где это видано, трон упустить да в дорогу в Германию с пятьюдесятью тысячами талеров отправиться. Для обычного человека деньги большие, а для того, чтобы наследство герцогское вернуть?
— Побродил юноша, ничего не скажешь. И в Ростоке побывал, и у дядюшки, епископа Христиана-Августа, в Гамбурге пожил.
— Так оно и есть. Не на поле боя владения отеческие вернуть решился, а всё просьбами и поклонами. И в Берлине, и в Дрездене, и в Вене. Невелика разница, государь. Главное — хоть половину отеческих земель вернул, в Киль свой смог переехать. Как-никак столица.
— Гавань, главное, гавань преотличная.
— А уж дальше за него перед вашим величеством советник Штамбке ходатайствовать принялся. Вы ему и уступили.
— Хороша уступка — наследника шведской короны в карман посадить. Эдак-то лучше всякого договору получается. Не ворчи, не ворчи, канцлер. Вот мы сейчас нашего молодого человека с цесаревнами познакомим. Пусть повеселятся вместе. Ваше высочество!
— Вы хотели говорить со мной, ваше величество?
— Не столько говорить, сколько познакомить тебя, герцог, со старшей моей дочкой, принцессой Анной. Ступай-ка пригласи её на танец. Она у нас танцорка хоть куда.
— Ваше высочество, вы разрешите пригласить вас на танец?
— Конечно, герцог.
— Вы говорите по-немецки, ваше высочество! Какая приятная неожиданность. Я всегда чувствую себя стеснённым присутствием переводчика. Тем более при общении с дамой.
— Я слышала, вы предпочитаете шведский. Давайте перейдём на него, если это доставит вам удовольствие.
— Это сделает меня воистину счастливым. Но откуда, ваше величество, вам знаком мой родной язык? В Петербурге множество шведов, я знаю. Но моряки, офицеры, артиллеристы, купцы, наконец, не могут быть с вами знакомы.
— Конечно, нет. Но мой отец приглашает множество учёных, врачей, библиотекарей, архитекторов. Здесь всегда найдётся оказия для практики в шведском, да и многих других языках. Мы иногда говорим, что наш Петербург — истинный Вавилон по смешению языков.
— О, вы правы, принцесса. Это так чувствуется в местной жизни. Она такая оживлённая. И пёстрая.
— Неужели это для вас неожиданность, герцог? Я слышала, вы много путешествовали по Европе.
— Преимущественно по немецким землям и лишь отчасти австрийским. Но там всё уж давно устроено, налажено, а здесь кипит строительство, приходят и уходят корабли, обозы. Это восхитительно.
— Приятно слышать, что вам нравится. Я знаю иностранцев, которые тяготятся нашей сумятицей и сетуют на многие причиняемые им беспокойства.
— О, это, должно быть, люди в летах. Молодости здесь всё созвучно.
— Наш танец кончился, герцог.
— Неужели? Так быстро? Бог мой, вы разрешите пригласить вас на следующий, принцесса. С вами так интересно говорить.
— Вы хотите сделать мне комплимент, ваше высочество. Мы с вами ни о чём серьёзном не толковали.
— И слава Богу. Зато всё, что говорилось, было чрезвычайно занимательно. Для меня, во всяком случае. Так мы продолжим наш танец, принцесса?
— Если государь не будет возражать.
— О, вы такая послушная дочь?
— Право, не поручусь, что слишком послушная. Но государь лучше меня знает придворный протокол. И я не хотела бы иметь от него выговора.
— Вы разрешите мне самому испросить разрешение у императора?
— Прошу вас.
— Но вы сами согласны ли, принцесса?
— Зачем вы спрашиваете? Я уже ответила.
— Отлично. Ваше императорское величество, не разрешите ли вы мне повторить несказанное удовольствие танца с принцессой Анной?
— Вон как дело-то пошло, Гаврила Иванович. Нет, герцог, я не буду возражать против второго танца. Веселитесь с Богом.
— Принцесса, я счастлив и позвольте вашу руку.
— Охотно, герцог.
— Вы говорили, принцесса, что равнодушны к танцам, но вы превосходно танцуете.
— Благодарю вас за комплимент. Просто мне кажется, что особа царской фамилии всё должна делать достойным образом. Ведь далеко не всегда мы вправе потакать своим истинным желаниям, не правда ли?
— К тому же вы мудры, принцесса. Какое великолепное сочетание с внешностью первой красавицы.
— Вы преувеличиваете, герцог. К тому же вы ещё не успели меня толком рассмотреть. В таком табачном дыму, при свечах...
— Я должен сделать признание. Я видел ваш портрет уже раньше, и он произвёл на меня неизгладимое впечатление. Его показал мне граф Бассевич, мой добрый гений.
— Ах, граф не захотел терять времени...
* * *
Цесаревны Анна Петровна и Елизавета Петровна
Всем полегчало: отправился государь батюшка в поход к Каспию. Скучно без него, да не всем. Иным невмоготу совсем приходилось. Молебны благодарственные служили, что уехал, счастливого пути да нескорого возвращения желали.
Мая пятнадцатого из Москвы в путь пустился — на Нижний Новгород, Казань, Астрахань. Лизанька радости не скрывает. Всё боялась: а ну как государь батюшка с собой в поход возьмёт. Не взял. И разговору такого не было. Достаточно, что государыня матушка при нём безотлучно. Как на часах: а вдруг синь-порохом вспыхнет, а вдруг, не приведи, не дай, Господи, в припадке забьётся. Посещать его падучая всё чаще стала. Доктора руками разводят: беречься, ваше величество, надобно. Какое беречься — при его-то нраве!
Лизанька целыми днями от старшей сестрицы не отходит. Каждой мелочью делится. Без праздников да танцев скучает. Разговоры все — про амуры. Вот и опять:
— Аньхен, неужто нам и жить только по государевому выбору? А сами-то мы как же?
— Что сами, Лизанька! Порядок такой и не только у царственных особ положен. Нигде невесты царственные себе женихов не выбирают.
— А сердцу нетто прикажешь! Ты ему одно, оно тебе другое. И во дворце также.
— О чём ты, Лизьхен?
— Да отложи ты свою книжку учёную. Господь с ней, Аньхен! Часто ли вот так — с глазу на глаз говорить нам с тобой приходится. Хотя Маврушка Шепелева да есть кто-нибудь между нами. А тут благодать, чистая благодать. Все, кто мог, за царским поездом умчались. Днями по дворцам ходи, голоса человеческого не услышишь.
— Посекретничать хочешь, Лизанька?
— Ещё как хочу! Вот говоришь, сестрица, стремления сердечного во дворце, у членов семейства царского быть не может, а царевна Марья Алексеевна как же?
— Ты что — про преосвященного Федоса, что ли? Не надо, Лизанька! Бог с ними.
— Про какого Федоса? Он мне и на ум не пришёл. Ты слыхала, князь Иван Михайлыч Мещёрский помер?
— Слыхала.
— А кому всё состояние завещал?
— Родственникам поди аль в монастырь вложить велел?
— Родственникам! То-то и оно, что всё до последнего грошика отказал царевне Марье Алексеевне.
— И тётушка царевна...
— Взяла, взяла, не беспокойся. Такое богатство да не взять.
— Господи, а с чего бы?
— Вот и решай загадки сама, сестрица.
— Погоди, погоди, Лизанька, ведь всё ещё с комнатной боярышни Марьи Васильевны Мещёрской началось. Она при государыне правительнице Софье Алексеевне в любимицах ходила. А там и любимицей царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной стала.
— Да что ты их, сестрица, пересчитываешь! Ты другое вспомнила бы. Когда Марья Васильевна за Петра Алексеевича Головина выходила, правительница царевна Софья благословила её образом Казанской Божьей матери в золотом окладе с каменьями. А царевна Татьяна Михайловна невесту лаловыми серьгами с пречудными жемчужными подвесками одарила.
— Какое ж диво, когда мать Марьи Васильевны, старая княгиня Мещёрская, любимой комнатной боярыней её столько лет была. Срослись Мещёрские с Милославскими да Головиными — ничего не скажешь.
— А государь батюшка, сведём ли дружбы их?
— Более, чем мы, сестрица. Да и ещё — гравюру со своим портретом в царских регалиях и с семью добродетелями правительница царевна Петру Алексеевичу Головину собственноручно подарила. Уж не припомнить, кто сказывал, что у них в родовом Деденеве в церкви та гравюра за икону висит и панихиды по Софье Алексеевне служатся. Неужто бы соглядатаи про такое государю батюшке сообщить припозднились?
— Экое гнездо осиное! Истребить его следует.
— Наперёд на престол вступить, Лизанька, надо. А до времени командовать — всё равно никто не послушает, а неприятелей наживёшь.
— Всё-то ты, Аньхен, разумно так раскладываешь, прямо оторопь берёт. Откуда ты у нас мудрая такая?
— Какая мудрая, Лизанька. Присматриваюсь, может, более твоего. Помнишь, читали мы пиесу царевны-правительницы «Обручение Святой Екатерины». Так вот спектакль сей правительница сама и ставила, сама в нём и играла. А Марья Головина-Мещерская вместе с царевной Марьей Алексеевной прислужниц мудрой девы изображали.
— Вот тебе и неразлейвода!
* * *
Вдовая царица Прасковья Фёдоровна
От себя что скрываться: плохо. День ото дня хуже. И не то, что хворь какая, — силы уходят. Как вода в ладошке. Только-только пригоршня целая была, напиться можно было. Не успела ко рту поднести — сквозь пальцы ушла.
Днями вставать не хотела. Да нешто во дворце воли себе дать можно! Расспросы пойдут. От государя Петра Алексеевича нарочный примчится: что, дескать, случилось.
Не нужна деверю. Совсем не нужна. Порядок блюдёт. Помоложе была, сам жаловал. Дом Прасковьин стороной не обходил. А с больной да старой кому охота якшаться.
От дочек какая радость. Думала, Катюшка вернётся — заживём по-прежнему. Вернулась. С внучкой. Махонькой. Слабенькой. Думала, долго не протянет. Живёт, небога. Известно, гнилое дерево два века скрипит.
И никому-то дела до дитяти нету. Катюшка... Изменилась, у герцога своего побывавши. Не узнать. Резкая стала. Шумная. Слова не скажи, взорвётся. Лизабету[14] свою насмерть застращала. Накричать накричит, а приголубить, слово доброе сказать — нету герцогинюшки нашей.
Что ни день, в театре да на вечерах танцевальных вертится. Одних туфелек шёлковых воз извела. После каждого куртага менять надобно, а откуда деньги брать. Не напасёшься! Толстая, тяжёлая, а крутится как молодая.
Оно верно, в танцах ей девка позавидовать может. Мало что крутится, ещё и кавалерами занимается. Громче всех в зале хохочет. Начнёт — не остановишь.
Катюшка... Теперь вот князь Борис появился. Туркестанский. Упреждала. Как в народе говорится, скрытый грех наполовину прощён. Лишь бы до государя Петра Алексеевича слух не дошёл. Кто знает, что в гневе придумать может. А гневлив, ничего не скажешь. И смолоду добрым не был, а тут и вовсе.
Сказала Катюшке, смеяться принялась. Мол, кто он такой, чтобы герцогиней Мекленбургской командовать. Я нынче, говорит, персоной дипломатической заделалась. Меня не замай.
Может, оно и так, да деньги-то откуда брать? Всё от государя, от его воли. Закричала даже, как от его? Он-то при чём? В договоре брачном содержание моё прописано — пусть платит. Сполна! Да ещё батюшкино наследство мне положено. Выделишь мою долю, государыня царица, а там уж я сама соображу.
Выделишь! Это Прасковьюшка её научила, не иначе. Иначе мысли такие с чего взялись? Спросила: а мне самой как жить прикажешь? Повернулась. Глаза горят. А ты, государыня царица, с Юшкова спроси. Пусть краденым поделится. За столько-то лет, поди, горы целые нагрёб царицыного добра, так и раскошелиться не грех.
Спросить! Легко сказать. Добром не отдаст, государю кланяться ещё хуже. С Юшковым-то он справится. Засудит, в ссылку сошлёт. Человека не станет, а денежки всё равно не вернутся.
Плохо... Утром глаза раскроешь, пока раскачаешься. Девки одевать начнут. Куафёр волоса укладывать. А уж снова в сон клонит. Так и завалилась бы в постелю. Веки свинцовые. Зевота разбирает. Поясницу ломит.
Ввечеру во дворец ехать, уж который год в креслах ездишь. Самой шагу не ступить: коленки болят, пухнут. Ещё новая государыня лучше других. О здоровье спросит. Сладостей всяких велит с собой послать, в карету снести.
Государь Пётр Алексеевич — другое дело. Как заметит, что в креслах внесли, разочка единого не подойдёт. А и подойдёт — того хуже.
Последний раз так и спросил: сколько же лет-то тебе, Прасковья Фёдоровна? Поглядеть, в бабки мне годишься. Аж глаза застлало обидой. Говорю, тебя, государь Пётр Алексеевич, всего-навсего на восемь лет старше. Неужто я таким через восемь лет стану? Как тогда державой управлять?
Ему бы меня утешить, а тут я его принялась утешать. Каждому, государь, годы по-разному даются. Врёшь! Всему виной упрямство твоё. Не лечишься! Даже на мои воды не ездишь! Вон царевна Марья Алексеевна советами моими не пренебрегает, цветёт как маков цвет.
Владыка Федос пишет, большая царевне польза от вод немецких. Сам, мол, с ней там кур проходил. Как же! Не в первый, чай, раз. Марья Алексеевна и по воде в угоду государю ездит, даром что боится до смерти. А уж болеть николи ничем не болела: всё, чтобы батюшку государя распотешить.
Только что ей делать? Как припугнул её государь Пётр Алексеевич с Алёшкой покойником, в крепости для острастки подержал — да и за дело ли, неизвестно, — мягче воску сделалася. На всё согласная. Новой государыне и то кланяется, в глазки заглядывает. О, Господи, добра-то Екатерина Алексеевна, может, и добра, да нетто рождение её забыть можно.
Права была Катюшка, ох, и права. До венчания тише воды, ниже травы была. А нынче когда на куртаге заметит, когда и мимо пройдёт. Не со зла — от гордости. Всё примечать стали. Вот и теперь заехать бы ей, о здоровье царицы Прасковьи Фёдоровны осведомиться. Где там! Днями одна лежишь. Ждёшь не дождёшься, чтобы карета какая у крыльца остановилася.
Говорят, Катюшка с грузинским князем этим амурничать стала, что только-только из Грузии приехал. В службу к государю Петру Алексеевичу вступил. Туркестанов — фамилия-то какая. А по чину подполковник. Гулять горазд. Катюшка и не скрывает, что дом ему свой московский уступает. Так и сказала, чего, мол, двору пустым стоять — пусть Борюшка поразгуляется.
Хотела острастку дать: царская ведь дочь! При живом-то муже! Отмахнулася, как от мухи осенней: лежишь, государыня матушка, и лежи на доброе здоровье. Людям жить тоже не мешай.
Государю пожалиться? Как бы хуже не вышло.
Либо Катюшке какую беду сделает, а то и на меня цыкнет: не в своё дело суюсь.
Опять в глазах потемнело. Болью бок свело. За дохтуром послать? Ничем не поможет. Ничем. Так и сказал, в животе и смерти Бог волен, а мы что — люди мы простые.
Никак лампадка тухнуть стала. Быть того не может! С чего бы? Всегда горела, а тут... Лушка... Лушка... никого. Голосов не слышно. Худо мне. Худо. Испарина-то, испарина всю обливает. Лушка... Дохнуть не могу. Приподняться бы. На подушках немножечко хоть бы. Грудь расправить. Водички. Лушка...
* * *
Цесаревны Анна Петровна и Елизавета Петровна
Молодой Строгонов очень богат и умеет жить. Он имеет даже своих музыкантов. Император незадолго до своего отъезда в Олонец возвёл его со всем семейством в баронское достоинство и при этом случае прибавил ему по полукопейке на каждый пуд соли, которую Строгоновы взяли во всей России на откуп, но при том потерпели большой убыток. Он живёт здесь в большом каменном дворце, стоящем на горе, и оттуда такой чудный вид, какого не имеет ни один дом в Москве.
Из дневника камер-юнкера Берхгольца.
1722. Москва
— Ой, Лизанька, досада какая, что не могла ты с нами поехать к Строгоновым. Вот уж и впрямь досада!
— Это всего-то к Строгоновым? Да я и не жалею. Разве что танцы были, так, поди, Александр Григорьевич и кавалеров никаких не позвал. Скушный он какой-то.
— Это Строгонов-то скушный? Окстись, сестрица! Да занимательней его я и собеседника-то не видала.
— А, разговоры! Это он мастак, ничего не скажешь. А какие ж чудеса такие вы в его доме увидали? Гляжу, раскраснелась ты вся. Довольна, значит.
— До чрезвычайности, сестрица! Вообрази себе, дом преогромный. Может, поменее Воробьевского, зато и наряднее. На крутояре у Яузы. Сад на французский манер разбит.
— Ну, что там под снегом разглядеть можно.
— А вот и можно. Все дорожки расчищены, газоны прибраны, деревья искусно так рогожами укутаны, что твои статуи стоят. Со входа глядеть, не наглядишься. А слуг, слуг-то сколько! Веришь, сестра, толпами стоят. Все в ливреях богатых. В париках!
— Надо же! Откуда только деньги берутся?
— У Строгоновых их всегда не переводилось. А вот девки в русском платье. С косами. В косах да на головах ленты алые, широкие. В пояс кланяются.
— А девки-то, не пойму, к чему?
— У лакеев в дверях посуду принимали и новые блюда подавали, а ещё подблюдные пели. Таково-то стройно, ладно.
— Это что же и стол был?
— Да ты только послушай, Лизхен. Столов два хозяин выставил, один богаче другого. В зале, где танцы начались, буфет был устроен. Великолепнейший. Хрусталя, посуды серебряной — глаза разбегаются. А рядом стол преогромный с холодными кушаньями. Кто из гостей от танцев проголодается, перекусить на ходу может. Лакеи на лету тарелки подхватывают, потчивают.
— А Строгонов всё с государем батюшкой?
— Вовсе нет. Два раза меня о танце просил. Преотлично танцует. Легко. Почтительно.
— А говорили-то о чём?
— О сочинении господина Милтона, «Потерянный рай» называется. Александр Григорьевич за перевод его взялся, так отрывки некоторые мне прочитать потщился.
— Опять о книжках, вот напасть-то, Господи прости!
— Так мне же интересно было, сестрица.
— Верно, верно, Аньхен, это я всё на свой аршин прикидываю. Мне такие кавалеры не нужны. Со скуки завяну, а тебе... Да ты о покоях мне лучше расскажи, не поленись.
— Ой, сестрица, в соседней зале стол был накрыт. Голштинцы, на него глянув, так подрастерялись, что и в дверь входить не сразу стали — с порога все смотрели.
— И герцог Карл тоже?
— И герцог. Только он сразу нашёлся и поздравил Строгонова с таким великолепием и вкусом, который, по его словам, сделал бы честь любому европейскому королевскому или правящему дому. Александр Григорьевич очень изысканно его за комплимент на немецком языке поблагодарил.
— Выходит, в грязь лицом не ударил. А на столе-то что?
— Посередине серебряный поднос преогромный. Так думаю, несколько слуг нести его только смогут. Немецкой работы, герцог сказал. На подносе разного рода сладости. А весь стол уставлен серебряными тарелками. Приборы такие же диковинные. И знаешь, Лизанька, государь батюшка так странно пошутил. Мол, кабы не расчёты государственные, выдал бы свою дочку за такого хозяина. Да ещё спрашивает: а ты взял бы, барон, мою цесаревну.
— Подумать только! Так и сказал? При всех?
— При всех, Лизхен, при всех.
— И что Александр Григорьевич?
— Веришь, огнём-пламенем пошёл. Будто вся кровь в лицо ему бросилась, да и отвечает, что о таком счастье и во сне не решался помыслить. Что для такой супруги истинную сказку на земле создал, жизнь бы положил, не жалеючи.
— А говорят ещё, что барон к обхождению придворному равнодушен!
— Только веришь, сестрица, как-то мне показалося, что не батюшке Александр Григорьевич отвечал — мне говорил. Мне. Хотя быть такого не может. Не может!
— Это почему же? Потому что ты цесаревна, а он твой подданный? Пустяки какие? Нешто Купидон табель о рангах читает, прежде чем стрелу на тетиву наложить. А ты, ты-то, сестрица, что?
— Что я. На отходном руку ему для целования подала. А он и глаз не поднимает. Государь батюшка на обратном пути сказал: учёнейший и благороднейшей души человек, как только у отца-откупщика такие дети рождаться могут. Вот и всё, сестрица.
* * *
Пётр I, царица Прасковья Фёдоровна, врач
— Государь, царица Прасковья Фёдоровна кончается.
— Кто сказал?
— Челядник прискакал, сказывает, заслабла царица.
— Дохтура! Лошадей!
— Был дохтур, ваше величество. Надежды не оставил. Можете и не успеть. Больно плоха.
— Раньше упредить не могли ? Царевны что же? Им-то сказали?
— Сказать-то сказали...
— И что? Да говорите же толком! Чего воду в ступе толчёте?
— Пусть сама царица тебе скажет, государь, коли к сроку поспеешь.
— Ещё что за новости! Что там стряслось? Быстро!
— Да разгневалась государыня царица Прасковья Фёдоровна на дочек. Так разгневалась, что не велела в опочивальню свою пущать. Поп Иродион, духовник государынин, так и сказал, лишила, мол, государыня царевен своего материнского благословения.
— Иродион чего лишнего наболтал?
— Прислуга толкует, что вроде нет. Будто он государыню как мог уговаривал. Даже голос повысил. А она упёрлась и ни в какую.
— Да доедем мы, наконец, или нет!
— Доехали, доехали, государь. Вон Катерина Иоанновна на крыльце встречает. Никак жива ещё матушка-то — не плачет.
— Государь дядюшка...
— Не стой на пути! Не с тобой разговаривать приехал! Что царица?
— Плоха, ваше величество, совсем плоха.
Двери в доме настежь. Сквозняк кружит. Свечи на ветру стелятся. В опочивальне духмень. Полог у постели спущен. Откинуть заторопился — чуть не сорвал.
— Прасковьюшка! Невестушка! Что ты? Что удумала? С чего это в дорогу дальнюю, сказывают, собралась? Не смей! Слышь, невестушка, не смей!
Веки дрогнули. Пальцы по одеялу шевелятся, шевелятся...
— Тише, тише, государь, прибирается государыня царица. Вишь, прибирается. Час её пришёл — не поможешь.
— Пошла вон, дура старая, с приметами вашими! Вон!
— Какие ж приметы, государь батюшка. Это уж от Господа так положено — перед дорогой-то прибраться. Вот государыня и...
— Вон! Кому сказал?
На постелю сел. Руку взял. Влажная вся. Тихохонько вздрагивает. Снова веки дрогнули. Теперь и губы вроде...
— Государь...
— Говори, говори, невестушка. Что тебя заботит, всё сделаю. Жизнь мы с тобой целую бок о бок прожили. Ты мне после матушки да сестры...
— Государь...
— О дочках просить хочешь? Не тревожься, не оставлю, коли что.
— Нет, нет, государь, Петруша...
— Что, Прасковьюшка, что нет-то? Не угадал. Заслабла... Дохтур!
— Моя наука бессильна, ваше величество. Её высочество в агонии. Её сознание вряд ли вернётся.
— Государь...
— Слышь, зовёт? Наука твоя! Что, Прасковьюшка, что? Силёнки-то подсобери, неровен час не успеешь. Говори, говори, невестушка.
— Юшкова...
— А, не трону, не трону, не тревожься. Пусть с Богом век свой доживает.
— Аннушку... Аннушку одну...
— Не гневайся, великий государь, позволь мамке старой за государыню свою досказать. Вишь, не под силу ей. Припозднился ты, великий государь, всё тебя дожидалася...
— Дожидалася не дожидалася — говори скорей!
— Только Анне Иоанновне одной благословение своё материнское государыня дала. Последнее. Предсмертное. Ей одной, государь.
— Анне? С каких пор благоволить к ней стала? Верно это, невестушка?
— Гляди, гляди, великий государь, кивнуть хочет.
— Похоже... А чем же Катерина-любимица не угодила? Прасковья-тихоня чем в гнев ввести могла?
— Того, государь, несведома. Не холопье это дело...
— Вот-вот, не холопье! Всё знаешь, старая, всё. Ладно. Не обижу, Прасковьюшка, герцогини Курляндской — об этом, что ли, сказать хочешь? О милости для неё просить? А на дочек за что рассердилася, что имущество своё выделить пожелали? Не велик грех, невестушка, хотя... С чего бы эта блажь к ним пришла? Будто замуж выходить пособиралися. Да что уж теперь. А это что? На одеяле-то? Никак зеркало! С чего ему тут взяться? Гадали вы тут, что ли?
— Нетути, великий государь. Как можно! Это государыня царица приказала принести. Который день лежала да в зеркало смотрелася. Поглядит-поглядит, да и в слёзы. А забрать никому не давала. Вон видишь, снова пальчиками к ручке тянется.
— Это что значит, дохтур?
— Женский каприз, не более того, государь. Никак не более.
— Капризов у Прасковьи Фёдоровны отродясь не бывало. За то и любил невестку всю жизнь. Что это — никак...
— Вот теперь зеркальце её высочества и впрямь пригодиться может. Дыхание на стекле... Всё, ваше величество. Государыня царица Прасковья скончалась.
— Что ж, со святыми упокой. Макаров! Здесь ты? Похоронами распорядись. Хоронить по царскому обряду будем.
— А хоронить где? В Петропавловском соборе, государь?
— Да ты что! В лавре Александро-Невской. Скажем, в Благовещенской церкви. Пусть Федос займётся — его епархия.
* * *
Царевна Прасковья Алексеевна,
Екатерина Ивановна, герцогиня Мекленбургская, Пётр I
Повивальной бабки не хотела: разговоров прежде времени не оберёшься. У кормилицы спросила: справится ли. Перекрестилась: Господь милостив, голубонька моя. Ну и хорошо, ну и славно. Молчать строго-настрого приказала. Можно и не приказывать — кормилица больше неё ответу боялася. Один раз только не выдержала: ой, не спустит государь Пётр Алексеевич, ой, не спустит тебе, голубонька, тут уж и мне, старой, на орехи достанется.
Не то что сама боялась — опасалася. У государя дядюшки характер что синь-порох: неведомо когда взорвётся, неведомо кого в клочья разнесёт. Вроде бы всё рассчитала ночами долгими, бессонными, да кто его знает, может, где и промахнулася.
Имущество своё ещё при жизни матушки государыни Прасковьи Фёдоровны отделила. Непросто было, ой, непросто. Знала, просить надо не дядюшку — государыню Екатерину Алексеевну. Терпеть её не могла. Да ведь ей, немке приблудной, покрасоваться перед царским семейством куда как радостно.
Думала: не откажет. Не отказала. На всякий случай камер-фрау царицыной немало денег отсчитала. Чтоб походатайствовала. Чтоб в добрую минуту царице напомнила.
Удачно вышло. Матушка не простила — что ж теперь делать. Не с ней было заботами своими делиться, что решила Ивана Ильича в полюбовники взять, что о детях тоже позаботиться заранее предполагала.
Так Прасковья Фёдоровна против дочки младшей разошлась, что на смертном одре их с Катериной благословения родительского лишила. Уж на что Анну всю жизнь терпеть не могла, а тут им назло ей одной благословение материнское досталось.
Екатерина-то уж давно как из Мекленбурга вернулась, с князем Борисом Туркестанским сожительствовать стала. Не больно и крылась. Что ей, мужняя жена, герцогиня иноземная. А деньги всё равно нужны. Доказала ей: надобно у матушки свои доли выделить. Хватит Юшкову свою родню за их счёт кормить. Сами могут хозяйством заняться. Екатерина и спорить не стала. Обрадовалась.
Матушка государыня ни в какую: оказалось, чуть не всё по ветру с Юшковым пустила. Спасибо, спохватились. А уж сколько у царицы осталось, её печаль. В случае чего государь невестке поможет.
Видеть их с Катериной больше не хотела. Анну к себе требовала. Того в толк взять не могла покойница, что Анне Иоанновне с Петром Михайловичем Бестужевым-Рюминым расставаться никак нельзя. Прилепилась к нему душой и телом. Немолод, что говорить, а всё из себя видный. Сам государь Пётр Алексеевич доверенного своего боярина к герцогине Курляндской приставил — живи не хочу.
Знала, государь дядюшка за царицу Прасковью Фёдоровну заступаться не станет. Ему же дешевле, коли племянненки на свои хлеба отойдут. Матушка жаловаться попробовала, он только удивился: разве не их доли?
Чем ближе роды подступали, тем больше о каждой мелочи думалось. Верила, не станет государь дяденька с Иваном Ильичом ссориться. Нужен он ему, ещё как нужен. Не то что семья родовитая — такого не скажешь. Есть и знатнее. Куда знатнее. Зато в военном деле себя выказал. По придворному чину стольником начинал. В лейб-гвардии Семёновском полку служил. А подошла война со шведами, государь сам его заметил — больно горяч да отважен. Ранили — опять в строй вернулся.
Одно за одним пошло: тут тебе и капитан, тут тебе и гвардии майор. При Полтаве как отличился. О Лесной государь не один раз сам рассказывал. Хвалил: таких, мол, солдат в моей армии поискать.
В 1720-м бригадиром стал. Когда голштинцы прибыли в Петербург, генерал-майором. Тогда всё и началось. Глаз отвести от него не могла. Да и он как взглядом впился, так потом и искал на каждом куртаге. Первый заговорил, не оробел.
Государь его в персидский поход взял. Передовым отрядом при взятии Дербента командовать поставил. И снова не сплоховал.
Писем не писали. Знала, чем письма кончиться могут. На словах одних. Сестрица Катерина знала. Знай себе посмеивалась. Стерегись, мол, Прасковьюшка, лишних глаз да ушей, а скрытый грех, известно, наполовину прощён.
Да и греха ещё не было. Это уж после матушкиной кончины. А для себя сразу разочла: на всё пойду. Ни перед чем не постою. Тогда и имуществом занялась. Ваня бунтовал: без него обойдёмся, моего родового имения на всё хватит.
Храбр, храбр, а прост. Того в голову не взял, что царевнино имущество — царское. Значит, от царской семьи. От царского владения. Он-то хоть и генерал-майор, а всё подданный, а она — венчанного на царство государя родная дочь.
Иван Ильич отмахивался: не больно-то царевне-правительнице Софье Алексеевне кровь царская помогла. На всё государева воля.
Не помогла. Верно. Да только там о престоле дело пошло. О власти. Тут уж ни родства, ни обязательств не бывает и быть не может. Вспомнить, что государь дяденька с Алёшкой сделал, страх так и облетает. С собственным сыном-то!
А нам с Иваном Ильичом ни престола, ни власти не нужно. Нам бы свою жизнь по-людски прожить.
Схватки начались. Кормилица все ящики да дверцы во дворце пооткрывала — обычай такой. Свечи зажгла. Пока суд да дело, спросила: а ежели до государя дойдёт, отвечать как?
Дойдёт. Как не дойти. Сестрица Катерина приехала. Сказала, до конца останется. На всякий случай. Сама поговорит с государем, а каждого посланного взашей выставит. Ивану Ильичу распорядилась прочь уехать. От греха подальше. Челяди со двора выходить настрого запретила. Ворота да двери наружные на запор. Тоже от греха. Вон, говорит, крепость у нас с тобой, сестрица, какая. Любой штурм выдержит.
Иван Ильич своего человека у чёрного крыльца оставил, чтобы в случае чего весть ему подать. Сказал, спать ложиться не будет.
Варвара Михайловна, Александра Даниловича золовка, его лекаря в последнюю минуту подослала: пусть подежурит. Заботливая. Об Александре Даниловиче. Так всю жизнь надышаться на него горбунья не может. Умница. Посчастливилось ему.
Сам светлейший обещал в случае чего словечко перед государем замолвить. Только никому его словечко нужно не будет. Вышел светлейший из случая. Нынче ему Иван Ильич, а не он Ивану Ильичу нужен. Государь за его грешки крепко взялся. Не иначе кто наговорил. У кого грешков-то нету. Кто Богу не грешен, царю не виноват. Всё случай да обстоятельства.
Сам примчался. Государь примчался. Ехать от его дворца всего ничего, а кони в мыле. Храпят.
Из кареты на крыльцо — все двери перед ним настежь. «Где? Где именинница-то ваша?» Челядь врассыпную. Одна Катерина Иоанновна выступила: «В опочивальню, государь дядюшка, пожалуйте».
Шубы не скинул. Ботфортов не отряхнул. У постели остановился:
— Докладывай, племянненка, докладывай, роженица, какого сраму на двор царский приволокла.
Откуда силы взялись: на подушках приподнялась. Гневом зашлась:
— Откуда же сраму, государь?
— Приваляла дитё, приваляла!
— Приваляла бы, кабы не от законного родителя.
— Законного? Что несёшь, Прасковья?
— А то, что от супруга венчанного, церковью благословлённого.
— Венчанного? Где нашла? Кто посмел?
Катерина Иоанновна из угла выступила:
— Сам, государь дядюшка, хвалить его изволишь, сам что ни день с ним совещаешься.
— Кто, спрашиваю?!
— Кто, государь дядюшка, тебе «Воинский регламент» сочинял, кто тебе города в Персидском походе брал?
— Мамонов, что ли?!
— Генерал-майор Дмитриев-Мамонов Иван Ильич.
— Полюбовник твой, царевна, значит.
— Сказала, государь, супруг законный.
— Венчались где? Какой это поп такой отчаянный? Я с ним разберусь. Я ему мозги вправлю!
— В Москве венчались. В Старых Палачах. У отца Иродиона.
— Моего персонных дел мастера брата? Ивана Никитина брата?
— У него.
— Почему в Старых Палачах? В чужом приходе? Крыться решили?
— Зачем же, государь, отец Иродион в Измайлове больше не служит. Как мы с маменькой в Петербург перебрались, отпускную взял, в приход перешёл у Тверских ворот. И оглашение было.
— Вот как. А мне ни одна живая душа не донесла. Разберусь. Со всеми разберусь! Родила кого?
— Мальчика, государь.
— Жив?
— Благодарение Богу.
— Благодарение, говоришь. Имя выбрали?
— Иоанн. В честь родителя моего покойного государя Иоанна Алексеевича.
— Брат тут ни при чём. Его и поминать не смей. Бумага есть? Чернила? Сюда быстро тащите! Напишешь, что за себя и за младенца своего Ивана Дмитриева-Мамонова и всех последующих потомков навеки отрекаешься от российского престола и отношения к нему иметь не будешь. Ты, Катерина, напиши, она подпишет.
— Не трудись зазря, сестрица.
— Что ещё за зазря? О чём ты, строптивица?
— Отречения подписывать не стану. Хоть и далеко мне с детьми моими до престола, а подписывать не стану. Не ждите.
— Прасковьюшка, сестрица, да что ты?
— Прасковья!!! Сгною!!!
— Твоя воля, государь, а подписывать не стану. Сестёр моих отрекаться не заставлял, а меня одну выбрал? Нет на то моего согласия и не будет!
— Послать за Мамоновым немедля!
— И Мамонов тебе, государь, не поможет. Наше это дело — царское, семейное. Никакой супруг мне здесь ничего не прикажет. Нет!!!
* * *
Цесаревны Анна Петровна
и Елизавета Петровна, Маврушка
— Аньхен, Аньхен! Господи, да скорее же! Неужто ничего не слышишь?
— Что, Лизанька? Ты о чём?
— Крики! Крики — ровно бьют кого смертным боем. Мужик кричит, ой, как кричит-то! Я думала под окнами. Затаилась вся.
— Под окнами! У батюшки в покоях — вот тебе и окна!
— Поначалу голосов столько было. Громких. А потом...
— Меня Маврушка кликнула. Мы с ней в переходе стояли. К батюшке в покои кого-то повели.
— Да ведь никогда такого не было, чтобы во дворце. Ой, убивают... Маврушка-то где? Неужто ничего не вызнала?
— Я ей крикнула, чтобы к тебе, Аньхен, бежала, коли чего доведается. Услыхала ли, не знаю. А я к себе нипочём не пойду — страх какой.
— А государыня где? Ведь слышит же. Она всегда первой бежит батюшку умилостивлять, а тут... О, Господи...
— И к государыне не пойду — ещё под горячую руку попадёшь.
— Вчера вроде ничего такого с вечера не случалось. Государь на куртаге веселился. Даже танец один протанцевал. Курил много.
— Нет, Аньхен, это с утра кто-то с вестью к государю явился. Маврушка дозналась, будто Александра Даниловича велено было позвать.
— Так не его же... Он-то стерпит.
— Разговор с ним был. Государь батюшка даже денщика выгнал — на особности с ним толковать принялся. Потом уж и Ваську Поспелова позвали. Слуги слыхали — пока дверь не затворилась — в ноги батюшке кинулся, «Помилуй, государь», кричать принялся. Да вот и Маврушка. Говори же, говори скорее, что сталося!
— Государыни царевны, не знаю с чего и начинать.
— Ты-то не знаешь?
— Не случалось ещё во дворцах такой стыдобы, потому и не знаю.
— Стыдобы?!
— Да ты что, Маврушка, в себе ли?
— Сама толком не знаю, царевны, ничего больше не знаю. Царевна Прасковья Иоанновна — ох, язык не поворачивается!
— Прасковья? Что с ней?
— Государыни царевны, только меня не выдавайте, что вам рассказала. Со мной расправа государева куда какой короткой будет.
— Да скажешь, наконец, или нет?
— Царевна Прасковья Иоанновна, помните, на куртагах танцевать перестала, букой такой заделалася.
— Что тут помнить — никогда бойкой не бывала. А тут хворала.
— Хворала! Так только говорилось, а на самом деле на сносях была наша молчунья.
— Ты что, Маврушка?!
— Да как такое случиться могло?!
— Да вот взяло и случилося. Родила наша царевна. Родила! Сыночка! Живёхонького! Здоровёхонького! В ночь родила, а государь к утру и узнал.
— Господи, что ж теперь будет!
— А Александр Данилович при чём?
— Погоди, погоди, Лизанька. Ты, Маврушка, толком скажи, кого бьют-то у государя батюшки?
— Ой, Аньхен, кого сгоряча бьют, того и бьют. Лучше узнать, кто отец-то младенчику? Его, что ли, бьют?
— Ой, государыни царевны, как есть ум за разум заходит. Родитель-то робёночка Иван Ильич Дмитриев-Мамонов, его государь не бил и, сказывают, и к ответу не призывал.
— Иван Ильич? Старый такой? Ну, уж и придумала Прасковья!
— Как ты о глупостях таких, Лизанька! При чём тут старый — молодой. Откуда Прасковья Иоанновна смелости такой набралась?
— Правильно, государыня царевна! Не то что смелости набралась, а ещё и договориться умудрилась. Сбила старика с пути истинного, как есть сбила, скромница наша.
— И на сколько же лет наш боярин царевны старше будет? Вдовец ведь? Прямо как у царевны Софьи Алексеевны любимец-то её — князь Голицын.
— Вот и неправда! Голицын на двадцать с лишним лет правительницы старше был. Мало что седой, внуков полон двор. А Иван Ильич — я уж посчитала — на четырнадцать-то всего.
— Когда, Маврушка, успела!
— Во дворце каждая стенка ли, дверка ли все тайны вышёптывает. Тут никому не скрыться.
— Будет вам, как сороки застрекотали. О деле давайте. Говоришь, Дмитриева-Мамонова государь батюшка не распекал?
— Может, где ещё, а во дворце нет.
— А светлейшему за что досталося?
— За сводничество.
— И что он удумал?
— Чего удумал? И царевна к нему на двор, и Иван Ильич будто по делам к нему же. Вот дело-то и состоялося.
— И кто бы государю батюшке обо всём донёс?
— Полно тебе, Анна Петровна! Какая премудрость до всего дознаться, коли дитё в колыбели орёт. Один не донёс, другой бы постарался. Как на сквозном ветру.
— А Поспелов при чём?
— При том же. Сводничал по сговору со светлейшим. Похоже, государь обоих так накостылял, что любо-дорого. Вон как вопят. Поди, долгонько ни лечь, ни сесть не смогут.
— Аньхен, государь батюшка, поди, позже с родителями младенчика разберётся. Вот уж Прасковьюшке не позавидуешь!
— А ты, государыня царевна Елизавета Петровна, раньше времени за других не решай. Сказывают, государь уж с Прасковьей Иоанновной дискур имел. Будто бы сам к ней во дворец заехал, сам собственными глазами во всём убедился. Вот как!
— Вот страх-то! Прямо мороз по коже дерёт!
— Да полно тебе, сестрица, на себя-то всё примерять. Слава тебе, Господи, тебе такой стыд не грозит и никогда грозить не будет.
— Ты забыла, Аньхен, поговорку: грех да беда на кого ни живёт.
— Но не на нас же! Ты, Маврушка, скажи, сколько государь у царевны Прасковьи побыл.
— А Екатерина Иоанновна что? Поди, знала?
— То-то и оно, все говорят, не знала. А как дозналась, к сестрице помчалась, во всё горло смеётся.
— Это ещё и почему? Путаешь ты что-то, Маврушка?
— А что тут путать, Анна Петровна? Екатерина Иоанновна так и сказала, мол, поживёт сестрица как человек, и слава Богу.
— Бесстрашная.
— Да что ты, Аньхен, Катрин права. Уладится всё как-нибудь, а на всю жизнь будет что вспомнить.
— Слушать тебя, Лизанька, не хочу! Перестань! Перестань сейчас же! А ты, Маврушка, о государе не ответила.
— И впрямь заслушалась вас, государыни мои. Так вот, сказывают, государь не меньше часу у племянненки погостил. Вышел яростный весь. Желваки так и играют. Волосы растрепались. В карету только что не влетел — сам дверцу со всего маху захлопнул.
— Думать надо.
— Полно, Аньхен. О чём разговор-то был, никто не подслушал?
— Не удалось. Как государь ни гневался, а из-за притворенной двери услыхать не удалось.
— Каково-то сейчас Прасковьюшке. Поехать бы, да ещё хуже сделаешь.
— Кому хуже, Аньхен? Себе ведь. Государь дочке такого ни в жизнь не простит, а уж Прасковье что вышло, то вышло.
— Да я ещё, государыни мои, самого чуда-то вам не рассказала.
— Какого ещё чуда? Ты, Маврушка, и впрямь мешок новин притащила.
— Так и есть, Елизавета Петровна, мешок, да ещё с походом. Вы только послушайте да подивитесь. Государь умчался, и в те же поры царевна Прасковья Иоанновна из покоев своих вышла, прислугу да челядь собрала и велела — да не поверите вы мне, нипочём не поверите! — младенцу покой детский сделать.
— Где?!
— В своём дворце?!
— Так и есть, во дворце. Вроде она уже всё заранее в уме держала, а от государя то ли разрешение, то ли благословение получила.
— Господи, с нами сила крестная? Не обезумела ли царевна?
— Выходит, государь батюшка её ни в ссылку, ни в монастырь — никуда отправлять не думает? А с дитём, с дитём-то как?
— Погодите, погодите, государыни, не всё это чудеса. Главные впереди. Царевна Прасковья Иоанновна распорядилась половину Ивану Ильичу Дмитриеву-Мамонову убрать как положено, со всяческими удобствами.
— Ну, уж это наврали тебе, Мавра. Быть такого не могло!
— Так полагаете, Анна Петровна? А что скажете на то, что сам Иван Ильич в те поры во дворец царевнин приехал, с герцогиней Екатериной Иоанновной на крыльце столкнулся, по-родственному облобызался да плечико к плечику в дом-то и вошёл?
— Это что же, выходит, как хозяин?
— Как хозяин и есть, Елизавета Петровна. Поди, и к вам теперь с родинными пирогами приедет, принимать его будете.
— Зря смеёшься, Лизанька. Прикажет батюшка, значит, и примем. Он государь — ему виднее.
* * *
Пётр I, И. И. Мамонов
— Мамонова ко мне! Немедля!
— Государь, генерал-майор в антикаморе дожидается. Уж с час как приехал.
— Не трус, ничего не скажешь. Другой бы на его месте в стог сена в деревне зарылся, дышать перестал, а этот... Ну-ну! Входи, Мамонов, и что ты мне теперь сказать можешь?
— Виноват, государь. Всей жизни не хватит вину перед тобой заслужить.
— А раньше что думал? Год назад что думал, когда меня обманывал?
— Не обманывал тебя, государь. И в уме такого не имел.
— Что же тогда? Говори, говори, не стесняйся.
— Полюбил, государь.
— Ишь ты, и сразу царевну, царскую племянницу!
— О том не думал. Больно хороша Прасковья Иоанновна. А как ласково на меня поглядела, так и думать перестал.
— Хоть не врёшь, и то ладно. Где встречались, как, всё вызнал. Что дальше делать будем?
— Твоя воля, государь. Только не разлучай меня с супругой и с сыном. Не было у меня детей, сам знаешь.
— Знаю. И разлучать не стану. И на службе ты мне нужен.
— Как прикажешь, государь. Солдат я.
— Хороший солдат, тут ничего не скажу. Хороший... А Прасковья...
— Государь, моя во всём вина. Я старше, мне и думать надо было.
— И царевна не подросток. Никак тридцать минуло. Знала, что делала. С бабами у меня всю жизнь одна морока, да ещё Прасковья Иоанновна из норовистых оказалась. Кажется, откуда бы. Ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Подумать не мог.
— Хозяйка хорошая Прасковья Иоанновна. Дельная. Обо всём сама доведается, всем распорядится.
— Надо же. А мне и невдомёк, чего она с царицей покойной Прасковьей имущество делить стала. Наша государыня Екатерина Алексеевна меня за неё просила. Дивился, с чего бы, да тут же и забыл.
— Не знал об этом, государь. Слово чести, не знал.
— Верю, Мамонов. А сделать мы вот что сделаем. Брак я ваш признаю.
— Государь, вы делаете меня самым счастливым человеком...
— Погоди, погоди, Иван Ильич. Признать признаю, а объявлять не стану. Жить можете вместе, а на людях, при дворе показываться по-прежнему отдельно станете: одно дело — её высочество царевна, другое — лейтенант корпуса кавалергардов.
— Государь! Я не ослышался, государь? Господи!
— Не ослышался, не ослышался, Мамонов. Иначе нельзя — свойственник ты царский отныне. И честь тебе другая должна быть.
— Государь, всей своей службой тщиться буду заслужить вашу безмерную снисходительность и милость.
— Не беспокойся, долг с тебя сполна затребую. Ни землями, ни душами дарить не стану, чтоб другим неповадно было. И так проживёшь.
— Ни в чём у меня нужды нет, государь. И дети наши, коли Бог ещё пошлёт, ни в чём нужды терпеть не будут.
— Редко такие речи у нас услышишь. Сына-то как назвали? В честь царственного деда, слышал?
— Прости, великий государь, не столько о покойном Иоанне Алексеевиче думали, сколько обо мне. Пусть отцовское имя носит. Говорят, оно счастье приносит. Простые люди говорят.
— Разве у простых. А крёстных родителей сам тебе назначу. Цесаревне Анне Петровне поклонись да великому князю Петру Алексеевичу. Так и дитё твоё в семействе нашем останется.
— Государь, могу ли радостное известие царевне Прасковье Иоанновне сообщить? Поди, извелась вся. Слухом земля полнится, а от меня ничего нету.
— Прасковья Иоанновна не изведётся, не бойсь. Характер не тот. Нам бы у неё поучиться, вот что.
* * *
Пётр I, А. В. Макаров, цесаревна Анна Петровна
— Макаров, за цесаревной пошли старшей. Попросили бы Анну Петровну, коли во дворце, ко мне прийти.
— Что вы, ваше величество, её высочество цесаревна сколько раз спрашивалась, нельзя ли вас увидеть. Очень беспокоилась, нет ли у вас, государь, неприятности какой.
— Одной Аннушке во дворце до меня дела, знаю. Так что, послал ли? Перед тем как на Адмиралтейский двор ехать, с ней потолковать надобно.
— Государь батюшка! Ваше величество!
— Прибежала, Аннушка, вот и славно. Макаров, двери закрой. Никого не впускать. Занят я. Садись, садись, дочушка. Слыхала уже, какая конфузил при дворе разразилася? Какой сюрприз нам царевна Прасковья Иоанновна всем приготовила? Или давно знала да помалкивала?
— Нет, батюшка, до сего дня ни о чём не знала.
— А кабы знала, мне выдала?
— Государь, что в задний след вопросы задавать? То время прошло, как мне за него сегодня отвечать.
— Не выдала бы, значит. По бабьему вашему единомыслию.
— Да ведь никогда мы с царевнами Иоанновнами дружбы не водили, государь, сам вспомни. Они нас насколько старше.
— Поди, не один возраст.
— Трудно судить, государь. Мы для них девочками были. А так чтоб симпатия, не было симпатии. Правды не скроешь. Тётенька, государыня царевна Наталья Алексеевна, совсем другое. Иной раз и не поймёшь, кого больше любишь — государыню матушку, её ли.
— Ты от дела-то не отходи, Аннушка. Значит, сейчас уже знаешь, родила царевна сына.
— Знаю, батюшка.
— Так вот хочу, чтобы ты его крёстной матерью стала.
— Я, батюшка? Но ведь...
— Думаешь, привалянной младенец. Нет, Аннушка, они с Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым так исхитрились, что ещё год назад обвенчались, когда Прасковья в Москву ездила. Брат персонных дел мастера Ивана Никитина, поп Иродион их в своём приходе у Тверских ворот и обвенчал. Помнишь ли, он у Иоасафа Царевича Индийского в Измайлове настоятелем был, пока Прасковья Фёдоровна, вдовая царица, со всем хозяйством своим в Петербург не перебралась. Хотя где ж тебе помнить: мала была.
— Вот и слава Богу, значит, и стыда никакого нет.
— Для людей, может, и нет. Но объявлять сей брак не могу и не стану. Жить могут в супружестве, а при дворе каждый сам по себе.
— Твой приказ — закон, государь.
— Да не о том я. Был у царевны.
— Государь?!
— Был, был. Разобраться во всём сам хотел. Велел Порасковье отречение от престола Российского за себя и всех своих потомков написать, а она дубом встала: не подпишу, и весь сказ.
— А зачем отречение, государь?
— Меньше народу у престола толпиться будет, вот затем.
— Только, государь, ни Анна Иоанновна, ни Екатерина Иоанновна отречений таких не подписывали.
— Не подписывали. Так мне подманить их супругов надо было, разве непонятно? Им и так до престола нашего никогда не дойти, а без отречения всё что-то впереди мерещиться будет.
— Понять можно, батюшка, а Прасковья...
— Слушай, Аннушка, у тех двух потомства больше не будет. Елизавету Мекленбургскую, лютеранского исповедания, за какого-никакого владетельного графа или князя сосватаем — невелико дело. А Прасковья здесь, и родился у неё сын. Понимаешь, Аннушка, сын! Вот в чём загвоздка.
— Государь, но брак-то у неё, как в Европе говорят, морганатический. Какой уж тут у младенца престол может быть? Одни мечтания несбыточные.
— А ты про бастардов на престолах европейских никогда не слыхала? Бастардов? А тут дитя законное, да и у батюшки сторонники в наших краях бесперечь найдутся. В случае чего поддержат лучше стрельцов всяких.
— Батюшка, что сталося, то сталося.
— И то верно. Приказал я, чтоб брак всенародно не объявлять, царевне с Мамоновым в супружеской комитиве в её дворце проживать, а про младенца нигде тем паче не поминать. Мамонова лейтенантом корпуса кавалергардов назначу — пускай покрасуется, поймёт, что нет с моей стороны досады на него никакой. А тебя, цесаревна моя, прошу, чтобы новорождённого Ивана от купели приняла. А с тобой вместе племянник твой будет — великий князь Пётр Алексеевич. Спорить не станешь?
— Как бы я посмела, государь! Но только и впрямь лучше, кажется, и не придумать. Выходит, надо мне сегодня же ехать роженицу поздравлять.
— Умница! Всенепременно. И Лизаньку с собой захвати. Тогда и вовсе по-семейному получится.
— Ой, государь, камень с сердца свалился, что не гневаешься ты боле, себя не терзаешь.
— Не гневаюсь? Смеёшься, что ли? Алексашка их свёл. Алексашкины это нечистые дела. Их ему во веки веков не прощу и не забуду. Крал всю жизнь без меры, лихоимничал, теперь ещё и за сводничество принялся, голодранец проклятый. Нет ему больше веры ни в чём. Палка моя погуляла по его плечам, да он привычный. Перетерпит и опять за своё. Только теперь и заступничество Екатерины Алексеевны ему не поможет. Она всегда за него горой. Теперь-то что, интересно, скажет?
— Может, он и не так виноват, батюшка.
— Не виноват? Ты дворец его у Мясницких ворот в Москве знаешь? С церковью, что он выше Ивана Великого вывести решил — Архангела Гавриила? А бок о бок двор Ивана Ильича. Царевна ваша будто бы в гости к супруге да золовке светлейшего, а в саду через забор к вояке нашему. Что теперь скажешь? Перехитрили государя али нет?
* * *
Пётр I, цесаревна Анна Петровна
Который день с государем поговорить надо бы. Где там! Толкуют, снаряжением флота занят. Чистый метеор между верфями и Петербургом мелькает. Даром что лето в разгаре, ни праздниками, ни балами не интересуется. Потешных огней и тех пускать не стал. На всё один ответ: не ко времени. А ведь нездоровится батюшке. Крепко нездоровится. Один остаётся, сразу видно, перемогается. Губы в кровь закусит, а говорить начнёт будто ни в чём не бывало. Идёт — галька из-под ног во все стороны летит.
— Ты ли, Аннушка? Притаилась как. Ждёшь кого?
— Вас, государь. Да будто не ко времени. Я и подождать могу.
— Нет, Аннушка, твой черёд всегда первый. О чём потолковать хочешь? Говори, говори, не жмись, доченька.
— О герцоге я. Понять хочу...
— Для чего на моих хлебах который год живёт-поживает? Твоя правда, по здравому смыслу, делать ему тут нечего. Загостился, да и расходы на его непутёвую свиту немалые. Только здравый смысл в делах государственных на разную мету выходит.
— Государь, обманывать не хочу. Слухи пошли, сватать вы свою дочь хотите. Если бы не это...
— Не нравится? На сердце не ложится?
— Лизаньке ложится. Они с ним вон как веселиться умеют. Чисто дети малые. Да и герцогу с сестрицей легче, чем со мной.
— Веселиться, говоришь? Не о веселье здесь толк, что и тебе, умница моя, уразуметь нужно. Нездоровится мне, Аннушка. Больно нездоровиться стало. Иной раз белый свет не мил, а дел невпроворот. И потолковать по-людски не с кем. Мать только утешать умеет. Слов добрых с три короба наговорит, да и прочь пойдёт — не оглянется.
— Что ты, что ты, государь! Матушка...
— Знаю, тебе дай волю, всех бы со всеми в согласие привела. Доброе сердце государыни не первый год знаю, а о делах государственных ей бы век не слышать. Другие все, пожалуй, так рассчитывать станут, к какому новому хозяину прибиться. Больной государь и в расчёт не берётся. А я так всё устроить хочу, что, коли и не станет меня, дело бы всё равно само собой делалось.
— Тебе, тебе, государь, жить надо. Что там без тебя...
— Жизнь не спросит, кому сколько отвести. И не сбивай меня, Аннушка. Не хочу, чтоб разговор наш кому глаза колол. Вот ты о женихе спросила. Прямо спросила, прямо и отвечу. До сей поры ещё сам не знаю, подойдёт ли тебе герцог. Ты о правах его наследственных когда думала — на что рассчитывать может, кем стать?
— Что за трудность, государь. С герцогом всё просто.
— Значит, думала, умница. Вот мне и повтори.
— Что ж, по титулу он герцог Голштайн-Готторпский, сын единственный герцога Фридриха IV и старшей дочери короля шведского Гедвиги-Софьи.
— А ты не отмахивайся, цесаревна. Дочь дочерью, так ведь и сестра родная короля Карла XII, с которым под Полтавой сражаться пришлось.
— Самого заклятого врага вашего и российского, государь.
— Э, нет! В делах государственных врагов заклятых не бывает. Ты вспомни, во времена дедовские князь Юрий Долгорукий к себе в Москву князя Новгород-Северского звал. Обедом знатным угощал, подарками засыпал. Вместе сражаться стали, а году не прошло, князь-соратник к врагам Юрьевым переметнулся. Тут не о вражде да дружбе говорить надо — о расчёте. Племянник родной Карла XII! Значит, и прав у него на престол шведский предостаточно.
— Если случай будет.
— И снова не права ты, Аннушка. Случай самому делать надо. Ты о другом вспомни. Гость-то наш двух лет от роду осиротел — отец в битве при Классоне пал. Софья-Гедвига вдовая где жить стала?
— В Стокгольме, государь.
— Видишь, видишь! Значит, и шведы к нему привыкли — не чужой он для них, не посторонний. Мать через пару-другую лет померла, опять там же жить остался. Кто ему родителей заменил? Карл XII.
— Плохо заменил. Герцог образованием похвастать не может.
— Захочет — своё доберёт. Не захочет — умной супругой обойдётся. Тоже неплохо, а, Аннушка?
— Учителей да воспитателей добрых николи не знал, всё больше, сам говорил, среди низших придворных чинов время проводил. Одна радость: на дядюшку, как на икону святую, молился. Слова о нём плохого сказать не даст — так и вскидывается.
— Не то лыко ему в строку ставить надобно, Аннушка, совсем не то.
— Разрешите, государь, сама отгадаю.
— Почему бы и нет? Обо всём своим умом думать надо.
— Безвольный он, государь. На ходу спит. Языком иной раз болтать горазд, а вот как в деле будет?
— Твоя правда, никак. Кабы воля была, так бы уже сейчас на шведском троне сидел. Шлезвига сам не добивался — всё время ждал, когда дядюшка любимый на серебряном подносе отцовские владения ему предоставит. Ему бы самому с датчанами сражаться — не стал. Дядя слово сдержал, в 1716-м правление Шлезвига ему в руки передал, а герцог додумался собственными владениями из Швеции управлять.
— Видишь, государь, видишь!
— Так ведь и советчиков добрых у нашего герцога не видать было. И лет он твоих ещё был — шестнадцать годков не для всякого возраста.
— Так ведь когда двумя годами позже король преставился, все права на престол у герцога были. А он что — принял денег на дорогу и поехал по Европе скитаться, владения свои вымаливать.
— Ну, деньги не так уж и малы вышли — помнится, тысяч пятьдесят талеров. Шведский престол упустил, так ведь половину земель своих наследственных одними переговорами вернуть сумел. К двадцати годам резиденцию перенести в Киль смог. Где только не побывал — ив Ростоке, и у дяди своего, епископа Христиана-Августа, в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене и у императора.
— Теперь и до Российской империи дело дошло. Глядишь, российский император сироте на бедность чего пожертвует.
— А вот так, Аннушка, цесаревне судить не след. Не дама ты простая придворная, чтобы пустяки болтать, веером прикрывшись. Не говорил я с тобой — мала была, а теперь вроде бы и самое время. Помнить ты о тех давних днях не можешь — мала была, только когда ты на свет пришла, у русского царя целый кошель невест набрался. Одна другой краше, коли не дурее.
— И всех пристраивать надобно.
— Пристраивать? С какой стати? Коли с толком, другое дело. Вот первой у нас Курляндия оказалась: через неё к морю выходить удобно. Герцогу ихнему так и сказал: любую выбирай из царевен-племянниц. Какая приглянется, та и твоя. Он, понятное дело, на Анну глаз положил. Хороша была, ох, и хороша. Косы до полу, глаза васильковые, кожа белая, крупичатая.
— Неужто было так, государь? Кто другой бы сказал, ни за что не поверила. Анна Иоанновна нынче...
— Что ж, тринадцать лет прошло — для девки срок немалый. Тела набрала, а сама привяла. А в те поры герцог Курляндский задурился совсем, со свадьбой торопиться стал не по правилам — лишь бы скорее супругу такую заполучить. Сразу после Полтавы дело было. Впереди поход Прутский. Никто с женихом спорить не стал. Окрутили царевну да и в дальнюю дорогу с Богом отправили. Только герцог, едва доехав до владений своих, Богу душу отдал. Толковали, перепил на радостях. А герцогинюшка наша вместо того, чтобы герцогство своё к рукам прибрать, порядки для нашей державы нужные завести, обратно в Измайлово, к маменьке любезной рваться стала. Спасибо ещё Пётр Михайлыч Бестужев-Рюмин при ней оказался. За имуществом доглядывать, за курляндцами следить, ну и ещё иное всякое. Старый лис, опытный. Сам наживается, но и наши интересы блюдёт.
— Говорите, наши интересы, государь. Остерман мне по карте показывал — залив там Рижский и море Балтийское, а ещё...
— Вот ты о главном и сказала. И крайняя нам нужда от шведов Курляндию отгородить. Сколько раз они на земли эти возвращались. Только после Полтавы вроде бы отступились.
— Так это, государь, во время войны Северной.
— Умница ты моя, Аннушка. С тобой лучше, чем с советниками моими толковать. Всё-то ты знаешь, до всего тебе дело. А Курляндию после этой войны Шереметев занял. Герцог Фридрих-Вильгельм в те поры ещё в возраст не вошёл. За него дядя его родной, герцог Фердинанд правил. Не то чтобы власть для племянника сберегал — о своих делах думал. У Фридриха-Вильгельма ума хватило: как вернулся после войны в 1710 году в Курляндию безо всякого опекуна, так и стал у нашей державы поддержки искать — на Анне Иоанновне женился. И всё бы ладно устроилось, кабы не смерть его ранняя. Январь 1711-го — что за такой срок сделать можно!
— Вот вы, государь, и заказали Анне Иоанновне в Россию возвращаться.
— Не то что заказал — строго-настрого и думать запретил. Власть-то к былому опекуну — герцогу Фердинанду перешла. Он в те поры в Данциге резиденцию имел. Там и остался: курляндских дворян побоялся. Не нужен он им был. А на такой раздрай глядючи, и Польша вмешиваться стала. В 1717-м порешили курляндцы на съезде в Митаве Фердинанда власти лишить, а всю власть высшим советникам герцогства передать. Это твёрдо помнить надо: где совет из многих, там как хошь воду мути. Кого на свою сторону переманить можно, кого купить. Вот Пётр Михайлыч и управляется, а надо бы нашей герцогине самой. Дел-то сколько — себе не поверишь.
— А в Данциге вам, государь, быть довелось?
— Как же. Там и свадьбу другой Иоанновны сыграли, ещё к морским просторам попротиснулись.
— Это с герцогом Мекленбургским?
— С ним самым. Тут ведь какой расчёт был. Мекленбургские владения все по балтийскому берегу лежат. Вспомнишь, какие земли округ?
— Прусские, государь. Померания, Бранденбург, Ганновер, Шлезвиг-Голштейн. Вот оно что!
— Догадалась, цесаревна? Ещё одну провинцию, Аннушка, пропустила — город Любек! Места благословенные. Если земли не так уж и богаты, зато озёр судоходных, каналов не счесть. Минеральных вод в избытке. Хороших гаваней множество.
— Вы, государь, о них как о российских говорите.
— Да ведь ежели с герцогом в дружестве жить, так бы оно и было. И снова не захотел Господь. Грешно так говорить, ан нет-нет да подумаешь: не угодны Иоанновны Богу.
— Что, не ужилась Катерина Иоанновна с супругом?
— Это ли одно! Подумать только, как замуж её выдавали. Едва не неделю весь Данциг с улиц не уходил: кругом фонтаны из вина, быки жареные, птицей всякой начиненные. Представления кругом, потешные огни. За одним столом император российский, короли польский да прусский. Это ли не почёт! Это ли не радость для молодых! Одного в толк не возьму, откуда у племянниц строптивость такая? Анна на своём стоит, возвращения добивается. Катерина мало того, дочку — не сына-наследника родила, против нрава мужниного взбунтовалась. И пьёт герцог, дескать, много, и в хмелю буен — иной раз и герцогинюшку прибьёт, и нравом злобен. Подхватила дитятко своё никому не нужное и в Измайлово. Поспорь тут с царицей Прасковьей: любимица. За свою Катерину в ногах валяться готова. Вот тебе и хитроумный план. Ровно на песке вычерчен.
— Так ведь у Лизаветы-маленькой всё равно права на престол Мекленбургский есть. По рождению.
— Хороши права! Для сына герцог бы всё сделал, а тут и развода с первой супругой устраивать не стал: нужды нет.
— А он будто женатым на Катерине Иоанновне женился? Как такое быть может? Не знал никто или как?
— Все знали, все бы и поддержали, кабы сына герцогиня наша измайловская спроворила. И на то её не хватило.
— Так в чём вы вините её, государь? Природа решила — не Катерина.
— Природа! А муж на что? Рожала бы, пока наследник не родился, тогда бы герцогиней жила — не приживальщицей на государевых хлебах да матушкиных просьбах.
— Герцог Карл...
— Вот и дошли мы до него, цесаревна. Он ведь к Российской державе с немалой просьбой обратился — и Шлезвиг, и всю Швецию ему вернуть пособить. В феврале 1721-го встретились мы с ним в Риге. Герцогу советники его уже тогда подсказали за царевен посвататься: иначе кто бы его просьбами заниматься стал. Вот тогда я его в Петербург пригласил. Подумал, что и вам с Лизанькой веселей станет. Герцог — человек молодой. Вокруг него почти одна молодёжь вьётся. Чем плохо? Он от Ништадтского мира решения всех своих дел ждал. Не получилось у нас — не с руки было. Это уж в следующем году наш посланник в Стокгольме схлопотал герцогу титул королевского высочества — притязания его закрепил.
— И ничего больше, государь?
— Да как тебе сказать, обещала Швеция на будущее поддержать права герцога на Шлезвиг. На будущее — после дождичка в четверг.
— Но средства, государь, какие же у герцога средства?
— Что ж, пока жалованье от нашего правительства получает. Коли породниться с ним согласимся, и жалованье увеличим, и штат придворный удвоим и дворец в Петербурге — для медового месяца! — дадим. Смеюсь, Аннушка, смеюсь. Пока никакого медового месяца не видать. Так что живи себе, доченька, и жизни радуйся, коли к нашему жениху сердце не лежит.
* * *
Пётр I, цесаревны Анна Петровна
и Елизавета Петровна, Мавруша
— Аннушка! Аньхен! Сестрица! Ты слыхала? Что же теперь будет, что будет, Боже мой!
— Тише, тише, Лизанька.
— Что теперь-то тише. Каждый воробей под застрехой всё знает.
— Бог с ними, с воробьями. Мы-то с тобой не воробьи.
— Да и здесь Маврушка на часах, а она побольше нас с тобой знает. Разве не так? Знает и по гроб молчать станет. Сестрица!
— Боже милостивый! Как я надеялась, что после коронации...[15] Такой почёт! Такая слава! И снова...
— И снова дом Матрёны[16]. Вот кто только донёс, о времени, убивец проклятый, доведался?
— Какая разница, Лизьхен. Каждый мог, народу во дворце предостаточно.
— Но до сих пор молчали!
— Молчали, потому что невыгодно было. А сегодня кому-то расчёт был государыню под обух подвести.
— Монса проклятого!
— Полно, сестрица, какой здесь Монс. Монса в чём угодно обвинить можно.
— И по делу! Все говорят, вор каких мало.
— Обвинить и из дворца на веки вечные убрать, а вот государыня. Ей-то каково теперь будет?
— Не снимает же с неё государь короны. Что сделано, то сделано. Рад бы отступиться, да ходу нету.
— Думаешь? У государя всё возможно. В гневе он, в страшном гневе. Ни с какими законами да обычаями не посчитается.
— Но разве такого не случалось с другими королевами?
— Случалось. Только никому с рук не сходило, а у нас, чтобы царица... О, Господи...
— А может, объяснится ещё всё? Мол, государыня случайно заехала. И Монсу почему бы у сестры не оказаться — родные всё-таки. Или ещё — всем имуществом государыни он управляет, так по делу потребовалось немедля разрешение али совет какой получить. Придумать, придумать надобно. Неужто государыня не сумеет?
— Тебе бы всё придумать, Лизанька.
— А коли выхода другого нету? Жить-то надо, и языки укоротить.
— Не станет государь об этом думать. Ни о ком не станет думать.
— Это верно, не умолишь его в гневе николи.
— Да и как умолить, когда кучера сей час в Тайную канцелярию забрали, в пытошную.
— О, Господи!..
— Как на дыбу разок поднимут, всё что было и чего не было порасскажет. Об Андрее Ивановиче какие страсти ходят, ночью не заснёшь.
— И что, сразу беднягу к Ушакову?
— И его. И прислугу Матрёнину. А там и до дворца дело дойдёт.
— Ещё хуже. А нас, думаешь, государь, спрашивать станет?
— Не знаю, Лизанька, ничего теперь не знаю.
— Надо было раньше государыню упредить, чтобы такой воли не брала. Чтобы поопасилась.
— И ты бы, сестрица, решилась?
— Я-то нет, а вот ты, Аньхен, ты бы могла...
— Не могла, Лизанька, никак не могла.
— Думаешь, матушка государю бы про тебя невесть чего наговорила?
— Не знаю и думать о таком не хочу.
— Ой, государыни цесаревны, сам Пётр Алексеевич сюда жалует!
— Бежим, Маврушка! Через чуланчик бежим. Лучше батюшке на глаза не попадаться. Да и ни к чему ему нас сегодня здесь всех вместе видеть. Скорее, Маврушка, скорее и дверку поплотнее притвори.
— Одна, Анна Петровна?
— Сейчас одна, государь.
— А раньше?
— Раньше? Сестрица Лизанька забегала. Маврушка Шепелева одеваться помогала. Вроде и всё.
— Герцог заходил?
— Государь, он с утра не имеет обыкновения меня навещать.
— Знаешь о делах дворцовых? О Монсе?
— Знаю, что плут он первостатейный, и вы, государь, его на плутнях поймали.
— Только и всего? Не мало ли, Анна Петровна?
— Государь, скажите, что вы хотели бы от меня услышать?
— Молчать, значит, умеешь. И то сказать, во дворце живёшь, среди козней придворных. Знала? Раньше, скажи, знала? И молчала?
— Государь, дворец полон недобрых разговоров. Если все слушать...
— Все да не все! Что мать к Матрёне Балк ездила? Каждую свободную минуту? Как только государь со двора, а того лучше из Петербурга? Что Матрёнин дом почти всегда пустым стоял?
— Конечно, знала, что Фёдор Николаевич московский губернатор, но где и когда находится его супруга, я не могла знать.
— Может быть, может быть... А теперь что делать присоветуешь?
— Я, государь?
— Да, да, ты! Тебя который год к государственным делам приучаю! Ты во всём разбираться стала. Молода — верно, но не беда — потщись, Анна Петровна, свой приговор вынести.
— Раз Вилим Монс оказался вором и плутом на государынином имуществе, его казнить и всё наворованное отобрать. В казну. А сверх того, государь, мне знать не надобно, прости меня.
— Что ж, может быть, и так. А с государыней...
— Государь, батюшка, здесь я буду вас умолять...
— О чём же, любопытно. О снисхождении?
— Я не знаю никакой вины моей родительницы, и не детям эти вины судить. Между супругами один Господь Вседержитель судья. Но вы сами говорили, как заботилась о вас государыня, сколько доброго для вас сделала, как себя ради вас никогда не жалела.
— И что же?
— Только то, что это хорошее уже было и никуда не исчезнет. От него невозможно так просто отмахнуться. К тому же вы только что надели на голову нашей родительницы императорскую корону — она должна была её заслужить, не правда ли? Хотя бы Прутский поход...
— Баснями хочешь меня накормить, цесаревна!
— Нет, нет, государь, на меня не похоже верить басням. Я не один час беседовала с бароном Галлардом. Он показался мне знающим и честным человеком.
— Он такой и есть. Его очень рекомендовал мне Август III.
— Барон рассказывал мне об обстоятельствах Прутского похода и о лагере у деревни с таким трудным названием, которое я еле сумела запомнить, — Станилешти.
— Умница ты моя. Неужто он сам взялся тебе всё объяснять?
— Конечно, нет. Это я вызвала барона на разговор, и он увлёкся им. Барон сказал, что решение о мире было принято великим визирем не из-за того, что его подкупила драгоценностями государыня.
— У неё тогда не было никаких драгоценностей, тем более в походном лагере.
— Это и мне было понятно. Великий визирь испугался вспыхнувшего внезапно бунта янычар, который мог вызвать слишком решительный отклик среди христиан — молдаван и поляков. Поэтому я просто хотела сказать, что государыня делила с вами все трудности походной жизни. И орден Святой Екатерины...
— Я установил только из-за неё. В дела государственные твоя родительница не мешалась никогда и ничего в них не понимала. Не то что ты, умница моя. Если бы с твоим умом у меня был бы сын.
— Мы все скорбим о кончине наследника, государь. Наш Шишечка был таким чудным ребёнком...
— Аннушка, теперь я не хочу обманывать себя.
Шишечка был похож скорее на покойного государя Иоанна Алексеевича.
— Как это возможно, государь! Иоанн Алексеевич был всего лишь вашим сводным братом.
— Я говорю о другом, Аннушка. Может, ты по молодости и не обращала внимания: Шишечка скончался, не дожив до четырёх лет. И он ещё не говорил. Мы могли как угодно представлять его народу, но он не мог научиться говорить.
— Какое несчастье, батюшка! Я и впрямь не задумывалась над этим. Какое горе вам приходилось изо дня в день переживать!
— В прошлом, Аннушка, хоть это горе в прошлом. Зато какой же умницей ты росла.
— Государь, не казните меня за мою настойчивость, но заслуги нашей родительницы...
— Мы кончили этот разговор, Аннушка. И навсегда. Ты, кажется, что-то хотела у меня спросить.
— Только одно. Почему барон Галлард с его знаниями и преданностью вам не бывает во дворце, не занимает придворных должностей?
— А вот в этом надо винить происки Алексашки Меншикова. Этот плут всю жизнь завидовал всему — богатству, образованию, царской милости. Только и с ним настала пора разобраться.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, герцог Голштинский
— Принцесса, я хотел бы с вами поговорить, и немедленно.
— Что же вам мешает, герцог? Я вся внимание.
— Нет, нет, дворец не место для подобных разговоров.
— Что же вы предлагаете в эту отвратительную осеннюю погоду? Посмотрите, какой ледяной ветер метёт вдоль Невы, и окна не способны оберечь нас от холода. Право, около камина будет уютнее.
— Поверьте, принцесса, моё пожелание не относится к числу капризов. Я предлагаю вам прогулку верхами.
— Но об этом страшно и подумать!
— Вы можете одеться теплее, а я, как солдат, пренебрегаю холодом.
— Пусть будет по-вашему.
Конюхов на конюшне никаким приказом не удивишь. Да и во дворце такая сумятица, что любой приказ — не чудо. От казни Монсовой никто не оправился. Царица запёрлась в опочивальне. Государь во дворец и не заезжает. И то сказать, стыдоба на весь белый свет. А что цесаревна Анна Петровна решила с герцогом Голштинским куда-то ехать, так ни для кого не тайна — со дня на день женихом и невестой объявлять их будут. Самое время промеж собой потолковать.
— Ваше желание выполнено, герцог. Я вас слушаю. Вы так возбуждены, что, кажется, не находите слов.
— Да, не нахожу! И кто бы на моём месте их нашёл? Вы знаете, что его императорское величество наконец-то решился на объявление нашей помолвки?
— Мне государь не говорил ничего, а слухи, да ещё во дворце...
— Пусть пока только слухи. Но нет дыма без огня. И главное об идее помолвки мне сообщил сам Алексей Васильевич Макаров. Кому же, как не кабинет-секретарю, знать о планах его величества.
— Положим. Так что же вас волнует? Вас перестало устраивать это обручение?
— Вы настолько безразличны ко мне, принцесса?
— Я могла бы ответить, что до самых последних дней ваш выбор склонялся в сторону моей младшей сестры.
— Это неправда!
— Это правда, герцог, и я не вижу в этом никакой вашей вины.
— Я повторяю, это неправда, принцесса. Моё отношение к принцессе Елизавете было всего лишь поведением хорошо воспитанного человека — не более того. К тому же принцесса Елизавета любительница танцев, а вы часто отдаёте предпочтение умным разговорам, до которых я в женском обществе не большой охотник.
— Вот видите! Но ваше упорство отводит вас от главной темы разговора, а ветер, даже вдали от реки, пронзителен.
— Извините, принцесса. Но мне очень важно уверить вас в своих чувствах, тем более накануне помолвки.
— В этом нет нужды, герцог. Мы с вами оба знаем, что браки лиц царской крови основываются не на чувствах.
— Но наш...
— Если он состоится.
— В этом уже можно не сомневаться, будет полным исключением, если вы, принцесса, испытываете ко мне хоть каплю сердечности.
— Герцог, вы выбрали на редкость неудобную и холодную обстановку для пылких заверений.
— Бог мой, принцесса, в свои шестнадцать лет вы уже истинный дипломат.
— Скорее, просто дочь своего отца — Петра Великого.
— Так вот именно Пётр Великий, которого вы так боготворите, намерен лишить нас с вами всяких надежд на российский престол.
— А вы рассчитывали на него, герцог?
— Что значит, рассчитывал ли я? Это вы имеете все права на него.
— Я хочу вам напомнить, ваше высочество. Ваши планы, когда вы приехали в Петербург — и об этом мне говорил мой родитель, — не простирались так далеко.
— Да, да, не сомневаюсь, вашего родителя привлекала моя родственная связь со шведским престолом — как-никак родной племянник столь ненавистного русскому царю Карла XII, сын его родной сестры. Родной внук короля Карла XI! Мне есть чем гордиться!
— Я не думаю, чтобы нам стоило начинать перечислять наших предков.
— Вы имеете в виду вашу родительницу, принцесса? Но я бы никогда не позволил себе никаких намёков!
— На что именно, ваше высочество? Я не могу сказать, что хорошо разбираюсь в генеалогии царствующих домов Европы, но ещё совсем недавно, немногим больше ста лет назад, царь Борис собирался выдать свою дочь царевну Ксению за принца Густава, сына Эрика XIV и Катарины Монсдоттер, насколько я помню, дочери простого солдата, ставшей шведской королевой. Я ошибаюсь?
— Конечно, нет! Как вы с вашими знаниями и вашей скрупулёзностью, принцесса, можете ошибаться. Но вы меня обвиняете в бестактности, которой я не совершал.
— Тем лучше, герцог.
— Да, да, тем лучше. Но сейчас государь решил лишить вашу родительницу прав на российский престол.
— Вы так в этом уверены?
— Ни минуты не сомневаюсь. Казнь этого прощелыги Вилима Монса тому порукой.
— Вы ещё недавно очень благосклонно о нём отзывались, герцог.
— Я не знал его истинного лица, тем более его сомнительных похождений. Но как бы там ни было, эта ситуация открывает перед вами, как старшей дочерью царя, новые возможности, и их не следует упускать.
— Всё находится в воле государя.
— Неправда, принцесса! Все знают, как его величество считается с вашим мнением, как вас ценит, и вообще ходят разговоры...
— Мне не хотелось бы повторять, герцог, что я не люблю разговоров. Если у моего родителя появится необходимость что-то мне сообщить, он сделает это сам.
— Вы готовы покорно ждать этой минуты, при том, что она может оказаться для вас совершенно неблагоприятной.
— Я всего лишь дочь, уважающая своего отца.
— Я иногда думаю, принцесса, сколько в вас действительной кротости и сколько нежелания делиться своими знаниями. Между тем эти знания могли бы оказаться чрезвычайно полезными нам обоим.
— Нам, принц? Но ведь обручение ещё не состоялось.
— Между тем принцесса Елизавета куда щедрее делится своими новостями и не придаёт им особого значения. Она никогда не бывает так закована в броню неприступности, как вы.
— Что делать, герцог, у каждого свой характер.
— И ваш не из лёгких! Так вот, чтобы разбить эту броню, я всё же скажу о слухах. Его величество предполагает внести условием в брачный контракт отказ ваш за вас самих и за ваших будущих потомков от притязаний на российский престол. Вы считаете это справедливым?
— Но на предварительных переговорах вы приняли это условие?
— Это было до казни Монса.
— Но вы не договариваете, герцог.
— Не договариваю? Что именно вы имеете в виду, принцесса?
— Секретный параграф. Государь знакомил вас с ним, как, впрочем, и меня. Параграф о сукцессии.
— Ну, да. Но это всё так неопределённо.
— Согласна. И тем не менее. Государь оставляет за собой право призвать на российский престол одного из наших детей.
— Но эти дети ещё должны родиться, а вы знаете, сколько в вашей семье умирает детей ещё в младенческом возрасте. Мне сказали, что у вашей родительницы их было двенадцать, но пользуетесь добрым здравием — и надеюсь, будете пользоваться многие счастливые лета — только вы и принцесса Елизавета.
— Принц, я поворачиваю лошадь. Метель становится невыносимой, а наш разговор, право же, не имеет никакого смысла.
— Повернуть к дворцу мы, конечно, можем. Но умоляю вас, принцесса, постарайтесь поговорить с вашим родителем. У вас все права, да и кого его царское величество может ещё выбрать в качестве наследника?
— Вы говорите так, как будто век государя определён.
— Этого никто не может знать. И теперь, подумайте сами, государя не станет — на всё воля Божья! — до рождения нашего сына или до назначения его наследником короны. Тогда что?
— Тогда мне, если я стану вашей супругой, придётся остаться герцогиней Голштейн-Готторпской до конца моих дней.
— Но я считаю безумием при всех обстоятельствах уезжать из Петербурга в Голштинию. Настоящим безумием!
— Но почему же? Это ваши владения, и только на них вы вправе действительно рассчитывать.
— Голштиния и Петербург! Сразу видно, вы не выезжали из России. Повторяю, надо бороться за то, чтобы оставаться поблизости трона. На всякий случай.
— Вы даже предвидите такой случай, герцог?
— Да, неужели вы думаете, что светлейший князь Меншиков добровольно согласится со своей отставкой, отстранением от власти и источников доходов? Казнь Монса, при том, что он был его протектором, это казнь Меншикова.
— Какое соотношение между властью государя и хотя бы даже Меншикова? Как вы можете их сравнивать!
— Это не сравнение, принцесса, а просто предположение в отношении возможного и, скажем так, неблагоприятного развития событий. Вам не удастся меня переубедить: мы должны быть в Петербурге, а вам необходимо переубедить вашего родителя. Необходимо! Пока не поздно.
* * *
Цесаревны Анна Петровна и Елизавета Петровна,
Маврушка, герцог Голштинский
Вот и всё. Нет больше красавца Вилима Монса[17]. С детства слышала о казни стрельцов. Сотен. И о том, что сам батюшка государь не брезговал топор в руки брать, а уж о Александре Даниловиче и говорить нечего: изо всех сил трудился. Так забрызганные кровью во дворец вместе возвращались. За стол садились. Во Всешутейшем соборе участие принимали.
Но это было так давно. Ещё до её рождения. А теперь. Ей восемь лет исполнилось, когда Видим всем хозяйством государыниным заправлять начал. Орлом смотрелся. Ни перед кем главы не наклонял. Из государевых адъютантов отличия такого удостоился. И под Полтавой воевал. И в Прутском походе отличился.
Только ли поэтому государь его к себе приблизил? Спросила Петра Андреевича — глаза отвёл. Мол, у монархов свои соображения бывают. Нам, грешным, не всегда и понять можно.
Анне Ивановне выйти замуж разрешил и братца её к себе взял. Как на память. Похожи были. Смолоду так очень.
Как в чёртовом колесе всё завертелось. Празднества по случаю матушкиной коронации. В Москве. В Успенском соборе. Матушка не хотела, смущалась. Государь настоял. Да что там настоял — приказал. Досадливо так. В совокупном манифесте Сената и Синода велел написать, что удостоена Екатерина Алексеевна коронации и миропомазания за её к Российскому государству мужественные труды.
Седьмое мая. День светлый. Радостный. На Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Солнце. Небо лёгкое. Синее-синее. Благовест во всех церквях. Вечер фейерверки, будто вся Москва светом взорвалась.
Сейчас вдруг вспомнилось: и тогда Вилим при всех обок государыни держался. Чуть что руку предлагал. Всех кавалеров оттеснял. И матушка будто помолодела, что твоя девица-красавица. От волнения русский забывать стала. С немецкими словами путалась. Прощения у всех просила.
Седьмое мая, а 16 ноября нет больше Вилима. На государыню страшно посмотреть. Лицом почернела. Ссутулилась. Государь приказал, чтоб впереди всех на казнь смотрела. Глаза чуть прикрыла, прикрикнул. Ни на кого не посмотрел. Мол, глядите, глядите, ваше величество, императрица всероссийская, как вора да мошенника, ваше же имущество покравшего, на тот свет отправляют!
И тут же день обручения с герцогом Голштинским назначил: 21-го, на Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Сказал, в тот день сам на клиросе петь станет: «Архангели, Ангели, Начала, Престоли, Господьствия и Серафими шестикрилатии, и многоочитии Херувими божественнии, мудрости органи: Силы, и Власти божественнейшиии, Христу молитеся, даровати душам нашим мир и велию милость». Слышишь, цесаревна, каковую молитву творити нам надобно?
— Ой, Аньхен, только что от Маврушки узнала. Неужто и впрямь через пять дней обручение твоё? Что за спех такой после всех страстей? Да не о том я, не о том. Не знаю, как сказать. Пусть лучше Маврушка. Она у нас бесстрашная.
— Неужто новая беда?
— Да как сказать, государыня цесаревна? Сама не знаю. Только с Вилимом Ивановичем...
— Что ещё с ним?
— Голову-то ему отрубили.
— Знаю. Хватит об этом, Маврушка, хватит!
— Да вот не хватило, государыня цесаревна. Головушку-то его победную в банку со спиритусом поместили.
— Неужто и впрямь? И в Кунсткамеру отдали? Или лекарям для науки?
— Ничего толком не знаю, цесаревна. Истопники толковали, а правда, нет ли, кто их знает.
— Что истопники?
— Банку-то эту треклятую государь велел в спальню государыни поставить. Обок постели. Их, мужиков нетёсаных, и то оторопь взяла.
— Нешто может такое быть, Аньхен? Ни за что больше мимо матушкиной опочивальни и проходить не стану, с нами сила крестная!
— Не знаю. Ничего не знаю, Лизанька. Мимо опочивальни можешь не ходить, только государю и вида не подавай, что такой разговор до нас дошёл. Молчание всегда золотом было, а уж тут...
— Ваше высочество! Я никого не нашёл в вашей антикаморе и потому взял на себя смелость пройти дальше. О, я, кажется, помешал.
— Нисколько, герцог. Мы с Маврушкой и так собрались уходить. Вы можете спокойно и без помех толковать с вашей невестой.
— Благодарю вас, принцесса Элизабет. Вы всегда так снисходительны, что я просто не нахожу слов признательности.
— Да что уж, свои люди. Без пяти минут родственники. Пошли мы, сестрица.
— Ваше высочество, после всех разыгравшихся ужасов мне показалось несколько неуместным такое поспешение с нашим обручением. Хотя, с другой стороны, я счастлив, что этот миг наконец-то наступит. Ожидание слишком затянулось.
— Я не очень понимаю, о каких ужасах вы говорите, герцог. Вершить правосудие — одна из обязанностей монарха, и он осуществляет её, когда находит нужным. Это не может касаться обстоятельств царственной семьи.
— Но я намеревался задать вам совсем иной вопрос, ваше высочество. Изменившиеся обстоятельства, по всей вероятности, не могут не сказаться на последней воле вашего родителя.
— Но мой родитель и государь жив, и говорить о его последней воле неуместно.
— Напротив, для монарха это всегда уместно. Тем более что содержание завещания наверняка изменится.
— Я не знаю содержания уже существующего.
— Разве оно не предполагало передачу престола императрице Екатерине?
— Не знаю.
— Но чему же тогда могла служить её коронация?
— Мне не кажется разумным высказывать вслух свои догадки или какие бы то ни было соображения. Они наверняка окажутся далеки от истины.
— Но разве вы не можете прямо задать вопрос вашему родителю?
— Я не стану этого делать. Достаточно того, что государь обладает полной свободой решения.
— Вы имеете в виду «Правду воли монаршьей», подписанную в 1722 году. Но ведь для её осуществления не было необходимости короновать императрицу. Государь явно имел в виду что-то иное, каких-то иных наследников.
— Я понимаю вашу любознательность в этом вопросе, герцог, но, к сожалению, не сумею её удовлетворить.
— В момент подписания указа у его императорского величества было не так много кандидатур.
— Но почему же? Это и его внук — царевич Пётр Алексеевич. Ему тогда исполнилось семь лет. Был жив его собственный сын, Пётр Петрович младший — царевича не стало в октябре следующего года. Наконец, это мы с цесаревной Елизаветой, наша младшая сестра Наталья Петровна и внучка императора — царевна Наталья Алексеевна, уже вышедшая из младенческого возраста — ей исполнилось восемь лет.
— Боже, какая бесконечная литания женских имён! Ваше высочество, нам необходимо, совершенно необходимо узнать мысли императора. И по возможности — до обручения.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, Маврушка
— Государыня цесаревна! О, Господи, страх какой! Анна Петровна!
— Чего расшумелась, Маврушка? И потом, перестань меня называть цесаревной. Сама знаешь, как матушка стала гневаться за этот титул. Мол, не мой он, так нечего и людей с толку сбивать. Герцогиня, и весь разговор.
— Да Бог с ней, с герцогиней! Цесаревной ты на веки вечные останешься. Российской — не то что Голштинской.
— Маврушка! Рассердить меня хочешь?
— Ну, не буду, не буду, коль такой твой приказ. Ты лучше, цесаревна, послушай, о чём во дворце-то толкуют.
— Опять!
— Да нет здесь никого. Одни мы, одни! Иначе нетто с новостью такой к тебе бы побежала.
— С какой?
— Уж не знаю, с какого конца начинать. Помнишь ли, Анна Петровна, как скончалась принцесса Шарлотта-София?
— Что тут помнить! Родила великого князя Петра Алексеевича — родильной горячкой и сгорела.
— Дней-то после родов сколько прошло?
— Недели полторы, помнится.
— То-то и оно — полторы! А какого дохтура ни спроси, каждый скажет: родильной горячке срок всего несколько дней.
— Откуда мне знать. Да и ты вроде у нас ещё не рожала, а уж от докторов сведений понабралась.
— Да не я, не я, государыня цесаревна. Слухом земля полнится. От мамок всяких и доведалась: больно долго принцесса в горячке горела. Антонов огонь[18] — он ведь спуску не даёт. Едва успел прикинуться, уже нет человека. А тут промедление такое...
— И что же?
— Да уж ты не погневайся, разреши мне тебе ещё один вопрос задать: ты-то сама была ли в те дни у принцессы?
— Окстись, Маврушка! Каким же манером мне тогда у принцессы быть было мочно, когда лет-то мне едва семь набежало.
— Верно, верно, царевна. Значит, сама ты не бывала. Покойница государыня царевна Наталья Алексеевна тебя к ней не водила.
— Никогда лишнего разу на половину принцессы государыня тётушка не захаживала, а тут ещё болезнь такая, кто знает, может, и прилипчивая.
— Прилипчивая там, не прилипчивая, а только свидетелей нам с тобой днём с огнём, выходит, не сыскать.
— А если и так, на что они нам?
— Погоди, погоди, царевна, каждому овощу своё время. На похоронах ты была ли?
— Нет, только сейчас подумала, не была. Не упомню, кто запрет такой наложил. Не государь ли батюшка?
— Да и то сказать, царевна, какие там похороны. Принцесса люторкой оставалась, правда?
— Веры не меняла, знаю. Так и в брачном договоре, государь батюшка рассказывал, указано было.
— А коли отпевали её по люторскому обряду, так в церкви открытый гроб с покойницей не выставляли и прощаться с ней не прощались.
— Господи, Маврушка, к чему ты клонишь?
— Мне бы тебя не напугать, государыня цесаревна.
— Что полагают — отравили принцессу-то? Потому и не показали?
— Про отраву никто никогда не толковал.
— Тогда что? Что ты мне, Маврушка, с утра пораньше загадки загадывать принялась. День сегодня какой шутейный у тебя выдался?
— Как хошь, государыня цесаревна, назови, а что необычный — тут и спору нет. Я вот всё умом раскидываю: глупость мне сказали али нет. Одно знаю, нет дыму без огня.
— Ладно, что сидела скучала, а то бы бесперечь на тебя осердилась.
— Может, и сейчас рассердишься, почему мне знать. Ещё тебя, государыня цесаревна, вопросом донять хочу: почему бы твой покойный государь батюшка, как наследник овдовел, не стал ему другую супругу искать.
— Может быть, и стал бы, да вскоре в западные страны поехал.
— Вот-вот, матушка моя, поехал! Замуж Катерину Иоанновну выдавать, со всеми королями да герцогами встречаться, договариваться. Тут бы самое время и сынку жёнушку присмотреть. Союзы-то со всякими государствами ему, ой, как нужны были.
— Твоя правда. Может, рукой на покойного наследника махнул, раз у братца уже сынок народился.
— Народился! Мало ли деток твоя родительница за свой век рожала, а ни один сынок жить не остался. Кабы хоть маленько подрос великий князь, в какой-никакой возраст вошёл, а тут младенец в колыбели. На таком расчёт плохой. Твой-то братец в те же дни народился. Уж, кажется, какие пылинки с него ни сдували, как за ним ни следили, а не жилец оказался.
— И впрямь, государь батюшка сам мне говорил, что с царевичем Алексеем Петровичем одна надежда у него на супругу была. У принцессы характер мягкий, деликатный оказался. Где ей было Алексея Петровича к рукам прибрать.
— Нужна была супруга наследнику, тут и толковать нечего. А если так рассудить, что нельзя ему было жениться?
— Это ещё почему нельзя? Вдовцу-то?
— Вдовцу! А если не вдовцу?
— Как это? Похоронивши супругу-то? Совсем ты мне голову закружила.
— Похоронивши! Все знали, что в спальне наследник Алексей Петрович ни разу не побывал. На отпевание в церковь и то идти не пожелал. Государь Пётр Алексеевич какую ему выволочку, Господи прости, устроил. Да сих пор денщики вспоминают, как палкой сыночка охаживал, а тот упёрся и ни в какую. Стыдоба одна! И то сказать, по люторскому обычаю у гроба закрытого на стуле полчаса посидеть — невеликое дело. Так больно покойницы не жаловал. Да и сынку не обрадовался.
— Государь батюшка вспоминал, как родители принцессины убивалися. Приехать не могли, а всё просили, чтобы дочь им в Бланкенбург отослали — в семейном склепе похоронить.
— А чего ж не отдал государь Пётр Алексеевич?
— Да ты что, Маврушка! Может, её деткам ещё на престоле российском быть придётся, а праха матери здесь не будет. Не с руки получится.
— Вот теперь, государыня цесаревна, новость-то свою и могу рассказать. Один из голштинцев проговорился, из придворных твоих. Весточку какую получил. Будто принцесса наша София-Шарлотта вовсе и не помирала!
— Полно тебе, Маврушка! Сказки это одни!
— Наверно, сказки. А только по всем странам европейским будто бы слух прошёл, что принцесса после родов из Петербурга нашего сбежала. Помогли ей!
— Господи!
— Вот-вот, только и остаётся крестным знамением себя осенять. И сбежать ей будто бы сам государь помог.
— Быть того не может!
— Почему же это? Не нужна ведь она уже стала, разве не так? У государя на руках сынок оказался собственный, вымоленный да вымечтанный. Вот он и прикрыл глаза на бегство-то это. Ты с меня, государыня цесаревна, строго не спрашивай: за что купила, за то продаю.
— Ну, а дальше, дальше-то что?
— А то, что встретила наша принцесса какого-то офицера из-за океана, туда и переправилась. Графиней стала называться и живёт себе с мужем-французом припеваючи. Да уж какой бы муж ей ни достался, после нашего царевича любой сокровищем покажется. Вот какие слухи, государыня цесаревна.
* * *
Пётр I, Макаров А. В.
— Вот теперь, кажется, с внутренними изменниками разобрались. Надобно народу обо всём объявить.
— Вы о чём, ваше императорское величество? О чём объявить?
— Думаешь, Макаров, до людей ничто не доходит,— никакие слухи и пересуды? Так вот, пустой болтовне надо противопоставить правду. Я имею в виду НАШУ ПРАВДУ. Это тебе понятно?
— Приказывайте, ваше величество.
— Прежде всего в календарь следующего, 1725 года внести имена цесаревен Анны Петровны и Елизаветы Петровны.
— Это впервые, ваше величество.
— Да, впервые, но так теперь будет всегда. Только именовать обеих моих дочерей следует не цесаревнами, а отныне только великими княжнами. И без указания права первенства.
— Но, ваше величество, великая княжна Анна Петровна уже обручена с Голштинским герцогом, и после её свадьбы её имя не сможет оставаться в числе лиц императорской фамилии.
— Ты сам ответил на собственный вопрос: после свадьбы. А когда состоится свадьба, мы ещё увидим. Теперь следующее. Из календаря изъять имена детей покойного царевича Алексея Петровича.
— Обоих? И Петра Алексеевича тоже?
— Тем более его. Они более не потребуются, раз их отец отрёкся от престола, некогда ему предназначавшегося. Поэтому и трактовать их следует как лиц партикулярных, без упоминания в календаре.
— Ваше величество, я сознаю, что мои настойчивые расспросы могут вызывать ваше неудовольствие, но...
— Что ещё?
— Ваша третья дочь — царевна Наталья Петровна. Как вы распорядитесь в отношении неё? Царевне уже семь лет.
— И за её права тут же примется хлопотать наша Анна Петровна.
— На правах крёстной матери царевны, ваше величество.
— Помню, помню. У нашей царевны к тому же такой воинственный крёстный отец — генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин. Правда, я остановил свой выбор на Фёдоре Матвеевиче из-за его родства с нашей царствующей фамилией.
— Родной брат покойной государыни царицы Марфы Матвеевны[19]! Вы сочли нужным, ваше величество, оказать и самой царице высокие почести, похоронив её в Петропавловском соборе.
— Да, это было перед самым нашим отъездом в заграничную поездку. Очень некстати, но смерти никто ещё и никогда не отдавал приказаний. Если бы не её болезнь, царица Марфа могла стать украшением нашего двора с её красотой, повадкой, характером.
— Помнится, царевны Иоанновны очень досадовали, что их родительнице царице Прасковье Фёдоровне не было оказано такой чести.
— Их досада мне безразлична, но тебе могу сказать причину: у царицы Марфы Матвеевны не было никаких связей с иностранными правящими семьями. И никаких потомков. В том числе мужского пола.
— Так всё-таки, государь, как прикажете поступить с именем царевны Натальи Петровны?
— Пожалуй... Пожалуй, мы пока обойдёмся без неё. До сих пор не могу отделаться от чувства, что мы слишком поспешили с Шишечкой. Слишком поспешили.
— Но в чём же, государь? Вы объявили его наследником. Соответственно с 1718 года внесли в календари дни рождения и Ангела, а такие дни в отношении особ царствующих фамилий всегда отмечаются торжественными обедами и фейерверками.
— Я становлюсь суеверным, Макаров.
— Ваше величество, это всего лишь минутная слабость, никак вам не присущая. А тогда кто же сомневался в необходимости ставить в заголовках всех напечатанных книг: «Напечатано при наследственном благороднейшем государе-царевиче Петре Петровиче»? И Феофан Прокопович был прав, сочиняя царевичу превосходные похвальные слова.
— Когда мы все видели, что на четвёртом году он ещё не может ходить и говорить.
— Но доктора вселяли надежду...
— Доктора! Если бы ты знал, как нелегко мне было принять решение похоронить Шишечку в Александро-Невской лавре. Как трудно...
* * *
Цесаревна Анна Петровна, герцог Голштинский
— Принцесса, надеюсь, вам что-то удалось выяснить у вашего родителя? У нас совсем не остаётся времени. Счёт идёт не на недели — на дни, а может быть, и часы. Вы так невозмутимы, что остаётся только удивляться.
— У меня не было возможности объясниться с государем. Его величество так занят последние дни.
— Ещё бы, дело о воровстве Меншикова куда важнее судьбы старшей дочери!
— Может быть, и так.
— Но добивайтесь же, принцесса, настаивайте. В конце концов, это ваши законные права по рождению. Почему вы должны начинать свою замужнюю жизнь с их ограничения, почему?
— Герцог, мне неприятна ваша ажитация. И в нынешних условиях она кажется неуместной.
— Неужели, принцесса? Все эти местные обстоятельства вас просто не должны касаться. Какое дело герцогине Голштинской до перипетий в коридорах петербургского двора! Это здешнее, вполне домашнее дело.
— Это всё ещё мой дом, герцог.
— И вы явно страшитесь с ним расстаться. Или просто не хотите намеченного брачного союза. Не знаю, что лучше. Почему вы не хотите довериться мне. Так или иначе, я на целых восемь лет старше вас. Двадцать четыре года и шестнадцать — немалая разница.
— Я не хочу вас обижать, герцог, но из этих лет вы почти четыре провели в России и могли успеть почувствовать себя частью царского дома.
— Мог бы, но его величество ни в коей мере этому не способствовал. Моё положение до последних дней оставалось совершенно неопределённым.
— Вы несправедливы, герцог. Разве вы не получили два года назад чина капитана лейб-гвардии Преображенского полка? Со всеми преимуществами этого звания.
— Племянник великого короля Карла XII на русской службе! И это вы считаете достойным меня?
— Государь говорил, что это временный статус.
— Надеюсь! Но этот статус слишком затянулся. А теперь, перед самым его окончанием, я лишаюсь всего того, на что мог рассчитывать. Я жду от вас решительных действий, принцесса. Решительных!
— Я ничего не могу обещать вам, герцог.
— Опять старая песня! Но я пришёл за вами, чтобы проводить вас на куртаг, где я сам найду способ свести вас с его императорским величеством, раз у вас самой не хватает решимости.
— Я вынуждена ответить вам отказом, герцог.
— Это ещё почему?
— Есть некоторые обстоятельства, которые мне хотелось бы проверить по старым законодательным распоряжениям.
— О, вы настоящий государственный сановник.
— Что вы, это простая попытка, которая может пригодиться и моему родителю.
— Она касается вопроса о престолонаследии? Неужели?
— Да, принц. Этих сведений я ни у кого не смогу получить.
— А если и получите, то у вас нет оснований им верить, не правда ли, принцесса? О, я беру свои слова обратно. Как я был неправ перед вами. И всё по причине, чтобы видеть вас и наших будущих детей счастливыми и обеспеченными. Если бы вы знали, как часто я о них думаю.
— Вы растрогали меня, принц.
— Вы говорите это серьёзно?
— Вполне.
— О, тогда тем более не буду отнимать у вас золотого времени. Если хотите, я объясню ваше отсутствие головной болью или лёгким недомоганием, чтобы на него никто не обратил внимания.
— Думаю, будет ещё лучше, если вы просто Станете всё время танцевать. И не с одной Елизаветой.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, П. А. Толстой
Ушёл. Своему счастью не поверишь. Всего хотеть и ничего для этого не делать. Гаврила Иванович — сама слышала — говорил государю. Государь только отмахнулся.
Не хочу с ним быть. Если бы батюшка передумал. Пусть бы уж Лизанька. И нравятся они друг другу — только и делают, что смеются. Деньги герцогу нужны. Права.
Если бы с Монсом ничего не случилось, может, и передумал бы государь. А почему теперь торопится. Почему? Милославских опасается, а им же дорогу и открывает.
Спросила между делом у Бориса Петровича, как оно допреж сего с наследниками бывало. По завещанию, по договору или как? Шереметев удивился: по какому завещанию, цесаревна? Наследника каждый государь при жизни объявлял. Обряд был такой. В Успенском соборе. Волю людишки станут исполнять, пока завещатель жив, а коли преставится, волей его каждый по своему разумению пренебрежёт. Не грех ли? Рассмеялся: власть она всегда с грехом в паре ходит. Со смертным грехом. Так уж испокон веку положено.
Борис Петрович посоветовал с Петром Андреевичем потолковать. Толстой просто объяснил. Скажем, государь Михаил Фёдорович тридцать два года на престоле пробыл, сына единственного — государя, будущего Алексея Михайловича имел, а всё равно провозглашение нового царя проволочки не терпело. Хоть и многие за Романовых стояли, а другие? В 1613 году побороть их удалось. Так побороть — не уничтожить. Такие всегда головы поднять могут. Разве мало от таких бунтовщиков государю Петру Алексеевичу претерпеть довелось?
Удивилась: разве не все за Романовых тогда были? Пётр Андреевич усмехнулся: где там все? Ты у нас, цесаревна, многое в науках исторических достигла. Уж тем более московские обстоятельства знать должна.
На престол-то кто только тогда ни зарился — всех не сочтёшь. Выборщикам нелегко пришлось. Поначалу ото всяких иноземных правителей да королей отказались. Потом и от крещёных казанских царевичей — многим они лучше других казались. А у тех, кто за Романовых стоял, трудность какая была: Фёдор Никитич Романов, иначе — патриарх Филарет, в польском плену который год находился.
Без главного да опытного много в таких делах не навоюешь.
Почему в польском плену, цесаревна? Так это с Бориса Годунова начинать надобно. Помер Фёдор Иоаннович — выбирать государя в первый раз пришлось. Прямых наследников нет. Рюриковичей кругом хоть отбавляй. Удельных князей тем паче. Тут тебе и Трубецкие, тут тебе и Мстиславские, тут тебе и Одоевские — всех не перечтёшь. И права на престол у каждого.
У Романовых дело хуже обстояло — не Рюриковичи, не удельные. Предок ваш Гланда-Камбила Дивонович из Литвы в последней четверти XIII столетия в Московию выехал, тогда же и крестился Иваном. Сын у Ивана — Андрей прозвище носил Кобыла и сыновей имел пятерых, каждого со своим прозвищем — обычай такой держался.
Твой-то прадед, Анна Петровна, — Фёдор Кошка сыну своему Ивану уже фамилию Кошкиных передал. А внук Фёдора Кошки — Захарий Иванович стал именоваться Кошкиным-Захарьиным, правнук — Юрием Захарьевичем Захарьиным-Юрьевым.
Много их, родственников-то было. И держались друг за друга крепко. В случае чего друг друга нипочём не оставляли. Силой при царском дворе стали. Постоять за себя перед любыми Рюриковичами могли.
Не по рождению, значит? Пётр Андреевич усмехнулся: рождение, цесаревна, хорошо, а за себя постоять тоже неплохо. Ты дальше послушай, коли интерес есть. Есть, ещё какой есть! Государь никогда об этом не говорил.
Так вот, у Юрия Захарьевича сын был Роман Юрьевич. А у Романа Юрьевича детки: сынок Никита Романович и дочка Анастасия Романовна. Захарьины-Юрьевы. Дочка-то и стала первой любимейшей супругой государя Ивана Васильевича Грозного.
При ней государь и Грозным ещё не прозывался. Унять его царица умела. За каждого от гнева царского упросить. Души в ней не чаял. Как на образ святой смотрел. И то сказать, государю семнадцать лет едва исполнилось, как поженили их. Рано он осиротел-то, Грозный государь. А тут жена красавица, умница, всё поймёт, во всём поможет. Где приголубит, где похвалит. Сыновей ему родила троих. Только что первенец несчастным случаем в реке Шексне утонул — нянька будто на руках не удержала. А может, и другое что.
Бог с ними, с детьми, Пётр Андреевич. С властью-то как же было? Опять усмехнулся: тут узелок и завязался. Фёдора Иоанновича не стало, а родственников его по матери полно — Захарьиных-Юрьевых. Им бы самое время престол занять. Ан не сообразили — Годунов ловчее оказался. На престол вступил, хоть Боярская дума его не избрала. Он перед Захарьиными извиняться стал волей народа. Будто народ его на улицах выкликнул.
Ещё важнее — патриарх Иов его поддержал. Друг его ближайший. Годунов затем и патриаршество установил, чтобы на Иова опереться.
Не просчитался. Сумел и подписей Романовых под избирательной грамотой добиться. Как это, спрашиваешь? Как — обещал Фёдору Никитичу место первого советника в государстве. И прадед поверил? Выходит, поверил. А может, план какой задумал, только ничего у Фёдора Никитича не получилось.
Главное для царя Бориса стало — Романовых на корню всех как есть изничтожить. Лихо за дело взялся, ничего не скажешь. Каждому из братьев досталось, дальше некуда.
Александр Никитич, наместник Каширский, в походе против хана Казы-Гирея прославился ещё при Фёдоре Иоанновиче. Сан боярина получил. В одночасье и сана лишился, и должности. В ссылку, кажись в Усолье-Луду, отправлен был. Там и порешили боярина.
Михайле Никитичу поначалу чин окольничего достался, а через три года и его ссылка ждала — в Ныроб. Голодом его там уморили.
Василия Никитича тоже стольником наградили. И через три года сослали в Яренск, а оттуда в Пелым — страшнее некуда. Годунову и того мало показалося. Приковали Василия Никитича к стене, так на цепях и дух испустил.
Ивану Никитичу, по прозвищу Каша, больше повезло. В Пелыме оказался, да не с такими суровостями. Выжил.
Порушить Годунов романовское гнездо порушил. Да только главным врагом для него Фёдор Никитич оставался. Крутой нравом. Лихой. Смелый — каких поискать. С таким и в самой жестокой ссылке не сладишь. Додумался злодей, детоубийца — постричь твоего прадеда, цесаревна. Чтобы не было больше Фёдору Никитичу дороги к престолу — ни во веки веков.
Так и оказался Фёдор Никитич на озере Святом в Холмогорском уезде и Антониевом Сийском монастыре. Молодой тогда ещё этот монастырь был — при государе Иване Грозном заложен. Не монахи кругом — лихие тюремщики.
Только и пострига разбойнику мало показалося. Весь род решил повывести. Супругу Фёдора Никитича, Ксению Ивановну, тоже под клобук подвёл. Место для неё ещё глуше придумал. В Заонежье есть волость Толвуйская, а там уж и вовсе глухой Егорьевский погост. Туда и свезли боярыню.
С детьми? Какими детьми! Одну-одинёшеньку. Нрав Ксении Ивановны Годунов знал. От сестрицы своей, царицы Ирины Фёдоровны. В теремах что ни день встречались.
Дивилась тогда Москва, как это Фёдор Никитич, щёголь на столице первый, красавец, молодец, первый жених, а такую невесту себе выискал. Приданого никакого. Ну, тут Романовы и так богаты были. А вот что виду никакого, все руками разводили. Хороша собой никому не казалась. Зато нравом супругу под стать. Крутая. Ума не занимать. Развлечений не любила. Не то что домоседка — гостей с превеликой охотой принимала. Обхождение, ничего не скажешь, знала. А ведь всего-то навсего, прости, цесаревна, дворяночка костромская, из самых захудалых. Такой Фёдор Никитич и во сне присниться не мог, а на-поди.
Кто сосватал Ксению Ивановну? Того не скажу, цесаревна. И разговоров таких слышать не приходилось. Может, и сам жених сыскал — и такое во все времена случалось. А уж коли сам выбрал — никто Фёдору Никитичу по пути бы не стал. С любым бы справился.
Недолго пожили. Совсем недолго. Сына и дочь родили — и постриг. Ксению Ивановну сестрой Марфой в обители поселили.
Ах, ты о детях, цесаревна. Детей с сестрой Фёдора Никитича, княгиней Марфой Никитичной Черкасской, на Белоозеро отпустили.
Два года маялись, покуда разрешение пришло и тётку с племянниками, и Великую старицу в родовое имение Романовых под Клином перевести. А встречи с Фёдором Никитичем — монахом Филаретом ещё сколько лет ждать пришлось!
Не тому дивись, цесаревна, сколько людям вынести пришлось — на русской земле испытаний всем хватает. Тому дивись, что не смирились супруги. Лжедмитрий разрешил им вместе жить, детей растить. А толку-то — монашеский обет силком ли, доброй ли волей даденный, всё едино обетом остаётся. Кто бы нарушить его посмел. Может, им ещё горше рядом-то было оказаться.
Слыхал, Великая старица всё о былом супруге пеклась. И о постели его, и о рухляди всякой, что надеть, что есть. А Филарет как окаменел — ни на какую заботу не откликался.
Лжедмитрий его по вымышленному родству в сан митрополита Ростовского возвёл. Тревожить не тревожил. Уважение всяческое оказывал.
Другое дело — Лжедмитрия порешили, на престол выбранный царь Василий Шуйский вступил. Выбирали ли его, спрашиваешь, цесаревна? Выбирали, а как же! По всем правилам. С Боярской думой.
Василий Шуйский твоего прадеда, по первому сану Ростовского митрополита, отправил в Углич — мощи царевича Дмитрия открывать. Почему, говоришь, новому царю подчинился твой предок? А как же иначе? Власть царская она всегда власть. Ей подчиняться следует, иначе держава в прах рассыпется.
Помню, помню, цесаревна, что ты про плен польский знать хотела. Так к нему иначе не подойдёшь. Фёдора-Филарета в Ростове Великом Тушинский вор захватил. Вернее сказать, войска его. И доставили Ростовского митрополита в Тушино.
Нет, никаким мукам не предавали. Зачем бы? Тушинский вор рад-радёхонек был тоже родство своё придуманное с митрополитом подтвердить — рукоположить его в сан патриарха Всея Руси. Не знаю, как бы тебе, цесаревна, об этом рассказать, но прадед твой верно служить тушинскому вору стал. За своей подписью стал по всему Московскому государству рассылать грамоты, чтобы признать вора за истинного царя.
Поверить не можешь? Почему же, цесаревна? От Тушинского вора и следа нет, а сан при твоём прадеде так до конца и остался.
Чем же плохо? Когда Тушинский вор с Маринкой-ворихой в Калугу бежал, патриарх Филарет одним из первых переговоры начал с польским королём, чтобы самому ли королю, сыну ли его на престол русский вступить.
А с пленом вот как вышло. Как только боярского царя Василия Шуйского свергли, гетман Жолкевский — в Москве он тогда с войском стоял — захотел из первопрестольной всех видных людей выслать. Понятно, боялся, что они москвичей против него бунтовать начнут. Тут прадед твой первым и оказался да ещё с патриаршьим саном.
Посольство тогда придумали послать к польскому королю Сигизмунду, чтобы согласие дал королевича Владислава на московский престол посадить. Ехать пришлось патриарху Филарету вместе с князем Голицыным.
До Варшавы они не доехали. Под Смоленском с переговорщиками встретились в октябре 1610 года. До апреля столковаться ни на чём не могли. А к тому времени к Москве подошли отряды первого ополчения, которым Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий командовали. Вот тогда-то у поляков причина появилась русских послов, арестовавши, в Польшу отвезти. Одно верно, с полным почётом. Патриарху Филарету целый дворец Сапеги в Варшаве отвели. Там он восемь лет и прожил.
Без него, значит, сына на престол избрали, говоришь? Конечно, без него. Всему головой Великая старица стала. Она одна и Романовых снова собрала, даром что под монашеским одеянием. Разве без своих людей дела такие делаются? Сторонники нужны, цесаревна, сторонники! Людей к себе приманить — кого посулами, кого родством, кого и просто деньгами. Большая тут ловкость нужна.
Какие сторонники? Да Господь с тобой, Анна Петровна, на что тебе, да ещё в твои-то годы в круговерти дворцовой разбираться? Неужто и впрямь любопытствуешь? Я-то готов со всяческим моим желанием, тебя бы не утомить.
Лизанька, как вихрь, ворвалась. Ой, Аннушка, да ты и не убрана к куртагу-то! Неужто впрямь не пойдёшь? Как бы разговоров лишних не пошло. Да и кавалер у тебя здесь, хоть и видный, да староват, больно староват. Соскучишься, сестрица! Ты уж не обижайся на меня, Пётр Андреевич! С чего бы удовольствие-то себе портить.
Еле отправила сестрицу. На отходном шепнула, чтобы никому не говорила о Петре Андреевиче. Она, сколько бы ни щебетала, молчать умеет. Лишнего слова нипочём не скажет.
Вернулась к Толстому: так что же за партия тогда романовская устроилась. Смеётся, а отвечает. Мол, всё вокруг Марфы Никитичны Черкасской завертелось. Морозовы — свойственниками ей приходились, Фёдор Иванович Шереметев зятем — на дочери Ирине женился.
Годуновская расправа и Фёдора Ивановича коснулась. Он и части поместий своих лишился, и из Москвы в Тобольск, хоть и главным воеводой, отправлен был. Вместе они с Фёдором Никитичем сторону Лжедмитрия приняли — тот Шереметеву сан боярина дал.
Одна тут загвоздка вышла — по сей день никто не разгадал. Ввёл Шереметев в Москву войска, которые то ли приняли участие в убийстве Лжедмитрия, то ли поспособствовали в том другим.
Фёдор Иванович и боярскому царю Василию Шуйскому верно служил — вошёл в состав Семибоярщины. А вот дальше, как и патриарх Филарет, на сторону поляков склонился.
Как так можно, говоришь, цесаревна? Учитель я плохой, государыня моя. Рассказываю, о чём слышал, а уж судить — сама суди. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ошибается, частенько ошибается. Тут дело государя всё наперёд рассчитать да угадать, чтобы собственную пользу соблюсти и державе помочь.
Вот и у Фёдора Шереметева получилось: сначала на стороне патриарха Гермогена был, который только русского царя на московском престоле видеть хотел — за то мученически и погиб, царствие ему небесное. А там стал интерес королевича Владислава отстаивать. Оборону Москвы вместе с поляками против нашего ополчения держал. Из первопрестольной вышел только, когда освободил её князь Пожарский со своим войском.
Говоришь, цесаревна, про измену? Это как судить. Ведь всё время Фёдор Иванович с патриархом Филаретом, что в Варшаве находился, переписывался. Новости все узнику сообщал. Первым за избрание Михаила Фёдоровича выступил — всё они с патриархом Филаретом оговорили, во всём к согласию пришли.
Знаешь ли, какую штуку Фёдор Иванович на выборах удумал? Чем всех к согласию привёл? Расскажу — удивишься. Будто молод Михаил Фёдорович, ума средственного да и воли никогда никакой не возьмёт — нрава тихого. Бояре и решили слабого государя себе выбрать, чтобы свою волю творить. А на деле Фёдор Иванович о патриархе Филарете думал — как бы ему власть сохранить да в целости оставить.
Оно так и вышло. Вернулся патриарх из Варшавы в 1618 году и с того времени стали все бумаги государственные двойным именем подписывать — двух великих государей Михаила и Филарета.
А как Михаил Фёдорович, спрашиваешь? Впрямь ли таким тихим да покорным был? Снова с чужих слов сказать могу, не был. Да не дано ему было до кончины отцовской разгуляться. За ним не только патриарх — Великая старица не меньше догляд держала.
Помнится, в 1621 году разъяснение для всех Приказов вышло: «каков он, государь, таков и отец его государев, святейший патриарх, и их государево величество нераздельно». Оно и так и не так на деле было. Государь без патриарха ни одного решения не принимал, а патриарх без государя любые государственные дела рассматривал.
Как патриарх с Фёдором Шереметевым ни дружил, а по возвращении из плена тут же из дворца убрал. Не верил, видно, а главное, не желал, чтобы у сына советчики иные, кроме него самого, появлялись. Один за всё отвечать, всем ведать желал.
По смерти патриарха государь Михаил Фёдорович тут же Фёдора Шереметева приблизил, хотя больше привязался к его зятю — в 1622 году Евдокия Фёдоровна Шереметева замуж пошла за князя Никиту Ивановича Одоевского. Им-то государь Михаил Фёдорович как никем иным дорожил.
Одно скажу, Анна Петровна, может, тебе по молодости и непросто будет понять. Нет людей злых, нет и добрых. Обстоятельства есть, цесаревна. Из них исходить правителю и надо. Своего человечьего сердца ни во что не вкладывать. Толку не будет.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
Что-то не складывалось во дворце. Видела. Чувствовала. Даже Лизанька нет-нет да и удивлялась: ты ничего не замечаешь, сестрица? Может, всё дело в батюшкином нездоровье?
Государь и в самом деле ровно боролся с собой. Перед коронацией государыни в третий раз на Олонецкие воды поехал. В феврале. Уж чего, кажется, зимой-то от вод ждать. Никаких уговоров не слушал. Простыть-то легче лёгкого в февральские метели, а там ещё горше станет.
Вернулся хмурый. Раз один старшей дочери проговорился: думать о престолонаследии пора. Ахнула: как вы можете, государь? В ваши-то годы! Покривился: годы-то при чём.
Едва конца коронационных торжеств дождался и на Миллеровы воды в мае же уехал, до 16 июня ими пользовался. Вернулся недовольный: толку никакого. Времяпрепровождение пустое, больше ничего.
И всё-таки сил, видать, поднабрался. Дня больше на месте усидеть не мог. Какие там придворные церемонии да празднества. Ото всего отмахнулся. Осенью в Шлиссельбурге побывал. Ладожский канал осмотрел, Олонецкие заводы. А там уж Новгород и Старая Русса — соляным промыслом озабочен был. Старшей цесаревне сказал: кабы тебе здесь оставаться, с собой бы брал. В хозяйство государственное обязательно самому входить надо. От управляющих добра не жди: не там, так здесь непременно обманут.
Только когда по Ильменю судоходство за осенней непогодой прекратилось, в Петербург вернулся. Будто нехотя. На преподобного Нестора летописца. 27 октября. А уже на следующий день у Ягужинского обедать решил. Не сиделось ему на месте, ой, не сиделось.
С Ягужинского всё и началось. От него на пожар, что на Васильевском острове случился, помчался. Пожарным помогал.
Двадцать девятого отправился водой в Сестербек. На пути шлюпку встретил на мели. С солдатами. А из солдат никто плавать не умеет. Сам, по пояс в воде ледяной, помогал их снимать. Спасти всех спасли, а у государя жар да лихорадка начались. Ехать дальше не смог. Три дня провалялся да будто бы оправился. Второго ноября в Петербурге объявился, пятого сам себя на свадьбу к немецкому булочнику пригласил. До утра веселился. В последний раз. От души.
Сказывали, всех гостей уморил. Они вповалку лежат, а государь ещё с дамами как молоденький отплясывает. По двое немочек за талии поднимал да вокруг себя кружил. Спросила позже, кивнул согласно: было, цесаревна, душу отвести хотел. От чего? Не поделился.
Тогда-то ему о Монсе доложили. С Лизанькой говорить не хотела, а про себя думала неотступно: кто? Кому на руку правда такая была? Как ни крути, смысл один, чтоб государь завещание изменил. Что государыня может на престол вступить, ни разу словечком не заикнулся. Посмеивался: куда ей!
Только не в государыне дело. Не в ней! В тех, кто с ней вместе мог бы к власти прийти. А тогда Александр Данилыч. Он — главный. Дело прошлое, а, видно, помнился он государыне. Лизанька не раз подмечала, как меж собой словами перебрасываются. Государыня вроде перед ним и теперь робеет. Чуть что защищать принимается. Иной раз страшно становилось: не прогневала бы государя, на подозрение какое не навела. Сама слышала: при всех её императорским величеством называет, а в саду, в боскетах, не то что Катей — иной раз и за талию возьмёт, смеётся.
Без государыни Александру Даниловичу делать нечего. Гнев против него государь батюшка ещё с Прутского похода копил. Не выказал себя там светлейший, того хуже — отчёт по провианту концы с концами свести не сумел. Все знают, жадный. Забористый. Что плохо лежит, всё себе загребёт, а надо — ото всего отопрётся.
Сколько раз государь хотел следствие по растратам светлейшего до конца довести, государыня мешала. Так просила, так просила — отказать не мог. Последний раз из-за похорон царевича Петра Петровича младшего.
Светлейший... Один раз решилась — Петра Андреевича спросила, не меншиковских ли врагов дело. Посмотрел: сколько раз говорил, державой бы тебе, цесаревна, управлять. Значит, согласился.
Декабрь весь тихо промёл. Государь с бумагами отчётными разбирался. Нет-нет к себе звал: сама посмотри, как что делается.
* * *
Цесаревны Анна Петровна, Елизавета Петровна,
П. А. Толстой, герцог Голштинский
Болезнь подкралась неожиданно. Первая. И последняя. Никогда не лежал в постели. Никогда всерьёз не принимал врачей. Всё походя. Всё между прочим. От любой лихорадки лечился солёными огурцами. Бог весть, по чьему совету приказывал привязывать к голым подошвам нарезанные пластами солёные огурцы. Жар спадал, а с ним и болезнь отступала. От головной боли привязывал к сгибу кистей рук тёртый чеснок пополам с солью в скорлупе грецкого ореха. Через десять минут приказывал отвязывать: боль утихала.
Матушка рассказывала о рецептах, потому что когда-то сама всё делала государю. Позже пришли врачи. Что было на этот раз, не знала. Государыне вход в отцовскую опочивальню был закрыт. Её видеть батюшка не хотел. Лизанька боялась всех больных. Старшую цесаревну не звали. Приходила сама, отговаривались сном государя.
— Аньхен, ты слышала, государь батюшка третий день не встаёт с постели, Маврушка доведалась — боли у батюшки начались.
— Я пойду к врачу. Немедля!
— Тебя не пустят, сестрица. Маврушка видела, как они плотно прикрывают к государю батюшке дверь.
— Но мы же должны. Нельзя так, Лизьхен, нельзя!
— Государыня цесаревна, шёл мимо, осмелился обеспокоить своим визитом.
— Пётр Андреевич, сам Бог вас послал. Вы от государя? Как он? Что с ним? Говорите же, Пётр Андреевич, говорите!
— Сказать-то нечего, Анна Петровна. Врачи полагают, приступ каменной болезни.
— Но ведь у него уже так бывало, не правда ли? И проходило. Проходило же, Пётр Андреевич? Но почему вы молчите?
— Мне трудно вас утешить, государыня цесаревна. Не то что приступ силён. День ото дня сильнее становится.
— Это необычно, Пётр Андреевич?
— Дохтур говорит, по-разному бывает.
Добилась своего — вошла. Задух тяжкий. Свечей много — окошки занавешены. Спросила потом, почему? Отвечали, как приступ начнётся, стоны на улице через двойные рамы слышны. Вот окна войлоками и законопатили.
Мостовую перед дворцом соломой устлали — больного бы шагами да экипажами не тревожить. Макаров плечами пожал: сами поймут, что ходить им под окнами ни к чему.
К постели подойти не разрешили — всё равно, мол, в забытье государь. Не согласилась: хоть руку поцеловать. А государь глаза приоткрыл. Губами бескровными чуть пошевелил: «Аннушка...»
— Здесь я, здесь, государь батюшка. Прикажешь, ни на минуту не отойду. На полу спать буду. Только кивни, никто меня отсюда не выгонит. Только кивни!
Глаза закрыл. А губы опять: «Аннушка...» Сказать что хочет, помощи какой ищет. Владыка Федос под руку прихватил: «Ступай с Богом, государыня цесаревна. Благословил тебя родитель, государыня цесаревна. Благословил тебя родитель, а больше не мешай ему. Ступай».
Рука большая. Сильная. Глаза что твои льдинки. «Негоже тебе тут оставаться. Государю и без тебя трудно».
Вышла. К притолоке прислонилася. Слёзы кипят, кипят, глаза обжигают. Руки не поднять.
— Ваше высочество, вы разрешите проводить вас в ваши покои. Герцог! А он-то здесь к чему. Со всеми поклонами обменивается, перешёптывается.
— Вы узнали что-нибудь о завещании, ваше высочество? Самое время добиться ответа.
Опять. За горло схватило. И с таким всю жизнь прожить? Господи!
— Неужели и эта попытка оказалась бесполезной? Боюсь, если так пойдёт, инициатива перейдёт к Меншикову и тогда...
* * *
Цесаревна Анна Петровна,
Пётр I, А. Д. Меншиков, И. Н. Никитин
Рухнула как подкошенная. На пол. Ледяной. Воском закапанный.
«Государь!! Батюшка! Родимый ты мой...» Пальцы в простыню впились. Измятую. В пятнах.
Рука перед глазами. Огромная. Набухшая. Жилы синие напряглись — того гляди лопнут. Волоски чёрные. Редкие. По коже. Ногти синие. С ободочком белым. Губами бы припасть... Не дотянуться. Силы оставили — на колени не встать.
«Звал, государь? Видеть хотел?» Восковое лицо на подушке расплылось. Усы торчком. Глазницы запали. Чёрные. В уголке рта пузырёк. Искрится. То ли от дыхания. То ли от слёз — глаза застит, рассмотреть не даёт. Дышит же! Дышит, батюшка. «Государь...» Приподняться бы. Приподняться. Ртом воздуха не словишь. Вроде и нет его — дохнуть нечем. Всё равно встать надо.
«Батюшка, родимый ты мой...» — «Где была, цесаревна? Сколько искать тебя пришлось...» — Светлейший! Быть не может. Сколько времени к государю подхода не имел. От одного имени государь в ярость приходил. А уж после казни Монсовой и подавно.
— «Будто не знаешь, как его императорскому величеству нехорошо».
Выговаривает! Как хозяин в опочивальне царской стоит. — «Искали, искали тебя. А теперь что уж. Теперь отходит. Не до тебя ему». — «Где была?» Где? Смеётся? В покое своём с Лизанькой. Матушка строго-настрого выходить запретила. На врачей сослалась. Раскраснелась вся — не видала никогда такой.
«Вон видишь, цесаревна, покуда тебя ждал, даже доску грифельную распорядился подать, писать начал...» Макаров. Так и есть кабинет-секретарь. Ему-то что?
На одеяле доска откинута, ровно на обозрение выложена: «Всё отдать» и росчерк. Будто рука вниз скользнула — мелом без смыслу прошлась. «Видишь, видишь, цесаревна?..»
В голове молнией: ждали позвать. Ждали! Воли государевой выполнять не стали — к чему, когда конец близко. Да Господь с ней, с волей. Может, помочь ещё можно было. Снадобье какое... Полотенце мокрое личико потное обтереть. Губы запёкшиеся смочить.
Лекарств у постели ровно и не бывало: в угол покоя сдвинуты. Ни одного дохтура нет. Государыни тоже. Она-то, она как могла уйти? Злыдней проклятых у смертного ложа оставить? Мог бы ещё жить государь. Мог! Сам твердил: справится. Себя лучше всяких лекарей знал. И к боли ему не привыкать. Известно, каменная болезнь у кого хошь всю душу вымотает. Только здесь не то.
«О чём задумалась, цесаревна? Нехорошо тебе здесь оставаться. Когда всё кончится, позовём». — Знает. Всё знает светлейший. — «Никуда не уйду! Это ты прочь поди! Прочь! Неугоден ты стал государю. Прочь, сказала!»
Отступился. Доска. Почему доска? Коли в памяти был, мог кабинет-секретарю сказать — записал бы: свидетелей предостаточно. Николи на грифельной не писывал. Да и зачем? Больно стереть легко. Было — не было — поди докажи.
И буквы. Круглые. Ровные. Лёжа не написать. А уж коли боль займётся, и вовсе. На самое видное место пристроили. Макаров...
Недели не прошло, как при нём да при владыке Феодосии батюшка о престоле толковал. Не о кончине думал — о порядке в государстве. Сам сказал: спешить с браком Анны не станем. Помыслить ещё надобно. Будто над словами её задумался: о другом женихе просила. А батюшка: чем плохо, коли разом с ним державой управлять станешь. Мало ли королев да императриц бывало — ни в чём мужескому полу не уступали. И ты, Аннушка, не уступишь. Молода, так я ещё моложе на престол вступил. Справился же. Ты и вовсе к делам государственным приучена. Скучать над ними не станешь. А герцог — что ж, он тебе мешать не станет. Где ему! Справишься, да и мы с Макаровым всё оговорим.
Отмахнулась тогда: был бы ты жив, государь. Рассмеялся: помирать не собираюсь, а всё спокойней, коли дела в порядке. Больно всё в семействе нашем наперекосяк пошло. К старому не вернуться. Потом помрачнел: которую ночь матушку с сестрицей вижу. В Красном селе на берегу пруда стоят. Смеются. Мне руками машут. Зовут, будто торопят. — «Так не уходишь же с ними!» — Пока нет, сказал, а там, может, и уйду. Окроме тебя, никого в жизни у меня дороже них не бывало.
Спустя несколько дней мастера в соборе Петропавловском встретила. В печальном платье. Голова опущена. Губы дрожат. Не удержалась:
— Иван Никитич, мастер, тогда, у батюшки... Ведь обычай европейский покойных на смертном ложе писать, а государь...
Головой замотал. Сжался весь:
— Не надо, государыня цесаревна. Художник — человек подневольный.
— Непорядок, порядок-то какой. Ведь умерших писать надо... в последний раз... как парсуну надгробную... вон они в соборе Успенском в Москве.
— Не знаю я порядков таких. Не слышал о них никогда при русском дворе.
— А при иностранных?
— Тем более. Был когда-то. В древности. Теперь не бывает.
— Кто же послал вас государя ещё живым писать? Кто?
— Посыльный из дворца, государыня цесаревна. Кто же ещё.
— Чьим же именем? Кто приказ дал? Меншиков? Я не проговорюсь, Иван Никитич, ни за что не проговорюсь. Ты не говори вслух, только головой кивни. Меншиков, да?
— Никто бы по меншиковскому приказу во дворце с места не сдвинулся.
— Верно, верно, Иван Никитич. А алтарь перед батюшкиным смертным покоем — разве не светлейший распорядился соорудить? Чтобы никто туда входить не мог, тем паче особы полу женского?
— Не мог Меншиков алтарём распоряжаться. Эта домена владыки Федоса и, так полагаю, государыни.
— И ты согласился живого мёртвым изобразить, неужели согласился, Иван Никитич?
— Зря вы так, государыня цесаревна. Вы на картину самую посмотрите — её в кладовые дворцовые сразу же и унесли. К живому государю я пришёл, живого и написал. Может, и последний вздох его принял. Кроме нас с живописцем Таннауэром, в покое никого не оставалось. А мы с господином Готфридом ни словечком не перемолвились.
* * *
Цесаревны Анна Петровна,
Елизавета Петровна, М. Е. Шепелева
Новая императрица! Двор притаился: с чего начнёт — кого осудит, кого оправдает. После того что промеж государыни и государя случилося, не станет императрица всё по-старому оставлять. В том и сомнений ни у кого не было.
— Слышала, слышала, Аннушка, всех осуждённых по делу Вилима Ивановича велела государыня матушка помиловать! Всех до единого!
— Ну, головы-то Вилиму Ивановичу, уж как бы хороша ни была, не приставишь.
— Господи, Маврушка! Да будет тебе страсти-то все эти поминать. Было — прошло.
— Известно, прошло. Сам Вилим Иванович в общей скудельнице...
— Вынут его оттуда, вынут! Уже объявлено, что похороны самые торжественные состоятся.
— Из скудельницы, известно, кого-нибудь раздостать — не велик труд, а вот голову из Кунсткамеры...
— Маврушка, сколько раз повторять!
— Не сердись, не сердись, Елизавета Петровна. Вон гляди, как наша старшая цесаревна задумалась. С чего бы?
— И впрямь, Аннушка, о чём это ты?
— О превратностях жизни человеческой, да на что тебе это, сестрица. Ты и без этих мыслей проживёшь.
— И в голове не держи, проживу. Я уж у государыни родительницы выпросила, чтобы Егора Столетова ко мне в штат назначить.
— Егора? Того, что для Вилима Ивановича письма любовные сочинял, а тот за свои собственные выдавал? Так его же кнутом, беднягу, били и в Рогервик на каторжные работы сослали.
— Э, Рогервик там — не Бог весть какой дальний край. Вернуть сочинителя нашего оттудова ровным счётом ничего не стоит. Уже и нарочный выслан.
— Ишь, как обернулась ты быстро, сестрица.
— А чего ждать? Ещё, не приведи, не дай, Господи, какую новую вину для человека удумают. Под моим крылом ему надёжней будет.
— А о шуте Балакиреве не похлопотала, Елизавета Петровна?
— Да полно тебе, Маврушка! Шут-то мне на что нужен. Сочинять я и сама пробую. Глядишь, чему у Столетова-то и поднаучусь.
— И то правда, ему меньше других досталося от государя. Всего-то навсего батоги да ссылка на три года в Рогервик.
— Вот и прихватила бы, цесаревна, бедолагу. Что тебе стоит! А государыня императрица на радостях всё разрешит.
— Семейство какое Монсов странное — никогда для фамилии нашей полезным не было. Поначалу всё лучше некуда, зато потом...
— О чём ты, Аннушка?
— Сама посуди, сестрица, каково Матрёне ото всех этих перипетий — что с сестрицей, что с братцем.
— Ой, нашла кого жалеть! Да твоя Матрёна Ивановна уже статс-дамой к государыне императрице назначена и семейство её всё, все Балки, ко двору взяты. Ведь случайные же люди...
— Какие же случайные, Лизанька? Вовсе нет. Прадед ихний, майор шведской службы, в войска дедушки нашего, государя Алексея Михайловича ещё когда перешёл и помер перед тем, как государю батюшке в Великое посольство ехать. С двадцати четырёх лет в нашей армии служил. И сын его Фёдор Николаевич здесь остался, генерал-поручиком стал, орден Александра Невского получил и, как знак особого благоволения государя батюшки, его портрет, бриллиантами осыпанный. Не всем государь батюшка такие награды жаловал.
— Чтой-то фамилия у них будто бы иная была, коли память мне не изменяет.
— Тебе, Маврушка, николи ещё память не изменяла. Первого майора звали Балкеном, а внука уже Балком. Тоже до орденов всяких дослужился, чин генерал-поручика получил, а по первой жене к шведскому имени русское присоединил. Вот и стали они Балк-Полевы.
— И откуда у тебя подробности такие, Аннушка? Будто специально семейством ихним интересовалась.
— Не семейством. Покойный государь батюшка про учебные полки рассказывал и про то, сколько пользы от Балк-Полева было.
— А ты всё и слушала? И от скуки не заснула? Господи, мученица ты наша!
— Вовсе нет, Лизанька, мне интересно было. Когда государь батюшка из Великого посольства вернулся, Николай Николаевич Балк стал вместе с другими офицерами готовить учебные солдатские полки. Один — в темно-красных кафтанах, другой — в тёмно-зелёных. Вот с тёмно-зелёными он и занимался перед самым началом Северной войны. Из них-то и образовались тысячные солдатские полки, которыми позже генерал Вейде в составе своей дивизии командовал.
— Господи, спаси и помилуй! Да ты, сестрица, скучнее голштинцев твоих рассуждаешь. Голштинцы твои тебя, поди, разинув рты слушали.
— А им про то слушать незачем. Это дела российской армии.
— Ну, а коли ты с герцогом Карлом обвенчаешься, тогда всё ему рассказать сможешь.
— Не смогу и не стану, Лизанька. Супруг супругом, а наша держава всегда мне ближе и дороже останется. Да ты хоть раз послушай, Лизанька. Увидишь, как оно всё любопытно складывается. Точно не помню, но, кажется, государь батюшка говорил, что в 1700 году Балк собственный полк организовал и им же под Нарвой командовал, а позже в Ингерманландии и в Эстляндии. А ты толкуешь, случайные люди? Нельзя так, сестрица, не разобравшись, людей судить.
— Ну, чистый государь батюшка, правда, Маврушка?
— Да хватит тебе, Лизанька, я только сейчас к самому интересному подошла. Сынок Балка, Фёдор Николаевич, как и отец, получил в командование самостоятельный полк. Где только не воевал: и под Нарвой, и под Полтавой, и в Померании, и Штеттин штурмовал, и с флотом в Стокгольмскую сторону в 1719 году ходил.
— А всё равно никто бы так его отличать не стал, кабы не изловчился наш герой на Матрёне Монсовой жениться. Вот уж тут ему счастье-то и привалило.
— Не удержалась, Маврушка!
— А чего удерживаться, когда чуть-чуть генералу вашему головы вместе с Монсом не отрубили. Вот тебе и заслуги, государыня.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, П. А. Толстой
Торопился. По всему было видно, как торопился светлейший. Ни на кого не смотрел. Ни с кем не совещался. Государыню матушку и то не всегда оповещал.
Заметила ему. Удивился: ты что, государыня цесаревна? Забыла, что гостья у нас? Что до венчания твоего недолго, а там и поезжай в свои владения с Богом. Кабы нужна была государыне, поди, её императорское величество тебя в первый черёд за собой поставила. Так нету этого. И не будет! Привыкай с Иоанновнами в одном ряду сидеть — если они согласятся.
Слезами подавилась. А Лизанька хоть бы что. Сама, мол, сестрица, виновата. С такой прытью и до монастыря недалеко. С кончины батюшкиной повзрослела. Посерьёзнела. А на людях виду не подаёт.
Одна надежда с Петром Андреевичем втайности потолковать, хотя и он не то что прежде — опаситься стал.
— Откуда, Пётр Андреевич, племянника-то опять взяли? Пошто? Нет ведь у него сторонников, нет.
— Позволь с тобой, цесаревна, не согласиться. Сторонников у царевича-младшего, может, и нет, а вот у светлейшего их предостаточно. Чтобы от Алексашки избавиться, за младшим царевичем пойдут.
— А мы как же? Мы с Лизанькой?
— Тут, цесаревна, никакого «мы» уже не осталося. Ты — отрезанный ломоть, а вот насчёт Елизаветы Петровны Остерман прямо предложил выдать её замуж за Петра Алексеевича.
— За мальчишку?
— Какая разница. Сегодня мальчишка, завтра в мужика вымахает.
— Так он Лизаньки на шесть лет младше.
— Велико дело. Вон у поляков тридцатилетнего короля на шестидесятилетней королеве женили, и ничего.
— Как ничего? Как же жили они?
— А так и жили: он в Кракове, она в Варшаве. И всё-то у них ладно получалось. Помнится, она его и в глаза не видала. Да и не хотела видеть. Главное — престол в надёжных руках оказался.
— И что же с Лизанькой будет?
— А ничего не будет, цесаревна.
— Уставы церковные не позволят.
— Ой, цесаревна, не смеши старика. Уставы! Благословение у Синода на всё получить можно — была бы монаршья воля. Тут всё куда сложнее: светлейшему такой расклад не по душе пришёлся. Вот он с Венским двором и столковался. По их задумке датский дипломат Вестфален придумал за великого князя дочь Меншикова отдать.
— Которую, Пётр Андреевич? Да и зачем?
— Которую — всё равно. А в таком случае светлейший при двух молодых некоронованным правителем России станет. Уразумела его хитрость-то, цесаревна?
— Погоди, погоди, Пётр Андреевич, дай с мыслями собраться.
— Какие ж тут мысли, Анна Петровна? Гляди-ка, как всё ладно да складно у Александра Данилыча выходит. Преставилась твоя родительница шестого мая.
— На Иова Многострадального. В ночи ещё скончалась. До утра не дожила. Не простились мы с ней. Не благословились.
— Какое уж тут благословение, когда без памяти государыня сколько часов лежала. Хрипела всё. Страшно хрипела. Пена изо рта ключом била. Известно...
— Погоди, погоди, Пётр Андреевич, не говори. Не ровен час кто услышит. Тебе же не поздоровится.
— Твоя правда, цесаревна. Да это так — к слову пришлось. Ты другое вспомни. Седьмого мая читать завещание стали.
— А у батюшки — государь ещё жив был: так торопились.
— Здесь-то никому бояться было нечего. Я о другом. Данилыч при этом объявлен был адмиралом. Мало показалося, так через пять дней сам себя в генералиссимусы произвёл всех сухопутных и морских сил. Сынка Андреевским орденом наградил, обер-камергером назначил.
— И всё до матушкиного погребения.
— А как же. Так Александру Даниловичу под опекой покойной способнее казалося. На девятый день императрицу погребли, и прямо с погребения светлейший нового императора в свой дворец перевёз. Забыла, цесаревна? Ни ходу, ни подходу к новому монарху не стало. Ну, а двадцать пятого мая, сама знаешь, обручение Марии Александровны с государем Петром Алексеевичем состоялось.
— Полно, Пётр Андреевич, полно!
— Сказать хочешь, государыня цесаревна, обручение не твоему чета? Не уважила тебя родная матушка так, как светлейший старшую свою княжну уважил? Верно. Накрадено у светлейшего сверх всякой меры и понятия, потому и обручальные перстни молодым по двадцать тысяч рублёв каждый надели. На руке не удержишь. Прокопович, известно, проповедь произнёс, будто такой ангельской пары на русской земле со дня сотворения мира не бывало. Чад их всех будущих благословил и прославил.
— О Прокоповиче говоришь, Пётр Андреевич. А Федос — от батюшки государя не отходил, все мысли его предугадать умел, а как последнюю волю предал?
— Полно, цесаревна, покойника злом поминать. Эдакой смерти лютой злейшему врагу не пожелаешь: в каменном мешке безысходном, на лютом холоде да в голоде. Он за свои прегрешения уже заплатил.
— Слыхала я, какой штат у государыни невесты необычайный.
— А как же. Двадцать пять придворных, певчих, служителей без малого сотня. Лошадей не перечесть. Вроде бы две дюжины цуговых, что Бирон для покойной государыни императрицы родительницы твоей в Германии отбирал, столько же верховых, да из судов штрахоут, баржа да верейка под её собственным штандартом.
— А сделать с ним ничего нельзя?
— Со светлейшим-то? На Господа Бога надеяться. Потому как у каждой верёвки кончик бывает, а уж у людской удачи тем паче.
* * *
Цесаревны Анна Петровна,
Елизавета Петровна, М. Е. Шепелева
В дворце что ни день, то праздник. О печальном платье государыня и думать не стала — не к лицу ей. Да и дочерей не понуждала: ни к чему скорбь безмерная. Во всём следует разумный предел соблюдать. Что это за государство в трауре! Так и сказала. Где там в церквах отстаивать, жить надобно! Дела государственные делать тоже. Цесаревна Анна Петровна заикнулась было. Только что не прикрикнула — хватит! И чтоб я более разговоров таких не слышала.
Откуда только кавалеры взялись. Все молодые. Статные. Расфранчённые. Вокруг государыни так и вьются, а она громче всех смеётся. От души веселится.
— Бирона не заметила ли, Аннушка?
— Это что — курляндского дворянина-то? Который лошадьми занимается?
— Вот-вот. Только он себе, кажись, лошадьми широкую дорогу прокладывает. Мы уж с Маврушкой приметили.
— Чего бы вы только не приметили. А что за дорога?
— Расскажу, не поверишь. Он, оказывается, ещё в стародавние времена к покойной кронпринцессе Шарлотте в камер-юнкеры набивался.
— Неужто ещё тогда? А выглядит молодым.
— Выглядит — не выглядит, а от ворот поворот получил. Государю батюшке, сказывают, не показался. Так он в Курляндию вернулся. Вот тут уж ему Курляндия не показалась. Так, веришь, он на какую хитрость пустился? Коня верхового самого что ни на есть дорогого выбрал да на все свои последние деньжонки купил и герцогине-то нашей Курляндской и преподнёс. В подарок.
— Иоанновне? И она приняла?
— Чего ж не принять, когда конь как из сказки, а она сама в конях толк знает. Кто видел, сказывают, обомлела герцогиня наша да и растаяла. Согласилась уважить просьбу Биронову, чтобы ему вместе с представителями дворянства курляндского ехать государыню родительницу с восшествием на престол поздравлять.
— Только ради этого и тратился?
— Только! Ты, Аннушка, на его расчёт иначе взгляни. Верил, что ко двору придётся. Крепко верил. Только осечка вышла. Герцогиня-то послать его согласилась, а дворяне курляндские принять Бирона в делегацию свою наотрез отказались. Мол, и безродный-то он, и будто бы убил кого в драке, что пришлось ему из студентов университета в Курляндию бежать.
— Выходит, зря кавалер потратился.
— Помолчи, помолчи, Маврушка. Рассказа мне не порти. Скорая какая! Договорить не успеешь, непременно своё словечко вставит.
— Молчу, молчу, государыня цесаревна Елизавета Петровна.
— Вот и молчи. Кавалер Бирон сам по себе одновременно с курляндцами приехал и, вообрази себе, сестрица, государыне какую-то там цидульку от герцогини передал.
— Ну и упрямец!
— Так оно и есть. И даже в око государыне родительнице впал. Очень милостиво она с ним обошлась, да только на отсечь Левенвольд с Александром Данилычем кинулись. Так что пришлось кавалеру несолоно хлебавши в Митаву возвращаться.
— Елизавета Петровна, цесаревна моя ненаглядная, разреши непутёвой Маврушке хоть словечко вставить. Ведь не утерплю, как Бог свят, не утерплю!
— Говори, говори, Маврушка, иначе захвораешь от нетерпения.
— Так и есть, Анна Петровна. Не забылся Бирон в Петербурге-то. Государыня велела Петру Михайловичу Бестужеву, чтоб он — никто другой! — лошадей ей подобрал. И имя запомнила, а там уж как Господь даст. Может, и потанцуете ещё с кавалером на куртагах-то.
* * *
П. Матюшкин, сержант Воронин,
барон Мардефельд
Ветер над заледенелыми колеями. Ветер на раскатанных поворотах. Ветер в порывах острого мёрзлого снега. И одинокая фигура, согнувшаяся под суконной полостью саней.
Быстрей, ещё быстрей! Без ночлегов, без роздыха, с едой на ходу как придётся. Пока перепрягают клубящихся мутным паром лошадей.
«Объявитель сего курьер Прокофий Матюшкин, что объявит указом Её Императорского Величества, и то вам исполнить без прекословия и о том обще с ним в Кабинет Её Императорского Величества письменно рапортовать, и чтоб это было тайно, дабы другие никто не ведали. Подписал кабинет-секретарь Алексей Макаров».
Что предстояло делать, знал на память — кто бы рискнул доверить действительно важные дела бумаге! А вот с чьей помощью, этого не знал и он сам, личный курьер недавно оказавшейся на престоле государыни Екатерины Алексеевны.
Секретная инструкция предписывала начиная с Ладоги в направлении Архангельска высматривать обоз: четыре подводы, урядник, двое солдат-преображенцев и поклажа — ящик «с некоторыми вещьми».
О том, чтобы разминуться, пропустить, не узнать, — не могло быть и речи. Такой промах немыслим для доверенного лица императрицы, к тому же из той знатной семьи, которая особыми заслугами вскоре добьётся графского титула. И появится дворец в Москве, кареты с гербами, лучшие художники для семейных портретов, а пока только бы не уснуть, не забыться и... уберечь тайну.
В шестидесяти вёрстах от Каргополя — они! Преображенцы не расположены к объяснениям. Их ждёт Петербург, и тоже как можно скорее. Всякие разговоры в пути строжайше запрещены. Но невнятно, не для посторонних ушей, сказанная фраза. Вынутый и тут же спрятанный полотняный пакет. И обоз сворачивает к крайнему строению первой же деревни — то ли рига, то ли овин. Запираются ворота. Зажигаются свечи. Топор поддевает одну доску ящика, другую. Совсем нелегко преображенцам подчиниться приказу Прокофия Матюшкина, но на пакете, показанном урядником, стояло: «Указ Её Императорского Величества из Кабинета обретающемуся обер-офицеру при мёртвом теле монаха Федосия»[20].
В грубо сколоченном ящике — холст скрывал густой слой залившей щели смолы, — под видом «некоторых вещей» преображенцы спешно везли в столицу труп. Матюшкину предстояло произвести самый тщательный осмотр — нет ли на трупе повреждений и язв. Иначе — можно ли его представить на всеобщее обозрение.
Но доверие даже к курьеру не было полным. Кабинет требовал, чтобы результаты осмотра подтвердили своими подписями все присутствовавшие. При том же неверном свете свечи. На передке брошенной хозяевами замызганной осенней ещё грязью телеге.
Снова перестук забивающих гвозди топоров. Растопленная смола. Холст. Вязь верёвок. Ящик готов в путь. И, опережая преображенцев, растворяются в снежной дымке дороги на столицу сани кабинет-курьера. Рапорт, который увозил Прокофий Матюшкин, утверждал, что язв на мёртвом теле не обнаружено.
Первый раз за десять суток бешеной езды можно позволить себе заснуть. Поручение выполнено, а до Петербурга далеко.
Только откуда Матюшкину знать, что его верная служба давно перестала быть нужна. Что той же ночью, в облаке густой позёмки, его сани разминутся с санями другого курьера — из Тайной Канцелярии, как и он, напряжённо высматривающего направляющийся в столицу обоз: четыре подводы, солдаты-преображенцы, ящик...
Сержант Воронин далёк от царского двора. Но приказ, полученный им от самой Тайной канцелярии, вынуждал хоть кое в чём приобщить солдата к таинственному делу:
«Здесь тебе секретно объявляем: урядник и солдаты везут мёртвое чернеца Федосово тело, и тебе о сём, для чего ты посылаешься, никому под жестоким штрафом отнюдь не сказывать... Буде же что с небрежением и с оплошностью сделаешь, не по силе сей инструкции, и за то жестоко истяжешься».
Угроза явно была излишней. Кто в России тех лет не знал порядков Тайной канцелярии, неукротимого нрава руководивших ею Петра Андреевича Толстого и Андрея Ивановича Ушакова! Да разве бы обошлось тут дело штрафом!
Воронин встречает преображенцев на следующий день после Прокофия Матюшкина. Теперь всё зависит от его решительности. Ближайший на пути монастырь — Кирилло-Белозерский. Воронин во весь опор гонит обоз туда. Следующий отчёт составлен с точностью до четверти часа.
1726 года марта 12 дня в «5 часу, в последней четверти» приехали в монастырь и объявили игумену указ о немедленном захоронении «поклажи». В «9 часов, во второй четверти» того же дня — трёх часов хватило, чтобы выдолбить в промерзшей земле могилу! — ящик, превратившийся, по церковным ведомостям, в тело чернеца Федоса, погребён «безвестно» около Евфимиевской церкви. Настоящее имя, возраст, происхождение покойного — всё останется неизвестным, как и место могилы.
Ни молитвы, ни отпевания — груда звонкой мёрзлой земли в едва забрезжившем свете морозного утра. Участники последнего акта подписывают последнее обязательство — о неразглашении обстоятельств произошедшего. Чернец Федос перестал существовать.
...Прусский посланник барон Мардефельд в своих донесениях на редкость обстоятелен. Король — он же как-никак пишет лично ему! — чтобы ориентироваться в ситуации русского двора, должен знать каждую мелочь. Тем более такое громкое дело, как дело Федоса.
«Архиепископ Новгородский, первое духовное лицо в государстве, человек высокомерный и весьма богатый, но недалёкого ума, подвергнут опасному следствию и, по слухам, совершил государственную измену. Его намерение было сделаться незаметным образом патриархом. Для этой цели он сделал в Синоде, и притом со внесением в протокол, следующее предложение: председатель теперь умер, император был тиран, императрица не может противостоять церкви, а следовательно дошла до него теперь очередь сделаться председателем Синода».
Дальше в донесении барона похвалы верноподданническим чувствам Синода, конечно же, с негодованием отвергшего притязания архиепископа. Заверения в преданности синодальных членов царице Екатерине: «чем был император, тем теперь же императрица» — таковы слова князей православной церкви.
В заключение приписка, что архиепископ Новгородский уже в крепости, раскаивается в своём поступке, но, надо надеяться, прощения не получит. Да и какая может быть надежда, когда только что говоривший подобные речи солдат лишился головы.
Бунт в Синоде или церковь, наконец-то дождавшаяся смерти Петра Великого, — это ли не событие в государственной жизни! И конечно же, опытный дипломат прав: сколько за всем этим счетов и расчётов придворных партий, политических и личных интриг. Самому Мардефельду важно подчеркнуть — с Екатериной Алексеевной всё в порядке. Возмущения против неё нет. Правительство решительно расправляется с любыми бунтовщиками и, значит, за столь важный для Пруссии брак Анны Петровны с герцогом Голштинским можно не беспокоиться. Здесь всё понятно.
* * *
Екатерина I
Государыня Екатерина Алексеевна удивилась: который день подряд Александр Данилович приходит делами донимать. Объяснений не даёт. Говорит, говорит: будто бы объясняет. А на самом деле разве путаницу ихнюю поймёшь. Волнуется князь. Иной раз голос повышать начинает. Аннушка и то заменила — удивлённо так смотрит. А как его остановить? Ещё пуще сердиться станет.
Ну, обещали мы перед венчанием герцогу Карлу перед датским королём походатайствовать — Шлезвиг ему вернуть. Александр Данилович вскинулся: не ходатайствовать — требовать вы, государыня, должны. Вы теперь великую державу представляете.
Нетто спорить с князем станешь. Пусть нужную бумагу на подпись принесёт. Принёс. Послали. Со всяческими угрозами. Так ведь время иное. Ответ такой получили, что Александр Данилович и тот отступился. Отказал датский король. Начисто отказал.
Члены совета посовещались, сказали: надобно теперь к австрийскому императору присоединяться. Так и сказали: к Венскому союзу. Удивилась: так ведь австрийский император помощь царевичу Алексею Петровичу оказывал. Великий князь-малолеток с ним в прямом родстве состоит.
Александр Данилович, как от мухи назойливой, отмахнулся: при чём здесь царевич, коли его в живых давно нету. Так ведь родственники — обиду помнить могут. Рассмеялся: в политике и делах государственных родственников не считают. О том надо думать, что австрийский император и с испанским королём в дружбе, который пролив и крепость Гибралтар вернуть себе хочет, и королём прусским Фридрихом Вильгельмом I. Они-то все вместе и пообещали права герцога Голштинского поддержать. Чего, кажется, больше? Герцогу не терпится, и его понять можно, да только дело это, Александр Данилович объяснил, долгое, в неделю-другую не решается. Терпения набраться нужно, да ещё и военные действия всякие предпринимать. Господи, спаси и помилуй!
А граф Левенвольд, хоть в государственные дела мешаться и не охотник — всё время меня в том уверяет, — а предупредить решил, что у Александра Даниловича и свои особые интересы во всех этих делах есть. Курляндская корона ему запонадобилась.
Легко сказать, корона! Оно верно, что сватовство графа Морица Саксонского к Анне Иоанновне расстроить сумел, да ещё ловко так. А Анна, сказывают, от графа совсем обеспамятела. Да и не она первая. Сколько о нём по странам европейским разговоров ходит. Больно собой хорош да до женщин охоч. Почему бы и нет, коли средства есть. А вот у него достаточно ли, неизвестно.
Александр Данилович оставил нашу Иоанновну в её вдовстве. Очень она закручинилась. Теперь новые хитрости придумывает. Левенвольд так и сказал: дайте, государыня, светлейшему волю, он и императором станет, и все окрестные герцогства и княжества немецкие себе заберёт. Сама знаю, ненасытная душа. А что делать?
Вот и теперь Верховный Тайный Совет Александр Данилович велел учредить. Надо ли? Аньхен толковать стала, что покойный государь всего выше Сенат ставил, а тут Сенат стал Совету подчиняться. Вот уж и впрямь мужчиной бы ей родиться. А так, какая разница, кто кому подчиняться станет, лишь бы императорская власть нерушимой была. Вот и Александр Данилович так полагает.
Спасибо Александру Даниловичу, ни в чём графу Левенвольду не препятствует. Папаша его, барон Герхард-Иоганн, был государевым уполномоченным в Лифляндии и Эстляндии. Это ещё до Прутского похода. А как женили царевича Алексея Петровича, назначен был обер-гофмейстером его супруги, принцессы Шарлотты.
Родителя ещё в 1721 году не стало, а сыновьям всем трём его это уж государыня Екатерина I графский титул подарила. Как приятно не по имени Левенвольда называть — просто графом. Как в книжке какой, что Аньхен пересказывала. И благодарность чувствует. И — сам сказал — без сана и титула также бы вас, государыня, обожал, потому что нет на земле таких красавиц. Верить — не верить, а всё на сердце радостно, всё праздник.
А с герцогом Голштинским — Бог с ним. Живёт на всём готовом, на даровых хлебах, со всею своею свитою, и пусть живёт. Лишь бы Аньхен спокойна была. Мне больше ничего и не надо.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, II. А. Толстой
— Пётр Андреевич!
— Спасибо, что жалуешь меня вниманием своим, государыня цесаревна.
— Не я жалую, Пётр Андреевич, вы тратите на меня своё время.
— А я, Анна Петровна, уже всё своё время потратил — в долг живу. Как старый гриб. И время у меня не считанное и не мерянное: что Господь ни отпустит, всё подарок. Узнать что хотела, государыня цесаревна?
— Не знаю, как и подступиться. Слухи всякие до меня доходили. Может, глупости, а может...
— Говори, говори смело. Тебе-то, окромя меня, и спросить-то по-настоящему некого.
— Я об Иване Мусине-Пушкине.
— Ах, это. Что же тебе любопытно, государыня цесаревна?
— Знаю, служит он давно.
— Ещё бы не давно. Только правительница царевна Софья Алексеевна к власти пришла, тут же его воеводой в Смоленск, а там и в Астрахань назначила. Он ведь на племяннице патриарха нашего Иоакима женился — большую силу при дворе приобрести мог.
— Только поэтому?
— А чего ж ты хочешь, государыня цесаревна. Править умел, тут уж ничего не скажешь. Всю Северную войну в походах провёл. За Полтавскую битву графский титул получил.
— Но ведь он сколько лет и сенатором состоял, и Монастырским приказом ведал. А как же так — и Милославские ему мирволили, и государь батюшка против него никогда будто бы ничего не имел.
— Хочешь сказать, и теперь государыня родительница его своим докладчиком назначила.
— Оттуда и сомнения мои. Ведь, сколько мне известно, в интригах дворцовых граф не замешан.
— А зачем ему, государыня цесаревна. Разное ведь о графе толкуют. Ты ничего о происхождении графа не слыхала?
— Что, может, дядюшка он нам с Лизанькой родной? Батюшкин сводный брат? Вот к тому и весь разговор веду, Пётр Андреевич.
— Мне бы, старику, сразу догадаться. Да вот, видишь, сколько тебя, государыня цесаревна, зря промаял. Толковали такое при дворе. Будто побочный он сын дедушки твоего, Анна Петровна, великого государя Алексея Михайловича. Только как тут правду вызнаешь. Со свечой ведь никто в ногах не стоял, прости на грубом слове.
— А Иван Иванович Бутурлин тут при чём?
— Да как же. У патриарха Иоакима, из рода Савеловых, две племянницы замуж вышли. Мавра — за Мусина-Пушкина, Марфа — за Ивана Ивановича Бутурлина.
— Бутурлину кто же дорогу при дворе прокладывал?
— С патриарха началось. Да Иван Иванович и сам не промах. Совсем юнцом под Кожуховом командовал потешными и великую для Петра Алексеевича, государя нашего покойного, победу одержал над стрельцами — ими Фёдор Юрьевич Ромодановский верховодил. Сражение-то манёврами должно было стать, а обернулось битвой настоящей. Сколько солдат да стрельцов поубивало, покалечило, никто никогда и не говорил. Зато обоих главнокомандующих государь покойный всеми знаками царской власти наделил, почёт соответственный оказывать при дворе велел. Оба на всех празднествах являлись в платье царском.
— Как государь император легко со знаками власти своей расставался!
— Не расставался, государыня цесаревна, не расставался. Я бы так сказал, людей проверял. А настоящей-то власти покойный император никогда никому не уступал.
— Мне так показалося, что государь батюшка Ивану Ивановичу больше других военачальников доверял. Будто никогда в нём не сомневался.
— Э, государыня цесаревна! Чужая душа и для царственной особы потёмки. Кто в ней разберётся, кто за неё по-настоящему поручится. Но служить Иван Иванович и впрямь умел. Ещё до Северной войны государь его произвёл в премьер-майоры вновь образованного Преображенского полка — великая честь, как ни посмотри. А уж в чине генерал-майора приводит он под Нарву Преображенский, Семёновский и четыре пехотных полка.
— Привести привёл, но ведь ничего не выиграл, не правда ли?
— Тогда, государыня цесаревна, никто не выиграл. Каролус король предательством наших в плен захватил и Ивана Ивановича тоже. Бежать Ивану Ивановичу не удалось, а не один раз пробовал. Целых десять лет в плену просидел в Швеции, и столько же лет покойный государь о нём помнил. Как случай в 1710 году подвернулся, так сразу и освободил Бутурлина, а тот с ходу сражаться против шведов стал, даже в морском сражении при Гангуте поучаствовал.
— Но графа не было при дворе, сколько я помню.
— А как бы ему быть, когда против него Александр Данилович интриговать принялся.
— Да, но государь батюшка говорил мне о другом. Будто он Бутурлину поручил дела меньшиковские проверять: сколько тот где украсть исхитрился.
— Распорядиться-то государь покойный распорядился, а дела до конца не довёл: кончина помешала. Вот и остался Иван Иванович, как его смолоду государь называл, «царь Иван Семёновский», не то что не у дел, так ещё и с врагом лютым. Светлейший обид никогда не прощал, а уж по части денег расхищенных кто бы простить смог. А дальше и мы с ним в ссору вступили. При избрании наследника престола не хотел Иван Иванович государыню императрицей видеть. Даже команду гвардейцам дал дворец окружить. Только не вышло у него ничего.
— Но государыня родительница, кажется, зла на него держать не стала.
— Не стала, говоришь. А вот как заговор супротив Меншикова организовывать начал, тут же на безвыездное житьё в свои поместья отправила. Ещё что со мной станет, не знаю. Может, и годы мои преклонные не помогут.
* * *
Екатерина I, А. Д. Меншиков
Все знали: Александру Даниловичу вход в личные покои императрицы всегда дозволен. И когда одна бывает, и когда... Да что там говорить, светлейший не то что на развлечения вдовствующей императрицы внимания не обращает, похоже, поддержать её хочет. Прислуга не раз слыхала: ты, мол, государыня, самодержица наша, нет над тобой ничьей власти. Что, мол, решишь, тому и быть.
Пётр Андреевич сразу отмахнулся: слова! Меншиковские слова — за ними никогда правды не стояло. Это для Левенвольда у государыни свобода, а до дел государственных так бы её светлейший и допустил! Уж на что проста государыня, а и то примечать стала: к своей цели Александр Данилович идёт. Подчас и донимать государыню начинает. Ей бы за столом посидеть. Покушать плотно. Лишний стакан поднять. В покои с Левенвольдом уединиться. Так нет же — ровно земля у него под ногами горит!
— Донял ты меня, Александр Данилович, сил моих больше нету.
— Не я донял, государыня, люди донимают, обстоятельства. О твоей же пользе, безопасности пекусь. Спасибо бы сказала Алексашке, а ты досадуешь. Обещал я тебе, что на престоле будешь, нешто обманул? Вот и теперь хочу, чтобы дольше ты на нём оставалась.
— А это уж от Господа Бога, Александр Данилович. Сколько проживу.
— Неправильно судишь, государыня. Жизнь — одно, престол — другое. С ним мало ли оказий случиться может. Случайно, что ли, тебе твержу: много у внука твоего названного Петра Алексеевича, сторонников, ой, много, и сложа руки никто из них не сидит. Толкуют, пересуживают.
— Но как это говорится, на чужой роток...
— Не накинешь платок, что ли?
— Вот-вот, нельзя же всех переслушать, я так думаю. Сколько обо мне говорено было — страх вспомнить.
— А ты и не вспоминай, государыня. Ни к чему такая память. Другое дело, когда в Архангельском монастыре Нижегородской губернии архиерей Исайя поминал нашего младшего царевича — как ты думаешь? — благоверным государем! Понимаешь — нет?
— А как надо, Александр Данилович?
— Не понимаешь, матушка? Благоверным великим князем надобно — вот что! А коли государь, значит, тебе вровень, а цесаревен наших куда выше.
— Так запретить ему надобно, Данилыч. Ты и запрети.
— Запретить! А он, вишь, такую волю взял, что прилюдно, с амвона объявил — казнь готов принять, а иначе царевича поминать не станет. Да если б он один. Царевича на престоле многие наши князья да бояре ждут не дождутся.
— Что же делать, Александр Данилыч? Мне-то откуда знать?
— Не знаешь сама, тогда и не говори, что Меншиков тебя делами своими нудными достаёт. Один выход есть, чтобы врагов твоих замирить, — царевича наследником престола объявить, и немедля.
— Как царевича? Чужого мальчишку? Как можно? У меня же дочери есть. Почему не их?
— А потому, что тогда уж и вовсе врагов своих разъяришь. Цесаревен упомянуть можно после Петра Алексеевича. Ежели у него потомства не окажется.
— Значит, не видать им престола? Ни Аннушке, ни Лизхен?
— Там видно будет. Что ты, государыня, о цесаревнах печёшься, когда тебя, слышь, тебя самою с престола стряхнуть могут. А уж тогда цесаревнам и вовсе ни во веки веков ходу не будет.
— Но если ты объявишь царевича, то тогда и бабку его...
— Из монастырского заключения в столицу везти придётся? Об этом думаешь? Ну, тут мы и повременить можем. Главнее, чтобы права мальца признать.
— Но, Данилыч, его отец... и ты сам...
— Что его отец? Казнил его покойный государь. Значит, на то его воля была — не нам его сегодня судить. Да и забыла, что ли, без малого сто тридцать вельмож приговор смертный подписали — не один Меншиков. А с таким объявлением и казнь, глядишь, позабудется. Не будет костью в горле торчать.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
Двор изменился. И говорить нечего: изменился. Людишек новых толпа. Где тут разобраться, кто откуда. Государыня матушка вдруг роднёй обеспокоилась, а родни оказалось видимо-невидимо. Неотёсанные. Полуголодные. До всего жадные. Два братца государыниных с семействами да ещё сестрицы две с семействами.
Мало что из своих краёв в Петербург понаехали — места во дворце требуют. Ни обихода, ни порядков не знают. Одеться толком не могут — ни один моднейший портной не поможет. В зале танцевальной отдельно стоят, всех рассматривают, перешёптываются.
Лизанька сказала: государыне бы подсказать, чтобы поучили их. Ведь перед нашей знатью неловко. А кто скажет? Кто решится. Государыня на молодого Левенвольда как на образ святой смотрит, глаз отвести не может. Родные из Лифляндии тоже дивятся.
Разве это двор Великого Петра! Ещё немного, о нём никто и не вспомнит. Родственники лифляндские больше всего герцога удивляют, его придворных. Как есть мужичьё. Герцог осмелился как-то сказать — на полуслове оборвала: чем вы, ваше высочество, их лучше? А на сердце тоска.
Старые придворные разошлись вне всякой меры. Один Девиер чего стоит. Ведь скороходом всего-навсего у батюшки был. Кое-как в денщики выбился. Зато изловчился на Анисье Меншиковой жениться.
Уж так-то она нехороша, так нехороша, а он на первых порах вьюном вился, комплименты сыпал, подарки возил. У Анисьи он первый, да и Данилычу сестру с рук сбыть некрасивую да необразованную куда как по мысли пришлось.
Сосватались. Свадьбу сыграли. А у Анисьи братнин нрав возьми да объявись. Недолго выходки муженька терпела, хоть и получил Девиер на женитьбе своей должность преотличную — как-никак первый обер-полицмейстер петербургский!
Порядку не навёл, а безобразничать стал, как только государь батюшка терпел. Взяток брал сверх всякой меры. Над гарнизоном своим и то издевался. Анисья Даниловна поглядела-поглядела, намучилась да и ушла от супруга богоданного. Светлейший её сторону принял — как бы иначе. А сделать с Девиером уже ничего не смог. Сам у государя в подозрении находился. Государь батюшка как-то сказал: с Прутского похода противу светлейшего следствие вести велел. Только государыня родительница все разные резоны ему представляла, чтобы повременить с судом окончательным. Всегда от Данилыча в зависимости была.
Вот и теперь Девиер во дворце что у себя дама. Надысь маленькому великому князю сказал, мол, поедем со мной в коляске, тебе же лучше будет — воля вольная делать что заблагорассудится».
К Софье Скавронской, кузине нашей богоданной, подлетел, в танцах её закружил. Комплименты говорить стал: не гляди что в летах: «за меня выйдешь, царицей всего Петербурга станешь».
Молчит государыня. Молчат и остальные. А там и ко мне с бокалом вина подошёл — с ним выпить. Наотрез отказала. Удивился: «ты, мол, что, цесаревна, не в своём королевстве, не в Голштинии своей, если ещё туда доберёшься. Так что Девиером, пока суд да дело, не пренебрегай: себе дороже».
Лизанька на всё смеётся. Что это ты, сестрица, никак всерьёз принимать их всех решила? Подожди, Аньхен, подожди. Если будет на нашей улице праздник, тогда за всё сочтёмся. Ты запоминай, запоминай лучше, сестрица, а виду не показывай — так больше о людях узнаешь. Так они перед тобой во всю ширь подлости своей развернутся. Мажет, и права Лизанька. На вид болтушка-веселушка, а на деле умница и характер твёрдый. Неуступчивая.
А родственники — Карл да Фёдор Самойловичи Скавронские — им государыня графский титул изволила дать. Не сразу. На второй год правления своего. Может быть, завещанием за титул ихний заплатила. Иначе бы светлейший ходу её желаниям не дал. Государыне давно надоело с роднёй прятаться. При государе батюшке и речи о них быть не могло, разве что денег понемногу им давала, а тут... У всех детей множество, особенно у Христины, сестрицы государыниной. Ей фамилию придумали — Гендриковы, по имени её супруга Симона Гендрика. Герцог смотрит, только губы кривит...
Часть V ГЕРЦОГИНЯ ГОЛШТИНСКАЯ
Цесаревна Анна Петровна
Завтра венчание. Не уговорила матушку. Да и где уговорить! У неё и мыслей своих нет. Всё по-меншиковски делается. Всё как светлейший решит.
Боится... Может, и боится. Не это главное — от себя все заботы прочь гонит. Не привыкла государственными делами заниматься. Охоты никогда не имела. Государь батюшка её рассказами не баловал.
Неправду — неправду говорю. Самой себе признаться боязно: о другом думает. Левенвольде молодого на шаг от себя не отпускает. При дворе траур. Глубокий. Государь батюшка не похороненный лежит. Лишнего разу в собор не зайдёт. Смеётся...
Смеху никогда у неё такого не слышала. А тут ожила вроде. По зале танцевальной пробежаться решила. Где там! Одышка прихватила. У Лизаньки всё проще простого — мол, неизвестно, как бы государь батюшка с родительницей распорядился. Вот она и радуется: обошлось. Чисто дитя малое!
Заговорила о венчании — отмахнулась. Мне бы вас с Лизанькой поскорее устроить. Жаль, что в Петербурге жить будешь. Хозяйкой себя не почувствуешь, а надо бы, Аньхен, надо.
Мамка сказала, поверье такое есть: какое имя — такая судьба. Родители не думают, а детям расплачиваться приходится.
Вспоминать принялась, какие Анны на земле нашей были. И выходит, все плохо кончали.
Анна, иначе её Янкой звали, — дочь самого Великого князя киевского Владимира Мономаха. Дочь великого киевского князя Всеволода Первого и дочери императора Византии Константина Мономаха. Судьбы своей при таких-то родных не нашла. Постриглась в Киеве в церкви святого Андрея, а там и сама монастырь основала в честь своей святой покровительницы.
Анна, в монашестве Ирина, дочь шведского короля, супруга великого князя Киевского Ярослава I. Семья не сложилась, а святой почитали. Мощи, кто-то говорил, открыли в Новгородской Софии.
Анна Кашинская, уж какая почитаемая святая. Дочь князя ростовского Дмитрия Борисовича. После мученической смерти супруга, тверского князя Михаила Ярославича постриг приняла и на житьё к сыну в Кашин уехала — отсюда и Кашинская. При государе дедушке Алексее Михайловиче канонизирована была.
Кто бы сказал, почему так много государь Иван Васильевич Грозный с этим именем мороки имел. Была у него третья по счёту супруга — Анна Колтовская. Через три года насильно постриг. В московском монастыре Ивановском век свой доживала.
Анну Васильчикову и вовсе держать при себе не стал. Сразу в монастырь отправил, да ещё, владыка Федос рассказывал, сто рублей обители на помин её души приказал выплатить. Только-то и всего.
Дочку Анну имел — в младенчестве умерла. Так в духовной ненародившейся Аннушке от любой жены наследство оставлял.
Не из-за бабки ли своей, Анны Глинской, княгини Литовской? В Москве её простолюдины не иначе как ведьмой и колдуньей почитали. От неё будто бы все в городе пожары и бедствия. Это она у живых людей сердца вырывала да их кровью улицы кропила, отчего и вспыхивало повсюду негасимое пламя. Не могли простить, что сербиянкой была. Гордой. Нетерпимой. К людям недоброй.
Вон и нашей герцогинюшке Анне Иоанновне счастья не досталось. Век среди немцев коротает, деньгами бедствует. Сказывали, будто Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин, что имениями её герцогскими управляет, в фавор вошёл.
Ну, и что от литании такой утешение или огорчение пришло? Не надо бы думать. Глупость одна. А на сердце горечь такая: на всю жизнь с герцогом. На всю!..
Пётр Андреевич всё утешал: до свадьбы не дойдёт. Так вот дошло ведь!
Герцог весь сегодняшний куртаг от Лизаньки не отходил. Напоследях. Себя оправдывал: теперь, мол, родственниками становимся. А у обоих глаза растерянные. Грустные.
* * *
Екатерина I, цесаревны Анна Петровна,
Елизавета Петровна
Не иначе что случилось в государыниных покоях. Где это видано, чтобы государыня в семь часов поднялась, за прислугой послала. Другое дело — при покойном государе императоре Петре Алексеевиче. Тогда и завтрак не позднее шести подавали. И государыня к тому завтраку уж и одета, и убрана, и с супругом шутить принимается. Теперь порядки новые. Ранее десяти, а то и одиннадцати и звонка царицыного ждать нечего.
Проснётся её величество, так ещё час-другой в постели лежать остаётся. Встанет, да и снова в постельку. А уж ежели кто из любимых визитёров нагрянет, то и вовсе к полудню убираться станет. А тут...
Да ведь кабы за светлейшим послала — без него ни шагу. А государыня велела немедля старшую цесаревну к ней привести. Немедля! А коли ещё спит, разбудить и в ночном платье к ней доставить. Камер-лакеев любопытство разбирает. Даже того не знает государыня, что Анна Петровна ни в чём батюшкиных обычаев не изменила. И подымается рано, и в саду променад непременно делает, прежде чем за кофий примется. А уж там книжки. Сколько их перечитала — не оторвёшь.
— Вы хотели меня видеть, государыня?
— Я не потревожила тебя, либхен? Помешала тебе увидеть самый сладкий утренний сон?
— О, нет, государыня, я уже вернулась с прогулки.
— В такую погоду и так рано? Но это дело твоё. Я хотела тебя спросить, либхен. Ты много больше меня знаешь, о чём толкуют во дворце.
— Я не охотница до дворцовых толков, государыня.
— Знаю, либхен, знаю, но может быть случайно, сама того не желая. Во дворце множество людей.
— В моих покоях бывает только моя прислуга, государыня. И — разве за этим не следят?
— Но это все мелочи, либхен. Не будем их касаться. Я о другом. Не слышала ли ты разговоров, что при дворе появился беглый монах?
— Монах при дворе? О, государыня, но как бы он выглядел среди вашей свиты? Если только не был переодетым. Но и тогда кто бы его допустил во дворец?
— Нет, нет, я неправильно тебя спросила, либхен. Не в самом дворце, но где-то около, в Петербурге, во всяком случае. У него странное имя, или он называет себя им — Хризолог.
— И что же он делает в Петербурге? Предсказывает судьбы или толкует предзнаменования?
— Не может быть, чтобы ты ничего о нём не слышала! Ты просто хочешь скрыть это от меня. Но, либхен, это касается не только твоей матери, но и нас с тобой обеих.
— У вас нет оснований меня в чём-либо подозревать, государыня.
— О, я не подозреваю, либхен, вовсе нет. Ты просто можешь не понимать, как важен этот Хри-зо-лог. Он хочет видеть великого князя и ищет путей встречи с ним.
— Но это же полнейшая нелепость. Великий князь мальчишка, ни в чём не проявляющий зрелости ума. Видеться с ним? Монаху? С таким странным именем. Может быть, это просто сумасшедший бродяга?
— Аньхен, мне кажется, ты разыгрываешь меня, и зря. Монах объявил по секрету, что должен передать великому князю привет и письмо — ты только подумай! — его австрийской тётки-императрицы. Каково!
— Если это соответствует действительности, над этим можно было бы подумать. Если...
— Если! Боже, либхен, как ты невыносима со своими холодными рассуждениями! Неужели тебе не понятно, что австрийский двор думает о царевиче Петре Алексеевиче как о наследнике престола?
— И что же из того? Они имеют для этого все основания.
— Да, но на престоле сижу я. Я, либхен, твоя мать! И я не собираюсь его уступать какому-то внуку покойного мужа.
— Но разве об этом идёт речь? Почему это не может быть простой жест родственного внимания.
— А почему не дипломатическим путём? Александр Данилович сказал, что это должен был делать австрийский посланник. Слышишь?
— Но почему, государыня, вы спрашиваете меня, когда у вас есть такой опытный советник, как светлейший князь?
— О, ты дуешься на Александра Данилыча. И напрасно! Он очень заботится о вас с Лизанькой и чтит память покойного государя.
— Государыня, сейчас слишком ранний час, чтобы обсуждать достоинства и недостатки князя Меншикова. И мне решительно нечего сказать о бродячем монахе.
— О, ты сегодня не в настроении, либхен, и тем не менее тебе придётся оказать мне большую услугу.
— Вы всегда мажете распоряжаться, государыня.
— О, Господи, только не так официально! Либхен, ты знаешь языки, на которых изъясняется монах, и я хочу, чтобы ты сама послушала его объяснения. Ты же знаешь, государь никому, решительно никому не вправе доверять. Все переводчики относятся к Александру Данилычу и, конечно, скажут только то, что ему угодно. О, не думай, что этого потребует от них светлейший! Это они сами, на свой разум, захотят угодить ему. Я же хочу знать правду, насколько опасен этот такой несимпатичный мальчик, которого приходится терпеть.
— Терпеть, государыня? Но вы же сами назначили его своим наследником. Такова была ваша воля.
— Нисколько не моя воля, Аньхен, конечно, не моя, а обстоятельств. С ними решительно ничего нельзя было поделать.
— Я не вправе спросить, какие именно обстоятельства, государыня?
— А я и не смогла бы тебе их полностью объяснить. Но Александр Данилович в них полностью разобрался. Если хочешь, я попрошу его всё объяснить снова тебе.
— Нет, государыня! Нет! Я не хочу никаких объяснений, и увольте меня от разговоров с князем Меншиковым. Для меня он злой дух батюшки и всего нашего семейства. Вы не позволите мне теперь откланяться, государыня?
— Пожалуй. Но ты и впрямь ничего не слыхала о монахе?
Не чаяла от государыни родительницы вырваться. Никогда, кажется, такой испуганной не видала. Лицо пятнами алыми. Руки платочек рвут. В глаза смотрит, да так пристально, будто мысли прочесть хочет. На немецком говорит да на двери оглядывается.
В покоях Лизанька притаилась. Дождалась пока двери затворю.
— Что, Аньхен, что?
— Не пойму, сестрица. О монахе каком-то государыня расспрашивала только что не с пристрастием. В толк не возьму...
— О Хризологе. А почему тебя, Аньхен?
— Так ты и имя его знаешь, сестрица?
— Как не знать. Все придворные шепчутся.
— Как же я-то не знала?
— Ты! Да ты, сестрица, акромя книжек своих ничего ни видеть, ни слышать не хочешь. Все о Хризологе толкуют.
— А что здесь толковать?
— Как что, сестрица? Полагают, что императрица австрийская проверить решила, не чинят ли её племяннику каких обид после несчастной жизни его родительницы.
— Да полно тебе, Лизанька, кто это в монаршьих семьях о родственниках беспокоиться станет. Николи такого не бывало. А кабы императрице австрийской и впрямь нужда такая пришла, через дипломатов своих всё бы во всех подробностях вызнала.
— И то правда, Аннушка. Послушай, сестрица, а что если...
— Ну, ну, продолжай, Лизхен. Что тебе в голову пришло?
— Не то что пришло — не могло не прийти. Коли и впрямь принцесса Шарлотта жива осталась и бегством спаслась, не она ли сыночку весточку о себе подать решилась? Может, передать что. Материнское благословение, а?
— Благословение? И ради него... Нет, сестрица, другое тут. Сама рассуди, кабы от императрицы австрийской монах прибрёл, тут же бы его в Тайный приказ забрали, с пристрастием допросили, а здесь...
— А здесь велено монаха, ни Боже избави, не трогать. Сего разговору с Данилычем никому не расспрашивать. Сказывают, в обратный путь Хризолога готовят со всяческим почтением.
— Каким ещё почтением?
— А таким, что сюда Хризолог чуть что не пеший прибрёл, а обратно на перекладных до границы повезут на государственный кошт, да ещё и под незаметною охраною — чтоб какие разбойники-воры по пути не ограбили.
— Вот-те дела!
— А ты, сестрица, говоришь! В одном монаху-бродяге наотрез отказали: с великим князем повидаться. Даже издаля на царевича посмотреть, хоть Христом Богом просил.
— Ещё и просил? Выходит, толковали с ним по-человечески.
— В том-то и загадка, сестрица. Герцог Карл у всей прислуги всё вызнавал, денег не жалел.
— И мне ни слова?
— Ты уж не серчай, Аньхен, строгая ты у нас.
— Да Бог с ним. Значит, ничего у монаха не получилось.
— Это как сказать, сестрица. Маврушка доведалась, что не с великим князем — с сестрицей его повидался монах.
— С Натальей? Эта ещё как?
— А так, что привели его и за боскеты спрятали, когда Наталья Алексеевна гуляла. Тут-то монах и выскочи. О чём успел сказать, неизвестно мне, а вот ручку наша великая княжна ему для целования подала. Слушала куда как внимательно. А потом и монах её благословил. Когда у Натальюшки спросить потщились, ото всего отперлась, будто никого и не видала.
— Вся в семейство наше — ничего не скажешь.
— С нами-то, с нами что будет, Аньхен?
* * *
Цесаревны Анна Петровна
и Елизавета Петровна, М. Е. Шепелева
Нет больше государыни Екатерины Алексеевны. Прибралась в одночасье. О судьбе дочерей не позаботилась. Не то что о завещании. Завещание написать успела, а вот дочерям в нём места не нашлось. Лизанька одно твердит: не оставят они нам места, Аньхен, вот увидишь, не оставят. Лишние мы здесь. Ненужные. И нищие.
У одной Маврушки всегда на всё утешение находится:
— Да полно тебе, государыня царевна, у Бога не без милости. Чай, проживём не хуже других.
— Как Меншиков?
— А ты ему, Елизавета Петровна, не завидуй. Почём знать, чего ему ещё повидать придётся. Помнишь басню латинскую, как Фортуна нищему захотела мешок золотыми насыпать. Об одном предупредила: не жадничай. Как одна монетка на землю упадёт, так и весь мешок в прах рассыпется. Думаешь, такого с Данилычем не случится? Подавится, треклятый, как есть подавится. Куски такие хватает. Жевать перестал — всё заглатывает.
— Как бы нам до гробовой доски случаю его с Фортуной не дожидаться.
— Полно, сестрица, и впрямь крушишь ты себя без смыслу. Я вот всё о другом думаю. О том, какой месяц январь для нашего роду страшный. Бога благодарить надобно, коли пережить его удаётся.
— Какой январь, сестрица? О чём ты?
— А ну-ка вспомни, сестрица. Великая Старица, баба наша, 27 января преставилася. Дедушка, государь Алексей Михайлович, почти что день в день с родной бабой своею — 29 января.
— Аньхен, но ведь и наша баба, государыня царица Наталья Кирилловна, 25 января Богу душу отдала. И батюшка наш государь Пётр Алексеевич — 28 января. А теперь и государыня матушка... Страшно-то как.
— О том и речь, сестрица. А я вот в этот самый месяц и родилась, в день кончины Великой Старицы. Не будет мне судьбы. Теперь-то понятно — не будет.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
Господи! Господи! Да что же это? Круговерть такая пошла, что уж и вправду о жизни заботиться надобно. Живой бы уйти.
Обручение императора[21]. Мальчишки этого ненавистного. Что же — сначала батюшка государь... потом государыня матушка... Нет цесаревны. В помине нет. Как на той грифельной доске — так и стоит перед глазами.
Феофан мало того, что новому императору служил, так перед государем батюшкой никогда не извивался. Там достоинство своё соблюдал, а тут... Подошёл и, губ не разжимая, шепнул: надобно государыне-невесте к ручке подойти. Ахнула: мне? Цесаревне? Кивнул согласно: вам же на пользу, ваше высочество. В жизни никогда! Плечами пожал. Отошёл.
Светлейший взглядом следит. Значит, сам его и послал. Ждёт, что получится. Сама к Лизаньке бросилась. Всё сказала. Она в смех: мне, мол, меншиковской Марье? Да что там толковать!
Феофан ещё раз мимо прошёл: зря, государыня цесаревна, ой зря. Спиной повернулась. Герцог подошёл. Комплимент длинный сказал. Позже мне толковать стал: меня благодарите, что дело замял. Пётр Андреевич с Девиером тоже к ручке не подошли. Остальные заторопились. В черёд стали. Комплименты готовят.
Лучше не вспоминать. Двадцать пятого... мая... А двадцать седьмого как снег на голову — приговор обоим. Петру Андреевичу! В его-то восемьдесят лет. В Соловецкий монастырь.
Жизнь какую граф прожил. По годам перелистать, не поверишь: столько на долю одного человека. Служить при дворе стольником стал, когда государя батюшку на престол избрали. В бунте стрелецком не за Нарышкиных стоял. Государь батюшка сколько раз повторял, что Толстой кричал, не кто иной, как Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили.
Долго государь батюшка обиду помнил, веры к нему никакой не имел, даром что в Азовском походе лучше других себя выказал. Меншиков Петра Андреевича перед государем батюшкой обелил, изловчился.
Да и не справиться никому было с царевичем Алексеем Петровичем, не вернуть его в Россию на погибель, если бы не Толстой.
Что мне тогда — десять лет было. Только и запомнилось, как то тут, то там при дворе толковали: страшный человек. Следствие над царевичем вёл.
В суде участвовал — громче других смертной казни требовал. Сколько поместий за это получил да ещё Тайную канцелярию. Чтоб крамолу в пользу казнённого выкорчёвывать.
Господи! Слово-то какое сорвалось: казнённого! Ну, был приговор. Ну, согласились между собой о казни все сенаторы. Только не дожил царевич до казни. Государь батюшка сказал: вольной смертью помер, и нечего людей с толку сбивать.
Сам-то Пётр Андреевич проговорился. Один-единственный. Мол, меншиковских рук дело. Оправдал его: всё равно один бы конец был. Государыня матушка в день своего коронования графским титулом Петра Андреевича наградила.
Из-за меня рассорился и со светлейшим, и с государыней родительницей. Меня хотел на престоле видеть. Меня... А теперь.
Месяц после ссылки Петра Андреевича прошёл. Да нет, и того меньше — недели три обручённого жениха Лизанькиного епископа Любекского[22] не стало. Сестрица уж к отъезду готовиться стала. Как птичка на заре, щебетала, радовалась. Нет епископа. Никого нет.
Никогда не видывала, чтобы Лизанька такими горючими слезами обливалась. И всё втихомолку. Чтоб никто не увидел. Не услышал. Вечерами заходила. Руки себе в кровь кусала. Глаза преогромные. Под глазами круги чёрные. А терпит, терпит, голубушка.
Да разве вытерпишь. Александр Данилыч — мало ему государыни-невесты — решил ещё и сына на младшей царевне-внуке женить. На Наталье Алексеевне младшей. Всё торопится. Всё под себя гребёт. На именины императора, 29 июня, орден Екатерины именем императора и обеим дочерям дал, и Варьке-горбунье. Покрасоваться. Матушкин орден. Смотрит. Глаза бешеные. Радостные: всего, мол, моё семейство заслуживает. Никогда, мол, России с нами, Меншиковыми, за заслуги наши не расплатиться.
Третьего июля, на день Голиндухи, вернул из ладожского монастыря царицу постриженную Евдокию Фёдоровну. Со всяческим почётом. В Петербурге селить не стал — в московский Новодевичий монастырь устроил. Еле-еле внуков бабку навещать заставил. Ему-то нужно, им — нет.
В те же дни герцога к себе пригласил. Не меня — герцога одного. Разговор, видно, злой вышел. Карл вернулся — от гнева ртом воздух ловит, за горло держится.
Светлейший его за службу поблагодарил, да и сожалеть начал, что пора уже герцогу с супругой восвояси собираться. Мол, в родных краях давненько не бывали. Намекнул: так и власти лишиться недолго.
У Карла ума хватило начать торговаться — чтоб ещё в Петербурге пожить, в русский службе. Светлейший злиться начал. Не он, мол, решает, а император. Так вот императору присутствие герцога Голштинского в его столице неудобно и неприятно. Не говоря, что и двор в Петербурге недолго задержится: в Москву на коронацию поедет, а там герцогу и вовсе делать нечего, иначе придётся представителей других иноземных государств приглашать.
— Что делать, что делать будем, герцогиня!
— Как что? Соберёмся и поедем.
— Куда? Да знаете ли вы, сколько содержание двора одного стоит? Сколько надо дворец и замок загородный в порядок приводить? Ваш родитель обещал существенную поддержку.
— Но императора нет в живых.
— Но обязательства предыдущих монархов берут на себя их преемники. Во всяком случае, так принято во многих цивилизованных странах.
— Мне не приходят на память подобные примеры. Скорее всего они очень немногочисленны и связаны с особыми обстоятельствами.
— Наши обстоятельства совершенно также следует назвать особыми. Русская корона не выполнила ни одного из данных мне при заключении брака обещаний. Ни одного! Всё, что я выиграл в результате этой матримониальной комбинации, это супруга, которая и не думает заботиться об интересах моего дома.
— К кому вы намеревались бы обратиться с вашими напоминаниями?
— Да хотя бы к тому же Меншикову, если бы у вас хватило гибкости и ума не портить с ним отношений и не удовлетворять свою спесь за счёт его дочери, которая и так станет российской императрицей.
— Я думаю, наш разговор не имеет смысла, герцог. Нам придётся уехать, и как можно скорее.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, А. Г. Строганов
В личных покоях герцогини Голштинской как в пустыне. Никто не забежит с визитом, с новостями. Прислуга вся разбрелась. Те, кому с цесаревной в Голштинию ехать, с родственниками прощаются. Да сколько их! Герцог сказал, достаточно личной прислуги. Остальных на месте брать дешевле выйдет. Да и не одно это. Понятно, немецкая прислуга лучше за новой герцогиней доглядит. Обо всём думать перестала — лишь Маврушка Шепелева осталась. Самая близкая. После Лизаньки единственная.
Камер-лакей в дверях:
— Ваше высочество, государыня цесаревна, посетитель к вам. Соблаговолите ли принять?
— Посетитель? Кто ещё?
— Барон Александр Григорьевич Строганов. Желает апшид вам, государыня, сложить. Сказывал ему, что времени у вас нету, очень просит.
Сердце оборвалось. Только сейчас поняла, как ждала, надеялась. Да какая тут надежда! И вот...
— Государыня-цесаревна, хотя и сознаю, насколько мой визит не ко времени, но не мог удержаться, чтобы, нарушая все приличия, не просить о милостивой аудиенции.
— Как вы решились, ваше сиятельство? Вряд ли ваш визит придётся по сердцу отцу царской невесты.
— Я всю жизнь пользовался достаточной независимостью, чтобы подчинить себя прихотям светлейшего. И мне глубоко безразличны его настроения. Скорее, полагаю, это он должен искать моей благожелательности.
— Я бы не хотела, чтобы у вас возникли какие-нибудь компликации.
— Я бесконечно признателен вам, государыня цесаревна, за благожелательность и заботу, но не беспокойте себя из-за такой ничтожной креатуры. Главное — я получил возможность снова увидеть вас.
— И по всей вероятности, в последний раз, Александр Григорьевич. Если для вас представляло немало трудностей нанести мне визит в России, то что же говорить о достаточно далёком Киле. А ведь мы с вами почти родственники.
— Как бы я смел, государыня цесаревна...
— Подождите, подождите, господин барон, давайте сочтёмся родством. Ваш младший брат, Сергей Григорьевич, женат на Софье Кирилловне Нарышкиной. Разве не так?
— Конечно, так, государыня цесаревна.
— А на вашей племяннице...
— Марии Николаевне.
— Вот-вот, Марии Николаевне, которая жила и воспитывалась в вашем доме, женат мой родной дядюшка Мартын Карлович Скавронский. Я не ошибаюсь? И моей сестрице посчастливилось гораздо больше, чем мне: Сергей Григорьевич всегда пребывает в её свите.
— Вы не обидитесь на меня за откровенность, государыня цесаревна, если я на правах старшего брата скажу, что они оба ещё легкомысленны, и балы занимают их воображение гораздо больше, чем вас книги.
— Ваша супруга так же, как вы, увлечена чтением, барон?
— Нет, ваше высочество. Моя Татьяна Васильевна ничего не заимствовала из серьёзности своего дяди, фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Ей определённо были бы ближе предпочтения царевны Елизаветы Петровны.
— Каждому своё, лишь бы между супругами царило согласие, мне кажется. Но я давно хотела у вас спросить, Александр Григорьевич, почему вы, получив чин камергера при короновании моей родительницы, не принимаете участия в придворных церемониях и, как я недавно узнала, даже не берёте жалованья?
— В жалованье, ваше высочество, я, по счастью, не имею нужды, и потому предпочитаю не ставить себя в положение зависимого человека, а придворные церемонии...
— У вас есть особые причины их избегать?
— Пожалуй, ваше высочество.
— Это секрет?
— От вас ни в коем случае, но...
— Ваше семейство всегда пользовалось особым благоволением государя батюшки. Государь рассказывал мне, какой отличный приём вы устроили ему в своём доме в Нижнем Новгороде.
— Когда его императорское величество направлялся в Персидский поход. Я постарался, чтобы приём соответствовал величию нашего государя.
— И ведь это во время того же похода государь пожаловал вам с братьями баронское достоинство.
— Государь это сделал во время празднования своего пятидесятилетия, 30 мая 1722 года в Казани.
— Я знаю, что и государыня родительница пожаловала вашу матушку статс-дамой во время коронации своей.
— Да, ваше высочество. Но моя матушка предпочитала этому портрету императрицы портрет государя императора Петра Алексеевича, который всегда носила на голубой ленте.
— И ни одним из этих преимуществ вы в последние годы не пользовались.
— Ваше высочество, я буду откровенен. Строгановы служили государю императору Петру Великому. Новое правление, тем более начинающееся правление Петра Алексеевича, к нам отношения не имеет. Предпочитая жизнь в свих отдалённых владениях, я жестоко наказывал себя, и чувствую сейчас это особенно остро.
— Вы о чём, барон?
— Я был лишён возможности видеть вас, цесаревна. Говорить с вами. Делиться мыслями. Это настоящая и невосполнимая потеря.
— Поверьте, барон, и для меня тоже. Оставляя Россию, я могу позволить себе слово правды.
* * *
Цесаревна Анна Петровна,
И. Н. Никитин
— Иван! Братец! Глазам своим не верю. Гляди-ко, карета с гербами голштинскими во двор въехала. Лакеи придворные. Кучер. Кто бы это быть мог? Неужто заказ какой?
— Полно, Роман, какие от голштинцев заказы могут быть. Не в чести мы с тобой, не в фаворе, а голштинцы только на деньги государынины и перебиваются. Какая у них своя воля.
— Гляди, гляди, камер-лакей на крыльцо идёт. Побегу-ка навстречу.
В прихожей пусто. Учеников нету. Прислуга здесь не дежурит. Да и какая у живописцев прислуга: стряпуха да пара мужиков в услужении. Камер-лакей в дверях остановился:
— Нельзя ли видеть господина придворного живописца Ивана Никитича Никитина? Герцогиня Голштинская Анна навестить его мастерскую желает.
— Как нельзя! Милости просим. Дома Иван Никитич, дома, а как же.
Герцогиня как есть в двери впорхнула. Иван в нижайшем поклоне склонился. Девка побежала в мастерской пыль смахнуть пока что.
— Я рада вас видеть, мой мастер.
— Ваше высочество, государыня цесаревна, честь какая.
— Дело у меня к тебе, Иван Никитич.
— Так пошто было себя трудить, государыня цесаревна? Я бы сам примчался по первому вашему зову. Хотя...
— Что хотя, мой мастер? Мы можем говорить по-немецки? Так будет непонятно для прислуги.
— Как прикажете, ваше высочество.
— Вот вы сказали «хотя» — что это сомнение значит? Я так давно не видела вас во дворце и не слышала о ваших работах.
— Со дня смерти государя императора, я так полагаю, государыня цесаревна.
— Но почему же вас не видно? У вас не было заказов от императрицы? Тем не менее звание придворного живописца...
— У меня нет более этого звания, ваше высочество.
— Как нет? Но я первый раз об этом слышу. Как такое могло случиться? Вы всегда были любимцем государя батюшки.
— Может быть, именно поэтому, ваше высочество. Просто кабинет-секретарь Макаров ещё в начале августа 1725 года прислал указ о переводе меня вместе с живописцем Готфридом Таннауэром в диспозицию Канцелярии от строений.
— Как? Вместе с простыми малярами? Это невероятно!
— Тем не менее именно такое распоряжение пришло из Кабинета её императорского величества. И с соответствующими Канцелярии окладами. Это значило, что я должен ежедневно в положенный час являться на работу, получать соответствующий урок вместе с остальными живописцами, расписывающими стены.
— Мне остаётся повторить: это невероятно! И это при вашей славе! Притом, что портреты вашей кисти украшают все дворцы. Что же вы пережили, мой мастер!
— Правда, ваше высочество, в тот же день, не знаю, чьими стараниями, указ был изменен в том смысле, что мы оба с Таннауэром были оставлены в диспозиции Кабинета, но для выполнения всяких подручных работ. От былого положения придворного живописца не осталось и следа. Теперь мне полагалось на каждый заказ выписывать необходимые материалы — краски, кисти, полотно, даже рисовальный уголь и отчитываться в каждой потраченной копейке.
— Вы и сейчас находитесь в таком положении, мой мастер?
— Да, ваше высочество. Заказов на портреты нет никаких.
— Но что ещё вас заботит, мой мастер. Я чувствую, вы чего-то не договариваете. В ваших глазах, голосе тревога. И ваш дворник у ворот так явственно испугался моего приезда.
— О, ничего такого, что могло бы занимать ваше внимание, ваше высочество.
— Но я настаиваю, мой мастер.
— Вы вынуждаете меня к совершенно излишней откровенности, ваше высочество.
— Да, такова моя воля. И — вам надлежит слушать дочь своего государя. По-прежнему любимого, как я надеюсь.
— Величайшего, ваше высочество. Речь идёт о том, что по возвращении моём с братом из Италии государь Пётр Алексеевич распорядился дать мне вот этот самый двор у Синего моста и построить на нём мастерскую.
— В которой мы сейчас находимся, не правда ли? Я не знаю других подобных, но эта мастерская кажется мне очень импозантной. Вы довольны ею, мой мастер?
— Ещё бы, ваше высочество. Но здесь есть одно «но».
— Какое же?
— Государь устно распорядился дать мне двор и построить мастерскую. Письменного распоряжения нет, и по своему новому бесправному положению я боюсь лишиться и того, и другого.
— У вас есть какие-то основания для беспокойства?
— К сожалению, и очень реальные. У меня уже спрашивали о необходимых документах. Правда, пока намёком, но это плохой признак. Мастерская — это всё, что у меня есть.
— И ещё ваш московский дом. Но он далеко, и вам вряд ли удастся в нём бывать, не то что жить.
— Да, на Тверской улице.
— В приходе Ильи Пророка.
— Вы знаете даже такие подробности, ваше высочество?
— И ещё то, что он соседствует в межах с домом Строганова, не правда ли? Меня веселит ваше изумление, мой мастер.
— И здесь вы не ошиблись, ваше высочество.
— И вы поддерживаете добрые отношения с вашими московскими соседями. Вы, кажется, писали персоны всего их семейства? И очень удачно. Во всяком случае, цесаревне Елизавете Петровне довелось видеть в вашей мастерской портрет Сергея Григорьевича Строганова, писанный французским манером. Она очень его хвалила. Вы ведь его только что кончили?
— Да, ваше высочество. Барон Сергей Григорьевич счёл возможным заказать свою персону у опального живописца.
— Вы забываете, мой мастер, Сергей Григорьевич сам может быть с полным основанием назван опальным придворным. Он удалился от двора. И государыне представляло немало труда пригласить его на любой придворный праздник, тогда как старший его брат вообще их откровенно избегает. Кстати, вы никогда не писали портрета Александра Григорьевича?
— Писал, ваше высочество, и тоже сравнительно недавно. Строгановы — единственное знатное семейство, которое не думает нужным считаться с придворными рифами и мелями.
— Мой мастер, они слишком богаты, чтобы снисходить до возни придворных страстей. Государь много раз говорил, сколь многим он обязан Строгановым в чисто материальном смысле и как бережно следует с ними обходиться. Он дарил всё их семейство симпатией и доверием, которое все они безусловно заслуживают. Но — у вас нет здесь хотя бы эскиза портрета Александра Григорьевича? Я хочу взять с собой в Голштинию небольшую галерею портретов моих здешних друзей.
— К сожалению, нет, ваше высочество. Но если бы вы захотели такой портрет иметь, я бы решился попросить барона разрешить сделать копию.
— О, ни под каким видом! И вообще, меня устроил бы гораздо меньший размер. Я ещё не представляю себе своих апартаментов в Киле.
— Как это грустно, что вас больше не будет в Петербурге, ваше высочество. Мы все так надеялись...
— Не продолжайте, мой мастер! Ради Бога, не продолжайте. У немцев есть хорошая поговорка: не надо вызывать волка из леса. А портрет, совсем маленький портрет...
— Я успею его вам доставить до вашего отъезда, ваше высочество.
* * *
Цесаревна Анна Петровна, В. Н. Зотов
— Что и говорить: мало кто пришёл апшид сложить былой старшей цесаревне. С глаз долой — из сердца вон. Хотя бы так. А то и на глазах ещё была, уже отвернулись, уже дела свои без герцогини Голштинской делать стали. Потому так и удивилась, когда о генерал-майоре Василии Никитиче Зотове доложили. Он-то откуда, он почему?
Знала, старший сынок Никиты Моисеевича, первого учителя государя батюшки. Нечасто государь для цесаревны время находил. О прошлом вспоминать не любил. А вот о Никите Моисеевиче толковал, и не один раз, как по его просьбе ей учителей отыскивал.
Читать-писать царевичей дьяки да приказные должны были учить. Порядок такой — никаких учителей, тем паче церковных. Государю батюшке всего пять годочков исполнилось, когда привели к нему Зотова. А тот, хотя и молод, долгую приказную службу уже прошёл. Не перепутать бы, и в Челобитном приказе сидел, и в Сыскном и в Судном. Сам Симеон Полоцкий экзамен дьяку устроил. Всем доволен остался. Государь батюшка смеялся: мол, признали Никиту Моисеевича и в науках твёрдым, и во взглядах богобоязненным. Было с чего посмеяться, коли вспомнить, как потом Никита Моисеевич во Всешутейшем и Всепьянейшем соборе куролесил.
Другое удивительно. Выбирали Зотова Милославские. Занятия с царевичем-младшим занятиями, главное — должен был дьяк доглядывать за вдовствующей царицей, бабой нашей, Натальей Кирилловной. И надо же так изловчиться: учил государя батюшку грамоте, чтению, прошёл с ним книги божественные — Часослов, Псалтырь, Евангелие. Умел при том развлечь питомца потешными картинками — о них государь батюшка и дочке рассказывал.
Государь батюшка полагал, что Милославским всенепременно про их с государыней царицей жизнь рассказывал, всем потрафил, так что и по службе в приказе повышения получал, а как правительница царевна Софья Алексеевна к власти пришла, так не кого-нибудь — Зотова вместе со стольником Тяпкиным к крымскому хану отправила, где им обоим удалось Бахчисарайского мира добиться. Тут уж Никиту Моисеевича в ранг думного дьяка правительница возвела — отблагодарила.
Вот как только случиться могло — не успела правительница царевна Софья Алексеевна власти лишиться, Никита Моисеевич рядом с питомцем своим оказался. Батюшка молод был, так ведь покойная государыня Наталья Кирилловна уж насколько никому веры не давала, а здесь доверилась.
Не обманулись они с государем батюшкой — это верно. Но как попервоначалу-то перебежчика приняли? И в обоих Азовских походах Никита Моисеевич рядом с государем оставался, и у посольских дел стоял. Тратиться государь батюшка ни на кого не любил, а Никите Моисеевичу за верную службу широкой рукой платил. Может, что и позабыла, одно в памяти твёрдо осталося — кафтан на соболях государь Зотову пожаловал ценою в двести рублей — многие ли таким подарком царским похвастать могли! Да ещё вотчины, кубки серебряные немецкие с кровлей.
И в Воронеж, где флот наш строился, Зотов с государем ездил. Очень помочным был, государь батюшка отзывался.
— Ваше высочество, что прикажете генерал-майору Зотову ответствовать? Задумались вы, ваше высочество...
— И впрямь задумалася. Зови, скорей зови!
— Ваше высочество, разрешите изложить мои верноподданнические чувства в связи с вашим предстоящим отъездом из нашей державы. Долгом счёл ото всех Зотовых...
— Рада, генерал-майор, вас видеть, душевно рада. Задержала вас приёмом — о жизни вашего батюшки покойного задумалася. Сколько Никитою Моисеевичем вместе с покойным государем батюшкой пережито, и всё Никита Моисеевич надёжной опорой государю служил.
— Как мне благодарить, ваше высочество, за бесценную память вашу. Не было для моего родителя ничего дороже службы государю Петру Алексеевичу, императору нашему незабвенному. Ведь с тех пор как в 1701 году образовалася Ближняя канцелярия государя, родитель мой стал и думным дворянином, и печатником, а по чину ближним советником и ближней канцелярии генерал-президентом. Кажется, по тому времени никого ближе к государю нашему и не было.
— А ведь я, Василий Никитич, помню, как государь батюшка возил нас с сестрицей в дом вашего родителя у Каменного моста в Москве.
— У самых Боровицких ворот, ваше высочество. У стольника Одоевского родитель тогда его приобрёл — нарадоваться не мог. Государь вскоре родителя титула графского удостоил, а там и невесту ему сыскал — из фамилии Пашковых.
— Государь батюшка, помнится, всё посмеивался: больно свадьба особенная была. Венчание в кремлёвском соборе.
— С вашего позволения, ваше высочество, напомню вам этот эпизод. Оно верно, другого такого при нашем дворе не бывало. После Полтавы родитель мой решил отрешиться от мирских дел и в монахи уйти. К государю с просьбой отпустить его от мирских дел обратился.
— Ну, как бы государь батюшка без своего любимого учителя обошёлся.
— Так оно и было. Не только не обошёлся, а вместо пострига свадьбу родителю устроил со вдовой Стремоуховой, из фамилии Пашковых, родственницей денщика государева. Повенчали молодых у гробниц царей наших — в Архангельском кремлёвском соборе, а уж свадьбу гуляли шутовским обычаем. В вотчине их — селе Козьмодемьянском, что возле Всехсвятского и всего хозяйства Милетинской царевны.
— Но, Василий Никитич, я даже не заметила, что толкуем мы с вами на французском диалекте. Откуда же оный вам известен?
— Самоучкой, ваше высочество. Да ещё братья помогли. Младшие братья мои Пётр да Иван в число заграничных пенсионеров попали: Иван во Франции учился, там же и в переговорах дипломатических участие принимал, а Пётр Англию выбрал. Конон Никитич тоже во Франции организацию флота изучал.
— Было так, Василий Никитич, было, а теперь...
— Не могу выразить, ваше высочество, сколь горестно потомкам Никиты Зотова провожать из родной державы любимую дщерь нашего императора, кою все мы, согласно его намерениям, предполагали увидеть на престоле отеческом... Благослови вас Господь, государыня цесаревна всероссийская.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
Переезд получился невесёлым. Неизвестно, кто чаще назад на дорогу оглядывался: герцогиня ли с Маврушкой Шепелевой, герцог ли с графом Бассевичем. Даже Ренсдорф, правая рука графа, не скрывал подавленности.
Кому бы хотелось оставлять Петербург! Вместе с ним надежды — неужто фавориты нового императора станут заботиться об интересах голштинского правителя? Конечно же нет!
Вместе с надеждами материальная обеспеченность. От имени нового императора Меншиков отказал голштинцам в содержании и русском жалованье. Интересы светлейшего больше не выходили за границы Российского государства. Куда там! Одного Петербурга и даже дворца. Следить за каждым шагом императрицы и набивать карманы — всем стало понятно: светлейшему больше ничего не нужно.
Бассевич тем более досадовал, что увозил герцога в худшем положении, чем привёз его в столицу на Неве. И эта никому не нужная супруга, к тому же, кажется, уже забеременевшая. В этом смысле у молодой герцогини была превосходная наследственность: императрица Екатерина рожала до последних дней жизни своего мужа.
Конечно, лучше было не показывать виду, но... Общие старания приводили только к ещё более угнетённому настроению. За столом не слышалось ни разговоров, ни смеха.
И Киль. Бог мой, каким показался он небольшим и провинциальным после неухоженного и неустроенного, но строящегося Петербурга.
Наверняка герцог Карл был бы куда счастливее, если бы в карете с ним ехала младшая сестра герцогини. Но для Бассевича это не имело ни малейшего значения. На престолы вступают не для простого человеческого, тем более семейного счастья. Нынешняя герцогиня Анна могла бы многое, если бы... если бы было поле для игры. А его пока Бассевич не видел. Тем более что Российская держава из этой игры вышла, и кто знает, как надолго.
Герцогиня Анна тоже думала о сестре. Не ревновала. Скорее сочувствовала. В их семье, пожалуй, никому не удавалось семейное счастье.
Государыня родительница поторопилась сосватать Лизаньку с двоюродным братом герцога Карла — принцем Эйтенским, архиепископом Любекским. Лизанька радовалась: теперь не будем расставаться с сестрицей. Смешная радость!
Государыне родительнице и невдомёк было, что Меншиков одним махом убирал двух законных наследниц престола. Вот когда наступала его вольная воля!
Не вышло. Для державы, слава Богу, — не вышло. Лизаньку обвенчать не успели при государыне родительнице, а жених в день перед венчанием скончался от горячечной простуды. Едва у Лизаньки не на руках.
Замерла тогда сестрица. Не столько от горя — сама признавалась: с принцем забавно ей было. Не больше. Не знала, голубушка, что с ней будет. У светлейшего свои планы — за кого бы Лизаньку отдать.
Сначала к младшей сестрице, царевне Наталье Петровне, присматривался — сам признавался. А как её не стало — вместе с государем батюшкой и похоронили, — своего сынка стал цесаревне младшей примерять. Отказать можно. На первых порах. Так ведь заступников да печальников всё равно не найдётся.
Уезжала — Лизанька без памяти завалилась. Знала, что нельзя, а всё повторяла: может, есть такая возможность с тобой, сестрица, уехать. Не потом, не со временем — сейчас, немедля! Еле оторвали.
Писать просила. Слёзно. Мол, каждой весточке рада будет. Только бы знала, что её помнят, о ней беспокоятся, её не забывают. С Маврушки слово писать взяла.
* * *
Цесаревна Анна Петровна (герцогиня Голштинская)
Томится Анна Петровна в своём дворце. Томится — места найти не может. Герцогу всё равно. Сказал как отрезал: нечего надеяться на Петербург. Кончено, ваша светлость! Один обман кругом оказался. И думать о России нечего. Вот родить собралась — кого родишь? Кого? Наследника российского престола? Нет, герцогиня! Если Господь благословит сыном, — племянника короля шведского, того самого Карла XII, что поражение потерпел под Полтавой. Вот оно как судьба людьми играет. Ни о чём другом не думай!
Плохо, плохо ей. Четвёртый месяц дитя во чреве носит. То и дело в беспамятство западает. Врачи только головами качают: с чего бы? Разве признаешься в болезни батюшки? Если что и дошло до Киля, ото всего отречься можно. Ведь сама-то никогда падучей не маялась, может, и дитя здоровым вырастет.
А тут вести из Петербурга. Сестра Лизанька всеми правдами и неправдами весточки посылает. Спасибо, Маврушка всегда рядом. Она и изловчается записочки получать, чтобы герцог да соглядатаи его не заметили.
Решилась, похоже, окончательно решилась судьба светлейшего[23]. Нет такого больше — один Алексашка Меншиков остался. Недолго его в Раненбурге задержали. Ещё пятого января приехали туда Плещеев да Мельгунов, всей полнотой власти Верховным советом облечённые, описать и конфисковать все богатства меншиковские. Не земли, не поместья — те ещё перед ссылкой отняли. Теперь до драгоценностей да рухляди дело дошло.
Лизанька пишет, будто разрешено семейству оставить лишь всё самое простое да необходимое. Да откуда же у них такое? Кто только не толковал, что покупали князь с княгиней такие ткани да меха, которых и в царском гардеробе не встречалось. Драгоценности сундуками мерили. Ненасытная душа, Александр Данилович, ничего не скажешь. Кабы не помер батюшка, не миновать светлейшему петли, как Матвею Гагарину, который в Сибири губернаторствовал, нипочём не миновать, а тут...
И ещё. Будто члены Верховного совета, когда об аресте Данилыча рассуждали, первым делом к решению пришли: Варвару Михайловну от семейства отделить. Чтоб никаких советов больше светлейшему дать не могла, деньги бы рассовывать по чиновникам перестала. Ещё батюшка говорил: ловка Варвара-горбунья, кого хошь соблазнит, каждому цену найдёт. Она-то сразу в Раненбург за семейством помчалась. На дороге перехватили — в Успенский монастырь, что в Александровой слободе, отправили. Лизанька там её издали видала: у самой дом, в котором теперь местится, в слободе на Торговой площади. До обители рукой подать. Надо же, сколько родственниц наших через стены эти монастырские прошло. И Марфа Алексеевна, старшая царевна, и Феодосия Алексеевна. Лизанька на могиле их побывала. Описывать не стала. Одним словом обмолвилась: страшно.
Бог с ними. Вот Меншиковы так и доехали до Раненбурга без Варвары Михайловны. Маврушка у кого-то вызнала, что и впрямь горбунья за дело крепко взялась — всё хоть частичного помилования добивалась. Иногда подумаешь, не о сестре хлопочет, не о племянниках. Никак правы люди, что Данилыч ей на сердце лёг. За него болеет, ему служит?
Кабы не она, может, и оставили бы семейство в Раненбурге. Долгоруковы её испугались. Вот 27 марта и издали указ об окончательном обвинении светлейшего. А через неделю в ссылку отправили жестокую. Двадцать отставных солдат-преображенцев нарядили под командованием офицера Меншиковых стеречь неусыпно, денно и нощно. Может, так и следует, да ведь их всего-то: сам светлейший, сын Александр шестнадцати лет, две дочери — Мария и Александра. И Дарья Михайловна. Пишут, слепая. Будто от слёз ослепла. Ходить сама не может — светлейший её водит. С ложки кормит, водой поит. Детям к матери подходить не разрешено. Они и в повозках отдельных. Сёстры вдвоём в одной телеге, Александр — в другой. Светлейший с супругой в повозке. Дарья Михайловна всегда на слёзы скорой была, а тут будто с утра до ночи рекой разливается.
Лизанька даже предписание караульному офицеру умудрилась узнать: «Ехать из Раненбурга водою до Казани и до Соли Камской, а оттуда до Тобольска; сдать Меншикова с семейством губернатору, а ему отправить их с добрым офицером в Берёзов. Как в дороге, так и в Берёзове иметь крепкое смотрение, чтобы он никуда и ни к кому никаких писем и никакой пересылки ни с кем не имел».
* * *
Цесаревна Анна Петровна
(герцогиня Голштинская), М. Е. Шепелева
Чего не передумаешь в белые ночи, бывало, в Петербурге. Частенько не спалось, особенно после смерти государя батюшки. О герцоге. О шведском престоле. Сколько раз маячил он перед державой нашей, будто завораживал венценосных правителей.
В Киль с герцогом приехали, кончились белые ночи. А всё равно сединой какой сумерки подернуты. Туман от моря встаёт. Над водой по утрам на рассвете держится. Волны тихонько, как в Петергофе, на берег набегают. Еле-еле песок шуршит.
Вспомнила. Это при царе Борисе Годунове было. Детоубийце. А, может, и не убийце. Как там в Лжедмитрия сразу поверить. Да Бог с ним. Главное — жених ему понадобился для дочери единственной, Ксении. Надо полагать — роду своему царственный блеск придать. Ведь, как ни говори, полунищие они были — Годуновы. Одна слава, чти дворяне, да и те невесть по какому списку. Не Московскому же.
Так и царю Борису шведский царевич подвернулся. Густавом Ириковичем его в России называть стали. Ещё не в России — в Московском государстве. Ирикович — сын низложенного и умершего в заточении короля шведского Эрика XIV. Чудом в младенческие годы спасся. Чудом в детстве выжил — всё по Польше и Германии скитался. Без престола, без денег — кому такой королевич нужен!
О престоле не думал. Где ему, бродяге, с собственным дядей, принцем Карлом, тем более с польским королём Сигизмундом тягаться! А тут царь Борис. Обещал ни много ни мало помочь земли Финляндии и Лифляндии получить, а на первых порах в удел нашу Каширу выделил. Это после нищеты-то!
Хотя что нищета. Во всей Европе Густав славился познаниями своими. Химией всерьёз занимался. Вторым Парацельсом его называли. Приглашение принял, думал, сможет дальше своим делом позаниматься.
Не вышло. Приехал с целой ватагой. Одни писали — свитой, другие — с собутыльниками. Ещё важнее — полюбовницу свою в свите привёз и даже крыться с нею не стал.
Царь Борис полюбовно договориться с Густавом хотел. Сам толковал, сына, царевича Фёдора Борисовича, посылал.
Договориться? Не рассчитал, видно, королевских амбиций. Густав от переговоров отказался. Даже Москву своими опытами сжечь обещал. Царь поверил. Посадил королевича в темницу, а там сослал в Углич, на вечное заточение... Так свадьбы Густав и не увидел, умер в ссылке.
Нарочный из Москвы радости в герцогском дворце не прибавил. Уж на что легкодух герцог Карл — одни забавы на уме, — а и то обеспокоился: нехороша герцогиня Анна. Совсем нехороша. И граф Бассевич неотступно твердит: беречь герцогиню надобно. Беречь, герцог! Какой там наследник ни родится, а всё равно это она в череду на русский престол первой останется. Да и ты, глядишь, регентом при собственном дитяти — если, Господь даст, всё благополучно обойдётся, — стать можешь. Всё в нашей герцогине.
Главное письмо от нарочного герцогу понесли, а письмецо герцогине от сестрицы. Длиннющее! Как только наша Елизавета Петровна с силами да терпением подсобралась.
— Ох, не могу, государыня цесаревна, читай, читай скорее!
— Глазам своим не верю! Маврушка, слышь, Маврушка, скончалася великая княжна Наталья Алексеевна.
— Как так Наталья? В тринадцать-то лет?
— Да тут годы считай — не считай. В чужую могилку не ляжешь, а и своей не уступишь.
— Полно тебе, государыня цесаревна! Какую такую могилку ей судьба уготовить могла? Люди, небось, постаралися.
— Может, и люди.
— Да что там, известно люди. Обстоятельства-то какие были, пишет ли Елизавета Петровна?
— Пишет, да непонятное что-то. Видишь, император со свитой вперёд в Москву на коронацию поехал. Сестрицу по какой-то причине в Петербурге оставил — должна была Наталья Алексеевна попозже подъехать.
— Это к чему же девочке отдельно-то ехать? Да и дорога дальняя: как-никак шестьсот с лишним вёрст. Целую свиту с собой по такому случаю не повезёшь.
— Не меня бы ты спрашивала, Маврушка. Известно, в царском поезде куда надёжней, да вот так будто бы государь решил.
— Государь, прости Господи! От горшка два вершка.
— Сама знаешь, Маврушка, — не он, Долгоруковы теперь к власти пришли, они и командуют.
— Ну, с Долгорукими-то всё понятно. Им царевна Наталья Алексеевна никак не с руки: своенравная, упрямая, да и братцем командовать умеет. Зачем им такая до коронации-то?
— Выходит, после коронации — тем более. Сестрица пишет, что остановилась великая княжна перед въездом в Москву, на последнюю ночь, во Всехсвятском.
— Значит, у царевны Милетинской, нашей Дарьи Арчиловны почтенной.
— У кого же ещё! У Дарьи и дворец какой-никакой, и провианту вдоволь, и переночевать есть где.
— Переночевать... Да вот только больше Наталья Алексеевна из дома царевны не вышла: в гробу через два дня вынесли.
— Что ты, что ты, Анна Петровна! Страсть-то какая! Это кто же великую княжну-то порешил?
— То ли порешил, то ли... Что тут гадать.
— Да говори ты яснее, государыня цесаревна! Неужто наша Лизавета Петровна ничего боле не отписала? Быть такого не может!
— Много ли сестрица узнать могла. Только то, что была великая княжна в полном одиночестве: ни придворных, ни лекарей. При ней одна придворная прислужница, зато какая! Угадаешь, Маврушка?
— А коли угадаю, чего выиграю, Анна Петровна?
— Пробуй, Маврушка, пробуй. Забавно даже.
— И попробую: Анна Регина Крамерн. Ошиблась ли?
— Надо же, угадала!
— А тут и угадок никаких не нужно. Её ведь ещё при нас с тобой, государыня цесаревна, в бытность нашу в Петербурге, к великой княжне приставили. Меншиков, сказывали, очень о том хлопотал. Да что там хлопотал. Сказал государыне родительнице, а она тут же и согласилась. Всех остальных слуг удалить велела. Особливо прислужниц. Анна Регина к великой княжне полной хозяйкой вошла.
— Да уж им с Александром Данилычем есть что вместе вспомнить.
— О царевиче Алексее Петровиче подумала, государыня цесаревна?
— О нём. Ведь тогда еле сенаторы приговор подписали...
— Подписали! Что ты, Анна Петровна! Где им успеть подписать: как-никак их без малого сто тридцать персон. Пока они в черёд строились, наш светлейший сломя голову в равелин к царевичу помчался, в Петропавловскую крепость. И с ходу Анну Регину с собой прихватил.
— Как сразу? А не потом её вызвал?
— То-то и оно, что, как толкуют надзиратели, сразу привёз. Со всеми нужными ей вещами. Шайку будто бы, губки, полотенца — всё в узле с собой приволокла.
— И что же она, сразу в камеру пошла?
— Нет, у караульных преображенцев призадержалась. Да только Данилыч быстрёхонько обернулся. Она и рассесться не успела, а уж он её в камеру позвал — тело царевичево обмывать. Ей одной довериться решил. Вот оно как, государыня цесаревна! Что такое великая княжна!
— Дочь убитого...
— Да не круши ты себя мыслями такими. Ну, дочь, ну, убитого — значит, судьба такая.
— А откуда бы доверие такое к Анне Регине, не пойму.
— Да уж такого ты в своих книжках, государыня цесаревна, не вычитаешь. О таких делах никто учёный и писать не станет — совестно вроде, да и неладно как-то.
— Да говори, говори же, коли начала!
— Да что уж, Анна Регина ведь из пленных, сама знаешь. Так случилось, что сначала светлейший на неё глаз положил, а там и...
— Не надо о государе батюшке...
— Не буду, не буду, государыня цесаревна. Да и не в государе дело. Тут всё иначе сложилося. Светлейший всё время Регину Крамерн щедро одаривал, хоть скупенек на подарки. Видно, какие-никакие дела там были.
— После царевичева дела получила она немалые деньги, да, помнится, и земли даже.
— И земли, Анна Петровна, и земли. Может, и невелико поместье, а всё поместье. И братца в гвардию записали. А между тем к царевне Наталье Алексеевне приставили.
— Погоди, погоди, Маврушка, чтой-то с мыслями не соберусь. Ну, скажем, стала бы она мешать светлейшему — противу него братца настраивать, так ведь боле светлейшего-то нету. Выходит, не ему она услуги-то оказывала.
— А другой тебе никто на ум не приходит, государыня цесаревна? Кто бы ещё ей в грех службу при теле царевичевом не поставил? Не знаешь таких будто бы?
— Иоанновны, думаешь?
— Наконец-то! И случилось всё во дворце Дарьи Милетинской, подруги задушевной Прасковьи Иоанновны. И строят эти подруги — что Прасковья с Катериной, что Дарья — один храм в Донском монастыре.
— Деньги, Бог весть, откуда достают.
— А я о чём толкую. Не разлей вода царевны наши всем скопом. Как Лизавета Петровна пишет, отчего это сгорела Наталья Алексеевна?
— Слухи, пишет, разные ходят. Одни толкуют, будто от простуды, иные от кори. А доподлинно никто ничего сказать не может.
— И хоронить её где собрались? В Петербург повезут?
— Да нет, уже похоронили — в Вознесенском соборе Новодевичьего монастыря. Да, выходит, немалой обузой она им была. Только что Иоанновнам от того?
— И мне тебе толковать, государыня цесаревна? Помяни моё слово, недолго император Пётр II поживёт, тем паче если в Москве останется. Ой, скоро престол ослобонит. Ктой-то крепко о том думает.
* * *
Цесаревна Анна Петровна (герцогиня Голштинская)
Вспоминала... Чаще, чем надо бы. Родные... Скавронские... Тендряковы... Ефимовские... Имена придуманные. О титулах и толковать нечего: крестьяне. Со всем крестьянским обиходом. Учились. Приоделись. Изо всех сил тянулись. А куда уйдёшь от насмешки в глазах придворных. Того же Александра Данилыча, хотя никто так и не знал, откуда светлейший родом, какого роду-племени.
Говорили, из-под Смоленска. Сын полунищего рейтара. Как владыка Федос. Федос такого не подтверждал. Да и как владыку спросишь? Кто бы решился.
Другие говорили, из подмосковного Семёновского. Будто поп тамошний государю жаловался, что приупадли могилки отеческие меншиковские. Совсем провалилися. А светлейший ни по какому напоминанию позаботиться о них не хочет. Только государь слова своего не сказал. Мимо ушей пропустил.
У государыни родительницы как-то к слову пришлось спросить: откуда светлейший. Плечами повела: какая разница? Князь и есть князь. Не всем в боярских палатах родиться. Даже подосадовала на любопытство дочернее: тебе-то к чему, Аньхен?
Сестрица меншиковская — о ней светлейший всегда заботился. Поначалу. Как замуж за Девиера вышла, а позже уйти от супруга захотела, ни во что вмешиваться не стал. И денег не дал. Сколько от обер-полицмейстера на содержание досталось, то и ладно.
Не поймёшь светлейшего. Девиер сестру, все знали, обижал, смертным боем бил, а из Петербурга Анисья Даниловна исчезла. Враждовать с Девиером светлейший и впрямь враждовал, только не из-за сестры. О ней и речи не было.
К чему это я? Да, память. На приблудных родных, уезжаючи, и не глянула. С собой в штат никого из них брать не пожелала. А вот Александр Григорьевич...
Все толковали, ни у кого такого состояния из знатных и быть не могло. Миллион называли рублей. А Маврушка сказала, персонных дел мастеру Ивану Никитину всего-то на год двести рублёв даётся.
Очень их государь за богатство такое уважал. Чего только за него не разрешал — строить города где пожелают, войско своё иметь.
С народами сибирскими воевать без царского ведома. С азиатскими — торговать. А суд над Строгановыми один-единственный — царский. Да и то сказать, по карте посмотреть, дух захватывает: до самого до Тихого океана, Александр Григорьевич сказывал, дела свои ведут без помехи всякой. А ведь начинали всего-то с Пермских да Двинских земель.
Родитель Александра Григорьевича широкой рукой дарил государя деньгами как понадобятся. Возврата не ждал и не требовал. Зато государь его привилегиями всяческими дарил. Государь хвалил Строгановых, что снарядили ему во время войны Северной два военных фрегата. Шутка ли! Спросила как-то Александра Григорьевича, многими ли душами владеет. Усмехнулся только. Мы, мол, по батюшкиной кончине не делилися. Так скопом и хозяйствует. Способнее выходит. А на всё наше семейство душ тысяч под сто наберётся — кто ж их толком считал!
В Москве свою часть города имеют — в Котельниках. Герцогу довелось там в гостях побывать. Сказывал, дом богатейший, в итальянском манере, европейским государям по богатству не уступит.
Уж на что государь батюшка строг был в отношении обычаев древних — никаких не допускал, а уж о платье и говорить нечего. Только родительнице Александра Григорьевича, по её желанию, разрешил платье русское носить да ещё и церковь домовую иметь. Будто бы по нездоровью. А на куртагах поглядишь, так и пышет жаром родительница. Пышная. Румяная. Танцевать не танцует, а русского при государыне родительнице так сплясала, молодым позавидовать.
Александру Григорьевичу отцовский дом в Котельниках достался, сёла Овсянниково и Влахернское, да ещё от себя прикупил двор в Замоскворечье, в приходе Климента папы Римского. У братца Сергея Григорьевича дом в Китай-городе, у младшего Николая — загородный, у Донского монастыря.
А картины какие у Александра Григорьевича! Все стены увешаны. Сам говорил, до двухсот наберётся. Иван Никитич сказывал, что Александр Григорьевич изо всей нашей фамилии ему персоны государя, государыни родительницы и мой заказал. В горностаях. С короной бриллиантовой. При матушке его не снимал. И при новом императоре оставил. В кабинете своём...
* * *
Цесаревна Анна Петровна (герцогиня Голштинская)
Последний месяц тяжело дохаживала. С утра, покуда лица льдом не натрёт, в зеркало глядеть боялась: глаза заплыли, под глазами круги чёрные. Как у батюшки перед кончиной. Ввечеру ноги толще колод: ни согнуть, ни шагу ступить. Сердце иной раз так прихватит: круги кругом плыть начинают.
Герцогу не говорила. Зачем? Недугов не терпел. Соболезновать не умел. У него одна песня: все рожают, и ты родишь — невелико чудо. У Маврушки иной сказ. Потерпи, мол, государыня цесаревна. Вон матушка твоя что ни год рожала, никто и замечать не успевал. Разве что очередным похоронам дивились: откуда, мол, дитё-то это. Не случайно государь Пётр Алексеевич и скорбного платья государыне носить не разрешал. Иначе не поймёшь, где родинные пироги, где поминальная кутья: будто иных дел во дворце нету. Не помнишь разве, Анна Петровна?
Верила Маврушке. И не верила. Иной раз взгляд её исподтишка ловила озабоченный, опасливый. Значит, в душе иначе думала. Проста-проста, а всего никогда не выложит. Письма заставляла Лизаньке весёлые писать. Про куртаги да ассамблеи. Ты, мол, государыня цесаревна, не утруждайся, только строчку-другую своей рукой допиши, а Лизавете Петровне какая радость.
Знает, никогда танцев не любила — это Лизанькино дело. На щеголих и модниц не глядела: на то и портные мастера, чтобы туалеты изготавливать. Примерками скучала. Досадовала, что стоять подолгу приходится.
Один раз не удержалась. Спросила Маврушку: к чему веселье это? Вот разродится, тогда, может быть... Руками замахала: да что ты, цесаревна, как можно! Они там в Петербурге только и ждут от тебя вестей горестных. Им это в масть, а ты подыгрывать станешь. Лизавета Петровна сама обо всём догадается, а окромя неё, сколько народу каждое словечко перечитает, обговорит.
Ещё подождала. Видно, скрепя сердце прибавила: пусть и Лизавета Петровна тоже. Что, спрашиваю, тоже? Замялась: не радуется. Радоваться-то чему? Пожала плечами: государыня цесаревна, нешто сама не знаешь, как по душе ей твой герцог пришёлся. Отмахнулась было. А Маврушка своё: завидовала сестрица тебе, Анна Петровна. Может, и не хотела, а дело бабье — завидовала.
* * *
Цесаревна Анна Петровна (герцогиня Голштинская)
Тут только до конца поняла: открыться некому. Не было в жизни такого человека. Всё чаще крёстную[24] вспоминала. Мала была, куда как мала, чтобы всё уразуметь. Сердцем одним чувствовала: любила её государыня царевна. Больше всех любила.
Последние её дни от царевниной постели не отходила. Надеялась: не будет спать — не уйдёт крёстная. Нипочём не уйдёт. За руку держала. Рука день ото дня легче становилась. К голове её тянулась — благословить.
О девятом патриархе рассказывала долго-долго. Кире Иоакиме. Крёстном своём. Икону Всех Скорбящих Радости поминала. Патриарху Богородица в виде таком явилась, когда просил сестре своей ноги вернуть: с детства обезножила — с постели не поднималася.
Не было до той поры такого образа — Царица Небесная среди обыкновенных людей, не преподобных, не праведников. Страдающих недугами и скорбями житейскими. «Алчущих кормилице», «нагих одеяние», «больных исцеление», «сирым помощница», «одиноким утешение», «жезл Старостин» — строки канона Богородице, расписанные по всему полю иконы. Кому в чём нужда была, тот к той записи и обращался.
По видению Кир Иоаким велел иконописцам Оружейной палаты икону написать. И в первый же молебен, у иконы отслуженный, сестра Иоакимова — Евфимия Савелова встала и пошла. Кир-Иоаким и крестнице образ такой дал — благословил им перед своей кончиной.
Простить себе не могла: в суете да спешке предотъездной — больно спешили их с герцогом из России выслать — забыла образ взять. Забыла! А ведь крёстная ей завещала. Строго-настрого наказывала при себе иметь. Не то что богомольной была: в доброту человеческую верила. Кир-Иоаким добра ей хотел, она — крестнице.
Раньше бы в дворцовых кладовых отыскать его следовало. Раньше! Может, и с герцогом всё иначе бы сложилось. И теперь хворью и страхами не маялась. С герцогом больше ладу было.
Мечется он с тех пор, как в Киле оказались. Только о Петербурге и толкует. Света в окошке другого не видит. Как любимая дочь от отца иных прав добиться не сумела? Как счастье своё и детей своих по ветру пустила? Почему надо было от прав на престол российский отказываться?
Почему! Кто теперь ответит. Сама тогда обидой зашлась. Оттолкнул свою Аннушку. Оттолкнул? За что? Теперь всё чаще об этом думала.
На кого рассчитывал? О ком думал? О её детях? Так ведь сам о сыне всю жизнь печаловался. Сказать страшно: семерых сыновей в младенчестве схоронил. Как же на неё надежду иметь собирался?
Толстой Пётр Андреевич один раз слова странные сказал. Из них выразуметь можно, будто подумал государь батюшка, что она — она! — знала о Монсе. Знала и скрывала. Государыню родительницу не захотела выдавать. С ними заодно оказалась.
И будто Пётр Андреевич государю доказал, что никак такого быть не могло: царица с Мопсом крыться умели.
Господи, да кто ж о том не знал! Сколько они с Лизанькой вдвоём переговорили! Как развязки страшной боялись, о самом худшем думали. А что делать было. Что?
Государыня родительница об их молчании догадывалась. От дочерей отстранилась — всё в веселии, всё в праздниках, благо государь делами морскими неотрывно занимался, всё в разъездах был.
Пётр Андреевич намекнул, что потом государь охолонул после Монсовой казни. Да поздно оказалось: слёг. Пётр Андреевич твердить не уставал: тебе, цесаревна, на престол вступать следует. Тебе одной. Нет у государя иной воли.
Спросила ненароком, как о браке государь думает. Руками развёл: зачем тебе брак, цесаревна? На российском престоле какого хочешь супруга выберешь, если сама одна править не пожелаешь.
Повторила: значит, не Голштиния? Головой кивнул: куда, мол, торопиться. Государевы слова тебе передаю, ничего таить от тебя, цесаревна, не хочу и не стану.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
(герцогиня Голштинская), герцог Голштинский
Сын! Повитуха вся от гордости зашлась, будто её рук дело.
— Поздравляю вас, ваше герцогское высочество, с рождением наследника, да какого замечательного.
Подумалось: лишь бы жил. Сколько братцев и сестриц похоронить довелось. Повитуха словно мысли прочитала:
— Новорождённый будет жить долго и счастливо, герцогиня. Он будет жить!
— Дал бы Бог.
— Вы сомневаетесь, герцогиня, и напрасно. У нас есть свои примеры, и эти примеры проверены временем и поколениями. У мальчика все задатки здорового человека, поверьте моему долголетнему опыту. Вы ещё будете гулять на его свадьбе и нянчить своих внуков.
Как у них всё легко и просто. Что в таком комочке, красном от крика и натуги, сморщенном и отчаянно отбивающемся от рук повитухи, можно угадать. Маврушка тоже сияет, как медный грош.
— Сейчас понесём показать наше сокровище герцогу. Он потерял уже всякое терпение, волнуясь за свою любимую супругу.
Ушли. Закрыть глаза. Уйти в забытье. Сын... и что дальше? Хозяин этой маленькой гавани на берегу холодного неприветного моря. Всего только куска песчаной земли с маленькими соснами. И ветром. Вечным ветром, который не умеет быть тёплым.
И борьба. Борьба за то, чтобы границы его владений раздвинулись. Чтобы он стал настоящим государем. Мечта о двух престолах — русском и шведском, до которых одинаково далеко. Чья борьба? Герцога-отца, одинаково ненаученного дипломатическим интригам и военному делу. Герцогини-матери, менее всего думающей о государственных делах с точки зрения приживалов. Государь батюшка говорил о России, а Голштиния? Сумел ли бы даже государь Пётр Алексеевич во что-нибудь её превратить? Он любил повторять: отсюда мы начнём. Что начнём, государь? Что начнём без тебя?
Как долго не возвращаются с младенцем! Ничего удивительного: их торжество, их — не её. Герцогиня выполнила своё предназначение.
Шаги... Быстрые. Герцога.
— О, либлинг, вы превзошли себя: младенец такой сильный, такой чудесный и так похож на меня.
Мне сказали, это значит, вы всё время беременности думали только обо мне. О, как я был неправ, считая вас равнодушной к моей особе. Нас ждёт теперь совсем иная жизнь, либлинг, совсем другая. Вы не будете возражать, если мы назовём его Карл-Петер-Ульрих? Это будет сочетание имён его великих дедов и предзнаменование его великого будущего, не правда ли, либлинг? Вы молчите? Ах, понимаю, вы так устали и измучены. Но это счастливая мука. Вы кивнули головкой! Чудесно. Я распоряжусь всем сам, и мы как можно скорее и как можно пышнее проведём обряд крещения. Отдыхайте же, отдыхайте, герцогиня. Двадцать первое февраля станет теперь лучшим днём моей жизни!
Опять шаги... Бассевич? Ну, конечно, граф Бассевич. Что бы мог сделать герцог без его поучений и наставлений. Один граф всем управлял в Петербурге. Сдерживал герцога. Подсказывал требования. Не разрешал ему обижаться. Возмущаться. Иной раз хлопнуть дверью. И он настоял на нашем браке. Теперь уже знаю почему: старшая дочь — права первородства. В очереди на престол её место выгоднее места второй дочери, а главное, первая — любимица отца, и всё шло к тому, что герцог окажется супругом императрицы. Бассевич не очень крылся со своими расчётами. Что он-то может нового сказать?
— Мои гратуляции, герцогиня. Вы подарили Голштинии лучший в её истории день. Теперь наша страна одинаково причастна к двум величайшим престолам Европы. И вы должны, герцогиня...
Начинается!
— Вы должны, герцогиня, как можно скорее прийти в себя и браться за дело. Надо собирать сторонников нашего младшего державного представителя герцогов Шлезвиг-Голштинских — да, да, именно так.
Остаётся притвориться засыпающей. Закрыть глаза. Задержать дыхание. Теперь он уйдёт. Непременно должен уйти...
В который раз горячка начинается. После родов, кажется, недели на ногах не провела. Доктора головами качают. Маврушка с ними шепчется, шепчется. Ей одной здесь до меня дело.
Герцог не скрывает: надоело ему. Доктора. Запах лекарств. Суета в доме. Никаких балов, празднеств. Он не так себе представлял появление наследника и герцогиню на куртагах. Иногда полным голосом в соседнем покое досадовать начинает. Докторам выговаривает: «Что же вы...»
Маврушка задумала сестрицу сюда пригласить — она бы обо мне побеспокоилась. Забыла, что двор русский не тот и не о сестре Лизаньке заботиться надобно. О себе самой прежде всего. Там такой котёл закипел — страх подумать.
Новый император чуть не с колыбели Лизаньку жаловал, а как о женитьбе его разговор зашёл, так к ней и открыто потянулся. Ей бы посмеяться, чем его развлечь, а Лизанька наоборот. Тут уж не только Меншиков — новые любимцы, Долгоруковы, перепугались. К их-то дочке императора не тянет. И собой нехороша Екатерина Алексеевна, и нравом любого самодура да капризника за пояс заткнёт. С братцем-фаворитом, пишет Лизанька, через губу разговаривает. Подарков себе таких сразу потребовала, что Меншикову даже не снились. До того дошло, Лизанька монастыря опасаться стала. Где ж тут из России выезжать — мигом безродной да безземельной на веки вечные останешься.
В постели лёжа, чего не передумаешь. При государыне родительнице всё, что государь батюшка задумывал, наперекосяк пошло. Никто о державе и думать не стал. От Сената ничего не осталося. Мечтал государь о самоуправлении городов — взяточников поприжать да больше о местной пользе стараться — всё опять к воеводам и губернаторам вернулось. Им же и городские магистраты велено подчинить.
Что там из старого осталося — на пальцах одной руки сочтёшь. Государева задумка одна только и осталась — Академия наук открылась. Ещё орден Александра Невского утвердили — все сановники себя им наградили. Уложение приказано продолжать составлять — больно много уже наготовлено. О наследстве в недвижимых имуществах закон приняли. А новых задумок как есть никаких.
* * *
Цесаревна Анна Петровна
(герцогиня Голштинская), М. Е. Шепелева, герцог
Огнём голова горит. Как есть огнём. Маврушка на минутку не отходит. Ночью в креслах у постели дремлет. На каждый вздох откликается. Осунулась. Почернела вся. А смеётся. Глянешь на неё, глазами встретишься — смеётся. Глаза отведёшь, помрачнеет вся.
Одни мы с ней. Одни. Она-то в случае чего в Россию вернётся, а герцогиня Голштинская...
Только теперь уразумела, какую игру граф Бассевич в Петербурге сыграл. Уж на что батюшка государь мудр был, а и того обошёл. Господи, мне теперь ясно-то всё стало!
Посол двора Голштинского сколько лет. Неприметный такой. Государю услужливый. Всё вызнавал. Со всеми дружбу водил. Противу Швеции всегда, государь батюшка говорил, стоял. А на деле? На деле в пользу Германии играл. Что ни сделка, что ни договор — всё капля на германскую мельницу. Умный. Расчётливый. Ему бы памятник в здешних краях поставить.
В донесениях по мелочам всё делил. Сама читала. Вроде ничего такого особенного, а сложить — ни одному шпиону не приснится. Президент Тайного совета герцога Шлезвиг-Голштинского! Знал ли государь батюшка о таком совете? Может, и не знал. Что-что, а молчать голштинцы умеют. От одной ненависти к русским рот на вечный замок закрывают.
Мало ему было всё при дворе вызнавать, подкупом не гнушался — у канцеляристов черновики бумаг подбирать. Чем государя батюшку обошёл? Чем? Вот теперь и скрывать не стал, что государыню родительницу он помог на престол возвести. Казалось бы, за невесту своего герцога болеть должен был. Да мало ли что кажется! Не зря тётушка царевна Наталья Алексеевна говаривала: коли кажется, креститься надобно, а не на веру брать.
Знал, знал граф, что не стала бы тогда супругой его герцога старшая цесаревна. Что разговор о троне вёл с ней покойный государь. И ничего бы тогда Голштинии не выиграть. Вот и устроил всё с избранием матушки. Помог её убедить, чтобы обвенчать нас быстрее. За то и ордена удостоился Андрея Первозванного.
Задним числом подумать, всё предусмотрел Бассевич, как есть всё. Он подсказал, чтобы венчаться нам в Троицкой церкви на Петербургской стороне. В глаза никому не лезть. Тишком да тайком. А герцога незамедлительно членом Верховного Тайного совета сделали. Чужой-чужой, а к самым секретным государственным делам допущенный. При государыне родительнице Карл и не думал из России уезжать. Со слов Бассевича полагал, здесь ему легче будет выгодными дипломатическими действиями управлять.
Ему управлять! Господи! Разве что попугаем от Бассевича заученные слова повторять. Государыни родительницы не стало, так и им с Бассевичем конец наступил. Теперь-то во времени оглянувшись, всё понимаешь.
Перед отъездом понесла я. Сынок в Петербурге жизнь свою начал. Сколько мы с ним в Голштинии прожили? Всего-то восемь месяцев. Сынок на свет голштинцем пришёл, а родительница его...
— Маврушка...
— Что, государыня цесаревна, что, ваше высочество? Тут я, тут.
— Маврушка, герцога позови.
— Что-то ты, Анна Петровна? Аль соскучилась по богоданному? Сейчас кликнуть велю. Сей час!
Долго искали. По костюму видно — на конной прогулке был... Растерянный весь.
— Вам лучше, герцогиня? Вы сегодня...
— Попросите принести нашего сына, герцог.
— Не вредно ли это для Карла-Петера может быть? У постели больной.
— Прикажите принести сына. Я хочу его благословить.
— Благословить? Вы...
— Я ухожу, герцог, и хочу... проститься... с сыном... и с вами.
— Не надо, Аньхен, Бога ради, не надо. Доктор сказал, ещё есть надежда. И он обещал применить новые средства. За ними уже послали. Не надо прощаться, Аньхен...
— Может быть поздно, Карл. Навсегда поздно. Я не хочу, чтобы... мой сын... остался... без материнского... благословения. Так нельзя... нельзя, Карл...
— Я понимаю. Я всё понимаю, либлинг. Сейчас. Кто там?
— Не беспокойся, не беспокойся, цесаревна, принесла я твоего ангельчика. Он спал. Крепко спал. Вот видишь, и теперь не очень-то проснулся. Ты уж его... Аннушка... свет ты мой ясный... Аннушка!
— А теперь вы, герцог. И не надо плакать. У меня к вам просьба... единственная... она для меня... важнее всего...
— Я слушаю вас, Аньхен, и что бы вы ни попросили...
— Спасибо... похоронить... меня похоронить… не надо здесь... в Петербурге... рядом с батюшкой...
— Но так нельзя, Аньхен. Герцогиня Голштинская должна покоиться рядом с членами голштинской фамилии. Так было заведено испокон веков. Тем более вы мать наследного герцога.
— Я подумала... обо всём подумала, герцог... Вам незачем будет тратить время для моего погребения здесь. А для сына — для наследника российского престола...
— Боже, она потеряла сознание. Доктор! Доктор, вы должны! Слава Богу, вы здесь, Бассевич. Скажите же, скажите им! Герцогиня должна прийти в сознание. Я должен её убедить...
— Вовсе нет, мой герцог. Герцогиню ни в чём не надо убеждать. Её желание вполне совпадает с интересами Голштинии. Для нашего наследника прах матери в царской усыпальнице Петербурга будет прекрасным подтверждением его прав. Вы можете со спокойным сердцем обещать герцогине выполнить её последнюю волю. Доктор, герцогиня может прийти в сознание?
— Затрудняюсь ответить, граф. Герцогиня в агонии.
— Тогда мы с вами можем выйти, мой герцог.
— Маврушка...
— Очнулась, очнулась, моя ласонька.
— Маврушка, в Петербург...
ЭПИЛОГ
Императрица Анна Иоанновна,
А. П. Бестужев-Рюмин, мамка Василиса Парфентьевна, Э. И. Бирон
Императрица! Теперь-то уж и опасаться нечего: императрица! Анна Иоанновна, наследница государя Иоанна Алексеевича! Сказалось матушкино благословение. Из трёх царевен её, её одну дворяне выбрали. Хоть и не знали толком, глядеть никогда не глядели, а расчислили: ей быть императрицей Всея Руси, всего великого государства. Ничем рук не связали. О самодержавии сами просили, как о милости величайшей. Вот и Бирона с собой привезла — как Долгорукие ни грозились. Привезла с полным почётом. Ни от кого не скрываясь. Матушка государыня о нём ещё и знать не могла, а о Петре Михайлыче Бестужеве-Рюмине, слава тебе Господи, слух не дошёл. Сестёр за своеволие да распутство корила — не её. Её, нелюбимую, благословила. Костенеющими губами прошептала: быть тебе, Аннушка, на престоле, тебе одной... Откуда бы узнала?
— Послов сегодня, что ли, принимать надоть? Аудиенции прощальные давать?
— Таков порядок, ваше величество.
— Значит, и Бестужеву.
— Обоим братьям — и Михаилу, и Алексею.
— Михаила потом приму. Зови-ка Алексея ко мне, да поживее.
— Они все дожидаются в аванкамере.
— Вот и ладно. Зови да один на один меня с ним оставь, Бирон.
— Ваше императорское величество, при прощальном приёме посла полагается...
— Полагается тебе одно — делать, как я велю. Оставить нас одних!
— Ваше императорское величество! Счастливое и долгожданное восшествие ваше на праотеческий престол наполнило несказанной радостью сердца всего нашего бесконечно преданного вам семейства, а особливо моё и троих сыновей моих, коим милостиво согласились вы стать крёстной матерью. Примите, ваше императорское величество...
— Ладно, Алексей Петрович, комплимент твой наперёд знаю. Протоколу придворному тебя не учить — учёный. Говорить ты ловок, только времени тебя слушать нет. Дело у меня к тебе.
— Жизнь моя принадлежит вам, государыня, вы можете располагать ею по своему усмотрению.
— Службой своей доволен ли?
— Буду стараться, сколько скромные силы мои позволят, быть полезным вашему императорскому величеству, однако не скрою, мысль о возвращении в отечество и уходе со службы дипломатической, посольской, с вступлением вашего величества на престол стала единым моим помышлением.
— В Петербург, што ли, захотел вернуться?
— Лишь бы быть поблизости от обожаемой монархини.
— То-то не больно тебе в Митаве жилось — всё искал, на что бы двор герцогини курляндской сменить.
— Не я, государыня, но воля родителя моего и императора Петра Алексеевича.
— Да я не с тем, чтобы старое ворошить. Не до него сейчас, а службу сослужить, преданность свою доказать случай есть. Только запомни, Алексей Петрович, дело тут такое, что промеж нами двумя остаться должно: я не говорила — ты не слышал.
— Ваше величество!
— А ты погоди. Сам напросился, сам и ответ держи, только чтоб без увёрток. О завещании императрицы Катерины Алексеевны что знаешь?
— В каком смысле, ваше императорское величество?
— Значит, знаешь. Докладывали мне, как сестрица твоя преосвященным Феодосием интересовалась, справки всякие собирала. Поди, для всего семейства вашего бестужевского. А что в том завещании, от которого что Федос, что Макаров отреклись, знаешь? О последней воле дяденьки Петра Алексеевича? Молчишь. Да нет, можешь и не знать. А вот насчёт Катерины Алексеевны? Знаешь!. Молчи не молчи, всё равно знаешь.
— Великая государыня! Разрешите справедливость восстановить! Как с тем мириться, чтобы человек без роду и племени, силою случая вознесённый на императорский престол, венцом государей российских распоряжался? Где это видано, чтобы законных наследников в своей последней воле обошёл и над правами их священными надругался!
— Погоди, погоди, Алексей Петрович, чтой-то не пойму я...
— Не следует такому документу быть! Тем паче не следует ему в чужих краях находиться, от чего только замешательства, пагубные для Российской державы, последовать могут.
— Это ты о том, что герцог Голштинский в Киль завещание Катерины Алексеевны увёз?! Так что ж ты надумал?
— Ваше величество, это вам и только вам следует распоряжаться судьбой сего незаконного и поносного для державы нашей документа.
— Куда бы лучше! А ты не забыл, что он в Киле, что неутешный супруг в бозе почившей цесаревны Анны Петровны, герцогини Голштинской, в столице своей документ пуще глаз бережёт?
— Так не под подушкой же в опочивальне собственной. Хоть и на подушку способ найдётся. А тут ведь городской архив.
— Тем паче.
— Не может быть, чтобы вашему величеству не был любопытен ни один из документов, хранящихся в этом архиве. Может, справка, отписка, которую ваше величество поручит мне срочно сделать для некой государственной надобности. Герцогу не с руки будет отказать.
— Думаешь, получиться может?
— Лишь бы, ваше величество, внутри архива оказаться.
— Но ежели что...
— Я один в ответе. Для вас, государыня, живота не пожалею.
— Мне твоих планов, Алёша, знать не надобно. Поступай как знаешь. Денег не жалей. На такое дело ничего не жалко. Погоди, сама тебе дам. Из шкатулки. Чтоб никому невдомёк. Вот из рук в руки бери. Мало будет — ещё получишь. С Богом, Алексей Петрович, с Богом! И ещё...
— Я весь внимание, ваше величество.
— Да это так... С женой-то ладно ли живёшь, с графиней своей?
— Ваше величество, на службе дипломатической не следует оставаться холостым — таков порядок.
— Знаю. Как не знать. Да и годы наши прошли — не вернёшь...
* * *
В Зимнем дворце сколько их ходов-выходов. Вон в мамкиных комнатках дверь скрипнула. Тихонечко. Вроде как вздохнула.
— Василиса Парфентьевна!
— Ой, кто это? Никак ты, Алексей Петрович! Что ж ты, голубчик, с чёрного-то хода? Тебе по рангу аудиенцию следует иметь, а ты никак по старой памяти тишком решил?
— Приказ такой имею, Василиса Парфентьевна, от государыни императрицы. Велела её императорское величество, как в Петербург вернусь, никому не сказываясь, первым долгом, по возможности негласно, в личные апартаменты прибыть с докладом.
— Знаю, знаю, голубчик. Говорила мне государыня наша, коли заявишься, сей час ей доложить, да чтобы в тайности. Больно ты быстро обернулся с поездкой-то, вот я, старая, и подрастерялася.
— И тут приказ её императорского величества был, Василиса Парфентьевна, времени не тратить.
— Умница ты, Алексей Петрович. Жаль, что службу свою дальнюю нашим краям предпочитаешь. На мой разум, лучше бы тебе здесь было. И у государыни лишний верный человек, знаешь, как бы ко двору пришёлся.
— Дорогой бы душой, Василиса Парфентьевна, так ведь без приказа высочайшего службы не сменишь. А мне уж и так город наш что ни ночь снится.
— Эх, батюшка, да разве так бы и мы жили, кабы не Ернст Карлыч! Уж сколько я государыне в твою пользу говаривала, и она со мной соглашалася, а заикнуться Ернсту Карлычу и то опасаемся, неровен час, какую беду на себя накличешь. Вот и сейчас я с тобой толкую, знаю ведь, какое дело у тебя спешное, а время-то тяну болтовнёй своей. Да ведь не зря, голубчик ты мой, не зря — выжидаю, вот оно что. Ернст Карлыч сейчас у государыни. Тебе с ним встречаться до разговору с государыней не след — сама матушка наша меня упреждала. Как пря-то у них кончится, сейчас тебя к государыне отведу.
— Пря? Неужто Ернест Карлович спорить с государыней осмеливается?
— Ещё как осмеливается! Такую волю забрал, что и на поди. Иной раз кочергой бы его отходила, так ведь меня и на скотный двор отправить могут, а то и в монастырь какой подалее сослать.
— Вас, Василиса Парфентьевна? Как можно! Да ближе вас у её императорского величества и человека-то нет и не будет. За родительницу вы государыне — разве я не знаю.
— За родительницу! А нешто не знаешь, как иной раз и с родителями расправляются, коли неугодны становятся. Ой, не равняй, Алексей Петрович, Петербурга с Митавою. Там-то, и правда, куда было голубушке нашей деться. А тут... Вот только что Левенвольд граф со старухой, не смейся, союз держит, а так... Тебе-то есть чем государыню порадовать? Не прогневаешь ли того пуще?
— Так полагаю, что велено было, всё исполнил в точности.
— Вот и слава тебе, Господи! А то у нас нынче коли не гроза, так предгрозье. Не знаешь, как жить: вечером с тяжким сердцем ко сну отходишь, утром иной раз думаешь — хоть и глаз не продирать.
— Может, хоть мои подарочки вас, Василиса Парфентьевна, развлекут? Сам выбирал, а уж если не по вкусу придутся — не взыщите.
— Вот спасибо тебе, батюшка, вот спасибо. Балуешь старуху, как балуешь. А вон и время твоё подошло — пойдём,голубчик.
— Откуда вы узнали, позвольте полюбопытствовать, Василиса Парфентьевна? Я потому только спросить решаюсь, что не хочу ненужных встреч.
— Понимаю, всё, голубчик, понимаю. А хитрости тут великой нету. Неужто не слышал — звоночек звякнул тихохонько-тихохонько? Это мне доверенный человек знак подал. Нельзя иначе, Алексей Петрович, — звоночек от камер-медхен прямо в мою каморочку. Вот и все дела.
— Ваше императорское величество!
— Не ждала тебя так скоро, Алексей Петрович, не ждала. Неужто так быстро обернулся?
— Как велели, ваше величество. Главное — дело неотложное, проволочки не терпящее.
— Ладно, любезности сказать успеем. Ну что? Что за пакет? Да ещё за семью печатями лакированными.
— Это для верности, ваше императорское величество, если бы досмотр какой в пути. Документы дипломатические, и всё тут.
— Отлично. А в пакете что?
— Тот документ, о котором я вашему величеству докладывал.
— Да ты что? Неужто духовная? Императрицы Екатерины Алексеевны?! Нашёл, значит. Выкупил.
— Не совсем так, ваше величество. Я купил время в архиве, а документ — что он в ваших руках, не знает никто, тем паче архивариус.
— Неужто выкрал?
— Позаимствовал для возвращения государству Российскому в целях сохранения мира и тишины в нашем отечестве.
— Господи! Выкрал! А как же там? Не хватятся? Не обвинят тебя?
— Меня никто нигде не заставал, ваше императорское величество. На наше счастье, герцог так уверен в правах своего сына, что даже не полюбопытствовал заглянуть в сей документ. Он попросту не видел и не знает его. Он больше ищет средств весёлого времяпрепровождения, чем печётся об интересах государственных.
— Алексей Петрович, услуги твоей вовек не забуду, только и ты языка не распускай ни под каким видом.
— Я служу моей монархине, ваше императорское величество.
— Знал бы ты, от какой тягости меня ослобонил, кабы знал... Никак шаги за дверью. Так и есть. Ступай, ступай с Богом, Алексей Петрович, разочтёмся мы с тобой как положено, жалеть не будешь.
Низенькая дверка притворилась — не скрипнула. Большие двери настежь распахнулись — портьеры тяжёлые, атласные словно паруса взметнулись.
— Ваше величество, у вас был гость?
— С чего-то ты вернулся, Ернест Карлыч? Получасу не прошло, как расстались. Аль забыл чего?
— У вас был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин? И вы не собирались по этому поводу мне ничего рассказывать?
— Где ж рассказывать, когда ты до слова дойти не даёшь, переполошился как. С чего бы, обер-камергер?
— Я вообще не понимаю ваших таинственных сношений с этим человеком. Посылаете его с какими- то непонятными миссиями, принимаете по возвращении, даже не сказавшись мне. Что происходит, ваше величество? Вы больше не нуждаетесь в моих услугах? Я стал вам мешать? Лишился императорского доверия?
— Ну, засыпал вопросами-то, как есть засыпал. Неизвестно, на что отвечать. Только отвечать тебе мне и впрямь нечего. Мне сведения о герцоге Голштинском и его сынке нужны в полной тайности, чтобы твоя любимая цесаревна, свет Елизаветушка Петровна, ничего не проведала. Да и ты часом ей не сболтнул. Кабы не крутился вокруг цесаревны, как бес перед заутреней, рассказала бы, а так нужды нет. Жив зятёк с сынком, здоров и почитает, что престол им надлежит, в случае чего, до твоей цесаревны — только и всего. Доволен теперь?
* * *
Императрица Елизавета Петровна,
А. П. Бестужев-Рюмин
Поспешает Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Поспешает во дворец. Мысли неотвязные которую неделю в покое не оставляют. Ума хватило от покойной государыни императрицы Анны Иоанновны отречься. Удалось и от наследницы её, дочери герцогини Мекленбургской Екатерины Иоанновны, откреститься. Главное — доверием новой императрицы Елизаветы Петровны заручиться. С ней какие уж там завещания. С доверенными людьми — да и тех раз- два и обчёлся! — арестовала правительницу[25], себя императрицей объявила. Наследника поспешила объявить — сынка сестрицы старшей, покойной цесаревны Анны Петровны. Вот тут осечка и вышла. Не в матушку родную, не в деда племянничек. Что с ним делать — не иначе советоваться станет. А что тут присоветовать можно.
— Входи, входи, Алексей Петрович. С комплиментами обожди — прямо говори: в Ораниенбауме у великого князя бывал ли?
Слова аккуратно подбирает. Не спешит с ответом великий канцлер. Сразу видно: осторожничает.
— Последнее время не доводилось, ваше величество. Великий князь меня благосклонностью своею не жалует, приглашений не присылает. Недавно среди офицеров своих прусских открыто сказал, что нет у него иного лютого врага, как Алексей Бестужев. Его бы великокняжеская воля — сослал бы канцлера, а то и вовсе порешил.
— Не с тебя ему начать хочется — с тётки-императрицы, что на пути к престолу стоит. Вот уж выбрала себе наследничка, додумалась — ничего не скажешь. Родственничек, мол, единственный, кровиночка родная. Да и советнички лихие под руку подвернулись — не упредили. Что ж ты-то молчал, канцлер?
— Ваше величество, соображениями кровного родства пренебрегать в решении государственных вопросов не приходится. К тому же я уверен: перед вами многие десятки лет счастливого правления к нашему общему счастью. За это время и мысли у наследника в порядок, Бог даст, придут.
— А если не придут? Полагаешь, про Ораниенбаум от безделья спросила? Так вот там и есть гнездо духу прусского. Будто и наша это земля. Посмотрел бы, во что меншиковский дворец превратил наш Пётр Фёдорович! Всего пару лет назад красоту эту ему подарили. Так вот, отстроил крепостцу — Петерштадт. Внутри крепостцы, как в конфетной коробке, дворец поменьше и по своему вкусу. Рядом Арсенал, казначейство, кирха, домики офицерские для голштинцев. Внук ведь, внук родной Великого Петра! Так он ему другого деда — битого Великим Петром Карла XII предпочитает. Простить мне не может, что ради короны российской от короны шведской отречься пришлось. Сам себя Петром Фёдоровичем нипочём величать не позволяет: Карл Пётр Ульрих, сын Карла Фридриха! На Фридриха II как на образ святой молится! Известен ли ты об этом?
— К сожалению, ваше величество, об этих склонностях великого князя известны все европейские дворы. На этом и планы свои строить начинают.
— И что же делать прикажешь? Что с змеёнышем этим делать? Расскажи ты мне толком, что он в Фридрихе-то своём увидел? Пруссак — так пруссаков и до него, и нынче крутом хватает. Почему о нём одном речь?
— Будет ли вам любопытна подобная реляция, ваше величество?
— С Шуваловым толковала, так он благосклонно о короле отозвался. И образован, мол, и науками занимается, об университетах думает. Что же тогда великий князь ничего такого не видит?
— Могу только разделить просвещённое мнение господина Шувалова. Слов о короле можно немало хороших сказать, только не в достоинствах этих суть. Совсем даже не в них. И с философами нынешними король знаком, и к книжным знаниям прилежит, только... Впрочем, судите, ваше величество, сами. Отец короля ни образованностью, ни воспитанием не отличался, а родительница, дочь короля английского Георга I, София Доротея Ганноверская...
— Ты знал её?
— Знал, ваше величество. Королева супруга своего не любила и сына противу отца настроить умела. Так и сидел наследник между двух стульев: что науками интересовался, скрывать был должен, а от занятий военных уйти не мог. У отца его одно только на уме было: армия и деньги. Если много солдат и денег, в том и состоит подлинная слава государя и государства.
— Не так уж и глупо. Разве батюшка не о том же хлопотал?
— Так у государя Петра Алексеевича каждый рубль в дело шёл, чтобы верфь или завод какой строить, школы открывать.
— Да полно тебе, Алексей Петрович, известно мне всё это. Что дальше-то случилось?
— А то, ваше величество, что кронпринц, как Фридрих младший тогда именовался, решил от родителя сурового бежать и у ганноверских родных родительницы своей спасания искать. В 1730 году, когда Фридрих I решил прирейнские владения свои осмотреть и кронпринцу показать, Фридрих младший, Второй то есть, с двумя молодыми дворянами план побега сложил. В восемнадцать-то лет каждому море по колено.
— А лужа по уши. Ему всего восемнадцать лет было? Братцу моему сводному, царевичу Алексею Петровичу, побольше — никак двадцать с небольшим.
— Мне не хотелось напоминать вам об этом сходстве, ваше величество, но кронпринц о примере вашего братца осведомлён был. И... о конце его, которого сам еле избежал.
— И его с дороги вернули?
— Побег кронпринца не состоялся — его выдал один из пажей. Король рассвирепел, арестовал сына и привёз в Берлин, чтобы подвергнуть самому суровому следствию. Все были убеждены, что дело кончится смертной казнью. Иностранные правительства ходатайствовали о помиловании, особенно отец Марии Терезии.
— О царевиче Алексее Петровиче тоже просили?
— Насколько мне известно, никто. Может быть, потому, что никто не предполагал столь сурового исхода. Зато теперь мало кто в нём сомневался. Королева-мать была в отчаянии.
— Но ведь Фридрих спасся.
— Спасся и, пожалуй, только благодаря своей выдержке и самообладанию. Он до конца пытался выгородить своих товарищей. Один из них тем не менее был казнён под его окнами, второму удалось счастливо бежать. Самого кронпринца ждало заключение в городе, вернее, в крепости, Кюстрине. Король обязал кронпринца работать самым ничтожным чиновником, а в свободное от присутствия время заниматься разбором старых городских дел, постигая на практике систему прусского военно-хозяйственного управления.
— И это кронпринц!
— Ваше величество, я бы определил это как цену жизни. Кронпринц выплатил её сполна и к тому же выполнил ещё одно ненавистное ему требование отца — жениться на принцессе Брауншвейг-Бевернской. Только тогда он обрёл относительную свободу, получил в командование полк и небольшое поместье под Берлином. В 1740-м король-отец скончался, и кронпринц стал Фридрихом II.
— Как же он должен был ненавидеть отца!
— Напротив, ваше величество. Новый король не только проникся уважением к своему предшественнику, но и признал необходимость применявшейся Фридрихом I суровости. Старые знакомые не могли его узнать. Вряд ли великий князь сколько-нибудь подробно представляет себе личность Фридриха II, зато казарменный режим пока кажется ему, по всей вероятности, наиболее подходящим для России.
— Что же с державой нашей станется-то, Алексей Петрович? Об этом думал ли? Пруссакам, что ли, перейдёт, коли со мной что случится? Пруссакам, Господи!
— Ваше величество, но покойный государь Пётр Алексеевич предоставил потомкам своим неотъемлемое право распоряжаться наследством державным по своему усмотрению.
— Вот я и распорядилась.
— Осмелюсь уточнить, ваше величество. Вы вправе изменить вашу волю, и тем самым первоначальное решение ваше утратит свою силу и станет недействительным для исполнения.
— Совсем?
— Всё в вашей воле, ваше величество. Я надеюсь до конца своих дней служить только моей государыне, но исключительно для того, чтобы неприятные, досадные мысли не занимали вашего императорского величества, можно в секретном и сохраняемом в тайне документе называть имена наследников, исключающих приход к власти великого князя.
— На мысли кого имеешь, канцлер?
— Никогда о том не думал, но ведь есть же возможность назначения младшего великого князя Павла Петровича. Скажем, с регентами.
— Выходит, как Бирон, Алексей Петрович? Не так ли?
— На всё ваша воля, государыня.
* * *
Пётр III, И. С. Барятинский,
Е. Р. Воронцова, Б. К. Миних
...Палуба галеры. Десяток придворных. Елизавета Романовна[26] в слезах. Арап Нарцис с мопсом на руках. Ветер. Холодный. Пронизывающий. Чужие берега. Вся его оставшаяся империя. Вся! Незачем себя обманывать после того, как даже Кронштадт отказался принять своего императора. Наотрез.
— Барятинский[27], вы были там, так в чём же дело?
— Мой государь, я не знаю, как сказать... Это ужасно!
— Говорите же, князь, что могло так поразить ваше болезненное воображение!
— Государь, когда шлюпка подошла к берегу, нас окликнули вопросом, кто прибыл. Девиер ответил, что император Пётр Фёдорович, на что раздался ответ: в Кронштадте не знают никакого императора Петра, но только императрицу Российскую Екатерину Алексеевну.
— Это невозможно!
— Но это так и было, государь.
— Кто отвечал вам?
— Морской офицер, имени которого я не знаю, но рядом находился вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин.
— И как же вы повели себя?
— Девиер вышел на берег, чтобы объясниться с говорившим. Вернее — он не хотел выходить. Его в полном смысле слова выманили. Вы же знаете, ваше величество, его несдержанный характер.
— Знаю, знаю. Но что же Девиер?
— Я не мог расслышать первых слов — Девиер стоял ко мне спиной. Но я совершенно отчётливо услышал слова вице-адмирала. Боже мой, если бы я мог их не повторять!
— Перестаньте из себя корчить слабонервную дамочку, князь!
— Талызин сказал: «Раз вы не нашли в себе мужества арестовать меня именем императора, я арестую вас именем императрицы. Предложите присоединиться к нам вашему спутнику — так будет лучше для нас всех». И я, не дожидаясь последствий, приказал гребцам развернуться в сторону галеры и грести изо всех сил. Впрочем, как вы сами видели, нас никто не стал преследовать.
— Это значит... это значит... я больше не император... и мои подданные, обязанные соблюдать данную мне только что присягу, изменили своему монарху...
— Вы плачете, ваше императорское величество? От слов одного офицера, одного безумца и предателя? Но у вас целая армия, у вас преданные вам голштинцы, которые одни стоят целой толпы, этих взбесившихся молодчиков. Вы должны действовать — немедленно, решительно, не жалея ни угроз, ни посулов.
— Полноте, Миних, игра окончена, и вы это знаете не хуже меня. Во мне нет той дьявольской хитрости, с которой императрица вместе со своими любовниками готовила эти события. Меня предала не только моя собственная жена и кузина — я просто недооценил её чудовищного властолюбия. Меня предала даже моя крестница, даже очаровательная умница княгиня Дашкова, попавшаяся на актёрскую игру и бесконечные театральные представления околдовавшей её императрицы. Без неё никто при дворе не обратил бы внимания на великую княгиню. Не сомневаюсь, что и вы все оставите меня. Как же я не догадывался, что живу среди лицемеров и лгунов!
— Государь, минута слабости простительна даже великим монархам. Я не сомневаюсь, что вы уже преодолеваете её и готовы отдавать приказания. Мы ждём их, ваше императорское величество.
— Что ж, нам следует незамедлительно вернуться на берег.
— Вы имеете в виду...
— Только Ораниенбаум. Я не думаю, чтобы императрица лишила меня этого любимого моего убежища. В конце концов, она была всегда холодной, но не жестокой. Да, да, поспешите в Ораниенбаум. Я подумаю над письмом, которое вы отвезёте императрице, Голицын.
— Но вас ждут голштинцы, государь!
— Полноте, мой верный Миних. У нас с вами даже нет плана их использования. Продуманного плана, я имею в виду.
— На войне такие планы рождаются в зависимости от обстоятельств. В этом нет ничего трагического.
— Государь, я умоляю вас не падать духом. Ваша верная Романовна согласится с любым решением, какое бы вы ни приняли. Мне ненавистна сама мысль, что вы так легко уступаете свои священные права этой ничтожной и двуличной женщине.
— Друг мой, у меня просто нет сил для сопротивления. Я устал и разочарован. Да, да, не удивляйтесь — именно разочарован. Измена в собственной семье...
— Но вы же собирались оставить свою супругу — о какой же семье вы говорите!
— Князь, я набросаю сейчас прожект письма императрице. Оно не будет пространным. Я попрошу у неё помилования и возможности удалиться навсегда в Голштинию. В конце концов, мне никогда не нужно было приезжать в Россию. Какая ирония судьбы — я лишился любимой Швеции, чтобы погибнуть в ненавистной России.
— Ваше императорское величество, как вы можете!
— Поверьте, Нарышкин, иногда во мне просыпается дар пророчества, и на этот раз говорит именно он.
* * *
Императрица Екатерина II, Е. Р. Дашкова
А. Г. Орлов — императрице Екатерине II. Ропша. 5 июля 1762.
Наш очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасаюсь, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, и больше опасаюсь, чтоб не ожил. Первая опасность для того, что он всё вздор говорит и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть...
А. Г. Орлов — императрице Екатерине II. Ропша. 7 июля 1762.
Матушка милосердная государыня,
Как мне изъяснить написать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину, Матушка! Готов итти на смерть; но сам не знаю, как беда эта случилась. Погибли мы, когда ты не милуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам вздумать поднять руки на Государя! Но, государыня, свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Барятинским Фёдором[28], не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помнили, что делали. Но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души на век...
Императрица Екатерина II Алексеевна знает, самое трудное — разговор с Катериной Романовной Дашковой. Весь двор не стоит её одной. Хоть бы скорее! Только бы скорее!
— Друг мой, какое облегчение увидеть вас около себя! Вы не поторопились ко мне, княгиня, после этих ужасных известий. Целый день я металась в одиночестве и ни с кем не могла поделиться охватившим меня ужасом — других слов для произошедшего я просто не в состоянии найти.
— Да, ваше величество, всё произошло слишком быстро для вашей славы и моей совести.
— Вы говорите так, как будто в этом был момент преднамеренности. Но, слава Богу, произошёл всего лишь несчастный случай. Страшная случайность, погрузившая в отчаяние всех очевидцев.
— Этого надо было ждать, раз рядом с императором появился Алексей Орлов.
— Вы не правы, совершенно не правы, дитя моё. И чтобы окончательно вас в этом убедить, вот письмо, написанное непосредственно после трагической смерти.
— Увольте меня от чтения писем, обращённых к вам, ваше величество.
— И всё же вы не можете их не прочесть — этих строк. Это необходимо для трезвой оценки случившегося. Вы же всегда стремились к истине и проповедовали доброту. Прочтите же, княгиня.
— Да, если бы не рука Алексея Орлова...
— Вы бы поверили, не правда ли? Но я хочу поделиться с вами тем, что происходит сейчас в моей душе. Я столько лет знала императора... и такого разного... Если бы вы знали, каким очаровательным он был при первом нашем знакомстве. Почти красивым — его очень изменила оспа, которой он переболел в год нашей свадьбы. Ловкий. Почти изысканный. С какой лёгкостью он переходил с немецкого на французский, на шведский, даже пытался говорить отдельные фразы на итальянском. И он столько рассказывал о прошлом Швеции. Швеция была его настоящей мечтой.
— Я знаю.
— Он говорил с вами о ней? И, наверно, интересно говорил? В юности он умел быть превосходным рассказчиком. И так мило смеялся.
— Я много обязана покойному императору по части знаний.
— Вот видите, видите, как много он потерял с годами! И потом наша свадьба. Мы венчались 21 августа 1745 года. Была чудесная погода. Светило солнце... И летели журавли... Очень высоко, так что не было слышно их клёкота. А великий князь спорил, что слышал их крики, и начал сердиться, когда я отнесла это к его воображению. А через четыре дня мы провели целый вечер в Оперном театре. Шла бесконечная опера «Сципион Африканский». В самом деле бесконечная — она началась в шесть вечера и тянулась чуть не до полуночи. Должна вам признаться, я равнодушна к музыке. Мне хотелось есть, и я едва сдерживала зевоту. А великий князь восхищался каким-то скрипичным пассажем, партией флейты и кричал на весь театр «браво». Это было так нарочито, как будто мне назло.
— Император хорошо играл на скрипке, и мне не раз приходилось музицировать вместе с ним.
— Нет, нет, не пытайтесь меня приобщить к вашей страсти. И только представьте себе мой ужас, когда по настоятельной просьбе великого князя тот же «Сципион Африканский», да ещё с значительными дополнениями, был исполнен через месяц или два. Великий князь отмечал каждую вставку, одними восхищался, другие осуждал, а я была уверена, что непременно усну, и всё время сжимала и разжимала пальцы, чтобы преодолеть сонливость.
— Император говорил, что он не пропускал ни одного спектакля в придворном театре. Он помнил все спектакли, названия пьес, имена комедиантов. И уверял, что только это поддерживало его добрые отношения с покойной императрицей-тёткой, обожавшей музыку. А где можно будет проститься с императором, ваше императорское величество? Хотя, что я спрашиваю — конечно, во дворце. И, вероятно, в Петропавловском соборе?
— Что за идея? Пётр Фёдорович подписал отречение и, следовательно, не имеет права на государственные почести. Я думаю, самое разумное последовать примеру императрицы Елизаветы. Для принцессы Анны Леопольдовны она выбрала Александро-Невскую лавру. Там покоятся многие члены императорского дома. И постаралась сократить время этой никому не нужной церемонии.
— Ваше величество, я не смогла себя заставить прочесть ваш указ: от чего скончался император?
— От геморроидальной колики. Так установили врачи. Со времени переезда в Ропшу, как сказывает Алексей Григорьевич Орлов, они шли у него одна за другой.
— Вы разрешите мне, ваше величество, отдать последний поклон моему крёстному отцу?
...Хвоя. Приторный запах хвои. Полутёмный храм. Солдатский гроб под простым покрывалом. Четыре свечи по углам. Потёртый голштинский мундир без регалий. Вздувшееся посиневшее лицо...
Среди монастырских погребений яма. Монахи. Никаких воинских почестей. Проводить в последний путь? Не дозволено. Когда погребение? Когда прикажут. Памятник... О памятнике ничего не известно. Траур при дворе запрещён.
Ненужный император... Единственный сын той, которая должна была стать российской императрицей.
ОБ АВТОРЕ
Молева Нина Михайловна — москвичка, окончила филологический факультет и аспирантуру Московского университета, а также Щепкинское училище при Малом театре. Доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор, член Союза писателей России. Архивист по убеждению. Ученица Игоря Грабаря.
Автор более 50 научно-исследовательских и художественных книг, около 300 статей и публикаций. Среди произведений: «Архивное дело №...», «Человек из легенды», «Ошибка канцлера», «Княгиня Екатерина Дашкова», «Манеж. Год 1962-й», «Когда отшумела оттепель», «Московская мозаика», «Москвы ожившие преданья», «Жизнь моя — живопись», «Москва извечная», «Московские были», «Литературные тропы Москвы», «Путями истории, дорогами искусства», «Государыня-правительница Софья», «А. Г. Орлов-Чесменский» и многих других.
Роман «Привенчанная цесаревна» печатается впервые.
Примечания
1
Патриарх Адриан (1627—1700), патриарх Московский и всея Руси с 1690. Поддерживал Петровские реформы. По кончине Адриана не было новых выборов.
(обратно)2
Речь идёт о Никоне (Никита Минов), русском патриархе в 1652—1666 гг. Провёл церковные реформы, ставшие причиной раскола Православной церкви. Вмешательство Никона во внутренние и внешние дела государства вызвало его разрыв с царём Алексеем Михайловичем.
(обратно)3
Намёк на то, что прадед Петра I Фёдор (Филарет) Никитич Романов (умер в 1633) получил сан митрополита при Лжедмитрии I (1605). Патриарх с 1608—1610, с 1619. После избрания сына царём (1613) фактически управлял страной.
(обратно)4
Михаил Фёдорович (1596—1645), первый русский царь (1613—1645) из династии Романовых.
(обратно)5
Весной 1696 г. Пётр I предпринял второй Азовский поход (первый, в 1695 г., когда Азов был осаждён русскими войсками с суши, окончился неудачей). В весне 1696 г. в Воронеже были построены корабли и суда Азовского флота.
(обратно)6
Здесь говорится о потешном Кожуховском походе. В сентябре 1694 г. на берегу Москвы-реки под Кожуховом в течение трёх недель проводились манёвры, в которых участвовало несколько тысяч человек. Они стали серьёзной подготовкой для предстоящих азовских походов 1695 и 1696 гг.
(обратно)7
В 1572 г. Иван IV женился в четвёртый раз на Анне Колтовской, через три года заточил её в монастырь, якобы за участие в заговоре.
(обратно)8
Василий III Иванович развёлся с женой Соломонией Сабуровой из-за того, что у неё не было детей. Она была насильственно пострижена в монастырь, где, по преданию, у неё родился сын.
(обратно)9
Здесь говорится о датском принце Вольдемаре, женихе царевны Ирины Михайловны. Свадьба не состоялась из-за разногласий в вере.
(обратно)10
Портрет Петра I был написан в 1698 г. в Англии по желанию короля Вильгельма III художником Кнеллером.
(обратно)11
Речь идёт о царевне Татьяне Михайловне, дочери царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой, тётке Петра I и царевны Натальи Алексеевны.
(обратно)12
Дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, сводная сестра Петра I и царевны Натальи Алексеевны.
(обратно)13
Ветхозаветный патриарх Мафусаил прожил 969 лет.
(обратно)14
Речь идёт об Елизавете Екатерине Христине (1718—1746), дочери герцога Мекленбургского-Шверинского Карла Леопольда и Екатерины, дочери царя Ивана V. С 1722 жила в России. Правительница Российской империи Анна Леопольдовна при малолетнем сыне Иване VI Антоновиче с 9.11.1740 по 25.11.1741.
(обратно)15
Коронация Екатерины состоялась 7 мая 1724 г. в Успенском соборе Московского Кремля, в присутствии всех высших чинов государства и при огромном количестве народа.
(обратно)16
Сестра Анны Ивановны Монс, Матрёна, была замужем за Фёдором Николаевичем Балком, московским генерал-губернатором.
(обратно)17
Казнь Вильяма Монса состоялась 16 ноября 1724 г.
(обратно)18
Гангрена, название получила от повальной смертоносной рожи XI в., которую исцеляли мощи Святого Антония.
(обратно)19
Марфа Матвеевна Апраксина — вторая жена царя Фёдора Алексеевича (1661—1682).
(обратно)20
Т. е. архиепископ Феодосий, позволивший себе публично и весьма неодобрительно высказаться об Екатерине I. Он был замурован в подземную тюрьму в монастыре под Архангельском и в феврале 1726 г. умер без покаяния.
(обратно)21
Обручение императора Петра II Алексеевича с дочерью Меншикова Марией состоялось 23 мая 1727 г.
(обратно)22
Карл Август, епископ Любекский, жених Елизаветы Петровны, скончался от оспы в 1727 г.
(обратно)23
В сентябре 1727 г. А. Д. Меншиков был выслан в Раненбург, весной 1728 г. — в Сибирь, в Берёзов. Умер 12 ноября 1729 г. Его дочь Мария зачахнет в Берёзове 26 декабря 1729 г.
(обратно)24
Т. е. сестру Петра I Наталью Алексеевну.
(обратно)25
Т. е. Анну Леопольдовну. См. примеч. 14.
(обратно)26
Елизавета Романовна Воронцова, сестра Екатерины Романовны Дашковой, была близким другом императора Петра III.
(обратно)27
Барятинский Иван Сергеевич (1740—1811), князь, генерал-поручик. С 1761 флигель-адъютант, один из приближённых императора Петра III.
(обратно)28
Барятинский Фёдор Сергеевич (1742—1814), князь. Участвовал в дворцовом перевороте императрицы Екатерины II, в убийстве императора Петра III.
(обратно)

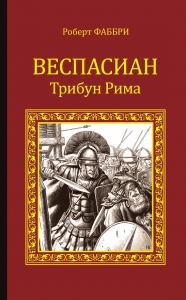


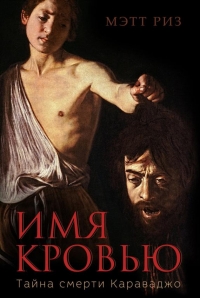
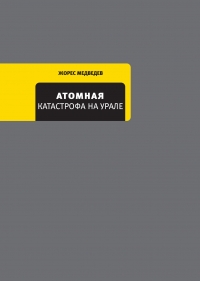

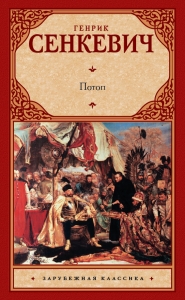
Комментарии к книге «Привенчанная цесаревна. Анна Петровна», Нина Михайловна Молева
Всего 0 комментариев