Геннадий Турмов По дуге большого круга
© Турмов Г. П., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
* * *
Вместо пролога
Огромную территорию России от Уральских гор до побережья Тихого океана иностранцы издавна называли Сибирью.
Это понятие настолько укоренилось, что и до сих пор для многих из них Владивосток, Омск, Хабаровск… располагаются где-то там – в Сибири.
Коуди Марш, известный американский журналист, побывавший в 1920 году на российском Дальнем Восток, опубликовал в журнале «Нэшнл джиографик» статью под названием «Знакомство с российским Диким Востоком».
В ней он пишет: «…В Сибири так много всего, что американцу приходит на ум “Дикий Запад” прежних дней… Американка, смеявшаяся над англичанином, который жаловался, что за 10 дней, проведенных им в Нью-Йорке, не видел ни одного индейца, по прибытии во Владивосток спросила, есть ли в городе опасность встретить волков. За все время пребывания в Сибири, я не видел ни одного!»
Далее он отмечает: «…Города русского “Дикого Востока” не очень густо населены… Первым следует Владивосток. На другом конце этой земли – Омск, столица. Между ними, как севернее, так и южнее, – Томск, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Хабаровск, Иркутск, Харбин и Никольск.
Лишь одна черточка этих красивых городов вызывает больше всего возражений – их грязь и сопутствующие ей ароматы. Я как-то с осуждением отметил это в беседе с русской женщиной, повидавшей свет. Она же резко напомнила мне, что разнообразная вонь чикагских скотопрогонных дворов, дымы Питтсбурга и острый бензиновый дух нью-йоркской Пятой авеню все равно занимают первые места в ее списке неприятных городских запахов».
К. Марш называет Владивосток «интереснейшим и крупнейшим городом Восточной Сибири» и заключает: «…Я так подробно остановился на Владивостоке, потому что он – ключ к Сибири». И далее: «К сибирской жизни изумительно прикипаешь. Что-то в ней чарует. Меня с более чем тысячным американским контингентом эвакуировали в Манилу и все три месяца на Филиппинах я то и дело слышал, что бойцов тянет обратно в старый, добрый “Влади”».
Начав перечень «сибирских городов» с Владивостока и закончив Никольском (будущим Уссурийском), американский журналист как бы очертил часть «дуги большого круга», вдоль которой прошла жизнь героев этой книги.
Вообще-то «дуга большого круга» – специальный термин в кораблевождении, который по-другому называется ортодромией (по-гречески – прямой путь) и представляет собой кратчайшую линию между двумя точками на поверхности вращения (в данном случае земного шара). Откуда об этом мог знать сельский парубок Иван Потопяк, когда вместе с другими переселенцами рассматривал самодельную карту, на которой был начертан путь от села Ходыванцы на Украине до села Антоновки в Приамурье? А ведь именно он назвал этот путь «дугой большого круга».
Дуга первая
Иван забросил в телегу охапку свежескошенной травы, разровнял ее и блаженно растянулся, насколько позволяло узкое пространство кузова.
Многолетний переход через всю страну крестьянских переселенцев из Люблинской губернии царства Польского Российской империи подходил к завершению. Еще один рывок в десяток верст – и они въедут в деревню Антоновку – конечный пункт их нелегкого пути.
Иван много передумал за это время, но не находил ответов на множество своих вопросов.
– Правда ли, что их ждет рай земной, как обещали вербовщики, агитируя за переезд на Дальний Восток?
– Много ли дадут земли?
– Удастся ли и ему выделиться и зажить своей семьей?
– Выйдет ли за него Ксения Зозуля, семья которой тоже была в обозе переселенцев?
Пока что место перед Антоновкой ему нравилось. Стояла пора ранней осени, а бабье лето – оно по всей России, наверное, одинаковое. Солнце было по-летнему яркое, но изнуряющей жары не было. Стрекотали цикады, носились взад-вперед стрекозы, на все лады распевали ранние птахи. А таких огромных бабочек, такого их разноцветья Иван не встречал нигде. Наблюдая, как огромный махаон, величиной с небольшого воробья, взгромоздился на яркий цветок, тут же согнувшийся под его тяжестью, он вспомнил, как родственники отговаривали его отца, Федора Потопяка, от переезда на Дальний Восток.
– Та куда ж вы собрались? Там вже ж яблоки стаканами продають, а все то, шо шевелится, то и кусается!
Иван слышал, что мелкие яблочки те называются «китайками», и только они растут в том климате.
Однако Потопякам, Зозулям и другим землякам до того опостылело бесправное батрацкое житье, беспросветная бедность и нищета, что они готовы были уехать хоть на край света. По существу, так оно и вышло.
– Ну, Ваня, с богом, – пробасил отец, беря в руки вожжи, и, как молодой, ловко вспрыгнул на передок телеги.
– Но-о-о, родимая, отдохнешь скоро, – понукал он сивую лошадку, которая действительно, будто что-то поняв, бодро затрусила по еле видимой колее, помахивая хвостом и отгоняя надоедливых оводов.
Иван, привычно подпрыгивая на телеге от тряски, глядел в небо, по которому проплывали меняющие на ходу очертания кучевые облака, и вспоминал свое село Ходыванцы, учебу в церковно-приходской школе, работу подпаском у помещика, у которого батрачил и отец.
Крепко сбитый, с ярко-синими глазами, любознательный подросток через год после окончания церковно-приходской школы легко сдал экстерном экзамены за курс двухклассного городского начального училища. На этом его образование и закончилось. Само по себе, село, где жили Потопяки, было сравнительно большим. В нем были церковь, костел, двухклассное училище, и более двух десятков преимущественно еврейских лавок, а двухэтажных домов и десятка, наверное, не набралось бы.
В селе Ходыванцы, как и во всей Люблинской губернии, проживали поляки, украинцы (тогда их называли малороссами) и евреи.
Малороссы, большей частью православные, недавно обращенные из унии, заселяли юго-восток губернии и, как правило, батрачили на польских помещиков. К таким семьям относились и Потопяки.
Однако знавали они и лучшие времена. По семейным преданиям, в канун польского восстания в дочку их прадеда по отцовской линии без памяти влюбился высокородный польский князь. Да и было в кого влюбиться. Высокая, статная, с русой косой ниже пояса и такими пронзительными синими глазами, что не только парубки, но и девки, и взрослые мужики, и бабы не могли долго выдерживать ее взгляда. Отводя глаза, бабы крестились, думая про себя:
– Дал же Господь Бог такую красоту босячке!
А «босячка» София проходила по селу величавой походкой, горделиво выставляя на всеобщее обозрение свою неповторимую красоту девичьей свежести и обаяния. Хотя гордячкой она не была, но и подружки у нее не водились: кому охота, чтобы парни пялились только на нее, не обращая никакого внимания на других девчат.
Остановившись испить водицы у колодца, молодой князь так и застыл с кружкой, из которой выливалась вода на его расшитый золотом и серебром кунтуш. София, а это она подала князю кружку с водой, рассмеялась:
– Ой, пане, весь в воде…
Князь отвел глаза от ее синих очей и тоже расхохотался, вторя ее заливистому, как перезвон колокольчика, смеху.
А когда они отсмеялись и посмотрели в глаза друг другу, то почувствовали, как будто бы молния пробежала между ними. Зарумянившись, София бросилась бежать к дому, а князь долго еще стоял у колодца.
Через день во двор к Потопякам вломилась толпа шляхтичей и князь, упав на колено, обратился к отцу Софии:
– Отдай за меня дочь!
– Что ты, что ты, – замахал на него руками тот. – Не пара она тебе, натешишься, да и бросишь ее, а нам потом позора не оберешься. Ступай с богом, князь.
– Не хочешь по-хорошему – украду, пся кровь, – вспылил князь и в бешенстве ускакал, увлекая за собой сподвижников.
Отец Софии тяжело вздохнул, перекрестился: «Слава богу!» – и пошел утешать дочь.
Характер у него проклятущий: никогда не рассердится, но словами так доймет, что лучше морду бы тебе набил.
Как всякий малоросс, был ленив и хитер, любил прикинуться дурачком, чтобы провести начальство.
А еще через день исчезла София, не оставив и следа. Позже отец нашел на крыльце кожаный мешочек с золотыми монетами. Потом в губернии полыхнуло восстание, польских повстанцев сменили русские солдаты, настало время расправ.
В этой «мясорубке» сгинул молодой князь: то ли он был убит в бою, то ли казнен, то ли отправлен в ссылку.
София вернулась домой через год с маленьким ребенком на руках.
С этого времени в семье у Потопяков рождались дети с яркими васильковыми глазами.
Иван очнулся от окрика отца:
– Давай, Ваня, смени меня – берись за вожжи.
Иван на ходу поменялся местами с отцом, оглядел тянущийся за их телегой обоз, успев помахать рукой Ксении, которая, зардевшись, спряталась за узлы с пожитками.
К вечеру обоз переселенцев добрался до околицы села Антоновка.
Как известно, одной из главных целей столыпинской аграрной реформы являлось переселение части крестьян на окраины Российской империи. Путем переселения царское правительство предполагало улучшить условия жизни, землепользования и хозяйствования крестьян.
Переселенцам предоставлялись льготы: с них снимались недоимки по казенным сборам; они освобождались от казенных и денежных сборов на 5 лет, а в последующие 5 лет этими сборами облагались в половинном размере; на 3 года им предоставлялась отсрочка от воинской повинности.
Переселенцы ехали в теплушках, переделанных из товарных вагонов, которые не имели ни отопления, ни вентиляции, ни санитарных удобств. Поезда добирались обычно до сретенского пункта, откуда переселенцы водным путем доставлялись до Благовещенска, где получали необходимые документы. Наши бедолаги провели здесь целую неделю.
Далее переселенцы решили добираться до места назначения сухопутным путем.
Дороги нельзя было назвать плохими – их вообще не было. Да и вдобавок ко всему в семи верстах от Благовещенска подводы увязли в зыбуне и больше недели переселенцы ждали, когда вытянут из трясины завязнувшие телеги.
Кратковременное пребывание русских в Приамурье во второй половине XVII века почти не оставило следов в географических названиях, за исключением нескольких случаев.
На месте русского города Албазин возникло село Албазино, на месте Кумарского острога – село Кумара. В районе селения Игнашино, основанного в XVII веке, было вновь основано село, названное Игнашиным. Остальные русские названия XVII века, такие, например, как Паново, Шилово, до нашего времени не дошли.
Русские названия появлялись, начиная со второй половины XIX века, после окончательного вхождения Приамурья в состав России и интенсивного переселения на Амур крестьян из западных районов России.
Первыми населенными пунктами в Амурской области были казачьи станицы на левом берегу Амура, основанные в 1857 и 1858 годах.
Крестьянские же селения в конце XIX – начале XX века возникали в стороне от реки, в южной части области с наиболее плодородными почвами.
Вырастая на новых местах, селения получали названия по имени или фамилиям первых переселенцев. Так получило свое название и село Антоновка, основанное в 1902 году и названное по фамилии первого переселенца Петра Антонова, поставившего свой дом на правом берегу реки Райчиха. Вначале поселение называлось Увальное и только тогда, когда появилось уже несколько дворов и жители привыкли считать дома, как «вправо или влево от Антонова», деревня стала Антоновкой.
Материальное положение переселенцев было незавидное. Все надежды возлагались на ссудную помощь. В то время размер ссуды на хозяйственное устройство для переселенцев в Амурскую область устанавливался в размере 200 рублей.
Конечно, эта сумма была недостаточной.
Отец с Иваном еще в дороге подсчитали, что на устройство хозяйства и приобретение инвентаря нужно ни много ни мало 745 рубликов.
В эту сумму входили: дом из бесплатного лесного материала при постройке собственными силами – 150 рублей; три лошади – 300 рублей; упряжь к ним – 100 рублей; плуг – 60 рублей; две бороны – 10 рублей; телега и сани – 40 рублей; короба – 70 рублей; инвентарь – 15 рублей.
Отец полез чесать затылок, а Иван только покрутил головой.
– Ничего, Ваня, как-нибудь справимся, – сказал отец и хитро подмигнул сыну, – возьмем ссуду, если что…
А Иван вспомнил, как перед самым отъездом из Ходыванцев мужики собрались во дворе хаты одного из переселенцев. Они окружили стол, на котором был расстелен лист грубой бумаги, и, примолкнув, внимательно что-то рассматривали. Протиснувшись поближе к столу, Иван увидел самодельную карту, точнее, схему, где были без всякого масштаба изображены города, через которые они собирались ехать к месту назначения.
– Кака крива оглобля, – хмыкнул кто-то из мужиков. – Так шо, по такой кривулине и ехать будем?
– Получается, по дуге большого круга, – попытался подвести итог разговору самый грамотный из собравшихся, хотя и самый молодой, Иван Потопяк. Отец было цыкнул на него, но мужики загудели:
– А и впрямь как по дуге…
– Ага, вон она кака жизнь – как коромысло: на одном конце Ходыванцы, а на другом – даже и не знамо что…
Мужики замолчали, пригорюнившись, и стали расходиться по домам.
…Избу Потопяки срубили к концу осени. К этому времени поспели и все другие семьи переселенцев. Так что в зиму вошли в своих собственных хатах. Конечно, работать приходилось не только в световой день, но зачастую и ночью, пока сон не сваливал работников тут же возле сруба на уже пожухлую траву. По утрам отец будил Ивана с братом:
– Вставайте, хлопцы! Торопиться треба. Вже скоро снег лягет, а у нас еще и крыша не накрыта.
Облившись холодной водой, чтобы прогнать остатки сна, братья брались за топоры. Работать под палящим солнцем было до одурения тяжело. Уже через час перед глазами все плыло, мелькали черные мушки, одежда напитывалась соленым потом, ее прокусывали оводы и слепни, тучей кружившие вокруг работников, корчевавших пни или отесывающих стволы только что поваленных деревьев.
Для выросших в безлесных местах Люблинской губернии переселенцев амурская тайга была в диковинку. Не умели они охотиться ни на зверье, ни на «дикоросы»: так называли старожилы дикий виноград, кишмиш, лимонник, грибы и прочие дары природы.
Лишь только через несколько лет, присмотревшись к корейцам и китайцам, как к местным, так и забредающим в поисках тех же дикоросов, начали они постигать «науку тайги».
Несмотря на поистине дикую усталость после работы по постройке домов, Иван, как и другие парубки из семей переселенцев, все-таки находили время, чтобы встречаться с девчатами.
Молодость брала свое. Парни и девушки колготились на окраине села до утренней зари, потом пару часов короткого без сновидений сна и снова за работу.
Иван не сводил глаз со своей Ксении, с трудом дожидаясь мгновений, когда они оставались вдвоем.
Ксения не позволяла Ивану никаких вольностей, и он частенько потирал щеки, на которых отпечатывался след от оплеух, которые щедро влепляла ему подружка своей маленькой, но сильной ладошкой.
Ксения была на три года младше Ивана. В свои шестнадцать лет она выглядела вполне сформировавшейся девушкой. Зеленоглазая, с темно-русой косой до пояса, невысокая, но ладно скроенная, она не раз ловила на себе заинтересованные взгляды парней.
Однако Иван не позволял никому из парубков ни на один шаг приближаться к своей Ксюше.
Свадьбу сыграли в годовщину прибытия переселенцев в Антоновку. Была она скромной, «по достатку», как говаривали в семьях новобрачных. Через положенное время Ксения принесла первенца – горластую девочку, получившую имя Александра. Иван очень хотел мальчика, но раз так получилось, то пусть хоть имя будет мальчишечье, настаивал на своем глава молодой семьи.
Переселенцам в Антоновке было трудно. Ожиданиям и надеждам безбедной и зажиточной жизни не суждено было сбыться.
Впоследствии Иван писал в автобиографии:
«Ввиду того, что хозяйство не обеспечивало прокормление семьи, мы с братом пошли на заработки, и я вплоть до 1915 г. (до ухода в царскую армию) работал на постройке Амурской железной дороги, отрабатывал у кулаков за аренду земли, на которой отец сеял, а в последнее время работал на Кивдинских угольных копях. В 1914 году началась Первая мировая война, а в 1915 я был мобилизован и направлен во Владивосток, где формировался полк, в составе которого мне довелось воевать на фронтах этой кровопролитной войны».
Для Ивана Потопяка наступило солдатское житье-бытье с артобстрелами, штыковыми атаками, нудными сидениями в окопах.
Сначала Иван попал в 11-й Восточно-Сибирский полк, расквартированный во Владивостоке, который перед самой войной вместе с другими «Восточно-Сибирскими» полками был переименован просто в Сибирский полк.
Новобранцы проходили ускоренное обучение на Русском острове, куда полк перевели на летние сборы и доукомплектование.
Полк прославился во время Русско-японской войны в сражении при Тюренчене.
Шло время, менялись поколения стрелков, но в строю еще оставались ветераны, помнившие этот бой, в основном фельдфебельский состав.
В редкие минуты отдыха от учений старые служаки, собрав вокруг себя группы новобранцев, рассказывали о событиях тех времен.
Иван, как и большинство новобранцев, жадно внимал этим немудреным воспоминаниям. Ведь происходило это не так уж и далеко от тех мест, где он жил после переселения на Дальний Восток. Особенно интересно было слушать фельдфебеля Спиридонова, грудь которого украшали два Егория и четыре медали «За храбрость».
«Подходил к концу третий месяц войны, – рассказывал ветеран. – В район пограничной реки Ялу, разделяющей Корею и Китай, приняли бой с пятикратно превосходящими силами японцев (три полных дивизии) четыре Восточно-Сибирских полка.
В задачу русского отряда входило только обнаружение противника и задержка неприятеля на переправе через реку Ялу непродолжительное время. Однако русским полкам пришлось принять бой.
Артиллерийская батарея и пулеметная рота (единственная в отряде) были накрыты огнем японских осадных орудий и уничтожены. Положение 11-го полка стало критическим. Почти вся японская армия обрушилась на него, охватывая с трех сторон и заходя в тыл.
Несколько раз под звуки полкового марша стрелки во главе с командиром бросались в штыковую атаку. Но японцы не принимали удара. Их передовые части откатывались назад и в упор расстреливали редеющие шеренги сибирских стрелков. Погиб командир полка – полковник Лайминг, один командир батальона – подполковник Дометти убит, другой – подполковник Роевский тяжело ранен и взят в плен. Погибли командир артиллерийской батареи подполковник Моравский и полковой адъютант подпоручик Сорокин; ранен капельмейстер Лоос. Врач полка Шевцов, делавший на поле сражения перевязки, захвачен в плен. В этот момент полковой священник отец Стефан Щербаковский благословил солдат и, презрев смертельную опасность, сам пошел впереди боевого знамени с поднятым в руке крестом. Пробиваясь сквозь цепь японских солдат, неустрашимый пастырь был дважды ранен и вскоре пал без сознания. Раненые после перевязок и оказанной первой медицинской помощи вновь становились в строй.
Немалые потери полк нес во время отступления – приходилось под перекрестным огнем отбиваться от превосходящих сил противника и одновременно выносить на руках раненых. Выводил его раненый командир второго батальона подполковник Яблочкин.
Полк прошел всю войну, впереди его ждали Ляоян и февральские бои 1905 года. Везде, где бы он ни дрался, под руководством уже полковника Яблочкина, он не уронил славы, добытой в первом бою.
За всю кампанию 1904–1905 годов свыше 400 человек в составе полка были награждены орденами Святого Великомученика Георгия Победоносца и знаками отличия Военного ордена.
В 1907 году император Николай II назначил вдовствующую императрицу Марию Федоровну шефом полка.
А еще через три года состоялась передача полку дара императрицы Марии Федоровны – картины художника Ю. И. Репина «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь». Она была заказана сыну Ильи Репина, Юрию, к 15-й годовщине со дня создания полка». (Картина чудом сохранилась до настоящего времени и экспонируется в Приморской государственной картинной галерее города Владивостока.)
– Вот так-то, ребята! – закончил свое повествование фельдфебель.
Иван не раз вспоминал этот рассказ, и только впоследствии понял, что так новобранцам преподносили уроки патриотизма, чтобы шли они в штыковую атаку, свято веря, что сражаются «За Веру, Царя и Отечество»». Хотя какое там отечество на Манчжурских сопках, а потом и в окопах под Салониками (Греция), куда забросила Ивана фронтовая судьба.
Солдатские будни на Русском острове проходили в жесточайшем режиме муштры и обучения стрельбы из винтовок Мосина, рукопашному и штыковому бою. Унтер-офицеры покрикивали суворовское:
– Пуля-дура, штык-молодец! – показывали на соломенных чучелах приемы обращения с оружием, командуя при этом:
– Делай-раз! Делай-два! Делай-три!
Недотепы получали незлобивые затрещины, а некоторые и увесистые тумаки от строгих «учителей». Чаще всего они доставались Ивану Сумареву, земляку из Антоновки.
Иван, понимая, что от его навыков будет зависеть жизнь на фронте, старательно выполнял упражнения, получая в награду одобрительные кивки своих начальников и не замечая злобных взглядов Сумарева. Об этих взглядах Иван вспомнит через двадцать лет. Месяца через два ранним осенним утром полк подняли по тревоге, погрузили на плашкоуты и после высадки на Адмиральской пристани построили поротно и быстрым маршем через арку Цесаревича вывели на Светланскую улицу в районе Главного морского штаба. Без оружия с шинельными скатками через плечо солдаты промаршировали по Светланской и повернули на Алеутскую к железнодорожному вокзалу, где их ждал пыхтящий под парами паровоз с прицепленными теплушками, на стенке каждой из которых чернела надпись «40 человек – 8 лошадей».
Воинский эшелон следовал почти без остановок и задержек.
Через открытые двери теплушки Иван видел мелькавшие словно призраки полустанки, села и города.
После Читы пошли смутно узнаваемые места.
«И снова Дуга большого круга», – подумал про себя Иван. Защемило на сердце, вспомнились Ходыванцы, трудное трудовое детство, полувзрослые забавы. После одной из них Ивану долго пришлось прятаться от парней, когда он подсыпал на площадку для танцев едкого табака. Девки тогда ходили без исподнего… и разбежались сразу после второго танца. В отместку они перестали появляться вечерами на площадке для посиделок. Каким-то образом парни прознали про виновника, и Ивану пришлось несладко.
«Вот дурак», – подумал Иван, невольно улыбнувшись своим мыслям.
«Как там Ксюша моя управляется?» – задал сам себе вопрос Иван и загрустил еще больше.
Оставив на ее руках годовалую дочку, он надеялся на то, что будет она жить все-таки у родных. Однако знал, что на своем собственном хозяйстве семьи Потопяков и Зозулей не вытянут, и придется ей на стороне искать какую-нибудь работу.
А в это время Ксения действительно подыскала себе место горничной в семье чиновника средней руки в Благовещенске.
Чистенькая, ухоженная, скромная – она сразу же понравилась хозяйке дома, в котором проживали помимо мужа и двух малолетних сорванцов ее родители.
В крестьянских семьях жизнь девочки до замужества представляла собой подготовку к семейной жизни. Ни о какой школе и речи не шло.
С семи лет после первых заданий по хозяйству: кормить кур, пасти гусей, выгонять корову на пастбище – объем работы по дому с годами нарастал. К шестнадцати годам она должна была уметь доить корову, работать на сенокосе, чисто убирать дома и на подворье, ухаживать за малыми сестрами и братьями, готовить еду, то есть становилась полноценной работницей.
Ксения выросла трудолюбивой, чистоплотной, и, как ни странно, в отличие от подружек была совсем не болтливой, а все радости и невзгоды переносила внутри себя.
Она нередко слышала от матери нелестные отзывы о соседях:
– Вот, грязные кацапы!
И, действительно, подворья украинских переселенцев резко отличались от русских. С началом лета во дворах у хохлов расцветали цветы, семена которых привозили еще с родимых мест. А на второй и третий год после переселения во дворах пышным цветом распускались пересаженные из подлесков пионы, лилии и другие диковинные и не виданные на Украине дикоросы, многие из которых почему-то не имели запаха.
А к концу лета, началу сентября, на огородах слепили глаза маленькие солнышки подсолнухов.
Иногда хозяйственная жилка переселенцев выходила за всякие пределы. За тысячи верст украинские бабы везли с собой округлые тяжелые камни – гнет для засолки капусты и поэтому, считали они, квашеная капуста на новом месте получалась такой хрустящей и вкусной, ну а «пелюска» – разрезанные на четыре части кочаны – была вообще верхом блаженства.
Во всех своих переездах таскала за собой Ксения огромную чугунную сковородку, вмещающую почти полведра начищенной и подготовленной к жарке картошки. И не зря! Забегая вперед, можно сказать, что здорово пригодилась она, когда ее второй по старшинству ребенок – сын, здоровяк Василий, запросто съедал за завтраком содержимое этой сковородки, а второй такой хватало на всех остальных семерых членов семьи…
Территории Амурской и Приморской областей, наиболее компактно заселенные выходцами с Украины, в этническом сознании переселенцев запомнились под именем «Зеленый клин». Происхождение этого названия историки связывают с буйной зеленой растительностью этих краев, а также географическим положением, «клином» между Китаем и Японским морем.
Современники так описывают села Приморья и Приамурья начала XX века: «Мазаные хаты, садки, – цветники и огороды возле хат, планировка улиц, внутреннее убранство хат, хозяйственное и домашнее имущество, и даже одежда – все это как будто целиком перенесено с Украины.
Базар в торговый день, например, в Никольск-Уссурийске (впоследствии переименованным в Ворошилов и Уссурийск) весьма напоминает какое-нибудь местечко на Украине. Та же масса круторогих волов, лениво пережевывающих жвачку подле возов, наполненных мешками муки, крупы, сала, свиных туш и т. п., та же украинская одежда на людях. Повсюду слышится веселый, бойкий, малорусский говор и в жаркий летний день можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде, Решетиловке или Сорочинцах времен Гоголя».
Собственно, подобное наблюдалось и в других городах и крупных селах Дальнего Востока, в том числе и в Благовещенске.
Но это видимая, так сказать «парадная» сторона дела. Была и обратная сторона «медали».
Один из писателей того времени предупреждал переселенцев:
«…Зеленый клин – куда все желающие легкого хлеба, должны лететь как птицы. В этой стране, так же как и в других, нелегко зарабатывать себе кусок насущного хлеба, а кто хочет разбогатеть там, тот должен работать в поте лица своего: сама по себе земля ничего не дает; над нею приходится хорошо подумать и полить ее каплями своего пота.
Не на радость и беззаботную жизнь, а на тяжелый труд, на труд упорный, хотя и вознаграждающийся, должен ехать всякий переселенец… Всего там много, правда, дал Бог; но ко всему человек должен приложить свой труд и терпение, подчас не меньше, чем и дома на родной истощенной ниве. Кто боится этого труда или не умеет взяться за него даже у себя на родине, тот и в этом, как думают некоторые крестьяне, “раю” останется голодным. Напрасно такой человек бросит свой родной края, родных, родные могилы… Охватит его там раскаяние и пропадет такой человек. Таких несчастливцев много среди переселенцев: расстроили они свою прежнюю жизнь на родине и проклинают теперешнюю долю».
Благовещенск в отличие от многих городов дальнего Востока располагался на равнине, и улицы, построенные по заранее разработанному плану, были прямыми и широкими. Город на слиянии рек Амура и Зеи служил пристанью для перегрузки товаров с поездов на речные суда и обратно. Зимой пароходы отстаивались у берегов Амура.
Только на двух центральных улицах были построены около трех десятков больших кирпичных зданий, остальные строения были деревянными.
Жизнь в дореволюционном Благовещенске была значительно дешевле по сравнению с другими городами Дальневосточного края.
Изредка Ксению отпускали на побывку в Антоновку, где она пару деньков отдыхала от горьких дум.
Ксения ничего не знала о судьбе Ивана: где он, что с ним?
Из хозяйских разговоров и пересудов кумушек с улицы она понимала, что идет кровопролитная бойня, множество российских солдат уже полегли на полях сражений. А от Ивана ни одной весточки…
Да и когда она получит письмо, как прочитает – ведь неграмотная! Тут она подумала, что хозяева прочли бы, да где же эта весточка?
Ксения и так немногословная, все больше замыкалась в себе.
Так и прослужила она в Благовещенске почти два года, пока ветры революции не сдули хозяев в Китай, куда бежали, не зная толком зачем, обыватели города, имеющие более-менее правдами и неправдами нажитое добро.
…Уже на Германском фронте Иван попал в стрелковую команду 4-го дивизиона 2-й артиллерийской бригады. Основной задачей стрелковой команды была охрана артиллерийской позиции.
Перед очередным заступлением в ночной наряд на душе у Ивана словно «кошки скребли». Какая-то неосознанная тревога овладела им. Он поделился было тревожными мыслями со своим напарником Василием из Хабаровска, но тот только отмахнулся.
– Та ни чо! В первой раз, чо ли!
В этот раз их пост был на самых дальних подступах к батарее. Тревога не отступала. Дело было осенью, уже подмораживало. Заслышав какой-то подозрительный шорох, Иван сдернул винтовку с плеча, взял ее на изготовку и почти вплотную столкнулся с немецким солдатом. Иван успел сделать выпад и воткнул штык в живот противника. Выдернув винтовку из обмякшего тела, он передернул затвор, выстрелил в воздух и заорал:
– Тревога!
Какие-то тени словно растворились в ночной темноте. Иван выстрелил еще несколько раз…
Со стороны батареи спешила подмога. При свете вынырнувшей из-за туч луны Иван рассмотрел лицо убитого им немца. Молоденький, как он сам, солдатик лежал, запрокинув голову, уставившись в предрассветное сумеречное небо невидящими глазами. Иван отбежал в сторону и согнулся от нестерпимой боли в животе: его выворачивало наизнанку. В это время к нему подбежал командир роты штабс-капитан Маслов.
Иван выпрямился, вытирая выступившие от напряжения слезы, но не мог произнести ни слова.
– Ничего, ничего! Молодец, Потопяк, – похлопал его по плечу штабс-капитан, – немецкая разведка пожаловала, языка хотели захватить.
Василия из Хабаровска убили ножом в спину.
А через несколько дней штабс-капитан Маслов прикрепил к шинели Потопяка медаль «За храбрость» 4-й степени на георгиевской ленте.
Буквально через месяц Иван принял участие в штыковой атаке против немцев, прорвавших оборону русской пехоты и пытавшихся захватить батарею.
После боя грудь Потопяка украсила еще одна медаль – «За храбрость» 3-й степени.
Война все больше переходила в стадию позиционной, окопной.
В 1915 году Франция запросила у России ни много ни мало, 400 тысяч солдат для Западного фронта.
После долгих переговоров и уговоров Николай II решил послать во Францию две особые бригады из нескольких полков каждая.
1-я особая бригада была доставлена во Францию окружным путем – поездом из Москвы до Шанхая, а далее на судах – до Франции, где русские войска встречали как спасителей.
2-я особая бригада, в составе которой оказался Потопяк, направлялась на Салоникский фронт, который образовался в октябре 1915 года после высадки в греческом городе Салониках англо-французского экспедиционного корпуса.
2-я особая бригада должна была идти из Архангельска морем во Францию (Брест) далее по железной дороге до Марселя, а из него – пароходом в Салоники.
Транспортные суда не были предназначены для перевозки войск, к тому же существовала опасность со стороны немецких подводных лодок. Конвоя кораблей, который должна была поставить Англия, практически не было.
Наконец, преодолев все превратности морского перехода, суда прибыли в Брест.
Выделенные для содержания солдат необходимые средства из-за злоупотреблений и взяточничества со стороны офицерского состава не всегда своевременно доходили до нижних чинов.
Нередко возникали конфликтные ситуации, а во время стоянки в Марселе солдатами был убит командир батальона подполковник Краузе, подвергавший солдат жестоким наказаниям еще во время перехода морем.
В дело вмешался военный агент во Франции полковник граф Игнатьев, сумевший погасить конфликт. В результате следствия восемь человек были расстреляны.
Положение русских войск на Салоникском фронте осложнилось их небольшим численным составом, в результате чего ощутимо сказывалась тоска по родине.
Особенностями Салоникского фронта были тяжелые климатические условия, горная, болотистая местность, где свирепствовала малярия. Подхватил эту болезнь и Иван, добавив к ней суставной ревматизм, который был его спутником всю оставшуюся жизнь.
Среди нижних чинов особой бригады служил и ничем не примечательный 19-летний Родион Малиновский, с которым Потопяк был в приятельских отношениях и которому суждено было стать Маршалом Советского Союза.
Вообще сослуживцы уважали Потопяка, тянулись к нему, нередко просили спеть ту или иную украинскую песню, каких Иван знал множество. Обладая приятным баритоном, Иван покорял слушателей особой манерой исполнения, искренней задушевностью. Солдатское братство помогало переносить тяготы службы вдали от семей, от родных мест. На фронте Иван пристрастился к курению. Не было ничего слаще, когда в редкие минуты отдыха засмолить самокрутку, от которой беседа с сослуживцами плавно льется и думается легче. Кто же мог предугадать, что эта пагубная привычка приведет Ивана к неизлечимому недугу.
Через некоторое время 2-я особая бригада, где служил Потопяк, вошла в состав Франко-русской дивизии под командованием генерала Дитерихса, «того самого, который в 1922 году станет земским воеводой Приамурского края и объявит крестовый поход против Советской России за восстановление монархии».
Дивизия Дитерихса участвовала в занятии города Монастыря перед самой зимой 1916 года. В этих боях Потопяк получил легкую контузию от недалеко разорвавшегося снаряда и французскую медаль. Видимо, хранили его молитвы Ксении, в которых просила она у Господа сохранить жизнь рабу Божьему Ивану.
Ни одной весточки от него она так и не получила за все время этой проклятой войны.
На завершающем этапе участия русских особых бригад в Первой мировой войне произошли антивоенные выступления, началось расформирование бригад.
Именно на Салоникском фронте произошли первые «братания» Первой мировой войны между болгарскими и русскими солдатами. В этих братаниях довелось принять участие и Ивану. Он никак не мог понять, «почему славяне воюют друг с другом, почему “братушки”, говорящие на таком понятном языке, стреляют в него – Ивана? Что не поделили между собой россияне и болгары?» К тому времени Иван уже немного знал историю и понятия «Шипка», генерал Скобелев были для него не просто словами.
Между тем обстановка в русских войсках в начале 1917 года становилась тревожной. Февральские события только ухудшили ситуацию. Офицеры и солдаты, как во Франции, так и в Салониках, хотели разобраться в происходящем, но ничего у них не получалось. Они не знали, что происходит в России, так как не получали прямых сведений с Родины.
О Русском экспедиционном корпусе в угаре революции 1917 года на родине словно бы забыли. Впоследствии, о них так и писали «забытые русские войска». Тем не менее интересно высказывание маршала Фоша, подписавшего в 1918 году перемирие с Германией: «Если Франция не была стерта с карты Европы, то этим она обязана прежде всего России».
Кстати, он же был одним из организаторов вооруженной интервенции в Советскую Россию.
После принятия советским правительством «Декрета о мире», о котором узнали из французских газет, солдаты русского экспедиционного корпуса потребовали немедленного возвращения на родину. Однако французское командование заявило, что Декрет не распространятся на русские войска за рубежом. Антанта рассматривала русских солдат как безликую толпу, которую хотела определить если не на фронт, то на трудовые работы. К концу февраля 1918 года русские войска в Салониках были разделены на три группы: военные добровольцы, отправленные во Францию, трудовые рабочие и лица, требовавшие немедленного возвращения в Россию (впоследствии этих бузотеров отправили вообще подальше – в Африку).
Иван оказался в группе «трудовиков».
У солдат отобрали оружие, огородили лагерь колючей проволокой и выводили на работы только под охраной. Вот так «отблагодарили» союзнички русских «спасителей», как их называли еще недавно, когда экспедиционный корпус только прибыл во Францию.
Солдаты, попавшие в группу трудовых рабочих, считались «военнопленными», их обрекли на полуголодное существование, нередко подвергая побоям. Они работали на строительстве дорог, рубили лес, занимались земельными работами.
Иногда их направляли на работы в сельские хозяйства вдовушек или одиноких женщин. Солдат строили в одну шеренгу, и женщины указывали пальцем на какого-нибудь понравившегося им работника. «Положила глаз» на Ивана какая-то женщина в черной шляпке с вуалью.
Иван хотел отказаться, но разводящий погрозил ему кулаком, и он понуро пошел за женщиной, услышав за спиной перешептывание женщин.
Конечно, он не понимал, о чем они шептались, но догадывался.
– Опять мадам Реклю выбрала самого лучшего, – с завистью шептали «обделенные» кумушки.
Мадам Реклю окружила Ивана таким вниманием и заботой, о которых он давным-давно забыл, явно преследуя далеко идущие матримониальные цели.
Уже были известны случаи, когда русские солдаты-трудовики сочетались браком с одинокими француженками и навсегда оставались во Франции.
По-разному сложилась судьба сорока тысяч человек из состава особых бригад, покинувших Россию по приказу командования.
Некоторые остались на чужбине, не решившись по тем или иным причинам вернуться на родину. Другие вернулись, но были ли они счастливы? Одни, вероятно, сожалели о том, что не смогут никогда попасть в родные места. Других ждал бурлящий водоворот истории Советской России. Среди них был и рядовой солдат Иван Потопяк, который, не дожидаясь решения своей судьбы от высшего командования, сбежал из-под стражи вместе с тремя сослуживцами. К побегу они готовились заранее, сушили сухари, заготавливали продукты, раздобыли карту местности. Все это хранилось в тайнике, о котором знали только эти четверо.
Несмотря на надвигающуюся зиму, решили больше не откладывать побег и в ночь на 24 ноября 1918 года, спеленав охранника, четверка беглецов устремилась в неизвестность. Они не знали тогда, что Первая мировая война закончилась победой Антанты, отмеченной парадами войск во многих городах и даже во Владивостоке, а на просторах России вовсю полыхала Гражданская война.
Как писал впоследствии Потопяк в своей автобиографии:
«…я с другими товарищами сбежал через Сербию в Румынию и под видом военнопленных мы пробрались в Украину, Москву и на ДВК (Дальневосточный край)».
Одиссея Потопяка длилась ни мало ни много, а еще почти полгода. Вспоминая это время, Иван удивлялся, как он и его товарищи пережили этот переход через несколько государств. Хотя по дорогам стран – участниц войны бродили тысячи неприкаянных, как и они, бывших солдат разных армий и народов.
Иван побывал и в тифозных бараках, сгорая от сыпного тифа, и в чистом поле, скрученный малярией. Выздоравливающие по тифозному бараку соседи спрашивали его:
– Что это за «дуга большого круга», про которую ты в бреду вспоминал?
Иван отшучивался:
– Если болячка скрутит в дугу, еще и не об этом заговоришь…
И вот он идет по центральной улице Антоновки, направляясь к дому Зозули, впитывая всем своим существом весенний таежный воздух. На реке вот-вот должен начаться ледоход, снег почти сошел, полыхали багрянцем заросли багульника, в проталинах желтели подснежники.
Иван поднял глаза и увидел в воротах Ксению, а рядом с ней уцепившись двумя руками за юбку, стояла девочка лет пяти.
– Где же ты был, Ваня? – выдохнула Ксения извечный вопрос, который женщины всего мира испокон века задают своим непутевым мужьям.
– Потом, потом, Ксеня, – шептал, припав к ней Иван, вдыхая полузабытый запах ее волос.
Из забытья их вывел тоненький детский голосок:
– Мама, а это кто?
– Да батька твой, будь он не ладен, – проговорила Ксения, вытирая слезы, непрошено выкатившиеся из глаз.
Иван подхватил на руки дочурку:
– Какая же ты большая стала!
Тут во дворе появились домочадцы, поднялся шум и гвалт, на улицу вывалилась семья Потопяков: отец, брат, сестры, заохали соседи. Ксения увела Ивана в дом…
Ночь они провели почти без сна: рассказывал в основном Иван…
Потопяк писал в своей автобиографии:
«В апреле 1919 года я добрался в свое село Антоновку. Наше село, как и другие таежные села, являлись базой партизанских отрядов, и через несколько дней я уже имел связь с партизанами (отряд Старика) через моих деревенских товарищей, участвовавших в отрядах. В виду того, что по дороге я болел сыпным тифом и малярией (имеется в виду возвращение из Франции. – Примеч. авт.)…я по болезни не мог пойти в отряд и мне предложили принять сельский кооператив, посредством которого обеспечивать партизан продуктами и инструментом (пилы, топоры и т. п.), а главное, держать связь…»
Ксения, как могла, удерживала Ивана:
– Да охолонь ты, Ваня. В чем душа держится, а туда же, аника-воин…
Иван не внимал ее доводам, шутил:
– Дома и стены помогают, – стараясь обнять увертывающуюся от его рук жену, говорил он:
– Подожди, вот отъемся на твоих харчах, отлежусь как следует, вот тогда держись!
А что тогда будет, он и сам не предполагал.
В один из дней декабря 1919 года Иван вместе со сватом Зозулей повезли на партизанскую базу очередную партию продуктов и инструментов. Выехали рано утром на двух санях. Морозец стоял не особенно крепкий, солнце еще только всходило, лучи его едва пробивались сквозь верхушки деревьев. Сдав продукты и инвентарь, два Ивана засобирались в обратную дорогу, намереваясь к вечеру добраться до села.
– Вы там поосторожнее, – напутствовал их Старик. – По сведениям разведки, в наших местах появился карательный отряд из японцев и белогвардейцев.
– Да ничего, может, пронесет, – ответил за двоих Зозуля.
По дороге к ним присоединились несколько саней односельчан, ездивших в тайгу за хворостом. Обоз приближался к Антоновке. Возглавлял его Зозуля, замыкал Потопяк. Вечерело. Мороз крепчал.
Внезапно лошадь Ивана остановилась. Иван соскочил с саней, подошел к ней и увидел, что упряжь полностью рассупонилась. Махнув рукой вознице саней, замыкающей обоз: езжайте, мол, без меня, не останавливайтесь, потом догоню, Иван принялся перезапрягать лошадь. Обоз скрылся за поворотом. «Надо было самому запрягать», – запоздало подумал Иван. «А то доверился какому-то неумехе».
В негнущихся рукавицах перезапрягать было трудновато, а голые руки тут же схватывал мороз. Промучавшись с полчаса Иван, наконец, закончил с упряжью, облегченно вздохнул и прыгнул в сани, хлопнул Савраску вожжами по крупу. Однако застоявшаяся лошадка явно не спешила догнать обоз, тревожно прядая ушами. Ее тревога передалась Ивану, поэтому перед въездом в деревню он остановил лошадь и осторожно выглянул из-за деревьев. Он увидел, как группа японских солдат окружила обоз. Из саней, скрутив им руки, выволокли сельчан, в том числе и Зозулю, подтащили их к стогу сена, выстроили в ряд, отошли метров на десять и по команде японского офицера дали залп из винтовок. Затем японские солдаты подбежали к убитым, деловито подхватили за руки и ноги убитых и забросили на начатый стог сена. Стог облили бензином и подожгли. Сено сразу же занялось ярким пламенем.
Иван, окаменев, смотрел на эту дикую расправу, а очнувшись, бросился к саням и погнал лошадь по дороге на партизанскую базу.
Он разглядел в деревне до полусотни казаков и определил, что японцев было где-то около роты. В его ушах долго звучал женский крик и плач детей, когда казаки и японцы врывались в тот или иной дом.
Нахлестывая лошадь, Иван глотал и никак не мог проглотить подкативший к горлу комок.
Остановив лошадь у дозора, он сумел выдавить только одно слово:
– К командиру!
Но Старик уже сам спешил к нему.
Иван рассказал о случившемся и добавил, что каратели как будто собирались выступать, отбирая у сельчан лошадей и сани.
– Ну что же, встретим, – коротко промолвил командир отряда и отдал необходимые распоряжения.
Определив место засады, отряд выступил к месту встречи с карателями.
Партизаны залегли с обеих сторон просеки, перегородив ее срубленными тут же деревьями. Иван примостился рядом с молодым корейцем Кимом. Оружие Ивану не выдали, в отряде с этим была напряженка.
Каратели вывалились из-за поворота и остановились, завидев засеку. В это время в конце колонны послышался треск, и дорогу к отступлению перегородили поваленные вековые кедры-великаны. Японцы и казаки заметались в ловушке, не видя противника и не зная, куда стрелять. Лежащий рядом с Потопяком Ким палил в белый свет как в копеечку.
– Ну-ка, дай, – отобрал у него берданку Иван, прицелился и выстрелил в японского офицера, которого сразу как будто смахнула с седла неведомая сила. Иван выстрелил еще и еще, каждый раз поражая выбранную цель. Ким восхищенно смотрел на него и протянул руку к винтовке:
– Отдавай, однако, я тоже хочу япошек стрелять!
Из карателей удалось уйти немногим, да и тех выловили партизаны из других отрядов. Больше Антоновку до самого окончания Гражданской войны не беспокоили ни белые, ни интервенты.
Дома Ивана встретила заплаканная Ксения, и торжествующая дочка с порога заявившая:
– А мы в погребе попрятались!
– Молодцы вы мои, – прошептал Иван и обратился к Ксении:
– Прости, что отца твоего не сберег, да и сам мог бы с ним… – не договорил он.
На месте того сожженного стога стоит на окраине Антоновки скромный обелиск с красной звездой и полустертой надписью: «Красным партизанам. 1919 г.».
После освобождения Дальнего Востока от интервентов и окончания Гражданской войны Потопяк был назначен председателем и секретарем сельревкома, а затем был избран в первый сельсовет Антоновки. В 1924 году он вступает в партию, и с этой поры начинаются скитания его с семьей по селам и районам Амурской области, где он занимал на год-два различные должности. Дважды он учился в совпартшколах в Благовещенске и Хабаровске, пока в 1934 году не осел на несколько лет в Черниговке Уссурийской области председателем райисполкома.
С некоторого времени Иван Федорович начал одеваться в неутвержденную униформу ответственного совпартработника. Однотонный, как правило, серого цвета френч с отложным воротником и накладными карманами, такого же цвета полугалифе, заправленные в хромовые сапоги, картуз с широким козырьком. Добавляют этот портрет усы по-ворошиловски.
Ксения щедро одаривала Ивана детьми и в одной из довоенных автобиографий Иван писал:
«Семья моя состоит из шести душ детей. Все, за исключением одного малыша, комсомольцы и пионеры».
Однажды Иван возвратился с какого-то собрания довольно поздно и за ужином заявил Ксении:
– Знаешь, мать, пора тебе перестать быть неграмотной. Давай-ка собирайся на курсы ликбеза (ликвидация безграмотности).
– Ты что, отец, сдурел, – замахала руками Ксения. – А куда же я детей дену?
– Куда, куда? – не принял возражений Иван. – Завтра же пойдешь в избу-читальню к Ивану Вутенко. И хватит разговоров. Что непонятно будет, я тебе помогу.
Ксения походила на занятия, была «подвергнута испытанию» и, наконец, получила свидетельство. На толстом листе бумаги в «верхней части между надписями «Помни завет Ильича» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» были напечатаны слова Ленина: «Нам надо во что бы то ни стало, поставить себе три задачи: во-первых, учиться, во-вторых – учиться, в третьих – учиться». Свидетельство было заключено в рамку с незатейливым узором и гласило:
Свидетельство
Выдано настоящее гражданке с. Михайловки того же района Амурского округа Потопяк в том, что Испытательной комиссией в составе: Зав. избой-читальней Вутенко Ивана Михайловича, члена сельсовета Ничик Якова Алексеевича, завлитпунктом Малининой Феодосии Константиновны, подписавших настоящее свидетельство, Потопяк Ксения Ивановна была подвергнута испытанию и оказала удовлетворительные успехи в знании курса русского языка и математики, разбирается в некоторых политических вопросах.
На основании изложенного гр. Потопяк подлежит из исключения списка неграмотных с. Михайловка.
20 июня 1927 г.»
Под датой стояли неразборчивые подписи председателя и членов испытательной комиссии, скрепленные печатью по окружности, на которой читалось: «Михайловский сельский клуб Михайловского района Амурского округа».
На обороте свидетельства был напечатан «Наказ»:
«Дорогой товарищ!
Ты научился грамоте, ты победил на фронте просвещения. Помни, что теперь ты должен читать газеты, книги, чтобы понимать, что делается вокруг тебя. Иначе ты разучишься читать, иначе Советская Республика напрасно потратила деньги и силы на твое обучение.
Если раньше учили богачей, чтобы своими знаниями они укрепляли капиталистический строй, то теперь можешь учиться ты, чтобы, овладев знаниями, помогать укреплению нового строя.
Ты научился грамоте, но вокруг тебя – много неграмотных, которые не понимают, как важно научиться грамоте. Пойди же к ним, убеди их и приведи в школу.
Помни же это, товарищ!
…Знание в руках рабочих и крестьян – вернейший залог полной победы над капиталом во всем мире!»
Читать книги Ксении так и не приходилось. Шесть «душ» детей надо было накормить, одеть, проводить, встретить. Вот и вертелась она от стола – к печке, от печки – к столу и обратно.
Ксения всегда держалась в тени Ивана, которого было так много, что ей оставались только «задворки».
Однако она ловко управляла Иваном в незначительных ситуациях и хранила молчание в жизненно важных.
Многое из того, что рассказывал ей муж, Ксения не понимала. В мировой революции, пролетарии-гегемоне и коммунизме она не разбиралась. Зато всегда была готова радоваться и горевать вместе с ним, не вникая в недоступные дебри политики.
Ксения не была приучена к раздумьям, да и не хватало времени в переполненной трудом жизни.
В отличие от нее Иван пытался в первоисточниках читать сочинения основоположников коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса, вождей пролетариата В. И. Ленина и И. В. Сталина. К сороковым годам на изящной бамбуковой этажерке теснились полные собрания сочинений этих мыслителей. И этажерка, и книги путешествовали с семьей от одного места к другому и сразу же занимали лучшее место в горнице. Конечно, штудировал Иван и газеты, обязательную «Правду» и местные многотиражки.
Иван сам себе не признавался, что так и не смог одолеть «ленинских заумностей» вроде «гносеологических корней истории» или «материализма и эмпириокритицизма», заочного спора Ленина с «ренегатом» Каутским…
Легче ему давались работы И. Сталина, особенно по «текущим моментам».
Иван Федорович искренне восхищался партийцами, которые могли вставлять в свои выступления на собраниях дословные цитаты из высказываний вождей, иногда даже не к месту.
Сам он тоже иногда прибегал к таким приемам, когда нужно было сказать:
– Как нам завещал великий Ленин, «Нужно верить в свои собственные силы», – или:
– Как говорит товарищ Сталин, «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики».
Художественную литературу, даже пролетарских классиков, он не читал, считая это занятие пустой тратой времени.
Привычка приходить на работу на час-полтора раньше начала рабочего дня у Ивана Федоровича выработалась давно. В это время никто не мешает и можно сосредоточиться на просмотре деловых бумаг. Через несколько минут начнется шум, появятся сотрудники, посетители, жалобщики, в помещении райисполкома повиснет атмосфера легкого сумасшествия, которая так отличает подобные организации.
В этот день, придя на работу, Иван увидел на столе развернутую газету-многотиражку «Черниговский колхозник». Газета, как всегда, начиналась с перепечатанной из газеты Центрального комитета ВКП(б) «Правды» передовицы «Счастливая жизнь колхозной деревни». Затем шли заметки за подписями «Учитель», «Пионер», «Рабочий» и др. о повседневной жизни района.
И вдруг Иван Федорович наткнулся на статью, заголовок которой был подчеркнут толстым красным карандашом: «Что мешало Потопяку выполнить наказ избирателей (с совещания советского актива)».
Иван Федорович перевел дух и углубился в чтение: «Делать глубокий анализ работы райисполкома я не собираюсь, хочу лишь доложить акт передачи дел райисполкома тов. Прядко, который остается на работе вместо меня, – заявил бывший председатель РИКа Потопяк совещанию советского актива, проходившему 30 сентября 1937 года.
Подобной отчетности актив не ожидал. Председатели Сельских советов, члены райисполкома – абсолютное большинство присутствующих на этом совещании высказали вполне справедливое возмущение, что им докладывают только “акт передачи дел”. Потопяк, правда, попробовал оправдаться, что он-де переходит на областную работу и по сему случаю должен был поставить на активе вопрос об утверждении акта передачи дел. Но это ему не помогло.
В районе орудовали и продолжают орудовать классовые враги. Их гнусная деятельность привела к полному развалу колхоза “1-е Мая” (Реттиховка), на протяжении целого ряда лет эти фашистские наймиты творили свои грязные дела в области животноводства, механизации сельского хозяйства, делали все для того, чтобы подорвать хозяйственную мощь района. А Потопяк, видите ли, докладывает “акт передачи дел”.
Актив потребовал от Потопяка рассказать о его связях с врагами народа Овчинниковым, Гриневичем и др.
Тов. Сумарев в своем выступлении заявил:
– Потопяк был близкий друг Овчинникова и Гриневича. С ними вместе он развратничал на шмаковском курорте. Пусть он расскажет, как они разворовывали государственные средства на свои пошлые прихоти. Пусть расскажет, за что он получал от этих врагов различного рода помощь и путевки на курорты. Следует заслушать Потопяка и о том, как они с Хазбиевичем “руководили” районом.
Выступление на этом совещании Алейникова было явно не большевистским. Он занял позицию постороннего наблюдателя, который способен только фиксировать факты. А ведь он в бюрократическом руководстве президиума РИКа Сельскими советами был не последним участником.
– Я, – говорил тов. Копачевский, – посылаю людей на выполнение плана сенозаготовок, а Алейников, следом за мной, шепчет этим людям на ухо, чтобы сена не возили – как это называется, пусть скажет сам Алейников.
Участники совещания высказали свое мнение и том, что вражеская рука была приложена в районе и к обязательным поставкам государству сельскохозяйственных продуктов и овощей. Что в деле заготовок была вражеская очередность, которая привела к срыву выполнения плана заготовок. По овощам план выполнен только на 16 процентов – неслучайно.
На совещании выяснилось, что в 1935–1936 гг. механически были зачислены в группу рабочих единоличники, которых полностью освободили от государственных обязательств. И это не могло не отразиться на организационном укреплении колхозов.
Руководство колхозами президиум райисполкома и райзо осуществляли через голову сельских Советов. А это привело к тому, что многие сельсоветы самоустранились от руководства колхозами, сняли с себя всякую ответственность за состояние колхозов.
В колхозах орудовали враги народа, сельские Советы оставались пассивными наблюдателями. Вражеских действий не распознавали, с врагами не боролись.
Без вражеских действий не обошлось и в деле финансирования. Имеются факты, когда сельские Советы в течение целого года не имели возможности своевременно выплачивать даже зарплату своему штату, не говоря уже о том, что на благоустройство села они вообще не могли израсходовать ни рубля. А в конце года с бюджетов сельсоветов списывались большие суммы средств, как неизрасходованные. В этом следует разобраться.
Бывший председатель райисполкома окружил себя подхалимами типа Рябовых, которые способны были только на то, чтобы угодить своему начальству.
Только этим и объясняется, что строительство райкомхоза ограничилось оградой потопяковской квартиры и тротуаром до квартиры Потопяка. Продолжить тротуар дальше подхалим Рябов не мог из-за отсутствия у него досок…»
Подписи под статьей не было, но Иван Федорович и так понял, чьих это рук дело.
– Опять этот Сумарев… – вслух проговорил председатель РИКа. – Вот воистину – мал клоп, да вонюч.
Дело в том, что Иван Сумарев уже проживал в Антоновке, когда туда переселились украинские семьи из Ходыванцев.
Отношения между двумя Иванами сразу же не заладились. Они были одногодками. Но если Потопяк был привлекательным кряжистым парубком с кудреватым чубом и ярко-синими глазами, то Сумарев всем своим обличьем походил на худого лиса с вытянутым вперед лицом и маленькими глубоко запрятанными глазками неопределенного цвета. Он сразу же приударил за Ксенией, но получил от ворот поворот не только от нее, но и от Потопяка, чьи кулаки не один раз прохаживались по физиономии Сумарева.
Злость и ненависть переполняли Сумарева. Он, как мог, вредил Потопяку и в Антоновке, и тогда, когда их вместе забрали в армию.
Но на фронте их пути разошлись: Потопяк попал в артиллерию, а Сумарев – в пехоту.
Больше они не встречались до самой осени 1934 года, когда в газете «Коммунар» одна за одной появились заметки с хлесткими заголовками: «Знает ли Никольский горсовет» и «На глазах у районного руководителя». Конечно, они были без подписей.
Автора этих заметок он сразу узнал, увидев его на заседании оргкомитета Уссурийской области. Сумарев с ехидцей поглядывал на Потопяка, ожидая не меньше, как снятия его с должности.
Но этого не случилось. До тридцать седьмого еще было три долгих года.
Сумарев работал в должности, которая по принятому в то время порядку все сокращать, называлась совсем непонятно – облуполкомзаг. Расшифровать ее с ходу не всякому было под силу. Потопяк совсем не к месту вспомнил прочитанное недавно в одной из газет о «замкомпоморде», что означало «заместитель командующего по морским делам». Он невесело улыбнулся.
Вспомнил он и слова отца, который наставлял его: «Не любят “первых” и победителей, зависть редко кто превозможет. Если ты первый да лучший, внимания не теряй, обязательно найдется злыдня, чтоб тебя изничтожить».
Когда зачитали постановление от 23 октября 1934 г.: «Обратить внимание председателя Черниговского РИКа тов. Потопяк на отсутствие классовой бдительности и отсутствие тщательной проверки состава сельсоветов, благодаря чему в Черниговский Совет пролезли чуждые элементы.
…Обязать тов. Потопяк в пятидневный срок провести обследование работы в составе Черниговского сельсовета через собрание избирателей, отвести из состава сельсовета пролезших чудаков (Буйвол, Монастырный)…»
Потопяк облегченно вздохнул, а взглянув на Сумарева, физически ощутил, как тот заскрипел зубами от злости.
Потопяк не знал, что это только начало…
Выйдя с заседания Сумарев, никого не дожидаясь, пошагал к своему дому, к своему одиночеству. По дороге он вспоминал прошлое, Антоновку, Ксению, проклятого Ваньку Потопяка, муштру на Русском острове.
Солдата из него так и не получилось. Он, используя особенности своего льстивого характера, сумел пристроиться писарем в штабе, где и просидел до самого 1917 года. В Антоновку он так и не вернулся. Добравшись до Уссурийска, Сумарев пригрелся под боком у какой-то вдовушки. Вступив в ВКП(б), ушел от нее, найдя хлебную должность в Уссурийском управлении сельского хозяйства.
Он часто разъезжал по селам Уссурийской области, и однажды в Черниговке увидел Ксению с Иваном и детьми, направлявшимися к кому-то в гости. Они скользнули по нему равнодушным взглядом, не узнали – с последней встречи промелькнули уже лет двадцать – и прошли мимо, беседуя о чем-то своем.
Когда прошла первая оторопь, Сумарев позеленел от злости: «Подожди, Ванька, ты еще вспомнишь меня. А ты, Ксенька, у меня в ногах ползать будешь!» С той поры у него была одна только цель – мстить, и мстить жестоко.
Через несколько дней в областной газете «Коммунар» была перепечатана заметка из многотиражки «Черниговский колхозник», но уже под заголовком «Обанкротившиеся руководители» и за подписью никому не известной Алтайской.
На следующий день после выхода в свет газеты «Коммунар» состоялось закрытое собрание первичной партийной организации Черниговского райисполкома.
Партийцы старались не встречаться взглядами с Потопяком и, не здороваясь с ним, молча протискивались к плотно расставленным скамейкам. Не было ни приветственных шуток, ни обычного в таких случаях шума-гама. Еще бы! Рассматривалось персональное дело председателя РИКа, обвиняемого в пособничестве врагам народа, хотя в повестке дня стояла формулировка «О заметке, помещенной в газете “Коммунар” за 28 сентября 1937 года».
Председателем собрания был избран Ефим Пащук, секретарем Григорий Хривков.
Иван Федорович сидел, нахмурившись, ни на кого не глядя, крепко сжимая и разжимая пальцы рук. Лицо его осунулось, под глазами залегли темные круги – свидетели бессонной ночи.
Иван Пащук, откашлявшись, обвел присутствующих строгим взглядом:
– Ну что, начнем, товарищи. – И продолжил:
– Слово предоставляется товарищу Потопяк.
Потопяк встал и стараясь скрыть волнение, заговорил:
– Меня обвиняют во вредительстве, в развале колхоза и пособничестве врагам народа. Я принимаю на себя немалую долю вины за последствия вредительства врага народа Золотаря, бывшего директора МТС, я виноват в том, что не проявил достаточно бдительности к этому двурушнику. О Золотаре я знал еще раньше по работе в Бочкаревском районе. Вопрос о Золотаре разбирался в партийном порядке спецкомиссией, но принадлежность его к белым не установлена, и Золотарь был оставлен в рядах ВКП(б). Я не скрывал этого и говорил здесь уже, в райкоме при обмене партдокументов. Теперь ясно становится, что я благодаря притуплению классовой и политической бдительности не разоблачил врага народа Золотаря.
За развал колхоза ясно, тут виноваты мы все, в том числе и я. Мы должны нести большую ответственность за это. Правда, данный колхоз всегда работал у нас плохо, но в этом виноваты, в первую очередь, мы с вами, что плохо руководили. Об оздоровлении данного колхоза я ставил вопрос в райкоме перед товарищем Лариным и на пленуме райкома выступал и говорил, что колхоз буквально разваливается, что живет без устава сельхозартели.
Непосредственно моего участия во вредительстве, заявляю, не было, хотя ошибок и недочетов в работе было много. Выявленные враги народа обманывали партию и меня, прикрываясь недочетами в работе. У меня все, – закончил он.
– А как насчет социального положения? – раздался голос из зала. Иван Федорович коротко ответил:
– В 1910 году я переселился на Дальний Восток. Отец мой – батрак. В 1915 году я был призван в старую армию. В 1919 году мы бежали из плена через Румынию и Украину. До 1922 года работал в сельхозкооперации. В 1922–1924 годах работал в сельревкоме и сельсовете. В 1924 году вступил в ВКП(б), был послан на учебу в совпартшколу и по окончании ее до 1928 года состоял на партработе в аппарате райкома. Позднее был направлен в Тамбовский район заворгом. Последнее время до приезда в Черниговский район работал в Иманском районе. В 1930 году работал в Завитинском районе секретарем райкома. Жена из батрацкой семьи с одного места со мною.
Про себя он подумал: «Целая жизнь, а уложилась в несколько предложений».
– Больше вопросов нет? – спросил председатель.
– Вопросов не поступало, – ответил он сам себе, разрешил сесть Ивану Федоровичу и объявил: – Ну а теперь слово предоставляется товарищу Грищенко.
Грищенко встал к трибуне и заговорил:
– Прибыл на работу заведующим райзо в Черниговский район в августе 1934 года. До обмена партдокументов о Золотаре ничего не знал. В Хабаровске, будучи в командировке, Золотарь мне рассказал, за что у него во время чистки были отобраны партдокументы, там же узнал о том, что у него отец расстрелян красными партизанами. Связь у меня с Золотарем была только деловая, никакой другой с ним связи не было.
Чеманов и Хавкин из Крайзу восхваляли Золотаря, отзывались о нем, как о хорошем работнике. Чеманов говорил, что пусть Золотарь приезжает в любое время ко мне, я ему всегда дам отпуск и путевку на лечение. Об этом я не молчал, говорил Маслову и Терцу, я считаю, что связи у меня с Золотарем, кроме деловой, не было. Золотарю был создан большой авторитет. Все заявления Золотаря сваливались на наших работников, чтобы замаскировать свою вредительскую деятельность в сельском хозяйстве.
В отношении развала колхоза «1-е Мая» в Реттиховке виноваты мы все, вся наша парторганизация. Я сам, будучи в командировке в данном колхозе, привез материалы, но это все у нас в районе замяли, и ничего не было сделано. Больше я в этом колхозе не был. Я принимаю большую долю вины за развал колхоза потому, что будучи заведующим райзо не предпринял необходимых мер и не разоблачил непосредственных вредителей и пособников этого развала.
Животноводством я не занимался, а с животноводством у нас в районе, всем известно, неблагополучно, и не без вредительства. Связей у меня с Сандулом не было. Ошибок и недочетов в работе у меня много, с работой я не справляюсь, об этом я говорил в РК ВКП(б) и товарищу Потопяку.
Грищенко помолчал и добавил:
– Родился в 1906 году в Сибири в селе Ужаниха. В 1917 году мы переселились в Западносибирский край, братья работали в батраках, старший брат служил в старой армии. У белых никто не служил, старший брат в настоящее время работает в колхозе, до 1928 года работал на политпросветработе, с 1930 года работал на руководящей работе в хлебживсоюзе по 1934 год. Потом был на учебе и с 1934 года работает в Черниговском районе в райзо.
Вопросов не было и слово предоставили Сычугову, который себя виновным во взяточничестве не признал, потребовал от парторганизации детальной проверки. Ненюков от работы отстранен и вовсе к ней не допускается. О Дергунове поставлен вопрос об увольнении с работы сразу же по возвращении с военной подготовки.
В прениях первым взял слово Сычугов:
– Когда я был в колхозе «Ворошилов», меня колхозники спрашивали: «Нет ли вредительской деятельности в МТС?» Уже тогда рядовые колхозники чувствовали, что в МТС организовано вредительство, потому что трактора стояли, не работали, об этом по приезде сразу поставил вопрос перед Масловым в райкоме партии.
Виноваты здесь и органы НКВД – плохо они работали. На президиуме РИКа, чтобы замаскировать свою вредительскую деятельность, Золотарь требовал отдачи под суд трактористов, председателей колхозов и сельсоветов.
Эмоционально, даже с каким-то надрывом, не стесняясь выражений, выступил Алейников:
– Статья в «Коммунаре» для нас является большим политическим сигналом, мы обязаны ее критически разобрать и найти действительных виновников в пособничестве вредителям и врагам народа типа Золотаря и других гадов.
Немалую долю партответственности должен нести товарищ Потопяк – он был руководитель района. Кто создал авторитет Золотарю? Руководители района Хазбиевич, Потопяк, Бабич. Мы все, а они в первую очередь, должны были разоблачить и изгнать из рядов партии врага народа Золотаря, а они его не разоблачили, а, наоборот, прикрывали и замазывали его вредительскую работу, имея о нем сигналы и зная его прошлое, что отец его расстрелян красными партизанами.
Золотарь пользовался таким авторитетом у бюро райкома ВКП(б), что, видите ли, мог давать политическую оценку активу коммунистов. Вредительская работа Золотаря чувствовалась в работе и руководстве колхоза «Искра», а все свели впоследствии к недооценке этого колхоза со стороны МТС.
В общем, досталось Потопяку изрядно. Окончательно добила его вздорная и язвительная Авдотья Рудзева:
– Золотаря я знаю с 1933 года, будучи в колхозе «Ворошило» в Дмитриевке. Когда он приехал в колхоз, я сильно болела. Он грубо накричал на меня и заявил: «Если ты кандидат партии, то нужно пойти на свеклу и умирать не дома, а на свекле». Товарища Потопяка я считала красным партизаном. Я знаю, что в тот момент почти все способное население в селе, где жил Потопяк, не находились, а уходили в партизаны и боролись не жалея жизни, а Потопяк залез в кооперацию и отсиживался до последнего времени – мне кажется, что товарищ Потопяк покровительствовал врагу народа Золотарю.
В заключительном слове Потопяк, запинаясь и едва ворочая языком, проговорил:
– Я мог бы получить партизанский билет, если бы захотел, но… – не находя слов он помолчал и добавил: – Неоднократно я лично указывал товарищу Грищенко, что руководителем сельского хозяйства в районе являешься ты, а не директор МТС, но он этого не учел.
Я не отрицаю того, что болел идиотской болезнью – политической беспечностью. В результате только этого я не сумел разоблачить вредительскую деятельность врагов народа Золотаря и Ваткина, допустил целый ряд больших недочетов в работе. Бесспорно, что большинство членов бюро РК ВКП(б) вместе с бывшим секретарем райкома Хазбиевичем были на стороне Золотаря, а сам Хазбиевич его всегда выдвигал как лучшего работника.
После непродолжительного обсуждения Потопяку объявили строгий выговор, а Грищенко отделался просто выговором.
Возвратившись с собрания, Иван устало присел на табуретку за кухонным столом, на котором уже стоял незамысловатый ужин и проронил буквально несколько слов:
– Устал я, Ксюша, сил никаких нет. – И добавил: – Строгий выговор объявили, а что дальше будет – и не знаю даже.
Ксения успокаивающе взмахнула рукой:
– Да ладно тебе, не переживай так.
– Как не переживай! Впереди еще бюро обкома. Времена сейчас крутые, говорят, что Хазбиевич арестован, так что и мне надо готовиться к худшему, а если исключат из партии… – он не договорил, – будет совсем тяжко.
Дурное предчувствие не обмануло Ивана. К тому времени, когда его дело целых два дня рассматривали на бюро Черниговского райкома ВКП(б), Хазбиевича уже расстреляли в Хабаровске.
Золотарь был расстрелян еще раньше. Шел 1937 год, который вошел в историю страны как «расстрельный».
В дело Потопяка легла секретная выписка из протокола № 39 от 5 и 6 октября:
«За потерю классовой бдительности, за сокрытие от парторганизации засекреченного бюро по выдаче партбилета врагу народа Золотарю, за дачу положительной характеристики врагу народа Золотарю, чем дал возможность еще более замаскироваться врагам народа и проводить вредительскую работу в районе по развалу сельского хозяйства, а также еще более позволил законспирироваться Хазбиевичу, как пособнику врагов, Потопяка Ивана Федоровича из рядов ВКП(б) исключить».
А перед этим в последних числах сентября в «Коммунаре» появилась как бы заключительная статья с обвинительным заголовком «Черниговские пособники врагов народа» и подписано только инициалами Б.Ч.
Потопяк не раз прочитал эту статью, внимательно обдумывал буквально каждую строчку.
«После февральского Пленума ЦК ВКП(б) и доклада товарища Сталина черниговская парторганизация разоблачила врагов народа – бывшего директора МТС Золотаря и бывшего директора МТМ Баткина. Но дальше этого работа по выкорчевыванию врагов народа и их агентуры не продвинулась. Причиной этого явилась политическая слепота членов бюро райкома партии и немалое количество оставшихся еще пособников, либералов и подхалимов.
Бывший секретарь райкома партии Хазбиевич (бывший эсер) выдал во время обмена партдокументов партийный билет врагу народа Золотарю. Сейчас выясняется, что Хазбиевич знал из письма, присланного в райком партии “группой красных партизан” о том, что Золотарь – враг народа. Он знал, что Золотарь сбежал из-под расстрела красных партизан и что отец Золотаря расстрелян, как контрреволюционер. Об этом письме знали подхалимы в райкоме Сысак, Маслов, Брацюк и Грищенко, но и они молчали и молчат до сих пор. На районной партийной конференции они также скрыли от коммунистов это дело. Больше того, они активно выступали за то, чтобы дать работе райкома партии удовлетворительную оценку.
Хазбиевич работал в районе, расхваливал Золотаря и Грищенко, как хороших работников и лучших коммунистов, зная о том, что некоторые колхозы (“Первое мая”, им. Энгельса) разваливались Золотарем и заврайзо Грищенко. Колхозом “Первое мая” не принят до сих пор устав сельскохозяйственной артели. В колхозе более года нет председателя. Планы там не выполняются, имущество растранжиривается.
Райком партии посылает в этот колхоз для “помощи” врага народа Золотаря и заврайзо Грищенко, который вместе с врагом Сандулом пьянствовал, и до сих пор держит связь с женой этого врага. Понятно, какова была их “помощь”.
После этого райком партии вторично посылает в этот колхоз Золотаря и Грищенко и, естественно, что состояние колхоза с “помощью” врагов оставалось по-прежнему скверное.
Колхоз имени Энгельса также при помощи Золотаря и Хазбиевича развалился.
Пособник шпионов Хан Александр (сейчас исключенный из комсомола) пробрался в комсомол при помощи коммунистов Нам Давида и Лян Федора, и ими рьяно защищался. Хазбиевич об этом знал, но не разоблачил этих врагов, а, наоборот, взял их под защиту и послал на учебу в ВКСХШ, а пособника врага Хана Александра поставил бригадиром в этом же колхозе.
Хазбиевич и его жена, бывший культпроп райкома ВКП(б), Шварцман, долгое время в районе проповедовали о том, что в СССР нет классов. Сам Хазбиевич до последнего дня считался у врагов народа Лаврентьева, Слинкина и Овчинникова лучшим работником.
Всю эту работу Хазбиевича райкомовские подхалимы знали и знают, но умалчивают до последнего дня.
После разоблачения Золотаря, критика и самокритика в районе все еще отсутствуют. Положение не улучшается. На последнем пленуме Черниговского райисполкома Грищенко в своем докладе ничего не мог сказать о подготовке к уборке поздних культур, потому что сказать ему было нечего. Грищенко пытался на пленуме втереть очки, говоря, что четыре комбайна готовы к уборке поздних культур. Но выступающие председатели колхозов разоблачили его, доказав, что ни одного комбайна в районе нет, подготовленного к уборке поздних культур.
На этом же пленуме опять говорили о развале колхоза “Первое мая”. Пленум принял либеральное решение, указав президиуму РИКа на недопустимость такого отношения к колхозу. Председателю райисполкома Потопяку удалось оправдаться по вопросу развала колхоза, хотя некоторые члены пленума требовали привлечения к ответственности конкретных виновников развала колхоза. А одним из этих виновников является Потопяк.
Умалчивается руководителями района и такой, всем известный факт, как взяточничество нарсудьи Сычугова, его пьянство и засоренность аппарата суда пьяницами.
Жулики рисозавода, которые воровали целыми вагонами, остаются до сих пор безнаказанными. Брацюк считается первым подхалимом в райкоме.
Большинство указанных фактов известно районному прокурору Левицкому. А он всячески пытается оправдать врагов народа, расхитителей колхозной собственности в колхозе “Первое мая”. Он отпустил безнаказанно из района жулика Вороновского и дал возможность скрыться другому жулику – бухгалтеру, который увез более 10 тысяч рублей денег. На сигналы парторга Мотовой Левицкий внимания не обращал.
Новый секретарь райкома партии тов. Ларин еще не взялся за выкорчевывание в районе врагов. Недавно райком утвердил райлитом некоего Трофименко – сына торговца, у которого родители жены находятся за границей. Немало пособников в районе до сих пор остаются безнаказанными.
На последнем пленуме решили отпустить предрайисполкома Потопяка на областную работу без заслушивания отчета. Отчет Потопяка следовало бы заслушать. Он во вредительской работе, проводившейся в районе, был не последним участником».
Последнюю строчку Иван Федорович прочитал вслух: «Он во вредительской работе, проводившейся в районе, был не последним участником».
Слова звучали как приговор…
«Все!» – подумал председатель райисполкома.
Через несколько дней его вызвали в районное управление НКВД.
Вел его дело молоденький лейтенант, видимо, только недавно получивший это звание.
Он вежливо попросил изложить на бумаге суть дела, а когда Иван Федорович заявил, что будет подавать апелляцию, снисходительно улыбнулся, пожал плечами и пожелал удачи:
– Пишите апелляцию, а мы пока подождем…
Придя домой и успокоив кое-как жену, Иван приступил к составлению апелляции и письма – объяснения в Уссурийский обком и в редакцию газеты «Коммунар». При тусклом свете коптилки он писал, переписывал, рвал написанное и снова писал… Лишь к самому утру он удовлетворенно вздохнул, сложил аккуратно листки исписанной бумаги и, не раздеваясь и стараясь не разбудить Ксению, прикорнул на кровати. Очнувшись от короткого даже не сна, а какого-то забытья, Иван взглянул в окно, за которым вставало уже не такое яркое, как летом, солнце, обещая теплую и так характерную для приморского края осень.
Иван еще раз перечитал написанное:
«Уссурийскому обкому ВКП(б), редакции “Коммунар” от Потопяка И. Ф.
ОБЪЯСНЕНИЕ
В газете “Коммунар” от 11/X с/г. помещена статья под заголовком “Обанкротившиеся руководители”. Эта статья взята из газеты “Черниговский колхозник” от 7/X. По этим статьям считаю необходимым дать следующее объяснение в связи с переводом меня на другую работу согласно решения бюро обкома ВКП(б). Я телеграммой просил уполномоченного Совконтроля выслать представителя для передачи дел РИКа. В ответ я получил телеграмму примерно следующего содержания, что представителя не будет, передавайте дела сами, акт передачи обсудите на активе и вышлите в Совкотроль. Акт передачи мы составили очень короткий, а основным материалом к акту являются тезисы, составленные для отчета РИКа и приложенные к акту.
Я в начале своего доклада на активе объяснил телеграмму уполномоченному Совконтроля и сказал, что считаю основным материалом тезисы к отчету, утвержденные бюро райкома ВКП(б) и по ним буду делать доклад. Доклад я делал один час двадцать минут за период моей работы больше 3-х лет, и безусловно всего я не охватил, и активом совершенно правильно был отмечен целый ряд незатронутых вопросов и правильно критиковал работу РИКа и мою, в частности. Перед концом актива на совещании появился облуполкомзаг тов. Сумарев и сразу выступил примерно со следующей речью, что актив должен потребовать от меня, чтобы я рассказал о своих связях с врагами народа Гриневичем и Овчинниковым, как я ездил на курорты и т. п. Высказавшись, Сумарев также внезапно исчез, как и появился. Я в конце заседания дал объяснение активу по выступлению Сумарева и даю его сейчас, поскольку оно напечатано в газетах. Я заявляю, что никаких буквально дружеских отношений ни с Гриневичем, ни с Овчинниковым – врагами народа, у меня никогда не было, и никогда в жизни я с ними ни на каких курортах не был, и никакими “пошлостями” не занимался. До приезда Гриневича и Овчинникова в Уссурийскую область я их совершенно не знал, ибо я, как дальневосточник, работаю все время на ДВК, а они не знаю откуда, во всяком случае, из центра. С Гриневичем я бесспорно имел служебные дела, как с председателем Облисполкома, а с Овчнниковым и этого не было.
Я давно болею суставным ревматизмом и осенью совершенно свалился с ног, подал заявление, чтобы мне дали возможность повторить лечение после 1932 года. Было решение области отпустить меня на лечение на курорт Мацеста согласно заключения врачебной комиссии с 20/X 36 г. и поручено зав. облздравом Плеханову обеспечить меня путевкой. Путевки в области не было. А из края путевки Плеханов не достал. Я попросил его дать мне возможность принять несколько электрических ванн в Ворошиловской поликлинике. Мне предложили это лучше сделать в Шмаковке, ибо там организован дом отдыха. Я поехал туда и пробыл там 6 дней, приняв 5 электрических ванн. В течение всей зимы Плеханов путевки мне не достал, и только в конце посевной я опять возбудил ходатайство, и 25/V с/г. состоялось решение бюро Крайкома ВКП(б), и я выехал на курорт Мацесты. В области путевки не получал, а выдали мне деньги на основании решения президиума облисполкома. На каком основании Сумарев заявил о моих “пошлых прихотях” и т. п. для меня не известно, и уверен, что никто не может этого доказать, ибо я в жизни никогда “пошлостями” не занимался и не думаю заниматься, и мне не до этого было и ранее и теперь. Актив хорошо знает мое состояние здоровья, и никто, кроме Сумарева, не ставил вопросы о моем курорте, так же и “пошлых прихотях”.
В последнем абзаце упомянутых статей написано, что коммунальное строительство ограничилось оградой Потопякской квартиры и т. д.
Я в течение 3-х с лишним лет жил в квартире с абсолютно разваленным забором и без всяких тротуаров, и по приезде в Черниговку я в первую очередь занялся приведением в порядок двора РИКа. Мы огородили его и сделали древонасаждение, построили гараж, так как машины стояли на улице, провели по Черниговке около 5 километров гравийной дороги, построили звуковой кинотеатр с паровым отоплением, построили, хоть и неважную, баню, и, наконец, построили небольшую электростанцию, осветив учреждения и частично центр Черниговки. Это факты, которые можно всегда проверить. В этом году помимо других работ построили 405 метров новых заборов в т. ч. возле моей квартиры 42 метра. Я не хочу сказать, что по благоустройству мы работали хорошо, наоборот, очень скверно, однако неверно будет сводить все только к ограде моей квартиры.
Вопрос о том, что в районе орудовали враги народа и вредители, я, бесспорно, несу ответственность перед партией за то, что проглядел, о чем более подробно изложил в своей апелляции».
Иван поставил подпись, приписал «с. Черниговка», поставил дату 15/X 37 г., положил на стол ручку и тяжело вздохнул.
Последующий год для него самого, да и для семьи был, наверное, самым тяжелым. Его регулярно вызвали в районное отделение НКВД, побывала там и его старшая дочь Александра, которая к тому времени закончила Мичуринскую сельскохозяйственную академию и приехала агрономом в Черниговский район «поднимать сельское хозяйство».
Молодой лейтенант Дуюнов, ведущий дело ее отца, проявлял к ней не только служебный, но и личный интерес.
Шура принимала его ухаживания довольно-таки осторожно. Кавалеров у нее было хоть отбавляй.
Высокая, статная, с пронзительно-синими глазами, не унывающая ни при каких обстоятельствах, Шура пользовалась успехом у сельских парней, да и не только у них.
После окончания школы она с годик учительствовала в школе, а потом по настоянию отца, выхлопотавшего для нее путевку в академию с обязательством после окончания вернуться в родное село, успешно сдала экзамены в сельскохозяйственный институт.
Из всех ухажеров матери очень нравился еще один ухаживающий за Шурой лейтенант из НКВД по фамилии Яблочко. Да и он сам был под стать наливному яблочку кругловатой фигурой, вечно румяным лицом и ямочками на щеках. Все трое учились на одном факультете в сельхозинституте, правда, на разных курсах.
Судьба так распорядилась, что после окончания института они оказались в одном месте. Яблочко и Дуюнов были призваны в органы НКВД по комсомольской путевке.
И вот на стол одного из них, Дмитрия Дуюнова, легло дело Ивана Потопяка. Надо отдать должное, Дмитрий ни разу не воспользовался своей служебной возможностью, чтобы оказать хоть какое-то давление на Шуру. По характеру замкнутый, неразговорчивый, Дмитрий почему-то не показался Ксении Ивановне. И она не раз говорила дочери:
– Выходи замуж за Яблочко, он мне больше нравится, чем этот бирюк.
Шура помалкивала, побаивалась, что ее предпочтение может отразиться на судьбе отца.
Апелляционное дело Ивана Федоровича рассматривалось почти полгода. И вот в феврале 1938 г. его пригласили на заседание бюро Уссурийского обкома ВКП(б).
Отправляя Ивана в дорогу, Ксения тайком перекрестила его. Она знала, что Иван ненавидит церковников и запрещает отмечать церковные праздники, даже Пасху. А ведь он когда-то пел в церковном хоре в Ходыванцах. Это было еще до их переселения на Дальний Восток.
По всей вероятности, его отвернуло от религии поведение некоторых служителей церкви. Молодой священник из Ходыванцев, сменивший старого батюшку, не пропускал мимо себя ни одной симпатичной «верующей юбки». Уже не одна молодка, да и девка, плакала горькими слезами, поддавшись елейным уговорам святоши.
Подкатился он и к Ксении, и даже попытался однажды взять ее силой, но встретил такой отпор, что долго ходил с поцарапанным лицом.
Ксюша пожаловалась Ивану, но под страшной клятвой попросила его ничего не предпринимать. Иван, конечно, поклялся, но однажды, подкараулив прелюбодея, так накостылял ему, что тот едва остался жив. Через некоторое время молодой священник исчез из села.
Второй случай произошел во время войны, когда полк Ивана стоял во Франции в лагере Малье, дожидаясь отправки в Салоники. Большие компании офицеров собирались в ресторанах Парижа, а затем продолжали пьянки, нередко со скандалами, в публичных домах, в том числе и низкого пошиба, куда вход для командного состава был запрещен.
В первый же вечер по прибытии во Францию священник полка, где служил Иван, мотая во все стороны черной бородищей, пустился в пляс с истерично взвизгивающими девицами в солдатском борделе.
Об этом Ивану рассказал их ротный – капитан Маслов, особо выделявший Ивана из общей массы солдат своей роты.
А вот солдат отпускать в увольнение было запрещено под предлогом того, что Париж «полон русскими революционерами», контакт с которыми, по мнению командования, просто был недопустим.
По свидетельству полковника графа А. Игнатьева, бывшего в то время военным агентом во Франции, солдат за малейшую провинность нещадно пороли, согласно секретному приказу главнокомандующего русскими войсками великого князя Николая Николаевича.
Это усиливало брожение среди солдат, расширяя и без того глубокую пропасть между нижними чинами и офицерством.
Однако, хотя и редко, встречались офицеры, которые пользовались уважением со стороны солдат. К таким относился капитан Вадим Маслов, который в свое время вручал Ивану медаль «За храбрость» 4-й степени на георгиевской ленте.
Сам Маслов был удостоен ордена Владимира с мечами и бантом, которым награждались только за боевые заслуги.
Красивый блондин высокого роста, всегда подтянутый, с бравой выправкой, он всегда пользовался неизменным успехом у женщин. Однажды в ресторане гостиницы «Гранд-Отель» он познакомился с красивой сексапильной танцовщицей-стриптизершей, выступавшей под псевдонимом Мата-Хари.
Взаимная симпатия привела к взаимной любви. Мата-Хари даже прекратила связи с другими многочисленными любовниками. Когда ее арестовали как шпионку, она призналась, что действительно любила только капитана Маслова и он стал для нее самым дорогим человеком. На одном из допросов Мата-Хари с присущей ей импульсивностью воскликнула: «Проститутка – да, предательница – нет!»
После ее расстрела капитан Маслов напросился на передовую и отчаянно лез в самые опасные места, пока не получил тяжелое ранение. Отлежавшись в госпитале, он постригся в монахи.
А Иван с того времени стал ярым безбожником и не разрешал в семье отмечать церковные праздники, строго спрашивал за малейшие нарушения запрета.
Ксения мужу не перечила, но хранила на самом дне сундука, перевезенного с Украины на Дальний Восток, древнюю икону, и в тяжелые случаи жизни доставала ее и молилась своими словами, прося у Бога защиты и помощи.
…В Ворошилове Иван пробыл недолго.
К назначенному часу его пригласили в кабинет секретаря, где заседало бюро Уссурийского горкома. Не приглашая Потопяка присесть, первый секретарь Павел Герасимов зачитал:
– Постановление бюро Уссурийского обкома ВКП(б) от 28 февраля 1938 г. Апелляционное дело Потопяка Ивана Федоровича (на бюро Потопяк присутствует)
Потопяк И. Ф., год рождения 1982, соц. положение – крестьянин, образование – низшее, член ВКП(б) с 1925 года, п/б № 0494358, партвзысканий не имеет, работал председателем Черниговского РИКа.
Суть дела: Решением первичной парторганизации РИКа от 29/X 1937 года за притупление классовой бдительности Потопяку объявлен строгий выговор. Решением бюро Черниговского РК ВКП(б) от 6 октября «за потерю классовой бдительности, за скрытие от парторганизации засекреченного бюро по выдаче партбилета врагу народа Золотарю, чем дал возможность еще более замаскироваться врагам народа и проводить вредительскую работу в районе по развалу сельского хозяйства, а также еще более позволил законспирироваться Хазбиевичу, как пособнику врагов, Потопяк из партии исключен.
Установлено: Работая председателем РИКа Черниговского района Потопяк проглядел вредительство в МТС в ремонте транспортного парка и вредительство в животноводстве, зная о том, что у Золоторя отец расстрелян красными партизанами, голосовал за выдачу ему партбилета. Зная его еще по работе в Александровском районе в 1931 г., не сумел разоблачить его. На глазах у него враги развалили колхоз «1-е Мая». Потопяк свои ошибки признал…
Постановили: Решение Черниговского РК ВКП(б) об исключении из партии Потопяк отменить, в партии восстановить, за притупление классовой бдительности объявить строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку».
Зачитав Постановление, Герасимов строго посмотрел на Ивана, у которого от напряжения выступила испарина на лбу, а он даже не посмел смахнуть холодные капли.
После небольшой паузы секретарь заключил:
– Иди, Иван Федорович, работай, благодари партию и искупай свою вину. Надеюсь, ты полностью осознал свою вину перед партией и народом. Мы учли и твое партизанское прошлое, в этом нам помог командир партизанского отряда, и то, что ты в общем-то на хорошем счету на работе. Но учти, допустишь малейшую слабину в классовой борьбе, и пощады тебе уже не будет.
Первый секретарь провел пальцами рук по широкому командирскому ремню, опоясывающему полувоенную гимнастерку и, пока Иван шел на неслушающихся, ставших какими-то ватными, ногах к двери, привычно произнес:
– Ну что, товарищи, переходим к рассмотрению следующего вопроса…
Дело в НКВД на Потопяка Ивана Федоровича было закрыто. С легкой душой Дмитрий Дуюнов сдал папку и досье в архив.
Строгий выговор с Потопяка сняли только в марте 1939 года.
А до этого ему еще в 1937 г. пришлось участвовать в деле, которое было совсем уж не по душе. Его назначили председателем тройки по переселению корейцев из Черниговского района. Членами тройки стали первый секретарь Черниговского райкома партии Ларин и член бюро райкома Марти.
Потопяк лично объезжал села Черниговского района, составлял «поименные и похозяйственные списки корейских семей с указанием движимого и недвижимого имущества».
Практически это была первая в СССР депортация по этническому признаку, и проводилась она на основании совместного постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б). Мотивировалась депортация корейцев тем, что летом 1937 года японские войска вторглись в Китай, а Корея в то время была частью Японской империи.
И хотя советские корейцы в целом в пособничестве врагу не обвинялись ни до, ни после постановления об их выселении, в центральной печати стали появляться публикации о подрывной деятельности корейцев.
В секретных протоколах того времени сохранились до нашего времени некоторые материалы о работе Черниговской «тройки» по переселению корейцев:
Протокол № 1
Заседания тройки по переселению корейцев
Присутствуют: Ларин, Потопяк, Марти
Слушали: О председателе тройки.
Постановили: Председателем тройки утвердить тов. Потопяка.
Слушали: Об уточнении учета наличия корейского населения в районе.
Постановили:
Командировать во все населенные пункты из райпартактива с заданием в суточный срок составить поименные и похозяйственные списки с указанием движимого и недвижимого имущества.
Концентрацию и подведение итогов по району поручить члену тройки тов. Марти.
Инструктаж посылаемых уполномоченных поручить тов. Потопяку и Марти.
Подписи: Председатель тройки Потопяк
Члены: Ларин
Марти
Протокол № 2
Заседания тройки по переселению корейцев
Присутствуют: Ларин, Потопяк, Марти
Слушали: О технических работниках для отработки материалов.
О выделении уполномоченных тройки для проведения массово-разъяснительной и практической работы по переселению.
Об учете, оценке и выплате денег за оставленное имущество…
Протокол № 3
Об утверждении плана работы тройки.
Об утверждении очередной разбивки по эшелонам.
Постановили: Утвердить следующую разбивку по эшелонам:
1 эшелон Черниговка
Алтыновка
Синхиндон
Горный Хутор
К-з Авангард
С количеством 256 хозяйств, населения 1141 чел. Требуется 51 вагон.
2 эшелон Энгельс
Лунза
Годенхоу
Шелко-станция
Военколхоз ТОФ
Дмитриевка (рабочая слобода)
Меркушевка
Меркушевка (рабочая слобода)»
…Незаметно подрастали дети. Василий – косая сажень в плечах, кудреватый чуб, васильковые, как у отца глаза, правильные черты лица – предмет воздыханий всех сельских девчат.
А вот присох он к Оксане – первой красавице в Черниговке, а на других девчат даже и не смотрел.
Василий твердо решил стать военным, а потому спорт – первое дело. Был он первым физкультурником не только на селе, но и в районе. На застиранной футболке теснились значки, подвешенные к красной звездочке на цепочке «Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне»…
В отличие от Василия Иван был тихим, скромным подростком, может быть, поэтому и дружил с сестрой-погодкой и аккуратисткой Октябриной. А та не могла жить в мире с другой сестрой – Леной, которую все в семье называли Лелей. Активная участница художественной самодеятельности, она и внешностью отличалась от всех Потопяков. У тех были синие, прозрачные глаза, а у этой черные с поволокой, да еще родинка на губе и легкая картавость.
Иван Федорович, да и Ксения только руками разводили, когда знакомые ехидничали:
– И в кого это ваша Леля удалась? А?
Самая старшая дочь Александра – уже отрезанный ломоть. После окончания сельскохозяйственной академии она работала агрономом в Черниговке, там же вступила в партию и собиралась выйти замуж за того самого лейтенанта Дуюнова, который вел дело Потопяка.
Ну а самый малый Володька – оторва из оторв. Там не только глаз да глаз нужен был, там бы и ремня не помешало.
В семье Потопяков детей ни за какие провинности не наказывали. Иногда только Ксения охаживала нарушителя спокойствия свернутым вдвое полотенцем. Не больно, не обидно. Во время разбирательства партийными органами и НКВД «пособника врага народа» Потопяка Ксения строго-настрого наказала детям ни слова, ни полслова не рассказывать о том, о чем говорят дома.
– Притворяйтесь, что не расслышали, – наставляла она детей, – если будут расспрашивать. А сами, тем более, не заводите разговоров. – А ведь батьку не только посадить могут, а то еще, что похуже, – всплакнула она.
И оторопела от ужаса, услышав от родного сына Василия жестокий приговор:
– Собаке – собачья смерть, – сквозь зубы выдавил Василий.
С того самого времени словно кошка пробежала между отцом и сыном. Василий перестал разговаривать с отцом на интересующие его темы, демонстративно уходил из дома, когда Иван Федорович возвращался с работы. Василий был сыном своего времени и твердо верил, что партия и органы не могут ошибаться…
А ведь правду говорят, что беда не приходит одна. Не прошло и года после партийного разбирательства, как Иван Федорович закрутил любовь с работницей финорганов из Ворошилова (как теперь называется Уссурийск). Во Франции устоял, а тут – на.
Потопяк стал часто ездить в командировки в город, нередко не ночевал дома, и отводил глаза в сторону, когда Ксения с молчаливым укором смотрела на него, словно безмолвно спрашивала:
– Что с тобой, Иван? Куда теперь-то вляпался?
Однажды вечером, когда вся семья была в сборе, Иван Федорович решительно вышел на середину горницы и заявил:
– В общем, так, Ксения Ивановна и дорогие дети! Я решил завести новую семью. А вас мы, – запнулся он, не решаясь назвать имя той, второй, – решили поделить. Троих младших – нам, а других тебе, Ксения Ивановна, – закончил он свою трудную речь. Ксенией Ивановной он называл свою жену только в ответственных случаях.
В доме воцарилась тишина. Даже черный как смоль с огромными рыжими глазищами кот Васька забился куда-то в угол. Все словно оцепенели.
– Знаешь что, – неожиданно подошел к отцу Василий. – Катись-ка ты к своей… – не нашел он подходящего слова. – А ты, мать, не кручинься, выживем. – Никто с тобой, – снова обратился он к отцу, – не пойдет, даже Вовка.
Лицо Ивана Федоровича побагровело. Он странно задергал усами, руки судорожно стали расстегивать ремень…
– Ах ты щенок недоношенный… Как ты с отцом разговариваешь? Не порол я тебя ни разу, а сейчас врежу, – пытался он расстегнуть непослушную пряжку ремня.
Василий протянул руку, ухватил отцовский ремень, приподнял, словно тряпичную куклу, в общем-то нехилую фигуру Ивана Федоровича и держал его на весу, хрипло приговаривая:
– Уходи от греха подальше…
Отец смешно задергал ногами, кто-то из сестер не к месту прыснул в кулак.
Подержав отца в нелепом положении несколько минут, Василий опустил отца на пол.
Красный от натуги с выступившими от обиды и стыда слезами Иван Федорович прохрипел:
– Выкормил на свою шею битюга…
Нелепо подтягивая галифе, он вышел за дверь.
Ксения, оцепенев и безвольно опустив руки, застыла у печи.
Василий подошел к матери, приподнял за плечи и ободряюще произнес:
– Ничего, мать, проживем!
Остальные тоже подбежали, каждый со своими утешениями. Скупая на ласки Ксения не проронила ни слезинки. Да и из остальных никто не всплакнул, хотя расходились по своим местам с окаменевшими лицами.
Проведя бессонную ночь, Ксения ранним утром по привычке побрела на кухню. Какое бы горе ни было, а детей кормить-то надо!
Но все валилось у нее из рук. Она присела на табуретку, не хотелось ни думать ни о чем, ни что-либо делать.
За входной дверью кто-то заскребся. Ксения с трудом поднялась с табуретки и пошла к двери, чтобы впустить кота Ваську. Открывая дверь, она проговорила потухшим голосом:
– Ну, входи, шалавый.
Но кота не было видно. А стоял перед нею Иван, какой-то обмягший, опустошенный, заросший щетиной, с жалкой улыбкой на лице.
Ни слова не говоря, он бухнулся прямо в сенях на колени перед Ксенией, уткнулся лицом в подол платья, обнял ее за ноги и зашептал:
– Прости меня, мать, прости… Нет у меня без вас жизни…
Услышав шум, из комнат высыпали дети, застыли в дверях, увидев отца, стоящего на коленях перед матерью.
– Простите меня, дети, – обратил Иван к ним мокрое то ли от пота, то ли заплаканное лицо.
– Пусть мать простит, если сможет, – среди полной тишины выкрикнул Василий.
Ксения стояла, словно окаменев, молча глотая катившиеся по щекам слезы.
– Вставай, Иван, – наконец проговорила Ксения, – давайте, дети, за стол, завтракать пора.
И тут женская половина не удержалась, раздались сначала короткие всхлипывания, а затем рев в полный голос. Слезы, словно очистительный дождик в грозу, разогнали сгустившиеся над семьей тучи.
После примирения Ксения удивлялась чувствам Ивана, как будто бы наступил второй медовый месяц. Последствия не заставили себя ждать. Ксения забеременела. И это в пятьдесят-то с лишним лет!
Она стыдилась своих взрослых детей, но решила выносить ребенка.
– Ой, Ваня, что же мы сотворили с тобой на старости лет? – сокрушалась не раз Ксения Ивановна.
– Не что, а кого, – поправлял ее Иван Федорович, – строителя коммунизма, в конце концов. Мы эту хорошую жизнь строили, а он или она в этой новой жизни будут жить.
Ксения Ивановна родила девочку в самом начале 1940 года, в морозную зимнюю ночь.
Для взрослых детей она была чем-то вроде игрушки. В отличие от черноволосых Потопяков была такая беленькая, светленькая, вот и назвали ее Светланой. Хотя уже к школе волосы потемнели, как у старших братьев и сестер.
В конце лета 1940 г. Василия, по его заявлению, военкомат направил учиться в Тюменское военно-пехотное училище, которое было сформировано в декабре 1939 г. на базе мотострелково-пулеметной бригады, прибывшей в Тюмень после участия в боевых действиях на Халхин-Голе.
Долгих проводов не было. Василий попросил родных на вокзал его не провожать. Все поняли, что последние минуты он хотел провести с Оксаной.
Василий писал матери письма и даже успел прислать фотокарточку, с которой глядел бравый курсант в буденновке. В каждом письме он просил поцеловать младшую сестренку. А менее чем через год грянула Великая Отечественная. Василий написал, что в училище состоялся досрочный выпуск, ему присвоили звание лейтенанта, и он отправился на фронт, где обещал дать немцам жару.
Письмо запоздало. Его опередила похоронка, присланная на имя Ксении Ивановны.
На бланке с угловым штампом стрелкового полка значилось:
«Извещение от 4 августа 1941 г. № 2/0308
Ваш сын Потопяк Василий Иванович,
Уроженец Уссурийской области, г. Ворошилов
В бою за социалистическую родину, верный воинской присяге,
Проявив мужество и геройство, был убит 20.7.41 г.
д. Долгая, Сланцевского района, Лен. обл.
Похоронен на кл. у д. Ариновка Сланцевского р-на Ленинградской области.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии /Приказ НКО СССР№ (не заполнено. – Примеч. авт.)
(печать прилагается».)
Подписали извещение синим химическим карандашом командир части майор Якутович и комиссар части ст. политрук Кузнецов.
Когда Светлана повзрослела, мать рассказывала ей, что 20 июля 1941 г. (в этот день был убит Василий) у нее вдруг закололо сердце, дыхание на мгновение остановилось, и она поняла, что с Василием случилось непоправимое. А через месяц пришла «похоронка»…
…Детство Светланы пришлось на военные и послевоенные годы. Одним словом, трудное детство. Недаром уже в наше время возникла такая категория жителей России «Дети войны».
Во время войны весь тыл страны жил только фронтом. «Все для фронта, все для Победы!» – этот лозунг стал святым для семьи Потопяков.
Александра вышла замуж за Дмитрия Дуюнова и сопровождала его всю войну по городам и весям, куда заносила их нелегкая служба мужа.
Октябрина поступила в медицинское училище и училась на фармацевта, выполняя работу по сбору лекарств для фронта. Сын Иван служил в авиаполку где-то на Камчатке.
Лена (она же Леля) работала токарем на оборонном заводе в Ворошилове, на этом заводе «токарничал» и младший сын Володька. Неугомонный подросток доставлял немало хлопот. То проспит на работу, то залезет в самолет, стоявший прямо за их забором и охранявшийся часовым, то надерзит начальству…
Иван Федорович не раз выручал сорванца, ведь за опоздание на работу в то время могли и срок припаять.
Ксения Ивановна тоже не раз хлестала Володьку полотенцем и причитала:
– Ну что за бисов сын, я его стегаю, а он хохочет, как от щекотки!
Иван Федорович повесил на стене большую карту Советского Союза, отмечая на ней самодельными синими и красными флажками положение Красной армии и немецко-фашистских войск. Нередко он вздрагивал, слушая сводки Совинформбюро, когда диктор называл знакомые еще по времена Первой мировой войны названия городов и сел.
– Ничего, ничего, – шептал он вслух, – еще посмотрим, на чьей улице будет праздник!
Потопяка начальство бросало на прорывные направления: был он и директором совхоза, и начальником облупромстроймастер (существовала в то время и такая аббревиатура), и председателем Ворошиловского горисполкома.
Приходил он домой до того измотанный и уставший, что засыпал иногда прямо за столом, даже не дождавшись ужина.
Но были события, которые запомнились, так сказать, светлой стороной. Когда Свете исполнилось три года, семья переехала на новую квартиру в городе Ворошилове на улице Тимирязева.
«Новая», конечно, громко сказано. Это была половина одноэтажного дома, в котором когда-то жила купеческая семья. Не успев освоиться с местом жительства, Света, соскучившись по другу Юрке из того двора, где они жили раньше, выскользнула за калитку и пошла искать своего закадычного дружочка. К вечеру родные спохватились.
– А где же ребенок? – а ребенок разгуливал по городу Ворошилову, будущему Уссурийску, разыскивая Юрку.
Ворошилов, конечно, даже не Владивосток, но тысяч сто жителей к тому времени уже имел. А учитывая, что улица Тимирязева располагалась в самом центре города, а раньше семья квартировала на окраине, то Свете предстояло пройти не один километр, может быть, даже не в ту сторону.
На поиски пропавшего ребенка бросились брат и сестра, отец побежал звонить в милицию.
– По какому имени ее узнавать? – деловито поинтересовались в отделении.
– Да будете спрашивать, как ее фамилия, она ответит «Хорошая» – уточнил отец.
Вот по этой фамилии «Хорошую» и нашли…
Летели годы, Света подрастала. Уже став взрослой, она вспоминала про большой шкаф, который стоял в спальне. В одном из его ящиков, застеленных чистой белой бумагой, мать раскладывала маленькие кусочки черного хлеба, каждому из членов семьи по одному. Когда оставался один мамин кусочек хлеба, Света открывала ящик, долго на него смотрела и канючила:
– Мам, ну, займи мне хлебушек, а? Я тебе отдам потом. Честное слово!
Ксения Ивановна подходила к ящику, доставала этот маленький кусочек хлеба, протягивала дочери, погладив ее по голове, говорила:
– Кушай, маленькая. Конечно, отдашь потом.
Когда она сама ела, никто не видел. Она все отдавала детям.
Будни «детей войны» в послевоенное время проходили в очередях: за хлебом, за мукой, за мануфактурой, за селедкой. Поднимали рано, часов в пять утра, а то и раньше, чтобы быть поближе к прилавку, но как бы рано ни вставали, у дверей магазина всегда уже клубилась многолюдная очередь. Свой порядковый номер записывали на ладошке химическим карандашом. И не дай бог, было потеряться: семья оставалась на несколько дней без хлеба, а это в то время был основной продукт питания. Ничего слаще не было, когда на небольшой кусок хлеба намазывался комбижир, гидрожир или постное масло, а сверху посыпался солью и мелко нарезанным чесноком. Тот еще смак!
И в кино тогда тоже ходили, тем более что кинотеатр от дома, где жила Светлана, находился в метрах трехстах. Когда привозили новые фильмы, к окошку кассы выстраивалась очередь счастливчиков, у которых были деньги на билеты. Правда, очередью эту толпу ребятни можно было назвать весьма условно. Просто к кассе устремлялись все, кому хотелось первым подержать в руках бумажки, открывающие путь в совершенно другой мир – волшебный мир кино. К тому же и количество билетов было строго определенным – могло и не хватить. Так что даже наличие денег не всегда гарантировало возможность посмотреть фильм.
А в очереди, вернее, в толпе, всякое случалось. Однажды, в такой же вот толпе, когда Света держала в высоко вытянутой ручонке завернутую денежку, у самой кассы кто-то умудрился эту денежку выдернуть. Так и не удалось Светлане посмотреть фильм «Приключения Буратино». И стоит, выбравшись из толпы, растерянная, беззащитная девочка, с накипевшими в огромных зеленых глазах слезами обиды и безысходности. Ее тогда прозвали «Красная шапочка» за то, что у нее была шапочка ярко-красного цвета и занимающие очередь всегда говорили:
– Я стою вот за этой Красной шапочкой.
Старшие братья и сестры в самом раннем детстве ее звали «Шихомодой», а отец называл Синтайка-Адынбайка. Откуда взялись эти слова, что они означали – никто объяснить не мог, однако же звали! Эти клички отпали сами собой, когда Света пошла в школу.
В 1946 г. Ивана Федоровича наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вручали в торжественной обстановке. Всего на весь Уссурийск таких медалей было, как записано в акте о вручении, «50 штук».
Иван Федорович шутил:
– Ну, мать, по наградам ты меня в чистую обошла.
К тому времени у Ксении Ивановны было три награды: две «Медали материнства» (за пять и шесть детей соответственно) и орден «Материнская слава» III степени (за семь детей).
Иван Федорович с грустью вспомнил про свои медали с Первой мировой войны, которые лежат где-то на дне колодца в Черниговке, куда он бросил их прямо в кисете, в 1937 году, когда его обвиняли в «пособничестве врагам народа».
Тогда он понимал, что если вдруг дело дойдет до обыска, эти награды лягут весомым довеском к его и так расстрельному обвинению.
Иван Федорович довольно часто ездил по делам службы во Владивосток, а там было море…, и Светлана так хотела его посмотреть. Наконец, перед школой, перед самым первым классом, она уговорила отца взять ее с собой.
И вот она, ухватив отца за руку, и еле поспевая за его широкими шагами, идет через вокзальную площадь к поезду. Всю дорогу она любуется проплывающими за окном вагона картинками текущей почти параллельно железнодорожному полотну реки с китайским названием Суйфун, освященной восходящим солнцем. Но как только они проехали Надеждинский туннель, солнце куда-то исчезло, и окна вагона накрыла серая водяная пыль, мешая обозревать окрестности. Стало как-то неуютно и тоскливо. По прибытии на станцию Иван Федорович взял Свету за руку, и они пошагали по улице 25 Октября до Дома колхозника, так называлась небольшая гостиница для работников сельскохозяйственных районов Приморья, приезжающих по делам в краевой центр.
Света во все свои большие, широко распахнутые глаза рассматривала казавшиеся ей огромными дома, допытывалась у отца, почему этот дом называется «Серой лошадью»:
– И вовсе он не похож на лошадь, – спорила она с отцом.
А столько людей, сколько ходило в будний день по улицам Владивостока, она видела в Уссурийске только по праздникам 1 Мая и 7 Ноября, когда отец брал ее с собой на трибуну.
А как интересно было смотреть на трамваи, которые, весело постукивая на стыках рельс, катились, обгоняя пешеходов.
– А куда они спешат? – спросила Света.
– Этот на Луговую, а этот на Первую речку, – ответил занятый своими мыслями отец.
Ивана Федоровича в Доме колхозника хорошо знали. Дежурная нарочито взмахнула руками:
– А это откуда такая командированная приехала? Да еще с такими красивыми глазами.
– Из Уссурийска, – застеснявшись, серьезно ответила Света.
– Присмотрите за ней, пожалуйста, – попросил Иван Федорович, – я постараюсь побыстрее обернуться.
Но побыстрее не получилось.
Иван Федорович закружился в командировочных хлопотах, а Света, выпив стакан чая с красным пряником, тоскливо смотрела в окошко гостиницы, терпеливо дожидаясь отца.
Стояла обычная для Владивостока июньская погода. То ли мелкий дождик, то ли морось сплошной стеной, окутывая туманной сыростью дома, машины, прохожих…
Уже вечерело, когда наконец-то вернулся отец.
– Ну, Синтайка-Адынбайка, собирайся. Пойдем море смотреть. Да и распогодилось на улице.
– Сегодня мы на поезд опоздали, – продолжал он. – Переночуем, а с утра – на поезд – и домой.
Они вышли на Океанский проспект, пересекли Ленинскую улицу и прошли мимо цирка Шапито на Корабельную набережную. Иван Федорович едва успевал отвечать на вопросы дочурки и с удовольствием прислушивался к ее щебетанию.
– А у нас в Уссурийске цирк лучше. Ой, сколько людей, и где они только помещаются? А вот моряки пошли, какие красивые!..
Наконец, они подошли к причалу, вдоль которого выстроились громады пароходов. Иван Федорович подвел Свету к самому краю причала. Над ними нависла ржавая корма какого-то парохода, а в воде плескались какие-то банки, обломки ящиков, мазутная ветошь. Неприятно пахло чем-то гниловастым.
– А где же море? – воскликнула Света в недоумении.
– Да вот же оно, смотри, – развел руками Иван Федорович.
В просвете между пароходами виднелась водная поверхность.
– Эта бухта называется Золотой Рог, – пояснил Иван Федорович, – а вот там, – показал он рукой, – Русский остров.
– А что, есть еще и Японский? – удивленно спросила Света.
– С чего бы это? – переспросил отец. – Остров этот наш – русский, поэтому и название такое.
Иван Федорович невольно вспомнил начало своей солдатской службы и тяжело вздохнул. Сколько воды с тех пор утекло!
– Ну, пойдем в гостиницу, а то уже темнеет, – позвал Свету Иван Федорович.
Возвращались они уже при свете уличных фонарей, и эта картина казалась Свете какой-то сказочной.
– Ну, увидела море? – спросила у Светы дежурная, когда они переступили порог гостиницы.
– Увидела, – вздохнула Света. – Что-то не понравилось оно мне.
– Почему? – удивилась дежурная.
– Да, грязноватое оно какое-то и… маленькое.
Дежурная притащила им раскладушку. После очередного стакана чая с красным пряником Света заснула крепким сном, и снилось ей море, но совсем не такое, как во Владивостоке.
А Иван Федорович долго ворочался в неудобной кровати, вспоминая отдельные эпизоды из своей жизни, а когда заснул, то никаких снов не видел.
…Иван Федорович и не заметил, как в послевоенных буднях пролетели годы, и пришла пора уходить на пенсию. Проводили его торжественно – все-таки персональный пенсионер, хотя и местного значения.
Как водится, наградили почетной грамотой (их у него за время работы набралось более десятка), ценным подарком (самоваром) и, конечно, букетом цветов.
Иван Федорович был в своем неизменном полувоенном костюме с медалью и почетными министерскими знаками на груди («Отличнику соцсоревнования по сельскому хозяйству» и «Отличнику промкооперации»).
– Вот и все, мать, – заключил он, возвратившись с собрания. – Теперь будем вдвоем куковать.
– Ну да, вдвоем, – возразила Ксения Ивановна. – Нам надо еще вон Светку поднимать. Да и Вовка из армии должен прийти.
Старшие дети уже свили свои «гнезда». Октябрина вышла замуж за Александра Турубарова, который пройдет путь от рядового шофера до главного инженера крупной дорожной организации.
Возвратившийся через три года после окончания войны Иван привезет с собой туберкулез. И только мать поставит его на ноги, заставляя принимать барсучье сало. Старшего брата Светлана называла на «Вы» и боялась, особенно, когда мыла полы и оставляла за собой «зайцев» – непромытые проплешины. Ваня указывал на них и заставлял перемывать.
– Ваня, вы понимаете, что я в школу могу опоздать? – вопрошала Света, еле сдерживая слезы.
– Не опоздаешь, добежишь, – не отступал старший брат.
Света быстренько домывала полы и мчалась в школу.
Школа располагалась совсем недалеко от дома, рядом с церковью, которая, надо сказать, была действующей, что для того времени являлось редким исключением.
В первый класс Света ходила с сумкой, сшитой матерью из какой-то прочной материи. В ней помещались учебники, пенал, чернильница-непроливайка, а иногда и бутерброд с гидрожиром вместо масла.
Однажды Света залезла на чердак дома, в котором они жили. Залазить было легко: сначала на забор, потом на крышу сеней, а тут и открытая дверца чердака, и не надо никакой лестницы. Надо сказать, что залазила она на чердак частенько. Ей нравилось перебирать подшивки старых газет, рассматривать всякий хлам, заглядывать в фотоаппарат с гармошкой. Интересно, в него смотришь, а в глазке видишь все вверх ногами. Действительно, перевернутый мир!
Но в этот раз она раскопала в чердачном хламе портфель, настоящий, черный, хотя и немного потертый.
Радостная, она быстренько слезла с чердака и побежала поделиться к матери. Та, как всегда, встречала ее с причитаниями:
– Ну что ты, как мальчишка, право слово. Посмотри на себя: вся грязная, пыльная… Где ты шаталась, горе ты мое?
– Мама, посмотри, какой я портфель нашла, – не слушая ее, щебетала Света, – настоящий, красивый…
Когда портфель отмыли, и она стал еще красивее, Света аж запрыгала от восторга. Но тут же надула губы от разочарования: замок-то был сломан и не застегивался!
– А мы вот пуговицу с петелькой пришьем и будет хорошо, – обнадежила мама.
– Да, хорошо… какой же это портфель с пуговицей, – захныкала Света.
– А ты носи его пуговицей к ноге, вот никто и не заметит, – успокоила ее мать.
Так и проходила Света с этим портфелем несколько лет, пока не купили ей новый из «настоящего» кожзаменителя.
Испытала она радость и тогда, когда отец привез из какой-то командировки школьное форменное платье темно-синего цвета со стоячим воротничком и круглыми пуговицами такого же цвета. Светлана, худющая, как тростинка, быстро росла вверх, но платье носила несколько лет, отпуская подол сантиметра на два каждый год, благо запас для этого был.
Интересно, что отметки по школьным дисциплинам мало волновали ученицу Свету. Учителя удивлялись, что она не огорчалась, когда отхватывала «двойку», и не радовалась, получив «пятерку».
По окончании 7-го класса (а он в то время считался выпускным) Светлана получила ценный подарок: книгу-роман Евгения Воробьева «Высота», по которой впоследствии был поставлен известный художественный фильм с идентичным названием.
В то время шариковых ручек еще не было, и на титульном листе книги каллиграфическим почерком перьевой ручкой начертано:
«Любите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей, она научит вас уважать человека». М. Горький
И ниже
«В день окончания 7-го класса ученице Потопяк Светлане». Подпись директора школы скреплена гербовой печатью.
На семейном совете решили продолжить учебу дальше в этой же школе.
Детство кончилось, начиналась юность, со всеми вытекающими последствиями.
После окончания средней школы отец откровенно и как-то виновато поговорил со Светланой о ее будущем.
– Знаешь что, Синтайка, мы сейчас втроем живем на одну мою, хоть и персональную, но небольшую пенсию. У старших детей свои семьи, и им тоже нелегко. Задумаешь поступать в институт, я тебе ничем помочь не смогу. Извини, но я уже договорился со своим старым другом, директором училища, где готовят швейников. Там и стипендия есть. Получишь специальность, а там видно будет.
Вот так и началась трудовая юность Светланы.
В училище обучались сироты и дети фронтовиков, и были в этой команде только одни девушки.
Все-таки Иван Федорович был мудрым человеком, и эта специальность, ох, как пригодилась Светлане, когда остались они с матерью одни.
Уйдя на пенсию, Иван Федорович неожиданно для себя возглавил общество селекционеров. На небольшом клочке земли около дома он занимался прививками, выращивал какие-то диковинные груши. Всего два дерева ранеток приносили такой обильный урожай, что его ведрами раздавали соседям и друзьям.
В семье оставались двое младших – Владимир, готовящийся уйти в армию, и малолетка Светлана, над которой он вечно подшучивал. Однажды зимой он принес с мороза топор, покрытый инеем, и уговорил ее лизнуть его поверхность, красноречиво рассказывая, какая сладость ее ожидает. Света взяла в руки топор, лизнула его, язык, естественно, прилип. С вытаращенными глазами она забежала в комнату, где мать заставила ее постоять около печки.
Язык отлип, но было очень больно.
– Ну что ты за человек, – выговаривала Володьке мать. – Над кем измываешься, негодник, – в очередной раз выговаривала она ему, охаживая полотенцем по спине.
Тот только хохотал:
– Она же сама лизнула.
Доставалось полотенцем и Светлане. Общий двор на несколько одноэтажных домишек. Конечно, не обходилось без ссор и детских разборок. Мать запрещала Светлане ругаться. А когда та, спрятавшись за колодцем и услышав что-нибудь обидное в свой адрес, пыталась в ответ прокричать не менее обидное, получала от матери полотенцем по спине.
В обязанности Светланы входила побудка Володьки по утрам. Он был еще тем любителем поспать. Приспособившись, она раздобыла длинный прут и, приоткрыв дверь, стаскивала со спящего одеяло. В ответ летели не только неприятные слова, а и все, что попадало под руки, в первую очередь обувь.
Зато Светлане летним утром было раздолье на участке – она успевала подъесть всю поспевшую ягоду. Володьке оставалось только ругаться, а она показывала ему розовый язычок:
– Что, съел? Не надо так долго спать!
После ухода Володьки в армию стало скучновато, зато какие хорошие письма он ей писал!
Быстро пролетели три года. Владимир отслужил положенный срок в Порт-Артуре, а, вернувшись, не узнал в заневестившейся сестре ту девочку-подростка, которая провожала его в армию.
Как и всякая девушка, Светлана хотела хорошо выглядеть и приобретала на мизерные средства из своей стипендии необходимые предметы косметики.
Иван Федорович терпеть этого не мог. Он и старших-то дочерей ругал за применение губной помады и прочего, а тут вообще свирепел, выбрасывал в помойное ведро и губную помаду, и тушь, и всякие «подводки».
– Ну, мать, такого черта у нас еще не было – говаривал он Ксении Ивановне. – Дрова пилить и уголь в сарай таскать не пойдет, пока губы не намажет.
Та только отмахивалась.
Светлана помалкивала, покупала со следующей стипендии все необходимое, что подешевле. Конечно, она старалась спрятать приобретенное подальше, чтобы оно не попалось под карающую руку отца.
Ей было смешно, когда, возвращаясь с танцев, она видела в освещенном окне, как отец в белых кальсонах и рубашке выглядывает во двор, а увидев, что она возвращается, делал вид, что давно уже спит.
Неожиданно к ним в гости без всякого предупреждения заявился Вячеслав Ксаверьевич, муж Лели. К тому времени он был уже главным оператором «Ленфильма» и прибыл на Дальний Восток с коллегами для съемок фильма «Дикая собака Динго».
От того визита у Светланы остались прекрасно выполненные фотографии и воспоминания о том, как Вячеслав Ксаверьевич уговаривал ее поехать в Ленинград, ведь у Лели там нет никого родных…
Уговаривал он и Владимира, особенно после того, как прослушал, как тот виртуозно играет на кларнете и баяне. Владимир только отмахивался.
После отъезда Вячеслава Ксаверьевича мать с отцом долго совещались, какую бы посылку отправить Леле, да и Александре заодно. Решили послать им кедровых орех. Но в чем? И тут подсказала Светлана. У нее от детских игр остались две здоровенные куклы – «голенькие» розовые пупсы. Она и предложила наполнить их орехами. Так и сделали.
Внутренности пупсов заполнили орехами, обложили куклы ватой, зашили в мешки, и… посылки ушли в Ртищево и Ленинград, как напоминание о детских годах Александры и Лели…
Однажды после возвращения с огородных грядок в Михайловке, отец присел на лавочку в палисаднике, и ему стало плохо, горлом пошла кровь.
Врачи констатировали рак легкого последней стадии. В то время такой диагноз больным не говорили, а только ставили в известность родных. Ксения Ивановна пыталась лечить его домашними средствами, но ничего не помогало. Несмотря на запрет врачей, курить он не бросил. Светлана сетками носила ему сигареты и приморскую воду «Ласточка».
Иван Федорович догадывался, какая у него болезнь и нередко говорил:
– Знаешь, Синтайка, как хочется пожить подольше и своими глазами увидеть коммунизм. Вон уже и в космос полетели. И вообще… – недоговаривал он, превозмогая боль.
Особенно его не лечили, делая только противоболевые уколы.
Через несколько дней после похорон у Ксении Ивановны случился инсульт. У нее отнялась правая сторона тела. Когда ее выписали из больницы, она могла ходить, припадая на правую ногу, у нее почти не двигалась правая рука и была замедлена речь. На плечи Светланы легли все заботы по уходу за матерью. Конечно, их навещали Октябрина и Иван, но ежедневные хлопоты были за Светланой. К тому времени она уже работала в ателье. Ее зарплаты хватало, чтобы обеспечить им двоим сносную жизнь, да еще Ксения Ивановна получала половину пенсии персонального пенсионера местного значения, как его вдова. Это еще раз подтвердило мудрость Ивана Федоровича, когда он отказался от пенсии союзного значения в пользу «местного», потому что только она давала такие льготы. А ведь Ксения Ивановна не имела официального трудового стажа.
Конечно, горечь утраты так просто не проходит, но давно известно, что время лечит любые раны, а юность свое берет.
Засыпая под музыку из популярных опер и оперетт, которые транслировались по радио, Светлана иногда мечтала о суженом.
Да и кто из девушек не мечтал, да и сейчас не мечтает о своем «принце на белом коне».
Когда он появится, и как в нем не разочароваться?
Что такое счастье и достанется ли оно ей в этой безысходной и безрадостной жизненной круговерти?
Дуга вторая
Анна Овчаренко, 30-летняя «разведенка» с двумя детьми от разных мужей, приехала из Дорогобужа к сестре в Вязьму в поисках работы и, возможно, пристанища. Та познакомила ее с Петром Гуримовым, приехавшим в отпуск к родным, как тогда говорили с ДВК, т. е. с Дальневосточного края. Война еще не закончилась. Шел апрель 1945 года.
Город Вязьма упоминается в русских летописях с 1239 года. Стоит он на реке Вязьма на старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами.
По городу прокатились две Отечественные войны, 1812-го и 1941–1945 годов.
Причем если в октябре 1812 года русские войска нанесли тяжелое поражение отступающим наполеоновским войскам, то в октябре 1941 года под Вязьмой попало в окружение множество соединений Красной армии. Цифры потерь ужасают: 400 тысяч погибших и 688 тысяч попавших в плен.
Город был оккупирован немецкими войсками.
Освободили его только в 1943 году. Вязьма была практически полностью разрушена.
– Какое тут пристанище? Какая работа? – вопрошала вслух саму себя Анна, пробираясь сквозь кирпичные завалы к месту жительства сестры.
Однако «сошлись» они с Петром довольно быстро. Еще быстрее оформили брак и документы на усыновление детей – Риммы и Жени, а к концу отпуска Петра поезд уносил вновь созданную семью к Тихому океану.
Официально они не были переселенцами, но так же, как и те, кто в начале века «по дуге большого круга», ехали на восток страны искать лучшей доли.
Петр Гуримов окончил всего 4 класса ЦПШ (церковно-приходской школы), связался с вяземской шпаной, больше не учился, работал в паровозной мастерской, а в 1936 году был призван в армию и отслужил срочную службу в Приморском крае.
В Вязьму он не возвратился, а устроился работать на одну из артемовских шахт.
С началом войны в 1941 году он был вновь призван в Красную армию, но прослужил всего год.
Сохранился довольно интересный документ того времени:
«Выписка из Акта
АКТ
23 октября 1941 года мы, нижеподписавшиеся представитель от воинской части техник-интендант 1-го ранга тов. Беспалов Р. М. и представитель Ворошиловского шахтоуправления тов. Панкратов, на основании приказания войскам ДВ фронта № 753 от 23.9.42 г. и Постановления ГКО СССР от сентября 1942 г. за №№ 2304 и 2305 произвели передачу и прием бывших красноармейцев в количестве 9 человек согласно прилагаемому списку:
Тов. Гуримова Петра Сергеевича (подчеркнуто красным карандашом).
Сдал: Беспалов
Принял: Панкратов
Верно. Нач. 1-го отдела (подпись неразборчива)».
Анна, разродившись сыном в августе 1941 года, пережила и перенесла все тяготы эвакуации из Воронежа. Пешком, на подводах и машинах, на поездах, на пароходе через Каспийское море, они добрались до Ашхабада, где прожили почти три года и возвратились в Дорогобуж уже в конце войны.
Анна окончила девятилетку, торговую школу и быстро находила себе работу. Все эти годы она содержала семью из четырех человек – себя, дочку, сына и младшую сестру Надежду.
Время проживания в Средней Азии в детской памяти Женьки никак не отразилось, но вот один день в Вязьме он часто вспоминал как самое большое чудо.
Самое большое чудо, какое запомнилось на всю жизнь, произошло, когда Женьке было годика четыре или пять.
Большое чудо из детства, в первый День Всеобщего счастья – День Победы. Он смутно вспоминает избу на окраине Вязьмы, в которой жил его дед. Ночевали на полу очень много людей в шинелях. А потом перед самым утром творилось что-то непонятное. Все радостно возбуждены. Обнимают друг друга. Выскочили во двор и стали палить из винтовок и автоматов в воздух. Женю, как мячик, подбрасывают к потолку. И вдруг он обнаруживает в своей руке шоколадку в красивой-красивой обертке.
И кажется она ему большой, просто-таки огромной – после тех крохотных кусочков хлеба, которые только и были лакомством! Как она оказалась у него в руке, он не помнит. Может, кто-то из солдат ее долго берег, чтобы вручить своему маленькому сынишке по возвращении домой. А тут вспомнил о ней и сунул от счастья малышу, подвернувшемуся под руку. До сих пор кажется иногда, что ощущает на ладони «шоколадкину» приятную тяжесть. Очень хотелось, чтобы каждый малыш, чей бы он ни был, нашел однажды Большое Чудо. Такое, что, быть может, станет камертоном на всю его жизнь.
Наши воспоминания питают нас так же, как родники питают реки.
И если родники чистые и в них нет никаких примесей, то и река, особенно у истоков, чистая и полноводная.
Так и человек сохраняет на всю жизнь «родники» детства. Детство может быть счастливым или не очень, трудным или легким, но самое главное для человека – пронести эти родники на волнах жизни от истоков к руслу до океана судьбы, формулу которой открывает сам человек.
В Ворошилове семья Гуримовых оказалась сразу же после окончания войны с немцами и в канун войны с японцами. Сначала им выделили комнату в бараке.
В школу он тогда еще не ходил, в детский сад тоже, и с превеликим удовольствием осваивал окраину Уссурийска, на которой отчиму как стахановцу-шахтеру выдали ордер уже на квартиру в только что отстроенном доме на двух хозяев. Улица так и называлась: Шахтерская.
Дом стоял на краю глубокого, так ему тогда казалось, оврага, за которым располагался обширный огород.
Когда убирали урожай картошки, он с детворой из соседних домов выстраивали из толстых стеблей подсолнечника шикарные шалаши, которые превращались то в партизанские землянки, то в воинские блиндажи, а то просто в жилой дом – в зависимости от «контингента» играющих.
А однажды, когда Женя после очередных «штабных» игр выглянул из калитки на улицу, то с огромным удивлением обнаружил, что на пустыре прямо через дорогу от дома взметнулась вверх высоченная ограда из плотно сбитых свежевыструганных досок, опутанных к тому же колючей проволокой. Когда он осторожненько попытался было подобраться к этому интересному сооружению, то был крепко схвачен за воротник и, несмотря на рёв и слезы, сопровождаемый несильными, но обидными шлепками доставлен в дом. Там с ним была проведена профилактическая беседа, из которой он узнал, что за оградой лагерь для японских военнопленных и что ему строго-настрого запрещалось не то что подходить, но и смотреть в ту сторону, а не то он мог оказаться или съеденным, или увезенным, почему-то в мешке, в Японию. Он, конечно, не хотел ни того, ни другого, но все равно через штакетник в заборе наблюдал иногда, как распахивались лагерные ворота, выпуская колонну японцев, одетых в зеленую военную форму, в обмотках на ногах и в смешных никогда не виденных фуражках с длинными козырьками, похожими на нынешние бейсболки.
Японцев разводили по строительным объектам, и Жене казалось, что значительная часть шахтерского поселка была выстроена их руками.
А крыши, крытые тончайшими деревянными пластинами – щепой, простояли без ремонта и течи не один десяток лет.
Однажды теплым и ясным по-летнему днем, которыми так богата приморская осень, Женя скатился на дно оврага, где стоял колодец и замер от неожиданности.
Четверо или пятеро японских военнопленных, оживленно переговариваясь, мыли водой из ведра, держа на вытянутых руках что-то длинное и блестящее, похожее на саблю, отливающую серебром.
На мальчика они совсем не обращали внимания. Постояв минуту с разинутым ртом, он вскарабкался наверх и помчался домой выяснять, что это они делают. Отчим преспокойненько так объяснил, что японцы поймали змею, сняли с нее кожу и сейчас приготовят ее и съедят.
– Змею? – возмущенно возопил Женя.
– А что тут такого? – последовал ответ. – Очень вкусно! – видимо, пошутил отчим.
В общем, в ту ночь Женя заснул не скоро.
Позднее появились так называемые «расконвоированные» японцы. Некоторые из них даже ходили по дворам и меняли на еду свои личные вещи. К Жене тоже подошел как-то японский военнопленный и на пальцах стал объяснять, что хочет обменять стакан, в котором чуть ли не доверху плашмя лежали карманные часы, на стакан риса. Он побежал к матери, и она передала ему продукты (рис, картошку и хлеб) и запретила брать часы, эту «штамповку», которая уже и время-то не показывает. Он так и сделал, а потом жалел, что не удалось поиграть с часами, посмотреть, что там у них, у «штамповки» внутри. Низкий поклон японца и его сузившиеся до зажмуривания глаза с проступившей между век слезинкой он запомнил надолго.
Детство пролетало быстро, учение давалось Жене легко, он очень много читал. Читал без разбора все, что попадалось на глаза. Однажды в возрасте лет двенадцати ему попался в руки большой том прекрасно изданного романа Александра Степанова «Порт-Артур». Книга была издана в 1954 году к 50-летию начала Русско-японской войны, а удостоена Сталинской премии еще в 1946 году. Она поражала и размером, и оформлением. Портреты главных героев были выполнены на мелованной бумаге и переложены папиросной бумагой. Крупный шрифт позволял читать даже при скудном освещении ручного фонарика – Женя часто пользовался этим запрещенным приемом.
Книгу он буквально «проглотил» дня за три. Имена прапорщика Звонарева, поручика Борейко, Вари Белой, адмирала Макарова, генералов Кондратенко, Белого, Стесселя запомнились ему на всю жизнь. Может быть, тогда он и «заболел» морем.
В книге, а была она библиотечной, он обнаружил вложенную между страниц и забытую кем-то старую почтовую открытку, на которой был изображен момент гибели броненосца «Петропавловск». С тех пор Женя стал собирать открытки. Много позже он узнал, что эта область коллекционирования называется фалеристикой.
…Кто из мальчишек в детсадовском возрасте не носил матроску?
У Жени лет в шесть была белая рубашка с «морским» воротником, и он тогда, конечно, не знал, что этот воротник называется «гюйсом» и что означают три белых полоски на синем фоне.
Летом приехал дед из Вязьмы, чтобы помочь отчиму в строительстве надворных построек. Строительство шло быстрыми темпами. Вечерами отчим с дедом, как правило, выпивали, засиживаясь иногда допоздна.
Однажды вечером, когда матери не было дома, Женя нарядился в морскую форму, натянул бескозырку и важно вышел к мужской компании. Откуда у него появилась бескозырка, так и не удалось вспомнить, как ни пытался, но бескозырка была – это точно.
Мужики уже были изрядно «поддатые», восхитились формой и бравым видом юного морячка и поднесли рюмочку. Сколько он выпил, Женя не помнил, но веселья хватило надолго. К тому времени он уже знал песню «Раскинулось море широко…» и с блеском, как ему казалось, исполнил ее без всякого аккомпанемента. Под конец песни взобрался на табуретку и при словах «… Жене передай мой последний привет, а сыну мою бескозырку» сорвал с головы бескозырку и протянул ее деду. Тот, вконец растроганный, прослезился и опять подлил ему водки.
Кончилось все очень плохо. Женю долго откачивали, поили марганцовкой и еще чем-то противным, дня два он провалялся в постели. Мать устроила «поильцам» вселенский скандал, обвиняя их во всех смертных грехах, в безмозглости и в «выживании из ума». Интересно, что впоследствии, даже в зрелом возрасте Женя как-то равнодушно относился к спиртному, терпеливо снося все подначки и издёвки.
Второй раз матросскую форму Евгению пришлось надеть уже студентом второго курса института. Летом, по направлению райкома ВЛКСМ, он работал старшим пионервожатым в лагере «Учитель» в пригороде Владивостока Садгороде, тогда он назывался просто «26-й километр».
В День Военно-морского флота он проводил пионерскую линейку и был в матросской форме, что произвело на подопечных огромное впечатление. Евгений заранее договорился с политуправлением флота, в лагерь прислали матросов из ансамбля песни и пляски, которые дали превосходный концерт. Вечером все вышли с ними на берег Амурского залива, искупались, пели песни. Кто знал, что через некоторое время одни из них станут заслуженными артистами республики, а Шалин и Столяров получат звание «Народного артиста».
…К концу года, в котором Женя так неудачно солировал в морской форме и единственный раз в жизни был по-настоящему пьяным, его ожидал сюрприз. Одна из сестер матери была замужем за военным летчиком, судя по фотографиям того времени, это был красавец мужчина в летной фуражке с внушительной кокардой, с медалями на груди и в галифе необъятных размеров. Евгений всегда удивлялся, как эти «уши» по бокам брюк не загибаются, все-таки из ткани сделаны? Погоны украшали лычки в виде буквы «Т». На расспросы взрослые отвечали, что это соответствует званию старшина. Женя недоумевал и вступал с ними в спор: если старшина, то и на погонах должна быть не буква «Т», а буква «С». К тому времени он уже не только знал алфавит, но и бегло читал, иногда и настоящие «взрослые» книги. Впоследствии он узнал, что его дядька был портным и служил в батальоне аэродромного обслуживания.
Так вот, сюрприз состоял в том, что к Новому году пришла посылка из Ленинграда, в которой прибыла сшитая на Женю военная форма, причем полный комплект. Правда, вместо фуражки, была пилотка со звездой, но это не так важно. Зато там оказались настоящие хромовые сапожки, галифе и гимнастерка с взаправдашними капитанскими погонами. Военные медики носили тогда такие узенькие погончики, вот на гимнастерку их и приладили. Потом купили деревянный автомат с трещоткой. В общем, офицер получился еще тот.
Года два Женя щеголял в этой форме, вызывая зависть мальчишек со всей округи.
Играл он тогда самозабвенно в военные игры даже сам с собой. Да вы сами подумайте, если положить на пол две табуретки длинной стороной одна за другой, соединив их между собой ножками, сверху посредине поставить таким же образом еще одну табуретку, забраться вовнутрь с автоматом, разве при известной доле воображения, вы не в танке окажетесь? Вот то-то!
Но это «танкостроение» длилось недолго, ровно до тех пор, пока старшая сестра не кувыркнулась через «танк», неся в обеих руках бак с кипятком. Как они не обварились – неизвестно, но строительство всяких баррикад в доме ему запретили строго-настрого.
В детский сад Женя ходил всего около года. И вот на очередной День Победы готовилось, как всегда, праздничное выступление. Воспитательница очень строго сказала, что он должен был отдать свою форму и автомат Диме, который будет выступать перед нашими важными гостями. Дима был сыном какого-то начальника из Шахтоуправления. В группе его не любили, потому что он был противным. Детский максимализм необъясним. Вот «противный» он и все…
Женя вцепился в свой автомат, не заревел, нет, хотя слезы так и подкатывали к глазам, и твердил только два слова:
– Не отдам! Не отдам!
Как только не уговаривали и не упрашивали и воспитатели в детском саду, и родители дома! Автомат и форму он запрятал на чердаке и больше уже никогда не надевал.
Родные сначала спрашивали:
– Куда же твоя форма делась?
Он старательно делал честные глаза, прилагал все силенки, чтобы не зареветь, а так как при этом и говорить-то было трудно сверх этих не очень-то больших «силенок», пожимал плечами и разводил в стороны обе руки.
Видя такую реакцию, от него скоро отстали. А форма? Может, и до сих пор лежит она где-то на чердаке, ведь упаковал он ее очень и очень надежно.
…Это случилось вскоре после войны. Жене исполнилось семь лет, и отчим с матерью решили съездить летом на родину – в Вязьму, проведать родные края своих родителей, возможно, и остаться в этих самых родных краях. Дальний Восток к этому времени еще не стал для них родным и незаменимым.
Путешествие длиной в полмесяца через всю страну, жесткая, самая верхняя – третья – полка в купе, где Женю привязывали ремнем к трубам отопления на всю ночь, чтобы не свалился во сне, железнодорожные станции с их очередями за кипятком, с торговками вареной картошкой и солеными огурцами – все это и сейчас живо в памяти. Но почему-то запомнились фермы железнодорожных мостов, мелькающие за вагонным стеклом…
Ехали они уже вчетвером. К этому времени у Женьки появился братик – Валерка, первенец и любимец матери и отца.
Дом деда стоял на самой окраине городка. От изувеченного минувшими боями леса его отделяла небольшая, шириной метров в пятьдесят, луговина, заросшая густой сочной травой.
Бродить по опушке Жене понравилось сразу и безоговорочно, в стволах обожженных войной деревьев он обнаруживал то застрявший осколок, то полузатянутый древесной смолой и корой «глазок» пули. Встречались и деревья, верхушки крон которых были снесены неразборчивым снарядом. Иногда Жене удавалось выковырять из дерева снарядный осколок или не очень глубоко застрявшую излетную пулю. Однажды он споткнулся о торчащую из земли рукоятку пистолета. Вытащил. Но пистолет оказался очень изувеченным, ржавым, без ствола, и он просто отбросил его за ближайший куст: неинтересно играть с таким металлоломом.
Для прогулок на опушке дед ссудил Жене свои истоптанные ботинки, в которых он обычно работал на огороде. Обувка была явно велика, постоянно спадала с ног, но для неспешных походов по луговине и лесу вполне годилась.
И вот во время очередного визита на опушку Женя решил углубиться в лес. Но едва первые кусты скрыли дом деда, как он увидел стоящего у дерева зверя – по окраске вроде бы и собака, но вся его стать, весь облик и даже немигающий, кинжальный взгляд рыжих с зеленоватым отливом глаз – все говорило о том, что это – зверь. Дикий. Опасный.
По окраске вроде бы похожий на собаку – серый до черноты, с рыжими подпалинами на груди и брюхе, зверь чем-то неуловимо отличался от «лучшего друга человека». Может быть, своей более угловатой волчьей мордой, может быть, нескрываемой готовностью напасть: взгляд зверя сулил смерть.
Он стоял метрах в двух от Жени. Напряженный, готовый к беспощадному броску. Это был лик смерти. Он не рычал. Не лаял. Не вилял хвостом. Он просто выжидал тот единственный миг, который даст ему шанс быстро и без особых усилий убить. И шерсть на холке зверя медленно вздыбливалась.
Женя испугался и… подарил зверю этот шанс. Повернулся к нему спиной и побежал. То был сигнал к атаке: догоняй добычу! Зверь одним прыжком настиг и вцепился в ногу чуть выше лодыжки. И Женя заорал.
То ли несусветный крик испугал его, то ли он увидел бегущего на выручку деда, но – молча и стремительно – зверь метнулся в лес.
После того как мать перевязала подручным лоскутом рану на ноге, после срочного визита в поликлинику и полученного там укола от бешенства, после домашнего обеда с борщом и жареной картошкой Женя немножко успокоился и довольно складно рассказал еще взволнованной родне про зверя, который на него напал. А дед объяснил суть случившегося.
Бои, шедшие здесь, порушили многие селения, обездомив собак. И те, стремясь выжить, ушли в лес, быстро и легко восстановив в себе инстинкты диких зверей. Одичавшие собаки научились самостоятельно добывать себе еду. Они породнились с волчьими стаями, и помет от этих собак оказался страшнее лесных аборигенов – волчьих стай.
Полуволки, полусобаки, эти звери сохранили в себе понятливость и знания домашних собак, их безбоязненное отношение к человеку, одновременно объединив эти качества с волчьей яростью и ненавистью к людям, с беспощадным инстинктом самозащиты. Они сохранили разноцветную окраску собак и обрели внимательную осторожность волков. Они разучились лаять и нападали на свои жертвы молча и бесшумно.
В зимние холода эти мутанты спокойно бродили по улицам поселков и городов в поисках добычи, безбоязненно заглядывая во дворы, и тогда их жертвами могли стать не только случайные собаки или иная домашняя живность, но и люди – дети и взрослые.
Прижив от своих родителей прирученность, но воспитанные дикой природой, эти собаки-волки не поддавались ни на какие уловки и попытки человека заманить себя в ловушки. Они спокойно уходили за красные флажки и уводили за собой стаи настоящих волков, личным примером демонстрируя безопасность развешанных на веревках ярких лоскуточков…
Война – самое безрассудное вмешательство человека в Природу. И Природа не остается безучастной: ее возмездие неотвратимо и настигает нас, как эхо в горах.
Что ж, как аукнется, так и откликнется.
Об этом Жене постоянно напоминают шрамы на ноге, оставленные клыками лесного мутанта в Вяземских лесах в далеком 1948 году.
Не найдя подходящей работы, да и жилья на Западе, Гуримовы в этом же году решили вернуться в Ворошилов, повторив путешествие «по дуге большого круга».
Эта поездка едва не стоила Петру Сергеевичу свободы. По возвращении в Ворошилов против него возбудили уголовное дело за то, что он якобы подделал документы о продлении отпуска и выехал за пределы г. Ворошилова, по существу, дезертировал с работы.
За нарушение «Указа от 26/XII – 41 года» дело на Гуримова «передали в следственные органы для привлечения к судебной ответственности».
В прокуратуре дело рассмотрели, но «с учетом предоставленных справок о болезни, а также того, что Гуримов П. С. является кандидатом в члены ВКП(б) и райком возражает против привлечения его к уголовной ответственности, а по партийной линии Гуримов уже получил выговор», дело против него прекратили.
Смирившись с тем, что им придется надолго, а может и навсегда, остаться в Ворошилове, Гуримовы принялись обустраиваться. Получив квартиру в доме на две семьи с большим приусадебным участком, купили корову, завели уток, кур.
Появились с перерывами в год-два еще два брата и сестра, которым Женька как старший стал нянькой. Теперь он выходил гулять, обвешанный братьями и сестрой. Мать в перерывах между декретными отпусками работала то завбазой, то завмагом.
Отцу вообще было не до детей. Работа в три смены на шахте выжимала все соки. Он освоил все шахтерские профессии: проходчика, забойщика, крепильщика, посадчика. Одно время был даже начальником участка, но его сняли, как «не обеспечившего производства последнего».
Ему присвоили звание «Мастер угля», наградили медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть». Он очень гордился тем, что стал обладателем всех трех степеней знака «Шахтерская слава», который ценился шахтерами выше всех орденов и медалей.
…В пятилетнем возрасте Женя ходил в детский садик, расположенный на глухой окраине Уссурийска. И вот как-то воспитательница повела группу в небольшую рощицу по соседству с детским садиком.
Женя плелся последним, и не воспользоваться таким благом никак не мог. Вокруг бушевал незнакомый мир, поэтому просто необходимо было познакомиться с этим царством красок, птичьих голосов и вообще со всей еще неведомой жизнью.
Вот какой-то цветок изумительной красоты распустил свои бархатные лепестки. Как тут не остановиться и внимательно не разглядеть это чудо? Налюбовавшись вдоволь, он собрался было догонять свою группу, но рядом прыгнул на травинку кузнечик. Тоже необходимо познакомиться. Правда, кузнечик ответного стремления к знакомству не испытывал, и едва Женя протянул к нему руку, как он сиганул на другую травинку. Женя – за ним. Он снова – прыг!
Женя шагнул дальше. Но в это время его внимание привлекла бабочка-махаон. Огромная. Размером с ладонь. Темно-синим перламутром своих крыльев она привораживала взгляд. Женя забыл про кузнечика и шагнул к махаону. Шагнул и едва не наступил на какую-то лесную птицу. Та с жалобным писком отскочила от него на расстояние вытянутой руки. Женя попытался дотянуться до птички, но едва это сделал, птичка опять пискнула и перелетела еще дальше. Он снова шагнул к ней. Эти догонялки продолжались минуты две, наверное. Наконец, птица вспорхнула и куда-то улетела. А Женя остался один во внезапно потемневшем лесу.
Позже, став взрослым, он рассказал об этом случае в кругу эрудированных друзей, и узнал, что эта птичка своим якобы беспомощным перепрыгиванием просто уводила его от гнезда, в котором, очевидно, уже лежала кладка яиц.
Женя не помнил: испугался ли, заплакал, звал ли кого на помощь, однако до сих пор жило в нем тягостное чувство безысходного одиночества, которое охватило тогда детскую душу. Тем не менее он двинулся сквозь чащу и уже к вечеру выбрался на какую-то лесную дорогу. Почти в темноте добрел-таки к своему детскому садику. И все время, пока шел, не встретил ни одной живой души.
Трудно описать, с какой щенячьей радостью он бросился к своей воспитательнице. Для него она была феей-волшебницей, принцессой! Но это божество, увидев Женю, разрыдалось и залепило ему звонкую пощечину.
Женя был оскорблен! Унижен! Растоптан!!!
Пойми этих взрослых: ведь он так стремился домой!..
Как нашел дорогу – Евгений так и не понимал, вспоминая тот случай. Ведь мог запросто сгинуть в лесу. Видимо, в грядущем судьба уготовила ему другие, более тяжкие испытания.
Значительно позже, с возрастом он понял, какие страдания, какие переживания доставил взрослым своим путешествием, а тогда он злился черной обидой на свою богиню-воспитательницу, вспоминая о полученной от нее пощечине.
На окраине Уссурийска, где он вырос, ни речек, ни озер не было в округе километров на десять. Поэтому местная детвора плескалась в двух заброшенных карьерах. Карьеры остались после того, как всю глину, пригодную для изготовления кирпичей, из них выбрали. А дожди, да грунтовые воды залили эти выработки по самый верх. Получилось два искусственных озера.
Одно – большое, глубиной метров двадцать. Причем эта глубина начиналась от среза земли. А второе, поменьше, с пологими берегами. В нем-то и плескалась у берегов всякая «мелюзга», постигая азы водоплавания.
Женя учился то ли в первом, то ли во втором классе, когда в один прекрасный день (он действительно был по-летнему прекрасным, переполненным жарким солнцем, пряным запахом полевых цветов, трав, хвои и деревьев) отправился к озерам с твердым намерением научиться плавать.
Скользнул по пологому берегу и, едва окунулся в воду, принялся отчаянно лупить ее руками и ногами, временами цепляясь за дно, чтобы убедиться, что глубина под ним неопасная. И вдруг почувствовал, что вода его держит, что он не просто барахтается, а – плывет. Плывет «по-собачьи», загребая под себя мутную теплую воду обеими руками.
Счастья – до неба.
Изрядно утомившись, он вылез на берег, развалился на местной травке и наскоро отдохнул: страсть как не терпелось повторить свой прибрежный заплыв.
В конце концов он до того осмелел в воде, что совершил в этот же день еще один «подвиг» – переплыл карьер.
На следующий день переплыл этот карьер уже дважды и окончательно убедился, что «вода держит». Значительно позже на уроке физики узнал, что «всякое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость» – главный закон своей будущей профессии кораблестроителя. Сейчас Евгений может сколько угодно времени лежать на воде – речной ли, морской, удивляя этим немудреным искусством знакомых и незнакомых ему людей, принимая в воде самые замысловатые позы. Но это мальчишечье чувство покорителя водной стихии, которое он пережил, проплыв «по-собачьи» свой первый десяток метров, это чувство больше не испытывал никогда…
…Манька – это корова из детства, которое пришлось на трудные послевоенные годы. Семья большая – шестеро детей, мал мала меньше. Прокормить такую ораву нелегко, и мать с отчимом, как и многие семьи в шахтерском поселке, держали корову. Дети по очереди выводили ее на пастбище. А уж сено на зиму для коровы заготовить, да накормить животинку в зимние холода – тут про очередность речи не шло: всех, кто подвернулся под руку родителям, отправляли позаботиться о коровенке.
Женя заканчивал четвертый класс. В ту пору школьники сдавали экзамены после каждого года обучения, начиная с четвертого класса.
В день самого первого в его жизни экзамена мать разбудила Женю в пять часов утра, сунула в одну руку хворостину, в другую – узелок с куском хлеба и бутылкой только что надоенного утреннего парного молока и отправила пасти Маньку. Никакие отчаянные протесты и сетования на то, что у него, мол, экзамен сегодня, не помогли.
– Успеешь, – махнула рукой мама. – Пригонишь корову в одиннадцать часов и отправишься на свой экзамен.
Учился Женя неплохо. Очевидно, поэтому родители были уверены, что экзамен для него – не экзамен. Досрочно разбуженный в этот ответственный для него день, показательно всхлипывая и обвиняя во всех смертных грехах ничего не понимающих, по его разумению, родителей, Женя прихватил учебник и поплелся вслед за Манькой по взмокшей от росы поселковой улочке.
Овраги, заросшие густым кустарником, межевали полянки с высокой сочной травой. Идти до них – минут пятнадцать – двадцать. Словом, недалеко.
На улице едва начинало светать. Обычный в это раннее время туман выполз из низин, закрывая восход, наливая воздух промозглой, до озноба, сыростью. Женя плелся за Манькой, а та привычно вышагивала к знакомой полянке. Наконец пришли. Корова принялась смачно объедать траву, не обращая внимания на просыпающееся утро, на туман, редеющий в первых лучах солнца. Что ей до красот природы? Ее дело коровье: нажеваться травы и выдать к вечеру ведро вкуснейшего парного молока.
А Женю заботил экзамен. Следовало бы как-нибудь пристроиться с учебником и читать в нем параграфы. Но солнце еще не набрало своих огненных сил, и туман хоть и редел, однако все вокруг вымокло от росы – ни присесть, ни прилечь. Женя попытался читать учебник стоя, но в голову ничего не лезло.
Но вот трава подсохла, и он блаженно разлегся на полянке. Сначала долго смотрел на небо, любуясь диковинными фигурками облаков, а потом перевернулся на живот и занялся созерцанием полевых цветов. Их было здесь так много и таких немыслимых расцветок, что вдруг показалось, будто земля и небо поменялись местами, и он полетел, широко раскинув руки.
Это было похоже на сон. И вдруг видение исчезло. Над головой протяжно замычала Манька, и лизнула щеку шершавым, пропахшим свежей травой языком.
– Пора домой, – говорили ее добрые глаза.
На экзамен Женя успел. Правда, не в числе первых. Получил пятерку. А экзамен был… по ботанике. С тех пор ни за один устный экзамен в школе Женя не получал оценки ниже, чем «пять».
Первые школьные экзамены сданы. Ура, каникулы! Правда, каникулы школьника, живущего в многодетной семье с сельским укладом, далеки от каникул городского школьника. В первую очередь – помощь родителям в хозяйственных работах. Воды натаскать из колонки, на огороде поработать, корову Маньку спровадить на выпас… Дел хватает.
Женя еще не ходил в школу, когда к ним домой пожаловал участковый милиционер. Был он такой красивый, в форме и при пистолете. Женя был дома один: родители трудились, а старшая сестра еще не пришла из школы.
Участковый зашел в дом, увидел восхищенный взгляд, направленный на новенькую кобуру, и сказал:
– Ну что смотришь? Нет у вас такого нагана.
И он, откинув кобуру, продемонстрировал черную рукоятку пистолета.
– Как нет, – возмутился Женя. – Даже больше, чем у тебя. Вот такой, – раздвинул он руки, показывая размеры.
И растерянно добавил:
– Ну и это такой, зеленый…
– Как же, – возразил участковый. – Во-первых, зеленых наганов не бывает, а во-вторых, ты даже не знаешь, где он лежит.
– Как не знаю? – прямо-таки задохнулся Женя от возмущения и призывно махнул рукой.
– Пойдем!
И он повел участкового в чулан, где в сундуке под бельем отчим хранил японскую ракетницу. И была она защитного цвета. Участковый довольно хрюкнул и, захватив ракетницу, пошел на кухню, где присел к столу, разложил бумаги и сказал:
– Подождем-ка мы с тобой твоих родителей.
Когда вся семья оказалась в сборе, и после долгих разговоров отчим выпроводил участкового с конфискованной ракетницей со двора, Жене была устроена головомойка. Сестра выдала ему очередную затрещину со словами:
– Убить бы тебя мало!
У Жени невольно задрожали губы и непроизвольно расширились от страха глаза, когда отчим вышел из комнаты с широким ремнём… Правда, он отбросил его в сторону со словами:
– Да что с этого дурачка возьмешь?
Но Женя уже ревел, так и не поняв своей вины. Не помнил он продолжения этой истории, но с тех пор ему не показывали даже, где хранится дробовик 16-го калибра.
У мальчишек какая-то особая тяга к оружию, может быть, от далеких предков, которым приходилось в борьбе за выживание и охотиться, и воевать. Но, наверное, ни один из пацанов не обошелся, чтобы не иметь в своем арсенале игрушечные наганы, автоматы, сабли и прочее вооружение. Часто они делали их сами, выстругивая и выпиливая из кусков дерева, скручивая из проволоки или других подручных материалов…
В поселке было две шахты, они так и назывались: «Первая шахта» и «Вторая шахта». Каждая из них имела свой хозяйственный двор. Так вот на дворе «Первой шахты» стоял невесть откуда прилетевший и приземлившийся «Ястребок» – истребитель с красными звездами на крыльях. Сначала возле него стояла круглосуточная охрана, а потом, когда шахту приготовили к закрытию, охрана куда-то исчезла. В самолет «лазили» все, кому было не лень взобраться в высоко расположенную кабину. Потом стали выкручивать, вывинчивать, выдергивать приборы, провода, в общем, все, что можно было выломать, а через некоторое время по неизвестной причине «Ястребок» загорелся, а оставшиеся после пожара части тоже куда-то растащили.
С внешней стороны двора «Второй шахты» стоял бронетранспортер, у которого были и колеса и гусеницы, как у танка. На его выкрашенных в защитный цвет поверхностях не было никаких обозначений и его называли «японским».
Этот бронетранспортер разобрали по частям еще быстрее, чем самолет – без охраны ведь стоял. Колеса у него были каучуковые. Пацаны вырезали из них куски, делили на кубики и делали мячи, доводя эти кубики каучука до идеальной формы шара. Для игры в лапту каучуковые мячи подходили лучше всего, но зато и синяки от них оставались отменные…
Недалеко от поселка появились воинские склады, куда свозили трофейное вооружение из поверженной Германии и капитулировавшей Японии. Как со складов оружие попадало к пацанам, до сих пор доподлинно не известно, но почти у каждого из них в специально оборудованных тайниках хранилась не одна единица стрелкового вооружения. Самыми безобидными были деревянные ложи от винтовок или карабинов и ножны от сабель. Но у особенно отчаянных припрятаны были и винтовки, и автоматы, и даже ручные пулеметы.
В «войну» пацаны играли самозабвенно и почти по-настоящему, только что пули не свистели, да снаряды не рвались, благо места для сражений выбирать не приходилось – сразу за улицей начиналась гряда поросших мелколесьем сопок.
А потом появились патроны, мины и снаряды. Как-то само получилось, что пацаны выбирали на вершине какой-нибудь сопки яму поглубже, разводили там костер и бросали в огонь боеприпасы. Дух захватывало, бешено колотилось сердце, когда раздавались взрывы, разлетались, повизгивая, осколки, а они прятались от всего этого за естественным бруствером ямы.
Но однажды случилось то, что должно было случиться давно. Брошенный в яму снаряд долго не взрывался, и Дениска вылез на бруствер, и стал шевелить палкой костер. Другие тоже повысовывали головы, кто-то крикнул:
– Дениска, прячься!
Но было поздно. Прогремел взрыв, Дениска как подкошенный завалился за бруствер, заорали раненые мальчишки.
Хоронили Дениску всей школой. Перебинтованные участники трагедии старались не попадаться взрослым на глаза. А через день после похорон по всем дворам поселка прокатился рейд. Солдаты и милиционеры методично обшаривали квартиры, сараи, огороды и выволакивали из тайников оружие, складывая его сначала в кучу посреди улицы, а потом грузили на полуторки и куда-то вывозили. Ахали женщины, разводили руками мужики, когда то с одного, то с другого двора выносили и проносили мимо них вооружение и амуницию.
Потом наступил вечер «большой порки». Растянулся он почти на неделю, во время которой пацаны ходили с зареванными лицами, а на уроках осторожненько, гримасничая от боли, присаживались на самый краешек сидений парт.
Пацанского «арсенала» не стало… Зато появилось новое увлечение – начали делать «поджиги» и «самопалы». Для их изготовления требовалось совсем немного: тонкая медная трубочка, которая служила основанием для «поджига» или для «самопала». Один конец трубки расплющивался и загибался под прямым углом, образуя подобие буквы «Г». В трубку заливалось немного расплавленного олова. Затем из гвоздя, размером соотносимого с длиной трубки, делалась со стороны шляпки еще одна буква «Г». Острым концом гвоздь под углом вставлялся в трубку, а маленькие отростки буковок «Г» трубки и гвоздя соединялись тугой резинкой. Если в трубку накрошить штук двадцать спичечных головок, вставить гвоздь и сжать резинку, то гвоздь резко падал в трубку, высекая искру, накрошенные спички воспламенялись и раздавался звук, напоминающий пистолетный выстрел. Причем звук выстрела был тем громче, чем больше спичек «заряжалось» в «поджигу».
«Самопал» отличался от «поджиги» тем, что трубку прикручивали к выструганной из дерева рукоятке, а выстрел производили посредством поджигания смеси с помощью спичечной коробки через специально пропиленное в трубке отверстие, то есть использовался механизм, подобный фитильным пистолетам XVI века.
«Самопалы» Женя не делал, а вот «поджига» у него была, и сыграла она с ним скверную историю.
Дело было уже зимой, и сколько Женя ни крошил в «поджигу» спичечных головок и не щелкал гвоздем, «поджига» не срабатывала ни на улице, ни дома – и все тут. Он уже смирился с тем, что она никогда не выстрелит, иногда доставал ее из кармана даже на уроках и просто щелкал гвоздем от нечего делать. Так было и на одном из собраний, куда школьников согнали для каких-то воспитательных целей. Не выдержав нудных нравоучений, Женя вытащил «поджигу» и начал потихоньку щелкать. Слышно щелчков не было, потому что в большом зале стоял легкий гул детских голосов. И с этим шумом не могла справиться даже завуч, которую отчаянно боялись даже старшеклассники. Когда шум становился уж слишком громким, завуч выходила к столу лектора, и шум мгновенно стихал, но стоило ей только отойти, как он возобновлялся с новой силой. Воспользовавшись одним из таких моментов, Женя со злорадством особенно резко нажал на резинку и… раздался оглушительный выстрел. «Поджига» наконец-то сработала!
Кто-то ойкнул, наступила мгновенная тишина. Соседи и соседки быстро брызнули в разные стороны. Над Женей вился легкий дымок, и он увидел, как на него надвигается, словно танк, красная от гнева завуч. Он покорно сдал оружие, был отконвоирован в коридор и три дня, несмотря на каникулы, простоял около учительской с утра до 11 часов вечера.
Мишке с конного двора повезло меньше. «Самопал» разорвался у него в руках и ему ампутировали три пальца.
Пацаны взрослели, прошло и это увлечение, но до самого выпускного вечера Евгений вместо портфеля носил учебники и тетради в кожаной офицерской сумке, где было много отделений, а одно из них из прозрачного целлофана, предназначалось для карт. Эту сумку ему подарил сосед из дома напротив. Он был участником Великой Отечественной и работал в бригаде отчима.
В школах еще не отменили начальную военную подготовку: ученики осваивали строевые приемы, маршировали и даже стреляли на оценку из мелкокалиберной винтовки. Несмотря на близорукость, стрелял Евгений довольно метко, выбивая необходимое количество очков для отличной оценки.
…В классе, наверное, пятом, Женя приобрел в книжном киоске толстую книжку с красивыми картинками, из которых можно было понять, как надо делать те или иные «самоделки», в том числе и новогодние костюмы. Он всегда любил ходить в книжный киоск и наблюдать, как на прилавки выкладывают книги, аппетитно пахнущие типографской краской и, если позволяла продавщица, осторожненько полистать страницы, узнавая про то, что в этой книге написано. Продавщица к нему благоволила и иногда откладывала на недельку-другую понравившуюся книгу, пока он не насобирал необходимую для покупки сумму денег. К десятому классу у Евгения подобралась приличная библиотека, которую он в студенческие годы не растерял, а только дополнил. Впоследствии в многочисленных переездах к месту работы и службы семейный багаж в основном состоял из книг.
А в этом далеком и полузабытом пятом классе Женя мечтал, что сделает на новогодний праздник костюм мушкетера и ему за него дадут самый настоящий и лучший подарок. Он рассказал о своей мечте старше сестре, и она, нахохотавшись, порылась в сундуке, вытащила из него изрядно побитый молью воротник из меха рыжей лисы и бросила жене со словами:
– Лучше «Кота в сапогах» сделай.
Раньше была такая женская мода, когда воротник пристегивали к пальто на пуговицах, а сам он был изготовлен из целой лисы или соболя, причем сохранялись хвост, лапки и мордочка с искусственными стекляшками вместо глаз.
Воодушевившись и вооружившись ножницами, он вырезал из шкуры маску с прорезями для глаз и приспособил в качестве носа лисью мордочку.
Сверяясь с недавно купленной книгой про самоделки, долго клеил из бумаги шляпу с пером. Сапоги у него были, краги, как шляпу, из бумаги смастерил. Старые материны перчатки заштопал. Сестра снисходительно помогала сделать кружевной широкий воротник, а хвост от той же лисы он прикрепил проволокой, шпагу выстругал из деревянной палки. В общем, костюм получился хоть куда. Когда он нарядился, то получил полное одобрение и неописуемый до визга восторг младших домочадцев.
На утренник из всей детворы в новогоднем костюме пришел только один Женя. В актовом зале, который в обычные дни использовался как класс для занятий, было душно и жарко, и ему в маске пришлось изрядно попотеть.
Учителя вытащили его на сцену, заставили рассказывать известную сказку Перро, потом зашикали:
– Заканчивай, заканчивай!
Женя растерялся, не докончив фразу, но тут одна из учительниц громко объявила, что ему полагается подарок. Тогда слово «приз» еще так широко не употреблялось.
И вот ему вручили маленькую коробочку, в которой было аж… семь тоже маленьких разноцветных карандашиков.
Были разочарование и обида, да еще его дома пропесочили за испорченные вещи. Он решил больше никогда не делать новогодних костюмов.
С восьмого класса классным руководителем у них в классе была Галина Ивановна, выпускница Московского педагогического университета. Когда представили ее на линейке перед началом нового учебного года и она выпорхнула из дверей школы в коротеньком голубеньком платьице, с широким поясом (видимо, сохранилось еще со школьных времен), по всему строю пронесся вздох восхищения.
У нее была короткая стрижка, подчеркивающая густоту каштановых вьющихся волос, огромные голубые глаза, нежное округлое лицо с аккуратным носиком и румянец на щеках. Вся школа завидовала их классу.
Преподавала она географию и историю, и много времени уделяла внеклассной работе. Относительно небольшая разница в возрасте помогала ей в работе с учениками. В то время школьники поставили несколько спектаклей и даже сходили в летний многодневный поход по Приморскому краю, собрав при этом довольно внушительную минералогическую коллекцию. Сохранилась ли она до настоящего времени? Наверное, нет.
А в девятом классе на Новый год Галина Ивановна предложила Жене выступить в роли фокусника и дала книгу с описаниями «секретов» нескольких простеньких фокусов. Когда он «отработал» эти фокусы и показал их, Галина Ивановна заставила его одеться в ее лыжные шаровары, пестрый халат и навернула на голову чалму из банного полотенца. Усы и бороду Женя соорудил сам.
И вот наступил Новогодний вечер. Школьный актовый зал был полон, и после объявления, что сейчас на сцену выйдет фокусник Али-Бала-Абдулла-Вах-Алейкум-Ах-Саллям из Багдада, Женя выплыл из-за занавеса, стараясь, чтобы не свалились с ног расписные домашние тапочки с крючковато загнутыми носами, тоже принадлежащие Галине Ивановне. Все фокусы у него получились и завершились бурными аплодисментами. Но вот фокус с бутылкой потерпел фиаско. Фокус заключался в том, что он должен был показать зрителям бутылку и отлить из нее воды, чтобы доказать, что она наполнена, затем предъявить кусок веревочки, опустить его в горлышко и покачать на ней бутылку, демонстрируя тем самым искусство волшебного воздействия на предметы.
Увлекшись, Женя так сильно раскачал бутылку, что она сорвалась и полетела к зрителям, но, не долетев до первого ряда, упала и, не разбившись, завертелась на полу, разбрызгивая воду во все стороны. Визгу было много, но вечер был предновогодний, и все подумали, что так оно и должно быть.
В десятом выпускном классе у них был уже другой классный руководитель…
Откуда идея стукнула в голову, Женя не помнил, но в Новый год переоделся в женское платье, подставил в нужные места газетные холмики, на голову натянул беретик, на лицо – маску с прорезями для глаз. Классная руководительница смеялась до колик, показывая на выглядывающие из-под платья кривоватые ножки сорок четвертого размера в беленьких носочках. Так, что он лет на тридцать опередил и Верку Сердючку, и Олейникова со Стояновым, не говоря уже о других «юмористах».
Потом наступила взрослая жизнь, новогодние костюмы шили уже для своих детей, а вот елки ставили всегда и, как правило, живые…
Дядя Митя – киномеханик и одновременно директор клуба, был настоящим кумиром поселковой детворы. Когда привозили новые фильмы, у окошка кассы выстраивалась очередь счастливчиков, у которых были деньги на билеты. Правда, очередью эту толпу ребятни можно было назвать весьма условно. Просто к кассе устремлялись все, кому хотелось первым подержать в руках волшебный клочок бумажки, открывающий путь в совершенно другой мир – мир кино. Да и потом номера мест в билетах не указывались за отсутствием таковых, и занимали престижные места в первых рядах зрительного зала те, кто первыми туда прорывались. К тому же и количество билетов было строго определенным, могло и не достаться ничего. Так что даже наличие денег не всегда гарантировало возможность посмотреть фильм.
У кинотеатров и клубов, несколько в стороне, обычно кучковались те, кто на сегодняшний день, увы, не смог выклянчить денег у родителей или где-нибудь «достать». Вся надежда была на то, что у дяди Мити сегодня хорошее настроение, и после первой части, когда будут перезаряжать узкопленочный киноаппарат, он запустит в зал всех безбилетников, и, рассевшись на полу перед самым экраном, они смогут досмотреть то, что осталось от фильма. Некоторых пацанов, кто помогал дотащить коробки с лентами до кинобудки, дядя Митя пускал на сцену, и те смотрели фильм с самого начала, но с обратной стороны экрана. А какие это были фильмы! Про некоторые иностранные фильмы говорили, что они захвачены нашими войсками прямо в Берлине, на них сделали надписи на русском языке, и, наконец, доставили в Уссурийск, чтобы показать нам.
Жене запомнился фильм «Три мушкетера», в котором Д’Артаньян пел песню:
– Вар-вар-вар-вар-вары, еду я в Париж!
Эти слова он запомнил еще с тех пор, а что они означают, так и не знал. Ну и конечно, сверхпопулярностью пользовался многосерийный фильм «Тарзан». Дикие вопли старающихся подражать Тарзану пацанов перепугали не одну домохозяйку в поселке. А сколько было переломано деревьев, еще больше – мальчишечьих ребер, сколько метров канатов и веревок различной толщины и назначения не досчитались в своих хозяйствах мужики?!
Перевод произведения американского писателя Эдгара Берроуза о Тарзане появился у нас в стране значительно позже, а тогда, в начале пятидесятых, мальчишки просто бредили похождениями Тарзана, его подружки Джейн и обезьянки Читы.
Дядя Митя жил на отшибе поселка в доме, с обратной стороны которого была пристроена водокачка. Сам он был невысокого роста, полным до рыхлости, с пальцами, напоминающими толстые сосиски, как бы перевязанные невидимыми веревочками на суставах. Тем не менее передвигался он, несмотря на полноту, довольно быстро, подобно крабу, боком-боком. Иногда, ожидая своей очереди пропуска в зал после демонстрации первой части фильма, Евгений наблюдал через открытую дверь кинобудки, как дядя Митя обедал, вскрыв разноцветную жестяную банку с надписью «СНАТКА», вытаскивал волокнистое бело-красное мясо своими толстыми пальцами. Тогда эти яркие цветные банки целыми пирамидами возвышались на прилавках киосков и магазинов, но что интересно, первый раз отведать этот деликатес Евгению Петровичу довелось уже в зрелом возрасте.
Наверное, дядя Митя жил зажиточно, но уединенно. А его красавица жена почти не появлялась на людях. Отец дяди Мити отпускал воду на водокачке, и за какое-то нелестное высказывание против Сталина был арестован, как тогда говорили, «органами». Воду стала отпускать жена дяди Мити, а старика выпустили только после смерти Сталина в конце 1953 года. Но к тому времени бригада отчима выкопала несколько колодцев в разных уголках поселка, и надобность в водокачке отпала сама собой. Дядю Митю несколько раз арестовывали за махинации с отчетностью, несколько раз отпускали с миром, а потом как-то его семья исчезла из поселка, после того, как вступил в строй Дом шахтеров с большим зрительным залом и широкоформатным экраном.
Евгений помнил, как в пятом или шестом классе, вероятнее всего, в пятом, когда учились во вторую смену, пацаны сбежали с последних уроков смотреть широкоэкранный цветной фильм «Великий воин Албании Скандербег». Это название Евгений Петрович помнит до сих пор, потому что всю группу на следующий день вызвали в учительскую и допытывались, кто был зачинщиком. Все молчали, «как партизаны». В наказание их выстроили около учительской, и они простояли-промаялись с шести до десяти часов вечера, когда уже закончились занятия в вечерней школе. Еще и дома получили нахлобучку, но там уже каждый единолично изворачивался, как мог. Не стоял с ними около учительской только один Вовчик, сынок какого-то начальника из Шахтоуправления. Собственно, он-то и был тем самым зачинщиком, подговаривая сбежать с уроков и рассказывая в красках какой это замечательный фильм. Пацаны договорились не разговаривать с Вовчиком и не поддаваться на его попытки к общению. Но хватило их только на неделю.
Каждый человек имеет собственное детство. И у каждого оно плохое ли, хорошее ли – свое. Впрочем в этом разделении есть свой вопрос, на который и в зрелом возрасте ответить случается трудновато: чем отличается плохое детство от хорошего?..
Отчим Евгения работать начал в возрасте, когда его более благополучные сверстники из обеспеченных городских семей еще только знакомились под присмотром домашних учителей с основами азбуки и арифметики. И все-таки Евгений никогда не слышал от него сетований на трудно прожитое детство, на сверхраннее приобщение к тяжелому труду. Более того, это воспитало в нем довольно своеобразный взгляд на взаимоотношения между «отцами и детьми». Во всяком случае, он, горнорабочий очистного забоя, был совершенно твердо убежден, что труд с малолетства еще никому не вредил. И это убеждение воспитывал в своих и приемных детях не только словом, но и делом.
Во всяком случае, оглядываясь на свое детство, Евгений не мог точно определить тот возраст, с которого стал помогать по хозяйству отцу и матери. Сколько себя помнил, столько, кажется, и работал: сначала, как водится, «принеси-отнеси», потом «вскопай грядки, наруби дров, накоси сена для коровы»…
В общем, воспитание трудом в семье было естественным, совершенно бесприказным и ненасильственным. Правда, не обходилось и без повышенных тонов:
– Женя, наруби дров! – скажет мать. А тому «шлея под хвост попала».
– А чо, все «Женя», да «Женя», – попытался он взбрыкнуть.
– Что больше в доме некому топор в руках подержать? – делает он еще одну попытку свалить рубку дров на одного из младших братьев. Но подобные «взбрыки» и его, и братьев, и сестры родители укрощали мгновенно и без крика:
– Тебе сказано – ты и делай!
Повальное увлечение фотографией началось у шахтерских пацанов где-то в середине пятидесятых. К тому времени у каждого были невесть откуда бравшиеся небольшие деньги, сэкономленные из тех, что удавалось выклянчивать у родителей. Женю как-то обошла стороной эпидемия игры на деньги, но у некоторых подростков карманы оттопыривались от монетной мелочи, которую они выигрывали в «орлянку», «стенку» или «биту». Самая простая игра – в «орлянку» заключалась в том, что монета подбрасывалась вверх, а двое играющих заранее уговаривались: «орлом» или «решкой» упадет на землю. Отгадавший забирает монету себе.
В «стенку» играли так. Ребром монеты первый играющий бил о любую стенку так, чтобы она отлетела подальше. Другие по очереди пытались отправить свою монету от удара об стенку так, чтобы она как можно ближе упала к первой. И если растопыренными пальцами можно было дотянуться от первой до второй монеты, выигравший забирал себе обе.
Кто читал рассказ Валентина Распутина «Уроки французского» или видел фильм, поставленный по этому рассказу, может зрительно представить себе эту игру.
Игра в «биту» была самой сложной и самой массовой. Шагов за десять от играющих столбиком одна на другую ставились монеты игроков, которые по очереди бросали биту, стараясь попасть в монетный «столбик». Попавший в «столбик» игрок получал право бить по монете, стараясь, чтобы от удара она перевернулась противоположной стороной. В этом случае он забирал монету себе, в противном случае передавал биту следующему игроку, и так по кругу. Конечно же от этой игры монеты деформировались, продавцы в магазинах и киоскеры в кинотеатрах ворчали, когда игроки расплачивались такой «валютой».
Самым удачливым игроком был Петька по прозвищу Пончик, который первым в поселке и приобрел на выигранные деньги фотоаппарат «Любитель». С важным видом он расхаживал по дворам знакомых пацанов, которые с нескрываемым удовольствием позировали, а через несколько дней получали от Пончика фотографии конечно же за деньги. Таксу устанавливал он сам.
Если кто помнит, «Любитель» был самым дешевым зеркальным фотоаппаратом с широкой пленкой, позволяющим без увеличения получать фотографии размером 6×6 см.
Женя прямо-таки загорелся фотографией, ее возможностями разглядывать мир через глазок объектива, а потом печатать картины этого мира, на мгновение попавшиеся в глаза.
Путем жесткой экономии на всем через два месяца Женя, торжествуя в душе, приобрел заветный «Любитель».
А потом надо было приобретать или доставать красный фонарь, фотобачок, ленту-коррекс, кюветы, пинцеты и прочие так необходимые в фотографии принадлежности. Хотя на первых порах для обработки снимков широко использовалась обычная кухонная посуда, конечно, втайне от домашних и особенно от матери. Смешно сказать, но необходимые для обработки снимков химикаты покупали в аптеке, и отмеряли для проявителя и закрепителя требуемые дозы… чайными ложечками. Евгений Петрович до сих пор помнит названия наиболее употребительных ингредиентов (поташ, сода, гипосульфит).
Зато какое было наслаждение, сидя в комнате, освещаемой красной лампочкой (нередко красили ее сами) или красным фонарем, тоже самодельным, наблюдать таинство постепенного проявления на фотобумаге изображения того, что ты фотографировал. «Остановись мгновенье! Ты прекрасно!» – говаривал нам великий поэт. А мгновение останавливал ты – ну, разве не волшебство?
В «Любителе» разочаровывало одно – малое количество снимков, всего двенадцать, и небольшой формат фотографий. А хотелось ведь большего!
И вот пацаны додумались до того, что изготовили из обыкновенной жести и установили внутрь фотокамеры рамку с отверстием под кадр и крылышками для фиксации пленки. Теперь можно было делать снимки на узкую пленку. Естественно, что количество снимков нужно было держать в уме или записывать. Да и передвижку пленки с кадра на кадр надо было определять сначала опытным путем. Но ведь получилось! И снимки-то выходили неплохими.
Конечно, и выдержка, и величина диафрагмы определялись «на глазок». Это уже потом появились всякого рода фотоэкспонометры.
С тех пор искусство фотографии шагнуло далеко вперед. Уже коллекционными раритетами стали «Любитель», «Школьник», «Смена», «ФЭД» и другие марки отечественных фотоаппаратов.
А после первой получки на Дальзаводе Евгений приобрел настоящий «ФЭД», который сопровождал его по жизни лет сорок. Он и до сих пор еще у него хранится вместе с другим «ФЭДом», «ценным подарком от Главкома ВМФ с соответствующей табличкой на футляре. Интересно, что из этого «ФЭДа» он не сделал ни единого снимка.
Последний экзамен после седьмого класса – контрольная по математике – сдал Женя на «отлично». Впереди – лето. И уже мечтал о том, как повторит подвиги предыдущих летних каникул. Если отбросить помощь старшим по дому, выпас Маньки по утрам, заготовку дров, то времени для отдыха – уйма. Но мечтам на этот раз не суждено было сбыться…
– В принципе выглядишь ты старше своих четырнадцати лет. – Отец рассматривал Женю внимательно и задумчиво. – И если сказать кадровичке кирпичного завода, что тебе уже шестнадцать лет, то она, возможно, поверит и на слово.
– Какой кадровичке? – переспросил Женя.
– Той, что оформляет на кирпичном заводе прием рабочих на работу, – пояснил отец более детально. Помолчал и уже напрямую сказал:
– Видишь ли, сын, ты уже довольно взрослый парень и должен понимать, что нам с матерью не очень легко тянуть тебя и четырех младших. (Старшая – Римма к тому времени уже вышла замуж). И одевать, и кормить. Пора бы и самому уже начать зарабатывать деньги. Хотя бы на школьные учебники. Хватит лето напролет по улицам кур гонять.
«Кур по улицам» Женя не гонял. Не было такого. Самодельные кораблики в плавание по лужам пускал, это – да. Но ведь не каждый же день, а только после проливных дождей, которых летом не так уж и много бывает в этих краях. Впрочем, на отцовское замечание насчет «кур» Женя не обиделся.
Неизвестно, что подействовало – интонация голоса или взгляд, или вдруг обмякшие плечи матери, оледеневшей от неожиданных слов у горячей печки, а может быть, вдруг загоревшиеся восхищением глаза младших братьев: Женя большой стал уже, на работу будет устраиваться, – но как-то внезапно, совсем неожиданно для себя, действительно почувствовал себя взрослым. И от этой внезапности – озноб по спине, дрожь по телу и дыхание перехватило. Так случается, когда внезапно проваливаешься в полынью.
Он уже взрослый…
Кадровичку обманули. Или, может быть, она сделала вид, что поверила на слово, уж очень требовались разнорабочие. Женю приняли на кирпичный завод сезонным рабочим без особых проволочек.
Неизвестно, в какие времена и кто назвал лето «сезоном отпусков», но для Жени (и для тысяч, а может быть, и десятков тысяч сверстников) с четырнадцатилетнего возраста лето стало сезоном труда.
Он никогда не отлынивал от работ по дому и прекрасно знал, что с весны и до осени, а особенно летом, приходится работать больше всего: здесь и огород, и выпас домашней коровы Маньки на ближайших к дому полянах, и послезимний ремонт домашних построек – то крышу починить, то забор подправить…
Словом, дел по хозяйству хватало.
Но с настоящим производством он впервые познакомился в четырнадцать лет именно во время летних каникул. Кому – отдых, а кому – труд порой непосильный.
Оглядываясь на прожитое, можно смело утверждать, редкий отпуск за всю свою жизнь Евгений проводил летом. В основном отдыхать приходилось глубокой осенью или зимой. Наверное, это обстоятельство и утвердилось во мнении, что лучший сезон для производительного труда – лето.
Подтверждает это мнение и слепая статистика: в советские времена начала шестидесятых годов на пресловутый сезон отпусков приходился, как ни странно, пик роста производительности труда по всей стране и практически во всех отраслях промышленности. Объяснялось это просто: именно шестидесятые годы XX века дали Советскому Союзу массу всевозможных «трудовых починов». И выполнение каждого из начинаний возлагалось на молодежь, точнее, на комсомол: подъем целины, строительство (вернее, восстановление) железнодорожной ветки Абакан – Тайшет, массовое строительство гидроэлектростанций на реках Сибири, строительство промышленных гигантов, таких, как Ангарский нефтекомбинат (длина предприятия свыше двадцати пяти километров), Приморская ГРЭС (в комплекс работ входило не только возведение и монтаж непосредственно ГРЭС, но и строительство города Лучегорска) … Была еще уйма огромных по государственной значимости и невообразимым масштабам строек. И всюду требовались рабочие. Тысячи, десятки и сотни тысяч рабочих. Компенсировать нехватку трудовых резервов можно было двумя способами: массовым привлечением уголовников, отбывающих различные сроки заключения, и организацией специализированных трудовых отрядов из студенческой молодежи. И оба эти способа стали активно использоваться. Но если контингент заключенных особой производительностью не отличался, то студенты буквально рвали себя, работая на износ, на пределе: большинство участников студенческих строительных отрядов таким образом за три месяца обеспечивали свое материальное благосостояние на весь следующий учебный год. Именно благодаря студентам и появлялся в отчетах госстатистики пик производительности в промышленности страны в самый разгар «сезона отпусков».
Правда, существовал еще один вид привлечения к участию в общесоюзном строительстве трудоспособного населения страны. Это пресловутый «оргнабор», более известный в народе как «вербота». Но об этом контингенте нужно говорить отдельно. Вклад «верботы» в развитие госпромышленности был отрицательным: эти люди трудились исключительно ради высоких заработков, и почти восемьдесят процентов произведенного «верботой» было отмечено не «Знаком качества», а «Клеймом брака».
И вот в кольце этой производственной стройки особняком стояли сезонные рабочие, в категорию которых вступил Женя после окончания седьмого класса. Вступил почти на все время летних каникул, еще не подозревая, что с этого момента и на всю жизнь летний период года станет для него сезоном труда.
Подсобный рабочий на кирпичном заводе – это лишь по бумагам рабочий. На самом-то деле это хуже, чем «подай-принеси». Но если подсобный рабочий ко всему прочему еще и заклеймен тавром «сезонный» – то уж и вовсе тоска безысходная. Сезонный трудяга – самое бесправное существо в огромном мире советской промышленности. Сезонник – это сегодня одна работа, а завтра другая, и каждый раз самая тяжелая, самая неблагодарная и низкооплачиваемая. Сезонный подсобный рабочий на серьезном предприятии – это вечная неопределенность и вечный вопрос: что сегодня заставят делать? И тайная надежда в душе: только бы не укладывать сырец на клети. Укладка сырного кирпича на стеллажи тележек – на клети, которые въезжают в печь для обжига, самая тяжелая работа, которую можно придумать для молодого парня, даже такого рослого и физически сильного, каким был Женя в свои четырнадцать лет.
Правда, сначала Женю поставили на обрезку. Труд тоже не из радостных. Сырая смесь вылезает из машины толстой квадратной колбасой. На выходе механопроволочный «нож» режет эту колбасу на равные продолговатые кубики. А ты стоишь рядом с ползущей лентой конвейера и обычным ножом обрезаешь на углах будущих кирпичей заусеницы, оставшиеся после воздействия «ножа».
От монотонного движения сырых кирпичей, ползущих перед глазами вместе с лентой конвейера, от однообразных взмахов рукой, от удушливого запаха глиняной смеси, наконец, просто от самого замкнутого пространства, в котором приходится работать, у Жени скоро начинает кружиться голова. Но и к этому он привык довольно быстро. И даже нашел противоядие от головокружения. Нужно не смотреть на ползущие темно-серые кубики кирпичей. Лучше смотреть на опору ролика, по которому ползет лента конвейера. А заусеницы прекрасно видны и боковым зрением.
Так продолжалось дня четыре.
Потом его поставили на кирпичный бой. Это, наверное, была самая легкая из всех мыслимых на кирпичном заводе работ. Между цехом обжига и корявым забором высилась огромная куча кирпичного боя. К ней задом подъезжал грузовик. Вместе с напарником они забрасывали в кузов грузовика битые и покореженные огнем кирпичи. На загрузку машины уходило примерно около часа. Потом грузовик уезжал, а Женя с напарником млели на солнышке минут тридцать. Столько времени требовалось «газику», чтобы отвезти бой на керамзитный участок, разгрузиться там и вернуться под загрузку. Но и этих тридцати минут хватало для полноценного отдыха.
Кирпичный бой дал работы на полтора рабочих дня.
А потом поставили на подачу. Сказать, что это очень тяжелая работа – не сказать ничего.
Женя стоит у неторопливой ленты конвейера, хватает с нее сырые тяжелые кубики и раскладывает эти кубики на металлических полках клети. Как только клеть уложена до верха, надо откатить ее к воротам обжиговой печи.
Одному катить не под силу. Помогают напарники, такие же подсобные рабочие, только дядьки разновозрастные. Подкатили, прицепили за крюк печного конвейера и скорее в сторону от ворот обжиговой печи: жаром из них пышет немилосердным.
Обжиговая печь – длинный тоннель, изнутри выложенный специальным огнеупорным кирпичом. Там кирпич выдерживает температуру всех огненных факелов, бушующих в печи. Но от жары становится рубиновым до прозрачности. А по центру тоннеля медленно ползут тележки-клети с кирпичами. В одни ворота вползает тележка с уложенными на ней темно-серыми сырыми кирпичами. А из других ворот выползают тележки, на которых лежат, выдержавшие огненный ад, красные, пышущие жаром готовые кирпичи. Правда, некоторые из них все-таки не пережили обжига, рассыпались или покрылись глубокими трещинами. Такие кирпичи на исходе смены вывозятся из цеха к забору на двуручной тачке с одним колесом.
Тачка тяжелая, неустойчивая, и удержать ее в движении очень трудно. Если при этом учесть, что к концу смены уже ни рук ни ног не чувствуешь после изматывающей укладки тяжелых сырых кирпичей на клети, да после катания этих клетей к входным воротам обжиговой печи, то укрощение тачки превращается в корриду, в которой не всегда побеждаешь.
Дома за ужином отчим исподволь посматривает на Женю, ждет, видимо, жалоб или «охов» каких-нибудь.
Но тот молчит.
Он – взрослый и, стало быть, жаловаться на тяжелую работу никак не пристало.
Правда, аппетит у него от этой работы возрос необычайно. За ужином съедает почти вдвое больше обычного. Вкусный борщ, приготовленный мамой, наливает тело силой. Из усталых мышц уходит противная дрожь, с глаз спадает пелена рубинового марева, оставленная частым и вынужденным разглядыванием раскаленного чрева обжиговой печи. И когда младшие братья осторожно спрашивают:
– Женя, а поехали на озера? – он согласно кивает и шагает с ними вместе к сараю, где стоят в рядок велосипеды.
Детство берет свое. Детство – всесильно.
А пока еще ни отчим, ни Женя не знают, что через три года он познакомится с такой работой, по сравнению с которой труд на кирпичном заводе действительно покажется детской забавой.
Заготовка сена всегда была трудом коллективным. Собирались мужики и бабы всей деревней, выходили на поля и косили. Сначала всем гуртом Иванов клин выкосят, помогут мужичку соскирдовать сено, потом перебираются на клин Петра, Еремы…
Этот коллективизм среди крестьян-единоличников пошел исстари. На заготовку сена люди собирались как на битву лихую. Да это, собственно, и была битва: даже для одной-единственной буренки следовало заготовить на зиму побольше сена – и ей самой на еду, и в коровнике подстилать, а если ко всему прочему буренка приплод зимой принесет, так и в хату свою крестьяне сено тащили, чтобы было где теленочку лежать, чтобы не замерз он в лютые зимние морозы. И для этого во многих крестьянских избах специальные выгородки были или отапливаемые пристройки.
Все это Женя знал с малолетства. И сенокосом занялся, едва только руки окрепли, да хребет пацанский перестал трещать под тяжестью косы. Правда, косили сено обычно на выгонах – небольших полянках, что цветились поблизости от окраинного дома. На покос выходили всей семьей. Даже отчим, когда был свободен от своей горняцкой работы, приходил помогать.
Работа, с непривычки трудная, вскоре втягивала в себя, превращалась в упоительное единение с природой. Дурман ароматов скошенной травы, шепоточки солнечных сквознячков, блуждающих по стерне.
Правда, к вечеру от усталости уже не чувствуешь ни рук, ни ног, но для себя ведь работали.
И до поры до времени Евгений думал, что сенокос – это когда нет сил даже поужинать.
…Готовясь к смене на шахту, отчим обычно тщательно перекладывал свой «тормозок» – небольшую сумку, в которой было все необходимое для восьмичасового пребывания под землей: незамысловатая еда, йод с бинтом, кружка, миска… Занимало это буквально несколько минут. Но в этот раз он что-то мешкал: все перекладывал и перекладывал содержание «тормозка». Потом вдруг сказал, ни к кому вроде не обращаясь:
– Дирекция шахты договорилась с Липовецким совхозом, что нам выделят участок для заготовки сена. Правда, с условием, что мы скашиваем весь участок, а совхоз начисляет каждому работающему трудодни. Сколько трудодней заработаешь, столько сена и получишь.
– А как заготавливать это сено? – спросила мать. – Между сменами на покос ездить или как?
– Все желающие записываются в профкоме, – хмуро пояснил отец, – и на месяц выезжают в поле. Там жить, там харчи от совхоза. А вместо заработка – сено.
В комнате стало тихо. Все понимали, если отец на целый месяц отправится на сенокос, то семья останется без его заработка. На что жить? Тем более, что отчим планировал выделить Евгению деньги на поездку во Владивосток для сдачи вступительных экзаменов. И без заготовленного на зиму сена оставаться нельзя, ведь главная еда в это время для коровы Маньки – сено.
Отчим поднял на Евгения озабоченный взгляд:
– Придется тебе, Женя, на сенозаготовки ехать! До экзаменов в аккурат успеешь! Еще и время на подготовку останется. Парень ты уже взрослый, пора самостоятельным быть.
– А когда и куда ехать? – поинтересовался Евгений.
– Завтра. Под Липовцы. Там уже полевой стан оборудован.
Впервые в жизни Женя должен был расстаться с семьей на целый месяц. Это волновало более всего. И он невольно спросил:
– Как же я там буду?
– Будь как все, – ответил отчим. – Работай.
Повзрослев, Женя понял, что жизнь состоит из двух начал. Одно из них ставит тебя в ситуации, когда нужно быть «как все», а второе требует: «выделяйся, становись лидером».
Но без умения быть «как все» стать лидером невозможно.
В те годы механизация еще не овладела шахтами на все сто процентов. И во многих угольных подземельях использовались лошади в качестве тягловой силы для перетаскивания вагонеток с углем для забоев к шахтному двору. Говорят, что лошади больше шести-семи лет подземной работы не выдерживали: слепли, заболевали, надышавшись угольной пылью, теряли силы. Обычно их забивали «по истечении срока годности». Но директор местного совхоза договорился с директором шахтоуправления «Липовецкое» о том, чтобы лошадей-горнячек отдавали ему в совхоз на подсобные работы:
– Лошадь убить нетрудно. А вот на свежем воздухе и при хорошей подкормке эти лошадки еще года три-четыре способны пожить, поработать и пользу людям принести, – объяснил свою просьбу директор совхоза.
Несколько таких слепых доходяг совхоз и выделил на сенокос. Послушные вожжам и человеку, они таскали сенокосилки, помогали скатывать высушенное сено в валки, привозили из деревни еду и бочку с питьевой водой…
Словом, работали в полную меру своих лошадиных сил и здоровья, большую часть которого оставили в шахте. Но люди смотрели на этих животных, как на «отходы».
Крик на все поле:
– Не наступи-и-и!!!
Оседлав Вербу, лошадь костлявую и настолько бессильную, что казалось, она может упасть от малейшего чиха, по полю несется один из заготовителей сена. За Вербой вьется подкопыш – длинная веревка с деревянным колом, которой охватывали копны, разбросанные по всему полю, и стаскивали их в стога.
Подскакав к очередной копне, наездник втыкает под копну деревянный кол и спешно опутывает веревкой ком сена. Люди торопятся: чем больше заготовят сена, тем больше трудодней заработают. А рядом, задыхаясь от бега, стоит, пошатываясь, Верба. Из ее глаз, залепленных непроглядными бельмами, текут медленные слезы. Лошадь знает, что отдышаться не дадут, и через минуту-другую ей придется, астматически задыхаясь и дергаясь от беспощадных ударов хлыста, долго тащить по кочковатому полю какую-то шуршащую тяжесть, вкусно пахнущую свежим сеном…
Впрочем, и себя люди тоже не шибко жалели.
Срок заготовки сена – месяц. Режим заготовки диктует погода. Поэтому подъем около четырех часов утра. Жили здесь же, в поле, в шалашах из сена, как Ленин в Разливе. Из относительно основательных строений – длинный стол из сосновых досок, две вкопанные скамьи по бокам стола, да навес деревянный над этими сооружением. И еще – летняя кухня.
Выкарабкавшись из шалашей, наскоро умывшись и еще скорее перекусив, люди расходятся по своим участкам. Едва светлеющий восток позволял видеть метров на десять – пятнадцать вперед: кто на сенокосилку усаживался, кто скирдовать идет, кто на подбор.
Работы всем хватает. И с избытком.
А солнце, на рассвете еще осторожное, к обеду распаляется во всю свою мочь. Слепни, допекая лошадей, не отстают и от людей. А сено с каждым взмахом сил все тяжелее и тяжелее.
Тяжко.
Господи, пошли хоть немного дождя!
Но небо назойливо-бездонное. И только где-то на горизонте, там, где за полторы сотни километров нежится в прибрежной прохладе вожделенный Владивосток, там виднеются тучи. Но сюда они не прилетят: ветер небесный не позволит, лучи солнечные растопят эти снежно-белые комки еще задолго до подлета к Уссурийску.
Самая желанная работа – на сенокосилке. Сиди себе в металлическом креслице, подергивай вожжи, управляя лошадью, да поднимай время от времени ножи, чтобы очистить их от набившейся травы. А ножи – как зубья у машинки для стрижки волос, только в сотни раз крупнее и беспощаднее: один из сенокосильщиков, задремав, свалился со своего рабочего места и – под ножи. Остался жив, но лишился части стопы на ноге.
С этого момента Жене пришлось расстаться с надеждой поработать на сенокосилке. Хотя до этого раза два управлял этим механизмом: очередь подходила. А теперь – все:
– Мал еще! – объяснили взрослые мужики. – Заснешь, свалишься под ножи, а потом собирай по всему полю твои кусочки.
Спорить не приходилось: от хронического недосыпа многих качало из стороны в сторону, а про некоторых пацанов и говорить не приходилось, едва ноги волочили.
И еще – усталость. Она пронзала все тело, каждую мышцу, каждую клеточку организма. Ночной сон, как стремительный провал в черную бездну, отдыха не приносил, слишком уж он был коротким.
Господи, пошли дождика!..
И небо услышало затаенные просьбы.
На третьей неделе сенозаготовительной каторги тучи вдруг прорвались к перегретым июньским солнцем полям.
И пошел дождь.
Женя не знал, сколько времени он шел. Он – спал.
Он спал в своем соломенном шалаше, и уже никто не мог разбудить его даже на обед. Позже мужики со смехом рассказывали, что за двое суток, которые он проспал, пользуясь непогодой, даже ни разу не перевернулся с боку на бок.
– Как убитый спал, – смеялся дядя Митя, заведующий конным двором. – Ни всхрапа, ни звука. Только и определяли, что живой, потому что теплый был…
Значительно позже, четверть века спустя, Евгений пережил подобную усталость. Но связана она была уже совсем с иными событиями и в совсем другом месте – на борту подводной лодки, которую готовили для Индии. И сейчас, сравнивая эти две усталости, Евгений не мог не удивляться, решая вопрос: в чем секрет человеческой выносливости?
А на трудодни Женя получил такой стог сена, что Манька ела его всю зиму безо всяких ограничений. Такого блаженства она еще ни разу не испытывала. Да и семья тоже, потому что была обеспечена Манькиным молоком вдоволь.
В круглосуточном напряжении сенозаготовок были два одухотворенных перерыва: перерыв на обед и перерыв на ночь. Первый тянулся минут тридцать-сорок, но все-таки давал немножко отдыха. Второй перерыв длился все темное время суток. То есть примерно с одиннадцати часов вечера и до половины четвертого утра. И, как ни странно, этот сон особого отдыха не приносил. В соломенных шалашах душно, жарко, воздух, пропахший подпревающим сеном, почти не содержал в себе кислорода.
Но случались мгновения, которые бодрили и давали сил больше, чем даже двухсуточный беспробудный сон…
Полевой стан притаился метрах в ста от небольшого лесочка. Бродить по лесу было некогда, и единственная услада от такого соседства таилась в полуночных сквознячках, доносивших запахи орешника, ароматы дубовой коры и живительных лесистых недр. Но однажды…
Как обычно, по сигналу дребезжащего обломка железяки, подвешенной к навесу, работники расселись вдоль длинного стола из пахучих сосновых досок и принялись чинно раскладывать по мискам приготовленный поваром обед. Разложили, взялись за ложки. И в этот момент, откуда ни возьмись, стая фазанов, птиц восемнадцать – двадцать, с шумом вылетела на обеденный стол. Птицы расселись на столе между мисок с борщом, о чем-то тревожно переговариваясь.
Все опешили было, как вдруг один из обедающих вскрикнул:
– Смотрите, вон она, лисица, в кустах мельтешит!
Действительно, в кустах, межевавших владения стана и леса, мелькало золотистое тело хвостатой плутовки. То пригибая голову к самой земле, то высоко поднимая остроносую мордочку, лисица посматривала в сторону едоков. Так продолжалось около минуты. Потом хвост зверя напоследок вспыхнул в орешнике и пропал. Фазаны еще несколько секунд поглядывали в ту сторону, а затем так же дружно, как прилетели, взмахнули крыльями и… растворились в поле.
Еще долго обсуждали этот случай: спасаясь от лисицы, умные фазаны прилетели под защиту людей, прекрасно зная, что летом люди не охотятся на дичь – не сезон.
Последний школьный звонок. Последний выпускной экзамен. И вручение аттестата зрелости под аплодисменты одноклассников и их родителей.
Но Евгению аттестат не выдали, а просто зачитали приказ Приморского краевого отдела народного образования о том, что ему «за отличные успехи и примерное поведение» будет вручена серебряная медаль, и документы придут позже.
«Теперь я самостоятельный!» Мысль счастливая и… наивная. Даже сейчас, находясь в довольно зрелом возрасте, возглавляя крупнейшее и старейшее на дальнем Востоке высшее учебное заведение, Евгений не осмелился бы решительно и безоговорочно назвать себя самостоятельным человеком. Но в день выпускного вечера, когда весь мир кажется полностью подвластным тебе, в полной самостоятельности уверен каждый молодой человек.
Для Евгения это выразилось в том, что он твердо решил уехать во Владивосток и поступить на кораблестроительный факультет Дальневосточного политехнического института. Тайны из этого он не делал. Знали о его намерении друзья, соседи, знали и учителя в школе. Поэтому в свободное от дел по дому время он усердно повторял школьный курс математики, физики, русского языка… Словом, готовился к вступительным экзаменам в институт. Но удивительно, занятия уже не казались такими обременительными. Очевидно, потому что их обязательность была осознана лично, а не продиктована строгостью школьных учителей.
И вдруг в один из последних дней июля, когда Женя уже начинал укладывать чемодан, готовясь уезжать во Владивосток, домой прибежал мальчишка-посыльный из школы:
– Женя, тебя срочно вызывает директор!
Он растерялся, зачем понадобился директору? И, несмотря на то, что десятилетку-то уже закончил, что теперь ничего, кроме воспоминаний, его со школой не связывало, Женя все-таки оробел. Причина робости заключалась в том, что директор школы был в поселке человеком относительно новым. Лишь два года назад его назначили на эту должность. Он воевал, был артиллеристом на фронте. А когда в День Победы школьники впервые увидели его в офицерском мундире, увешанном боевыми орденами и медалями, восхищению поселковых пацанов не было предела. Понятно, что все гордились тем, что у них такой вот директор школы. Преподавал он историю. А его жена вела русский язык и литературу и запомнилась тем, что частенько говорила нам:
– Если сомневаетесь, что не сможете правильно написать фразу «Грохотала артиллерия», то пишите: «Били пушки».
В общем, даже если бы он и не был директором школы, все равно идти на встречу с таким человеком по его вызову страшновато. Но – нужно. И Женя поплелся, гадая про себя, чем мог провиниться перед заслуженным фронтовиком?
Директорская квартира находилась с тыльной стороны школьного здания. На стук дверь распахнулась, и вышел сам директор. Несмотря на лето, он был в шерстяной вязаной кофте, в широких синих диагоналевых галифе, в шерстяных носках и теплых тапочках. Посмотрев на Женю, сказал:
– Подожди, – и снова скрылся в комнате. Через некоторое время вышел, зажав в руках какую-то коробочку:
– Вот, принимай.
Ничего не понимая, Женя раскрыл коробочку. В ней на темно-бордовом бархате лежал металлический кружок белого цвета размером с большую монету. На монете надпись: «За отличные успехи и примерное поведение». Женя вопросительно посмотрел на директора. Тот поднял глаза и пророкотал своим прокуренным басом:
– Серебряная медаль. Правда, сейчас она никаких льгот при поступлении в институт не дает. Однако пригодится.
Не гремели фанфары. Не плескались аплодисменты. Только солнце в зените тепло и задумчиво смотрело на Женю, растолкав по сторонам пару легкомысленных тучек. Они уселись на скамеечке, пристроенной у входа в директорскую квартиру. Директор молча посасывал внушительных размеров курительную трубку. О чем он думал? Возможно, вспоминал фронт, бои вспоминал, после которых вот также буднично вручал своим выжившим солдатам скромные медали. Только тогда земля, наверное, была не в траве, а обугленная от взрывов. И солнце, наверное, лежало не на легкомысленных серебристых тучках, а на черных клубах близких пожаров.
Евгений тоже молчал, ошеломленный случившимся. Он не знал слов, которые нужно говорить в таких случаях. Да и кому их следовало говорить? Он сидел рядом с фронтовиком, сполна знающим цену самым высоким наградам, изредка открывал коробочку, снова и снова перечитывал надпись на медали: «За отличные успехи и примерное поведение»…
Много лет спустя, роясь в домашнем архиве, Евгений Петрович наткнулся на ту коробочку со своей первой медалью. Подержал в руках, открыл, начал читать на потускневшем металле: «За отличные успехи…», и вдруг, словно током пронзило, да ведь директор дал ему свою собственную медаль!
Сегодня у Евгения Петровича много наград. Разных. В том числе и государственных, и общественных, и зарубежных. Но этот скромненький беленький кружочек в незатейливой коробочке, врученной участником Великой Отечественной войны, хранится на самом видном месте.
Чудесны сентябрьские рассветы в Приморье. Воздух чист и дышит остатками летнего тепла. Перелетные паутинки серебристо текут по струям неслышных дуновений восхода.
Порой Жене кажется, что эти паутинки – земные следы былых жизней…
Их – три Жени, три одноклассника. Восемь лет учились, как-то не испытывая друг к другу особой привязанности. А вот на каникулах после восьмого класса подружились вдруг сразу и, кажется, навсегда.
Как говорят, водой не разольешь.
Случилось все нечаянно. После щедрого июньского ливня, разбросавшего по улице глубокие лужи и бурно вздыбившего в недалеком овражке речушку, Женя проводил очередные испытания своей флотилии. В ее состав входили корабли и кораблики, сколоченные из ящичных дощечек, парусники, выструганные из дровяных полешек, и просто незамысловатые лодочки из тетрадных листочков.
Послегрозовой порывистый ветер лихорадил поверхность лужи, и кораблики, покачиваясь на мелкой ряби, расплывались в разные стороны. Одни – быстрее, другие – степеннее.
Некоторые, не выдерживая подстегивания ветра, переворачивались, и Жене приходилось, уподобляясь Гулливеру, шлепать босыми ногами по воде, чтобы вернуть потерпевшему кораблекрушение плавсредству требуемое положение.
Наблюдать это плавание было не просто увлекательно: мальчишечье воображение давно уже превратило лужу в грозный океан, а рукотворную флотилию – в грозную эскадру, изобилующую фрегатами, крейсерами и даже линкорами. Словом, Женя так увлекся этой баталией, что даже вздрогнул, когда над ухом раздалось насмешливое:
– Здорово, мореход!
Мореходом его прозвали еще в пятом классе, когда, посмотрев какой-то морской фильм, он увлекся строительством корабликов, но особенно – их плаваниями по окрестным ручьям и лужам. На прозвище он, в общем, не обижался, хотя при удобном случае старался объяснить, что хочу быть не моряком, а конструктором кораблей.
Сейчас же рядом с ним стояли два одноклассника. Обоих звали Женями. Оба – с велосипедами.
– Чем «пароходы» по лужам гонять, поехали с нами на Кислые ключи купаться.
Собрать в охапку свою флотилию – дело одной минуты. И вот уже втроем они катят на велосипедах сначала по мягкой тропинке, еще сырой от минувшего дождя, а затем по грунтовой дороге через сопку Маяк на речку Синявку, вдоль которой и защитного леса-то почти не осталось, а, поди ж ты – течет, не пересыхает и даже глубинные места имеет.
Впопыхах Женя-мореход не успел захватить с собой еду. Поэтому, когда наплавались и вылезли – посиневшие – передохнуть и подкрепиться, оба тезки принялись щедро потчевать его своими припасами: вкуснейшим черным хлебом, домашним молоком, луком, грубого помола сероватой солью, первыми помидорками…
– Слушай, мореход, а чего ты, как маленький, кораблики по лужам гоняешь? – спросил один из одноклассников.
– Интересно, – протянул Женя, размышляя, делиться своими секретами или нет. Решил, что может кое-что рассказать, и объяснил:
– Понимаете, вот пущу кораблики по луже. Вроде бы все из дерева, а ведут они себя на воде совсем по-разному. Одни от малейшего ветерка переворачиваются, а другие и на большой волне плывут себе спокойно, только покачиваются. Почему?..
Сейчас, «остепененный» научными званиями, Евгений Петрович, кораблестроитель, досконально знает все секреты, от которых зависит остойчивость корабля. А когда-то пацаном даже такого термина как «остойчивость» он и не слыхивал.
– Наверное, те кораблики, которые переворачиваются, ты немного не так сделал, – высказал близкое к истине предположение один из товарищей. – А вообще ерунда это все. Лично я хочу быть геологом. Представляете, пацаны, берешь рюкзак, еды побольше – и на недельку в тайгу, золото на таежных речках искать. Читали Джека Лондона? Вот. Я хочу найти много-много золота. Тогда наша страна станет богатой. И люди все станут жить сытно и богато.
– Одним золотом сыт не будешь, – задумчиво отозвался другой Евгений. – Еще хлеб нужен и уголь, чтобы зимой печки топить. Ты видел, как хлопочут родители, чтобы машину угля достать на зиму? Дровами-то избу шибко не натопишь. Лучше уж, чем за золотом по тайге рыскать, уголь добывать. Много и хорошего. Антрацита, например. Чтобы всем его вдосталь было на зиму…
Дети послевоенной разрухи, они видели окружающий мир каждый по-своему. По-своему предвидели предначертание своих судеб. Вероятно, в тот день в сознании каждого сформировался будущий жизненный путь. И если Женя-мореход давно и твердо решил быть «конструктором кораблей», то второй Женя не менее решительно желал стать геологом. А третий Евгений уверовал в свою звезду горного инженера.
Тот откровенный разговор на берегу неказистой речки Синявки сблизил ребят, словно бы наделил их тайной, знать которую должны были только трое, – тайну предвидения своего будущего.
Все дальнейшее лишь укрепляло их дружбу.
Едва подступила грибная пора, как Женя-мореход приохотил своих новоявленных друзей к походам за «лесным мясом». Правда, каждый смотрел на это серьезное занятие со своих позиций. Если один, к этому времени уже достаточно опытный грибник, высматривал в траве и навалах преющих прошлогодних листьев заветные шляпки, то Женя-горняк поначалу выискивал не грибы, а следы угля: вдруг обнаружится выход пласта. Женя-геолог больше занимался тем, что обнаруживал в лесных чащобах замысловатые кручи и мужественно их покорял: геолог должен быть сильным и бесстрашным.
Кстати, это неумелое стремление малолетнего геолога к физическому совершенству и вдохновило их на занятия почти марафонским бегом. Когда они собрались в очередной раз идти за грибами на Маяк – коренастую лесистую сопку с удивительно лысой вершиной, Женя-геолог и предложил:
– А слабо, пацаны, пробежаться до Маяка?
Предложенная дистанция – добрый десяток километров. Естественно, что слабаком друг перед другом из них выглядеть не захотел.
Побежали.
Ума хватило не пуститься наперегонки.
Они – мальчишки окраин Уссурийска. Можно сказать, сельские. Приучены к крестьянскому труду с малых лет. И поэтому силенок у них было, в общем, достаточно. Намеченный километраж ритмичной рысцой пробежали. Удивительно, вместо усталости, которую втайне ожидал каждый после такого бега, тело вдруг стало легким, подвижным, сильным.
В тот день полные лукошки грибов собрал не только Корабел, но и Геолог, и Горняк. Видимо, после пробежки у них уже не было желания отвлекаться ни на скалолазание, ни на какие-нибудь другие дела.
Так они увлеклись бегом на длинные дистанции. А когда начались занятия в школе, сговорились бегать до Маяка и обратно рано поутру, перед началом уроков.
Физзарядка оказалась та еще – ведь вставать требовалось часов в пять утра! Ну да к этому не привыкать: с малолетства просыпались вместе с родителями: мать начинала греметь ведрами, готовясь к утренней дойке, отчим громыхал дровами, готовясь растапливать печку. В общем, ранние подъемы – дело привычное. Зато сколько неосознанного удовольствия испытывали они, размеренно пробегая эти десять километров к Маяку и обратно!
Сонный воздух прилипал к лицу, ленивое солнце разливалось розовым недоумением по восточным склонам сопок, удивляясь рассветным бегунам. Первые утренние птахи возмущенно попискивали в траве: чего, мол, вы будите нас своим топотанием! А если утро оказывалось росистым… Россыпи крохотных бриллиантов дарили им многоцветные «радужки».
И каждый мускул радовался движению, впитывая в себя тихую силу чистого лесного воздуха, заваренного на неповторимых запахах, которыми так полна нетронутая цивилизацией Природа…
В школе их встречали завистливые подначки одноклассников:
– Здорово, братья Знаменские!
– Пятки не отбили на дистанции?..
– Привет, марафонцы!
Они не обращали внимания ни на эти, ни на более обидные клички. Пусть себе завидует кто хочет, а мы будем бегать!
Кстати сказать, эти забеги оказали весьма благотворное действие и на школьные занятия. Во всяком случае, Женя-мореход стал замечать, что и так, не страдая забывчивостью, стал легко и полно, до мельчайших деталей запоминать все, что рассказывали на уроках учителя. Поэтому подготовка домашних заданий по устным предметам почти не отнимала времени.
Школа, где учился Евгений Петрович, в то время просто Женя, располагалась на окраине Уссурийска в районе, называемом «шахтой», и граничила с железнодорожной слободой, в обиходе называемой просто «слободкой». Испокон веков эти две неадминистративные единицы буквально воевали друг с другом. Причем мордобоем дело не ограничивалось. Поножовщина, вплоть до смертоубийства, и применение огнестрельного оружия были явлениями далеко не заурядными. У милиции руки до этих окраин не доходили, участковые менялись с подозрительной быстротой, не успевая «пустить корни и врасти в обстановку». А шахтеры и сами славились умением «выпить и погулять». Нередко и «стенка на стенку» сходились.
Наверное, решение райкома комсомола бросить на подмогу милиции комсомольцев-добровольцев, по сути дела, школьников, было не совсем удачным… Но в то время воспитание подрастающего поколения было замешано на дрожжах романтики, а как же: Гайдар в 16 лет полком командовал. А молодогвардейцы?! А Павлик Морозов? Кто знал, что пройдет время, и эти герои будут развенчаны, а романтика, как слово, как просто понятие, останется только в словарях-справочниках.
Нацепив на руки красные повязки, бригадмильцы проводили рейды, дежурили в комнате содействия милиции… Нельзя сказать, чтобы шпана их сильно боялась, но и на рожон не лезла.
Тем временем наступила зима. В районе Уссурийска она, как правило, многоснежная. На лыжи становились сызмальства. Сначала на самодельные, потом на «покупные», но, конечно, самые дешевые. О лыжных ботинках, понятно, и речи не было. Хотя у некоторых ребят были настоящие «финские» лыжи. Кататься на лыжах было где. С удовольствием скатывались с крутых склонов сопок и с трамплинов, которые сами же сооружали. Некоторые трамплины получались довольно высокими. Не обходилось и без того, что лыжи ломались. Их ремонтировали, скрепляя половинки с помощью кусков жести и гвоздей. Почему-то лыжины ломались или посредине, или с носков.
Однажды воскресным утром Женя с рыжим Сергеем, у которого были настоящие финские лыжи и бамбуковые палки с кольцами, поехали кататься. Лыжи Евгения были обычными, причем правая лыжина была переломана посредине, а левая – с носка, но скользили они нормально, отталкивался он крепкими дубовыми, почти ровными и без всяких загогулин палками, и не отставал от Сергея, который шел ровным размашистым шагом. Примерно через полчаса они прикатили на довольно крутую сопку, склоны которой в летнее время служили огородами, а сейчас были засыпаны толстым слоем снега. По краям огородного участка торчали ветки густого высокого кустарника, в котором укрывались фазаны. Охотились за ними и осенью, и зимой как взрослые, так и пацаны, благо ружья были почти в каждом доме. Лыжня была проложена недалеко от условной границы, разделяющей шахтерский поселок и железнодорожную слободку. Они по несколько раз скатились вниз, и даже прыгнули с трамплина, умудрившись при этом не упасть и не сломать лыжи. Когда они в очередной раз вскарабкались на вершину сопки, то встретили троих «слободских», одетых как и все, в обтрепанные телогрейки. Не успели отдышаться, как к ним подкатили двое из них, сдернули с плеч ружья и скомандовали Сергею:
– Снимай лыжи!
Тот только отрицательно покачал головой и отскочил немного в сторону, подтянувшись на лыжных палках. Скатиться вниз он уже не мог, а дорогу домой перегораживали эти двое, нет уже трое, так как Евгению в ноги смотрело ружье третьего слободского.
– Пацаны, за это срок получить можно, – пытался образумить он грабителей.
– Ты, длинный, лучше молчи, – хмуро заметил один из них, – твои деревяшки нам и даром не нужны. Кати отсюда, пока цел.
Евгений вгляделся в одного из них и узнал:
– Эй, а я ведь тебя знаю, мы недавно тебя с бригадмильцами в милицию сдавали за хулиганство.
В это время Сергей, воспользовавшись тем, что все внимание переключилось на Сергея, сделал финт лыжами и помчался от них по направлению к дому.
Евгений остался один… Узнанный им «хулиган» хотел было пальнуть в удирающего Сергея, но потом резко повернул двустволку и всадил жакан в многострадальную лыжину. Евгений выдернул палки из снега и приготовился было к защите без надежды на успех, конечно, но все трое противников по сигналу старшего медленно покатили вдоль вершины сопки.
Выждав некоторое время, Евгений не снимая подбитую лыжину, поставил ее вертикально, отодрал ненужные щепки и, убедившись, что была расщеплена только половинка, осторожно стал спускаться вниз. К подножию сопки в это время подкатила ватага «шахтерских» пацанов, человек этак в восемь. Сереги почему-то с ними не было. У одного из пацанов за плечами висела мелкашка, а у другого – старенький дробовик. С такой подмогой грех было не отомстить «слободским», они рванули наверх, благо с их стороны сопка была пологой. Поспели они вовремя. На снегу сидел Вовчик и, размазывая по лицу слезы и сопли, отстегивал ремешки крепления великолепных финских лыж. Вовчика в школе не любили еще с детского сада. Это ему в свое время Евгений должен был отдать свой игрушечный автомат и военную форму. А сейчас он, под нажимом вооруженной троицы, готовился расстаться с прекрасными лыжами, каких ни у кого не было на шахте, а, может, и во всем Уссурийске.
Завидев подмогу и оценив превосходящие силы противника старший из разбойников громко свистнул, двинул Вовчику по спине прикладом двустволки, и вся троица дружно помчалась вниз, зажав под мышки лыжные палки. Ребята заулюлюкали, пальнули им в след пару раз из всего имеющегося в наличии «внетабельного» оружия и подъехали к охающему и стонущему Вовочке. Тот вырвал лыжные палки у пытавшегося подать их ему какого-то пятиклассника, полоснул всех ненавидящим взглядом и заскользил по направлению к дому, выкрикивая что-то злое и незаслуженно обидное. Пацаны пожимали плечами, а Евгений подумал, что все это из-за того, что они были свидетелями его унижения.
На следующий день поздно вечером Евгений возвращался домой. Уличного освещения в поселке не было, но на небе ярко светила полная луна, а снег переливался серебром, словно игрушечная шуба на дед-морозе. Он подходил к дому со стороны колодца, выкопанного бригадой отчима лет пять тому назад. Около колодца стояла группа парней, краснел огонек сигареты у кого-то из них, но никто не говорил. Почувствовав неладное, Евгений начал обходить колодец стороной, но ему преградили путь трое, а другие стали обходить сзади. Ни слова не говоря, один из троих попытался ударить Женю в лицо, тот уклонился, но шапка была сбита. Боковым зрением Женя увидел вроде бы знакомое лицо:
– Вовчик, что ли?
Но в это время кто-то ударил его сзади по голове, и все померкло перед глазами. Очнулся он от холода. Понемногу приходя в себя и оглядевшись, понял, что завис, как тряпичная кукла между ледяными глыбами, которыми обросли стенки колодца. Сверху прогрохотала колодезная цепь, он даже услышал, как она бешено раскручивается, чуть ли не выскальзывая из уключин ворот, потом об него шмякнулось ведро и все затихло. Осторожно, чтобы не соскользнуть, он стал поворачиваться вокруг цепи, ухватившись за нее обмерзающими руками. Через сколько времени ему удалось выбраться из колодца, он не помнил…
Но когда доплелся до дома, вид у него был, конечно, устрашающий. Домашним он сказал, что поскользнулся на наледи у колодца, ударился головой о ручку ворота и потерял сознание. Ему особенно не поверили, но быстренько отвели в здравпункт, благо, он был через дорогу, где пожилая фельдшерица, осуждающе покачивая головой, быстренько заштопала рану. На следующее утро вся семья покатывалась со смеху, показывая пальцами на уши, которые он все-таки отморозил. Уши стали величиной с ладонь, отвисли чуть ли не до плеч, и ему приходилось поддерживать их руками, чтобы совсем не отвалились. Если добавить к этому повязку на голове и криво оттяпанные волосы, то причины для веселья, конечно, были.
Смех смехом, но кто-то быстренько сбегал за фельдшерицей, которая еще не закончила дежурство. Та ворвалась в дом в облаке морозного пара, запричитала:
– Ох, горе луковое!
Проколола уши чем-то острым, выкачала из ушей какую-то жидкость и посоветовала матери отправить Евгения к врачу на предмет определения воспаления легких. С марлевой повязкой на голове и красными ушами он проходил еще долго. С тех пор уши его не выдерживали даже легкого морозца. Воспаления легких у него не обнаружили. Зато пришла беда другая, и совсем с неожиданной стороны.
Немного отойдя от «болячек», Евгений отправился на очередное дежурство в опорный пункт, или, как его там называли, «штаб». У дверей «Шахтоуправления» стоял милицейский автомобиль, который все почему-то звали «козел», может быть, потому, что при езде по неровной дороге он подпрыгивал на ухабах… правильно, как козел.
В «штабе» никого из ребят не было, зато, развалившись на стуле и занимая добрую половину комнаты, сидел грузный майор, а рядом с ним пристроился худощавый милиционер с сержантскими нашивками на погонах. Участковый, находившийся тут же, не глядя на Евгения в глаза, и, не ответив на приветствие, кивнул в его сторону:
– Он!
Тяжело поднявшись, майор скомандовал сержанту:
– В машину его!
Евгения привезли то ли в районное, то ли в городское отделение милиции, завели в обшарпанный кабинет. И майор предъявил ему обвинение в том, что он организовал разбойное нападение на Вовчика, привлек к этому своих дружков со слободки, что в результате произошла перестрелка, а Вовчика избили «с нанесением телесных повреждений» и отобрали лыжи, то есть совершили вооруженный грабеж. От возмущения у Евгения перехватило горло, а потом, когда он все-таки начал сбивчиво рассказывать о том, что произошло на самом деле, майор с укоризной посмотрел на него и пододвинул листки бумаги, исписанные ровным убористым почерком. Это оказалось заявление отца Вовчика, в котором Евгений обвинялся во всех смертных грехах и делались выводы, что его место не в советской школе и комсомоле, а за решеткой. Наискось были наложены резолюции высоких начальников, от прочтения которых стало совсем нехорошо. К заявлению были приложены справка врача о тяжелом состоянии Вовчика в результате побоев и объяснительная Сергея, где он сообщал, что в то воскресенье он никуда кататься на лыжах не ездил, а был дома, учил уроки и это подтвердить может его сестренка пяти лет от роду.
– Читай, читай, – подбадривал Женю майор. Когда Евгений прочитал всю эту чушь, майор положил перед ним чистые листы бумаги, пододвинул чернильницу с ручкой и напутствовал:
– А теперь пиши!
Женя снял шапку, майор захохотал, указывая на повязку:
– Вот и вещественное доказательство. – Потом стукнул по столу кулаком и рявкнул:
– Пиши!
Евгений вскочил со стула и закричал:
– Не буду, я все рассказал, как было!
Майор обошел стол и замахнулся, чтобы ударить, но встретился с взглядом Евгения, и что-то его остановило. Он устало махнул рукой и коротко бросил находившемуся в комнате сержанту:
– В камеру его. Пусть со слободскими посидит. Они его поучат.
Неизвестно, что с Евгением было бы дальше, если бы в этот момент в кабинет не ворвался директор школы. Бывший фронтовик, не стесняясь Евгения, обложил матом майора и всю милицию. Евгений рос в шахтерской семье, всякого наслушался, но такого ему не приходилось слышать раньше, да и позже он такого никогда не слышал. Майор побагровел и заорал, что он выполняет приказ сверху, а директору не мешало бы не защищать бандитов, а заниматься, как следует, воспитанием подрастающего поколения. Директор внезапно успокоился и швырнул майору на стол какой-то документ. Майор внимательно прочитал, потом куда-то позвонил, послушал дребезжащую трубку, как-то сник, как будто кто-то выпустил из него весь воздух и махнул сержанту:
– Выведи этих…
Позже Евгений узнал, что это было прошение о взятии его на поруки, с разрешающими резолюциями самого высокого начальства. Как директор смог добиться такого результата за столь короткое время, он так никогда и не узнал. Хотя позже рассказывали, что когда его увезли в милицию, директор вызывал к себе Вовчика и Сергея и что они выползали из кабинета с зареванными красными мордами.
По дороге домой в тряском и выстуженном автобусе директор все время молчал, а когда они вышли на конечной остановке и прошагали молча большую часть пути, он остановился и сказал:
– В жизни надо пройти и через это. Подлецы встречаются, но хороших людей больше. Будешь большим начальником, постарайся прощать людям их слабости, но никогда не потакай подлецам.
Потом помолчал и добавил непонятное:
– Добро и зло как близнецы, друг без друга не живут.
Дома Евгению сделали выволочку за то, что он где-то шатался «со своей пробитой башкой и отмороженными ушами», а некоторые заснуть не могли от беспокойства.
Через несколько дней из райкома комсомола прибыл представитель… На школьном комсомольском собрании по настоятельному требованию этого представителя Евгению влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку. Вовчика на собрании не было. Сергей на собрание тоже не пришел, хотя его и приглашали, но он не был членом ВЛКСМ. Еще до Нового года он попросился, чтобы его перевели в параллельный класс и до самого выпускного вечера старался не попадаться Евгению на глаза, и, надо сказать, ему это как-то удавалось, а после они и вовсе потеряли друг друга из вида.
Опорный пункт прекратил свое существование сразу же после того комсомольского собрания, а удостоверение бригадмильца у Евгения сохранилось до сих пор.
Отца Вовчика перевели с повышением во Владивосток. Вовчик окончил там школу и поступил в университет на юридический факультет. И хотя Евгений тоже учился во Владивостоке в политехническом институте, они с ним ни разу не встречались. Ну и как говорят:
– Слава богу!
В жизни еще не раз приходилось сталкиваться с милицией, и он пришел к твердому убеждению, что «хорошие» и «правильные» милиционеры или как их почти легально называют «менты» бывают только в кино, тем более, в наше неспокойное время.
Остается добавить, что Евгений ни в милиции, ни в школе не обмолвился и словом о том, что знает одного из тройки слободских бандитов. Однажды весной, когда наступила жаркая пора выпускных экзаменов, тот поджидал его в темном переулке и, сплюнув на землю с изящным мастерством, выдавил:
– Ты, паря, извини. Ошибочка вышла. Больше тебя никто из наших не тронет.
И пошел, не оглядываясь, разболтанной походкой, держа руки в карманах и тихонько насвистывая какую-то блатную мелодию.
А Евгений подумал, что эта ошибочка могла стоить ему жизни, если бы не холодные ледяные наросты в колодце, или тюремной решетки, если бы не горячее сердце директора школы.
Несмотря на то что в зрелом возрасте Евгений Петрович ежедневно встречался с молодежью, он почувствовал, что постепенно отстает от века. Он даже и не заметил, как на его глазах произошло слияние песни с танцем, а, может, даже и со спортом – гимнастикой и легкой атлетикой.
Певцы и окружающие их подтанцовщики (надо же, такой термин придумали!) во время исполнения простенькой песенки набегают на сцене, наверное, десятки километров. Потные и в мыле предстают перед зрителями представители модной «попсы». А он вот не мог себе представить кумиров своего времени, делающими кульбиты на сцене.
Воспитанная на «попсе» молодежь, дергающаяся не только под музыку, сколько под ритмы и речетатив безголосых певцов, просто не воспринимает и не может, если бы и захотела, музыку настоящую. Вот так и шагаем мы:
– Назад! К барабанам!
В жизнь Жениного поколения музыка входила посредством круглых черных репродукторов военного и послевоенного времени. Просыпались тогда под музыку «Рассвет над Москвой-рекой» из оперы «Хованщина» Мусоргского, а засыпали под веселые арии из оперетт советских композиторов, из которых чаще всего звучала «Свадьба в Малиновке» Александрова.
Но ведь одно дело слушать музыку, а совсем другое дело – играть самому на каком-нибудь музыкальном инструменте. Перед выпускным классом у Евгения невесть каким образом оказалась во владении семиструнная гитара, и он не мог вспомнить – откуда. Что не покупал ее и что ее ему не дарили – это точно! Ну, в общем, появилась у него гитара, и все! Он приобрел пару «Самоучителей игры на гитаре», освоил азы нотной грамоты и так терзал гитарные струны, что его стали попросту выпроваживать из дома на улицу. Однажды, когда он в очередной раз закрылся в комнате, аккомпанируя на гитаре и старательно выводя слова:
– Семиструнная гитара до сих пор в ушах звенит… – дверь неожиданно открылась, и отчим насмешливо проговорил:
– Что в ушах звенит – это точно!
И попросил пойти с гитарой на сопку перед домом, благо стояло лето. Усевшись на пеньке, немного побренчав на гитаре, Евгений призадумался о бренности жизни и внезапно вздрогнул, увидев, как к гитаре протянулась чья-то рука с татуировкой на пальцах. Он повернулся и увидел соседа из нижнего двухэтажного дома, с золотой фиксой на переднем зубе и косой челкой на лбу. Одет тот был в брюки и сетчатую майку, сквозь которую просвечивало расписанное татуировкой с куполами, крестами и кинжалами крепкое и смуглое с буграми мускулов тело.
– Дай-ка сюда струмент, – пробасил он.
Подстроив струны и взяв несколько аккордов, сосед заиграл. Ни до, ни после, ни на концертах именитых музыкантов в больших концертных залах Евгений не слышал столь виртуозной игры. Он с завидной легкостью исполнял известные и неизвестные мелодии. Сосед внезапно прервал игру, бережно передал гитару Евгению и бросил кратко:
– Приходи завтра.
Сосед по кличке «Артист» недавно вернулся из заключения и был «бандитом», как перешептывались между собой осторожно жители окрестных домов.
С нетерпением ожидая очередной репетиции, Евгений бегал на сопку, слушал игру Артиста, получая уроки и затрещины, если неправильно брал аккорды. Артист с Женей особо не церемонился, а тот мужественно терпел и жаждал хоть немножечко приблизиться к тому мастерству, которым обладал его учитель и мучитель. Через месяц Артист не пришел на сопку и навсегда исчез из его жизни. А полонез Огинского, которому он научил, Евгений еще долгое время исполнял на гитаре, но, как правило, для себя самого.
В выпускном классе Евгений написал песню и напел ее учителю пения. Учитель был из военных дирижеров, летом ходил в кителе без погон, а зимой в шинели. В одном классе с Евгением училась его дочь, девушка с грубыми чертами лица, инвалид: у нее не было руки и ноги, которые она потеряла еще в детстве в Западной Украине, когда бандеровцы бросили гранату в клуб, где собирались на какое-то торжество офицеры с семьями. Мать ее погибла, а отец запил горькую и оказался после демобилизации в дальневосточном шахтерском поселке.
Но у Марии, как звали его дочь, оказался от природы красивый голос, исключительной чистоты, красоты и силы. Она, казалось, не чувствовала своей ущербности, и смело, нисколько не смущаясь, выходила на сцену, ковыляя на одном протезе и придерживая левой рукой другой протез на правой руке.
Но если во время ее пения закрыть глаза, не смотреть на сцену, а просто слушать ее голос, завораживающий и чувственный, то большего удовольствия придумать было просто невозможно.
Евгений пришел к ним в дом. В маленькой комнатушке, клубился табачный дым, пахло водкой и крепким одеколоном. Когда он, стесняясь, напел слова своей песни, учитель проиграл мелодию на пианино, чудом вместившееся в эту невообразимую тесноту. А потом он спорил с человеком, оказавшимся в это время в комнате. Они говорили о какой-то «кафе-шантанности», употребляли замысловатые музыкальные термины, прерывая разговор только на то, чтобы выпить очередную рюмку, вернее, граненый стакан водки.
А потом было несколько концертов школьной самодеятельности, в том числе и на городском смотре, на котором Мария пела эту песню, а Евгений аккомпанировал на гитаре.
Принимали их всегда тепло, аплодировали долго и даже вызывали на бис. Они заработали не одну почетную грамоту.
…Вторым музыкальным инструментом, на котором Евгений научился играть, был аккордеон, вернее, его «четвертушка». Эти мини-аккордеоны распространялись по Советскому Союзу с помощью каталога «Товары – почтой».
Заработав за лето на стройке немного денег и отдав добрую половину матери, на оставшиеся Евгений и выписал по почте этот музыкальный инструмент. Обложившись «Самоучителями игры на аккордеоне», он выучил кое-какие немудреные мелодии, что-то подбирал по слуху, а потом подошла пора выпускных экзаменов в школе, потом вступительных в институт. Когда, уже став студентом, Евгений хватился своего аккордеона, то все трое братьев, плутовато отводя глаза, клятвенно божились, что не видели, не трогали, не брали, не играли, да и зачем он им этот аккордеон… На следующий год такая же участь постигла и «беговые» коньки с ботинками, и финские лыжи с настоящими бамбуковыми палками.
Ну, на нет и спроса, как говорится, нет. Купил Евгений себе с очередной получки баян. Работал он тогда судосборщиком в девятнадцатом цехе Дальзавода, но это днем, а вечером был студентом, причем очником. Тогда это была очередная реформа высшего образования: производство вплотную придвинули к высшему образованию. Но так получилось, что в этом эксперименте его группа была первой и, кажется, последней. Эксперимент, прямо скажем, – не удался. Произошло просто элементарное увеличение срока обучения. У корабелов он составил почти семь лет. Когда пришло время выхода на пенсию, многие сокурсники отбивались от органов соцобеспечения, доказывая всевозможными справками, что это положение в свое время было установлено правительством и ни в какие академические отпуска они не уходили.
Евгений жил в рабочем общежитии, в комнате было шесть человек. На баяне пробовали играть все, а он даже записался в кружок баянистов при Доме культуры моряков (так тогда назывался Пушкинский театр). Ему пришлось тогда выдержать вступительные испытания, и он исправно посещал занятия кружка в течение определенного времени.
Весной в его общежитии затеяли ремонт и состоялось переселение в другое общежитие. Комнату расформировали, и он оказался вместе с другом-сокурсником Володей в такой же стандартной общаге.
Когда они переехали, вернее, перешли, а вещей-то было у каждого по чемодану, да баян в футляре, к ним подселили парня, кажется, из восемнадцатого цеха.
Баян, как и чемодан, Евгений засунул под кровать, как делал и в том общежитии, где проживал прежде.
Утром все ушли на работу и возвратились после занятий в институте часов в одиннадцать вечера. Евгений полез под кровать, чтобы достать какую-то понадобившуюся вещь из чемодана и увидел, что футляр с баяном исчез… Не появился и сосед по комнате. Поиски ни в этот день, ни в последующие ни к чему не привели. Расстроился он, конечно, сильно.
В очередной приезд в Уссурийск к родителям, отчим шутливо заметил:
– Хоть бы баян привез, да показал, как играть научился.
Евгений пообещал, что привезет в следующий раз. Через месяц, собрав денег и немного заняв у Володи, Евгений купил новый баян, отвез его в Уссурийск и оставил братьям якобы на время.
Каково же было его удивление, когда, приехав в очередной раз домой, он увидел и услышал, что вытворяет с баяном младший брат Анатолий. У него оказался исключительный слух и изумительные способности к игре на баяне. Он не знал нотной грамоты, не ходил ни в какие «кружки», но играл и пел как заправский артист.
Баян Евгений оставил младшему брату, а гитару забрал. Она путешествовала с ним по общежитиям и местам практик во время учебы. А практики были и в Комсомольске-на-Амуре, и в Николаеве на Черном море, и в Ленинграде. Пропутешествовала гитара и к месту работы на Сосновском судостроительном заводе, куда он попал после окончания института по распределению.
В годы «демократического централизма», царившего в стране более семидесяти лет, воспитание «лидеров» начиналось уже в начальных классах советских школ.
Первое прикосновение к возможности стать лидером ребятня получала в детской организации октябрят. Принимали в нее самых послушных, самых примерных детишек. Октябрята получали право носить на школьной форме (мальчики – на лацкане пиджака, девочки – на темно-коричневом школьном платьице) рубиновую звездочку, в центре которой – на фоне белого кружочка – золотой профиль В. И. Ленина-ребенка. В каждом классе октябрята объединялись в отряд, который назывался «звездочка». Самый лучший октябренок – примерный в поведении и отличник в учебе – избирался на общем собрании октябрят заместителем командира звездочки. Командиром же звездочки был пионер из более старших классов: пяти- или шестиклассник.
А сама звездочка состояла из трех групп. И командиров групп октябрята тоже избирали открытым голосованием на своих собраниях.
«Малышей-плохишей», не принятых в октябрята за плохое поведение и недостаточно хорошую успеваемость, вызывали на заседание звена, в составе которого должен был числиться «изгой». И на том заседании под бдительным оком учительницы октябрята «проявляли принципиальность», критикуя и воспитывая отстающего.
Если воспитание на уровне звена оказывалось не совсем действенным, «плохиша» вызывали на собрание звездочки, считай, всего отряда (но за исключением тех, кто не был принят в октябрята). И «воспитательный процесс» начинался сначала, но уже более масштабно, уже на уровне коллектива всего класса…
Так в Советском Союзе человеку с детских лет прививалось осознание необходимости участия в общественной жизни.
Из октябрят – в пионеры!
Основной организационной формой в пионерской организации была – дружина. Это – в масштабе школы. Дружина состояла из пионерских отрядов, пионерских звеньев и еще в нее входили группы октябрят.
«Пионер – всем ребятам пример!» – на этой идеологической формуле строилось воспитание подростка в пионерской организации страны. Ради обязательного и круглогодичного внедрения в сознание подростка этой формулы пионерская организация страны имела сеть внешкольных учреждений – пионерские лагеря, Дворцы и Дома пионеров, Дома детского и юношеского творчества, детские спортивные клубы и другие «самодеятельные» организации.
Подобная методика идеологического воспитания подростков давала свои – и весьма существенные – плоды. Наиболее активные в общественном плане пионеры по указке «старших товарищей» – комсомольцев и коммунистов, избирались вожатыми звездочек, командирами пионерских звеньев – звеньевыми. Многие из них впоследствии достигли значительных высот в партийном аппарате СССР. Но это – впоследствии, после долгого и придирчивого воспитания в духе «верного строителя коммунизма».
Женя за время учебы в школе успел побывать и звеньевым, и председателем совета отряда, и членом школьного совета дружины. Однажды, исполняя обязанности дежурного, он стоял на площадке второго этажа в белой отглаженной рубашке с пионерским галстуком, двумя красными нашивками на рукаве, в отутюженных брюках и начищенных до блеска ботинках. Проходящая мимо строгая библиотекарша воскликнула:
– Ох, какой славный пионерчик!
В школе говорили, что она из семьи «врагов народа» и выслана на место жительства в наш поселок вместе с мужем, который преподавал английский язык. Между собой школьники его звали «Инглиш бук». Осенью и зимой он ходил в черном драповом пальто и каракулевой шапке «пирожком». Словом, представлял собой живой портрет типичного русского интеллигента.
Видимо, у него было больное сердце. Он умер, когда Женя учился в классе шестом. Гроб с его телом выносили от школьного крыльца, и Женя слышал разговоры учителей о том, какой это был прекрасный человек, какие хорошие стихи писал, но издал всего одну книжку. Женя пытался ее разыскать, но безуспешно…
В 50-х годах появилась песня, в которой были слова, точно отражающие взаимоотношения между КПСС и ВЛКСМ: «Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!».
Естественно, как и большинство советских юношей и девушек, Евгений тоже прошел все ступени «вознесения» к лидерству: был и пионером, и комсомольцем, и коммунистом…
Правда, основы идеологического воспитания он получал не только в пионерской и комсомольской организациях. Свое мировоззрение «верного строителя коммунизма» он оттачивал под ненавязчивым влиянием отчима.
Петр Сергеевич считался одним из передовых рабочих в горняцком коллективе. И – вот обязаловка! – как член партии отчим должен был выписывать множество газет – от центральных до местных, которые в советское время все были «органами» если не ЦК КПСС, то обязательно крайкома КПСС или райкома, или горкома партии. Попутно отчим приобщал и своих сыновей к чтению прессы, выписывая «Пионерскую правду».
Образование у отчима было всего ничего: церковно-приходская школа да незаконченное среднее. А между тем он всю жизнь поражал Евгения огромностью своих знаний, каким-то сверхъестественным предвидением событий и явлений, в том числе и на общегосударственном уровне. Например, как только ему стало известно об избрании М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, отчим сердито изрек:
– Ну, этот гребаный комсомолец страну развалит окончательно!
Через несколько лет так оно и произошло.
Подобная проницательность, высказываемая отчимом сразу и откровенно, да еще усиленная крепким словцом, за которым он в карман не лез, не могла не сказаться и на характере отношения Евгения к людям, к событиям и явлениям общественного и политического характера. Правда, начиналось оно, это отношение к окружающему миру, с недоумения…
Подражая отчиму, Женя внимательно читал очередной номер «Пионерской правды», буквально изучая каждую заметку, каждую статью. И всегда удивлялся: в других городах и селах пионеры живут красиво и интересно, ну совсем как взрослые в кинофильме «Кубанские казаки». Ох, как были нелюбимы школьниками пионерские сборы и собрания, ради участия в которых требовалось оставаться в школе после уроков и – на голодный желудок – выслушивать доклады старшей пионервожатой и классного руководителя (не очень-то увлекательно излагаемыми). Правда, вполне реальным, «живым» делом был сбор металлолома. Но и это «мероприятие» в конечном итоге вызывало недоумение: ради чего все это делается, если собранный металл потом годами ржавел на школьных задворках?
Впрочем, недоумение было поверхностным, летучим, по-детски мимолетным. Ведь главной в нашей жизни была аксиома: «пионер – всем ребятам пример!». И ребята старались быть примерными, выдерживая пытку пионерскими сборами и собраниями. Ребята очень хотели стать комсомольцами. А для этого требовалось быть в первую очередь примерными пионерами.
Комсомол же казался выросшим у околицы Уссурийска мальчишкам и девчонкам какой-то волшебной страной, светлой, чистой, огромной, в которой нет грязи будней, нет этого школьного здания, вечно требующего ремонта и вечно не ремонтирующегося из-за нехватки средств. Для полусельских – полугородских мальчишек, комсомол был главной мечтой и целью жизни. И вступать в него готовились с каким-то душевным подъемом.
Повзрослели, что ли?
Зубрили Устав ВЛКСМ, старательно запоминали имена руководителей коммунистических партий зарубежья (непонятно – зачем?). Десятки раз переписывали заявление, чтобы оно было чистым, чтобы почерк был красивым и аккуратным и чтобы в заявлении обязательно имелась сакраментальная фраза «Хочу быть в первых рядах советской молодежи»…
И вот наконец вызов в Уссурийский райком комсомола (школа располагалась за городской чертой и поэтому относилась к Уссурийскому районному комитету ВЛКСМ, а не к горкому комсомола) для вручения комсомольских билетов. А райком – в центре города. И шагать до него добрых десять – двенадцать километров.
Городского транспорта как такового в те годы в Уссурийске не было. Правда, имелась «душегубка», выжившая на фронте полуторка марки ГАЗ, кузов которой был оборудован деревянными сиденьями (прибитыми к бортам поперек кузова почерневшими от непосильных трудов сосновыми досками) и укрытый брезентовым тентом со множеством латок, видимо, прикрывавших следы пулевых и осколочных попаданий. Но и эта полуторка, которая по задумке городских властей должна была возить население уссурийских окраин в центр города и доставлять людей обратно к их жилищам, постоянно находилась в ремонте.
Поэтому ребята решили не ждать «боевую» транспортную единицу, а идти в центр города пешком. Три тезки, три Евгения, три одноклассника…
Дело было весной. В самую распутицу. Поэтому вырядились в кирзовые сапоги и пошли прямиком по оврагам, поелику возможно сокращая свой пеший путь. При подходе к центру города, где преодоление оврагов уже не предвиделось, решили вымыть свои «кирзачи» от налипшей в пути грязи.
Кому доводилось носить этот вид обувки, тот знает, что как ни отмывай кирзовые сапоги, а грязь между пупырышками кирзы всегда останется. Она оставалась тонкой сеткой, опутавшей носки, подъемы и, особенно, голенища сапог. Придать им первородный черный блеск можно было только сапожной ваксой. Но не было у них ваксы. И все тут. И вот так, казалось бы, в вымытых, но в то же время грязных сапогах четырнадцатилетние Евгении трепетно переступили порог Уссурийского райкома комсомола.
Евгений никогда не верил в существование сказочных персонажей. Но в райкоме комсомола пришлось отказаться от своего неверия.
Комсомольские билеты вручал второй секретарь райкома ВЛКСМ, такое воздушное создание, очень белокурое, очень-очень голубоглазое, с удивительно хрупкой талией. Кстати, тогда-то Евгений впервые увидел молнию на талии платья и понял, что есть такие худенькие девушки, которым достаточно только застегнуть этот замок на своей одежде, чтобы стать изумительно хрупкой, а не утягивать себя крепким ремешком, как это делали деревенские девчата, откормленные на домашних харчах.
И вот эта девушка, комсомольский вожак, принялась задавать «общественно-политические вопросы»: кто в Испании секретарь компартии, кто возглавляет комсомол приморского края или, например, в каком году комсомол был награжден третьим орденом и за что, ну и все остальные вопросы в таком же идейно-выдержанном духе. Самый, естественно, ответственный вопрос, который задавался всем: почему ты хочешь вступить в комсомол? И ответ, который признавался единственно верным: хочу быть в первых рядах строителей коммунизма!
В момент, когда звучал ответственный вопрос, комсомольская фея бросила полный презрения взгляд на грязные кирзовые сапоги, поджала пухленькие губки и строго выговорила:
– Что ж это вы, а? Пришли получать комсомольские билеты, так могли бы хотя бы сапоги почистить?
Она не знала или не хотела знать, что ребята прошли пешком двенадцать километров по вязкой весенней распутице и что сейчас, получив комсомольские билеты, пошлепают назад по этим же непролазным километрам, голодные, усталые и, главное, обиженные чистеньким городским высокомерием второго секретаря райкома ВЛКСМ.
А еще на рассвете ребята представляли себе, что те, кто будет вручать им комсомольские билеты, – это люди мужественные, добрые и внимательные. На деле все оказалось иначе: прозаичнее, грубее, равнодушнее.
Вспоминая о юности, Евгений Петрович не переставал удивляться тому, что первая, еще школьная встреча с Владивостоком не оставила никаких особых эмоций и впечатлений.
Случилась эта встреча в конце 50-х годов двадцатого века.
На весенних каникулах неугомонная классная руководительница Валентина Дмитриевна организовала экскурсию в краевой центр.
Ближе к вечеру всем классом втиснулись в замызганный вагончик пригородного поезда Уссурийск – Владивосток, и паровоз (об электричках в ту пору еще не слышали), попыхивая паром и отдыхая во время остановок на многочисленных полустанках, потащил состав к морю.
Во Владивосток прибыли поздней ночью. Уставшие. В меру голодные и не в меру безразличные ко всему. Ночевали ученики тринадцатой школы города Уссурийска в тринадцатой школе города Владивостока, расположенной на улице Набережной. Это недалеко от вокзала. Ко всему прочему утром выяснилось, что окна школы выходят на Амурский залив, открывая великолепную панораму.
Разместили уссурийцев в пустых классах, из которых были вынесены парты. Спали прямо на полу. На следующий день Валентина Дмитриевна пошутила:
– Сразу можно определить, кто к трудностям привык. Вон Женя расстелил газеты на полу, улегся на них, руки-ноги в стороны разбросал и спал беспробудно до самого подъема…
А некоторые ребята так и пробродили всю ночь по гулким коридорам школы, не сомкнув глаз.
Утром позавтракали. Как говорится, чем Бог послал, а потом экскурсия по Владивостоку.
Краевой центр Приморья образца пятидесятых годов и Владивосток начала третьего тысячелетия – это небо и земля. Почти не заселен Чуркин, шероховатится крышами частных домиков Эгершельд, множество ведомственных и жэковских кочегарок добросовестно окуривают небо дымом из своих труб. Грязноватые, узкие и извилистые улочки города, без сомнения, уступают прямолинейным улицам Уссурийска.
Словом, Владивосток в тот великолепный, солнечный весенний день Евгению не приглянулся. Не сумела столица Приморья показаться во всей своей красе. Город как город. Правда, запомнилась морская прогулка. На обычном рейсовом катере переправились через бухту Золотой Рог на мыс Чуркина и вернулись обратно.
Когда катер вышел на середину бухты и перед взором развернулась панорама причалов и стоящих вдоль них судов, боевых кораблей и плавучих доков, держащих на своих стапель-палубах ремонтируемые корабли, а за всем этим великолепием – сопки и как бы приклеенные к их склонам дома, что-то в душе Евгения дрогнуло…
Экскурсоводом была подруга Валентины Дмитриевны, тоже преподаватель физики. Через год с небольшим Евгений именно ей сдавал физику на вступительном экзамене в институт. А на первых двух курсах она вела практические занятия. Евгения она, конечно, не запомнила в гурьбе шумных уссурийских экскурсантов. Да и сам он не пытался навязываться ей со своими воспоминаниями: ничего особенного в них не было…
Евгений Петрович и сейчас не понимал, почему Владивосток во время первого знакомства ему не приглянулся…
И вот подошел выпускной год.
Три друга-одноклассника, три Евгения отправились поступать в политехнический институт.
Во Владивостоке они поселились у бабушки одноклассницы Светланы. Бабушка жила в деревянном домике на Первой Речке. Разместив их, Светлана сразу же сбежала к своим друзьям и подружкам, и они оказались предоставлены сами себе. Бабушка бродила по домику и выговаривала отсутствующей внучке за то, что вот, мол, повесила на шею трех мужиков, а сама – «хвост коромыслом». Дальнейшее пребывание трех мужиков показало старушке, что никто ни на чьей шее не «висел». Приходили они в этот домик только переночевать, проводя дни напролет в городских библиотеках: готовились к вступительным экзаменам. А сейчас в первые минуты знакомства с бабусей и ее ворчанием каждый занимался, чем мог. Женя-мореход рассматривал небогатое убранство комнатки, Женя-горняк копался в своем чемоданчике, а Женя-геолог задумчиво смотрел в окно на Орлиную сопку. Вдоволь насмотревшись, он повернулся к ребятам:
– Пацаны, айда на прогулку…
Остальные легкомысленно согласились.
Оказалось, что геолог задумал протащить их по каким-то отвесным кручам Орлиной сопки, на вершину которой они взобрались поистине альпинистским способом. Взобрались и, еще не отдышавшись как следует, замерли в немом восхищении перед открывшейся панорамой города.
Стояла обычная для июльского Владивостока погода – мелкая морось. Смеркалось. Уже зажглись фонари на улицах. По главной магистрали города – улице Ленинской – проплывали по водяной мгле трамваи, а по свободной от кораблей и судов акватории бухты Золотой Рог сновали катера, украшенные разноцветными огоньками…
А Евгений сравнивал Владивосток и ставший для него родным Уссурийск.
У каждого человека есть своя «малая родина», ведь все мы «родом из детства», и на всех этапах жизненного пути нам прежде всего вспоминаются детские годы. С возрастом мы осознаем, что если и было в нашей жизни что-то значительное, оно обязательно идет из тех полузабытых времен, когда человек начинает познавать мир, а для многих из нас место, где родился и провел детство, остается святым на всю жизнь.
Для Евгения «малая родина» – это Уссурийск. Детство его в пятидесятые годы прошлого века прошло среди одноэтажных бараков шахтерского поселка, и любой выход «в город», как тогда говорили, был праздником. Через дорогу от дома возвышалась Лысая сопка, с которой можно было видеть раскинувшийся в долине между многочисленных сопок городок: без небоскребов, без высотных домов, но для Евгения он был значительным, большим и красивым. Так он выглядел, наверное, и в начале XX века.
С Лысой сопки пацаны наблюдали весеннее и осеннее наводнения, когда далеко внизу блестело под солнцем после проливных дождей с сильным ветром зеркало слившихся воедино рек, на которых стоит Уссурийск. Пацаны шутили, что Уссурийск – это СССР, потому что стоит на слиянии четырех рек: Суйфуна, Супутинки, Сиваковки и Раковки.
В центре города шахтерские пацаны бывали не часто. До введения автобусного сообщения в город приходилось добираться на полуторке, крытой брезентовым тентом. Этот вид транспорта в народе назывался «душегубкой». Вдоволь наглотавшись пыли, которая лезла во все щели тента и клубами валила через незакрытую заднюю стенку, и поотбивав все внутренности на колдобинах неасфальтированной дороги, прибывали на базарную площадь, считавшуюся центром города. Спустившись с самодельного трапа, отряхиваясь и отплевываясь от пыли, прибывшие пассажиры спешили по своим немудреным делам на базар или в магазин ГУМ – бывшие ряды торгового дома Кунст и Альберс, а пацаны отправлялись открывать для себя Город.
Изредка кто-нибудь посещал кинотеатры или расположенный рядом с базаром цирк. Евгений, как всей семьей Гуримовы сделали вылазку в цирк посмотреть знаменитого Карандаша и совсем неизвестного тогда клоуна Юрия Никулина.
Однажды в Москве Евгений приобрел по случаю в подземном переходе двухтомник Ю. Никулина в простом бумажном переплете. В этой книге автор с особой теплотой отзывался о гастролях в Уссурийске, где впервые выступил в роли клоуна.
Еще одна встреча Евгения Петровича с Ю. Никулиным произошла через много лет, когда тот уже был известен всей стране. На очередном совещании руководящего состава военно-морских училищ в Ленинграде (тогда были в моде всякого рода творческие отчеты) участники встретились со всей знаменитой тройкой в полном составе: Ю. Никулин, Е. Моргунов, Г. Вицин. Обменявшись с Евгением Петровичем рукопожатием, Юрий Никулин по-доброму подмигнул, когда тот сказал, что в детстве видел его выступление в Уссурийске.
Бывая в командировках в Москве и выходя из метро на Цветном бульваре, Евгений каждый раз как старого знакомого приветствовал, мысленно, конечно, бронзового Юрия Никулина, сходящего с подножки бронзового автомобиля.
Вообще в Уссурийске во время детства и юношества Евгения побывали почти все более или менее знаменитые артисты, певцы, литераторы, направлявшиеся на гастроли во Владивосток. Наверное, так было и в начале прошлого века. Ведь Уссурийск нельзя было ни объехать, ни обойти – до Владивостока всего каких-то 100 км по железной дороге.
В городе давала гастроли знаменитая русская актриса Вера Комиссаржевская, пел Александр Вертинский, выступал джаз Леонида Утесова. Не прошли мимо города белочехи, казаки атаманов Калмыкова и Семенова.
В начале 30-х годов здесь были всероссийский староста М. И. Калинин, советские военачальники С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов. В честь последнего город был переименован в 1935 году и проносил это название до 1957 года.
Как и любой уважающий себя город, Уссурийск имеет своих почетных граждан. Вторым по счету почетным гражданином Уссурийска стал в 1903 году генерал-лейтенант Николай Петрович Линевич. Первым почетным гражданином был Иван Петрович Никольский, о котором, к сожалению, сведений не сохранилось.
Звание почетного гражданина города, введенного в России во второй половине XIX века, служило «выражением благодарности и уважения городского общества». По своему общественному статусу сословие почетных граждан занимало положение между «дворянством и купечеством». Отмененное в 1917 году, оно было вновь восстановлено в СССР в период оттепели в 60-е годы прошлого столетия и действует до настоящего времени.
В свое время и Евгений Петрович был удостоен звания «Почетный гражданин Владивостока».
Н. П. Линевич – русский военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, с 1895 года служил на Дальнем Востоке, в основном находился в Никольск-Уссурийске, куда привез свою семью. Именем Линевича были названы улицы в Никольск-Уссурийске и Владивостоке, форт во Владивостокской крепости, село в Приморском крае. Н. П. Линевич – участник подавления боксерского восстания в Китае в 1899–1901 годах.
Японский император наградил орденами 39 российских офицеров «за совместные действия под Тяньцзыном и последующие действия». Будущему почетному гражданину города Никольск-Уссурийска Н. П. Линевичу был пожалован орден Восходящего солнца I степени. А через четыре года Н. П. Линевич, как известно, уже воевал с японцами.
Мукденское сражение в 1905 году привело к отстранению Куропаткина от должности главнокомандующего. В марте 1905 года его место занял Линевич.
В феврале 1906 года Линевич был снят с должности главнокомандующего силами Дальнего Востока за недостаточную борьбу с революционным движением.
По той же причине был уволен с военной службы и поручик Д. М. Карбышев, герой Русско-японской войны 1904–1905 годов. Некоторое время он жил во Владивостоке и в Уссурийске. Широко известным генерал Дмитрий Карбышев стал после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, когда вся страна узнала о его подвиге в гитлеровских застенках.
В Уссурийске немало памятников и памятных мест, связанных с революционным движением и Гражданской войной. На запасных путях железнодорожной станции Уссурийска установлен паровоз серии Е, на тендере которого прикреплена мемориальная доска с надписью: «В топке этого паровоза в мае 1920 года белогвардейцами и японскими интервентами были сожжены пламенные революционеры-борцы за Власть Советов на Дальнем Востоке Сергей Лазо, Всеволод Сибирцев, Алексей Луцкий.
По одной из версий Сергея Лазо после пыток сожгли в паровозной топке живьем, а Луцкого и Сибирцева сначала застрелили, а затем в мешках сожгли. О смерти Лазо и его товарищей сообщила японская газета «Джапан Кроникл» – но по версии газеты он был расстрелян во Владивостоке, а труп сожжен. Несколько месяцев спустя появились сообщения со ссылкой на безымянного машиниста, якобы видевшего, как на станции Уссури японцы передали казакам из отряда Бочарова три мешка, в которых были три человека. Казаки пытались затолкать их в топку паровоза, но они сопротивлялись, тогда их застрелили и мертвыми засунули в топку.
Уссурийск удачно расположен в центре плодородной долины на слиянии нескольких рек. Город очень зеленый, так как здесь растет очень много деревьев (тополя, липы, ели), перенесенные сюда из тайги.
Особенно красив Уссурийск весной. В палисадниках одноэтажных приземистых домиков белой кипенью цветут сливы, яблоки, розовеют войлочная вишня, японская сакура… Недаром город несколько раз объявлялся самым зеленым городом России.
Летом Уссурийск утопает в зелени, а осенью ветки кустарников и деревья сгибаются под тяжестью плодов.
Приезжие удивляются правильной прямоугольной планировке города. Уже в зрелом возрасте Евгений Петрович узнал, что выполнил ее офицер строительного отдела штаба Военного губернатора Приморской области князь П. А. Кропоткин. Было это еще в 1881 году, когда Уссурийск носил имя и статус села Никольского – городом он стал только в 1898 году и за небольшой срок сменил несколько названий: Никольск (1898 год), Никольск-Уссурийский, чтобы отличить его от Никольска в Вологодской области (1926), Ворошилов (1935), Уссурийск (1957).
В свою очередь, село Никольское получило название по церкви, освященной во имя святителя Николая Чудотворца.
Уссурийск принадлежит к редким в истории населенным пунктам, которые трижды пришлось отстраивать и заселять. Самые ранние упоминания о поселении на месте современного Уссурийска относятся к первой половине VII века. Здесь находилось государство Бохай, павшее под напором кочевников в XI веке. Один из вождей империи Цин Агуда заложил на этом месте восточную столицу государства Чжурчжэней, которое было разгромлено ордами татаро-монголов.
Но и монгольские племена здесь не закрепились. Вплоть до XIX века на территории нынешнего Приморья обитали лишь небольшие группы рыболовов и охотников, в основном корейцев и китайцев, да встречались редкие стойбища удэгейцев, ороченов, нивхов.
Интересный случай описал в своих воспоминаниях о службе на Дальнем Востоке полковник Генерального штаба Российской императорской армии Добровольский. Ему, в свою очередь, рассказал об этом случае капитан Алексей Гомзяков, родной брат первого поэта Владивостока и первого врача-подводника первого в России соединения подводных лодок Павла Гомзякова.
В то время в Приморье много чего было «первого».
Итак, незадолго до Русско-японской войны 1904–1905 годов Владивосток посетила французская эскадра. Генерал-губернатор устроил по этому случаю прием и, желая подчеркнуть богатства края, а заодно и продемонстрировать, как эти богатства защищаются, предложил командиру французской эскадры поохотиться на оленей на одном из постов, охраняемых линейным батальоном.
Предложение было с благодарностью принято, а к месту расположения батальона срочно отправили нарочного с предписанием достойно принять иностранных визитеров.
Выслушав нарочного, капитан Гомзяков схватился за голову. Снабжение в то время было отвратительным, вернее, его совсем не было, и личный состав батальона ходил в невообразимом рванье. Но приказание надо было выполнять, иначе мог последовать скандал и, страшно подумать, международный.
Отыскали комплектов с десяток более-менее сносного обмундирования, переодели тех, кого решили показать французам, а остальных спрятали за высоким забором с высокими, казалось бы, прочными воротами.
Корабли французов стали на рейде в небольшой бухточке, отгремели положенные по такому случаю выстрелы с обеих сторон, и корабельные шлюпки устремились к берегу. Капитан Гомзяков отрапортовал французскому адмиралу. Французам понравилась чисто убранная территория, бравые, опрятные часовые. Но когда они проходили мимо тех самых прочных ворот, они внезапно рухнули прямо под ноги визитеров, и их взорам открылась толпа обросших людей, одетых в какие-то лохмотья. Изумленные французы воззрились на Гомзякова, и тот не нашел ничего лучшего, как брякнуть:
– Вымирающее племя ланцепупов, господин адмирал!
Неизвестно, поверили французы или нет, но охота удалась. На корабли погрузили несколько оленьих туш. Эскадра снялась с якорей…
Слово «ланцепупы», нечаянно вырвавшееся у Гомзякова, зажило своей жизнью.
Во Владивостоке и Никольско-Уссурийске образовалось тайное общество ланцепупов, состоящее из военных и гражданских лиц, состоящих на государственной службе. Общество просуществовало до самой революции 1917 года.
Ланцепупами называли себя и советские курсанты военно-морского училища во Владивостоке в послевоенное время.
Что означает слово «ланцепуп», не знал и не знает до настоящего времени никто.
Начиная с XIX века началось освоение этих земель русскими землепроходцами – казаками и промысловыми людьми. Весной 1966 года в Приморский край прибыли крестьяне-переселенцы из Астраханской и Воронежской губерний (14 семей), которые и основали село Никольское. В 1868 году население было сожжено хунхузами, затем восстановлено и стало быстро развиваться.
Число жителей вновь образованного населенного пункта было пополнено выходцами с Украины, массово переселявшимися на юг Дальневосточного региона Российской империи. Один из корреспондентов того времени Иван Иллич-Свитыч так описывал Уссурийск в 1905 году: «Это было малорусское село. Главная и самая старая улица – Никольская. Вдоль всей улицы по обеим сторонам вытянулись белые мазанки, местами и теперь еще крытые соломой. В конце города при слиянии Раковки с Супутинкой, как часто и на коренной Украине, устроен “ставок”, подле которого живописно приютился “млынок”, так что получилась бы вполне та картина, в которой “старый дид” в одной песне смущает “молоду дивчину” – “и ставок, и млынок, и вишневенький садок”, если бы этот последний был налицо. Среди русского населения, не считая казаков, малороссы настолько преобладают, что сельских жителей городской, так называемый интеллигентный, называет не иначе как “хохлами”. И, действительно, среди полтавцев, черниговцев, киевских, волынских и других украинцев, переселенцы из великорусских губерний совершенно теряются, являясь как бы вкраплением в основной малорусский элемент».
Мощный толчок к развитию Уссурийска в конце XIX века дало строительство железной дороги, сооружение железнодорожных мастерских и основание поселка Кетрицево.
В 1898 голу в результате слияния села Никольское с поселком Кетрицево и был образован город Никольск.
Перевод в село воинских частей оказал заметное влияние на его развитие. Военные не только сами обустраивались, но и проложили дорогу до Владивостока.
Уссурийск имеет статус исторического города России. Достопримечательность города – каменное изваяние черепахи, олицетворявшее долговечность. Подобные черепахи устанавливались на могилах лиц императорской фамилии чжурчжэней. Археологи продолжают находить на раскопках древних городищ предметы быта ранних государств на территории нынешнего Уссурийска.
В Уссурийске есть дом, который получил название Генеральского, видимо, потому, что в нем жили генералы и офицеры дислоцированного в городе штаба Дальневосточного военного округа. Дом этот поражает своими размерами и архитектурой: строился он уже при советской власти.
Рассказывают, что его, как и некоторые другие, наиболее значимые здания города, проектировал и строил инженер-архитектор Кубасов. Прибыл он в Уссурийск то ли из Москвы, то ли из Ленинграда. Почему-то Женя еще с детства запомнил его фамилию, видимо, из-за необычности истории.
Кубасов был женат на актрисе, выступавшей в Уссурийском театре. Любил он ее безумно и безумно же ревновал. Роста он был свыше двух метров при соответствующем телосложении. Женя его ни разу не видел, но, говорят, что при одном только взгляде на него сразу же вспоминались былинные русские богатыри. Актриса же была росточком ниже среднего, совсем хрупкая, можно сказать даже миниатюрная и, конечно, очень красивая. Эта пара всегда вызывала восхищение и умиление всех, кто их видел вместе. Не выдержав суровых реалий жизни в далеком провинциальном городке, актриса сбежала с одним из своих ухажеров в Москву. Архитектор с горя запил горькую. Он пропивал все деньги, которые мог достать, а так как обувь на заказ уже не мог шить, ходил в огромных калошах на босую ногу.
Рассказывали, что еще при жизни он передал свой скелет какому-то Хабаровскому музею. В минуты просветления этот талантливейший архитектор был милым, застенчивым интеллигентом и, даже напившись, никогда не буянил, молча переживал и оплакивал свою любовь и свою жизнь.
Никто не знал, куда и когда он сгинул. Но здания, построенные Кубасовым, до сих пор привлекают внимание своим архитектурным величием…
В середине августа Евгений вытащил из своего почтового ящика письмо, в котором секретарь приемной комиссии сообщал, что по результатам вступительных экзаменов он зачислен студентом кораблестроительного факультета политехнического института.
Воспитанный советской властью, как истовый атеист, Евгений должен был не верить в бога. Но мать рассказывала, что его крестили в какой-то сельской церквушке по дороге в эвакуацию и поэтому, мол, Господь даровал им здоровье и жизнь. Хотя на одном из переходов они попали под бомбежку и мать была легко ранена осколками самолетной бомбы.
В классе седьмом Евгений посвятил этому событию стихотворение, которое назвал «День рождения», а позже включил его в одноименную поэму:
Я родился в городишке старом, На реке казачьей, на Дону, В день, когда предательским ударом Гитлер начал страшную войну. Надо мной врачи не хлопотали, Белоснежных не было палат… Взрывы, крик беспомощный вплетали В музыку далеких канонад. На полнеба растянуло крылья Свастикой паучьей воронье! Мать меня собой прикрыла, И осколки врезались в нее. С мамой нас нашли солдаты, А потом какой-то городок, Госпитали, медсанбаты, Горькая дорога на Восток…Евгений не был суеверным и всегда пытался найти объяснение тому или иному сверхестественному событию. Находил, конечно, не всегда. А к зрелости уже знал, что «что-то такое непонятное, но мистически-могущественное» есть. Особенно он уверовал в это «что-то», когда сопоставил два события: одно из детства, а другое, которое произошло лет через пятьдесят.
В восьмом классе Женя тяжело заболел, и врачи надолго уложили его в уссурийскую городскую больницу. Соседи по палате оказались сплошь книгочеями: сутки напролет они читали толстенные фолианты, взятые в больничной библиотеке. А что еще оставалось делать в условиях бездеятельного больничного режима? Женя тоже любил читать книги. И едва немножко пришел в себя, едва болезненная слабость стала покидать тело, как он доковылял до библиотеки.
Что его подтолкнуло – неизвестно, но взял сразу всю трилогию В. Яна «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю».
Читал взахлеб.
Правда, состояние здоровья было еще очень «нормальным». Температура часто подскакивала до высоких пределов, ознобистые лихорадки трясли тело, туманили сознание. В такие моменты силы покидали его, и удержать в руках книгу казалось невозможным. И тогда мысли отправлялись путешествовать в какой-то иной мир, абсолютно чуждый и – одновременно – абсолютно не пугающий воображение, казавшийся собственным: мир холмистых степей, по которым на приземистых скакунах неслись недвижимые, словно слитые со своими конями всадники, на скаку сбивая стрелами своих упругих луков взлетающих из травы птиц…
Во время одного из таких странствий Женя вдруг увидел себя стоящим на высоком горном перевале возле Пирамиды Жизни. А мимо шли воины его тумена, ведя в поводу своих коней. Каждый из воинов на миг останавливался, доставал из-за пазухи принесенный с собой небольшой камень и бросал на вершину пирамиды. Некоторые камни задерживались на вершине, но многие скатывались. Это означало, что те воины, камни которых оставались на вершине, скоро погибнут в бою и души их вернутся сюда, чтобы обрести новую жизнь на своей родине. Тем же, чьи камни скатывались по склону, суждена была долгая жизнь. Им предстояло уйти далеко от родных пастбищ, увидеть много стран и завоевать эти страны во славу Великого и Непобедимого.
Когда прошел последний нукер, Женя бросил свой камень на Пирамиду. Он не задержался наверху, а покатился по склону, пока не остановился на его середине. Женя глубоко вздохнул. Пирамида предсказала, что, как и большинство воинов, он достигнет невиданных стран. Ведомый им тумен завоюет половину Вселенной, но сам он погибнет в бою на исходе своей жизни.
Женя вскочил на своего коня и стал спускаться по крутой тропе, догоняя воинов, которые почти все уже спустились в ущелье. По дну его мчалась река. Ее поили тающие летом снега горных вершин. Кони потянулись было мордами к воде, но плети быстро образумили их. Нельзя боевому коню пить воду перед дальним переходом. Ледниковая вода отнимает силы, дарит болезни.
Женя быстро занял место в голове тумена и поехал по каменистому берегу, слушая вещий звон речных струй:
«…Твоя последняя жена станет женой твоего врага. И твой сын вырастет в улусе русских и станет врагом твоих нукеров. А внук его внука станет воеводой в войске русского князя Дмитрия Донского. Когда начнется битва, его конный отряд будет выжидать в засаде. Внуки внуков твоих нукеров будут храбро биться с русскими дружинниками. И уже начнут одолевать русских батыров, но в это время внук твоего внука выведет свой русский отряд из засады и бросит его в тыл нашим воинам. Это подарит победу русским туменам на Куликовом поле. Битва начнется на восходе солнца и закончится, когда рубиновые лучи заката спрячут в себе еще живую кровь последнего убитого русским батыром внука внуков воинов твоего тумена. Спасутся не многие. Черные друзья смерти – вороны – не смогут вычистить свои окровавленные клювы о траву, потому что тела мертвецов укроют собою все…»
Женя внезапно проснулся и долго не мог понять, что произошло. Потом догадался, что этот сон навеян прочитанными книгами В. Яна. В какой-то другой книге он прочитал, что сон – это «небывалое сочетание бывалых впечатлений». После этого сна Женя быстро пошел на поправку.
Этот случай навсегда бы выветрился у него из памяти, если бы он наяву не побывал в Монголии. Случилось это, когда он стал ректором политехнического университета.
По приглашению ректора Монгольского технологического университета, с которым он познакомился на одной из международных конференций, Евгений Петрович прилетел в Улан-Батор в год юбилея Чингиз-хана. Дело было в ноябре. После обязательных встреч и протокольных улыбок хозяева монгольского вуза решили показать гостю одну из национальных тайн – своеобразный курган из небольших округлых камней, традиционное буддийское сооружение, возведенное в течение нескольких сотен лет тысячами паломников, каждый из которых обязан был уложить свой камень в эту округлую пирамиду. Говорят, что и воины Великого Завоевателя, отправляясь на покорение мира, проходили отрядами мимо этой пирамиды и оставляли на ней свои камешки.
Пирамида высилась вот на этом горном перевале. Но добраться сюда в бездорожной Монголии – уже подвиг для избалованного транспортной цивилизацией человека. Однако группа из четырех человек в составе Евгения Петровича, двух профессоров-монголов и переводчицы добрались. Непонятно, зачем в группу включили переводчицу, потому что профессора говорили по-русски почти без акцента.
По утвержденному временем обычаю каждый из группы выпил несколько граммов монгольской водки, побрызгал ею небо и землю. На счастье каждый из группы бросил по камешку на рукотворный курган, и после свершения таинства они отправились дальше. Но…
Монгольские коллеги предупредили Евгения Петровича: прежде чем кинуть камень на курган, следует вспомнить самое лучшее, что ты сделал в этой жизни и о чем без стыда можешь поведать великому кургану. Он постарался вспомнить. Это особого страха не вызывало. Страшнее было подобрать камешек. Дело-то происходило в ноябрьское воскресенье. И мороз на высокогорном перевале явно достигал тридцати градусов. Евгений Петрович опасался, что выбранный шершавый, размером с куриное яйцо, стылый камень изрядно обожжет холодом ладонь.
Однако, к его немалому удивлению, камень показался тепловатым. На мгновение он сжал его, и вдруг… все изменилось. Снег, секунду назад укрывавший горы до самых подножий, остался только на некоторых вершинах. Склоны закурчавились летней зеленью. А вдоль ущелья, повторяя изгибы искристой реки, двигалась длинная колонна всадников. Шлемы и острия их копий блистали в лучах восходящего солнца.
Среди тысяч всадников Евгений Петрович увидел себя.
Точнее, даже не увидел. Он оказался во главе тысячи воинов. Все они выполнили последний ритуал, покидая родную страну. Каждый из воинов бросил камень, привезенный с собой, на курган Жизни. Это означало, что если кто-нибудь из них будет убит в далеких битвах, его душа вернется сюда и возродится к новой жизни. Это означало, что каждый из них навсегда оставался в своей родной стране, и поэтому сердца их были спокойны и чисты.
Они знали, что никто из них уже никогда не увидит родных юрт, никогда не примнет траву пастбищ, где двухлетним аратом впервые сам проехал на коне. И никогда уже никто из них не встретит желтый рассвет, разгоняя своего коня по зеленым волнам монгольских степей. Они уходили навсегда, и небо поднимало над ними свое Солнце, освещая будущий путь Славы и Величия. По правую руку, провожая их, грохотала река. Ее струи предсказывали судьбу. И он слушал внимательно все, что говорила ему ледниковая вода. Он слушал и запоминал:
«Тебя ждет тяжкий путь. По воле великого Тамуджина ты проведешь свою тысячу воинов через безводные пески и высокие горы. Ты и твои араты не будут знать усталости и пощады, сжигая города и убивая чужеземные народы. На исходе своей нынешней жизни ты захватишь обильные пастбища возле русской реки Вязьма. Твой конь и кони твоих воинов откормятся на этих сочных лугах, станут сытыми и сильными после утомительных походов. А ты найдешь здесь последнюю жену. Она будет из русского улуса. Высокая, как ты. И ее косу ты отрежешь, чтобы украсить свой шлем. Ты оставишь живой эту женщину, и она родит сына, которого ты никогда не увидишь. Тебя убьет русский нукер за два месяца до рождения сына. Твоя последняя жена станет женой твоего врага. И твой сын вырастет в улусе русских и станет врагом твоих нукеров.
А внук его внука будет воеводой в русском войске князя Дмитрия Донского. Он будет биться с внуками внуков твоих нукеров на Куликовом поле…»
Сколько времени продолжалось это видение? Минуту? Секунду? Или, как сон, тысячные доли секунды? Камень уже обжигал ладонь. Казалось, он излучает какую-то энергию. Держать его становилось все невыносимей, и Евгений Петрович забросил раскаленный кругляш на самую вершину рукотворного кургана. Но голыш там не задержался и покатился вниз. Остановился где-то на середине. Видимо, отыскал и занял свое место на склоне среди окаменевших судеб предков в этом величавом сооружении, сплотившем эпохи и жизни миллионов монголов.
Заметил ли кто это путешествие во времени? Скорее всего, нет. Впрочем, по бесстрастным лицам монгольских спутников трудно было что-либо понять. Возможно, они переживали в этот миг что-то подобное. А возможно, и нет.
Но у Евгения Петровича осталось беспокойное чувство, что подобное видение уже приходило к нему. Когда?..
Над ними бездна синего неба. Под ними глубокое ущелье, по дну которого осторожно искрится замерзающая река. По отвесам скал белыми змеями скользят ленты тумана. Высокогорный воздух редок, но дышится легко. На вершине исполинской горы чувствуешь себя крохотной божьей коровкой, песчинкой в необъятном пространстве. Кажется, что небо живое и внимательное совсем рядом, что с ним можно поговорить. И можно отдаваться притяжению Бесконечности, стараясь отогнать тревожные мысли о минувшем…
Они еще несколько минут постояли на перевале и начали осторожно спускаться в долину, стиснутую со всех сторон зимними горами. Каменные исполины стыли в величавом безмолвии, сурово взирая на людей черными глазницами расщелин. На одной из вершин Евгений Петрович заметил останки автомобиля, произведенного, видимо, в Советском Союзе в годы третьей пятилетки. Он спросил у своих спутников:
– А как туда машина попала?
Один из профессоров флегматично пожал плечами и серьезно, в полном соответствии со своим ученым званием, ответил:
– НЛО, наверное…
Наконец, они спустились в долину, Называлась она Долиной Динозавров. Музей под открытым небом. Часть экспонатов здесь была рукотворной: выполненные в натуральную величину огромные муляжи динозавров и бронтозавров казались живыми и нагоняли откровенный страх на посетителей. Рядом с ними соседствовали творения, удивительно искусно изваянные природой: колоссальных размеров каменная черепаха величаво взирала на базальтового человека, самозабвенно поглощенного чтением каменной же книги. Человек пронзительно смахивал на «доброго дедушку» Ленина…
Скульптурные чудеса трудолюбивая матушка-природа создавала не одну сотню лет. Это особенно поражало сознание.
И все-таки новые впечатления не избавили Евгения Петровича от неясной тревоги: где, когда он переживал видение, посетившее его на перевале возле каменной пирамиды? Подобное знакомо, наверное, каждому человеку: впервые в жизни попав в совершенно новое для себя место, вдруг чувствуешь, что ты здесь уже бывал и переживал все, связанное с этими краями.
Но когда он здесь был?
Евгений Петрович оглянулся, стараясь из Долины Динозавров разглядеть перевал и каменистый курган на нем. И вдруг его озарило: городская больница в Уссурийске!
Словно камень с души свалился. Он вспомнил это свое детское видение. Вспомнил, и шальная мысль закралась в голову: свое войско Чингисхан начинал закалять в походах на восток против китайцев, манчжуров, чжурчженей. Его отряды дошли до нынешнего Посьета, уничтожая на своем пути все древние цивилизации. Стало быть, его тумен мог останавливаться на ночлег или отдых там, где сейчас раскинулся Уссурийск, а его шатер мог стоять на том месте, где сейчас стоит корпус городской больницы, в одной из палат которой Женя страдал от тяжкой болезни…
Видимо, книги В. Яна оказались тем катализатором, той «машиной времени», которая сумела вернуть его память на семь веков назад, соединив энергетику прошлого и настоящего.
Ну как тут не вспомнить о законе сохранения энергии, сформулированном великим Михайло Ломоносовым?
…В горах темнеет рано даже в самую короткую ночь в году. Тем более, на сорок третьей северной широте, где расположен Улан-Батор. А в оледенелом монгольском ноябре, да еще в Долине Динозавров, тьма упала сразу и на всю Вселенную. Группа отправилась восвояси. И тут повалил снег.
Сначала редкие и крупные хлопья предупредительно тронули лицо, приласкали куртку и упали на почти невидимую горную тропу, ведущую к перевалу: возвращаться-то всегда приходится дорогой, по которой пришел. Но уже через две-три минуты снежная стена, белая даже в этой кромешной горной тьме, встала перед ними.
…Теперь-то Евгений Петрович совершенно точно знает: в хорошую погоду добираться куда-либо по бездорожной Монголии человеку, избалованному транспортной цивилизацией, одно удовольствие. Попробуйте совершить подобную же прогулку, но в горах Монголии во время отвесного ночного снегопада. Вот это, безусловно, подвиг!
Они карабкались вверх на уже знакомый перевал, застревая и оскальзываясь в сухом и вспухающем с каждой минутой снежном покрывале. И любое неосторожное движение грозило стремительным откатом к исходной точке, к возвращению в Долину Динозавров. Евгений Петрович уже остро чувствовал высокогорье и разреженность воздуха. Но – удивительное дело: при всем напряжении физических и нервных сил какое-то мудрое спокойствие питало его организм, наливая мышцы и мысли неодолимой уверенностью в том, что все закончится благополучно. А из правой ладони, в которой несколько часов назад он держал камень предка, осторожно текло по руке и растворялось во всем теле тепло, лишая утомленный мозг мысли о возможном в этом кромешном снегопаде неблагоприятном исходе.
Каждый воспринимает окружающий мир по-своему. И, взобравшись на перевал, душой ощутив в космической тьме уже знакомую пирамиду, Евгений Петрович даже не понял, а скорее осознал всеми клетками своего простуженного тела, почему потомки Чингисхана и сегодня считают Монголию Центром Вселенной.
Почти не тронутое цивилизацией величие местной Природы дает им такое право.
О своих родственниках по материнской линии Евгений знал совсем немного. В семье Жегаловых (девичья фамилия матери) были три сестры, по старшинству: Анна, Ольга, Надежда. Анна, естественно, мать. Ольга замужем за летчиком-старшиной. Младшая Надежда сопровождала Анну в тяжелые годины эвакуации. Старший брат Павел погиб в Великую Отечественную.
Ольга, та самая мамина сестра, которая прислала Жене военную форму, жила на военном аэродроме под Ленинградом. Студентом шестого курса во время конструкторской практики Евгений навестил их, но никаких родственных чувств не испытал. Сыновья Ольги, два подростка – двоюродные братья, проводили его на велосипедах до самого вокзала, выклянчив на прощание у Евгения рубля два.
Когда Женя заканчивал школу, его мать переманила-таки сестру Надежду из Дорогобужа в Уссурийск. Та приехала погостить, да так и осталась навсегда, вышла замуж, родила дочь.
Мать рассказывала, что отец ее служил машинистом на железной дороге, был из среды, так сказать, «трудовой интеллигенции». О бабушке мать говорила весьма неохотно, были на это, вероятно, причины, недоступные для понимания Жени.
Вскользь упоминала, что мать ее была красавицей и пела так, что современным певицам до нее было, ох, как далеко. А еще она сносно владела французским языком…
В цепкой детской памяти Жени хоть смутно, но все-таки отложились глухие, почти шепотом, разговоры старших о родственниках из Вязьмы, которые имели дворянское происхождение и даже упоминался французский «шевалье», оставшийся в России после 1812 года, почему-то называвшийся «шарамыжником». Во время Жениного детства принадлежать к дворянству чревато непредсказуемыми последствиями.
Став взрослым, Евгений узнал происхождение слова «шарамыжник», которое в русском языке употребляется для обозначения того, кто любит поживиться за чужой счет, жулика и обманщика. А еще это слово связывается с последствиями французского нашествия.
В 1812 году непобедимая наполеоновская армия отступала из России. Бывшие завоеватели Европы превратились в голодных оборванцев, выпрашивающих у крестьян еду и обращавшихся к ним «cher ami» (любезный друг). Крестьяне так и прозвали попрошаек – «шарамыжники».
По-видимому, один из них и задержался под Дорогобужем, став гувернером в помещичьем поместье.
По линии отчима с родственниками было легче. Во-первых, Евгений был знаком с дедом, отцом Петра Сергеевича. А во-вторых, после практики в Николаеве он заехал в Вязьму и был довольно тепло встречен сестрами отчима, которые помогли ему добраться до Владивостока, так как стипендию, которую он рассчитывал получить в Вязьме, ему так из института не выслали.
Уже в эпоху интернета Евгений Петрович наткнулся на исследование Генерального штаба подполковника барона Карла Федоровича Сталь фон Гольштейна, который опубликовал в журнале «Кавказский сборник» в 1852 году «Этнографический очерк черкесского народа».
В нем он дает развернутую и достоверную характеристику кавказским народностям. Этот очерк не мешало бы прочитать российским правителям, прежде чем развязывать чеченские войны в конце XIX века, подумал тогда Евгений Петрович.
А тогда в перечне дворянских домов он нашел фамилию Гуримовых. Было это совпадением или просто однофамильцы нашлись на далеком Кавказе, Евгений Петрович так и не выяснил.
Да и в облике деда было что-то кавказское – нос с горбинкой, стать и осанка, несмотря на возраст, пронзительный взгляд. Да и сестры отчима не очень-то походили на русских. Но как они попали в Вязьму, если были кавказцами?
Своего «биологического» отца Евгений Петрович разыскал уже в зрелом возрасте. От их переписки остались пара писем, да его фотография в военной форме с двумя рядами орденских планок.
Так получилось, что ни бабушек, ни дедушек своих Евгений не видел даже на фотографиях, за исключением одного, да и то не родного в самом раннем детстве.
Дуга третья
Анна Иосифовна провожала сына Евгения во Владивосток. Вроде бы и расстояние всего ничего, каких-то сто километров, но чувствовала, что расстаются они навсегда.
Для своего времени она была достаточно грамотной. Несмотря на большую семью, много читала, а заметив, что Евгений прячет от всех тетрадь, в которой записывает сочиненные им стихи, прочла их украдкой и как-то заметила Евгению:
– А мой брат тоже писал стихи. – И продекламировала с чувством:
Перед моим окном открытым Промчался конь, стуча копытом…Евгений понял, что увлечение его стихотворчеством больше не секрет и заветную тетрадочку перестал прятать.
Мать провожала его до самого вагона и даже зашла в тамбур, немного всплакнула. Евгений видел из окна тронувшегося поезда, как она идет по вокзальному перрону, тяжело переваливаясь с ноги на ногу – все-таки ей было уже за пятьдесят.
Под перестук колес Евгений задумчиво смотрел в вагонное окно, не замечая красот текущей параллельно с железнодорожным полотном реки Суйфун, впоследствии переименованной в Раздольную.
В голове сами по себе звучали зарождающиеся стихотворные строки:
Я опять уезжаю надолго: В жизнь, борьбу и заботу бегу. Я опять уезжаю, но только Взять с собою тебя не могу. Мама! Мама! Опять только письма, Только строчки поспешные вкривь. Паровоз очумелый свистнул… Говори, что-нибудь говори! Опустеет перрон. Только ты Будешь долго стоять… Опустеет перрон. Только ты Будешь ждать… Будешь ждать…Человек, как известно, создавался, создается и будет создаваться в коллективе. Сначала, естественно, в семье. Потом – школа. Затем – по выбору: студенческий коллектив или работа на производстве (на современном языке – «в сфере реальной экономики»). Но как бы там ни было, ты всегда в окружении людей, всегда на перекрестке чьих-то мнений, всегда вынужден лавировать между омутами чужого безразличия и стремлениями личных пристрастий.
Всякий раз, когда судьба или начальственный приказ возводит тебя в новый должностной ранг или бросает в незнакомый коллектив, ты оказываешься подобным марафонцу, выходящему на очередной старт с непреклонным желанием пройти эту тяжкую дистанцию и победить, если сможешь, конечно!
А вообще жизнь – это вечный старт, финиш которого уходит в бесконечность…
Не забыть день, когда с замиранием сердца ищешь и находишь свою фамилию в списке зачисленных в институт. И взрывная радость: ты – студент! Студент!!!
Группа Евгения занимается по новой программе. По существу, нового в этой программе ничего нет. Просто первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев распорядился организовать для всех вновь поступающих в нынешнем году обучение на первых двух курсах по образцу вечернего факультета. То есть днем студенты обязаны работать на предприятиях, а вечерами заниматься в институте.
Трудновато…
Тем более мальчишкам, которые рассчитывали после окончания школы на дневную форму обучения. Правда, через пару лет это «нововведение» было отменено. Однако, первокурсникам того времени пришлось-таки нести терновый венец хрущевской реформы высшего образования все два года, а лично Евгению – вообще все тридцать месяцев.
Реформа касалась не только учебного процесса, но и бытовых условий студентов… Первокурсников кораблестроительного факультета поселили в рабочем общежитии Дальзавода. Эта совокупность знакомства с производством и бытовыми условиями рабочего общежития с полным комплексом «взрослой самостоятельности» окунула Евгения в такой сгусток житейских проблем, решить которые одним махом казалось невозможно. Но это лишь казалось.
На собрании первокурсников декан кораблестроительного факультета Николай Васильевич Барабанов сразу заявил:
– Идите-ка сначала на Дальзавод и узнайте, сколько и какого труда надо вложить, чтобы построить корабль. Проверьте настоящим делом свою детскую мечту. И поверьте в нее после такой рабочей практики.
И они проверяли. Вместе с неулыбчивыми корпусниками из девятнадцатого цеха они «латали» усталые борта океанских лайнеров. Они помогали ставить на ходовых мостиках сложные штурманские приборы и собирать корпусные секции будущих «плавсредств». Самая красивая и трудная работа.
…Евгений стоит, беспомощно озираясь по сторонам. С лесов что-то кричат, а что и кому – разобрать в этом обвальном грохоте невозможно. Внезапно раздается:
– Полундра!
Возле него шлепается доска. Отскакивает в сторону, едва не сбив с ног вынырнувшего из-за клетки рабочего. Он хватает его за руку, рывком втягивая под днище парохода, и сердито кричит:
– Чего рот-то раскрыл?
Это бригадир Володя Калякин.
Серьезную работу он Евгению пока не доверяет:
– Сначала ручник правильно держать научись, а там видно будет.
«Ручник» на языке дальзаводских судокорпусников – обыкновенный молоток. Оказывается, Евгений всегда, если приходилось дома забить гвоздь или еще как-нибудь употребить молоток в деле, держал его неправильно и поэтому неправильно им работал.
Поэтому и ручник: прирученный, безоговорочно послушный человеку молоток, который никогда не ударит своего хозяина по пальцам.
Научиться так работать – нелегко. Но, научившись, эту науку уже никогда не забудешь. Она впитывается в тебя на уровне рефлекса – на всю жизнь. Так, усвоив уверенную езду на велосипеде, можешь потом десять – двадцать лет не садиться в седло. А усевшись – поедешь легко и безбоязненно.
Бригадир едва сдерживает Евгения. А так хочется взяться сразу за ответственную и важную работу!
Наконец ему присвоили рабочий разряд. Чувствует себя настоящим судокорпусником.
Наверное, поторопился чувствовать.
Пришел в бригаду новенький, Вася Мамонов. При работе в паре с ним Евгений – старший. Гордится, но старается не подавать виду. Работа, казалась бы, простенькая: смонтировать бетономешалку. Неизвестно почему, но дело не заладилось с самого утра. Василий предлагает:
– А если сделать не так, а вот эдак?..
Евгений молчит. Подумаешь, первый день на заводе, а уже пытается его учить. Промучились до обеда, а «воз и ныне там».
Поборов собственную гордость, после обеда работает так, как предложил Василий. Злится, но работа идет на лад.
Делает вывод: нос задирать еще рано, еще многому следует учиться и не пренебрегать советами новичка.
И вообще зазнайство – не лучший спутник в труде и жизни в целом.
Вечером – в институт. Евгений, как и все его однокурсники, страдает хронической нехваткой времени. Они все, в том числе и преподаватели, чувствуют, что учебная программа перегружена заводской практикой сверх всякой меры. Но изменить что-либо – не в их силах.
Началась сессия.
Волнуются очень: первая сессия в жизни. К тому же они не только учатся, но еще и работают. Но, на удивление, сессию сдают хорошо.
Наивно думают, что им помогло полкило кускового сахара на двоих, который они с соседом по комнате съедали каждый раз перед экзаменом. Услышали как-то по радио, что сахар способствует умственной деятельности…
Евгений после лекции добирается наконец в общежитие. Поздняя ночь. Устал предельно: весь день пришлось в доке кувалдой «махать», потом высиживать на лекциях, добросовестно конспектируя ученые откровения преподавателей. И все это под гнетом хронического недосыпания и убийственного желания бросить все и сейчас же, немедленно завалиться спасть. И вот наконец он бредет по знакомому коридору общежития. Мысль одна: умыться и в койку.
Ан нет. Из шумной комнаты вываливается какой-нибудь великовозрастный Федя и, разглядев его сквозь туман хмеля, перегораживает коридор:
– Студент, дай трояк на «черпак»…
Как изволите поступить в данном случае?
В кармане брюк тренькают последние перед зарплатой восемьдесят четыре копейки. Их хватит на оплату проезда на трамвае (если не умудрится проскочить «зайцем»), на утренний завтрак в заводской столовой (порция манной каши и стакан чая – шестнадцать копеек, а хлеб и горчица с солью стоят на столиках и всегда бесплатны) и на комплексный обед (борщ, макароны по-флотски, стакан так называемого кофе с молоком – все это вместе тянет на пятьдесят одну копейку). Ужинать он надеется на полученную зарплату.
К тому же, откровенно говоря, не хочется ему давать этому «пропивашке» не только три рубля, которых в настоящий момент у него нет, но и последние восемьдесят четыре копейки, которые сейчас при нем. Не хочется, потому что, во-первых, он не просит взаймы три рубля, а требует «дать» их ему. Получается, что Евгений обязан выплатить этому заполуночному гуляке и его компании какую-то дань, невесть кем узаконенную. А, во-вторых, потому, что деньги он требует на явно никчемное и откровенно вредное, бесполезное дело.
Но Евгений понимает, что в коридорной ситуации отвечать встречному пьянчужке даже мимолетной грубостью – нарываться на скандал и даже на драку. И он лукавит:
– Подожди минутку, я сейчас у парней в комнате спрошу…
И пока одурманенный водкой сосед осмысливает сказанное, он уже в своей комнате. Через пару минут в спортивных брюках-трико, в майке и шлепанцах на босу ногу, с полотенцем через плечо и умывальными принадлежностями в руке он выходит из комнаты. Гуляка терпеливо прислонился в коридоре к стенке. Увидел его и спрашивает:
– Слышь, пацан, к тебе в комнату студент не заходил?
– Нет, – отвечает, – не заходил.
На следующий день Евгений увидел в цехе полуночного знакомца. Лицо бледное, хмурое. Глаза то ли от пьянки, то ли от недосыпа воспаленные, красные. Но работает яростно, обрабатывая заготовки листовой стали для будущей обшивки корабельного борта. Евгения увидел, тоже узнал. Оторвался от работы, жадно отхлебнул от запотевшей кефирной бутылки и, неожиданно, поблагодарил:
– Правильно сделал, студент, что не дал трояк. Та бутылка была бы мне лишней…
Этот, слава богу, осознал. Но случалось иначе.
Долгожданное воскресенье Евгений проводит с утра и весь день напролет в читальном зале. Вечером проголодавшийся, с тяжелой от начитанности головой терпеливо выстаивает длиннющую очередь в столовой общежития. А тут, как нарочно, десяток парней, шумно и бесцеремонно расталкивая очередь, рвутся к прилавку раздачи. Все видят это откровенное безобразие, но все молчат. А он не выдерживает:
– Парни, имейте совесть! Здесь все голодные. Все хотят быстро покушать, не только вы…
В ответ неразборчивое бурчание, тяжелые взгляды. Но нарушать очередь наглецы перестали, чинно заняли свое место в самом конце. Казалось бы, инцидент исчерпан.
Но не тут-то было. Отужинав, Евгений заходит в коридор общежития, а «пристыженные» им уже толкутся здесь, его поджидают. «Великолепная» десятка. Увидев его, окружили волчьей стаей: вот-вот кинутся, забьют-затопчут. Он прижался спиной к стене: главное, не получить удар сзади, да еще по голове.
Мимо них тенями прошмыгнули двое парней: соседи по комнате. Увидели, мгновенно оценили ситуацию и растворились призраками. Поистине друзья познаются в беде: никто из них не пожелал получить по физиономии. Разбирайся, мол, сам.
Он не стал ждать, когда на него нападут. Ударил первый. Для «волков» этот выпад оказался неожиданным: один в нокауте, второй – в нокдауне, а он в этот миг прорвался на лестничную клетку, но не побежал, встал в боксерскую стойку: нападайте!
Но «храбрецы», поняв, что не на того нарвались, решили на рожон попусту не лезть. Осознали. Матерясь и угрожая, вытолкнулись в узкую дверь на улицу.
А Евгения душила обида и на «врагов», и на прошмыгнувших мимо «друзей». Тогда он еще не знал, что друг – это не тот, кто способен за пару дней до получки снисходительно дать тебе в долг три рубля. И не тот, кто в течение нескольких лет терпеливо делит с тобой комнату в общежитии, не скандаля и примиряясь с твоим характером. Значительно позже, пережив множество передряг, он узнал истинную стоимость дружбы и слова «друг». Но так обидно, как после этой стычки с десятком трусоватых подонков ему никогда больше не было.
…Когда Женя учился уже в десятом классе, в школу пришел матер спорта в легкой весовой категории, чтобы организовать секцию бокса. Это было его комсомольское поручение. Парень этот работал на шахте вместе с Жениным отчимом, и поэтому был немножко знаком. Впрочем, дело не в этом. Дело в том, что школьники с радостью откликнулись на призыв мастера спорта. Правда, энтузиастов «мордобоя» оказалось не очень много. Но они-то и стали основой спортивного боксерского кружка. Естественно, среди приверженцев школьного бокса был и Женя. Правда, через пару занятий кружок сделался совсем уж крохотным – четыре-пять человек. Остальные, получив первые синяки на тренировках, получить вторые уже не пожелали.
Понятно, что школа не могла порадовать обилием спортинвентаря. Но и тот, что был (штанга, скакалки, две пары боксерских перчаток и боксерская «лапа» – плоская толстая перчатка с мишенью, которая использовалась для отработки точности ударов), дополняли методом «самодеятельности». Например, в качестве боксерской груши использовали резиновую камеру от волейбольного мяча. К тому же дома в сараях у каждого, кто остался в секции бокса, появились подвешенные к потолку мешки, туго набитые опилками, на которых отрабатывали силу удара.
Как-то «комсомольскообязанный» мастер спорта по боксу пришел к отчиму по какой-то надобности. И отчим, пряча лукавую усмешку, выговаривал добровольному тренеру:
– Сынок-то мой по твоему наущению все мешки поразбивал. Теперь и картошку хранить не в чем…
Больших высот в боксе Женя не достиг, совсем немного не дотянул до первого разряда. Провел несколько квалификационных боев, два из которых проиграл по очкам, а в самом первом бою даже побывал в нокдауне. Но боксерские навыки ему пригодились в жизни. Да еще как!..
На работе обстановка несколько иная. Здесь «обмыть» с бригадой первую зарплату – дело святое. Правда, бригадир контролирует:
– Ты, Женя, на нас не смотри. Мы мужики здоровые, тренированные. Поэтому полстаканчика булькни и хватит. Отдыхай.
Впоследствии от приглашений участвовать в выпивках в день аванса и в день получки – традиция есть традиция – Женя отказывался вежливо, но решительно:
– Извините, парни, но мне в институт нужно бежать.
И парни снисходительно басят в ответ:
– Учись, студент.
Но насмешки в этом их «учись, студент» – ни грамма. Скорее уважение и в какой-то степени даже нотки почтительности проскальзывают: вот ведь мальчишка, а какой упорный. Другие пацаны в его возрасте гуляют, по улицам шлындают, в кино ходят или в сквериках водку тайком пьют, а этот от всех удовольствий жизни отказывается, только бы учиться.
Нет, от «всех удовольствий жизни» он не отказывался.
Он тоже при случае и в кинотеатре любил побывать, и на пляже поваляться, да и просто по Владивостоку побродить, его красотами полюбоваться. Но – при случае.
Правда, таких случаев немного в производственно-учебной жизни. Да и те необходимость учебы зачастую аврально отменяют. Вот комитет комсомола дважды орденоносного Дальзавода постановил: в целях развития физкультуры и спорта силами заводских комсомольцев построить в жилом микрорайоне Дальзавода спортивную площадку. Формально это постановление Евгения вроде не касается: он – студент политехнического института. Но живет он в общежитии завода, расположенном именно в этом микрорайоне, и работает на Дальзаводе. Остаться в стороне от строительства по меньшей мере неэтично. И, махнув рукой на личные «культмассовые мероприятия», он впрягается в строительство наравне с дальзаводскими комсомольцами…
Субботы в ту пору были рабочими. Но – укороченными. Заканчивался субботний рабочий день в два часа пополудни. Словом, времени на подготовку к семинарам, на подготовку курсовых работ почти не оставалось. Студенты-работяги стояли перед дилеммой: или отсыпайся и готовься к отчислению из института за неуспеваемость, или учись с полной отдачей. Евгений предпочитал полную отдачу.
И все-таки как бы ни было трудно, а некоторые плюсы в хрущевском нововведении для будущих инженеров, конструкторов кораблей и руководителей производства все-таки были! Первый, и как считал Евгений, самый главный: он прикоснулся, как говорят ученые мужи, к психологии производственного коллектива.
Правда, это прикосновение было еще неосознанным, слепым. Так, скульптор, разглядывая глыбу мрамора, еще не знает, что из этой разновидности известняка получится статуя Венеры Милосской, на тысячелетия покорившая человечество. Он пока лишь предполагает, что изваяет богиню и обязательно прекрасную. И великий Пушкин, создавая «Евгения Онегина», едва ли знал наперед, глядя на первый, еще чистый, лист будущей рукописи, что четвертую главу романа он начнет изумительно точным утверждением:
– Чем МЕНЬШЕ женщину мы любим, тем ЛЕГЧЕ нравимся мы ей…»
Но загляните в мастерскую настоящего скульптора, всмотритесь в бесценные рукописи великих писателей и поэтов, вдумайтесь в несчетное количество ударов, сделанных молотком скульптора, создавшего именно Венеру Милосскую, попытайтесь перечитать чирканные и перечирканные Пушкиным правки к сотням строчек, к тысячам слов только в «Евгении Онегине», и вы, возможно, догадаетесь, насколько титаничен труд творца. А начинается он всегда и у всех с первого прикосновения к безликому камню, с тревожного взгляда на белый листок бумаги или на не загрунтованный еще холст будущего «Явления Христа народу»…
Инженер – организатор, а если хотите по большому счету – создатель производства и всех его составляющих: уверенной и сплоченной работы коллектива, безаварийной эксплуатации станков и механизмов, полного и своевременного снабжения предприятия необходимыми материалами и товарно-материальными ценностями…
Но толковый инженер, настоящий организатор производства, начинается именно в студенческие годы, с первого прикосновения во время производственной практики к познанию психологии рабочего коллектива.
Для Евгения это прикосновение, расширяясь и углубляясь, продолжалось два с лишним долгих и тяжелых года начальных курсов учебы, насыщенной вечерними лекциями преподавателей в засыпающих аудиториях (занимались ежедневно с 18 до 22 часов, т. е. по две лекционные «пары»). Студенты сидели, оглушенные за день грохотом пневматических инструментов в доке, ослепленные шипящими вспышками электросварки. Они насильно заставляли себя думать, воспринимать и анализировать услышанное на лекциях…
Евгений работал судосборщиком на Дальзаводе, и его нередко ставили в бригаду по очистке подводной части корпуса корабля. Верхняя «шуба» или «борода», как ее называли рабочие, снималась с бортов и днища легко. Ее счищали широкими деревянными лопатами, причем старались сделать это до устройства лесов. Оказавшиеся на подошве дока моллюски и водоросли начинали гнить, и запах этот пропитывал воздух вокруг дока на сотни метров. А вот въевшиеся в корпус морские организмы приходилось отбивать специальными пневматическими молотками с пучками гвоздей или пневмотурбинами с жесткой проволокой. Судосборщики и маляры начинали работу, подключая тяжеленные резиновые шланги, длиной до 30–50 метров к проложенной по подошве дока системе сжатого воздуха, к так называемым «лягушкам», открывали вентиль, затаскивали пневмоинструмент на самый верхний ярус лесов и… визг турбинок и грохот молотков был слышен даже в близлежащих к заводу домах.
Мастер мелом намечал для каждого рабочего участок борта, который надо было очистить до блеска. Вот и здесь надо было расставлять ориентиры, чтобы хватило сил выполнить норму выработки до конца смены. А норма была такая, что, как говаривал бригадир Володя Калякин:
– За турбинкой или молотком бежать надо, чтобы ее – эту норму, выполнить.
Евгений учился неплохо и даже получал повышенную стипендию. За все время учебы он ни разу не нарушил срока сдачи курсовых проектов и ни разу не воспользовался шпаргалкой, и все до единого конспекты лекций хранятся у него до сих пор, за исключением одного. Этот конспект выклянчили два однокурсника-разгильдяя якобы для подготовки. А сами «раздербанили» тетрадку на шпаргалки.
Был один случай, когда вытащив билет по судовой энергетике, он с ужасом понял, что на него не сможет ответить. Евгений пропустил подряд несколько лекций по этому предмету, потому что ходил разгружать вагоны на рыбную базу. Работали по ночам, немножко отоспаться не мешало бы.
Доцент Фролов, к которому он подошел и, покраснев, твердо заявил, что не сможет ответить на вопросы билета, внимательно посмотрел на него, полистал зачетку и сказал:
– Придите на экзамен через два дня вместе с другой группой.
По этому предмету он получил пятерку, а мог бы и с «хвостом» ходить.
Евгений быстро подружился со многими парнями не только в своей группе, но и с однокурсниками из других групп и факультетов. В выходные дни они дружно «шлялись» по Владивостоку, дотошно изучая город.
Итак, воскресенье. Солнечное. Тихое. Приветливое.
В кинотеатре «Комсомолец» идет какой-то популярнейший фильм импортного производства. Очередь в кассы – не пробиться. Евгений и несколько однокурсников отправились гулять с единственной целью: во что бы то ни стало попасть на сеанс этого фильма. Среди них был и Борис – бойкий, нагловатый паренек, с которым Евгений учился в одной группе.
Пришли к кинотеатру. Длиннющая очередь змеилась по тротуару от билетных касс почти к зданию Дома офицеров флота. Ребята было приуныли. Часа два, а то и три придется стоять. Однако Борис, собрав с них деньги, сделал успокаивающий жест рукой:
– Не волнуйтесь, парни.
Расталкивая стоящих, наш дружок начал пробиваться к кассам. В очереди, естественно, пытались возмущаться. Но Боря и внимания не обращал на робкие высказывания протестующих, уверенно и быстро продвигался к заветному окошечку. Когда до намеченной цели оставалось метра три, его остановил какой-то мужик и попытался сделать внушение. Но Боря коротко и незамысловато послал этого «воспитателя» куда подальше, и уже через пяток минут вынырнул из густой толпы киноманов, радостно размахивая веером билетов.
Кино посмотрели.
А на следующее утро Борис нос к носу сталкивается в институтском коридоре со своим вчерашним «наставником» из очереди за билетами. «Мужик» оказался деканом кораблестроительного факультета, профессором Николаем Васильевичем Барабановым. Тот, узнав наглеца, незамедлительно потребовал у Бориса студенческий билет, внимательно изучил синюю книжицу и выдал своему подопечному длиннющую нотацию о правилах поведения в общественных местах, заключив ее грозным предупреждением:
– Я теперь за тобой буду следить, пока ты учишься. В общем, берегись!
Студенты переходили с курса на курс. Борис числился в почти отличниках, но обходил Барабанова десятой дорогой, всячески избегая непредвиденных встреч с ним, и вел себя тише воды, ниже травы. Его нагловатость после той встречи испарилась без следа. Скромняга – на загляденье.
И вот заключительный аккорд учебы – защита дипломного проекта.
Когда наступила очередь вопросов со стороны членов государственной комиссии, председатель спросил Барабанова:
– У вас есть вопросы, Николай Васильевич?
Борис, стоя у доски с развешанными на ней чертежами своего дипломного проекта, напрягся до окаменелости, ожидая убийственной каверзы от декана. Но Барабанов – тонкий психолог, прекрасно понимая состояние Бориса, пристально посмотрел на застывшего дипломника и медленно, почти по слогам, ответил:
– У меня нет вопросов.
Сползая по стенке, обрывая спиной собственноручно развешанные чертежи, Боря рухнул в глубокий обморок.
…Сдаточная команда, в составе которой Евгений возвращался с испытаний подводного аппарата. Испытания оказались тяжелыми, опасными и изнурительными. В какой-то момент при контрольном погружении команда в буквальном смысле едва не пошла ко дну. Выручили слаженные действия испытателей.
Катер высадил сдаточную команду на тридцать третьем причале, но служебный автобус почему-то не пришел, и было решено ехать по домам на городском трамвае. Время приближалось к полуночи. Августовская жара и высокая влажность воздуха пошла на убыль. Усталость валила с ног. С трудом дождались трамвая, полупустого в это ночное время, загрузились и блаженно расположились на жестких трамвайных сиденьях.
Трамвай уныло погромыхивал на стыках рельсов. Ни шевелиться, ни разговаривать не хотелось. Каждый из членов команды, переполненный пережитыми тревогами минувших испытаний, терпеливо предвкушал прелести домашнего отдыха.
На ближайшей остановке в переднюю дверь вагона ввалилась компания подвыпивших юнцов. Один из недорослей схватил за шиворот пожилого мужчину, одиноко сидевшего на первом сиденье.
– Ну-ка, дед, вали отсюда!
Под одобрительный гогот дружков этот лиходей вытолкал мужчину в центр передней площадки, а сам довольный, плюхнулся на «завоеванное» сиденье. Когда униженный человек, едва устояв на ногах, неловко отвернулся к трамвайному окну, на его пиджаке стало видно несколько рядов орденских планок. Он что-то попытался гневно выговорить юнцам, но те продолжали гоготать, показывая фронтовику угрожающие и непристойные жесты.
Сдаточная команда находилась на задней площадке, но можно было разглядеть налитые желваки на скулах и бессильную ярость в глазах оскорбленного человека, лишенного возрастом сил постоять за себя.
Редкие пассажиры трамвая безмолвствовали.
Евгений уже привстал, чтобы вмешаться в происходящее. Но его опередили члены сдаточной команды. Здоровые парни, не перемолвившись ни словом, неспешно подошли к резвящимся во хмелю юнцам. Один из сдатчиков раздвинул руками входную дверь и так держал ее, пока остальные двое спокойно, словно на тренировке по баскетболу, выбрасывали, как лягушат, из неспешно бегущего по ночной улице трамвая одного за другим опешивших и перетрусивших наглецов.
И так же неторопливо, как только что швыряли из трамвая подростков, парни вернулись на свои места, на тряскую и грохочущую заднюю площадку трамвая.
Вагоновожатая, осмыслив случившееся, невнятно бормотала про то, что, мол, ей попадет за высадку пассажиров на ходу. Немногочисленные пассажиры безучастно уткнулись в окна.
А трамвай вдруг весело и резво побежал к следующей остановке, торопливо пересчитывая стыки…
Усталости как не бывало. Евгений сидел и молча размышлял. Может быть, все-таки не в исторических катаклизмах дело? Может быть, в самих людях? Ведь и во время Иисуса Христа были Иуда, Понтий Пилат и Левий Матвей…
После второго курса у студентов-корабелов были технологические и производственные практики. Летние. Короткие. Но и они добавляли в копилку опыта новые и новые крупицы знаний не только о судостроении, но и о психологии коллектива.
За тысячу верст от Владивостока, в черноморский город Николаев мчит студентов-практикантов поезд. Мелькают километры, вместе с ними мелькают путевые дни и ночи.
От Приморья до Новосибирска состав тащили старенькие паровозики, больше похожие на купеческие самовары, созданные в дореволюционные времена. Потом их сменили свежеокрашенные тепловозы, и сажа из паровозных топок перестала пачкать лица. А по советской Европе в голове состава уже мчался электровоз.
Все внове.
После Сибири – перенаселенная европейская часть страны. Ощущение, что хуторки и деревеньки стоят у каждого телеграфного столба. Как только люди здесь размещаются?
Оказывается, и размещаются, и живут сытно. Если на полустанках Сибири встречали вареной картошкой да пирожками с той же картошкой, то здесь – глаза разбегаются! Пирожки не только с картошкой, но и с мясом и со всевозможными вареньями. А еще – первые помидоры. Крупные, толстощекие, совсем по вкусу не похожие на выросшие в Приморье. И яблоки пахучие… И всюду призывное:
– Хлопец, покупай пирожки свежайшие! А вот черешенка спелая, сладенькая! Яблочки наливные!..
Глаза разбегаются, уши глохнут от воплей вокзальных торговок.
Все бы купил!
Все бы съел! Но студенческий бюджет скуп и не позволяет расщедриться.
А вот и Москва. Столица! Здесь предстоит пересесть на другой поезд. Ждать его нужно двое суток. Две ночи. Два дня.
Дождемся.
А пока бродим по Белокаменной. Почему Белокаменная?
Вот – Кремль. Стена вокруг него кирпичная красная. Мавзолей на Красной площади, так тот вообще бордово-черный, гранитный, кубический. И Военно-исторический музей тоже из красного кирпича сложен. Где же воспетая поэтами белокаменность столичная?
Она за кирпичной стеной, на территории Кремля. Там храмы белостенные, там алмазный фонд страны, там тихо и величественно дремлет История России.
Впечатлений – не счесть. Восторгов больше, чем волн в Амурском заливе! И все-таки была ложка дегтя в бочке меда: ночевать пришлось на переполненных московских вокзалах.
Отночевали.
Наконец, черноморский город Николаев. Город солнца. Как повиснет слепящий шарик мирового светила над головой, так и висит весь день. И не спасает от палящих лучей ни зелень деревьев, ни черноморская вода. Уже на второй день с практикантов полезла кожа (называется – позагорали).
Получили пропуска на завод. Махина! Город в городе!
На заводе острая нехватка в рабочих. У студентов просят помощи. И вполне обоснованно: каждый из них уже имеет специальность судоремонтника (сказалась двухлетняя практика на Дальзаводе). Долго раздумывают над предложением поработать на Николаевском судостроительном заводе: начни работать на заводе – потеряешь стипендию. Заработок не намного превысит ее. Останешься просто практикантом – сохранишь стипендию. К тому же в качестве практикантов заняты неполный рабочий день, а это позволяет чаще и дольше бывать на пляже, загорать, купаться на Черном море. Но… замучает совесть.
Что-то не додумали в министерстве, не выдавая работающим студентам стипендию во время практики. Конечно, многие приняли предложение, стали работать штатными судосборщиками. Пригодились навыки, которые приобрели еще на Дальзаводе.
А в бригадах студентов приняли хорошо. Рабочий люд уважительно относится к тем, у кого умелые, сноровистые руки.
Много дала практика. Прежде Евгений не представлял: как можно без кувалды выправить бухтины? Оказывается, существует метод «безударной правки металлических листов». Он требует незначительных затрат труда, но больших знаний и опыта.
Здесь, в Николаеве, он впервые во всей красе и объеме увидел, как рождается судно, впервые сполна понял, какой титанический труд необходим для его создания. А главное, увидел, как умеют работать настоящие судостроители.
…И вот снова институт. Снова лекции, лабораторные занятия и снова знакомое:
– Елки-палки! Опять курсовой поджимает!
После четвертого курса – производственная практика на Николаевском-на-Амуре судостроительном заводе. Участие в строительстве атомной подводной лодки первого поколения.
После пятого курса – практика в конструкторском бюро в Ленинграде.
Работа над чертежами парома. Работа – не чета напряжению в доке или на стапеле. Здесь тишина. Здесь кульманы почтительно подставили свои плоскости под белоснежные листы ватмана. И только едва слышный шорох карандаша по бумаге.
Но гордости – не меньше, чем после практики на заводах: построят рабочие судно, и кто-то из них, может быть, даже знакомый Евгения по прежней работе, будет устанавливать детали по чертежам, которые он разработал в этом конструкторском бюро…
А через несколько лет тот паром, участие в проектировании которого он, как практикант-студент, принимал, пришел во Владивосток и встал на линию Владивосток – остров Русский. Евгений поздоровался с ним, как здороваются с близким родственником после долгой разлуки…
Все знакомое, а все всегда изначально новое. И ничего в том удивительного нет: наша жизнь – вечный старт. От одной дистанции к другой.
Старт без заранее намеченного финиша.
…Стипендиальных денег катастрофически не хватало. Уповать на финансовую поддержку родителей – безнадежно. Им самим едва хватало на содержание младших братьев и сестры. Вот Евгений и вынужден, как и большинство друзей-студентов, ночами разгружать в рыбном порту трюмы транспортных рефрижераторов. Такая жизнь «на износ» научила его быстро и точно определять, годен этот человек быть напарником «в разведке» или нет.
Сам он всегда страшился показаться слабаком в глазах окружающих. Из-за этого однажды жутко оконфузился. После очередной ночной разгрузки парохода ребята, вместе с которыми Евгений всю ночь работал в рыбном порту, решили не идти на лекции, а вдоволь отоспаться. А Евгений поперся на занятия: не хотелось выглядеть слабаком.
Однако, как известно, человек предполагает… На лекции профессора Николая Васильевича Барабанова он самым бессовестным образом заснул. Конфуз казался еще более сильным от того, что, демонстрируя свою любовь и привязанность к учителю, он всегда на его лекциях садился за первую парту. Увидев спящего, Николай Васильевич подошел и хотел было отчитать его, но кто-то из студентов опередил профессора:
– Он всю ночь в порту работал, пароход разгружал.
Николай Васильевич не стал читать нотацию, но пальцем погрозил-таки, а затем оставшиеся до конца лекции полчаса рассказывал, как в четырнадцать лет пошел работать разносчиком газет и как подрабатывал вместе с друзьями-однокурсниками, когда сам был студентом.
Об этом случае можно было бы и не вспоминать, если бы не одно обстоятельство: профессор продемонстрировал свое уважение, узнав причину сонливости. Более того, он не постеснялся объяснить присутствующим и мотивы этой демонстрации: я сам, мол, работал по ночам, когда учился в институте, и прекрасно знаю, насколько мучительно сидеть на лекции после изнурительной ночной работы.
На одном из экзаменов по конструкции судов Евгений запутался в формулах по сопромату. Николай Васильевич с нескрываемым интересом посмотрел на него и неожиданно заявил:
– Ставлю тебе «отлично», но осенью придешь ко мне, и буду гонять тебя по сопромату. Хотя это и не мой предмет.
Все время летних каникул Евгений штудировал курс сопротивления материалов, а когда в сентябре подошел к Барабанову и сказал, что готов к «гонке по сопромату», Николай Васильевич ограничился коротким кивком головы:
– Ну и хорошо. – И вышел из аудитории.
Удивлению Евгения не было предела.
Каждой осенью студенчество Советского Союза отправляли в колхозы на помощь трудовому крестьянству собирать урожай.
В начале третьего курса факультет в полном составе должен был собрать «невиданный» урожай картофеля в деревне Сиваковка, расположенной недалеко от красивейшего озера Ханка.
Однажды ребята предложили Евгению смотаться в Уссурийск, где жили его родители, за охотничьим ружьем, – ведь столько уток и фазанов пропадает зря! Сказано – сделано. Через сутки он привез дробовик и патроны к нему.
Осень в Приморье всегда стоит благодатная. Чистое без единого облачка небо, яркое как бы улыбающееся солнышко, сочно-зеленые совсем не тронутые осенью деревья и кустарники. Все еще по-летнему яркие цветы, мириады стрекоз, кузнечиков и божьих коровок. Напоминали об осени только растянутые сети паутины, центр которой обязательно занимал паук, величиной с детский кулачок, да невообразимой красоты и размеров бабочки-махаоны. Часов в пять утра трое студентов во главе с Евгением выбрались на крыльцо сарая, где спали на полу, покрытом сеном в притруску, их товарищи-ударники сельскохозяйственного труда.
Опьянев от первозданной красоты, не проронив ни слова, они впитывали в себя хрустальный до звона воздух.
Напротив крыльца, метрах в тридцати, был устроен небрежно сбитый из досок туалет, типа сортир, больше похожий на скворечник, с многочисленными щелями и с прорезью в верхней части двери в виде сердечка.
Оттесняя вышедших могучим плечом, на крыльцо вывалился спортсмен-самбист Витя Гусев. В руках у него был дробовик Евгения.
– Щас вжарю, – прицелился он в дверь туалета.
– А, может, кто там есть? – забеспокоился кто-то из ребят.
– Эй, выходи, подлый трус! – заорал Витька и нажал курок. Дверь туалета открылась и из нее вывалился на полусогнутых ногах с приспущенными штанами… руководитель колхозной практики. Подвывая и что-то приговаривая, он на корточках стал быстро передвигаться к крыльцу сарая. Студентов как ветром с него сдуло.
Кончилось это происшествие тем, что из тела руководителя практики извлекли несколько десятков неглубоко засевших дробин, а дробовик надежно запрятали и уже никогда не доставали до окончания колхозной повинности.
Руководитель был молодым преподавателем, направленным в институт по распределению после окончания университета, и вести он должен был то ли математику, то ли физику.
На следующий день он выехал во Владивосток и в институте больше не появлялся. Студенты еще месяца два ждали последствий и разборок, но ничего этого не случилось.
…В один из вечеров, проходивших в Уссурийском Доме культуры Чумака и посвященных Дню Советской армии и Военно-морского флота, и познакомилась Светлана со студентом Евгением, которого по непонятным причинам занесло в этот Дом культуры. Кавалер, пригласивший на танец, поразил тем, что обозвал ее прическу «я у мамы дурочка». А потом были встречи, провожания, поцелуи в подъездах близлежащих домов. Короче, все как у людей. Долго Светлана не могла поверить, что ее ухажер топает после каждого свидания восемь километров пешком, в том числе по Пушкинскому мосту, пользующемуся у жителей Уссурийска дурной славой. Именно там происходили ограбления и другие, леденящие душу, криминальные случаи. Но бог, видимо, хранил зарождающиеся чувства. За все время «ухажерства» только один раз произошло нападение, но влюбленного спасли занятия спортом (боксом и в первую очередь бегом).
Каникулы пролетели как один день. И однажды вечером Светлана проводила Евгения к автобусной станции во Владивосток.
На их долю остались только вечерние встречи два раза в неделю (суббота, воскресенье, да и то не всегда), да письма.
После этих свиданий и поцелуев у Светланы «облезала» кожа на щеках и она не раз говорила Евгению, что ей стыдно ходить на работу с таким ободранным лицом. Евгений клялся, что брился…
Они договорились писать письма друг другу через каждые два дня. В одном из первых писем Евгений писал:
«Здравствуй, Света!
Если бы ты знала, как я ждал твоего письма. Дни подсчитывал, и вот получил долгожданное. Можно, Света, я не буду отвечать на твои вопросы, ибо мы встретимся скоро и обо всем поговорим?
Меня, правда, покоробило от того, что ты назвала прошлое мое письмо “сочинением”. Ты ведь, наверное, подразумевала под этим словом что-то надуманное, неискреннее, может, даже выписанное из книги, только я тебе писал все, о чем думал не один день, и не одну ночь. Малый срок неделя, а всю душу перевернуло!
А у нас, Светланка, начались обычные “трудовые будни”. Уже выдали курсовой проект. Завтра буду сдавать “тыщи” по английскому, ну и занятия 8 часов в день.
Посмотри кино “Коллеги”. Вот фильм!
Обязательно сходи, посмотри, подумай.
Мне как будто не хватает тебя, и хотя ускользают из памяти отдельные черты твоего лица, ты, Светка, даже снишься мне.
А ты так и не написала: нужен я тебе или не нужен. Не ахти какое расстояние – 100 км, а все-таки видеться мы будем редко.
Подумай, Светланка, мне еще как “медному котелку” служить, как говорил Александр Петрович (муж сестры Октябрины. – Примеч. авт.), и ничего, кроме дружбы и любви, кроме сердца и самого себя, я тебе передать не могу. Ведь я всего-навсего студент.
Пойми меня правильно, может, и не следовало об том писать, но ведь это правда.
Вот и все новости, если не считать того, что тоскую я по тебе. Правда, я стараюсь так день заполнить, чтобы не лезли в голову разные мысли, но приходит пора ложиться в постель, и начинается “качка с борта на борт” и “мысли в голове волнуются в отваге”.
Света, я приеду в Уссурийск в субботу, т. е. 16 марта и приду к тебе в 9.00, выйди, пожалуйста.
Ну вот, пожалуй, и все.
До скорой встречи, целую!
Твой Евгений»
Светлана отвечала:
«Здравствуй, хороший мой!
Женя, я от души смеялась, когда ты написал, что, едва земли касаясь, мчался на вокзал. Не представляю, как можно было перепутать путь, ведь там только прямая дорога.
Женя, ты мне пишешь такие хорошие письма, что читаю их, и у меня становится теплее на душе. А мне сейчас очень тяжело. Вообще одни переживания. Все время чего-то ждешь страшного. И твои письма, как “лучи света в темном царстве”. У мамы почти никаких улучшений нет. Состояние очень тяжелое. А ко мне начинают въезжать мои “квартиранты” (семья брата Ивана. – Примеч. авт.). Скоро мне будет веселее. Но ничего, все проходит и я все-таки не теряю надежды на лучшее будущее. Женя, а ты ведь такой хороший. Ты мне кажешься самым лучшим из всех (может, я ошибаюсь?). А ведь в начале нашего знакомства ты мне совсем не понравился. Ты, наверное, меня “заколдовал”. Ты просто вдохнул в меня веру во что-то хорошее, чистое, без лжи и фальши. И я очень хочу, чтобы это хорошее ничем не омрачалось гаденьким. (Женя, а вдруг ты ведешь просто какую-нибудь “игру в любовь” для большего опыта.) Ты не обижайся на мои подозрения, ведь так тоже бывает. У меня такого еще не было, но как наслушаешься всяких “любовных историй”, так всякие подозрения лезут в голову. Конечно, если бы у меня к тебе ничего бы не было, то я этого бы не написала, а поэтому я хочу сразу выяснить.
Да… Проводила я тебя, вернее, твой силуэт в окне автобуса, и, споткнувшись всего один раз, пошагала вперед. Правда, дошла благополучно без всяких происшествий. Только вот ты мне всю ночь снился, как будто мы с тобой ходили по вокзалу, по каким-то лужам… и вдруг звонок, я просыпаюсь, уже 8 часов. Так я тебя и не проводила, и на работу чуть не опоздала.
Ну, наверное, хватит, а то я еще к чему-нибудь придерусь.
Пиши письма поскорее и побольше.
А моей маме стало лучше. Возможно, скоро выпишут из больницы.
Люблю, целую.
Твоя Светлана»
Иногда Евгений присылал, как ему казалось, шутливые письма:
«Доброго здоровья, Светлана Ивановна!
На таком “большом” расстоянии от Уссурийска Вы предстаете перед нами во всей своей монументальности.
С тех пор, как вы уехали от нас, мы сразу же заметили, что с деревьев в массовом количестве стали опадать листья, краснея и желтея на лету от тоски.
Ваше отсутствие отметилось еще и тем, что небо пролило столько слез от скуки, что в море еще больше стало воды, причем, надо сказать, очень соленой и сильно мокрой.
Все птицы улетели прочь, и день нам кажется за ночь.
Все звери спряталися в норы, и, кажется, что провалились горы (т. е. сопки)…
Очень спешу и очень прошу: будьте здоровы и будьте готовы преодолевать все, что мешает жить!
Привет взрослым, детям, всем, всем, всем.
Скучаю, жду встречи и “ответа, как соловей лета”.
С поклоном Ваш самый пылкий поклонник Евгений Петрович».
И получил в ответ:
«Дорогой мой! Ненаглядный!
Здравствуйте Вам, Евгений Петрович!
Пишет Вам “мученица” прошедшего воскресенья. В результате Вашего посещения у меня три дня болел палец и к этому же моя бедная борода в пятый раз “облезла”.
Ох, болять мои раны, болять. Ну, ладно, переживем. Но в следующий раз я Вам отомщу! И за “монументальность” особенно.
Пишу, не дожидаясь Вашего письма (ради уважения, конечно).
Женя, я не смогу приехать в воскресенье, т. к. у нас заболела манекенщица, и я должна буду ее заменить. Еду в Новоникольск. Предстоит пренеприятнейшее занятие, но меня заставили…
Пиши, как ты поживаешь. Жду твоих писем и тебя.
Люблю, целую. Твоя Светка.
P.S. Жень, ну напиши, почему ты забрал свои стихи?
А то я умру от любопытства».
С удивлением Светлана обнаружила, что ждет с нетерпением эти кажущиеся такими короткими встречи-свидания. В кино и на танцы они уже не ходили, времени и так не хватало, хотя расставались они в 2–3 часа ночи. Оказалось, что Евгений знает наизусть множество стихов, рассказов, просто анекдотических случаев, так знакомых по жизни. А однажды он прочитал ей свои собственные стихи, честно признавшись, что написал их уже давно для незнакомой девушки, с которой мечтал когда-нибудь встретиться:
Ты, березка стройная, Нежная, кудрявая, Что весною скроена, Гордой, величавою… Лечь перед тобою бы Шелковой тропинкою, И идти с тобою бы Шапкой-невидимкою. Крышею прозрачною Над тобой раскинуться. Если тучки мрачные За тобою ринутся, Подхватить бы на руки, И к груди прижать Золотым фонариком И бежать, бежать…Светлана не сдержала смеха, услышав последние строки стихотворения и, представив, как он будет надрываться, взяв ее на руки. Хрупкой она себя отнюдь не считала. Узнав причину смеха, Евгений довольно легко подхватил ее на руки и закружился на месте. А потом был первый поцелуй…
Однажды он принес ей книгу «Мартин Иден» Джека Лондона с дарственной надписью: «Светлане, в память нашего знакомства. Уссурийск. 23 февраля».
Честно сказать, чтением она до сих пор особо не увлекалась. Но потом, как-то незаметно для себя, втянулась и уже не мыслила свою жизнь без книги. Летом Евгений уехал на практику на Николаевский судостроительный завод на Украине. Это была их первая длительная разлука. Кто тогда мог предположить, что таких разлук в их жизни будет немало? Что будут еще практики, морские походы и испытания кораблей, и что надо будет овладевать таким искусством, как ожидание. Ожидание встречи – продолжение любви…
Отдушиной в разлуках были письма. Светлана с нетерпением ждала того мгновения, когда открывала почтовый ящик и к не в руки попадал заветный конверт. Видимо, у Евгения в то время уже проклюнулась тяга к сочинительству, и она с удовольствием перечитывала письма и не раз, и не два. Многие письма заканчивались стихами. Особенно она запомнила это стихотворение:
Я люблю получать твои письма На распутье нелегких дорог… Я люблю получать твои письма, Целовать теплоту скупых строк. Я люблю вспоминать твои губы, И мне хочется прямо сейчас Раствориться в зеленой глуби Твоих ласковых, преданных глаз. Я люблю радость бурную встречи И в глазах слезы счастья ловлю. Я люблю твои руки и плечи… Я люблю! Я люблю! Я люблю!Писем накопилось много. Ни она, ни Евгений их не выбрасывали. Большая картонная коробка путешествовала с ними по городам и весям. Светлана шутила, что в старости все-таки найдет время, чтобы их все перечитать.
Осенью Светлана пригласила своего студента на поездку в тайгу для сбора дикого винограда. Эту поездку организовал муж сестры Октябрины. Ехать пришлось на крытом брезентом грузовике. В кузове разместилось человек десять, в основном женщины. Грузовик мчался, подпрыгивая на ухабах. Парочка накрылась каким-то покрывалом и самозабвенно целовалась. А когда на особенно большом ухабе они выглядывали из-под этой хламиды, то ловили на себе завистливые и все понимающие, с легкой грустинкой женские взгляды.
Для них уже все осталось в прошлом, а для этих двоих только начиналось. Лицо Светланы заливалось краской, и она, прикрыв ладошкой припухшие губы, снова ныряла под спасительную ткань покрывала.
Винограда набрали много, но Евгению довезти его до дома не удалось. На злополучном Пушкинском мосту он свалился с велосипеда, и от винограда осталась только сплошная фиолетовая масса.
Скромная студенческая свадьба состоялась 22 декабря в день зимнего солнцестояния – самый короткий день и самая длинная ночь в году. На свадьбу приехала почти вся группа, в которой учился Евгений. Светлана слышала, что потом в институте ему за срыв занятий здорово досталось.
А комитет комсомола института направил им поздравление, выполненное на плотной бумаге с золотым теснением. Но когда его зачитывали, оно упало в свадебный торт, Светлана его подхватила, но следы от торта остались до сего времени. Вот так и закончилась юность. Бодрым шагом надвигалась молодость.
Конечно, студенческая свадьба начала 60-х никакого сравнения с нынешними пышными торжествами по этому поводу не имеет. В назначенное время Светлана с женихом прибыли в Ленинский районный ЗАГС г. Владивостока, где под мелодию «Веселись, негритянка» были произведены необходимые процедурные действия вплоть до традиционного бокала шампанского, и гражданка Потопяк стала Гуримовой Светланой Ивановной.
От той свадьбы у Светланы осталась единственная фотография, запечатлевшая счастливую чету молодоженов перед чиновничьим загсовым столом. Других фотографий не осталось: то ли пленку засветили, то ли фотоаппарат разбили.
Евгению оставалось до окончания института почти три года. Нельзя сказать, что жили они в полном достатке, но и не бедствовали, и даже откладывали кое-что, готовясь к будущему переезду. А ведь жили практически на два дома. Евгений подрабатывал то учителем в школе, то в газете, но каждую субботу (после занятий, конечно) и воскресенье, а тем более праздники, каникулы и дни подготовки к экзаменам проводил в Уссурийске. Светлана жила все в том же одряхлевшем «купеческом» доме на Тимирязевской.
Вспоминая прошедшее время, она невольно отмечала, что эти дни были самыми счастливыми в их жизни.
Студенческие годы Евгения пришлись на конец 50-х – середину 60-х годов, время хрущевской «оттепели», время поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко… время «стиляг», «физиков и лириков».
Евгений выступал с чтением своих стихов на смотрах студенческой художественной самодеятельности, был внештатным корреспондентом краевой комсомольской газеты «Тихоокеанский комсомолец» и передачи Приморского краевого радио «Молодые романтики Приморья».
На одном из творческих вечеров, проходившем в Пушкинском театре, Евгений прочитал свое стихотворение, написанное под впечатлением стихов университетского поэта Ильи Фанькова.
Университетскому поэту Илье Фанькову
Вышел после представленья, В позу аристократическую встал: «Ночью написал стихотворенье»… И аплодисментами ответил зал. Говорил ты о стилягах в узких брюках, Что по Ленинской фланируют подчас, Пряча огрубевшие, мозолистые руки. Только прячут от кого? От нас? Заявлял: «Мы расфранченные мальчишки, Твердой поступью вышагивая в жизнь, С усиками ниткой, модной стрижкой, Мы построим коммунизм!» Но тебе, студент из группы нашей, Коля крикнул: «А еще поэт… Усиками дергая, товарищ, Не построишь коммунизма, нет!» Я живу в рабочем общежитии, Где так много заводских ребят, Где и личное, и в мире все события Общие. Поверь, не захотят В коммунизм пустить вас, «Расфранченных», От безделья вянущих гуляк, В чистоплюйстве барском утонченных, Узких брюками и мыслями стиляг! И не вам, плетущимся по жизни, Заявлять права на тот высокий долг. Если вы нахлебники в социализме, То какой от вас при коммунизме толк?Когда Евгений спустился в зал, его окружила группа студентов из университета. Его оттеснили в угол. Раздались негодующие возгласы:
– Ты на кого голос поднимаешь?
– Да ты знаешь, что Илья – это будущий великий поэт?!
Вот-вот бы начаться потасовке, да тут подоспели сокурсники-самбисты. Хиловатые студенты из университета спешно ретировались.
Коммунизм, как показала жизнь, так и не удалось построить никому из нас, хотя Никита Хрущев обещал построить его в 1980 году…
Евгению даже предложили выступить вместе с другими начинающими поэтами на только что созданном краевом телевидении. От ярких софитов веяло нестерпимым жаром, и пока очередь дошла до него и он прочитал свои стихи, с него сошел не один литр пота…
Однажды за один вечер он написал рассказ «из жизни» и отнес его в молодежную редакцию «ТОКа», так называли газету «Тихоокеанский комсомолец!.
Рассказ назывался «Подарок»:
«До Нового года оставалось две недели. Озорник-мороз безжалостно щипал уши, деревянил руки, забирался под рубашку и холодным комочком прокатывался по всему телу, вызывая неприятную дрожь.
Их комсомольская группа бригадмильцев вышла на очередное дежурство.
– Вот это колотун, – простучал зубами Володя Луцков. – Пойдем лучше в кино, а?.. Ну, разве в такую погоду тунеядцы… – начал было волынить он, но тут же осекся под укоризненным взглядом комсорга Тани Захаровой и пробурчал:
– И пошутить-то нельзя…
Таня глазами показала на идущего впереди Витальку Круглого:
– А ему каково?
На Витальке был старенький плащ, коричневый, потертый на локтях, а около самого воротника протянулась неумелой штопкой дорожка из черных ниток. Старенький плащ вот уже третий год укрывал Витальку от дождя и снега, а вот от холода – вряд ли…
Виталька Круглый учится на третьем курсе механического факультета. Нет у Виталия ни отца, ни матери, может, и фамилия у него такая потому, что круглый он сирота. Еще на первом курсе прозвали его Эдисоном за то, что может он и приемник собрать, и на станке работать, и мотор у автомобиля починить.
Неприметный с виду Виталька: светлые пушистые волосы, немного вздернутый нос с веселыми конопушками и вечно удивленные глаза.
Снимая повязку в штабе дружины, Таня подозвала Луцкова:
– Володя, а что если мы денег у профкома выпросим и Витальке пальто купим, а?
– Жди, так тебе Усаченко и расщедрится! – иронически скривил губы Владимир.
– Эх ты, а еще профорг! – надвинула ему на лоб шапку Таня. – Все-таки Витальке мы сделаем подарок!
Закончилась очередная лекция.
Звонкая трель звонка ворвалась в аудиторию, зашелестели закрываемые конспекты, застучали парты.
Таня выбежала к доске, держа в руках маленький сверток бумаги и, волнуясь, крикнула:
– Ребята, внимание!
Когда шум немного утих, она продолжала:
– Виталька Круглый в лабораторию убежал, так что можно открыть тайну…
– Вот тут… – она подняла высоко сверток, – 35 рублей! У профкома выпросили, чтобы Витальке пальто купить! Это ему наш подарок к Новому году! Надо только обсудить, решить, кто в ГУМ пойдет, ну и кто вручит подарок.
– Зачем покупать? – возразил кто-то. – Купишь пальто, а оно или тесным окажется, или цвет Эдисону не понравится. Надо отдать Витальке деньги, и пусть он себе по вкусу пальто выберет.
– А что, правильно! Неплохо придумано, – зашумели, одобрили ребята.
На следующее утро Володя, сгорая от любопытства, заглянул в комнату к Витальке. Изумленно вытянулось лицо у Володи, когда он увидел на вешалке старенький плащ со знакомой штопкой у воротника, а на столе у Виталия новенький трансформатор и разноцветную горку сопротивлений, конденсаторов и картонные коробочки радиоламп».
Рассказ приняли к печати, но когда Евгений на следующий день забежал в корпункт газеты, то увидел на полке рассыпанные гранки своего рассказа, а ему сообщили указание главного редактора, что так комсомольцы поступать не должны, и его герой не является примером для молодежи, так как не оправдал доверия товарищей.
Как-то родители Евгения подарили им щенка, забавного, вислоухого и, конечно, беспородного. Первое, что он сделал, когда его принесли в дом и поставили посреди комнаты – присел и сотворил большую лужу. Светлана сморщилась и замахала руками, а Ксения Ивановна стала укорять:
– Ну, зачем вы его принесли?
Прошло время, щенку оборудовали конуру, а Ксения Ивановна на удивление быстро подружилась с ним. Смешно было наблюдать, как он ждал, когда Ксения Ивановна выйдет на улицу, вцеплялся в длинный подол ее юбки и теребил его, изображая злого зверя и громко рыча.
Ксения Ивановна обессиленно и беззвучно смеялась, а щенок распалялся все больше.
Когда Светлана с мужем уехала в далекую Кировскую область, щенок, к тому времени уже взрослая собака по кличке Малыш, перегрыз ошейник и пропал. Наверное, отправился разыскивать своих хозяев.
…Евгений не очень любил смотреть фильмы, поставленные по тем или иным произведениям, которые уже успел к тому времени прочитать.
У него уже сложился образ того или иного героя, и нередко получалось так, что «киношный» герой совсем не похож на его «книжного».
Хотя, если наоборот: сначала он смотрел фильм, а потом читал книгу, то зрительный образ уже довлел над книжным, наступало некоторое соответствие, внутреннее единство и согласие.
Собственно, тема «кино» затрагивает каждого. И даже приход телевидения и перенесение зрительного зала непосредственно в каждый дом, в каждую квартиру не умаляют влияния этого вида искусства на человечество в целом и на каждого индивидуума в отдельности. А кто скажет, сколько кинотеатров в России уничтожено за последнее время?
Евгений никогда не думал, что жизнь преподнесет ему подарок, и он очень близко соприкоснется с людьми киноискусства и процессом непосредственного создания фильмов.
На последнем курсе института студенты кораблестроительного факультета должны были проходить конструкторскую практику в Ленинграде. А там жила Леля, сестра Светланы. Они списались, и Евгению предложили пожить у них дома, а Светлана возьмет отпуск и подъедет позже.
Евгений поспел сразу к двум важным событиям в семье своих родственников. Оказалось, что Вячеслав Ксавертьевич, муж Лены Ивановны, был ведущим главным оператором студии «Ленфильм», создателем таких фильмов, ка «Дикая собака Динго», «Поднятая целина», «Моабитская тетрадь» и еще более ста других известных фильмов, которые уже в наше время вошли в «Золотую коллекцию». Ему только что было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств. Ну а самым важным было то, что они получили двухкомнатную квартиру в самом центре Ленинграда на проспекте Максима Горького с обратной стороны «Ленфильма».
Мебель еще не привезли, новоселье справляли прямо на полу, выпивка и закуски стояли на чемоданах, а гости сидели на газетах. Евгений обалдел от обилия знаменитостей, когда его представляли гостям. Нонна Мордюкова чмокнула его в щеку, быстро вытерла следы губной помады тыльной стороной ладони, полуобняла и воскликнула:
– Люблю дальневосточников! Они настоящие, без подделки.
Николай Крючков крепко пожал руку и пропел своим знаменитым хрипловатым голосом, обняв за плечи Евгения и Вячеслава Ксавертьевича:
– Три танкиста, три веселых друга…
Евгений вел себя тише воды, ниже травы, как во сне помогал Лене Ивановне на кухне и был поражен чисто интеллигентной простотой общения знаменитых на всю страну людей.
Окончательно добило его посещение «Ленфильма». Вячеслав Ксавертьевич познакомил со святая святых этой фабрики кино, показав изнутри декорации очередного фильма. А когда Евгений направился к павильону с декорациями средневекового замка, он сказал:
– Иди туда один. Там другой фильм, другой оператор, и мне появляться там не этично.
Вячеслав Ксавертьевич был одним из учеников знаменитого Пырьева, прошел Финскую и Великую Отечественную, причем на Западе и на Востоке. А Лену Ивановну, сестру Светланы, он увез из Уссурийска в Ленинград осенью 1945 года. Она была значительно моложе его, но семья получилась крепкая. Бывая в Москве, Евгений нередко заходил в гости к его дочери Наталье, которая в год первого знакомства еще училась в школе, а теперь и сама стала мамой двух дочерей. Ее муж Слава Васильев, сын директора Московского дома кино, яхтсмен и ядерщик, прекрасный собеседник и хороший человек.
Когда Евгения направляли в Ленинград на преддипломную практику, он предложил Светлане взять отпуск и тоже поехать. Немного посомневавшись, она решилась. Такой случай редко представляется.
В аэропорту муж встретил ее с тщательно завернутым в газету букетиком ландышей. Про этот букет она еще не раз ему напомнит.
А на экскалаторе в метро шпилька ее туфель застряла в прорези ступеньки, и Евгений еле успел выдернуть этот злополучный туфель уже у самого основания лестницы.
Остановились молодожены у сестры Светланы Лены Ивановны и были очень тепло приняты. Позже во время командировок в Ленинград и Евгений, и Светлана останавливались только у них.
Светлана побывала на «Ленфильме», когда там работала Лена Ивановна. Она была буквально ошарашена, когда уборщица, убирая комнату, в которой они тогда находились, с изрядной долей простоты и наивности спросила неожиданно:
– Лена Ивановна, а почему вы свою сестру в артистки не запишите? Она у вас вон какая красивая.
В Ленинграде в то время были летние ночи. Светлана с мужем бродили по Ленинграду, смотрели, как разводятся мосты, посетили множество музеев, сходили несколько раз в оперетту и Мариинский театр. Лена Ивановна жила в огромном доме на пересечении улиц м. Горького и Кронверки, и с того места легко было добираться до всех достопримечательностей города.
Как-то в крошечном кафе, где они блаженствовали, уплетая шарики мороженого и запивая их шампанским, Светлана приговаривала:
– Ой, Женя, какая красота вокруг! Каждый дом – как живой, понимаешь? Кажется, что идешь по улице, а дома что-то тебе сказать хотят. И обижаются, что мы их не понимаем, а проходим мимо.
Евгений согласно кивнул головой. Он и сам был потрясен величием и красотой Ленинграда, его домами и улицами, скверами и памятниками, музеями и театрами… Но всего этого было так много, а времени, чтобы все это посмотреть, а тем более осмыслить увиденное, было так мало!
Свою преподавательскую деятельность Евгений Петрович начал еще на пятом курсе института. На одну стипендию жить было трудно, и он пошел преподавать в школу.
Учительствовал он почти год и преподавал черчение и рисование. Именно эти предметы выбрал потому, что его школьный учитель Дмитрий Иванович имел на него «зуб», непонятно за что, и больше четверки никогда не ставил.
Евгений с ним после школы ни разу не встречался, но все время обучения в вузе вел с ним заочный спор, и по всем видам черчения (машиностроительному и судостроительному), и даже непонятной многим начертательной геометрии, именуемой среди студентов «ничертанипетрией», имел только одни пятерки.
Основное время преподавания в школе пришлось у Евгения на период написания дипломного проекта. Он работал во Владивостоке в школе, здание которой впоследствии снесли, а в Уссурийске сразу в двух школах преподавал в 5 и 8 классах.
Дипломный проект писал в Уссурийске, где тогда жила Светлана, а во Владивосток ездил на консультации, совмещая их с уроками в школе.
Почти во всех школах, где он работал, на него сразу же обрушилась дополнительная нагрузка: рисовать стенгазеты и иллюстративный материал к занятиям по разным предметам. К уроку по литературе, например, ему надо было изобразить пионера Павлика Морозова, деревню и колоски пшеницы.
Когда он прикрепил большой лист ватмана со своей работой к классной доске, и его окружила детвора, один из пятиклассников фыркнул:
– А я и получше могу нарисовать!
Евгений подозвал его и поручил сделать рисунок на очередную заданную тему. Конечно, лучше тот не нарисовал, но время подарил, а его, ох, как не хватало. Интересно, что и во Владивостоке, и в Уссурийске Евгений встретил бывших своих «подчиненных» из пионерлагеря «Учитель», где был старшим пионервожатым, направленным туда по комсомольской путевке.
Возмужавшие и повзрослевшие, они и обрадовались встрече, и в то же время стеснялись показывать свою радость, но на уроках были самыми прилежными учениками и по-настоящему помогали.
Головной болью для Евгения стал пятый класс из уссурийской школы, с которым не было никакого сладу. Кто видел фильм про учителя с Геннадием Хазановым в главной роли, тот может примерно представить, что творилось на уроках. Евгений заставлял весь класс стоять у парт минут по десять, и двойки ставил, и записывал в дневник о плохом поведении – ну ничегошеньки не помогало. Даже директор школы и завуч, приходившие иногда на помощь, ничего не могли сделать с распустившейся детворой.
Однажды, ближе к вечеру, Евгений оказался недалеко от школы по каким-то хозяйственным делам. Район этот, прилегающий к парку «Зеленый остров», известный в Уссурийске под названием «Зеленка», пользовался у местных жителей дурной славой. Там запросто могли или ограбить, или ни за что, ни про что избить.
Завернув за угол магазина, Евгений увидел, как трое здоровенных парней избивать ногами малолетних пацанов. Те уже и стонать перестали, закрывая инстинктивно зареванные лица грязными ладошками. Редкие прохожие шарахались в стороны, да на противоположной стороне улицы жались друг к другу группка перепуганных мальчишек и девчонок.
Евгений с лету вмешался в драку. Одного «футболиста» ему удалось сразу же уложить на асфальт, второй зажал в руке расквашенный нос, третий выхватил нож. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не подоспевшая «родная милиция». Увидев бегущих милиционеров, двое парней подхватили под руки третьего и скрылись в ближайших кустах. Малолетки, с трудом поднявшись на ноги, прихрамывая и всхлипывая, влились в группу подростков и тоже растворились в вечерней дымке. Евгений остался один с разбитыми очками, несколькими синяками и рассыпанными по всей земле «товарами народного потребления», которыми успел обзавестись в магазине. Его под «белы ручки» препроводили в ближайшее отделение милиции, где он в течение нескольких часов доказывал, что не является злодеем, а студентом последнего курса славного политехнического института в городе Владивостоке, куда и приехала впоследствии «телега» из милиции с сообщением о том, что Евгения задержали как зачинщика драки и просили принять самые строгие меры. Не успели. К этому времени он уже защитил диплом…
А на следующий день после злополучного происшествия, именуемого дракой, он должен был вести урок рисования в том самом пятом «Б». После оглушительного звонка на урок, Евгений, приготовившись к очередной пытке, открыл дверь и вошел в класс.
Ученики стояли чуть ли не по стойке «смирно» и… молчали! Поздоровавшись и разрешив им сесть, он выставил на стол наглядные пособия и начал вести урок, внутренне готовясь к какой-нибудь неприятности, которую наверняка придумали эти сорванцы.
В классе стояла такая тишина, что был слышен даже шорох переворачиваемых альбомных листов. Интересно, но сегодня ни один не забыл дома ни карандаши, ни стиральные резинки, ни альбомы. Проходя между рядами парт и подправляя неудачный рисунок то у одного, то у другого рисовальщика, Евгений обратил внимание на то, что Миша и Вася пересели на заднюю парту. Он подошел к ним и увидел, что Миша рисует левой рукой, а забинтованная правая прикрыта курточкой. У Васи под глазами расцвели всеми цветами радуги два огромных «фингала».
До Евгения дошло – вот за кого он вчера заступался! Он не стал у них ничего расспрашивать, а просто заговорщески подмигнул. Видели бы вы их улыбки!
В класс, встревоженные необычной тишиной, заглядывали поочередно то директор школы, то завуч. До конца полугодия, после которого Евгений ушел из школы. Это был его самый любимый и послушный класс. Коллеги-учителя пытались выяснить у него, что он с ними такого сделал? Он загадочно молчал.
В первый после свадьбы день рождения Светланы, Евгений подарил ей стихи:
Ты сегодня рано встала, Как всегда, легко, привычно, Но у зеркала стояла, Чуть подольше, чем обычно. За окном искрят снежинки, Месяц загляделся хмурый. Ты потрогала морщинку, «Не разгладить» – и вздохнула. Почтальон несет все разом — Телеграммы, поздравленья… Этот день не ждешь, как праздник: День обычный, день рожденья.Ожидавший благодарности муж подвергся самой беспардонной критике и обструкции. Светлана аж задохнулась от возмущения.
– Где это ты у меня морщинку разглядел, а? – возопила она и по-узурпаторски потребовала разорвать сочинение. Потом отошла и милостиво разрешила оставить. Долго еще аукалась Евгению эта морщинка.
В те годы лучшим подарком считалась книга. И это действительно было так. Потому что хорошую книгу «достать», как тогда говорили, было совсем не просто. К годовщине свадьбы Евгений подарил Светлане книгу Дж. Байрона «Дон Жуан» с многозначительной надписью:
«И жизнь свою готов отдать бы
Светлане, в годовщину свадьбы
Муж»
А к ее 25-летию Октябрина подарила Светлане книгу Петра Проскурина «Горькие травы» с незатейливым посвящением: «Светлане в день рождения. Турубаровы».
К очередному дню рождения удалось достать по случаю «Книгу о вкусной и здоровой пище», на которой он старательно вывел надпись:
«Светлане в день рождения.
С уважением. Муж»
И ниже:
«Я ел твои похлебки, пироги —
Ты их готовишь вкусно!
Осиливай науку – жарь, вари, пеки!
Еще вкусней, еще искусней»
Интересно, что, несмотря на занятость, у молодой пары находилось время, чтобы и на лыжах походить, и порыбачить в Амурском заливе, в районе Тавричанки, где жила старшая сестра Евгения Римма, и сходить в кино, как правило, на последний сеанс. Светлана к приезду мужа заводила большую стирку, он ходил на колонку по воду, метрах в 300 от дома, принося за одну ходку сразу по три, а то и по четыре ведра воды: по два ведра на коромысле и по одному или двум – в руках. А после стирки – в кино, благо кинотеатр был рядом. И никакой усталости.
Евгений окончил институт с отличием и был одним из первых в списке на распределение. Предложений было много. Думали-гадали и решили ехать на сосновский судостроительный завод в Кировской области.
Узнав об этом, разбушевался профессор Николай Васильевич Барабанов:
– Куда ты едешь? Производственным мастером, что ли? Поедешь учиться, как государство обманывать?
– Нет, – возразил Евгений. – Государство обманывать я никогда не научусь: характер не тот. Я хочу узнать судостроительное производство, увидеть жизнь, узнать людей…
Профессор недоуменно пожал плечами:
– Ну-ну… Попробуй…
В советские времена практической подготовке специалистов уделялось столь пристальное внимание, что нашему инженерному образованию весь мир завидует до сих пор.
Хрущевский эксперимент (двухлетняя рабочая практика по специальности и одновременно учеба) для Евгения лично дал многое, хотя временами было ой как нелегко. А уже потом были и производственная, и технологическая практики на предприятиях, конструкторская и даже плавательная, так как он учился на кораблестроительном факультете. Государство находило средства на подготовку, как теперь любят мечтать «элитных» специалистов. И разъезжались студенты на практики во все концы Советского Союза. Студенты-корабелы участвовали в строительстве атомных подводных лодок в Комсомольске-на-Амуре, супертраулеров в Николаеве (Украина), проектировали суда в конструкторских бюро Ленинграда. А перед самым выпуском «ходили» матросами на судах, в том числе, и за границу.
Правда, прежде чем попасть в судовую роль, необходимо было сдать экзамен на классность. Удивительно легкими для студентов были эти экзамены, и вот уже с удостоверениями матросов второго класса они прошли врачебную комиссию.
Евгений попал в палубную команду теплохода «Владивосток» и прошел врачебную комиссию с курсантами морского инженерного училища, тоже направленных на плавательную практику. Познакомился с худым, даже тщедушным, мужичком из срединной России по имени Федя, совершенно слепым на левый глаз:
– А как же ты прошел комиссию? – удивился Евгений.
Федя быстро продемонстрировал:
– Врач говорит: «Закрой рукой левый глаз». Я закрываю его левой рукой и читаю буквы сверху и до самого низа. Врач командует: «Закрой теперь правый глаз». Я закрываю тот же левый глаз правой рукой и читаю буквы так же быстро, как и перед этим.
Кстати, Федя стал головной болью для начальствующего состава теплохода. Во-первых, после каждой вахты он каким-то непостижимым образом прорывался в ресторан пассажирского салона, куда команде вход был запрещен, «поддавал» там как следует, и каждый раз его находили в бесчувственном состоянии у дверей каюты помполита, который, как известно, выполнял на каждом советском судне функции комиссара.
Помполит взялся за перевоспитание Феди. Вся команда с веселым интересом наблюдала за воспитательным процессом. Чашу терпения начальства переполнил случай, о котором впоследствии рассказывали с ехидцей.
«Владивосток» находился в нейтральных водах.
Навстречу часто попадались суда под иностранными флагами. По международным правилам суда приспускали флаги и приветствовали друг друга гудками. День выдался прекрасный. Море едва рябило, солнце ласково обволакивало негой, встречный ветер был ласковым и, как всегда, немного мокрым. Капитану доложили об очередном «иностранце», и он скомандовал штурману:
– Спустить флаг!
Штурман отрапортовал команду боцману, тот – Феде:
– Бегом, спусти флаг!
Федя затрусил к мачте. Капитан Бобров по кличке Бобер брюзжал на всю рубку, уложив на электрогрелку внушительных размеров живот:
– Что-то сегодня одни «иностранцы» встречаются. Расходились тут.
Раздавались очередные гудки. Через несколько часов капитан оторвался от грелки, вышел на правое крыло мостика, взгляд его по-хозяйски скользнул вдоль правого борта. Через несколько минут к капитану присоединился штурман и пропел:
– Погодка-то, а?.. А солнце, а небо? А?!
Они обвели взглядом все это благолепие, посмотрели на мачту, потом вперились друг в друга: флага на мачте не было. Капитан ворвался в рубку:
– Я!.. Мне!.. Вам!.. Где?.. Кто?.. Как?.. Пираты!.. Пиратский корабль! – заорал капитан.
Дальше шла сплошная ненормативная лексика.
По авралу в шкиперской разыскали запасной флаг, Федю нашли спящим в обычной позе у каюты помполита, флаг, спущенный Федей, – в одной из спасательных шлюпок.
Федю списали на берег в первой же точке захода.
Боцман, в команде которого Евгений находился, был старым морским волком, и даже «капитанил» на этом же судне, имея огромный плавательный ценз, но он не имел высшего образования. Вследствие этого кадры постепенно «опустили» его до боцмана. Он был обижен на весь мир, всегда ходил мрачно-сосредоточенный, был немногословен, но дело свое знал. А помполит, сверкая золотыми зубами, вообще заявил, что берет над Евгением шефство, и так как будущее рисовалось ему как сплошное сидение Евгения в кабинетах, то он пообещал показать тому настоящую морскую жизнь. Вдвоем с боцманом они в этом преуспели.
Форму защитного цвета или, как сейчас говорят, цвета «хаки» Евгению пришлось надевать дважды.
В то время все студенты проходили обучение на военной кафедре политехнического института, и готовили из них лейтенантов запаса, командиров взвода зенитной ракетной техники. Среди офицеров кафедры было немало тех, кто прошел горнило Великой Отечественной. Евгению запомнился подполковник Добашин. Высокий, всегда подтянутый, в ладно сидящей форме с черными артиллерийскими петлицами и орденскими планками в несколько рядов. Он руководил военными сборами группы после четвертого курса в отдельном ракетном дивизионе ПВО, расположенном недалеко от одного из сел в глубинке Приморья.
После переодевания в новенькую солдатскую форму были зачетные стрельбы из карабина и пистолета, развертывание пусковых установок и прием присяги. А между ними обычные солдатские будни со всеми полагающимися нарядами и дневальством.
Подполковник Добашин нередко начинал занятия словами:
– Вот когда вы пойдете служить…
Но служба в армии никого из студентов особенно не прельщала, однако судьба распорядилась таким образом, что все-таки два человека из группы стали кадровыми офицерами. Гена Рузаев – сразу же после вуза, а Евгений после того, как три года проработал в «народном хозяйстве» (на Сосновском судостроительном заводе).
Обычно после отбоя «партизаны» (так называли в армии гражданских, призванных на сборы) долго не могли угомониться. Несмотря на довольно напряженный день, молодость брала свое, и они некоторое время после отключения света обсуждали неожиданно и непонятно откуда возникающие темы. Однажды разговор зашел о романе «Три товарища», который написал Эрих Мария Ремарк:
– Женщина, а как пишет о войне! – вдруг ни с того, ни с сего выдал Гена.
– Какая женщина? – спросил в полной тишине кто-то из студентов.
– Ну, так Мария же, – ответствовал Гена.
После непродолжительной паузы раздался гомерический хохот. Веселье прекратилось только после того, как в казарму влетел обалдевший от непонимания дежурный офицер.
Сборы подходили к концу, как и август – самый благодатный месяц в Приморье. Влажность воздуха достигала нормы, солнце становилось не знойным и палящим, а ласковым и каким-то бархатным. По утрам пауки размером с грецкий орех ткали тонкую паутину в самых неожиданных местах. Паутина отблескивала на солнце серебром, а капли росы на ней казались крупными алмазами. Появились предвестники осени – стрекозы и махаоны, поражающие своей нежной окраской. Некоторые в размахе крыльев достигали размеров воробья.
Удивительно, как такие крылья тоньше папиросной бумаги помогали грациозно и, главное, не ломаясь, не только держаться в воздухе, но и летать даже в ветреную погоду. Поневоле вспомнишь Икара.
В баню не водили по причине летнего времени, а по воскресеньям студенты с полотенцами и обмылками, завернутыми в газету, бодро шагали строем к горной речушке, протекающей километра за два от казармы. Вода в ней была ледяная, с тихим журчанием перескакивала она через крупные валуны, создавая белопенные буруны, или обтекала их, замирая у впадин, глубина которых достигала в лучшем случае до колена. Вопли и гвалт разносились окрест, распугивая все живое зверье в радиусе километра.
Витя Холоден, участник самодеятельности, у него был превосходно поставленный баритон, крепкий, кряжистый и очень сильный, был года на три старше остальных, так как влился в группу, отработав после окончания техникума, отбывая положенный срок по распределению. К тому же был непревзойденный «ходок» по женской части. Раздосадованный тремя нарядами вне очереди за «самоволку» он, отжимая галифе, так их крутанул, что напрочь оторвал одну штанину, да и та распалась на три отдельных части. Пока он тупо смотрел на то, что осталось в руках, ему пришлось выслушать множество ехидных советов, от которых лицо его становилось все краснее и краснее.
Кончилось тем, что часа через два, натянув на себя еще влажное обмундирование, студенты шагали в строю по проселочной дороге, а в середине его Витя, у которого одна нога была в галифе, а другая по самую репку была голой, периодически грозил кулаком кому-нибудь, на кого вдруг нападал приступ смеха.
У входа в часть строй поджидали майор – командир дивизиона и подполковник Добашин. Для чего они вышли встречать – неизвестно. Но когда первая шеренга поравнялась с ними и прозвучала команда «Смирно!», по которой солдаты-студенты должны были повернуть голову в сторону начальства и перейти на строевой шаг, подполковник Добашин скомандовал:
– Запевай!
Холоден был запевалой, и в такт шагов марширующих студентов начал на мотив известной в то время песни:
Я стою на берегу, Слезы кап-кап-капают. Никто замуж не берет, А только лап-лап-лапают.Оба офицера, приложив руку к фуражке, вытягивали головы, чтобы рассмотреть, что там было в середине строя не так. А студенты в это время дружно подхватили:
Солдаты в путь, в путь, в путь, А для тебя, родная, есть почта полевая…Короче, все получили за песню по три наряда вне очереди, а у Холодена их вышло аж шесть, но отстоять их они не успели, так как сборы закончились через два дня.
Второй раз защитная форма оказалась на Евгении уже после защиты диплома, когда студенты должны были пройти стажировку перед присвоением звания «лейтенант запаса». В дивизион ПВО под Уссурийском направили человек шесть. Места были знакомы Евгению еще с детства: сюда он с пацанами ездил на велосипедах купаться, собирать грибы, затариваться «кислой водой».
Здесь же располагался колодец, в котором вода была кисловатой на вкус от присутствовавшего в ней сероводорода. Место так и называлось «Кислые ключи». Отсюда и начала свой путь знаменитая минеральная вода «Ласточка».
Стажировка началась в феврале, только что состоялся очередной съезд партии, и замполит, плотоядно посматривая на студентов, выклянчил у комдива троих, в том числе и Евгения, для подготовки так называемой «наглядной агитации». С утра и до отбоя они писали плакаты с лозунгами, а на 23 февраля их отпустили домой, правда, без всяких увольнительных, посоветовали никому не попадаться и прибыть в часть 24 февраля в 19.00. С Евгением увязался студент из группы механиков по фамилии Богун. Они, переодевшись в гражданское, но оставив сапоги, пошагали по пересеченной местности через так знакомую с детства сопку «Маяк». 22 километра преодолели за четыре часа, забежали на минутку к родителям, а через час Евгений стучался в двери дома, где жили Светлана со своей матерью. Обратный путь рискнули преодолеть на автобусе, не попавшись, к счастью, на глаза ни одному патрулю.
Стажировка в войсках оказалась какой-то бесцветной, никому не нужной, в том числе и стажирующимся. Единственное утешение состояло в том, что они дважды по тревоге участвовали в составе боевых расчетов, причем обе тревоги были не учебными, так как близ наших воздушных границ проходили учения иностранных армий и не исключалась возможность провокаций. А еще студенты помогли нескольким молодым офицерам, заочно обучающимся в различных вузах решить задачи по высшей математике, выполнить курсовые проекты, а одному даже написали целую главу дипломной работы.
Где-то в начале 60-х годов произошла очередная реформа военной одежды. Особенно это было заметно у моряков, когда погоны с золотым шитьем остались только на парадной форме, а на повседневной были заменены на черные с желтыми просветами для офицеров морской и с красными – для береговой службы.
Когда на улицах Владивостока появились первые офицеры с черными погонами, студенты старших курсов воспринимали это как новую форму для подводников. Позже они узнали, что именно подводники стали последними офицерами на флоте, которые под давлением начальников и репрессиями комендатур заменили золотые погоны на черные.
И вот пришло время и Евгению по приказу Министерства обороны облачиться в военно-морскую форму, на погонах которой засветились две маленькие звездочки лейтенанта.
Через всю службу на флоте он пронес воспоминания о подполковнике Добашине, который часто говорил о том, что военную форму надо уметь носить, а для этого требуется особая культура, при которой человек в форме выглядел бы красиво, и даже элегантно. Форма не столько украшает и отличает любого, сколько придает уверенности в себе, а вследствие этого бодрого самочувствия, ловкости и гордой осанки. Испокон веков человечество удивляется психологическому, моральному и даже физическому влиянию формы.
В конце сороковых, в сталинские времена, видимо, еще под влиянием Великой Отечественной войны форма была введена для работников многих министерств и ведомств. Евгений помнил, как гордился шахтерской формой отчим, в общем-то, рядовой горняк. А еще врезались в детскую память прогулка по Красной площади по Москве. Семья направлялась тогда в Вязьму, на родину отчима и матери, в поисках лучшей доли. На площади они оказались совсем близко к дороге, по которой проносились красивые легковые автомобили, а сквозь их стекла слепили глаза золотым шитьем разноцветные мундиры адмиралов, генералов и министров. Притчей во языцех стало утверждение о том, что «истории развиваются по спирали». Многие коллеги Евгения затруднялись ответить на каверзный вопрос:
– А конус, вокруг которого вьется эта спираль, стоит вершиной вверх или вершиной вниз?
И лишь немногие отвечали, что историческая спираль обвивает цилиндрическую поверхность, и каждый ее виток находится на более высоком уровне, чем предыдущий.
Вот и с формой история повторяется. В последнее время, даже не считая многомиллионной рати охранников из всевозможных служб безопасности в диковинной униформе, развелось столько офицеров и генералов, появилось столько видов формы, погон и эмблем (от егерских до почтальонских и железнодорожных), что куда там Советскому Союзу конца сороковых – начала пятидесятых годов прошлого века или даже царской России. А их погоны и форма нового образца до того вызывают удивление, что иной раз смотришь и не сразу поймешь: то ли румынский полковник, то ли отечественный таможенник неизвестно в каком звании.
Народу на улицах Владивостока, как говорят, на танке не пробиться. Участие в государственных праздничных демонстрациях в СССР обязательно для всех – от дворника до главы правительства.
Сегодня Седьмое ноября – очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник, который отмечают, как пишут газеты, все сознательные трудящиеся во всем мире.
Неизвестно, как на счет всего мира, а в СССР этот праздник обязаны были отмечать действительно все и всюду. Даже в самой захудалой деревеньке председатель сельсовета приобретает десяток метров красного сатина для транспарантов и флагов, которые вывешивали на крышах сельских избушек.
А в крупных городах – все в кумаче.
За неделю до праздника комсорги и парторги предупреждают партийную «прослойку», союзную и «неохваченную» молодежь:
– Седьмого ноября сбор в семь часов утра у центральной проходной (у главного входа, у дома номер… на улице Ветреной…), ты несешь портрет Суслова, а ты – красный флаг, а вы, Петр Тимофеевич, и Миша, несете транспарант. Распишитесь. Распишитесь…
Партийцы и комсомольцы сознательно кивали в знак согласия с поставленной задачей и расписывались. Беспартийных и некомсомольцев парторги, комсорги и профорги строго-настрого предупреждали:
– Если не придешь на демонстрацию – останешься без квартальной премии, в отпуск пойдешь зимой, и очередь на квартиру перенесем поближе к хвосту. Распишись…
И все должны были пройти мимо трибуны, сооруженной у входа в шахтерский скверик (сейчас сквер вырублен, и вместо него раскинулась площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке), на перекрестке улиц Ленинской и Пекинской (ныне Светланская и Океанский проспект). И каждому из студентов нужно было пронести мимо трибуны транспарант или знамя, или плакат, или портрет какого-нибудь члена ЦК КПСС или члена Верховного Совета. От демонстрации до демонстрации, от одного государственного праздника до другого – все эти аксессуары народного волеизъявления преданности идеалам коммунизма хранились, как правило, в холодной и пыльной кладовке, подведомственной институтскому завхозу.
А еще каждому необходимо было проорать свое «Ура!» в ответ на лозунги, звучащие с трибуны.
Но пока подойдет очередь твоей колонны с праздничным настроением перед трибуной, на которой теснятся «избранные», в основном руководители и партийные бонзы Приморского края, намерзнешься – ноябрь все-таки.
А очередь не только потому, что все предусмотрительно организовано: сначала пролетарии Дальзавода идут, потом рыбаки, за ними моряки, а студенты шагают одними из последних, но еще и потому, что очень уж много людей добровольно-принудительно желают прокричать «Ура!» возле трибуны – почти все жители Владивостока.
Но все равно весело, шумно, хохот и песни не смолкают ни на секунду.
Студенческая колонна продвинулась уже к ГУМу. Теперь ждут, когда промаршируют «турнифовцы». За ними и студенты двинутся к трибуне. Ждать минут десять – пятнадцать. Потом еще десять минут ходьбы от ГУМа мимо трибуны и прямиком по Ленинской на Набережную. Там уже будет стоять институтский грузовик с завхозом, который сварливо и быстро соберет плакаты, транспаранты, флаги, портреты…
На этом участие студентов в демонстрации и закончится.
Однокурсник Евгения Коля Никоненко, изнемогая от невозможности привлечь к себе всеобщее внимание, вдруг оживился:
– Народ, спорим, что я с одной бутылкой «Перцовки» напою сорок человек!
Народ хохочет. Народ сомневается:
– Не напоишь, не Христос, однако…
А Коля уже вытащил из внутреннего кармана пальто волшебную бутылку.:
– Подходи по одному!
Очередь организовалась послушно и быстро: все изрядно замерзли на сквозняке, продувающем главную улицу краевого центра – Ленинскую. Желающих согреться, да еще таким экзотическим способом, оказалось более чем достаточно. Николай же – вот умелец! – натянул на горлышко бутылки детскую соску и скомандовал:
– Первый пошел! Глотай через соску, но только один раз!
Ко времени, когда группа Евгения прошла мимо трибуны, сорок человек, отведавших «перцовку» Колиным методом, были уже настолько навеселе, что едва вышли на перекресток Набережной и Пограничной, как дружно, почти не сговариваясь, спустились мимо одноэтажного кинотеатра «Хроника» к Семеновскому ковшу и устроили массовый заплыв.
А ведь седьмое ноября!
Температура окружающего воздуха около нуля. Да и вода в Семеновском ковше уже стылой шугой у берега перекатывается. Но где наша не пропадала! Пьяному, как известно, море по колено. Впрочем, известно и другое: пьяных да глупых Господь бережет. Сберег он и на этот раз.
Заплыв студенты совершили. Массовый заплыв. Однако тот случай заставил Евгения поразмышлять о возможностях лидерства: почему людям необходим лидер, и какой именно лидер необходим – горьковский Данко или Коля Никоненко?
Ответы на эти два вопроса он искал всю жизнь. Искал, несмотря на то что в годы «демократического централизма» воспитание лидеров начинается уже в начальных классах советских школ: октябренок – пионер – комсомолец – коммунист.
Все эти ступеньки довелось прошагать и Евгению.
В институте, когда Евгению пришлось очень активно заниматься не только общественной, но и комсомольской работой, а на каникулах двух последних курсов работать в составе первых в Приморье студенческих строительных отрядов, он старался в любой, даже мало-мальски сложной ситуации быть для окружающих если не заботливой «нянькой», то уж внимательным – обязательно. Может быть, поэтому годы его комсомольской юности отмечены множеством Почетных грамот.
Но впервые он понял, что такое сплоченный комсомольский коллектив, в тот момент, когда в институте проходила комсомольская отчетно-выборная конференция. Проходила она в Доме культуры моряков (теперь Пушкинский театр). Предстояло избрать секретаря комитета комсомола. Комсомольцы института выдвинули на эту должность своего кандидата. Но крайком «заигнорировал» это выдвижение, и вместо институтского привез на конференцию «своего человека». И вот тогда-то впервые в истории приморского комсомола коллектив единодушно отверг ставленника вышестоящей организации. Такого еще не бывало. И вот – случилось!
До этого момента пресловутый «демократический централизм» диктаторствовал не только в управленческих структурах всех рангов КПСС, но и в структурах комсомола, на это и уповали комсомольские вожаки Приморья, навязывая своего кандидата на должность первого секретаря комитета ВЛКСМ. Должность, нужно прямо сказать, номенклатурная, приравнивалась к должности секретаря райкома ВЛКСМ. И вот – от ворот поворот, как говорится.
Неизвестно, что чувствовали работники крайкома ВЛКСМ, конфузливо покидавшие ту конференцию, но Евгений гордился тем, что состоял на комсомольском учете в таком коллективе. Но гордость гордостью, а выводы тоже последовали. Тогда он понял, что лидером «по указке сверху» можно стать не всегда и не всюду. Лидерство – личное состояние души, понятное и принятое людьми, с которыми учишься, трудишься, с которыми уходишь в отсеках подводной лодки на предельную глубину погружения, с которыми, наконец, проводишь главную часть своей жизни.
Очевидно, эти выводы и некоторые особенности мировоззрения, которые Евгений с детства перенял от своего отчима, несколько затруднили для него подъем по коммунистической лестнице лидерства.
Если октябренком и пионером можно было стать, продемонстрировав прилежность в учебе и умеренную дисциплинированность, то для вступления в комсомол формальность требовала предъявить в первичную комсомольскую организацию три рекомендации. При этом желательно, чтобы хотя бы одна из рекомендаций была «весомой»: от члена КПСС или коллективная – от комсомольской либо иной общественной организации. А вот для вступления в КПСС необходимо было получить – обязательно – одну рекомендацию от комсомольской организации и две рекомендации от членов КПСС. При этом члены КПСС, письменно рекомендующие комсомольца для вступления в партию, несли персональную партийную ответственность за свои рекомендации. Скажем, приняли человека в партию. Год, два, десять он исправно выполнял требования партийного устава и придерживался генеральной линии партии. Но на одиннадцатом году своего партийного стажа вдруг совершает какой-нибудь антипартийный поступок (не уголовный, а именно – антипартийный): становится вдруг диссидентом или – что еще смертельнее – сбегает жить за рубеж, либо вытворяет еще что-нибудь в подобном плане. И тогда за поиск «стрелочников» принимается особый орган КПСС, так называемая «партийная комиссия» соответствующего ранга – райкома, горкома, крайкома либо обкома или даже республиканская. И эта комиссия обязательно найдет коммунистов, давших десять – пятнадцать лет назад свои весомые партийные рекомендации нынешнему коммунисту-расстриге. И тогда взыщут с этих рекомендателей на заседании партийного бюро по полной схеме:
– Как же вы, товарищи коммунисты, не смогли разглядеть в рекомендуемом идеологическую червоточину? Почему не сумели дотошно выяснить его мировоззрение?..
И случалось – так допекут несчастных «партстрелочников», что слабонервные уходят с заседания партийного бюро с сердечным приступом. В лучшем случае виновник отделывался «строгим партийным выговором с занесением в учетную карточку». Со временем выговор, естественно, снимался. Но все равно жизнь человека была уже исковеркана. Коммунист, имеющий «выговор с занесением», лишался возможности карьерного роста. Его товарищи-коммунисты относились к провинившемуся уже как к изгою: ты наш, но – чужак, а потому стой в сторонке, и на партийных собраниях будь готов исполнять роль «мальчика для битья»…
В общем, дача членом КПСС партийной рекомендации – дело ответственное и в определенной степени рискованное. И не всякий коммунист соглашался на это. А если еще учесть, что дать рекомендацию имел право не всякий коммунист, а лишь тот, кто уже набрал определенный партийный стаж, то становится понятно, что вступление в КПСС – процедура не очень легкая.
Но был еще один барьер для желающего стать коммунистом – социальный: неписаные правила КПСС строго требовали соотношения 1: 5. Иначе говоря, прежде чем принять в члены КПСС одного интеллигента, следовало «сделать» коммунистами пятерых рабочих.
Социально студенты относились к категории рабочих, тем более, что и первая запись в трудовой книжке Евгения – рабочий. Поэтому, когда уже Евгений заканчивал писать диплом, институтский комитет ВЛКСМ рекомендовал его для вступления в партию.
Нужно сказать, что эта рекомендация пришла очень вовремя. Ведь после защиты диплома Евгений автоматически переходил из социальной прослойки «студент» в категорию «служащий». А для этой социальной категории, как уже говорилось, вступить в ряды КПСС было несравненно сложнее, чем рабочему. Между тем в стране, Конституция которой шестым пунктом утверждала «руководящую и направляющую силу КПСС», быть служащему не членом КПСС означало – быть человеку без перспектив на будущее. Инженер, не вступивший в студенческие годы в ряды КПСС и не сумевший до 30–35 лет сделать это уже в ранге служащего, так на всю жизнь и оставался «мелкой сошкой» на производстве. Без партийного билета в кармане человек даже семи пядей во лбу не мог рассчитывать на сколько-нибудь заметное продвижение по службе. Максимум – начальник участка в цехе или инженер-конструктор первой категории в конструкторском бюро.
В общем, если ты как гражданин Советского Союза думал о своем будущем, ты обязан был вступить в ряды КПСС. А Евгений, как любой дипломник, задумывался над своим будущим.
И рекомендация райкома оказалась в тот момент очень для него кстати. Поэтому, воспользовавшись улыбкой судьбы, Евгений пошел сначала на партийное собрание факультета, где его приняли кандидатом в члены КПСС, а затем на заседание парткомиссии Ленинского райкома КПСС, где уже бюро райкома должно было после собеседования утвердить решение партийного собрания факультета.
Не утвердили.
Во время собеседования секретарь Ленинского райкома КПСС выяснил, что мировоззрение Евгения несколько отклоняется от «генеральной линии партии» и заявил:
– Вот когда дозреешь, тогда и будешь вступать в партию!
«Дозревать» пришлось сверхактивными темпами.
Помог Евгению в этом заместитель секретаря партийной организации института Алексей Деревянко. Впоследствии он стал доктором исторических наук, хотя закончил горный факультет. На более позднем жизненном этапе Евгений встречался с ним и напомнил о своем «фиаско» во время первой попытки вступления в партию и о том, как Алексей помог буквально в течение двух месяцев после первого провала вступить в КПСС. Правда, сам Алексей Пантелеевич этот случай так и не мог вспомнить. Видимо, очень уж редкостным было подобной явление. А может быть, и наоборот – слишком частым…
Перед отъездом к месту работы после окончания института Евгений зашел в Ленинский райком партии сниматься с партийного учета. В секторе учета женщины-инструкторы, узнав, что на новом месте ему придется становиться на учет в объединенном горкоме партии, горестно завздыхали:
– И что же вы, такой молодой, добровольно едете в эту тьмутаракань?
Евгений писал диплом и чертил судостроительный чертеж в Уссурийске, изредка приезжая на консультации во Владивосток. Это были, наверное, самые счастливые дни в его жизни. Ведь впервые они со Светланой были вместе такое продолжительное время. Как-то Евгений спросил ее:
– Ты однажды рассказывала мне, как твой отец что-то говорил о «дуге большого круга». Это он какую дугу имел в виду?
– Да так, пустое, – хотела отмахнуться Светлана, но Евгений настоял на своем.
Светлана сдалась и рассказала все, что осталось в памяти от детских воспоминаний. Про две «дуги большого круга» своего отца: одна из Украины до Дальнего Востока, вторая – из Франции до него же.
– Вот нам и придется проехать «по дуге большого круга», только в обратном направлении, – задумчиво произнес Евгений.
После этого разговора он частенько напевал казалось бы бессмысленную песню:
«Дуга большого круга», Куда зовешь, подруга? Что сделаешь для друга, «Дуга большого круга»?Напевал он эти слова и в поезде, наблюдая мелькавшие за окном вагона картинки пробуждающейся весны.
Что ждет их так далеко от родных мест?
Они уже выбрали место, куда должны поехать после того, как Евгений защитит диплом, ведь представитель завода из Сосновки пообещал им квартиру сразу же по их приезде.
Хотя еще незадолго до распределения Евгению предложили остаться работать в институте на выбор сразу на трех кафедрах: конструкции судов, теории корабля и сварки. Но как они будут жить во Владивостоке без квартиры?
А в Сосновке придется начинать жизнь с чистого листа. Ведь там нет не то что родни, но и друзей, и даже знакомых.
Защитив диплом, Евгений, как сотни и тысячи выпускников советских вузов, прошел процедуру распределения-назначения к будущему месту работы по специальности. Выпало ему начинать в крохотном речном городке на самом юге Кировской области, в той ее части, которая географическим аппендицитом изогнулась между Татарией и Удмуртией. Формально – Россия, фактически – Татарстан, где мусульман большинство, русских – минимальное количество.
Поезд прибыл из Владивостока к месту назначения на шестые сутки, точно по расписанию. Город Сосновка принял семью молодого специалиста неприветливо. Дело было в мае, вечером. Дощатый настил перрона, здание вокзала, похожее скорее на сарай, чем на административное учреждение, многочисленные лужи и лужицы по обе стороны железнодорожных путей производили впечатление неухоженности и неуютности. Позже приехавшие узнали, что река Вятка в весенний ледоход этого года разлилась необычно широко. Паводок был такой, что вода перехлестывала через железнодорожное полотно. Однако кое-кому это было на руку. Под стихийное бедствие на судостроительном заводе списали десятки тонн металла и проката. В Москве поверили и подтвердили, что все это было унесено половодьем.
Поезд ушел, оставив Евгения со Светланой на пустынном полустанке. Только километрах в полуторах от перрона виднеются крыши домиков какого-то селения.
Стоят растерянные, никто не встречает, а должны бы, телеграмму он отправлял. Десять минут стоят, час, время повернуло к вечеру…
Идти в селение, искать ночлег, а вдруг за ними с минуты на минуту приедут? Заходящее солнце уже поцеловалось с горизонтом. Светлана устала стоять и присела на чемодан. Глаза повлажнели, готовится всплакнуть. А вокруг ни одного хоть бы прохожего. Даже в домике – ни одного железнодорожника. Огромный амбарный замок на двери красноречиво свидетельствует об этом.
Смеркалось, когда невесть откуда появился мужчина лет пятидесяти. По одежде – татарин. Идет неторопливо мимо них. Курс держит на недалекую деревеньку. Евгений к этому времени уже знал, что мусульмане относятся к иноверцам весьма прохладно. Поэтому при всем отчаянном положении не обратил особого внимания на путника. Да и тот шагал так, словно бы их не видел. Но вдруг остановился, спросил:
– Куда?
– На завод. По распределению после института, – ответил Евгений.
Мужчина что-то буркнул себе под нос, махнул рукой:
– Пошли.
Привел к себе домой. Дал распоряжение по-татарски многочисленной родне. Женщины захлопотали, накрывая на стол. Та, что помоложе, показала, где можно умыться, где воспользоваться остальными атрибутами цивилизации.
После ужина отвели в отдельную комнату, жена хозяина дома показала рукой на пышную, устеленную удивительно белоснежным бельем кровать:
– Вам. Спите.
Утром после обильного завтрака с истекающими жиром кусками баранины, с пловом, с терпким чаем немногословный хозяин сказал:
– Я позвонил на завод. Приедут. Ты никуда не ходи.
А сам ушел. Евгений с женой остались в тихом недоумении: ненавязчивая, какая-то даже хмурая, но щедрая забота мужчины-мусульманина и его родни об «инородцах», удивляла и озадачивала. Разбрелись по своим делам родственники хозяина дома. Только внук его, любопытствуя, неотвязно ходил за ними. Заметно было, что какая-то забота гложет мальчишку. Наконец, он не выдержал, поманил Евгения в столовую, где вчера все вместе ужинали и сегодня таким же образом завтракали:
– Ходи сюда, дядька.
Он вошел. Малец выдвинул верхний ящик комода. Евгений всмотрелся и ахнул: на красном лоскуте бархата посверкивали золотом и эмалью два ордена Славы и пять орденов Красного Знамени (боевого!), да еще с десяток медалей.
– Это мой дед на войне получил! – похвастался мальчишка. – Он всю войну немцев стрелял. Снайпер, однако.
И все встало на свои места. Если ты четыре года отвоевывал свою страну у иноземных захватчиков; если ты хоть раз вытаскивал под шквальным обстрелом раненого русского однополчанина, а удмурт или грузин прикрывал до собственного смертного вскрика твой выход из огненного окружения в черном июне сорок первого года; если ты всю жизнь прожил на земле, которая зовется Россией; если ты кушал в своей Татарии лаваши, испеченные женой из кубанской муки, то предвзятости религиозных догм уходят в сторону, уступая место душевному вниманию к человеку.
И еще в тот день Евгений понял: мировоззрение человека формируется характером глобальных исторических событий, в которых ему довелось участвовать и которые пришлось пережить. Впрочем, формируется в непосредственной зависимости от психологического типа личности.
А утром за ними приехала машина. Начальник отдела кадров «дико» извинялся и просил немного потерпеть. Поселили их в общежитии, в комнате, в которой проживало еще человек семь мужиков из сдаточной команды.
На ужин молодые купили кукурузных хлопьев, молока и кое-как улеглись спать в спортивных костюмах на узкой кровати с провалившейся почти до пола сеткой. Мужики деликатно притушили свет, но еще долго не могли угомониться.
Утром их разбудили какие-то шорохи и шебуршания, раздающиеся из прикроватной «казенной» тумбочки. Евгений вытащил пакет с хлопьями, засунул туда руку и непроизвольно отдернул, там шевелилось что-то живое. Пришлось перевернуть пакет на столешницу. Из-под кучи хлопьев на проснувшихся и ошарашенных постояльцев безбоязненно смотрела черными бусинками глаз серая мышка.
– Прогони ее, – потребовала изменившимся от ужаса голосом Светлана.
– Да ты посмотри, какая она симпатичная, – послышалось в ответ. Мышка присела на длинный хвостик, встала на задние лапки, совсем как белочка, а передними стала засовывать хлопья в рот, покачивая головкой и беззастенчиво разглядывая опешивших Светлану и Евгения. Мужики из сдаточной команды стали, покряхтывая и переговариваясь, подниматься, мышка махнула хвостиком и исчезла. С тех пор она каждое утро встречала на тумбочке, лакомясь хлопьями, которые Светлана насыпала еще с вечера.
Через несколько дней сдаточная команда выехала из общежития, и оставшимся досталась большая и неуютная комната. А после каждого посещения мышки Светлана напевала какую-то мелодию из балета «Щелкунчик».
К Новому году завод сдал в эксплуатацию многоквартирный жилой дом о двух этажах. Семье молодого специалиста выделили однокомнатную квартиру. Перед самым переездом мышка заявилась не одна. За ней пряталась другая, суетливо дергаясь от страха, и ни разу не поднявшись на задние лапки. Видимо, мышка знакомила нас со своей половиной. После этого визита мышка уже не приходила. А через три дня состоялся переезд на новую квартиру.
Судостроительный завод был для Сосновки, как бы сейчас сказали, «градообразующим предприятием». Но что интересно, молодые специалисты на нем не задерживались. Женя Васильев, однокурсник Евгения, тоже получивший направление на этот завод, уехал из Сосновки на следующий день, выклянчив «открепительный талон».
А Евгений, уже устроившись и получив должность технолога, должен был отработать на заводе как минимум два года, чтобы получить на руки диплом об окончании вуза. Тогда с этим было строго. Диплом выдавался только в том случае, если специалист отработал по направлению не менее двух лет и получал положительную характеристику.
На заводе была небольшая группа молодых специалистов, окончивших кораблестроительные вузы Николаевска-на-Украине и Нижнего Новгорода. Из Ленинградской «корабелки» насчитывалось несколько аборигенов, которые осели в этом городке по разным причинам.
Молодые специалисты быстро перезнакомились, составили компанию и по выходным дням выбирались на природу. Места здесь были великолепные, «шишкинские». Широкая река Вятка, величественные леса, совсем не похожие на дальневосточную тайгу.
Евгений уговорил Светлану поступить в вечерний судостроительный техникум, она устроилась на работу в заводскую библиотеку. В общем, как говорится, жизнь стала налаживаться.
Евгений быстро вошел в заводской ритм, буквально через месяц напросился на перевод мастером корпусного участка, осенью стал преподавать в техникуме и филиале Кировского политехнического института.
Встречались теперь редко: утром на работу, вечером в техникум, возвращались к часам 11 вечера. Высыпались только в субботу и воскресенье. Спали часов до 12 дня, и когда приходили на базар, их встречали пустые прилавки.
Когда переехали на новую квартиру, выяснилось, что комната буквально вымерзала. Евгений полез под подоконник и обнаружил, что под ним не хватает целого ряда кирпичей, т. е. улице был открыт прямой доступ в квартиру. А морозы здесь были далеко за 30 градусов. Заткнули дыру подручным материалом и… отогрелись.
Первый Новый год на новом месте решили встречать вместе с молодежью, которая и определила место – на квартире у Светланы, мол, заодно и новоселье справим. Вообще-то компания была разнородная, но интересная. Начальник плаза (это помещение, где в натуральную величину вычерчивался теоретический чертеж судна) Борис был знаменит тем, что хорошо пел, правда, под микрофон, со сценической площадки. В компаниях, сколько его ни уговаривали, никогда не солировал. Была еще одна интересная пара – учительница Маша и инженер Гера. Маша, она просила называть себя Маней, обладала бесподобным чувством юмора, и превосходно рассказывала различные истории, вроде бы правдоподобные. Гера, худющий, как жердь, никогда не мог досказать анекдот про «щетку», ограничиваясь первыми словами: «Ну, в общем, ежик…», а потом начинал беззвучно смеяться и отмахиваться рукой. Маша звала его просто «Мой Геракл». И Светлана, услышав эти слова, зажимала рот рукой, чтобы в открытую не рассмеяться.
Собралось человек десять. Особый восторг вызвала красная рыба и селедка, присланные родными из Уссурийска. Надо сказать, что и в Сосновке у браконьеров можно было приобрести «царскую рыбу» стерлядь, но красная была здесь в диковинку.
А когда попробовали маринованные грибы, приготовленные Светланой, разгорелся спор. Она сказала, что это маслята. Большой знаток грибов Борис категорически заявил, что это белые грибы. Спорящие разделились на два лагеря. Самым маленьким оказался тот, в котором были Светлана с мужем. Все остальные ратовали за белые грибы.
Светлана с Евгением только переглядывались и пожимали плечами, они-то правду знали. Дело было в том, что в одно из воскресений на закате лета Евгения потянуло сходить по грибы в недалекие лесопосадки. Притащил он домой две бельевых корзины. Ни до, ни после Светлана таких грибов не видела – ножки величиной с женский мизинец, а шляпки – как наперсток, только коричневого цвета. До глубокой ночи перерабатывали они грибы, снимая со шляпок скользкую коричневую шкурку. Вот и получилось будто бы «белые» грибы.
А спор тем временем разгорался. На кон был выставлен уже ящик шампанского. Высокие спорящие стороны договорились привлечь 1 января независимых экспертов, которые, попробовав деликатес, тоже встали на сторону представителей «белых» грибов. Спор закончился 2 января вечером, когда был съеден последний гриб. Решили молодого специалиста в разор не вводить, а просто распить «мировую».
Месяца через три после приезда в Сосновку, Светлане предложили перейти на работу в планово-экономический отдел. После некоторых сомнений и колебаний она согласилась.
Светлана окончила техникум, успешно защитив диплом на тему «Проектирование участка изготовления шлюпок “Ласточка”». Впоследствии она видела эти шлюпки на шлюпочной базе Владивостока, и даже каталась на них по акватории Семеновского ковша. На веслах, конечно, сидел муж.
Потом у Светланы были курсы повышения квалификации в Ленинграде и работа, работа, работа.
Гуримовы вели обширную переписку с оставшимися на Дальнем Востоке родственниками. Часто приходили письма от Анны Иосифовны, Октябрины, а позднее от Шуры из Ртищево и Лели из Ленинграда. Ксения Ивановна тоже отвечала на Светланины письма, диктуя их содержание внучкам Эле, а позднее и Ольге:
«Света и Женя, здравствуйте!
Пишу под диктовку бабушки. Получили ваше письмо и обрадовались, ведь вы, наконец, получили квартиру. Только на каком этаже? Почему не писали, получили багаж или нет?
В этом году, как никогда, уродился большой урожай слив. Очень много их, и без червей. Самые вкусные на большой сливе за вишней и самые крупные. Уже сварили варенье. Только яблоки в этом году червивые.
Недавно приезжал домой из плавания Вова. Пробыл только два дня и опять уехал.
Бабушка по-прежнему живет вдвоем с Валей. Живут хорошо, жаловаться нельзя.
Вы спрашиваете о Малыше (собаке, которую щенком подарили в свое время родственники Евгения, когда они жили в Уссурийске. – Примеч. авт.). Сторож из него был неважный.
Приходит к бабушке и Ваня. Несколько раз угощал клубникой, а мы ему давали слив.
Октябрина живет по-старому. В сентябре думает ехать на запад, не знаю, что получится.
Вот и все наши новости. Пишите чаще. Бабушка очень ждет писем от вас. Она очень по вам скучает. С вами ей жилось лучше.
До свидания.
P.S. А это от меня. Большое спасибо за поздравление. Вот уже и 16 лет стукнуло. А как-то не верится, ведь гражданка Советского Союза. Надо получать паспорт.
Писала под диктовку бабушки Эля».
После получения писем Светлана их перечитывала по нескольку раз и, обсуждая с Евгением содержание того или иного письма, почти всегда говорила:
– Хочу домой! Не нравится мне здесь жить…
При этом ее глаза подозрительно наполнялись влагой.
Евгений, как мог, ее успокаивал:
– Потерпи, Свечка (уменьшительное от Светочки). Потерпи, родная. Что-нибудь придумаем, найдем выход из этого тупика…
С удивлением Светлана обнаружила в муже черты характера, о которых ранее и не подозревала. Оказывается, он не терпел хамства, даже от начальников высокого ранга, буквально лез на рожон, бросаясь защищать обиженных на улице, совершал другие подобные, но непонятные ей поступки. У Евгения сложились неприязненные отношения, если не сказать больше, с главным инженером, вследствие чего ей несладко приходилось на очередных аттестациях, а так как она собирала у работников заводоуправления профсоюзные взносы, то еще и выслушивать нелицеприятные замечания. Никак не могла она привыкнуть к копеечной мелочности человека, занимающего довольно высокую должность.
Во время отпусков побывали Светлана и Евгений в Киеве, Абхазии, у ее сестер – Александры в Ртищево и Лены в Ленинграде.
Через месяц работы в техотделе корпусного цеха, куда направили Евгения сразу же после его прибытия в Сосновку, он затосковал и попросился на должность мастера корпусного участка. Для начальства просьба была необычной, потому что, как правило, молодые специалисты не очень-то рвались на «грязное производство», тем более, что и зарплата была почти одинаковой. Разница составляла 1 рубль 68 копеек – ровно столько, сколько стоила в то время бутылка водки. Зато работа была живая: с людьми и металлом. Поначалу ему приходилось трудно: народ незнакомый, в возрасте, да и совсем не похож на дальневосточников. Но потом ничего, притерлись. Зато летом была беда: рабочие, в основном татары, уходили целыми бригадами на заработки в села, добывая коня на мусульманский праздник сабантуй. А тут еще и автомобильный завод неподалеку от Сосновки стали строить. Пошли слухи про большие зарплаты… Туда и сбежал единственный квалифицированный сварщик-полуавтоматчик. В это время к Евгению Петровичу на участок отдел кадров прислал только что отслужившего армию парня, ростом около двух метров, в плечах косая сажень, ну, просто богатырь богатырем. Говорил он совсем мало и на все вопросы отвечал кивком головы «да» или «нет». Звали его ласково – Василёк. Да-да, не Вася, не Василий, а именно Василёк. И когда Евгений Петрович его спросил:
– На сварочном полуавтомате работал? – тот в подтверждение радостно закивал головой:
– Да!
На сборочной постели (так называется конструкция, на которой из стальных листьев и балок набора собирается секция корпуса), как раз собрали полотнище самой коварной скуловой со всякими и изгибами секции. У него отлегло от сердца: наконец-то не будет проблем со сваркой. Полуавтомат краном установили на секцию, в бункер засыпали флюс. Евгений Петрович включил полуавтомат, и тот пополз, оставляя за собой под застывающей коркой шлака алый валик сварного шва. Дотянувшись до Василька, Евгений Петрович ободряюще похлопал его по плечу и помчался в другой конец цеха, где на очередной позиции стоял готовый к спуску торпедный катер и были какие-то неувязки с изоляционными работами.
Возвратившись через некоторое время к сборочному участку, Евгений Петрович еще издали заметил что-то неладное. У секции стояли судосборщики, мастер ОТК (отдел технического контроля), Василёк и зиял провалом с металлическими «соплями» незаваренный шов длинной, наверное, метра с два. Народ с ожиданием и любопытством, а мастер ОТК – со злорадством, смотрели. Еле сдерживая себя, Евгений спросил у Василька:
– Ты когда-нибудь работал с полуавтоматом?
Василек энергично замотал головой:
– Не-а.
Пересилив себя, чтобы не влепить «леща» в улыбающуюся физиономию Василька, Евгений Петрович отправил его в отдел кадров, а сам стал ломать голову над тем, как, во-первых, залатать шов, и где, во-вторых, найти сварщика-специалиста?
А тут еще мастер ОТК подкатился:
– Ну что, инженер, влип?
Евгений Петрович всем телом повернулся к нему и, цедя сквозь зубы каждое слово, послал его далеко-далеко, а когда еще медленно стал наступать на него, сжимая кулаки, тот отбежал в сторону от греха подальше, прошипев:
– Ну, ты у меня еще попляшешь!..
Он был не намного старше Евгения, а оказался подлейшей души человеком. Отношения с ним были натянутые, а если точнее, то их вообще не было. Евгений Петрович не лебезил перед ним, не участвовал в пьянках после смены, как это делали другие мастера. Образования особого у того не было, за исключением кратких курсов технического контроля. Да и вообще люди с высшим образованием на этом заводе долго не задерживались. Мастер ОТК мелко пакостил, по показателям качества участок Евгения был на одном из последних мест.
Но со сваркой надо было что-то делать. Подонок подонком, а производство, тем более оборонное, не должно простаивать.
Евгений Петрович пришел домой поздно ночью, получил от жены очередную порцию утверждения:
– Работа дураков любит…
Секцию Евгений «сварил» все-таки сам, подбирая последовательно сменные шестеренки и скорость хода полуавтомата. Сварщики-ручники за две бутылки спирта заварили «провал». Интересно, что даже сквозное стопроцентное просвечивание швов, которое назначил мастер ОТК, не выявило ни одного дефекта.
Но секция, как заговоренная, снова попала в неприятный оборот. Тот самый Василёк стал работать помощником стропальщика. Вроде и работа несложная – закрути покрепче струбцины в намеченном месте и дай сигналы стропальщику: «Вира!» (вверх) или «Майна!» (вниз), а тот отрепетует его крановщику. Василёк так и сделал, но секция, поднятая на несколько метров над сборочной постелью, рухнула вниз и, спружинив, раза три на ней, подпрыгнула. Евгений Петрович перевел дух:
– Слава богу, никого не задело.
Невесть откуда вынырнул мастер ОТК, заверещал:
– Запрещаю ставить эту секцию! Она деформирована!
И слово-то нашел научное. Васильку и перепуганному стропальщику Евгений Петрович запретил появляться на своем участке. В обеденный перерыв он собрал бригаду сборщиков и пригласил стропальщика и крановщика с соседнего участка – поточной линии, где собирались рейдовые и водолазные катера. Секция была установлена и вварена в тот же день, корпус торпедного катера передвинули на следующую позицию, график не был сорван, а Евгения Петровича вызвали на следующий день в первый (секретный) отдел.
Начальник заводского ОТК ознакомил с приказом, в котором ему объявлялся строгий выговор с предупреждением. Это было его первое в жизни взыскание.
Завод располагался в излучине реки Вятка, прилепившись одним краем к подножию пологого холма. Как раз там, где тихо стыл речной затон – очень удобное место для спуска кораблей на воду.
Сам городишко с населением около двадцати тысяч жителей раскинулся на вершине пологого холма.
Здесь, на Приволжской возвышенности, вообще было принято любой холмик именовать горой. Но эта действительно смахивала на сопку-подростка и, следовательно, по местным понятиям имела все права называться если не горой, то хотя бы горкой.
Старожилы рассказывали, что во времена, когда по реке еще сплавляли плоты, плотогоны причаливали их к берегу тихого затона у подножия этого пригорка, разводили на побережном песке костры, тщательно мылись, стирали белье и, главное, выжигали на костровых огнищах табуны вшей из своих зипунов, штанов, рубашек…
Видимо, поэтому этот холм и называли «Вшивой горкой».
Впрочем, такое свое название она могла получить и по другой причине. За горой река делала крутой изгиб. Перед этим поворотом течение реки было убаюкивающе-спокойным, но за поворотом желтое полотно воды вдруг рвалось, скручивалось в жестокие жгуты, бесновалось затягивающими вглубь воронками, становилось черной и страшной даже в ясную солнечную погоду. Над этим речным изломом почему-то всегда носились шквальные порывы ветра…
Словом, гиблое, «вшивое» место.
И кто знает, кто считал, сколько плотов здесь было разбито, сколько могучих плотогонов безвозвратно исчезло в беспощадных водоворотах этой речной излучины?
Вот почему и мылись на здешнем бережку, стирались. Рядились во все чистое в предвидении неминуемой борьбы со стихией русобородые мужики-плотогоны. И все-таки гнали трудноуправляемые связки бревен дальше, вниз по буйной реке, до самой Волги-матушки. Гнали, положась на милость Божию и русское «авось».
В первые дни своей работы на заводе Евгений обнаружил невдалеке от берега реки брошенную яхту с пробитым днищем. Оказалось, что яхта «ничейная».
Начальник цеха в ответ на его вопрос вяло махнул рукой:
– Кому этот «гроб» нужен? Можешь забирать его себе, если больше заняться нечем.
Заниматься, в общем, было чем. Для молодого специалиста всегда найдется «уйма дел и суматоха явлений» на малознакомом ему предприятии. Кроме того, он преподавал в вечернем судостроительном техникуме и в филиале Кировского политехнического института (молодому специалисту, да еще и женатому, дополнительные заработки ой как были необходимы!). Но уж больно притягательными казались речные путешествия на яхте. И он взялся ее восстанавливать, выкраивая для этого любую возможность.
Повреждения оказались не очень большими, и вскоре отремонтированный швертбот уже покачивался на воде в затененном уголке затона. Испытательное плавание на нем он провел в ковше завода. Яхта оказалась тяжеловатой и на ходу, и в управлении.
Видимо, были в ней какие-то конструктивные недоработки. Но ему, несколько раз ходившему под парусом по просторам Амурского залива, эти недостатки «ничейного» судна показались малозначимыми. Видимо, здесь поработал «фактор дилетанта», совершенно не знающего особенностей речного судовождения.
И вот в одно прекрасное воскресенье Евгений Петрович решил испытать яхту уже в достаточно длительном плавании. Вывел суденышко на середину реки, прихватил парусом ветерок и направил яхту вверх по течению. Пока все шло хорошо. Не слишком маневренно, как-то увалисто, но яхта шла, одолевая течение и пологие изгибы фарватера.
Минут через сорок окончательно прочувствовав, как он полагал, яхту, слившись с ней душой и телом, классически, как учили в яхт-клубе, выполнил поворот. Правда, поворотливость яхты оказалась довольно вялой, размашистой, и она с трудом «уложилась» в радиус разворота, проскочив почти вплотную к берегу.
И яхта помчалась вниз по течению мимо заводского затона, туда, где за мыском Вшивой горы ярился водяным буйством и воздушными вихрями водоворот.
Попутный ветерок, попутная вода, легкая тишина и завораживающий шепоток воды за бортом, да бездумно скользящие поблизости тенистые берега…
Чувствуешь себя птицей, отрешенной от всего земного.
Вот уже и знакомый затон, надо только завернуть за излучину реки. Для этого нужно вывернуть яхту в сторону от основного фарватера, ближе к противоположному берегу, потому что из-за мыса вдруг появилась корма земснаряда. Он постоянно грохочет в этом месте, то приподнимаясь по течению ближе к заводу, то спускаясь за Вшивую горку. Он усердно вычищает фарватер реки, и река так же усердно спешит натаскать сюда ил, песок, всякий мусор. Но заиливания дна, его обмеления допустить нельзя: кроме построенных на заводе кораблей и катеров здесь постоянно снуют небольшие речные суда: пассажирские и сухогрузы, баржи со строительным песком, кирпичом, солью, плоскодонные лесовозы и буксиры-толкачи с высоко задранными стенообразными носами, всякие прочие «плавединицы».
Сейчас земснаряд был «привязан», как растяжками, четырьмя (по два с каждого борта) швартовами к противоположным берегам, но сам стоял почти на стрежне, и гневное в этом месте течение, огибая искусственную преграду, создавало дополнительные водовороты, боковые струи и вообще вело себя крайне непристойным образом. Но хуже всего было то, что реке подыгрывало и солнце, бросая сверху яркие лучи, а снизу водная рябь слепила солнечными зайчиками.
В общем, швартовых концов, держащих земснаряд за берег, Евгений Петрович не заметил. Пытаясь отвернуть влево, он подставил борт яхты течению реки. В этот-то момент из-за Вшивой горки налетел порыв ветра. Он ударил в парус и завалил его почти до среза воды. А водовороты завершили дело, неуправляемую яхту понесло к плоской корме землечерпалки. Все попытки исправить положение с помощью руля и паруса оказались тщетными.
Финал наступил мгновенно.
Яхту, захлестываемую буйным течением, со всего маху прибило к корме землечерпалки. Верх мачты зацепился за натянутый швартов. Яхта оказалась в ловушке между земснарядом и ставшим вдруг таким далеким берегом.
Вода ударила в борт, перекинулась внутрь яхты, прижала Евгения к днищу, захлестнуло рот, глаза, уши. Если и существует безумие природы, то в тот миг оно проявилось в полной мере и только к нему.
Яхту все плотнее прижимало к корме земснаряда и казалось, не было никакой возможности избавиться от этого дьявольского буйства реки.
На счастье кто-то из команды, оказавшийся на палубе землечерпалки, схватил багор и сумел отвести верх мачты от швартова. Яхта резко выпрямилась и вынырнула из-под борта земснаряда. Стоя почти по пояс в воде, залившей яхту, Евгений поблагодарил спасшего его речника взмахом сжатых над головой рук.
Он добрался до затона на веслах, в кровь измочалив ладони.
А невдалеке, метрах в двухстах, на самом изломе поворота реки, у противоположного берега выглядывало из воды пробитое днище большой корабельной шлюпки. Как позже рассказывали, командир одного из кораблей, моряк до мозга костей, тоже не учел нрав реки. И она не замедлила воспользоваться высокомерием человека: никто из находившихся в шлюпке не спасся.
Евгений поступил в заочную аспирантуру в Дальневосточном политехническом на второй год после его окончания.
Вызов для сдачи экзаменов пришел в Сосновку, где он работал матером на участке сборки корпусов торпедных катеров, и несказанно удивил всех его начальников. Но его отпустили… в неоплачиваемый отпуск, и билеты – за свой счет. В то время инженер еще мог позволить себе такие расходы. В качестве реферата была зачтена его дипломная работа, вернее, глава, посвященная научным исследованиям. Работая над этой главой, он еще студентом шестого курса обследовал танкера, приходившие во Владивосток, на предмет появления трещин в сварных конструкциях. Впоследствии это развилось в тему кандидатской диссертации…
И вот Евгений в рейсовом автобусе едет из аэропорта во Владивосток, который в то время был закрытым городом. На Океанской автобус для проверки документов остановил милицейский патруль. В качестве оправдательного документа Евгений протянул лейтенанту милиции справку-вызов для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру. Лейтенант вполголоса прочитал справку, сверил данные паспорта и, козырнув, передал его документы. И вдруг он услышал голос с заднего сиденья:
– Ну, здравствуй, сосел!
Обернулся и узнал отца своей одноклассницы со странной фамилией Похил. Их семья переехала в поселок, когда он учился в третьем или четвертом классе.
Девочка с белыми косичками-хвостиками, с белым бантом, в белом фартучке, худенькая и большеглазая, появилась в классе как-то незаметно. В тот день Женя был санитаром и должен был доложить учительнице перед началом урока, у кого грязные руки, проверив, какие они на самом деле у всего класса.
У Похил руки были в чернилах – тогда писали перьевыми ручками, носили чернильницы-непроливайки, которые только так назывались, а на самом деле проливались в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте.
Когда Женя резво доложил учительнице, что у всех руки вымытые и очень чистые, Васька с задней парты ехидно и с торжеством заявил:
– А он не сказал, что у новенькой руки в чернилах!
Лицо у новенькой стало моментально красным, она стыдливо спрятала руки под фартук, а Женя стоял, опустив голову. В классе стало тихо, учительница говорила, какой он плохой санитар и что нехорошо обманывать старших, а тем более учителей. Женя стоял и ежился, а когда невзначай поймал взгляд учительницы, то увидел смешинки в ее глазах. Евгений не раз в жизни мысленно обращался к ней:
– Дорогая Екатерина Васильевна, учительница первая наша! Ты учила нас всего четыре года, но осталась в памяти на всю жизнь.
Женя, извините, теперь уже Евгений Петрович, стал ректором университета и в силу публичности своей должности стал появляться на экранах местного и даже центрального телевидения. И вот однажды раздался телефонный звонок и старческий голос прошелестел в трубку:
– Женя! Это Екатерина Васильевна. Ты меня помнишь?
У него как-то перехватило горло, и он не сразу смог ей ответить. Потом она звонила еще несколько раз, но встретиться так и не довелось, да он и хотел оставить ее в памяти молодую и красивую.
А Васька с задней парты все-таки «достал» Женю на следующий день после неудачного «санитарничества». Шоколадными конфетами тогда не баловали. Но были конфеты, такие круглые, с начинкой из повидла, оболочка которых, если долго-долго сосать становилась тонкой-тонкой, а потом если ее раскусить… получаешь, как сейчас говорят, «райское наслаждение». И вот когда оболочка стала тонкой-тонкой и осталось только ее раскусить, раздался Васькин голос:
– Екатерина Васильевна, а Гуримов конфету сосет.
Последовала экзекуция. Жене приказали положить конфету на учительский стол и встать у доски до конца урока. Все равно ему делать было нечего: задачу он решил уже давным-давно. С Васькой они после уроков, конечно, подрались.
Глядя с высоты прожитых лет, Евгений не раз задумывался: когда же кончается «ябеда» и появляется «стукач»? Ведь это тоже воспитывается, а их приучали к доносительству с малых лет, да еще как!
Хорошо, что Екатерина Васильевна не поощряла ябед, а как-то уже перед сдачей экзаменов за четвертый класс подошла к Жене, обняла за плечи и сказала негромко:
– Запомни, Женя, на всю жизнь – поступок рождает привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу. Я верю, что ты вырастешь хорошим человеком, ведь ты у нас отличник. И, главное, не задавайся!
Став взрослым, в какой-то книге Евгений прочитал эту сентенцию про характер и судьбу, но это уже было вторичным.
Екатерина Васильевна потрепала его по голове:
– А взрослые книги тебе еще рано читать!
Она намекала на то, что как-то встретила его на дороге с кипой книг, которые Женя тащил домой из библиотеки. Она взяла том «Войны и мира» Льва Толстого и спросила:
– Для родителей?
– Не-а, – ответил Женя, – сам читаю.
– И тебе все понятно? – спросила она.
– Ага, вот только где по-французски написано, читать трудно, – ответствовал Женя.
Учительница покрутила головой. В старших классах «Войну и мир» он уже не читал.
Диссертацию Евгений защитил в возрасте Христа – в 33 года, но как мало он знал тогда! Одно свое изобретение по ремонту сварных соединений «пробивал» 30 лет! Уже закончилась военно-морская служба, уже изменился политический строй, и государство стало другим, а он только-только получил патент, первую заявку на который сделал так давно. Главное в изобретении – это формула. И ее надо составить так, чтобы она была защищена со всех сторон, короче говоря, чтобы она была единственной, чтобы она была формулой Жизни, формулой Судьбы.
И Евгений Петрович понял, как все-таки перекликаются чисто технические понятия и жизненные коллизии человека.
Ведь и предел прочности, и предел усталости, и предел выносливости, а тем более коэффициент концентрации напряжений в конструкциях характерны как для металла определенной марки, так и для определенного человека.
И если он (этот коэффициент) равен у человека единице, то его не сломает горе и не раздавит радость!
И наука это подтверждает.
…На любом мало-мальски развитом производстве должность главного инженера наиболее ответственная. Если директор предприятия «осуществляет общее руководство», то на плечи главного инженера возложена ответственность буквально за все: организация работ всех подразделений завода – от участков до цехов и завода в целом, непосредственная ответственность за технику безопасности, за скрупулезное соблюдение рабочими технологии производства, за пожарную безопасность предприятия, за состояние станочного парка, за уровень и своевременность снабжения завода необходимыми материалами, за… Да нет, пожалуй, ни одного фактора производственной жизни предприятия, за который бы не отвечал главный инженер и своей головой, и своей карьерой.
Собачья должность. Но исполнять ее можно по-разному. Главный инженер на заводе, где пришлось Евгению начинать трудовую деятельность, по складу характера был сущим диктатором. Он относился к разряду людей, для которых понятие служебной этики вообще являлось химерой, способной только вредить делу. Видимо, подобный взгляд на отношение к людям он выработал, исходя из собственного опыта общения с ними, и превратил его в свое жизненное кредо. В итоге завод страдал хронической текучкой кадров инженерно-технического состава. Люди не выдерживали бронебойного хамства главного инженера и увольнялись с престижного градообразующего судостроительного завода.
Все это Евгений узнал довольно быстро, в течение первых недель работы на заводе. Правда, первая его должность – мастер на одном из участков корпусного цеха – не предполагала частого общения с главным инженером. Но катастрофическая нехватка инженерно-технических работников довольно быстро выдвинула его на должности, позволяющие все чаще и чаще встречаться с главным инженером завода: мастер, старший мастер, строитель, главный строитель…
В кабинете главного инженера шла обычная рабочая планерка. Начальники цехов, старшие мастера участков, строители – каждый сообщал о возникающих ежедневно проблемах, предлагал варианты избавления от этих проблем. Но главной из них для всего завода была проблема мусульманских праздников и пора сенокосов, когда татары массово уходили на заработки, добывая на зиму конину.
Примерно семьдесят процентов рабочих на заводе были мусульманами. А ислам – религия строгая. И поэтому, когда наступал сенокос или какой-либо мусульманский праздник, завод вымирал. Сегодняшняя планерка проходила после очередного такого «вымирания» предприятия. И главный инженер был в крайне плохом настроении, не скрывал этого, да и, видимо, не стремился скрыть. Эти проблемы крайне отрицательно сказывались на выполнении плана со всеми вытекающими последствиями. В первую очередь за это получал нагоняй главный инженер. Естественно, доставалось и другим. И если главного «прорабатывали» на заседаниях партбюро, то своих подчиненных он буквально втаптывал в грязь, нисколько не щадя чужого самолюбия.
А Евгений физически не переносил хамства в любых его проявлениях. До отвращения неприятно наблюдать, когда начальник «тыкает», разговаривая со своим подчиненным, особенно старшим по возрасту, а тот вежливо обращается к нему только на «вы». Раболепие возбуждает агрессию хамства, и, видя непротивление подчиненных, подобный руководитель переводит разговор на «высокохудожественную» матерщину. А подчиненный в ответ и слова не молвит против. В лучшем случае скрутит кукиш в кармане.
Сколько в жизни было случаев, когда Евгению приходилось давать жесточайший отпор подобному хамству начальника! В таких стычках его словно бес под локоть толкал, и уже, не сдерживаясь, он высказывал все свое презрение к хаму-начальнику. Раскаяние после таких стычек, как правило, не наступало, хотя и доставалось ему порядком.
Светлана часто увещевала его, уговаривая не связываться: людей, мол, не переделаешь. А он не мог, да и не хотел оставаться безликим «телеграфным столбом» при виде любого проявления хамства. Правда, натерпелся за эту черту своего характера вволю. Особенно трудно пришлось на военной службе. Впрочем, людей, отстаивающих свое мнение, нигде не любят. В армии – тем более…
Вот и на том совещании повторилась давно знакомая процедура. Каждый докладчик получал избыточную долю хамства. Люди сидели вдоль длинного стола, и Евгений видел их дрожащие руки, у некоторых сильных и взрослых мужчин даже глаза краснели.
Наконец, дошла очередь и до него. Разогретый предыдущими «разгонами» главный инженер уже через минуту-другую отбросил всякую вежливость, начал ему «тыкать» и переключился на заурядную площадную брань. Евгений тоже не замедлил перейти на «ты» и послал его туда, куда его давно никто не посылал.
Каменная тишина повисла в кабинете. Лицо главного инженера мгновенно налилось краской. Казалось, его сейчас хватит апоплексический удар. Сидящие за столом низко опустили головы, то ли скрывая улыбки, то ли ожидая всесокрушающей вспышки гнева заводского деспота. Но тот неожиданно тихо, с хрипотцой произнес с растяжкой:
– Та-а-а-к… значит. В общем, совещание закончено!
И дальше с угрозой в голосе:
– А тебе, Гуримов… Лучше мне на глаза не попадаться.
Когда стали расходиться, к Евгению по одному подходили свидетели этой сцены и, оглянувшись, чтобы никто не видел, тихонько советовали:
– Увольняйся, Петрович. Уезжай на свой Дальний Восток. И чем скорее – тем лучше. После сегодняшнего «главный» не даст тебе жизни.
Ясновидцы оказались правы лишь наполовину. В открытых стычках главный инженер уже не хамил Евгению. Уже сдерживал свою дурь, когда разговаривал с ним, но не упускал случая устроить исподволь какую-нибудь каверзу. Тем более что должностных возможностей у него было более, чем достаточно.
Евгений проработал в должности строителя еще почти год. И главный инженер за это время ни разу не повысил на него голос, ограничиваясь мелкими, ничтожными придирками не только к нему, но и к его жене, которая тоже работала на заводе инженером-экономистом, а на общественных началах собирала у работников заводоуправления профсоюзные взносы. С остальными инженерами главный обращался в прежней манере.
Подобные взаимоотношения с начальником, которому напрямую подчинен, жизнь в розовый цвет не окрашивали. Это – одна сторона медали, производственная. Оборотная сторона – тоже несложившиеся отношения с партийной «владыкой» города.
Местный горком КПСС имел редкий в партийных управленческих структурах статус – объединенный горком КПСС. Таким образом, первому секретарю городского партийного комитета подчинялись не только партийные и хозяйственные руководители города, но и все партийные райкомы и директора всех предприятий всех районов, расположенных в этом географическом «аппендиците» Кировской области. Понятно, что секретарь объединенного горкома КПСС или, как его официально и неофициально именовали, «секретарь всех секретарей» был очень высокого о себе мнения. И неустанно следил за тем, чтобы коммунисты города и подчиненных горкому районных и производственных комитетов КПСС не сомневались в истинности веса указанной партответственности. А для этого он неустанно проводил всевозможные полузначимые, значимые и сверхзначимые партийные мероприятия, выступая на которых нес (что в период начинающейся «эпохи застоя» становилось естественным и даже обыденным) всевозможную словесную чепуху.
Евгения Петровича, молодого, а потому принципиального коммуниста очень злили и сами эти никчемные заседания, проходившие, как правило, после работы или в выходные дни, и убийственно безграмотные в производственном и филологическом отношениях многочасовые доклады первого секретаря. Естественно, что он после каждого такого доклада обязательно высказывал персональное мнение «рядового коммуниста» по поводу услышанного. А поводов для нелицеприятного мнения о себе секретарь всегда в каждом докладе давал предостаточно. Конечно, эти «принципиальные» комментарии отношений между ним и местным партийным идолом не улучшали.
И этот «партбожок», как и главный инженер завода, тоже, видимо, искал повод, чтобы избавиться от строптивца. Но избавиться так, чтобы ему потом «всю жизнь икалось».
В общем, подобная по большому счету жизненная мелочь из тех, что приходят и уходят. Но ведь и вши окопные тоже мелки, однако доводят целые армии до погребальных эпидемий тифа.
А в мире разгоралась «холодная война», набирало обороты противостояние с Америкой и западными странами.
Столицу Германии рассекла надвое непроходимая Берлинская стена. Человечество только что пережило Карибский кризис, и зыбкий мир еще был полон пересудами об убийстве президента США Кеннеди. На территориях государств, окружающих СССР, появляются все новые и новые военные базы, принадлежащие блоку НАТО или непосредственно США. Главным образом – авиационные и ракетные. Но были и военно-морские.
Военные училища не успевают удовлетворять растущие потребности армии и флота. Офицеров катастрофически не хватает.
Офицеров запаса в то время могли призвать на службу. Но только на два года, независимо от рода и вида войск – на флот ли, в пехоту. Поэтому – двухгодичники. Впрочем, такого резервиста могли уговорить «захотеть служить» на более длительный срок, например, до утвержденного законом выхода в отставку.
Вот и активничают военкомы, уговаривая двухгодичников соглашаться на долгосрочную службу. Евгений Петрович тоже офицер запаса, тоже «двухгодичного поля ягодка». И его уже вызывал местный военком и предлагал «идти под погоны на всю оставшуюся жизнь».
Причем не только его. От Кировской области большая группа офицеров запаса уже оформлялась «в рекруты» местными военкоматами.
К этому времени Евгений Петрович был назначен главным строителем нового для рыбацкого флота страны типа судов – креветколовов. Правда, эти суда предназначались для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты, но вспыхнувшая арабо-израильская война рикошетом ударила и по стапелям судостроительного завода. Строительство креветколовов было приостановлено, и на стапелях застыли пять корпусов недостроенных судов. Получилось, что Евгений Петрович временно оказался не у дел. Да и мотивы личного характера откровенно подталкивали его к тому, чтобы очертя голову принять предложение военкома и стать кадровым офицером.
Евгений Петрович понимал, что если примет предложение военкома, то, возможно, добавит воды на мельницу затаенных желаний первого секретаря объединенного горкома и главного инженера. Значит, если уж идти под погоны, да еще на всю жизнь, то идти следовало так, «чтобы не было стыдно за…».
На военной кафедре политехнического института студентов готовили к службе в войсках ПВО в должности командира стартового взвода, но ведь Евгений – кораблестроитель… И на флоте есть для него более толковое применение – военная приемка на судостроительном или судоремонтном предприятии. Здесь он, так сказать, в своей тарелке. К тому же военпред – это офицер-испытатель. Это именно то, что ему по душе, по нраву, по характеру: он – человек риска, но обдуманного, просчитанного и предусмотрительного.
Обо всем этом он и заявил военкому при очередной встрече. Заявил с прямолинейностью молодого абсолютиста: только на флот!
Военком, полковник-пехотинец с белоснежной от седины головой, с тремя нашивками за фронтовые ранения (два тяжелых и одно легкое) и несколькими рядами орденских планок на кителе, смотрит на него всепонимающим взглядом:
– Вообще-то, Гуримов, есть закрытое постановление Политбюро и приказ министра обороны. И ты, как коммунист, обязан исполнять волю партии, а я как военком могу сейчас же призвать тебя и отправить в дивизион ПВО. Куда-нибудь на Кушку или, допустим, под Ухту, на северной оконечности острова Сахалина. И будешь там зеленеть до самой пенсии. Но мне нравится твоя убежденная любовь к флоту. В общем… У нас с тобой этого разговора не было, а ты садись сейчас на поезд и мчись в Москву, в Министерство обороны. Попробуй там решить свои проблемы. Начти с того, что отыщи в Министерстве полковника… – И военком называет ему фамилию своего фронтового друга.
В Министерство обороны Евгений съездил. Потом еще раз поехал. Потом еще и еще. Несчетное количество раз побывал он в этом ведомстве. Но своего добился. Седой военком вместе с повесткой (теперь уже формальной) вручил ему и совсем неформальное направление военпредом в военную приемку судостроительного завода, на котором Евгений еще числился главным строителем.
Через месяц Светлана увидела его в военно-морской форме с лейтенантскими погонами. Стукнуло ему в это время двадцать семь лет, и про таких шутили:
– Такой молодой, а уже лейтенант!
В начале службы, когда на погонах были две маленькие лейтенантские звездочки, он думал, что будет выполнять только четко поставленные задачи командиров. Жизнь и служба показали, что постановка задач бывает весьма расплывчатой, а для выполнения многих из них требуется основательно подумать.
Первая его должность соответствовала званию капитана 3-го ранга и называлась «военпред». В то время он принимал для флота торпедные катера. Строили их на Сосновском судостроительном заводе, а потом перегоняли на Черное море для испытаний и передачи на флот.
И вот стали поступать рекламации на то, что в корпусах катеров образовывались трещины по сварным швам, причем в одном и том же месте: в районе кормы, где вваривался для прочности утолщенный лист. Создавались специальные комиссии, проверялась технология. Вроде бы все правильно. Комиссии на этом успокаивались, и делали вывод о конструктивной недоработке, но трещины продолжали появляться.
Евгения включили в состав одной из комиссий. Прочитав сборочный чертеж, он обратил внимание на то, что этот самый лист изготавливался из высоколегированной стали, а палуба из обычной.
«Стой, – подумал он, – но ведь и электроды для сварки должны быть особые».
Заглянув в спецификацию, обнаружил, что нет, указаны обычные электроды для низколегированных сталей. Евгения все-таки точил червячок сомнения. Он стал разбираться дальше и выяснил, что в чертеж внесены изменения согласно рационализаторскому предложению. Подняв первичную документацию, он выяснил, что один из работников отдела снабжения совместно с тем самым мастером ОТК, выполняя план по рационализации, предложили заменить марку электродов, объяснив это унификацией и экономией (обычные электроды стоили дешевле). Да и не надо было теперь разыскивать дефицитные электроды, которых на один корпус требовалось меньше пачки. Рацпредложение «на ура» прошло по инстанциям, вознаграждение за него пропили, как водится, в теплой компании, а что стали появляться трещины в корпусе, до рядовых работников как-то не доходило. Когда швы заварили правильными электродами, трещины перестали появляться. Тогда-то Евгений Петрович и понял мудрое изречение Козьмы Пруткова: «Зри в корень».
Любой вид деятельности людей – это в первую очередь взаимоотношения между ними: радушные или натянутые, официальные или дружеские, сухие, приветливые, предубежденные и всякие другие отношения, в конечном счете сводятся к одному виду общения – деловому. Особенно это заметно среди военных. Здесь всегда, даже среди равных в звании и должности офицеров, пульсирует едва уловимый налет превосходства одного над другим. Неизвестно по какой причине – естественному желанию мужчин в погонах выглядеть друг перед другом более «ответственными», или по какому другому психологическому посылу, но случаются на службе казусы – довольно поучительные и показательные.
Первые месяцы своей службы в военной приемке Евгений провел на Черном море, в городе Керчи. Здесь находилась испытательная база торпедных катеров. Эти скоростные корабли строились на разных судостроительных заводах, расположенных главным образом на берегах рек европейской части СССР, и поэтому приходили в Керчь разными путями.
Но независимо от адреса постройки, программа испытаний для катеров была одна, довольно жесткая, строгая, зачастую – изматывающая и технику, и людей. Напряжение испытаний особенно возрастало к исходу года, когда на всех давили календарные сроки передачи флоту планового количества катеров, а программа их испытаний «сыпалась» то из-за погодных условий, то по причинам, в рождении которых пресловутый «человеческий фактор» играл далеко не последнюю роль.
Впрочем, напряжение сдаточных испытаний возрастало не только на финише года. Оно колебалось по траектории синусоиды в полном соответствии с календарным графиком: квартальный план сдачи, полугодовой план сдачи, годовой план… И всякий раз, когда испытания катеров начинали подходить к очередной вершине синусоиды календарного плана, весьма заметно накалялись взаимоотношения между представителями военной приемки и начальником сдаточной команды.
Накалялись эти отношения по вполне понятной причине, вызванной «единством и борьбой противоположностей»: приемка требовала от сдатчиков качества выставляемой на испытание «продукции», а сдаточная команда – количественной приемки той же самой «продукции».
Представителем государственной комиссии для приемки торпедных катеров Сосновского судостроительного завода был назначен адмирал.
И если адмирал в споре со сдатчиком весьма активно использовал глубинные пласты русского народного фольклора, то сдатчик, человек исключительно гражданский, по вполне понятным причинам отплатить адмиралу той же монетой никак не мог: не позволяла элементарная зависимость должностного благополучия начальника сдаточной команды от благорасположения адмирала. Но как-то случилось, что в один страшный день эти два уважаемых человека разругались до такой степени, что наступил момент, когда глава сдатчиков смертельно возненавидел руководителя приемщиков. Возненавидел, но виду не подал.
А напряжение и объем испытаний возросли до такой степени, что уже стало не хватать ни офицеров военной приемки, ни представителей сдатчиков для выхода в море на очередные испытания. И в таких условиях на звания и должности уже не обращали внимания: адмирал уходил на торпедном катере в просторы Черного моря так же часто и надолго, как и рядовой офицер этой «конторы». Не отставал от адмирала по активности участия в испытаниях и руководитель сдаточной команды.
И вот судьба-злодейка в один черный миг свела этих людей на одном катере. Им вместе предстояло провести в открытом море на борту стремительного корабля примерно шесть часов… Скоростные испытания торпедного катера – это неповторимые, зачастую весьма острые ощущения, испытать которые не всегда удается даже любителям экстремальных видов спорта.
На время ходовых испытаний гальюны на катере наглухо задраивались, а справлять нужду приходилось с кормы, держась за леера.
Вот именно это обстоятельство – задраенные гальюны – и решил использовать начальник сдаточной команды для претворения своего плана мести адмиралу. И момент для начала мести избрал самый подходящий: короткие минуты движения катера по фарватеру внутреннего рейда Керчи. Самое удобное время для чаепития. Потом уже попить чайку не удастся.
– А что, Николай Сергеевич, не заказать ли нам по кружечке чая? – елейным голосом спросил главный сдатчик адмирала.
– Закажи, – грубовато, но без подозрительности в голосе ответил адмирал.
Начальник сдаточной команды вышел из каюты командира катера, в которой располагался на время испытаний вместе с адмиралом, и заглянул на камбуз:
– Кок, две чашки чаю. И – покрепче.
Кок сноровисто налил и выставил в «амбразуру» одну кружку с чаем, отвернулся, чтобы налить вторую, и в этот момент начальник сдаточной партии сыпанул в кружку несколько таблеток пургена – слабительного, очень сильного и быстродействующего.
Возвратившись в каюту, он подсунул кружку с напургененным чаем адмиралу.
…Сквозь бронированные стекла боевой рубки желающие могли наблюдать, как адмирал провел основное время испытаний на одном из крыльев мостика, вцепившись руками в ограждение рубки и рискованно свесив филейную часть своих телес над улетающим за корму пенным буруном. И даже грохот вибрации не мог заглушить словесных тирад и прочих звуков, которые издавал адмирал, продуваемый со всех сторон ветрами Черного моря.
Надо отдать должное адмиралу: человек он был справедливый и произошедшее воспринял вполне резонно:
– Ты знаешь, – сказал он, встретив на следующий день начальника сдаточной команды, – вчера на испытаниях я сполна понял всю глубину русской пословицы: «не плюй в колодец», но ты у меня тоже хлебнешь…
И заставил «хлебнуть».
Ответственный сдатчик, так официально называлась должность начальника сдаточной команды, был практиком. Иначе говоря, он имел среднетехническое образование и держался на этой должности только потому, что обладал богатейшим опытом работы в судостроении. Но в теории судостроения, как и в знании русского языка и специальной терминологии, был не особенно силен. Например, несмотря на замечания, упрямо именовал гирокомпас «гирякомпасом». А надо сказать, что в этом навигационном приборе картушка буквально плавает в спирте. Чтобы матросики не сливали спирт из гидросферы гирокомпаса, в него обычно добавляют фенобарбитал – тот же самый пурген.
И однажды после приемки навигационной системы адмирал, сославшись на морские традиции, предложил ответственному сдатчику, хлебнуть «по граммулечке» из чаши гирокомпаса, поскольку, по словам адмирала, это означало не просто отметить окончание приемки навигационной системы катера, а как бы орден обмыть!
Пили они вместе. Но почему-то лишь ответственный сдатчик вынужден был добираться к себе домой «короткими перебежками» от куста к кусту, распугивая керченских женщин своим видом с полуспущенными штанами…
На торпедных катерах, стоящих в очереди на испытания в Керченской базе, тревога. Мачты некоторых из них увешаны тревожными флагами: «Человек за бортом». На пирсе и на ютах нескольких катеров суетятся матросы и офицеры. Пытаются вытащить упавшего за борт матроса. А он не просто за борт упал, а нырнул аккурат в просвет между кормой катера и бетонной стеной пирса. Очень опасно нырнул: катера, как живые, то стараются плотно прижаться к пирсу, то вдруг отходят от него на метр-полтора, натягивая швартовые канаты. Попади человек в такой зазор – погибнет незамедлительно. Ведь накатит на него отвесная транцевая корма, прижмет с неимоверной силой к бетону пирса, и все, только хруст костей, короткий вскрик, да кровавое пятно по воде расплывется.
Но наш ныряльщик не растерялся. Он бултыхался в том промежутке жизненного пространства, которое оставили ему бетонные сваи пирса, стоящие примерно в метре друг от друга. И вытащить оттуда перепуганного матросика казалось неимоверно трудно.
Мечущиеся по пирсу и на палубах катеров матросы и офицеры на разные голоса кричали купальщику, чтобы он хватался за спасательный круг. Но матросик, опасливо выглядывая из-за свай, моргал ошалелыми глазами и только повторял:
– Шесть шагов… Шесть шагов…
Наконец «спасателям» удалось-таки вытащить керченского моржа (дело происходило в последних числах ноября, время года откровенно не пляжное). Но и оказавшись на палубе, продрогший, в вымокшей насквозь шинели, с которой ручьями стекала стылая черноморская вода, спасенный матрос только моргал удивительно округленными глазами и без устали повторял:
– Шесть шагов… Шесть шагов…
Лишь на следующий день, когда матрос окончательно пришел в себя, удалось вытянуть из него относительно связный рассказ о вчерашнем происшествии. И вот что выяснили строгие военно-морские дознаватели.
Для каждого нового торпедного катера формировался экипаж из матросов, старшин и офицеров, которые служили в той бригаде катеров, в состав которой должен был поступить и новый корабль. Правда, экипаж формировался по принципу «с миру по нитке» – из состава экипажа каждого катера отбирались по одному-два человека, и таким образом новый флотский коллектив формировался быстро, состоял из достаточно опытных военморов, а дальнейшая его судьба уже не внушала особых опасений, за время испытаний и достроечных работ люди успевали притереться друг к другу и стать тем сплоченным экипажем, который и необходим каждому кораблю.
Но в этот экипаж, как на грех, был включен матрос, обладающий уникальными способностями: он мог спать на ходу и с открытыми глазами. Эти способности лихой торпедист использовал во время скучной своей вахты. При этом, чтобы никто не заметил, что он спит, матросик постоянно маршировал от надстройки кормового среза палубы, там разворачивался и шагал обратно. Это расстояние – от тумбы к срезу кормы – равнялось шести его шагам. И на катере, на котором начинал служить наш герой, он настолько адаптировался к шести шагам, что едва, заступив на вахту, засыпал мгновенно, а ноги сами отмеривали необходимое число шагов и разворачивали организм спящего часового на сто восемьдесят градусов в нужный момент и всегда безотказно.
Подобный же фокус он решил проделать и на новом катере, только что приведенном в Керченскую базу штатной командой перегонщиков.
Это была первая вахта матроса на новом корабле.
Он заснул, как обычно, сразу. Ноги рефлекторно понесли матросика к срезу кормы.
Шаг. Второй. Третий…
На шестом шаге матрос свалился за борт.
Узнав историю с купанием, приемщики кинулись измерять длину катера. Каково же было изумление, когда выяснилось, что новый корабль на целую «шпацию» короче своих братьев-близнецов, построенных на том же заводе и по тем же чертежам…
Евгений долго ломал голову над тем, как же судостроители умудрились втиснуть в укороченный корпус катера всю его энергосиловую и боевую начинку? Действительно, голь на выдумки хитра.
И все-таки чувствовали Гуримовы себя в Сосновке одинокими. Вроде бы и знакомые хорошие появились, и служба нравится, и климат нормальный: зима – так зима, лето – так лето, и квартира какая-никакая была, а тянуло их на Дальний Восток, и все тут.
– Ну что, Свеченька, рванем-ка мы, как наши родители, опять по «дуге большого круга», а? Не прижились мы здесь, да и вряд ли приживемся, – обратился как-то к Светлане Евгений.
– Да я бы с удовольствием, – согласилась та. – А где жить-то будем? – спросила она после недолгого раздумья.
– Да не пропадем. Устраиваются же как-то другие, – ответил муж.
Они несколько раз возвращались к обсуждению этого вопроса и окончательно решили – пора уезжать!
Евгений подал рапорт о переводе на Тихоокеанский флот.
Узнав о желании Евгения, кадровик не замедлил прокомментировать это известие:
– Все умные люди бегут с Дальнего Востока в любое место в европейской части, а ты решил уподобиться братцу Иванушке. Первый раз с таким дураком встречаюсь за тридцать лет своей безупречной службы.
Ну и пусть говорит, что думает: на начальственный роток не накинешь платок. В конце концов Иван-дурак на поверку оказывался умным парнем.
Владивосток для семьи Гуримовых – это родные им люди, хотя и живут в Уссурийске, но это всего 100 километров разницы, а не 8000, как от Сосновки. А для Евгения это не только главная база Тихоокеанского флота, но и дальневосточный центр судостроительной науки. Во Владивостоке, наконец, родной политехнический институт…
Евгений снова пару раз съездил в Москву по дороге, которую проторил по указке военкома всего год назад. Наконец кадровики из Главного штаба ВМФ решили, что как специалист лейтенант Гуримов крайне необходим Тихоокеанскому флоту. Перевод состоялся.
Ближе к осени они уже мотались по железнодорожным и авиа-вокзалам с восьмимесячной дочкой, добираясь до Владивостока на Тихоокеанский флот. Муж рассказывал, что в кадрах Военно-морского флота, куда он собирался с рапортом о переводе, ему не раз говорили:
– Интересно, другие оттуда бегут, а он туда просится!..
Начинался новый крутой поворот по «дуге большого круга».
И вот Гуримовы снова во Владивостоке.
Когда Евгению Петровичу случалось столкнуться с воспоминаниями о юности, он всегда удивлялся тому, что первая, еще школьная встреча с Владивостоком не оставила никаких особых эмоций и впечатлений.
Любовь к этому городу пришла к нему через год с небольшим. Они поехали сдавать документы для поступления в институт. Они – это три Евгения, три тезки, три одноклассника. Один собирался поступать на кораблестроительный факультет, другой – на геологический, а третий – на горный. В ожидании вызова на вступительные экзамены остановились у бабушки одноклассницы Светланы.
В первый же день, вернее, вечер, они взобрались на Орлиную сопку. Стояла обычная для Владивостока июльская погода – морось. Уже зажглись уличные фонари. Внизу, по улице Ленинской, «проплывали» трамваи, а по бухте «Золотой Рог» сновали расцвеченные навигационными огнями катера. Туманистая морось несколько размывала это разноцветное великолепие вечернего города.
Где-то Евгений читал, что художники-импрессионисты были, как правило, близорукими и поэтому видели окружающий их мир не в четком фокусе, а несколько размытым, словно в тумане.
Позже он познакомился с картинами известного приморского художника К. Шебеко, посвященными Владивостоку. Они изображали город таким, каким Евгений увидел Владивосток с высоты Орлиной сопки первый раз в своей жизни.
Возможно, это импрессионистское видение краевого центра в первый вечер самостоятельного знакомства с городом потрясло и заставило влюбиться в город окончательно и бесповоротно. Владивосток стал городом его мечты.
Впоследствии днем ли, ночью ли, в ненастье или при хорошей погоде он с волнением заходил в бухту Золотого Рога, то как палубный матрос, готовясь к швартовке теплохода «Владивосток», во время студенческой плавательной практики, то уже как офицер Военно-морского флота, находясь на мостике подводной лодки или надводного корабля. И не ошибался в своих ожиданиях. Всегда узнаваемый, Владивосток вдруг открывался с какой-то новой стороны. Так любимая женщина умеет всю жизнь быть таинственной, осторожно и нежно год за годом приоткрывая одну за другой свои тайны, и все-таки всегда оставаясь чуточку незнакомой, чуточку неизвестной и неизведанной, призрачной, как мир импрессионистов, и в то же время близкой и явственной.
Когда-то Эрнест Хемингуэй написал книгу «Праздник, который всегда с тобой». Эта книга о Париже, городе, который всегда как праздник. Евгений Петрович за время своей службы и работы повидал много городов – российских и зарубежных, больших и маленьких, но ни один из них не сумел так запасть в душу, стать такими родным, каким стал для него Владивосток.
Но однажды на пороге, отделяющем юность от взрослости, Евгений все-таки изменил Владивостоку, уехав по распределению после окончания института в город Сосновку Кировской области. В европейской дали Евгений со Светланой прожили без Владивостока пять лет, на большее их не хватило…
Владивосток удивителен своим умением быть добрым волшебником и не раз это доказывал!..
Он еще очень молод. Ему чуть больше ста пятидесяти пяти лет. И за эти годы кто только не пытался убить Владивосток!
На исходе девятнадцатого века его расстреливали хунхузы. На пороге двадцатого века японцы пытались бомбить город.
Потом его топтали интервенты во время Гражданской войны.
Из-за нерадивых правителей Владивосток не раз умирал от жажды, корчился во тьме и холоде, прощался с пышными кронами своих вековых деревьев…
Его рушили тайфуны, топили дожди, выдували ветра…
А город – живет! И будет жить!
Ведь он молод, как восход дня, как рассвет следующих суток, как утро…
В отличие от Парижа, о котором рассказывал Хемингуэй, Владивосток – не город-праздник, а город, вызывающий в душе восхитительное чувство праздника. И это, возможно, важнее, чем быть «вечным» Парижем.
Евгений не делил любимый город на районы, на улицы, у него нет любимого уголка. Он любит Владивосток целиком, весь, сразу. Правда, есть у него слабость: просто посидеть у моря и причем все равно где: у лукоморья Семеновского ковша, под скалистыми отвесами Эгершельда, на краешке прибрежного шепота волн бухты Тихой, в курортной зоне или на островах… И лучше всего – со Светланой. И лучше всего вечером. Или – ночью. Или – предрассветным утром…
Он просто любит Владивосток за то, что в любой момент тот может оставить его наедине с Природой, с Морем, с Вечностью.
День еще цепляется хвостом заката за плоскость мыса Песчаного, а первая вечерняя звезда уже торопится отметиться на темнеющем небосклоне.
Зря она спешит. Легкий бриз дунул на торопыжку, и только искорка ее отражения осталась поблескивать на штилевой глади Семеновского ковша. Запоздалый байдарочник торопливо подрулил к деревянному настилу причала гребной базы.
Вот и стемнело.
Первые парочки влюбленных уже прилипли к свободным скамейкам, расставленных вдоль берега Спортивной гавани.
Живет родной город Владивосток!
Евгений Петрович верил, что его по жизни, то есть по «дуге большого круга» кто-то ведет. Кто-то говорит:
– Вот это делай, а вот это нет.
Он хоть и был крещен, но воспитывался как атеист, и был вроде неверующим. Хотя…
Кто-то ведь подталкивал Евгения, чтобы именно 23 февраля он пошел на танцы в клуб Чумака, где встретил Светлану как будто бы случайно. А оказалось, что на всю жизнь.
Кто-то помог ему поступить на кораблестроительный факультет и осуществить мечту детства.
Кто-то невидимый посоветовал им со Светланой ехать по распределению за восемь тысяч километров в Сосновку, а там стать военным моряком.
Снова вернуться во Владивосток, а после демобилизации стать ректором и президентом технического университета.
Существует мнение, что история, как и жизнь, развивается по спирали.
И опять вышло так, что по приезде во Владивосток жить им пришлось на два дома: Светлана с дочерью жила в Уссурийске, сначала у сестры, а потом у родителей Евгения.
От старого «купеческого» дома, который был когда-то свидетелем их счастья, не осталось и следа. Его снесли до основания, но до сих пор ничего не построили. Недавно они были на этом месте и увидели только заросли бурьяна.
Евгений жил в общежитии, в свободное время, которого было не очень-то и много, мотался по всему Владивостоку в поисках квартиры. Где он только ни побывал, но ничего подходящего не попадалось.
Наконец-то им выделили малюсенькую комнатку в коммунальной квартире в огромном доме на Луговой. Соседом оказался капитан медицинской службы с семьей: женой, малолетним сыном и тещей в придачу, которая удобно расположилась на кухне. Кухня была довольно вместительной. При очередной диспансеризации у капитана выявили открытую форму туберкулеза. Для его семьи это была та еще трагедия. Теща с женой так ополчились на бедного капитана, что на него было просто жалко смотреть. Не обошла беда стороной Гуримовых, их всех поставили на учет.
Но говорят, что нет худа без добра. Обе семьи расселили по другим квартирам. И жизнь покатилась своим чередом. Светлана устроилась на работу в Приморское ЦКБ в экономический отдел, дочь ходила в детский садик, расположенный в том же доме, где они получили квартиру. Тяжело было, когда Евгений уходил в длительные плавания. Приходилось и недосыпать, когда его выдергивали ночью на какие-то там испытания.
Но он как-то незаметно закончил и защитил кандидатскую диссертацию, начатую еще в Сосновке. С разрешения главнокомандующего ВМФ преподавал в политехническом институте. Раньше военнослужащим не разрешалось работать в свободное от службы время.
Между тем приобрели автомобиль «Жигули» первой модели, называемый в народе «копейкой», гараж к нему, а через некоторое время и «домик в деревне» под дачу, правда, далековато – ехать в Тигровый надо было три часа на электричке. Но зато кругом тайга, красота необыкновенная, а про воздух и говорить нечего. Урожая с участка было как с козла молока, но для отдыха место – просто «обалденное».
Удалось семье отдохнуть и в Солнечногорском военном санатории под Москвой.
Вскоре Евгению Петровичу предложили перейти в Тихоокеанское высшее военно-морское училище.
К тому времени он к званию кандидата наук добавил ученую степень доцента.
Светлана думала, что теперь-то они заживут спокойной, размеренной жизнью. Но не тут-то было. Опять суточные дежурства, корабельные практики продолжительностью месяц и более… Приходилось терпеть, такова судьба офицерской жены.
В училище Евгений Петрович довольно быстро продвинулся по службе, стал сначала начальником научно-исследовательского отдела, а затем заместителем начальника училища по учебной и научной работе, защитил в Ленинграде докторскую диссертацию и получил звание профессора.
Вообще-то Светлана, теперь уже Светлана Ивановна, к карьерному росту как своему, так и мужа относилась, можно сказать, прохладно. Как говорится, был бы человек хороший.
Ксения Ивановна, мать Светланы, ушла из жизни в преклонном возрасте. Все это время она жила в Уссурийске, в семье сына Владимира, которому дали квартиру после сноса старого «купеческого» дома.
Наступило время перестройки, а потом и «ревущие девяностые». Рушилась промышленность, сменилась власть, весь уклад жизни. ЦКБ развалилось, Светлана Ивановна оказалась на пенсии.
Евгений как-то после очередного дежурства по училищу в расстроенных чувствах заявил:
– Все, ухожу со службы. Не могу смотреть, что с нами делают.
В конце 1991 года его уволили в запас, и он устроился на работу в политехнический институт, куда его давно приглашал ректор.
А через некоторое время после его безвременного ухода из жизни, Евгения Петровича избрали ректором.
Сколько Светлана его ни отговаривала, он остался при своем мнении.
– Институт мне не безразличен, – говорил он. – Это ведь моя альма-матер, и кому-то надо за нее бороться. Порох в пороховницах еще есть. Попробую, но с твоей помощью, конечно.
Еще один жизненный этап заканчивался. На смену зрелости приходила мудрость.
Мудрость приходит с годами, говорят в народе.
Забот прибавилось. Появился сын Сергей.
Теперь Евгений Петрович был занят на работе не только с утра до позднего вечера, но и в субботы и воскресенья. Необходимость выезда в командировки тоже сбивала привычный ритм жизни.
Когда замотанный работой муж приходил домой, Светлана, жалея его, все-таки выговаривала:
– И чего ты так выкладываешься? Думаешь, кто-нибудь оценит?
Он молча уходил в другую комнату, а она продолжала:
– Уйдешь ты с ректорства рано или поздно, придет другой человек и сделает все, чтобы и ты и твои дела были забыты.
– Знаешь что, Свечка, – отвечал он, – что так будет, я верю, – есть такая наука диалектика или, как говорят в Одессе и во Франции «се ля ви» – такова жизнь. Но и просто так сидеть совесть не позволяет.
Свечка – это уменьшительное от «Светочки», и еще он любил называть ее «Светлячок».
Евгений Петрович написал десятки учебников и учебных пособий в добавок к тем, что подготовил в военно-морском училище, стал лауреатом нескольких престижных премий, в том числе премии Президента России, избирался депутатом краевого законодательного собрания и городской думы. Когда он надевал по соответствующему случаю парадную форму капитана 1-го ранга, то ловил на себе восхищенные или завистливые взгляды коллег и случайных прохожих, разглядывающих ордена и медали, теснившиеся на его груди.
Воистину правду говорят:
– Где родился, там и пригодился.
Конечно, это относилось в большей степени к Светлане, уроженке Приморского края. К Евгению, уроженцу Воронежской области, более подходила другая поговорка:
– Где рос, там и прирос.
Уже в зрелые годы Евгению Петровичу удалось разыскать своего, как теперь говорят, «биологического отца». Но они успели обменяться всего парой писем, когда отец ушел из жизни.
Через 15 лет ректорства Евгений Петрович стал президентом университета. Ну а то, о чем говорила Светлана, все-таки состоялось.
Дуга четвертая
Евгений Гуримов начал вести дневник где-то на переходе от отрочества к юности, после окончания восьмого класса. Толчком к этому послужил организованный школой турпоход по Приморскому краю, в котором группа школьников прошагала пешком от Ворошилова до Мокрушинских пещер в районе Ольгинского залива и обратно до Ворошилова. Все происходившее с ними Евгений ежедневно записывал в толстую тетрадь простым карандашом. В памяти остались укусы клещей, борьба с кровопийцами-комарами, увиденная наяву прямо на заброшенной дороге змеиная «свадьба», представляющая собой огромный шар из переплетенных змеиных тел, из которого высовывались концы хвостов и головы змей с высунутыми раздвоенными языками. В общем, зрелище не для слабонервных.
Пещеры особого впечатления не оставили. Своды были закопченными, стены исписаны побывавшими здесь местными жителями и туристами. Интересными показались сосульки сталактитов и сталагмитов, да озера с кристально чистой водой…
Школьникам приходилось тащить на себе по очереди ведра, в которых на привалах готовили немудреную еду.
По этому случаю Евгений сочинил частушку:
Как туристы наши Объелись кашей, Нести ведра не хотят — Только ягоды едят!А ягод, особенно земляники, было вдоволь.
После возвращения в Уссурийск по местному радио прозвучала передача об этом походе, в том числе и частушка.
Записывал Евгений в тетрадку и рассказы пасечника, бывшего красного партизана, который, по его словам, был лично знаком с Арсеньевым и Лазо, и обычаи староверов, расселившихся в таежной глубинке от проселочных дорог.
Вскоре дневниковые записи вошли в привычку. Иногда он доверял дневнику свои размышления. Какими же они казались наивными после того, как перечитывал он их по прошествии какого-то времени!
Евгений Петрович встречал людей, особенно в молодые годы, которые вели дневники своей жизни, но практически все они на каком-то определенном этапе бросали это довольно обременительное занятие.
И только однажды он встретил человека, который писал дневники всю свою жизнь. Александр Иванович Груздев был на десяток лет старше Евгения Петровича. Познакомились они будучи в званиях капитана 1-го ранга в конце восьмидесятых. Обоюдная симпатия сблизила их. Александр Иванович, военный гидрограф и историк флота, автор более десятка книг, в начале 2000-х годов переехал в Санкт-Петербург, где и выпустил книгу «Фарватер судьбы. Смена курса», в которой на основе своих дневниковых записей уделил много внимания и персоне Евгения Гуримова.
Уже тогда Евгений Петрович поразился его энциклопедическим знаниям и ходатайствовал перед начальником училища о привлечении Александра Ивановича к преподавательской деятельности на кафедру, где читался курс истории флота.
После ухода в запас и избрания ректором политехнического института Евгений Петрович пригласил Груздева на должность профессора-консультанта кафедры истории отечества, где тот проработал до самого отъезда в Санкт-Петербург.
И в запасе, и в отставке он был в гуще общественной деятельности, успевал и в конференциях участвовать, и выступать на радио и телевидении, и писать книги. Груздев почти всегда ходил в военно-морской форме, аккуратный, подтянутый, интеллигентный, скрупулезно и дотошно выполнял любое поручение, каким бы мелким оно ни казалось.
Александр Груздев стал инициатором изменения даты ежегодного праздника – Дня Тихоокеанского флота России. До 1999 г. таким днем была принята дата 21 апреля. В 1932 году в этот день в очередной раз были воссозданы Морские силы Дальнего Востока (с 1935 г. – Тихоокеанский флот). В феврале 1999 г. А. И. Груздев обратился с письмом к главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу В. И. Куроедову с предложением принять другую дату Дня Тихоокеанского флота – 21 мая, основываясь на том, что решением императрицы Анны Иоановны указом Сената от 21 мая 1731 г. Охотск объявлялся морским портом. Именно с этого времени Россия непрерывно осуществляла свое военно-морское присутствие на Тихом океане. Это предложение было реализовано, и уже в 2001 году Тихоокеанский флот праздновал свое 270-летие.
Писать дневник Евгений перестал на втором или третьем курсе института, но на смену пришло другое увлечение: он стал записывать происшествия и интересные случаи, а иногда и собственные размышления, но уже не в дневник, а на отдельных листах, складывая их в картонные, а затем и в пластиковые папки.
Евгений Петрович иногда перечитывал свои записи и раздумывал над тем, что если представить жизнь человеческую как большой виртуальный круг без начала и конца, то каждый его отрезок, каждая дуга определяет тот или иной жизненный этап человеческого бытия.
Выпускником Уссурийской средней школы № 13 Евгений получил в 1959 году свою первую в жизни награду – серебряную медаль за успешное окончание школы. Двадцать лет спустя уже Владивосток сотворил такое стечение служебных обстоятельств, что, выполняя их, он был награжден первым в своей жизни орденом…
Заказ назывался правительственным. Проще говоря, предстояло в по-фронтовому жесткие сроки переоборудовать, отремонтировать и подготовить к поставке в Индию несколько дизельных подводных лодок. Первая из них уже замерла в плавучем доке Дальзавода. Через пару часов, когда мощные насосы откачают всю воду из дока, эта лодка ляжет днищем на кильблоки, и десятки дальзаводских бригад облепят еще мокрое китообразное туловище подводного корабля, чтобы, работая в три смены, забыв про еду и сон, выполнить правительственный заказ, и желательно в срок.
Будем откровенны: не очень много советского патриотизма было в ударной работе судоремонтников. Просто каждый из них прекрасно знал: платить за работу будут неплохо да и премиальные обязательно будут. И – немалые. Вот и рвут себя мужики яростным трудом. Ведь не так часто Дальзавод получает правительственные заказы. А когда получает, то не все рабочие имеют возможность участвовать в этих работах. Только – самые лучшие, самые высококвалифицированные, самые ответственные. Но и для них получить заработную плату в два-три раза больше стандартной – возможность редкостная. Это – реальность социалистического труда.
Поэтому рабочие поодиночке и бригадами уже стекаются к доку. Евгению Петровичу с высоты рубки это хорошо видно.
Но сейчас он не замечает эти людские ручейки. Другое его волнует. Накануне вечером он был ознакомлен с приказом командования. В соответствии с этим приказом Евгений Петрович назначался ведущим военпредом объекта, или – заказа, как отныне он будет называться во всех документах. Это означало, что теперь ему подчинены офицеры не только самых разных званий и специальностей, но и – главное – с очень разным уровнем знаний, разными характерами, наконец, разным отношением к делу.
Правда, он был уверен, что «слабеньких» в команду не включат: заказ как-никак правительственный. И работать на нем должны «волкодавы», прошедшие огонь, воду и погружения на предельно допустимые глубины.
Дело в том, что в военной приемке служат специалисты – подводники и надводники – всех направлений, обеспечивающие качественную постройку, ремонт, модернизацию или переоборудование боевой техники корабля от боевой части 1 до боевой части 7 и всех служб корабля[1]. Для наблюдения за постройкой корабля в целом назначается ведущий военпред, которому подчиняются – независимо от званий – все остальные специалисты.
В специалистах Евгений Петрович не сомневался: многих из них знал лично, со многими уже приходилось проводить довольно сложные испытания надводных кораблей и подводных лодок. Поэтому в душе не было призрачной надежды на «авось сработаемся», а была совершенно точная уверенность: будем работать и дело сделаем! Нервное напряжение вызывало само начало работы, ожидание неизвестностей и готовность встретиться с ними. Обычное в такой ситуации состояние. Нервный озноб был вызван еще и тем, что у военпреда кораблестроительной специальности есть свои особенности работы. Он обязан быть и подводником, и надводником. Следовательно, обязан знать и уметь все, что знает и умеет по отдельности каждый узкий специалист команды: приемка техники ведется на уровне командира той боевой части, в ведении которого эта техника находится. При этом следует учитывать, что (это может показаться в некотором смысле странным) проводятся и ночные приемки. Например, установка ЦКП (центральной контрольной площадки) или испытания на прочность цистерн, другие работы… А еще бесконечные выходы в море на ходовые испытания, непредвиденные вызовы на службу в выходные и праздничные дни из-за вдруг возникающих нештатных ситуаций – все это требовало от ведущего военпреда полной отдачи и духовных и физических сил.
И несмотря на то что ко времени назначения ведущим специалистом «индийского заказа», он уже провел в должности ведущего военпреда несколько других проектов (и надводных, и подводных) и приобрел достаточно объемный опыт в этой работе, волнение не покидало. Он знал, что на этом «заказе» (как и на всех предыдущих) появятся нештатные ситуации, которые потребуют нетривиальных решений. В том, что сумеет отыскать такие решения, он не сомневался. Волновало другое: в какие сроки найти эти нужные решения: заказ-то правительственный, и здесь каждый день работы на учете.
С момента назначения ответственным за выполнение правительственного заказа был вообще потерян счет часам и суткам. Пришлось работать всем сразу: и главным строителем, и конструктором, и военпредом, и… бригадиром судокорпусников. Иногда удавалось перехватить несколько часов сна. Очень редко – дома, а чаще – на рабочем месте.
И вот когда остались позади дни и месяцы напряженнейшей работы, когда благополучно завершились швартовые и ходовые испытания, когда уже прибыла во Владивосток представительная правительственная комиссия, состоящая из авторитетных чинов Министерства обороны и высокопоставленных лиц Индии, которые должны были подписать приемный акт, в этот момент произошло непредвиденное: лодку пришлось поставить в док. А все потому, что во время одного из последних испытаний при движении под водой лодка коснулась днищем грунта. Из-за этого касания твердый балласт сместился и, кажется, несколько балластин даже оборвались: в районе днища прослушивался какой-то стук…
Вот ситуация: на завтра назначено торжество по поводу подписания государственного акта приемки, а лодка стоит в доке: Евгений Петрович ходил по стапель-палубе дока, наблюдая, как рабочие перекладывают и раскрепляют балласт, и какой-то червь сомнения грызет душу. В чем дело? Он окинул взглядом, сколько мог, обтекаемое веретено корпуса подводной лодки и вдруг заметил, что она стоит с минимальным, почти незаметным креном на правый борт. Но вчера, после осушения дока, этого крена не было вообще!..
Люди, чей труд так или иначе связан с проявлениями различного рода риска, со временем приобретают пока еще не объясненное наукой «шестое» чувство – чувство предвидения опасности. Под влиянием этой нематериальной субстанции человек, встретив опасность или вынужденно идущий на риск, действует быстро и точно, зачастую – вопреки логике стороннего наблюдателя. Сейчас это самое «шестое» чувство не давало покоя Евгению Петровичу. И чем сильнее оно буйствовало, тем – внешне – спокойнее оставался он. В какой-то момент прижался спиной к днищевой обшивке со стороны правого борта и – словно током пронзило: крен лодки – от неправильной загрузки, от ошибки, допущенной при несогласованных действиях индийского экипажа, конструкторов и сдаточной команды.
Это не было случайным наитием, как, впрочем, не соответствовало и лучезарному инженерному вдохновению. В момент опасности подобные открытия делаются… спиной, ведь именно в позвоночнике спрятан главный индикатор уровня риска – спинной мозг – уникальное хранилище спасительных врожденных инстинктов человека.
Он понял, что крен лодки будет увеличиваться, и в какой-то момент бортовые распорки, которыми служили толстенные деревянные брусья, рухнут с левого борта, а с правого – переломятся, как спички…
Уже темнело, когда Евгений Петрович поднялся из дока в комнату строителей. Там шло небольшое совещание. Впрочем, это собрание «чинов» трудно было назвать совещанием. В кабинете главного строителя сидели: сам хозяин кабинета, рядом с ним – старший строитель, по соседству располагался его непосредственный начальник, а во главе стола восседал московский генерал из Министерства обороны и в самолюбивых красках расписывал присутствующим все трудности, с которыми ему, генералу, пришлось столкнуться, уговаривая индийских представителей подписать акт приемки в тот момент, когда лодка стоит в доке. Начальник приемки одарил таким красноречивым взглядом, что Евгений Петрович понял: разбираться будут по высшей мере жесткости. Строители, слушая упреки московского генерала, только виновато разводили руками, а когда Евгений Петрович доложил, что, по его мнению, лодку необходимо срочно выводить из дока ввиду нарастающего опасного крена, генерал подскочил:
– Вы что, хотите сорвать подписание государственного акта?!
– А вы хотите получить катастрофу? – вопросом на вопрос ответил он, стараясь сдержать кипевшее внутри бешенство.
Генерал мгновенно остыл, но предупредил его:
– За все отвечаете вы. Назавтра подписание акта приемки. И оно состоится. А свои проблемы решайте сами!
Московский гость попросил проводить его в гостиницу.
После их ухода Евгений Петрович накоротке посовещался со строителями, и было решено: лодку из дока выводить! Командир индийского экипажа с видимым неудовольствием подчинился этому решению.
Привычные команды, привычные действия экипажа. Плавучий док выведен на середину бухты Золотой Рог, и глубокой ночью лодка была уже на плаву…
Дьявольское напряжение навалилось в самый неожиданный момент. Лодка уже покачивалась на небольшой волне, поднятой проходящими судами. Командир лодки разглядывал надвигающиеся очертания Владивостока и огни причалов. Вглядывался в смягченный расстоянием лик любимого города и Евгений Петрович, предвкушая скорую встречу с семьей после довольно долгой разлуки, вызванной невозможностью оторваться от сверхсрочного выполнения госзаказа. И вдруг – сам не осознавая, как это случилось, – он присел на внезапно ослабевших ногах, а потом свернулся калачиком вокруг тумбы гирокомпаса и безмятежно заснул прямо на мостике в рубке подводной лодки. Проснулся оттого, что командир осторожно тряс его за плечо:
– Товарищ Женя, просыпайся! Мы уже «привязались»… В десять часов утра приемный акт был подписан. Церемония прошла в полном соответствии со сценарием. А вскоре весь «экипаж» военной приемки ошеломила новость: пришел закрытый Указ о награждении Евгения Петровича орденом «Знак Почета» «за успешное выполнение специального правительственного задания и проявленное при этом мужество»…
Орден «Знак Почета» оказался первой государственной наградой. До этого (так уж получилось) даже юбилейная медаль «100 лет со дня рождения В. И. Ленина» обошла его стороной, а медали за выслугу лет он еще не заслужил ввиду отсутствия этой самой выслуги.
Был и еще ряд более мелких, но тем не менее существенных моментов в этом награждении, заставивших не только его непосредственных начальников, но и флотских командиров рангом значительно повыше недоуменно пожимать плечами: вот это «дал стране угля»…
А он и не думал ни о каком «угле». Просто получил работу, увидел в ней изъяны и счел обязательным для себя, для собственного достоинства ликвидировать эти изъяны даже под угрозой мыслимых и немыслимых кар.
А когда все завершилось более чем благополучно, когда довольные индийские представители подписали все необходимые документы и ушли на подводной лодке в свою вечно цветущую Индию, когда прошло первое ошеломление от неожиданной государственной награды, сослуживцы потребовали от Евгения Петровича устройства традиционного (значит – обязательного) банкета: обмыть орден надо, однако!
Всякое транспортное средство – автомобили, тепловозы, самолеты, корабли – после постройки или ремонта должно пройти испытания по строго разработанной программе.
Для надводных кораблей и подводных лодок существуют швартовые и ходовые испытания, включающие в себя большую программу проверки в реальных условиях плавания не только ходовых качеств корабля, но и работу практически всех его механизмов и агрегатов.
Для надводных кораблей есть совершенно особый вид испытаний, какого нет в методике испытаний никаких иных транспортных средств. Это так называемый «опыт кренования». В ходе этих испытаний корабль искусственно накреняют поочередно на левый и правый борт, перетаскивая балласт из одного места на верхней палубе, определенного конструктором этого корабля, на другое место. Процедура долгая, трудоемкая, но исключительно необходимая: «опыт кренования» помогает определить размер метацентрической высоты[2].
Для подводной лодки это испытание сводится к проведению так называемой вывески, или удифферентовки. Это значит, что в подводном положении грузы на подводной лодке (топливо, оружие и т. п.) должны быть расположены таким образом, чтобы лодка, как бы подвешенная под водой, в этой условной точке (метацентрической высоте) не имела ни крена, ни дифферента.
Из-за давно разработанной и многократно отработанной методики вывеска подводной лодки не представляет особых сложностей. Это всего-навсего пробное погружение и удифферентовка[3] на специальном полигоне.
Обычно таким полигоном служит одна из бухт, ближайших к месту базирования подводных лодок и закрытых от ветра и волнения открытого моря. В акватории Владивостока таким полигоном является бухта Аякс.
Тихие, лабораторные условия бухты и «яма», глубина и размеры которой позволяют провести в полном объеме всю методику испытаний вывески подводной лодки, вселяли в подводников и инженеров-испытателей чувство некоторого формализма при проведении этого вида испытаний. На вывеску подводных лодок участники ходили как совершенно здоровый человек ходит в рентгеновский кабинет на ежегодную флюорографию: потеря времени и ничего больше.
С подобным настроением отправилась команда в тот день в Аякс на борту очередной подводной лодки, вышедшей из капитального ремонта и существенного переоборудования. Команда – это в первую очередь весь экипаж, инженеры-сдатчики (представители завода, конструкторского бюро) и Евгений Петрович как представитель заказчика.
От причала судоремонтного завода отошли с первым проблеском рассвета. Время давным-давно рассчитано: пока дойдешь до полигона, пока проведешь вывеску лодки со всеми режимами испытаний да пока вернешься обратно – вот и вечер, вот и по домам пора.
Но… человек предполагает, а Бог – располагает.
Когда лодка отошла от заводского причала, солнце уже вышло за восточный горизонт. Задрапированный грязной дымкой лик светила был хмур и напряженно-красен. Чайки, эти бессменные спутницы уходящих в море кораблей, против обыкновения не висели над кормой лодки, а в крутых виражах почти отвесно падали к воде, подрезая курс уходящего на испытания подводного крейсера. И снова взмывали вверх, чтобы с высоты опять и опять пикировать с тревожным криком на лодку. Одна, вовсе уж суматошная, так низко скользнула над рубкой, что едва не задела крылом фуражку командира подводной лодки.
Штиль разгладил бухту, сделав ее воду вязкой и тяжелой, как ртуть. Она неохотно расступалась перед подводным крейсером, тяжело накатываясь беспенной волной на округлый нос лодки.
Евгений Петрович стоял рядом с командиром на мостике, вдыхал воздух, переполненный влагой, морской солью и запахом йода, и какое-то тягостное чувство давило на сознание. Погода, что ли, так действовала? Не должна бы: к таким настроениям приморского климата он давно привык. То был такой уровень атмосферного спокойствия, который можно сравнить с распутьем: налево пойдешь – в шторм попадешь, направо двинешься – в солнечный денек окунешься.
Впрочем, синоптики штормовое предупреждение не передавали. Напротив, обещали спокойную малооблачную погоду. Почему же так тягостно на душе?
Вон и командир насупился, навалился грудью на ограждение мостика, козырек фуражки надвинул почти на самые глаза и молчит, молчит…
Наконец подошли к Аяксу.
Напряжение на мостике усилилось еще больше. Доклады сигнальщика. Отрывистые команды командира подводной лодки рулевому:
– Лево …дцать!..
– Так держать!..
– Право десять!..
После нескольких маневров лодка замерла над «ямой». И долгожданная команда:
– Всем вниз! Приготовиться к погружению.
Команда – долгожданная, но до озноба неприятная. Вниз – это сквозь горловину люка, не рассчитанного на упитанных особ, по двум отвесным трапам в третий, командирский, отсек. С этого момента (пусть даже еще сыплются-спускаются следом за тобой те, кто оставался наверху) на тебя наваливается чувство тревожного одиночества. Видимо, потому, что на подсознание давит окружающая обстановка. Теоретически в случае так называемых нештатных ситуаций экипаж может покинуть затонувшую подводную лодку через носовой или кормовой аварийные люки. Кроме того, люди могут выйти из лодки через трубы торпедных аппаратов. Поэтому для каждого члена экипажа и сдаточной команды есть индивидуальный подводный спасательный аппарат. Каждый из находящихся на борту совершенно точно знает, где лежит именно ему предназначенный аппарат. Но об этом лучше не думать.
Открыты кингстоны цистерн главного балласта. Лодка настороженно уходит в глубину. И вдруг…
Едва стрелка глубиномера коснулась отметки «10 метров», как в центральный отсек хлынул столб отвратительно ледяной забортной воды.
Командир отреагировал мгновенно:
– Срочное всплытие!
Боцман моментально отработал команду клапанами системы погружения и всплытия. Лодка рванулась вверх.
Это было похоже на удар по ступням, и стоило немалого труда удержаться на ногах, помогая себе руками. Но кое-кто из сдаточной команды и экипажа от неожиданности все-таки не удержался на ногах и, падая, набил себе шишки и ссадины. Некоторые, кто был свободен от вахты, выпали из коек…
Подобно пробке лодка выпрыгнула из глубины. Позже командир обеспечивающего буксира рассказывал, что лодка выскочила с таким дифферентом на корму и так стремительно, что на несколько мгновений сторонние наблюдатели увидели донную часть обтекателя носовой гидроакустической станции!
Командир лодки и Евгений Петрович первыми поднялись на мостик.
Следом – старший сдаточной команды. Он тотчас принялся ощупывать горловину рубочного люка…
Виновницу аварии нашли уже после возвращения на базу.
На дизельных подводных лодках рубка присоединяется к прочному корпусу с помощью специальных болтов. А между рубкой и прочным корпусом устанавливается медная прокладка. Но перед установкой она проходит термическую обработку (отжиг). После такой операции медь становится мягкой, податливой плотнейшему обжиму, что и обеспечивает полную водонепроницаемость корпуса.
Но на этой лодке медная прокладка оказалась неотожженной, и вот из-за элементарного нарушения технологической дисциплины едва не случилась трагедия.
После того как обнаруженный дефект был ликвидирован, лодка успешно прошла все испытания, причем на вывеске Евгений Петрович принял на себя руководство этим видом испытаний, несмотря на брюзжание представителей конструкторской группы, на их прозрачные намеки о будущих рапортах и докладных, которые они подадут на него сразу по возвращении лодки на базу…
При всей своей занятости по работе и службе Евгений Петрович не бросал работу над диссертацией ни в Сосновке, ни во Владивостоке. После защиты и утверждения в степени кандидата технических наук и присвоения звания доцента он получил приглашение на преподавательскую работу в Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Преподавал он на кафедре теории устройства и живучести корабля.
…В годы перестройки редко какой курсант военно-морского училища поднимался на борт боевого корабля, где уж тут о морской практике говорить.
А в то время, когда Евгений Петрович служил в Тихоокеанском военно-морском училище, практика была ежегодной, и за училищем помимо катеров был закреплен учебный корабль «Бородино».
Евгению Петровичу довелось быть руководителем практики курсантов на тяжелом авианесущим крейсере «Минск», флагманским механиком других практик, начальником штаба похода на учебном корабле «Бородино» во Вьетнам и Индию.
На «Минске» отрабатывали во время курсантской практики вертикальный и горизонтальный взлет самолетов. Каюта руководителя практики располагалась рядом с каютой летчика-испытателя. Летчик-армянин был Героем Советского Союза, иногда захаживал по вечерам на чай. Они беседовали ни о чем, а потом глубокомысленно молчали, погруженные каждый в свои мысли. Евгений Петрович заметил, что настоящие люди, люди рискованных профессий, не очень многословны. Как немногословен был и капитан 1-го ранга Саможенов, первый командир крейсера «Минск». Евгений Петрович несколько раз сопровождал его на командирском катере при сходе на берег. Приглядываясь к нему, он ощутил: какую же огромную тяжесть тот нес на своих плечах (корабль, оружие, люди) и как был одинок. Как и многие другие командиры кораблей и подводных лодок.
Выходя на палубу «Минска», проводя занятия с курсантами по материальной части, мог ли Евгений Петрович предполагать, что эту гордость российского флота буквально через десяток лет предадут и продадут за копейки ставшие во главе государства разрушители Отечества?
Однажды, зайдя в каюту, Саможенов вручил Евгению Петровичу «Корабельный устав ВМФ» с дарственной надписью на память о «Минске» и буркнул:
– Давай, воспитывай смену.
Совсем недавно офицеры военно-морского факультета университета тоже подарили ему другой «Корабельный устав».
Но если на обложке первого изображен Герб СССР и титул «Министерство обороны СССР», то на втором – Герб России и титул «Министерство обороны Российской Федерации». Открываются тот и другой гимном и присягой, а вместо главы 3 «Политическая работа» в советском появились две новые – «Воспитательная работа» и «Правовая работа» в российском «Корабельном уставе».
Курсантская практика – это особый вид учебно-воспитательного процесса, где курсанты по-настоящему служат: несут вахты, исполняют свои обязанности от командиров боевого поста и выше.
В Индию курсанты должны были идти на учебном корабле «Бородино». Как начальнику штаба Евгению Петровичу пришлось покрутиться в предпоходовой подготовке. Самое интересное было получить тропическую форму одежды – шорты и рубашки с коротким рукавом – и это в январе. Как-то отказываешься понимать, что где-то там, за границей, сейчас температура свыше 40°С.
«Заграница» – даже Индия тех лет – для советского человека (а уж военно-морского офицера из СССР тем более) – это всегда ожидание всевозможных чудес, которые может дать, подарить, показать совсем иной мир.
И во многом подобные ожидания оправдывались. На исходе восьмидесятых годов прошлого века отряд кораблей Тихоокеанского флота участвовал в улаживании военного конфликта в Красном море. Во время выполнения боевой задачи (экипажи кораблей занимались разминированием фарватеров и конвоированием иностранных танкеров по этим фарватерам) наши корабли на несколько дней зашли в один из портов Объединенных Арабских Эмиратов для пополнения запасов воды и продовольствия. И вот, когда отряд вернулся из безусловно боевого похода, в редакции газеты «Боевая вахта» офицер-журналист А. Иванов, побывавший в том походе, отозвался об увиденном в порту ОАЭ одной феерической фразой:
– Ребята, я побывал в коммунизме!..
Но Индии, конечно, далеко до коммунизма. И в конечном порту назначения Кочи можно было насмотреться на нищету досыта.
Корабль стоял у причала торгового порта, перед ним на берегу желтела огромная куча серы. Сам город находился в нескольких километрах от нашей стоянки, и добираться до него надо было на утлых суденышках, которые предоставила принимающая сторона.
Утром, во время обхода корабля, Евгений Петрович замечал белобородого, в одной набедренной повязке и белоснежной чалме старика, сидящего перед кораблем ровненько, на аккуратной белой подстилке. Вечером на этой же подстилке он не менее аккуратно уже лежал. И каждый день этот индийский Ванька-встанька то сидел, то лежал. Когда он ел, когда вставал (и вставал ли?), так и осталось загадкой.
На берег Евгению Петровичу удалось сходить всего несколько раз, правда, военно-морской атташе, убедившись, что он может по-английски сносно беседовать на бытовые темы, выделил на целый день автомобиль, и Евгений Петрович с удовольствием побыл в качестве туриста, объездив в округе все, что можно. А вечерами и в остальные дни он оставался за старшего на корабле.
Дело в том, что командир похода, а с ним и несколько старших офицеров «вошли в штопор» после церемонии встречи на берегу, куда он так и не попал. Очень уж просили его остаться за старшего – в правах-то и звании равные были. Да он особенно и не переживал по поводу приемов – индийской экзотики он насмотрелся в свое время, когда передавал подводную лодку военно-морским силам Индии.
Но основная тяжесть похода пришлась на период схода на берег личного состава и курсантов. По незыблемым правилам – 4 курсанта (матроса) на одного офицера – надо было «провернуть» несколько сотен человек. У офицеров горели подметки и отваливались в буквальном смысле ноги.
А вечером – ЧП: один курсант не вернулся из увольнения на берег. Вся наша «верхушка» предавалась «загулу», а Евгений Петрович метался по палубе, встречая группу за группой. Ведь советская власть еще пульсировала, и случаи перебежки моряков (и не только) в зарубежные страны были известны, как были известны и следующие за этими случаями моральные ужасы, испытываемые «стрелочниками», по недосмотру которых случилась «политическая диффузия» отдельных граждан, а тем более военнослужащих. Авторитетные органы, в том числе и партийные комитеты, всегда находили «стрелочника», который «не предусмотрел, не доработал, не предвосхитил, проявил политическую близорукость», и делали все, чтобы не столько даже юридически, сколько морально-психологически уничтожить мнимого виновника.
К часу ночи курсант все-таки появился. Мальчишка засмотрелся на слона и… потерялся в незнакомом да еще иностранном городе. Как он сумел добраться до корабля, так и не объяснил. Эта история имела продолжение. Начпо (начальник политотдела), который был в том походе, представил этого курсанта к отчислению, но парень хорошо учился, хорошо служил. Короче, Евгений Петрович его отстоял. Уже будучи ректором он в ожидании машины стоял в конце рабочего дня на развилке дороги около университета. Проезжающий мимо джип «Лэнд-Крузер» внезапно остановился, из кабины высунулся водитель и окликнул:
– Евгений Петрович! Товарищ капитан 1-го ранга!
Евгений Петрович подошел поближе.
– Вы, наверно, не помните, что не дали меня отчислить из училища?
Они разговорились, он предложил подвезти, но уже показался ректорский автомобиль. Этот курсант дослужился до капитана 3-го ранга, ушел с флота, сейчас возглавляет какую-то фирму и процветает. Но короткая фраза «Спасибо вам!» еще долго звучала в ушах Евгения Петровича.
Отход от пирса в Кочи был еще тот. С лоцманом на борту да командиром с воспаленными глазами. А впереди затопленный в лимане чей-то пароход маячил ржавым и бортом, и днищем.
Через некоторое время проводили лоцмана и вышли на мостик. Командир оглянулся за корму, словно пытался в тропическом мареве разглядеть лагуну, из которой пару часов назад вышел корабль. Но не различил ее в коряжистой линии черно-синего берега, бросил взгляд на выносной репитер гирокомпаса и, достав носовой платок, вдруг принялся усиленно тереть глаза:
– Черт, какой-то ветер здесь мокрый, в этих приэкваториальных широтах…
Прикрепленный к стойке ветрового стекла градусник показывал в тени плюс 47 градусов по Цельсию.
Такое бывает только в кино. По прибытии во Вьетнам, в советскую военно-морскую базу в Камрани, Евгений Петрович сошел на берег и попал в объятия капитана 1-го ранга Л. А. Маркина, командира базы, а до этого представителя ВМФ на той самой индийской лодке, на которой Евгений Петрович был ведущим. Сколько же было пройдено миль, испытаний и сколько пережито вместе! И вот такая встреча…
А когда Евгений Петрович стал ректором, Леонид Афанасьевич (уже в запасе) возглавил и поставил на ноги лицей университета.
Они нечасто, но вспоминают тот мокрый ветер, который приносит с собой море.
Заседание учёного совета Тихоокеанского высшего военно-морского училища проходило, как всегда, своим чередом. Но для Евгения Петровича оно было необычным: заключительный вопрос касался его представления к учёному званию профессора. При обсуждении вопроса слово попросил капитан 1-го ранга, начальник одной из кафедр, при проверке работы которой Евгением Петровичем как заместителем начальника училища были вскрыты серьёзные недостатки.
Начал он с того, что привёл энциклопедическое толкование слова «профессор». В переводе с латинского это слово означает учитель, преподаватель. Закончил тем, что Евгений Петрович, хотя и доктор наук, ещё молодой и ему рано присваивать это звание. Всё-таки большинство членов учёного совета тайным голосованием высказалось «за», и через некоторое время Евгений Петрович получил открытку из Высшей аттестационной комиссии СССР с извещением о присвоении учёного звания «профессор».
В истории училища это был, пожалуй, первый случай, когда профессором стал офицер, находящийся на действительной военной службе.
Через несколько лет, когда Евгений Петрович уже был ректором технического университета, тот самый капитан 1-го ранга, правда, теперь уже в отставке, пришёл с просьбой «посодействовать» его внучке поступлению в университет. Он был неплохим лектором, прошёл службу в училище от старшего лейтенанта до капитана 1-го ранга, но по характеру был человеком желчным, неуживчивым и скандальным. Кстати, внучка его и поступила и закончила вуз без всякого содействия.
В наше время редко, кто знает, что термин «профессор» впервые стал применяться ещё в Римской империи, лет за 100 до новой эры, где профессорами называли учителей грамматических и риторских школ. В Средние века профессорами именовались учителя духовных школ, а примерно с XII века – преподаватели университетов. Термин «профессор» стал синонимом учёных степеней магистра или доктора наук и символом высокой научной квалификации.
В России звание профессора появилось только в XVII–XVIII веках, когда первым университетским уставом в 1804 году были введены звания профессора, ординарного (магистр наук) и экстраординарного (доктор наук). По истечении 25 лет педагогической и научной деятельности присваивалось звание заслуженного профессора. Но встречались и исключения. Например, ректор Владивостокского политехнического института Пётр Петрович фон Веймарн получил это звание всего через 10 лет после начала своей научной карьеры.
В Советском Союзе звание профессор первоначально присваивалось квалификационными комиссиями наркоматов, а с 1938 года, Высшей аттестационной комиссией. Профессор в советском вузе был фигурой влиятельной, авторитетной, солидной.
Заработная плата профессора была достаточной для обеспечения советского стандарта шикарной жизни: дача, автомобиль, импортная мебель, преимущества в получении жилья и дополнительных квадратных метров жилплощади.
В те годы, когда Евгений учился в вузе, студенты гордились тем, что именно на кораблестроительном факультете появился первый профессор, Николай Васильевич Барабанов, посмотреть украдкой на которого приходили студенты других факультетов.
Прошло время, и с началом 90-х годов всё изменилось. Появились «новые русские» и «новые бедные». В разряд «новых бедных» сразу же попали профессора, и на это моментально отреагировала студенческая среда, которая перестала быть тем пространством, в котором профессор мог демонстрировать свои престижные позиции.
Особенно это характерно было для середины 90-х годов, когда в полную силу отзвучало эхо «перестройки».
Профессор входил в аудиторию, заполненную молодыми людьми, лучше его одетыми, приехавшими на занятия в собственных авто, не стесняющихся пользоваться сотовыми телефонами прямо на занятиях. На их фоне он выглядел человеком вчерашнего дня, а в общественном зеркале отражался как «неудачник по жизни» в потёртом костюмчике, при замызганном галстуке, стоптанных туфлях и старомодных очках.
Недаром же тогда появился анекдот о том, как на университетской, автомобильной стоянке по огромной связи вещали:
– Господа студенты! Ставьте ваши автомобили теснее, а то профессорам некуда ставить свои велосипеды.
В России это уже было, когда после 1917 года учёные и профессора эмигрировали или принудительно выселялись из страны. Недаром в той же профессорской среде шутят, что «история развивается по спирали».
Позже появилась «красная профессура», а потом на базе «кухонных дискуссий» возродились профессорские кружки, по образу и подобию дореволюционных.
В середине и особенно в конце 90-х годов, профессорское сообщество стало потихоньку освобождаться от шоковой терапии постсоветского распада, российские профессора начали выезжать в зарубежные вузы для чтения лекций и, в свою очередь, принимать иностранных профессоров у себя. Появились звания почётных профессоров. Наиболее известные профессора стали обладателями этих титулов сразу от нескольких университетов. Например, японский учёный и общественный деятель Дайсаку Икеда обладает званиями почётного профессора более двухсот университетов из разных стран. Но это, наверное, перебор.
Профессора оделись в мантии и другие атрибуты профессорского звания. Если вспомнить, то мантии использовались ранее в качестве парадного одеяния царями, папой римским, высшими служителями православной церкви, судьями и адвокатами.
Когда несколько лет назад на каком-то городском празднике по улицам города прошли в колонне технического университета более ста профессоров в мантиях, то об этом несколько дней судачил весь Владивосток.
А поначалу профессора приходили с просьбой показать, как правильно надевать эту мантию, а особенно воротник, цвет которого обозначал науки: инженерные, философские, исторические и прочие и вбирал в себя все цвета радуги.
Задумавшись над судьбой профессорского общества в целом, Евгений Петрович однажды пришёл к мысли, что стоит предпринять попытку по созданию во Владивостоке что-то наподобие собрания профессоров, точнее, профессорского клуба.
Разработав проект Устава и программы Профессорского клуба, он разослал приглашения по вузам и институтам Дальневосточного отделения РАН. В назначенное время в Молодёжном центре, вопреки всем его сомнениям, собралось столько профессоров, что действительно «яблоку негде было упасть».
На этом учредительном собрании были утверждены Устав и состав Президиума, Евгения Петровича избрали президентом Профессорского клуба.
Конечно, без скептиков не обошлось – мол, создали ещё одну «дутую» структуру.
Но профессорский клуб заработал, да ещё как. Появились даже его фанаты: академики Ильичёв и Акуличев, профессора Абрамов, Дроздов и Кулаков да и многие, многие другие.
Периодически стали выходить сборники профессорских работ под официальным названием «Труды Профессорского клуба».
О клубе узнали в России, за рубежом, и буквально посыпались заявления с просьбой о вступлении в члены клуба, который вскоре получил международный статус клуба ЮНЕСКО.
Ежегодные профессорские балы, проводимые в Пушкинском театре в канун Старого нового года, стали визитной карточкой, заработал профессорский лекторий, появился «Профессорский вальс». А так как многие профессора не только учат студентов, аспирантов, занимаются наукой, но ещё и прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах, пишут стихи и прозу, то в клубе стали организовывать концерты и выпускать литературно-художественное приложение к «Трудам Профессорского клуба».
Профессора объединились и осознали, что они являются членами профессионального минисословия, не дворянского, не купеческого, не мещанского, а сформированного в результате элитарного отбора.
Социальный портрет профессора требует реставрации, ибо от профессоров, которые не только учат, но и воспитывают молодёжь, зависит будущее России, которую все так хотели видеть Великой.
А ещё больше хочется верить в то, что в нынешнем обществе, построенном на псевдорыночной экономике, на обмане друг друга, на купле-продаже всего, на отсутствии моральных ограничений, профессорское сообщество оставалось бы абсолютно и кристально чистым.
Однажды, по случаю установления дружественных отношений с зарубежными вузами, в частности с Китайским университетом, который по-английски назывался Harbin Normal University, а на самом деле был педагогическим институтом, группа россиян вылетела в г. Харбин.
Из представителей вузов Евгений Петрович был в гордом одиночестве, остальных членов делегации представляли москвичи-писатели и журналисты. Один из них собирал материалы для книги о русском генерале Лавре Корнилове и атамане Григории Семенове, другие выполняли специальные редакционные задания своих изданий. Короче, все они хотели прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу «русского Харбина» конца девятнадцатого – начала двадцатого века, когда здесь пролегала «полоса отчуждения» КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). Группу разместили в университетской гостинице у входа в которую по старой китайской традиции были установлены скульптурные изваяния львов. По-китайски слово «лев» переводится как «шицза». Вообще эти «охранники», отгоняющие своим неслышным рычанием и свирепым видом злых духов и всякую другую нечисть, устанавливались и устанавливаются у более-менее значимых зданиях по всему Китаю, и несть им числа. Хотя в древние времена каменные и бронзовые изваяния фантастических львоподобных существ ставились только на кладбищах, у ворот императорских дворцов и у храмов.
Кстати, и у входа в главный корпус университета во Владивостоке, где учился Евгений Петрович, застыли базальтовые львы, сработанные китайцами в десятом веке и установленные в этом месте в 1907 г., когда в здании размещался Восточный институт. Как они оказались во Владивостоке – дополнено неизвестно до сих пор. То ли это был подарок китайского губернатора, то ли военный трофей. Рассказывают, что их было две пары. Одна пара задержалась во Владивостоке, а другую разлучили: льва оставили в Хабаровске, а львицу переправили в Петербург.
В свое время Евгений Петрович часто бывал в Ленинграде по служебным делам, а докторскую диссертацию защищал в Военно-морском училище имени Дзержинского, располагавшемся в здании Адмиралтейства.
Впервые он попал в Ленинград студентом на конструкторскую практику, участвовал в проектировании первого парома для линии Владивосток – остров Русский. Светлана приехала через несколько дней в отпуск (тогда она уже работала, а он заканчивал вуз).
Очарованные белыми ночами, опьяненные собственной молодостью, окрыленные мечтами о будущем, они бродили по городу в свободные часы, днем, а ночами обязательно, и впитывали, как губки, очарование и неповторимую прелесть города на Неве.
Позже он смутно припоминал, что видел китайских львов и очень недалеко от дома, в котором они жили тогда в Ленинграде.
Уже ректором Евгению Петровичу снова довелось побывать в Санкт-Петербурге. Он все же разыскал этих львов. Они установлены на Петровской набережной и действительно совсем недалеко от дома, в котором жили тридцать лет назад. В тот же день в одном из книжных магазинов ему попалась на глаза книга В. Нестерова «Львы стерегут город». Из нее он и узнал историю появления в Санкт-Петербурге декоративных статуй шицза.
Оказывается, что львы и у Восточного института во Владивостоке, и на Петровской набережной были установлены в один и тот же 1907 год. На этом их сходство и заканчивалось. И если у санкт-петербургских львов высечена надпись: «Шицза из города Гирина в Манчжурии перевезена в Санкт-Петербург в 1907 году. Дар генерала от инфантерии Н. И. Гродекова», то у владивостокских львов никакой надписи нет. Да и сами скульптуры шицза из Владивостока и Санкт-Петербурга совершенно разные.
Гиды из Санкт-Петербурга любовно называют своих шицза за округлость форм «лягушками», и такой вид львов в Китае является самым распространенным. Львы из Владивостока – угловатые, из них как бы выплескивается мощь, реальная сила, гордость, достоинство и, конечно, угроза для врагов и нечистой силы.
Да по-другому и быть не могло – санкт-петербургские львы сделаны в 1906 г., о чем свидетельствуют надписи на китайском языке, высеченные на плитах статуй. Возраст львов у Восточного института во Владивостоке отсчитывается с десятого века, а надписей никаких нет, не считая загадочного орнамента.
В начале своего ректорства Евгений Петрович иногда подшучивал над сотрудниками, задавая вопрос:
– Одинаковые ли львы стоят у входа в университет?
Народ задумывался, и не всегда он получал правильный ответ. Знаете, когда много лет проходишь возле какого-то места, то взгляд как бы «замыливается» и на детали не обращаешь внимание. А следующий вопрос:
– А сколько все-таки львов стоит у входа?
Многих повергал прямо в шок. Однажды Евгений Петрович участвовал в радиопередаче и задал этот вопрос радиослушателям. Минут через пять откликнулась выпускница одной из школы г. Владивостока и дала правильный и обстоятельный ответ.
Евгений Петрович пообещал девочке льготные условия для поступления в вуз, но они ей не понадобились, так как она закончила школу с золотой медалью.
Ну так вот. У входа в здание бывшего Восточного института по ул. Пушкинской во Владивостоке расположилась целая семья из четырех львов.
Если встать спиной ко входу, то слева гордо восседает он – властелин мира, с достоинством положив лапу на шар, символизирующий нашу планету, а справа не менее гордо застыла львица: под левой лапой у нее изогнулся малыш-львенок, а на спину заполз другой. Кстати, больше нигде в Китае или в других местах, где были установлены шицза, Евгений Петрович не видел семейства из четырех львов…
А тогда, перед входом в университетскую гостиницу в Харбине, приглядевшись к скульптуре шицза, он почувствовал какое-то несоответствие в их расстановке, а затем удивился: львы стояли не так, то есть на месте львицы стоял лев и наоборот.
Он засомневался: «А правильно ли стоят львы в нашем университете?» Не перепутали наши предки чего-нибудь? Да, вроде не должны были. Все-таки Восточный институт! Китаисты!
Евгений Петрович обратил внимания своих спутников на несоответствие в расстановке львов. Сначала они восприняли это, как шутку, но потом, когда проезжали по Харбину, и он несколько раз показал им, как правильно должны стоять львы, почти каждый из коллег, опережая друг друга, тыкал пальцем в окно автобуса:
– А вот «правильные львы»!
Без шуток, конечно, не обходилось.
На приеме по случаю нашего приезда, сидя за круглым китайским столом, на верхний вращающийся стеклянный круг которого подавались все новые и новые блюда, Евгений Петрович все-таки спросил у китайского ректора:
– Почему львы у входа в университетскую гостиницу перепутаны местами?
То ли он не понял вопроса, то ли переводчик неверно перевел, ректор стал рассказывать о древнем китайском обычае устанавливать пары львов перед входом для защиты домов. Евгений Петрович повторил вопрос. На что ректор с гордостью ответил, что он сам лично руководил установкой шицза.
Между тем, Евгений Петрович обратил внимание, как ловко ректор орудовал палочками, доставая ту или иную еду. Но что интересно, палочки он держал в левой руке. Ректор был левшой. Кажется, теперь Евгений Петрович понял, почему шицза у входа в университетскую гостиницу стояли не так…
А одиночных львов, подобных стоящим у входа в вуз во Владивостоке, и по легенде отправленных порознь в Хабаровск и Санкт-Петербурге, так и не смогли отыскать.
Видимо, по одиночке шицза не живут.
При советской власти Евгению Петровичу доводилось бывать в заокеанских странах. Тогда он был в погонах, и государственный аппарат жесточайше следил за мыслями, взглядами, движениями своих подданных.
Но вот на страну рухнул 1990 год, и плотина тоталитаризма была наконец прорвана. Тогда-то грязевой сель «демократии по-русски» и утопил мысли, залил уши, залепил глаза. Правда, грязь, вынесенную на гребень «победы», новые русские демократы постарались застенчиво прикрыть вуалью розового романтизма. А первый Президент России украсил эту вуальку юридическим букетиком: разрешено все, что не запрещено.
В списке незапрещенного оказались псевдодемократические визиты в капиталистические страны под любым благовидным поводом.
Одним из таких поводов оказалось побратимство российского Владивостока с американским Сан-Диего. Чтобы узаконить и закрепить эти отношения двух портовых городов, новоявленные демократы, оголтелые от собственной молодости и нечаянной власти, организовали чартерный рейс из Владивостока в Сан-Диего. Почему-то начинающие приморские властители включили и Евгения Петровича в свою делегацию. Возможно, потому, что он был совсем недавно избран на должность ректора политехнического института и, видимо, по мнению организаторов поездки в Сан-Диего, имел все основания именоваться «молодым ректором». Впрочем, демократы могли включить его в свою делегацию и по более прозаической причине: для придания официальности и ученого авторитета своей поездке в США. Впрочем, не надо гадать, какие мотивы двигали этими людьми, когда они вносили в список делегации его фамилию, но факт остается фактом: впервые в США он попал в составе той «демократической» делегации приморцев.
Для Евгения Петровича эта поездка была очень своевременной. Предполагалось побывать не только в Сан-Диего, но и еще в нескольких городах США. И он надеялся как можно полнее познакомиться с методами и формами экономики высшего образования в США. Дело в том, что он вступил в должность ректора в далеко не лучший период экономического состояния страны. Вуз хоть и содержал в своем названии титул «государственный», но в 90-е годы государственные чины не очень заботились даже о минимально зримой финансовой поддержке российского образования. Поэтому ректорам приходилось буквально на ходу изворачиваться, выискивая всевозможные лазейки, чтобы отыскать хоть какую-нибудь финансовую поддержку своим университетам. А высшее образование в США сплошь и рядом стояло на коммерческом фундаменте. Как стояло? За ответом на этот вопрос Евгений Петрович и поехал в США.
То была его первая поездка в Америку.
Впрочем, первой она оказалась во многих отношениях. Ни до (в советские времена), ни после визиты за рубеж (а особенно – в США) не носила такой сумбурный, суматошный, непонятный во всех отношениях характер, как эта поездка. Первой она оказалась и потому, что впервые он встречался с американцами, проявлявшими хоть малейший намек на желание познакомиться. В общем, несмотря на безалаберность поездки, кое-что полезное и нужное для себя и для университета он из первого визита в Америку вынес.
Например, как ректор одного из ведущих вузов Дальнего Востока, он узнал, как можно, нужно и даже необходимо действовать в сложившихся в России к этому времени экономических условиях, чтобы вытащить университет из безденежья и долговой ямы.
Второй плюс той поездки – зарубежные знакомства. В годы советской власти, когда Евгению Петровичу приходилось бывать в зарубежных странах как руководителю морской практики курсантов, знакомства с иностранцами случались.
Но именно – случались.
Те знакомства не несли за собой не только каких-либо обязательств, но и не таили в себе долговременной продолжительности. В ту пору они были советскими людьми, и во всех ситуациях за них думало государство, отвечало государство, решало проблемы – тоже государство, руководило действиями и возможностью мыслить – все оно – государство.
Теперь же появилась насущная потребность видеть, предвидеть и действовать вполне самостоятельно. Значит, каждое знакомство – необходимость. А с иностранцем, да еще и что-то значащим в мире бизнеса, – обязательность…
Во время той первой поездки в США Евгению Петровичу, начинающему ректору, фатально повезло. Он познакомился с Джеймсом Хаббеллом – человеком не от мира сего.
Он не мог найти достаточно точных слов, чтобы во всей полноте, ширине и глубине охарактеризовать этого человека. Сказать, что он талантлив – ничего не сказать. И к гениям отнести его затруднительно. Архитектор по образованию, Джеймс Хаббелл с юности обрек себя на отшельничество в этом сложнейшем искусстве. Он, прикованный всемирным тяготением к нашей планете, оторвался от нее в своем творчестве и потому стал вселенским архитектором и великим Самоделкиным.
Евгению Петровичу довелось побывать в его «хоромах». Эти уникальные дома придуманы и построены из подручных материалов самим Хаббеллом. Удивительные творения архитектор возвел буквально из всего, что он находил, гуляя по окрестностям, а изящные витражи и ажурные решетки детского домика останавливали, заставляя верить, что вот-вот должны появиться Белоснежка и семь гномов…
– Это еще не все, – объяснял ему Джеймс, показывая свое роскошное и не похожее ни на один дом в мире жилище. – Я продолжаю строить этот дом. И буду строить его всю свою жизнь.
Кстати, в одном из дворцов какого-то арабского шейха стоят двери, сработанные Джеймсом.
Сегодня Джеймс Хаббелл – почетный профессор технического университета. Сегодня Джеймс Хаббелл – автор международного проекта «Pasific Rim Рагк». По замыслу и при непосредственном участии американского архитектора Д. Хаббелла в районе видовой площадки около одного из корпусов университета был построен монумент под названием «Душа и земля Владивостока». Позже были построены еще два монумента в Сан-Диего (США) и Янтае (Китай). Затем построены монументы в Республике Корея, в Мексике и на Филиппинах. В конечном виде это своеобразный архитектурно-межконтинентальный круг, каждая дуга которого символизирует единство науки, образования и дружбы народов планеты Земля. Строили этот круг студенты и преподаватели при поддержке общественных организаций.
В середине 90-х годов Евгений Петрович каким-то непостижимым образом попал в список представителей Министерства образования, которым предстояла командировка в США. По программе Информационного агентства США (ЮСИА).
Организовано все было на непривычно высоком для россиянина уровне. Билет для перелета из Владивостока в Москву доставили прямо на работу. В столице уже поджидал номер в гостинице, а в посольстве США быстро и без обычной волокиты оформили все необходимые документы.
Состав группы оказался малознакомым. Более или менее хорошо Евгений Петрович знал только двух дальневосточных ректоров из Хабаровска и Благовещенска. Зрелые, честолюбивые мужики. Еще в советское время были они направлены «поднимать» провинциальные вузы.
Один из них вскоре после этой поездки в США сядет в кресло заместителя министра образования. А второй ко времени этой совместной поездки был депутатом Государственной думы. И весьма забавно было наблюдать, как человек в демисезонном пальто (а дело, между прочим, происходило в феврале), в сбитой набекрень откровенно изношенной меховой шапке, заметно «под шафе», волочил через барьеры штатовских секьюрити дешевенькую китайскую сумку на колесиках и гордо при этом восклицал по-английски с дальневосточным прононсом:
– Ай эм сенатор!
Маршрут включал в себя посещение столицы США города Вашингтона, затем – город Колумбус в штате Огайо, оттуда – в Нью-Йорк, потом – университетский город Хартворд, что в штате Коннектикут, снова Нью-Йорк, а из Нью-Йорка – на Аляску, откуда самолетом – через Магадан – вернулись в свои родные города. Словом, совершили кругосветное путешествие.
К счастью, не обходилось без приключений, необходимых в любом путешествии, и они в какой-то мере снимали угнетающее напряжение, вызванное надоедливой болтовней переводчика.
На удивление, большинство этих приключений оказалось связано с одним и тем же человеком: проректором одного из крупнейших сибирских вузов. Кстати, буквально через несколько дней после возвращения из той поездки по США он был избран ректором этого самого вуза. Одним словом, Сибиряк.
О том, насколько тщательно поездка была продумана и организована, можно судить уже по такому, например, факту. Едва они прибыли в Вашингтон, как представитель ЮСИА выдал всем денежные чеки, которыми должны были оплачивать не только свое проживание в гостиницах в течение всей поездки, но и свое питание, и даже обязательные в США чаевые, например, официантам.
И вот тут приглашающая сторона просчиталась. Эти забавные американцы не подумали о «загадочной русской душе».
А ведь особенность каждого россиянина (вне зависимости от его национальности и занимаемой должности) кроется в его уникальной способности быстро, почти мгновенно, приспосабливаться с выгодой для себя к условиям «внешней среды обитания», в которые он попадает по воле тех или иных обстоятельств.
Так вот, едва получив причитающиеся ему суммы от представителя ЮСИА, Сибиряк умудрился здесь же, в Вашингтонской гостинице, потерять свой бумажник вместе со всеми документами, в том числе и с зарубежным паспортом, и с только что полученными деньгами.
К счастью, перед самым вылетом из Нью-Йорка на родину пропажа отыскалась: бумажник вместе со всем его содержимым переслали Сибиряку по почте. Правда, в сумме денег, которые Сибиряк успел получить в гостинице Вашингтона и которые не замедлил потерять там же, обнаружилась нехватка. Но приложенная к посылке записка поясняла, что эти деньги отправитель вычел в счет самовознаграждения (как и положено в цивилизованных странах) за свою честность.
Следующее приключение с Сибиряком случилось при непосредственном участии Евгения Петровича.
В одной из гостиниц ему довелось ночевать в двухместном номере вместе с Сибиряком. Выезжать предстояло в 3–4 часа утра. Естественно, спать улеглись рано, и Евгений Петрович как человек, имеющий определенное отношение к технике, по просьбе гуманитария Сибиряка настроил стоящий на прикроватной тумбочке электронный будильник на нужный час подъема. После этого они завалились в кровати, намереваясь выспаться к указанному сроку.
Не тут-то было.
Примерно с полуночи американская часовая электроника принялась с противным постоянством срабатывать через каждый час. И каждый час постояльцы подскакивали от гнусного воя «alarm»-a. Евгений Петрович выключал будильник, вновь настраивал на нужное время, вновь укладывался в постель, но едва смеживал веки, как пронзительный вой вновь подбрасывал его и Сибиряка на кроватях. Не помог справиться со строптивым механизмом и вызванный ими служащий гостиницы.
В общем, ночка выдалась та еще!
Умываясь, они шутили по поводу того, что американский электронный будильник просто-напросто не смог вынести соседства могучей сибирской ауры и дальневосточной биоэнергетики и потому суматошно трезвонил, чтобы избавиться от непривычного энергетического воздействия…
А когда случалось им встречаться то в коридорах министерства, то на различных совещаниях, симпозиумах или еще где-то, они, едва завидев друг друга, начинали широко улыбаться, не успев еще и поздороваться. Оно и неудивительно: пережитое надолго сближает людей.
Но это – приятное приложение к не совсем приятным впечатлениям от той поездки.
При всей масштабности поездки программа пребывания оказалась однообразной и, в общем, унылой. Все было расписано по часам и заорганизовано до одури. В каждом городе их водили в какой-нибудь университет и – обязательно – в Капитолий местного калибра.
В один из вечеров повезли на открытие выставки американских частных коллекций картин русских художников. Обычная американская тусовка с традиционным набором напитков и не менее традиционными, в американском же стиле, бутербродами и с намозолившей глаз высокопоставленной публикой. А вот на стенах избыточно шикарных залов висели оригиналы полотен, иллюстрации которых Евгений Петрович видел еще в учебниках «Родная речь», когда учился в школе.
Здесь были и знаменитая «Опять двойка», и «Суворовец на побывке», и прекрасные пейзажи. Теперь эти шедевры советской, именно советской! – живописи принадлежат американским богатеям. Кто их им продал? Зачем? Он не мог успокоиться очень долго. Кое-кто из группы успокаивал:
– Ну и что? Зато сохранили для человечества!
Для какого такого «человечества»? А мы, россияне, кто? Где же наша национальная гордость?..
Ошеломленный увиденным, он начал догадываться, что это – предтеча распродажи оптом и в розницу Отечества. Оказалось, что первое, что начали распродавать, были не природные ресурсы (до них, очевидно, скоро дойдет очередь), не заводы, разворованные в ходе пресловутой приватизации, и не фабрики, а произведения искусства…
Если бы кто знал, как стало обидно за Россию! Невольно вспомнились кинофильмы и книги ранней молодости. Они рассказывали о том, как власти боролись с теми, кто пытался растаскивать во время революции и Гражданской войны национальное достояние республики. А в печати уже нашего времени замелькали сообщения о личных коллекциях выдающихся произведений искусства, обнаруженных у бывших членов ЦК КПСС и приближенных к ним лиц.
Кому и чему верить?
После знакомства со столицей США – городом Вашингтоном – отправились в г. Колумбус. Но едва вошли в местную гостиницу, едва занялись заполнением гостиничных документов, как служитель за регистрационной стойкой вежливо сообщил, что Евгения Петровича просили позвонить по такому-то телефону. Он было удивился: почему именно его попросили позвонить и что это за знакомый оказался в этой заокеанской стране? Но сопровождающий группу американец сообщил, что вечером их будут принимать соотечественники, проживающие в Америке, а Евгений Петрович назначен старшим в своей подгруппе.
Группу очень удачно разделили на несколько подгрупп. Видимо, «принимающая сторона» досконально изучила биографии приехавших.
Кое-как распаковав вещи, Евгений Петрович позвонил по телефону, номер которого назвал портье, и услышал надтреснутый, но довольно бодрый голос:
– Хеллоу, Евгений! Я буду ждать тебя и твоих друзей у гостиницы в 16 часов.
Когда вышли к месту рандеву, их встретил суетливый пожилой человек, прекрасно говоривший по-русски. Представился врачом. Несмотря на возраст, практикует до сих пор. Он усадил всех в свой микроавтобус, и часа через полтора они оказались в гостях у… личного переводчика генерала Власова. Да-да, того самого генерала Власова!
Впрочем, об этом узнали позже, а пока знакомились с домом. Стандартный набор «одноэтажной Америки»: несколько комнат, кухня, туалеты (как и комнат, их тоже несколько), камин… Все есть, но как-то неуютно.
Перед домом не очень ухоженная, почему-то заболоченная лужайка с чахлыми деревцами, среди которых самыми приметными были то ли елки, то ли сосны. Пейзаж показался родственно знакомым. Где-то он уже такое видел. Где? Хозяин исподволь присматривался к гостям.
Они, в свою очередь, поглядывали на него. Первое впечатление, как правило, редко обманывает. Сейчас оно было явно не в пользу русского американца. Что-то неприятное сквозило в нем, хотя внешне он смотрелся вполне респектабельно. Ладный темно-синий, переливчатый на плавных изгибах костюм сшит явно не в дешевом ателье. Золотые запонки в манжетах ослепительной белизны рубашки и массивный, тоже золотой, зажим на подобранном со вкусом строгом галстуке. Сытый, ухоженный, но – неуверенный какой-то, беспокойный…
Из дома вышла молодая, лет тридцати с небольшим, женщина. Оказалось, его жена, тоже русская, родом из Новосибирска. Два года назад она приехала в США на какие-то курсы медицинских сестер. Там и познакомилась с этим старичком, да так и осталась в Америке. Сейчас учится водить автомобиль, ходит на курсы английского языка.
Евгений Петрович прикинул: разница в возрасте – лет тридцать пять – сорок… Женщина расплескала губы в сверкающей улыбке:
– Прошу к столу, дорогие гости!
А глаза ее оставались льдистыми, как примороженные ноябрьские лужицы. Почудилось, что, произнеся слово «дорогие», она подразумевала его прямой смысл, а не тот, что вкладывают в него хлебосольные русские женщины, приглашая желанных друзей отведать обильную снедь. Или, может быть, показалось?..
Стол оказался накрыт по-русски, но уже чувствовалось американское влияние: говядина целым куском, салаты, сверкающий ряд ножей, ложек, вилок у столовых приборов…
После традиционных тостов за знакомство и за здоровье присутствующих, хозяин дома как-то тихо так произнес:
– А в войну я был личным переводчиком генерала Власова…
На мгновение над столом повисла угрюмая тишина, но кто-то быстро разрядил обстановку:
– Вы, оказывается, полиглот!..
Застолье продолжалось, но еда уже в горло не лезла. В перерывах хозяин урывками рассказал историю своей жизни. Оказалось, родом он из-под Вязьмы. И Евгения Петровича озарило: вот где он видел пейзаж, похожий на тот, что прилегал к дому принимавшего их американца. Его родители тоже вяземцы. И когда ему исполнилось лет шесть-семь, они ездили навещать свою родину. Тогда он впервые увидел заливные луга, озера, приболоченные лужайки на берегах реки Вязьмы, разнолиственные леса Вяземщины, заросшие по опушкам щетинкой невзрачных дубков, березок, елей…
Второй раз он побывал на родине своих родителей уже достаточно взрослым человеком, в студенческие годы, когда возвращался с корабельной практики, которую проходил в черноморском городе Николаеве. Именно тогда природа бережно, до мельчайших деталей, и легла навсегда в его память.
Стало быть, эта нарочито неухоженная заболоченная лужайка – огрызочек Вяземщины, созданный американскими рабочими на деньги хозяина, его ностальгия по преданной и проданной России?..
…Итак, он родом из-под Вязьмы. Перед самой войной успел окончить педагогический институт, факультет иностранных языков, отделение немецкого языка. Буквально в самом начале войны был призван в армию, почему-то – в артиллерию, и в первом же бою добровольно перешел на сторону гитлеровцев.
О генерале-предателе Власове хозяин вспоминал с нескрываемым уважением, называя его только по имени-отчеству. Всячески подчеркивал его интеллигентность и эрудицию. Правда, почему-то так и не рассказал, как сам попал в армию Власова, что делал в ней всю войну. Но отметил, что имел офицерское звание гауптмана (капитана) и, по его словам, всюду неотступно сопровождал генерала.
Почему не остался с Власовым до конца?
– Тогда была такая неразбериха, что я просто потерялся.
На самом деле, наверное, переметнулся к «победителям»-американцам, избегая участи своего идола, как и тогда в 1941 году под Вязьмой сбежал в плен к немцам. Пережив в американском лагере для перемещенных лиц сумятицу германского поражения, сумел в послевоенной Германии получить высшее медицинское (!) образование и в начале 50-х годов с очередной волной русских эмигрантов из Западной Германии переехал в США. Тошнотворно долго и подробно рассказывал, как тяжело перенес морской переход по Атлантике в трюме какого-то парохода.
Уже в Штатах обзавелся семьей. Есть у него взрослый сын, но отношения с ним не сложились, как и с первой женой. Впрочем, хозяина это особенно и не огорчает. Сейчас женат во второй раз.
– Вот на этой русской, – кивнул он в сторону бывшей жительницы Новосибирска. И его безразличное «на этой русской» нагайкой хлестнуло по сердцу.
Завел нас в домашнюю библиотеку, почти сплошь, если исключить десяток медицинских томиков, заставленную книгами и толстыми папками с газетными вырезками о войне. Отдельная полка – сборище всевозможных изданий, рассказывающих о генерале Власове. Но все – на английском и немецком языках. Когда Евгений Петрович спросил, а читал ли он книгу А. Васильева «В час дня, Ваше превосходительство», посетовал:
– На русском языке книги в Америке достать очень трудно.
И горделиво сообщил:
– А в России я все-таки побывал.
Оказалось, что во времена «оттепели», в начале 60-х годов XX века, написал письмо первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву. Получил ответ с разрешением посетить Россию и даже встречался с Никитой Сергеевичем. А потом навестил свою еще живую тогда старуху мать. Но до сих пор не может понять той холодности, с какой его встретили под отчим кровом:
– Господи, да зачем же ты приехал? – всхлипнула женщина, давшая ему жизнь. – Уж лучше бы ты так и оставался для меня пропавшим без вести.
– Вы представляете? – развел он руками. – Она не была мне рада… Она сказала, что у нее нет сына…
В своем недоумении он казался искренним. И стало понятно, что, несмотря на свое российское происхождение, он уже давно перестал быть русским. Он только говорил на языке Родины… Улучив момент, когда они оказались наедине, Евгений Петрович спросил его:
– Извините за нелицеприятный вопрос: вы полагаете, что не предавали Родину?
Он вдруг как-то застыл на мгновение, полоснул ставшим вдруг ледяным взглядом, и Евгений Петрович почувствовал, что не так-то прост и откровенен этот практикующий американец с западногерманским дипломом врача.
Потом плечи его обмякли, походка отяжелела. Но вопрос был задан и требовал ответа. Он сделал шаг-другой, обернулся и махнул рукой, словно стараясь этим охватом обнять свой дом, свой заболоченный земельный участок:
– Это все мое! И кое-что, чего вы не успели увидеть, еще осталось. А что есть у ваших?..
И Евгений Петрович невольно подумал: действительно, что, кроме орденов, медалей да тягостных воспоминаний о войне осталось у наших фронтовиков? Он поименно вспомнил своих учителей – участников войны. Школьных и институтских. Тех, кто еще трудится, и тех, кто уже ушел из жизни, он вспомнил газетное сообщение о том, как в самом начале треклятой «перестройки» ушла из жизни фронтовичка, замечательная поэтесса Юлия Друнина. Она загнала в тесный гаражик свой москвичонок, закрыла плотно ворота и включила двигатель, убив себя выхлопными газами… И ее четверостишие:
Я только раз видала рукопашный. Раз наяву, и – тысячу во сне… Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне!Она пережила ужас Курской битвы, выжила в болотном аду Белорусской операции и не сумела пережить злонамеренно организованного развала страны, защищая которую на фронте, узнала боль пулевых ранений и обжигающий шок ранений осколочных…
Что-то не так в этой жизни. Почему предатель своей Родины, воевавший во Второй мировой войне на стороне врагов не только России, но и США, обрел уважение и достаток в некогда враждебной ему Америке? Почему в нашей стране ее защитники сейчас коченеют в своих квартирах, лишенных тепла и света, силясь уложить собственное существование в рубли крохотной государственной пенсии?..
Время сделало их чужими. Стране. Детям. Нам всем! Сложная штука – жизнь. Особенно в эпоху глобальных социальных перемен. Тогда пересматриваются человеческие ценности. Тогда многие забывают прошлое своей страны, а в итоге – ставится под сомнение необходимость жизни целого поколения.
Вот уже и генерала Власова пытаются возвести в ранг национального героя. Обильно рассыпаны по книжным прилавкам хвалебные талмуды о последнем русском царе Николае II, о «героях-полководцах» Деникине, Краснове и многих им подобных. Угодливые продавцы обращают внимание покупателя на их мемуары и воспоминания…
Даже тот, по партийному приказу которого совсем, казалось бы, недавно разрушено в Свердловске последнее пристанище последнего русского царя, теперь увековечил царскую память, и во время посвящения императорской семьи в великомученики добросовестно демонстрировал перед телекамерами всероссийских телевизионных каналов тщательно отрепетированное хмельное раскаяние.
И уже редкий россиянин знает о том, что именно эти генералы бездарно проигрывали сражения во время Русско-японской войны 1904–1905 годов и во время Первой мировой войны. А во Второй мировой войне на стороне гитлеровцев воевал не только генерал Власов. Плечом к плечу с ним шли против своей Родины русские и советские генералы Краснов, Шкуро, Жиленков, Трухин, Мальцев и другие… А под их командованием – десятки тысяч рядовых солдат из русских. И сегодня русские стреляют в русских. Но уже не за идею. Теперь – за деньги.
…Тогда, наскоро и неловко распрощавшись с хозяином, Евгений Петрович, переполненный тягостными впечатлениями, поздно вернулся в безупречный номер американской гостиницы.
Долго и тщательно мылся в стерилизованной ванне. Казалось, что сумеет смыть с себя коричневую тину минувшего знакомства. А потом завалился в по-американски необъятную и пышную постель. Но сон долго не шел.
Перед возвращением в отель хозяин втиснул Евгению Петровичу в руку свою визитку, предлагая новые встречи. Но он ему больше не звонил. Когда же уезжали в другой город, он «забыл» его визитную карточку в гостиничной урне. Поэтому ни фамилии его, ни имени-отчества не запомнил. Да и едва ли они были настоящими, данными ему русской матерью.
Где-то Евгений Петрович прочитал, что человека можно сравнить с алмазом, хотя, честно признаться, не знал доподлинно: допустимо ли сравнивать живую и неживую материи? Но ведь у алмазов такие же таинственные качества, как у людей. Каждый – единственный и неповторимый, и чем больше граней, тем больше света. Подобно людям они содержат в себе, скрывают или выплескивают из себя разные цветовые оттенки, жару и холод, внезапное пробуждение и ослепляющий свет.
Но попробуйте поместить алмазы в воду, и вы их не увидите, как и отдельного человека в толпе.
Людей, как и алмазы, шлифует и подвергает огранке тот образ жизни, который они ведут, другие люди, которых они встречают, и тогда в некоторых из них появляются трещины. Алмаз, как и человек с трещиной, с червоточиной теряет в цене очень много. И немногие люди, как и алмазы, обладают качествами драгоценных камней. И тем не менее каждый алмаз прекрасен, странный и завораживающий, привлекающий и отталкивающий.
Очень редко попадается как по-настоящему ценный камень, так и настоящий человек. Бриллиант! Вознаграждающий отыскавшего его за узнавание, изучение и любовь.
Обычно мы видим людей как бы под гримом, когда они поворачиваются к нам своей лучшей стороной.
Евгению казалось, что по-настоящему изучить людей можно только тогда, когда наблюдаешь за ними без их ведома, как бы подслушиваешь их мысли, видишь их в неприукрашенном виде. И еще думалось ему, что изучить их можно только тогда, когда их душа обнажена страданиями.
К сожалению, изучить людей, которые жили раньше, можно только по скупым, сухим и протокольно-формальным архивным данным, да еще по воспоминаниям их современников, которые дошли до нас, как субъективная оценка жизни того или иного человека.
И тем не менее каждый человек высвечивает свою жизнь всеми гранями души, характера и таланта, и если отсвет этот доходит до нас через годы, значит, человек тот самый бриллиант и есть.
…Приступив к обязанностям ректора политехнического института, Евгений Петрович в первую очередь заглянул в архив. Не думал, что расчищать «авгиевы конюшни» архивных завалов придётся в течение нескольких лет. Однажды он выудил из тёмного угла картонный ящик, поседевший от многолетней пыли, в котором вперемежку с другими бумагами валялись небольшие тетрадки из второсортной бумаги. Это оказались расчётные книжки педагогов и научных сотрудников Государственного Дальневосточного университета. Видимо, они были переданы политехническому институту при ликвидации ГДУ ещё в 1930 году.
Среди них была и расчётная книжка № 118 доцента Владимира Клавдиевича Арсеньева, из которой следовало, что трудовой договор с ним заключён на неопределённый срок, месячная зарплата составляет 23 рубля 66 копеек и выдаётся два раза в месяц 1 и 16 числа.
А совсем недавно, в очередной раз оказавшись в Москве в командировке и имея в запасе часа два времени до важной деловой встречи, Евгений Петрович надумал забежать в букинистический магазин на Покровке, 50.
Так как времени было в обрез, решил поймать такси или любой автомобиль. Поймал, сел и… попал в жуткую пробку. В конце ноября погода в Москве стояла мерзопакостная. Всё время шёл надоедливый мелкий «то ли дождь, то ли снег» и, несмотря на положительную температуру воздуха, было довольно зябко. Правда, в машине оказалось тепло, водитель – в меру любезным и разговорчивым, но вокруг витала какая-то раздражённость, видимо, от того, что приходилось так долго ждать очередной подвижки транспортного потока.
Последние метров 500, оставшиеся до места назначения, Евгений Петрович преодолел пешком. Таким образом, затратил только на поездку почти весь отведённый на визит лимит времени. Поздоровавшись с сотрудниками магазина, он попросил побыстрее его обслужить.
Просмотрев заранее отобранные материалы (об этом они договорились по телефону) и выбрав несколько книг и открыток для музея университета, попрощался и поспешил к выходу, но его остановил вышедший из «запаски» знакомый сотрудник магазина и, протягивая конверт, предложил:
– Посмотрите вот это!
Он принял конверт из плотной, но уже выцветшей от времени, когда-то синей бумаги, он, с трудом разбирая почерк, прочитал:
«Завещание В. К. Арсеньева.
Передано А. И. Мельчину в 1944 г.
Последним проводником Арсеньева во Владивостоке».
Бережно открыв конверт, он вынул из него листок желтоватой бумаги, размером в полстранички нестандартного листа, на котором твёрдым, с хорошей каллиграфией почерком с соблюдением всех правил дореволюционной орфографии было начертано:
Просьба!
Убедительно и горячо прошу похоронить меня не на кладбище, в лесу и сделать следующую надмогильную надпись: «Я шёл по стопам исследователей в Приамурском крае. Они ведь давно уже находятся по ту сторону смерти. Пришёл и мой черёд. Путник! Остановись, присядь здесь и отдохни. Не бойся меня. Я также уставал, как и ты. Теперь для меня наступил вечный абсолютный покой».
В. Арсеньев
Евгений Петрович с удивлением посмотрел на продавца:
– Откуда это у вас?
Тот неопределённо пожал плечами, улыбнулся и развёл руками, посчитав, видимо, что это и есть ответ на вопрос.
Естественно, Евгений Петрович приобрёл этот раритет, но все дни до окончания командировки и всё время перелёта из Москвы до Владивостока одна мысль не давала покоя: «А есть ли подобный документ в музее имени В. К. Арсеньева во Владивостоке?»
Дело в том, что в 1930 году прах В. К. Арсеньева был захоронен на крепостном военном кладбище во Владивостоке на пустынном тогда полуострове Эгершельд.
В 1935 году это кладбище закрыли, а в 1954 году произошло перезахоронение праха В. К. Арсеньева. Сейчас он покоится в мемориальной части Морского кладбища недалеко от памятника, установленного на могиле моряков легендарного крейсера «Варяг».
Очевидцы рассказывали, что во время перезахоронения из гроба В. К. Арсеньева вылетела белоснежная бабочка и устремилась в поднебесье. Верующие перекрестились: наконец-то душа В. К. Арсеньева обрела покой.
На следующий день после прилёта, Евгений Петрович позвонил сотрудникам музея, нескольким знакомым краеведам и рассказал о завещании. Кто-то выразил сомнение в подлинности документа, кто-то восхитился находкой.
А он просмотрел несколько документальных книг о В. К. Арсеньеве и попытался сравнить почерк и подпись на завещании с факсимильными иллюстрациями в этих книгах. Конечно, он не почерковед, но, на его взгляд, в начертании букв и в подписи было немалое сходство.
Для полной уверенности он поставил перед собой задачу направить документ на экспертизу, и узнать, кто такой А. И. Мельчин.
Предварительная экспертиза подтвердила подлинность документа. А о судьбе Анатолия Ивановича Мельчина удалось узнать из ответа на запрос в Московский военно-исторический архив.
Из Москвы сообщили, что А. И. Мельчин – писатель и историк. Этого, конечно, оказалось мало. Евгений Петрович обратился за помощью в библиотеки города и в систему межбиблиотечного абонемента региона.
Через несколько дней на его столе уже выросла внушительная стопка книг, написанных А. И. Мельчиным, и копии статей из различных сборников и газет. Книги его посвящены в основном героям Октябрьской революции и Гражданской войны. Хотя есть и вступительная статья к почти неизвестной в настоящее время маленькой книжечке стихов «Мой край родной».
Оказалось, что Мельчин уволился в запас в звании капитана 1-го ранга, сотрудничал в газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта» с 1939 по 1945 год. Был членом Приморского филиала Всесоюзного географического общества. Кстати, в одной из книг, посвящённой 50-летию этой газеты, он пишет: «Были и интересные находки. Так, 5 ноября 1944 года на страницах “Боевой вахты” появились отрывки из неизвестных ранее писем А. М. Горького к путешественнику и писателю В. К. Арсеньеву. Эти письма (ныне широко известные) были обнаружены в архиве Арсеньева, хранящиеся в приморском филиале Всесоюзного географического общества». И подпись: капитан 1-го ранга А. Мельчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Совсем недавно один из краеведов принёс Евгению Петровичу копию заметки Прим. ТАСС Приморской краевой газеты «Красное знамя» за 17 апреля 1945 года. Называлась она «Разбор архива В. К. Арсеньева».
«В краеведческой библиотеке Приморского филиала Всесоюзного географического общества закончен разбор недавно приобретённого личного архива известного дальневосточного писателя, исследователя и краеведа штабс-капитана В. К. Арсеньева…
…Пользуясь богатым историческим и биографическим материалом, председатель исторической секции общества майор Мельчин работает над составлением биографии писателя. Из всех материалов архива Арсеньева – дневников, записных книжек, научных и литературных трудов, писем – видно, как горячо любил писатель свою Родину, свой край. В только что обнаруженном ещё нигде не опубликованном завещании Арсеньева выражена горячая просьба, похоронить его в Уссурийской тайге».
О завещании В. К. Арсеньева с просьбой похоронить его в лесу, а не на кладбище, говорилось во многих воспоминаниях и мемуарах родственников Владимира Клавдиевича.
Так, например, в журнале «Рубеж» в шестом номере за 2006 год опубликованы в записи Георгия Пермякова воспоминания Анны Арсеньевой, первой жены великого путешественника. Анна Константиновна вспоминает о письме сына Владимира, которого в семье называли Волей, к пионерам. В письме Воля цитирует эпитафию, которую Владимир Клавдиевич просил сделать на его могиле:
«Ты мой учитель, мой учитель и друг, Ты мой храм и моя Родина — Шумящий, шелестящий тихий лес»Любой из нас трепетно относится к старым фотографиям сквозь выцветшую дымку которых на нас смотрит сама история.
В Москве, в антикварном магазине на Покровке, Евгению Петровичу показали большую групповую фотографию, подчеркнув, что она «с Дальнего Востока». Извинившись, назвали за нее довольно-таки приличную цену, обусловленную тем, что на фотографии были среди прочих, видные деятели революционного движения на Дальнем Востоке. Евгений Петрович поближе поднес фотографию к глазам и удостоверился, что на фотографии в соответствии с записью была запечатлена «Приморская делегация на 1-м ДВ краевом съезде Советов совместно с тов. Смедовичем и тов. Гамарником», с указанием места и даты: «Хабаровск, 17 марта 1926 г.».
Надписи были выполнены с грамматическими ошибками, даже в фамилиях. Но его сразу же привлекло изображение человека «в кепке», позировавшего как бы с не очень большой охотой.
Да и с какой такой охотой будет «светиться» капитан 2-го ранга Виктор Вологдин, награжденный адмиралом А. Колчаком орденом Св. Владимира с мечами и бантом и «За мужество и героизм, проявленные в боях с большевиками».
Но об этом тогда никто не знал. А на фотографии среди делегатов съезда действительно был профессор Виктор Петрович Вологдин, занимавший в то время должность ректора Государственного Дальневосточного университета.
Очень интересная и загадочная личность, ставшая легендой для выпускников Владивостокского политехнического института, который он возглавил в 1919 году. Гардемарин, изгнанный из Морского инженерного училища императора Николая I, но все-таки окончивший Санкт-Петербургский политехнический институт, один из первых сварщиков в России и первый конструктор-строитель первого в СССР цельносварного судна, построенного на Дальзаводе. Ректор политехнического института и государственного университета. Создатель первой в СССР электросварочной специальности, выучивший и воспитавший целую плеяду знаменитых сварщиков страны, эстафету которых подхватили институт электросварки Б. Патона и МВТУ им. Баумана. Виктора Петровича Вологдина не миновала лихая година Гражданской войны, однако не затянула «мясорубка» расстрельных 30-х годов. Впоследствии он долгие годы работал в скромной должности заведующего кафедрой электросварки Ленинградского кораблестроительного института. И только уже в 90-е годы его имя попало на страницы «Морского биографического словаря», хотя в энциклопедиях советского да и российского периода времени встречается фамилия «Вологдин», но под этой фамилией приводятся сведения о его братья, известных ученых[4].
Самый известный из них Валентин Петрович, профессор, член-корреспондент АН СССР, дважды лауреат государственной премии, создал мощные генераторы высокой частоты с помощью которых впервые в 1925 г. была осуществлена радиосвязь Москва – Нью-Йорк.
Сергей Петрович, металловед, за революционную деятельность в 1905 г. был арестован и выслан за границу, работал в Париже. После возвращения в Россию был профессором Донского политехнического института, написал в соавторстве первый русский учебник по металлографии. Кстати, и Виктор, и Валентин, и Сергей окончили один и тот же Петербургский политехнический институт.
Борис Петрович, юрист по образованию, несколько раз отчислялся из Петербургского университета за революционную деятельность и окончил его в 1907 г. через 9 лет после поступления. Он в совершенстве владел семью языками и стал превосходным специалистом по статистике, профессором, на его счету около 40 печатных изданий.
Единственная сестра братьев Вологдиных Надежда Петровна окончила Бестужевские курсы, всю Первую мировую войну провела в лазаретах сестрой милосердия, вышла замуж за врача Е. Сосунцова, который участвовал в походе дроздовцев, потом попал в Константинополь и ушел вместе с Деникиным в турецкий город со странным названием Галлиполи. Вместе с мужем осталась за границей и Надежда Петровна.
Один из старших братьев Виктора – Владимир Вологдин служил на Дальнем Востоке на крейсере «Россия». Ушел в отставку в звании штабс-капитана корпуса морских инженеров еще до Русско-японской войны 1904–1905 гг. и во время революции, не искушая судьбу, эмигрировал во Францию. Революция расколола семью Вологдиных, и одна половина ее связала судьбу с Парижем.
Однажды вечером Евгению Петровичу позвонил из Франции Александр Владимирович Плотто, внук и полный тезка по имени-отчеству и фамилии первого командира отряда подводных лодок, базировавшихся во Владивостоке во время Русско-японской войны 1905–1905 гг. Разговор был очень коротким, связь неожиданно прервалась, и они поочередно пытались связаться по телефону в течение нескольких дней. Наконец связь была установлена, Александр Владимирович, который недавно получил благодарственное письмо Президента России за переданные нашей стране картины и документальные материалы семейного архива, дозвонился все-таки до Владивостока, и они проговорили, наверное, более часа. Дело в том, что в свое время делегация Министерства образования, в состав которой был включен и Евгений Петрович, выезжала в Париж для обсуждения вопросов вхождения России в Болонский процесс. Там он и познакомился с Александром Плотто, русским гражданином Франции, инженером по образованию, историком Российского Военно-морского флота по призванию.
В телефонном разговоре Александр Владимирович сообщил, что недавно он прочитал его рассказ «Архивная история».
Этот рассказ и помог восполнить пробел в списке офицеров Военно-морского флота России, в котором Виктор Петрович Вологдин числился как капитан 2-го ранга, а предыдущее звание имел титулярного советника. Этот «нонсенс», как выразился Александр Владимирович, теперь нашел объяснение. Список этот, как и многие другие материалы, хранятся в Париже, в замке Винсент. Архив этот был вывезен из Севастополя в 1920 г., после ухода генерала Врангеля из Крыма. Александр Владимирович попросил переслать ему копии документов на офицеров Флота Российского братьев Вологдиных – Виктора и Владимира, что Евгений Петрович с удовольствием и сделал.
Еще одно лицо на групповой фотографии показалось знакомым Евгению Петровичу. Он долго с помощью лупы рассматривал ее, пока не вспомнил, что где-то что-то уже видел. Его внезапно озарило: эту фотографию он видел, когда Светлана знакомила его с семейным архивом.
Недалеко от Вологдина стоял Иван Федорович Потопяк… Делегаты съезда были сфотографированы на фоне памятника Ленину, где расположилось более двухсот человек.
К сожалению, как это часто бывает в многодетных семьях, фотоархив не сохранился, как и многое другое, что было спрятано в заветном сундучке Ксении Ивановны.
Приближалось 100-летие подводного флота России. После выступления Евгения Петровича в средствах массовой информации с просьбой о помощи в достройке мемориального комплекса «В память подводников всех поколений», возводимого на территории факультета военного обучения университета, последовала масса телефонных звонков, с самыми разными предложениями.
Кто предлагал лес, кто краску, кто уточнял, куда перевести или принести деньги.
Однажды, когда Евгений Петрович согласовывал со строителями какие-то технические вопросы по установке мемориала, к ним подошел бомжеватого вида мужичок и обратился к начальнику факультета, поскольку тот был в форме капитана 1-го ранга:
– Ну, где тут у вас подводная лодка строится?
– Да, вот она, – ответствовал капитан 1-го ранга.
– Я помогать пришел, лопату мне давайте, – потребовал мужичок.
– Пожалуйста, поступайте в распоряжение вон того капитана 2-го ранга, – направил его начальник факультета.
– Да, еще, – остановился добровольный помощник и спросил:
– Вам ведь и деньги нужны?
– Ну а как же, – развеселился начальник факультета и хитро подмигнул Евгению Петровичу.
Мужичок сунул руку в карман довольно-таки потрёпанной куртки, извлёк оттуда две смятых бумажки достоинством по 100 долларов каждая и молча протянул Евгению Петровичу, угадав в нем старшего. Евгений Петрович подозвал офицера, отвечавшего за сбор средств, попросил его принять взнос и спросил у добровольца:
– А как вас записать?
– Вася – подводник я, – пробурчал тот и, опираясь на лопату, поднялся на бугор ковырять мерзлую землю.
На одной из памятных досок, установленных у мемориала среди названий организаций и фамилий граждан, которые внесли средства на строительство мемориала значится теперь и надпись «Вася матрос-подводник».
Телефонный звонок Евгений Петрович получил от учительницы начальных классов из школы № 13 г. Уссурийска, в которой учился в своё время. Проживала учительница теперь во Владивостоке и попросила о встрече, чтобы рассказать о своём отце-подводнике, репрессированном в 1938 г.
Евгений Петрович послал за ней машину и через некоторое время встречал в кабинете пожилую женщину с живыми, не утратившими интереса к жизни глазами.
Идея Николаевна Романова помнила его ещё со школы, где он был, как выразилась она, «большим пионером». Из беседы, длившейся долго и собравшей в приемной много людей, стремившихся попасть на приём, Евгений Петрович узнал довольно-таки интересные случаи не только из жизни её семьи, ни и из жизни своей родной школы. Достаточно сказать, что Идею Романовну, оказавшуюся в Ташкенте, куда её загнала судьба «врага народа», пригласил в школу не кто иной, как тот самый директор школы, который вручал Евгению серебряную медаль, а также вытащил из неприятной истории с милицией.
Перескакивая с личных воспоминаний о своей семье, на рассказ об отце, потом на общих знакомых по Уссурийской школе № 13, Идея Николаевна поведала историю о трагедии бригадного комиссара Николая Михайловича Карасёва.
Она передала в дар музею бесценные материалы: подлинники и копии некоторых документов того такого далёкого и такого близкого времени.
Среди этих материалов были: копия письма, написанного 21 октября 1939 г., ученицей 3-го класса «А» 125-й школы г. Ташкента Идеей Карасёвой к «Дорогому нашему отцу Иосифу Виссарионовичу» с просьбой «помочь нам разыскать папу», вырезки из центральных газет, архивные справки, фотографии и даже чудом уцелевшая газета «Красный подводник» с грифом «Без выноса из части».
Как рассказала Идея Николаевна, всё началось с заметки в газете «Известия» за 12 сентября 1990 г. На первой странице газеты красовался первый и последний Президент СССР Михаил Горбачёв с обращением к начальствующим органам «Об укреплении законности и правопорядка». На последней опубликована небольшая заметка Ильи Окунева: «1937 год: визит дружбы, обернувшейся трагедией» о заходе американской эскадры во Владивосток и последовавших за ним репрессиях против командного состава Тихоокеанского флота.
Идея Николаевна убеждена, что на снимке, опубликованном в газете, запечатлен и её отец, хотя разглядеть детально этот газетный снимок не представляется возможным – одни смазанные лица, кроме первого плана, где запечатлен заместитель командующего флотом Г. Окунев.
Эта уверенность обоснована, наверное, обостренным чувством родственных связей, тем более, что репрессиям подверглись и Г. Окунев и Н. Карасёв. Как заметила с горькой иронией Идея Николаевна:
– Оба с рыбьей фамилией.
Идея Николаевна обращалась в многочисленные архивы с запросами о судьбе бригадного комиссара Николая Карасёва и вот что выяснилось…
Николай Михайлович Карасёв, выходец из крестьянской семьи, 1897 года рождения, хлебопашец-садовник, младший унтер-офицер, командир взвода в царской армии с 1916 г. С 1918 г. член РКП(б), образование низшее, как собственноручно записал он в учётной карточке Туркестанского фронта в 1922 г.
Уже с мая 1918 г. он в Красной армии, а с августа этого же года – на командных должностях. Участник Гражданской войны «в составе 1-й Московской дивизии». С февраля 1924 г. – военком 7-го Туркестанского полка. Награждён орденом Красного Знамени одной из среднеазиатских республик за доблесть, проявленную в борьбе с басмачеством.
Однополчане в своих воспоминаниях сравнивали его с Д. Фурмановым – легендарным комиссаром Чапаевской дивизии. Единственное его отличие – он не был писателем.
Окончив в 1931 г. Военную академию имени М. В. Фрунзе, Н. Карасёв продолжает служить в пехоте, а потом неожиданно назначается начальником политотдела бригады подводных лодок Морских сил Чёрного моря. Ничего не скажешь – крутой поворот военной судьбы! В 1934 г. Н. Карасёв переводится на Тихий океан и назначается «начальником политотдела и помощником по политической части командира бригады подводных лодок типа «М» Морских сил Дальнего Востока». В 1936 г. Карасёву Н. М. присваивается воинское звание «бригадный комиссар», что соответствует нынешнему званию «контр-адмирал». В 1937 г. бригадный комиссар Н. М. Карасёв назначается заместителем начальника Политуправления Тихоокеанского флота.
А уже в 1938 г. его расстреляют как «врага народа». Реабилитировали бригадного комиссара Николая Карасёва только в 1957 году. В семье у него было трое детей.
Идея Николаевна рассказывает, что мать от лагерей, а детей от детдома спас какой-то завхоз, приказавший освободить квартиру, которую они занимали во Владивостоке в течение 24 часов. Собирались они недолго, вещей-то почти не осталось, а книги конфисковали. А ещё матери угрожали органы НКВД за какую-то пропавшую книгу, коих набралось три полных мешка. Короче, оказалась семья в Ташкенте у родственников.
– Жили мы очень бедно, – рассказывала Идея Николаевна, – но спасибо маме, Зое Александровне, что всех нас троих детей она вывела в люди.
Старший сын Иван, был приёмным (отец усыновил его, подобрав на дорогах Гражданской войны). Он закончил политехнический институт во Владивостоке. Правда, Иван отчислялся из института, причём несколько раз, как сын «врага народа», но все-таки своего добился и стал инженером. Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт, дослужился до полковника.
Средний, Александр, умница, как его называет Идея Николаевна, окончил школу с золотой медалью, потом военное училище. Участник Великой Отечественной и тоже полковник.
Идея Николаевна стала учительницей.
– Вы знаете! – воскликнула она. – Я ведь в Ташкенте преподавала в чеченской школе…
Она немного помолчала и добавила:
– А все-таки лучшие годы у меня связаны с Уссурийском, – внимательно посмотрела она на Евгения Петровича…
Как-то вдруг оказалось, что в России быть профессором не престижно. Ну, так инженером и ученым не престижно было быть и в советское время. Мизерная зарплата, обвинение во взяточничестве, неустроенный быт – и что же остается на жизнь? Зато в верхах чуть ли не победные восклицания: мы сохранили высшую школу, наши инженеры лучшие в мире и т. д. и т. п.
Так и хочется сказать: не вы сохранили, а вот эти самые профессора и доценты, которых новая власть так не любит, напрочь забыв, кто их учил. Зато почти каждый мэр, губернатор или депутат будто по мановению волшебной палочки мгновенно становится «крупным ученым», кандидатом и доктором наук, а страна между тем катится в тартарары.
Единственно в чем можно упрекнуть профессоров, так это в том, что они сами воспитали целую плеяду тех, кто довел их, то есть профессоров, до нынешнего состояния. Жалко, что нельзя лишать дипломов о высшем образовании, а то многие из власти предержащей оказались бы без документов, в том числе и олигарх Б. Березовский, который ни мало ни много был доктором технических наук, профессором и членом-корреспондентом Российской академии наук, о чем стыдливо все умалчивают.
Ближе к середине 90-х годов, когда высшая школа достигла наибольшего упадка, Евгению Петровичу пришла в голову мысль: а почему бы профессорам не объединиться?
Задумано – сделано. На первое организационное собрание профессорского клуба в Молодежном центре университета собралось со всего Владивостока более ста пятидесяти профессоров: от медицины и техники, от искусства и педагогики, от философии и физики… Оказалось, что многие и знакомы-то друг с другом не были.
Среди собравшихся профессоров был академик Виктор Ильичев. Он недавно ушел с поста председателя Дальневосточного отделения Академии наук и остался руководить Институтом океанологии.
В конце восьмидесятых Евгений Петрович встретился с ним в Ленинграде, в Военно-морском училище им. Дзержинского, расположенном в легендарном Адмиралтействе, где Евгений Петрович должен был защищать докторскую диссертацию. Тогда он еще удивился: что делает гражданский человек в военно-морском училище? Виктор Иванович был научным руководителем офицера из Главного штаба, который защищался Евгением Петровичем в один и тот же день. С тех пор они нередко встречались с ним на конференциях, а впоследствии и в профессорском клубе.
Докторскую диссертацию Евгений Петрович защищал в звании капитана 2-го ранга и в должности заместителя начальника училища по научной и учебной работе.
По неписаным правилам ему необходимо было перед защитой встретиться с каждым членом совета, которые должны познакомиться с соискателем, диссертацией, определиться со своим мнением. Несколько дней общения с профессорами дали ему больше, чем несколько лет учебы. Многие из членов совета были уже в отставке, но ходили в форме капитанов 1-го ранга. Это были корифеи военно-морской науки, легенды для многих поколений курсантов. Некоторых из них он знал только по фамилиям, как авторов учебников и монографий. Профессор Муру с окладистой и раздвоенной, как у адмирала Макарова, бородой, человек, знавший тайну гибели линкора «Новороссийск», профессор Патрашев, гениальный механик, беседа с которым длилась более трех часов, гражданский профессор-химик, который зацепил по коррозии и гонял, как курсанта 1-го курса. Кстати, одним из оппонентов по диссертации был профессор Титаев, бывший тогда ректором политехнического института во Владивостоке. Когда Евгений был студентом, он читал конструкцию подводных лодок.
Кто бы мог подумать, что жизнь так богата на закономерные случайности…
Шло время, содружество профессоров крепло, начали выпускать журнал «Труды Профессорского клуба», который стал известен не только в нашей стране, но и за рубежом.
К клубу потянулись профессора из разных городов России, из-за рубежа. Профессорский клуб получил статус клуба ЮНЕСКО. А изюминкой клуба стали профессорские балы. Проводить их начали в ночь на старый Новый год 13 января в отреставрированном Пушкинском театре. Месяца за два до первого профессорского бала Евгений Петрович, как обычно, делал утреннюю прогулку-пробежку и вдруг поймал себя на том, что в голове вертится какая-то незнакомая мелодия. Так продолжалось несколько дней, а потом мелодия стала какой-то законченной. Он стал вспоминать всех профессоров, появились вполне осязаемые образы, и на музыку сами собой легли слова:
Встретит профессор любые реформы, Только внимательно смотрит в глаза. И оживают символы формул, И замирает студенческий зал.Потом Евгений Петрович напел мелодию концертмейстеру Наталье Матвеевой.
Профессорский вальс родился!
Теперь он исполняется танцевальным коллективом (в Пушкинском театре красивые танцевальные пары!) при открытии очередного профессорского бала.
Однажды Евгения Петровича уговорили отправить исполнителей профессорского вальса на фестиваль в Москву, который ежедневно проводился в Университете нефти и газа. Пришлось привлечь спонсоров, поклянчить в авиакомпании – и вот конкурсанты в Москве. Евгений Петрович тоже оказался в это время в Министерстве образования по делам вуза и, естественно, не мог пропустить выступления своих ребят. Когда он подошел к университету (от гостиницы, где проживал, до главного здания этого вуза было всего несколько остановок на троллейбусе), оказалось, что в очередной раз кто-то позвонил в университет и сообщил о заложенной в здании бомбе. На улице было столпотворение, всех эвакуировали, здание было оцеплено милицией.
Евгений Петрович разыскал своих, они потоптались некоторое время около ограды. Бомбу, конечно, не нашли, с большим опозданием начался заключительный концерт, а студенты еще взяли и устроили сюрприз. По ходу исполнения вальса одна из исполнительниц сбежала в зал и пригласила его на сцену. Пришлось тряхнуть стариной. К нему сразу же прилепилась кличка «танцующий ректор», которая перекочевала в диплом, который присудило строгое жюри. А так как в конкурсе участвовали другие вузы, то посыпались запросы на слова и музыку. Сейчас профессорский вальс исполняется во многих городах России. А вернувшаяся из Китая преподаватель Ольга Назаренко привезла перевод профессорского вальса на китайский язык. Она рассказывала, что китайцам вальс понравился, но они так и не поняли: почему профессор «внимательно смотрит в глаза?»
Евгений Петрович ответил:
– Для этого надо жить в России.
«Ни одно время, если пристально вглядеться, не счастливей нашего, – утверждает писатель Владимир Тендряков. – Я так и не отыскал в истории мгновения, про которое можно бы сказать: остановись, ты прекрасно!».
Намеренно ли, нет ли, но известный советский писатель откровенно лукавит, сопоставляя – по человеческим меркам – несопоставимое. Для истории, в отвалах которой он копался, мгновением может оказаться «булыжник» времени объемом в тысячу лет и скала вечности размером в миллионолетие. Для человека же мгновение – взмах ресниц любимых глаз, осторожная улыбка подвенечной невесты, укол недружелюбного взгляда… Да мало ли в жизни действий, одно из которых и заставило классика воскликнуть:
– Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Евгений Петрович был уверен, что в безмерных пластах Истории – и по меркам Истории, наверное, не найдется мгновения, которое захотелось бы остановить. Но жизнь человеческая коротка и при этом так насыщена событиями, что не отыскать в ней прекрасных мгновений – невозможно.
Мгновение прекрасно не только для настроя души, но и для творчества, особенно инженерного. Что значит для инженера мгновение, которое останавливается не только в тот момент, когда (так принято в последнее время) разрезается ленточка при открытии построенного сооружения? И не в тот момент, когда разбивается о форштевень корабля бутылка шампанского (так принято уже сотни лет тому назад)?
Вообще спуск корабля всегда захватывающее и эффектное зрелище. Этот праздник кораблестроителей отмечается в приподнятой, торжественной обстановке. Он считается одним из дней рождения корабля. Когда приводят сведения о каком-нибудь корабле, обязательно перечисляются даты: «заложен на стапеле…» «спущен на воду…» и «вступил в строй…» Тот, кто хоть однажды присутствовал при спуске на воду крупного судна, на всю жизнь запомнит и праздничные улыбки, и традиционные брызги шампанского. И миг, когда по сигналу командующего к спуску многотонная громадина со всевозрастающей скоростью устремляется к воде. Однако этому празднику предшествует будничная, кропотливая работа. Работа, требующая специальных знаний, особой технологии и особой организации.
Свою вводную лекцию для курсантов Евгений Петрович обычно начинал словами о том, что героическая эпопея покорения человеком водной стихии началась более девяноста столетий тому назад.
И приводил слова древнеримского поэта Горация, который так прославил отвагу первых мореплавателей:
Силу дуба, тройную медь Тот у сердца имел, Первым кто выпустил В море грозное утлый челн.И не стеснялся использовать стихи в лекциях на самые «технарские» темы. И курсанты, и студенты значительно легче и надолго усваивали иногда довольно сложный материал лекций. Евгений Петрович шел по пути своих учителей. Преподаватель высшей математики Валерия Троценко на своих лекциях читала стихи по математике (по математике!), а легендарные доценты Иванова и Кладницкий показывали на занятиях по сопромату фокусы! Все, кто учился у них, знали эти предметы досконально. Евгению Петровичу вспомнилось, как один из адмиралов заявил:
– Да я за всю свою службу на флоте ни одного интеграла не разогнул!
Зато в ненормативной лексике он «загибал» еще как. Но, как говорится, кому что дано…
Любой талант – от мастерства скромного умельца Левши до создателя точнейших технических систем и сооружений – на девять десятых обязан трудолюбию. Чтобы стать по-настоящему образованным, способным думать и принимать верные решения, необходимы годы. Именно инженерная мысль помогает изобретать, улучшать, модернизировать все, от великого до малого, в нашем мире. Профессия эта всегда была уважаемой. И что в масштабах истории какой-то десяток лет перестройки и последовавших за ней изменений в системе ценностей, когда сиюминутное вдруг стало дороже вечного, а сорванное при помощи обмана – престижнее честно заработанного. Теперь, когда требуется подвести фундамент под нашу перевернутую с ног на голову экономику, реанимировать производство и обрести, наконец, былое достоинство, вновь оказались востребованы инженеры – специалисты в основе основ.
А ведь в начале 90-х годов и позднее, целый хор реформаторов надрывался, доказывал термин «перепроизводства инженеров», славя уходящую эпоху технократизма и наступления эры экономистов и юристов. Жизнь показала их неправоту, и страна сейчас имеет то, что имеет.
Наверное, чтобы понять инженера и его деятельность глубже, нужно прочувствовать многоплановость, тонкость и глубину его натуры. В нем уживаются и физик, и лирик, и ученый – истинный русский интеллигент, и работяга-практик, и современный деловой руководитель. Однажды у Евгения Петровича вырвалась фраза, которая отражает лично его понимание профессии инженера и задач настоящего технического образования:
– Каждый инженер должен мыслить симфонически.
Действительно, еще в начале XX века инженер владел многими науками, искусствами, языками, немногие знают о том, что Н. А. Римский-Корсаков, прежде чем стать великим композитором, получил инженерное образование, был военным офицером. Инженером был и известный художник-баталист В. В. Верещагин, а основоположник российской сварочной школы профессор В. П. Вологдин прекрасно играл на скрипке.
И когда досужие журналисты и даже коллеги спрашивали у Евгения Петровича:
– Скажите, положа руку на сердце, зачем вам это нужно – Профессорский клуб, Пушкинский театр, храм Святой Татьяны, музейный комплекс, стадион и многое другое, что в университете создается и строится? Так ведь и надорваться можно, не сдюжить?
Евгений Петрович честно отвечал:
– Я уже, можно сказать, надорвался. Но ничего изменить не могу. Это мой жизненный принцип: если не я, то кто же? И признаюсь, очень хотелось бы, чтобы как можно больше студентов придерживались таких же взглядов.
Молодежь приходит в вуз в том «гуттаперчевом» возрасте, когда ее еще можно многому научить. Время сейчас «мутное», молодому человеку бывает порой довольно сложно отличить мнимые ценности от истинных. И задача профессоров – не только дать им образование, но и выстроить основные нравственные ориентиры, которыми и служат и Профессорский клуб, и Пушкинский театр, и все остальное. А пока…
Я стою на ступеньках у входа, Пробегают студенты: «Здрасте. Здрасте!» Львы, исхлестанные непогодой, Недовольно разинули пасти, А ступеньки бегут. С этажа на этаж — Все выше и выше…Евгений Петрович понял это, когда возглавил работы по реконструкции Пушкинского театра. К тому времени его избрали ректором политехнического института, ставшего буквально через год благодаря его стараниям техническим университетом.
Это было время начала реформ высшего образования, растянувшееся на многие годы.
В этот период он ознакомился со множеством людей (и своих современников, и ушедших из жизни задолго до его рождения), которые через историю Пушкинского театра прошли по свой «дуге большого круга», оставив след, для многих потомков оказавшийся полузабытым или полностью забытым, потому что жили они в жестокое время революций, войн и условного перемирия.
…Ведущий объявил номер, и Евгений, путаясь в складках тяжелого темно-синего бархатного занавеса, вышел на авансцену Дома культуры моряков. Предстояло читать отрывки из собственной поэмы «Откровение» перед студентами и преподавателями политехнического института. Евгений заканчивал пятый курс кораблестроительного факультета, впереди ждала финишная прямая – преддипломная, конструкторская и плавательная практики, защита диплома…
А пока, стараясь не смотреть в затемненный зал и пытаясь не встретиться взглядом со знакомыми глазами, Евгений, как ему казалось, неплохо, с выражением дочитал поэтические строки и под аплодисменты юркнул за кулисы.
Как всегда, весной в Доме культуры моряков проходил смотр художественной самодеятельности института.
В этом году «блеснул» кораблестроительный факультет. Год был юбилейным – 20-летие Победы, и студенты придумали номер, который заключался в том, что на крутящейся круглой тумбе попеременно возникали известные скульптурные композиции: И. Шадра «Булыжник – оружие пролетариата», В. Мухиной «Рабочий и колхозница», «Перед расстрелом» и другие. В качестве скульптур выступали сокурсники в соответствующем антураже. На время смены «скульптурных» групп в зале становилось темно, затем вспыхнувшие софиты освещали загримированные под бронзу фигуры. Тумба медленно вращалась, а в это время звучали стихи Евгения:
Черный зрачок автомата Впился в раскрытую грудь. Хочется крикнуть: «Не надо!», Хочется глубже вздохнуть…«Негром» внутри тумбы был Витя Волков, которому на репетициях доставалось больше всех, так как от него зависела синхронность поворота тумбы со стихотворным сопровождением.
Успех этого номера был потрясающим. Вообще Дом культуры моряков стал для политехнического института даже больше чем родным, ведь располагался он прямо через дорогу от главного корпуса – здания бывшего Восточного института. Здесь проводились комсомольские и партийные конференции, смотры художественной самодеятельности, творческие вечера, да в конце концов и просто танцы. Одно время в нем работал народный театр оперетты…
В коллекции почтовых открыток Евгения есть одна, на которой изображены старое деревянное здание Собрания владивостокских приказчиков и новое каменное, пристроенное к нему в 1908 г. и сразу же получившее название «Пушкинский театр».
Из комментария архитектора профессора Юрия Лиханского к вышедшему в 2005 г. из печати под авторством Евгения Петровича историко-библиографическому альбому «Владивосток на почтовых открытках. Старый город» следует, что «… Собрание (читай объединение, общество) владивостокских приказчиков начало свою историю в 1889 г. с утверждения принятого Устава, а 27 декабря 1889 г., после того как было улажено Приамурским генерал-губернатором ходатайство владивостокских приказчиков, состоялось открытие собственного здания приказчичьего собрания. Уставом Собрания предусматривалось: “устраивать для своих членов и их гостей литературные, семейные, драматические и музыкальные вечера, балы, маскарады, детские елки, выписывать книги, газеты и другие периодические издания, а также приглашать известных лиц для чтения лекций, которые служили бы к распространению полезных сведений”. К 1907 г. в старом здании (по ул. Пушкинской) стало тесно, и в мае того же года был готов проект нового здания Собрания приказчиков. Газета того времени писала: “Строящееся здание составляет половину проектированной постройки и вмещает в нижнем этаже четыре обширных магазина, склады, котельное и машинное помещения. Во втором и третьем этажах размещены: большой двухсветный зрительный зал со сценой в три этажа, фойе, гостиная, кабинеты, большая бильярдная и обширное мансардное помещение с мастерской для писания декораций”». Здание строилось по проекту и при авторском надзоре арх. Ю. Л. Вагнера. Вторая часть нового здания должна была быть построена после разборки старого на его месте». Вот что писала газета «Приморский листок» 2 декабря 1908 г. о второй очереди нового здания: «Говоря о предстоящей работе, прежде всего надо указать на то обстоятельство, что только что освященное здание составляет только половину планированного к постройке помещения. Пользуясь отстроенной половиной, следует приложить все усилия к возможно скорейшей постройке второй половины, тем более что вторая половина здания должна совмещать обширные помещения, специально предназначенные для обслуживания культурных нужд Собрания. Во второй половине отводится по плану доминирующее место громадному и благоустроенному книгохранилищу, обширному читальному залу и удобным аудиториям для курсов по разным полезным знаниям. Поэтому и ввиду того обстоятельства, что закон разрешает лишь временно пользоваться старым деревянным домом совместно с новым каменным зданием, собрание должно считаться с необходимостью собирать силы для окончания целости проектируемой постройки, причем старый дом, перенесенный на приобретенный для этой цели участок при станции “Океанская”, получит помещение для летнего клуба и даст основания намеченным благим начинаниям, а именно организации удобного приюта для престарелых, больных и временно безработных членов, воспитательного заведения больницы и т. п.».
Однако вторая очередь так и не была построена. Старое деревянное здание разобрали аж через пятьдесят лет, в 1959 г., при строительстве фуникулера.
Здания Собрания – старое и новое – под названием «Пушкинский театр» активно функционировали все это время, за исключением того периода (1918–1919 гг.), когда канадские и французские оккупационные войска устроили в нем свои штабы.
В Пушкинском театре до революции, да и во время ее, побывали многие известные и не только в России люди. Причем всех побывавших в Пушкинском театре, начиная со дня его открытия в 1908 г., можно разделить не только на артистов и зрителей, но и на выступающих (поэтов, писателей, путешественников, государственных деятелей) и просто посетителей.
За свою почти столетнюю историю Пушкинский театр сменил нескольких хозяев и названий, и только в 1999 г. он опять вернул себе исторический статус.
Случилось это как-то и просто и в то же время сложно. Однажды на юбилей Евгения Петровича заглянул в технический университет с поздравлениями тогдашний губернатор Приморского края Евгений Наздратенко. Его помощники занесли в кабинет в качестве подарка тщательно упакованные в яркую цветную бумагу настенные китайские часы. Губернатор вручил Почетную грамоту, пожелал всего, что водится в таких случаях, а при выходе, будучи в отличном расположении духа, спросил шутливо:
– Ну что тебе еще подарить?
Дело было в конце августа. В Приморье, как всегда в это время года, стояла чудная погода. Солнце находилось в зените, но в тени здания со стороны Пушкинской улицы было прохладно и дышалось легко, несмотря на тридцатиградусную жару. А напротив главного входа провалами окон со стен с огромными сквозными трещинами, из которых, казалось, вот-вот выпадут кирпичи, печально смотрел Пушкинский театр. И лишь деревья, выросшие на единственном балконе и крыше этого здания, весело шелестели листвой.
Евгений Петрович посмотрел на губернатора и ответил, что не надо никакого подарка, а вот если это здание передадут вузу, то мы будем благодарны.
– Да забирайте эту развалюху и мучайтесь с ней, – расщедрился губернатор.
Позднее оформили документы, хотя это потребовало определенных хлопот, неудобств и неувязок. Губернатор подписал распоряжение о передаче здания по улице Пушкинская, 27 в оперативное управление технического университета. Однако начальник краевого управления культуры, подчиненный губернатору, подал иск в арбитражный суд, оспаривая это распоряжение. Суд иск удовлетворил, вуз остался ни с чем, а Евгений Петрович понял, что вся эта возня чем-то напоминает игру в кошки-мышки, а неоднократные походы «во власть» не принесли никакого результата.
Года через два, воспользовавшись опять-таки благодушным настроением губернатора, Евгений Петрович снова поднял этот наболевший вопрос, который, к его огромному удивлению, на сей раз решился легко и просто.
В конце 1998 г. приступили к реконструкции здания, а в октябре следующего года Пушкинский театр принял первых зрителей.
Коллеги не очень-то поддерживали Евгения Петровича в самом начале работ по реконструкции. Реакция в основном колебалась в одном диапазоне: от недоумения до неприятия и недоверия. А ему помогла закалка, полученная в доках Дальзавода и на судостроительной верфи на Волге, да и на службе в Военно-морском флоте.
Вот так, принимая нестандартные решения и опираясь на единомышленников, которых становилось все больше и больше, в течение полутора лет восстановили здание. Пушкинский театр возродился словно птица Феникс из пепла.
Когда уже начались работы по восстановлению и реконструкции, Евгений Петрович не ожидал, что студенты, сотрудники и педагоги станут принимать в них участие с таким интересом.
Для спасения здания пришлось выполнить огромный объем первоочередных работ и пройти неимоверно кропотливый и трудный путь: от простых обмеров помещений до сложных инженерных и архитектурных решений. Трещины в стенах, просадка фундамента, отсутствие дренажа и крыши, систем вентиляции, водоснабжения и канализации, захламленные помещения без полов, дверей, окон, грибковые поражения стен, обвалившаяся штукатурка… Все это надо было видеть.
Почти год ушел на спасение здания. Когда остановили процесс разрушения и появились первые настоящие очертания будущего Пушкинского театра, люди, поверив в задуманное, потянулись, чтобы предложить свою помощь, которая была в то время так необходима и так много значила.
Интересно, что когда дошло дело до «одежды» театра, то есть занавеса, штор, «белой» и «черной» сцены, оказалось, что их приобретение должно было вылиться в кругленькую сумму, так как заказывать всё это надо было только в Москве.
Понятно, Евгению Петровичу, как ректору, нужно было не только руководить реконструкцией Пушкинского театра, но и заниматься другими вопросами деятельности большого вуза: учебой, наукой, повседневной «текучкой» и международными отношениями в том числе.
В это время предстояла командировка на пару дней в г. Цзиси (Китай), в котором тогда размещался Хэйлуцзянский научно-технический университет (позже он переедет в Харбин, где за два года будет построен огромный вузовский кампус).
А тогда, проходя по улицам г. Цзиси, Евгений Петрович заметил небольшую швейную мастерскую, в окнах которой были выставлены различные ткани. Зашел. В тесной комнатушке узнал, сколько, хотя бы приблизительно, будет стоить пошив «одежды» для театра из материала мастерской. У него с собой были чертежи и эскизы, он рискнул сделать заказ, передав в качестве предоплаты все бывшие при нем наличные деньги. Через неделю заказ был готов, и шестеро наших сотрудников, превратившись на время в «челноков», перевезли через знаменитый г. Суйфэньхэ (в простонародии «Сунька») все необходимое для сцены, окон и дверей. Обошлось это в несколько десятков раз дешевле, чем если бы сделали заказ в России.
А в газете «Дальний Восток» за 9 июля 1908 г. Евгений Петрович прочитал: «Командированный фирмой “Чурин и К°” в Европейскую Россию и заграницу для приобретения внутренней обстановки для достраивающегося здания Собрания приказчиков старшина того же собрания Л. В. Мочинский вернулся на днях во Владивосток, исполнив поручение. А приобрел он два бильярдных стола, материал для занавеса и оконных штор и стулья для зрительного зала».
Поневоле задумаешься: связь времен – категория историческая. Главное – это действо, а в Китае или в Европе приобретать «внутреннюю обстановку» – это уже с учетом обстоятельств.
У Пушкинского театра сложилась трудная судьба. Великолепному памятнику архитектуры пришлось пережить войны, пожары, разруху и людскую черствость, он умирал и возрождался вновь…
Особенно тяжело ему было в смутное время Гражданской войны. В ноябре 1918 г. в нем разместились на постой канадцы, в декабре 1919 г. – французы. 11 апреля 1923 г. в помещении Пушкинского театра губполитпросветом открыт первый в Приморье опорный показательный пункт ликвидации безграмотности (ликбез). Здесь проходили подготовку руководители таких пунктов всей губернии.
Эти строки вспомнились в связи с тем, что уже в наши дни в одной из библиотек города открылись курсы по обучению пользователей компьютерной техники для людей пожилого возраста.
Выступая с приветствием, как депутат думы Владивостока, Евгений Петрович сравнил это мероприятие с ликбезом 1923 г., но расшифровал это слово как «ликвидация компьютерной безграмотности».
С октября 1923 г. в помещении бывшего Пушкинского театра открылся клуб совработников им. Воровского.
С середины 1932 г. и до конца 1933 г. в здании находился Дом Красной армии и флота. А уже с января 1934 г. здание было передано клубу водников, позже преобразованному в Дом культуры моряков, еще позже была предпринята неудачная попытка сделать из него международный музыкальный центр, а с 1988 г. наступил период забвения. Театр забыли. Надолго. Разваливающиеся стены и… пустота…
А ведь всего 80 лет назад газета «Дальний Восток» писала: «Совет старейшин Собрания приказчиков извещает действительных членов и постоянных гостей, что в субботу 29 ноября по случаю открытия нового здания назначается грандиозный бал по следующей программе:
1) торжество открытия сцены Пушкинского театра;
2) дивертисмент…
Плата за вход: мужчины – 3 руб., дамы – 2 руб., действительные члены, постоянные гости – их семьи и учащиеся – 1 руб…»
Пушкинский театр зажил полнокровной жизнью. На его сцене выступала блистательная В. Комиссаржевская, танцевали прекрасные «босоножки», в том числе Айседора Дункан, приемная ее дочь – Ирма. Играли и пели известные артисты столичных Мариинского и Александрийского театров и императорской оперы. В его стенах звучали голоса великих русских бардов А. Вертинского и В. Высоцкого, играл джаз Л. Утесова.
Здесь выступал известный полярный исследователь Руаль Амундсен, поэты и писатели Д. Бурлюк, С. Скиталец, Н. Асеев, А. Фадеев, А. Гайдар и многие другие.
Как-то на одной из книжных ярмарок приморский писатель Владимир Щербак подарил Евгению Петровичу свою книгу «Знаменитые гости Владивостока» и поблагодарил за то, что к изданию этой книги, как сообщил с улыбкой, приложил руку и он. Для своих литературных зарисовок В. Щербак выбрал 60 человек; хотя, как сам он пишет, «героями этой книги могли стать и 100 человек, и 150, и больше: много интересных и известных людей в разные годы посетили наш город». Здесь были и коронованные особы, и лица приблизительно с таким же статусом. Побывали во Владивостоке генсеки ЦК КПСС и президенты СССР, России и США, высокопоставленные деятели КПСС и коммунистических партий других стран, военачальники, участники революции и Гражданской войны как с «красной» так и с «белой» сторон, герои Великой Отечественной войны, путешественники и ученые, писатели и поэты.
Легенды подтверждают, что среди зрителей Пушкинского театра были и «верховный» правитель России адмирал АВ. Колчак, и знаменитый русский летчик П. Н. Нестеров, и безнадежно влюбленный в жену коменданта Владивостока капельмейстер-композитор Кюсс, написавший вальс «Амурские волны», и многие, многие другие, знаменитые и не очень, гости Владивостока.
* * *
Немало интересных фактов о жизни Пушкинского театра можно узнать из прессы того времени, из рассказов очевидцев, передаваемых в семьях владивостокцев из поколения в поколение.
Вот, например, объявление, опубликованное в газете «Приморский листок» за 11 декабря 1908 г.: «Экстренно продается биллиард с шарами слоновой кости. Справиться: Собрание приказчиков на ул. Пушкинской. В Собрании приказчиков сдаются в аренду биллиарды. Справиться в Собрании». А через несколько дней в газете «Дальний Восток» за 30 декабря 1908 г. публикуется небольшая заметка: «Из бильярдной приказчичьего собрания пропали биллиардные шары на сумму до 400 руб. Теперь, как говорят, предлагают за 150 руб. вернуть эти шары, если делу не будет дано хода. Не правда ли оригинальное предложение?»
Рассказывают, что один из бильярдных столов Пушкинского театра установлен ныне в Доме офицеров флота, как видно, перекочевал он туда еще в 1933 г.
Пушкинский театр в начале XX века был активным участником нескольких юбилейных торжеств, первым из которых стало празднование полувекового юбилея г. Владивостока. Этот день отмечали 2 ноября 1910 г. Именно 2 ноября, а не 2 июля, как отмечают годовщину города в наше время. Тогда считали, что первое полустолетие г. Владивостока ведется со дня подписания договора 1860 г., в честь чего и собралось в Пушкинском театре «особое заседание городской думы с присутствием представителей окраинной жизни».
Вот что писала об этом газета «Дальний Восток» в 1910 г.
«2 ноября г. Владивосток… праздновал свой полувековой юбилей. Учебные заведения, канцелярии, магазины, мастерские и т. п. были закрыты.
К 2 часам дня зал Пушкинского театра наполнился приглашенными официальными лицами и публикой. Портрет Государя Императора и зал были декорированы подобающим образом. Господа гласные (депутаты по-нашему) поместились за длинным столом вдоль северной стороны театра; напротив – в первом ряду кресел – высшие начальствующие лица: архиепископ Евсевий, епископ Сергий, коменданты крепости, вице-губернатор, адмиралы, генералитет, представители иностранных держав и другие. На сцене разместились хор и оркестр.
В 2 ч. 20 мин. председательствующий М. Н. Красовский объявил торжественное заседание открытым… и предложил по русскому обычаю приветствовать криком “ура” нашего обожаемого монарха. Могучее и дружное “ура” покрыло его слова. Музыкальное общество исполнило гимн, после чего его подхватил военный оркестр и архиерейский хор. Гимн повторен несколько раз.
Затем председатель собрания предложил приветствовать тем же русским “ура” доблестную армию и флот, и их вождей; архиепископа Евсевия, епископа Сергия и духовенство (архиерейский хор исполнил многолетие), подрастающее поколение, молодежь нашу – надежду их матерей, новую нарождающуюся силу России – молодцов потешных, стариков города и все его население. Каждая здравица покрыта дружными “ура”.
Затем был зачитан текст телеграммы на имя Его Императорского Величества.
“Ура” присутствующих и пение гимна покрыли последние слова текста телеграммы.
После этого были речь представителя города, приветствия и адреса, поздравительные телеграммы».
Газета «Дальний Восток» писала 15 февраля 1913 г., что «к 300-летию дома Романовых в Пушкинском театре состоялся парадный спектакль, присутствовали все начальствующие лица… форма одежды – парадная, дамы – в белых закрытых платьях».
К своему 25-летию Собрание приказчиков получило телеграмму от Его Императорского Величества: «Очень тронут. Сердечно благодарю Собрание приказчиков г. Владивостока и Совет старшин за поздравление, молитвы и выражение чувств! Сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. Николай». Об этом писала местная пресса 27 декабря 1914 г. В Пушкинском театре на празднование юбилея собралось много публики. Был отслужен молебен и состоялось торжественное собрание под председательством почетного члена общества В. Жарикова.
Много еще можно рассказывать о том, что происходило в Пушкинском театре в те годы: какие ставились спектакли, концерты; как отмечались годовщины великих поэтов и писателей: Пушкина, Толстого, Чехова, Шевченко…
Огромное количество спектаклей и концертов в Пушкинском театре имели статус благотворительных. Именно там собиралось общество эсперантистов «Эсперо», ставили концерты гимназисты и студенты Восточного Института, действовала Пушкинская библиотека, число читателей которой достигало 1700 человек с книговыдачей до 200 в день.
А вот как встречали в Пушкинском театре Новый 1914 год, накануне Первой мировой войны.
Из газеты «Далекая окраина» от 29 декабря 1913 г.
«Собрание приказчиков во Владивостоке
Пушкинский театр
Программа встречи Нового 1914 г. (31 декабря)
а) Официальная встреча Нового года.
1. Вступительная речь “новорожденного” на языке, понятном всем взрослым и детям от семидесятилетнего возраста, составленная экспромтом по особому заказу старика 1913 г. О моменте появления “новорожденного” публика будет извещена “иерихонской трубой” работы Коломенского чугунно-литейного завода, весом в 400 пудов.
Примечание: звуки трубы покорнейше просят не смешивать с плачем младенца.
2. Небывалый танец “Тар – Тар” исполнит прима-балерина Тина-Ар.
3. “Лапотники”. Эта капелла нигде не пела: пришла с Камчатки во все лопатки.
4. Выход знаменитой французской певицы Дизель из Киева.
Пела везде кроме Парижа и других провинциальных городов. М-ль Мари Аниген.
5. Выход знаменитого комика, мимиста и куплетиста синьора Альмазини.
6. Выход восточно-известного молодого, прелестного певца – баритона хорошего тона брата Батистини Гри-Григ Данюшина.
7. Чудо XX века – первый раз во Владивостоке человек, который все видит, все слышит и все знает.
8. Итальянский дуэт на русском языке исполнят знаменитые артисты Н.Д., просят не смешивать с К.Д.
В залах собрания будут устроены киоски. б) Кабаре – табарен.
1. Лабиринт в 1200 комнат с двумя дверями, вход бесплатный, выход – 10 коп. с персоны. Нервных и полнокровных просят лабиринт не посещать.
2. Кухня ведьмы с Лысой горы.
Случайно пойманная ведьма будет предсказывать будущее всем дамам и кавалерам по билетикам и без билетиков. Плата по желанию.
3. Музей редкостей, собранных всемирно известным археологом и коллекционером Глебом Ростовым. Руками просят ничего не трогать. Каталог продается на входе. Вещи не продаются.
4. Русский трактир из г. Москвы, специально открытый для этого торжественного дня фирмой “Акакий Выпивохин и К°” с подачей шампанского и др. напитков.
Прислуживают Мария Савишна (не вчерашняя, давешняя), Ванька Кудряш ни ваш, ни наш. На чай не берут, но сами пьют.
Хозяин кабаре Глеб Ростов
Помощник Николай Пальмин
Аккомпанирует В. Грен
В антрактах – танцы, в фойе под управлением и дирижерством Э. Г. Цорн. Совет старшин».
В 1916 г. на сцену Пушкинского театра впервые была выведена живая лошадь. Это случилось, когда ставилась пьеса «Цирк» артиста-драматурга Григория Григорьевича Ге. Газеты того времени писали, что «сборы – битковые, даже проходы и провал для оркестра (по-нашему оркестровая яма) закончились приставными стульями».
А вот какая интересная история со стульями произошла уже в наше время.
Вместе с восстановлением Пушкинского театра, вместе с новой жизнью в театр стала возвращаться его прежняя мебель.
И первые экспонаты начали раскрывать свои тайны и легенды.
При поиске мебели, оставшейся от Пушкинского театра, сотрудникам удалось обнаружить резной стул из того самого гарнитура, который, по свидетельству некоторых специалистов, использовался во время визита во Владивосток тогда еще цесаревича Николая в 1891 г. И не исключено, что «их высочество» восседал именно на этом стуле. Сейчас легендарный стул занимает достойное место в Доме музеев университета рядом со столом и письменным прибором первого ректора Восточного института, подаренными ему уже царствующим Николаем II. Стул очень хорошо сохранился, и даже сегодня его можно использовать по прямому назначению. За время своего существования он конечно же неоднократно подкрашивался, подлакировывался, на нем сменили гобелен и сиденье. Сейчас он позолоченный, хотя, по словам специалистов, оригинальный его цвет – темно-вишневый. Стул сделан из дерева и украшен резьбой, которая, скорее всего, выполнена кустарно, но тем не менее очень качественно. Специалисты склоняются к мнению, что он мог быть сделан в Китае, но с претензией на европейский стиль.
Этот стул нашли случайно. В конце 80-х во время переезда Дома культуры моряков в новое здание, известное ныне под названием «FESCO HOLL», этот стул оказался посередине фойе нового зала «бесхозным» на несколько минут. Проходящая мимо уборщица прихватила его в свою «подсобку», где он и простоял больше десяти лет.
Во время ремонта перекрытий мансарды Пушкинского театра строители никак не могли понять, почему крайняя железная балка изогнута таким непонятным образом?
Но вскоре Евгений Петрович наткнулся на заметку из газеты «Дальневосточное обозрение» за 1919 г., в которой отмечалось, что «14 декабря в 6 часов вечера в Пушкинском театре, занятом французским командованием, по неизвестной причине вспыхнул пожар. Он был потушен пожарной командой. Убытки выясняются». Стал понятным дефект перекрытия. А на следующий год после открытия Пушкинского театра в гости во Владивосток пожаловал посол Франции в России. Как обычно, в гостинице «Версаль» был устроен прием по этому случаю. Во время беседы, а посол прекрасно говорил по-русски, Евгений Петрович рассказал ему о пожаре, устроенном французам. Посол внимательно посмотрел на меня и шутливо спросил:
– И что, вы хотите, чтобы мы возместили ущерб?
– А почему бы и нет? – вырвалось у него. Ошарашенный посол промолчал, а потом, вежливо извинившись, стал беседовать с другим участником приема.
* * *
А. С. Пушкин исторически не мог быть во Владивостоке, ведь при его жизни Дальнего Востока как части Российской территории не существовало вообще. И все-таки его имя незримо присутствовало, когда зарождалась жизнь на новых русских землях, в новых городах и селах на Тихоокеанском побережье.
В музее редкой книги университета выставлены издания А. С. Пушкина, принадлежащие когда-то русским морским офицерам и исследователям, владеющим грамотой переселенцам и купцам, которые брали их с собой, отправляясь в трудные и опасные походы.
Евгению Петровичу посчастливилось очень близко познакомиться с людьми, принадлежащими к Пушкинскому роду.
Он учился на одном из старших курсов кораблестроительного факультета, когда однокурсники изумились, узнав, что наш кумир – профессор Николай Васильевич Барабанов женился на молоденькой преподавательнице из Ленинграда. Это было удивительно вдвойне, потому что с ними, но на курс ниже, училась его дочь Ольга, активная участница художественной самодеятельности.
Они живо обсуждали это нерядовое явление, ведь многие сами обзавелись семьями.
Прошло время. Евгений Петрович служил на флоте, дослужился до старшего лейтенанта и готовился защищать кандидатскую диссертацию. Оппонентом по работе был назначен доктор наук из Ленинградского кораблестроительного института Локшин, хороший знакомый Н. В. Барабанова.
Он встретил Локшина в аэропорту и привез в гостиницу «Золотой Рог» в заранее заказанный убогий номер без ванной. Локшин вошел в него, осмотрелся, покрутил головой и попросил номер телефона ректора. А через час Евгений Петрович помогал ему перевозить вещи в другую, престижную, гостиницу.
Перед самой защитой его пригласили в гостиницу, где Барабанов и Локшин «погоняли» по работе, наметили план действий. Вместе с Н. В. Барабановым был чистенький, воспитанный и интеллигентный мальчик лет двенадцати, которого он представил как своего сына Колю. Когда мэтры начали говорить о чем-то своем, они уединились с Колей, и тот пожаловался на то, что любит читать, а вот книг по вкусу достать не может. Евгений Петрович вспомнил про свою библиотеку и пообещал передавать книги через Николая Васильевича, что потом и делал в течение длительного времени. Тогда ему и в голову не приходило, что общается он с прародственником великого поэта.
С женой Николая Васильевича Евгений Петрович познакомился значительно позже, через пару десятков лет, когда она приезжала на открытие Пушкинского театра. Ольга Львовна Красовская (прародственница А. С. Пушкина по линии Абрама Петровича Ганнибала) родилась в Ленинграде, окончила филологический (отделение немецкой филологии) факультет Ленинградского государственного университета. Выйдя замуж за Николая Васильевича Барабанова (доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР), приехала во Владивосток. Так в жизни Ольги Львовны соединились две крайние точки огромной нашей родины Санкт-Петербург – Владивосток.
Ольга Львовна Барабанова-Красовская свою трудовую преподавательскую деятельность, в которую она вкладывала всю душу, связала с вузом, расположившим свои учебные корпуса на ул. Пушкинской! Мастерство Ольги Львовны как преподавателя признали студенты, отмечавшие ее талант, внимательность, терпение, особую методику.
В семье Барабановых и родился сын Николай, которому Евгений Петрович в свое время передавал книги для чтения и который удивленно спрашивал:
– Где вы их достаете?
Теперь же Николаю Николаевичу Барабанову за 40. Он – инженер-кораблестроитель (окончил во Владивостоке политехнический кораблестроительный факультет). Сын Ольги Львовны унаследовал отцовско-прадедовскую традицию, выбрав профессию «корабела».
Однако не только строгость инженерной профессии привлекает потомка А. С. Пушкина. В нем живет и любовь к искусству – рисунку, музыке, литературе. В настоящее время Николай Барабанов является лидером рок-группы «Спокойной ночи», основанной в Ленинграде. Эта группа имеет еще и неформальное название – «Ржавые струны». Среди молодежи Питера они очень популярны. Николай Барабанов – автор музыки и песенных текстов. Его группа выпустила несколько творческих альбомов, гастролирует и за рубежом.
В лицах и Ольги Львовны, и Николая Николаевича Барабановых просматриваются черты их предков: во вьющихся черных волосах, в очерке черных глаз, в рисунке губ. Время не властно: потомки А. Ганнибала хоть и ведут свою родословную по женской линии, унаследовали характерные черты африканской внешности своего знаменитого предка. Вот уже на протяжении двухсот лет из поколения в поколение передается сходство с арапом Петра Великого, родством с которым гордился наш гений.
В Пушкинском историко-литературном музее им. А. В. Бутырина, расположившемся в Пушкинском театре, экспонируется справка из Академии наук СССР, которая гласит:
«Выдана Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР Ольге Львовне Барабановой, урожденной Красовской, в том, что она и ее сын Николай Николаевич Барабанов являются прямыми потомками Абрама Петровича Ганнибала – предка великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, по линии его внука (дяди А. С. Пушкина) Петра Исааковича Ганнибала. Генеалогическая справка прилагается».
Справку подписали зам директора института кандидат филологических наук В. Н. Баскаков и зав. рукописным отделом доктор филологических наук К. Д. Муратова.
Готовясь к 90-летию инженерного образования на Дальнем Востоке и просматривая свои архивы, Евгений Петрович неожиданно обнаружил еще одного прародственника А. С. Пушкина. Им оказался профессор П. П. фон Веймарн, прибывший во Владивосток в 1919 г. из Екатеринбурга вместе с Уральским политехническим институтом и ставший ректором Владивостокского политехнического института в 1920 г. Впоследствии он эмигрировал в Японию.
Веймарны – выходцы из Прибалтики служили верой и правдой российскому престолу на протяжении нескольких столетий. Как правило, семьи в роду Веймарнов были многодетными и некоторые из их представителей достигали самых высоких карьерных вершин. Среди них были генералы, действительные и тайные статские советники, сенаторы.
Прапрадед Петра Петровича Александр Федорович Веймарн был дважды женат на сестрах Шемнот, сначала на старшей – Софье, а после ее смерти на младшей – Ольге.
Сестры доводились правнучками Абраму Петровичу Ганнибалу и, следовательно, были троюродными сестрами А. С. Пушкина.
Когда Евгений Петрович прочитал об этом в книге В. В. Филатова «Стрела времени», то понял, что еще одна линия судеб связывает Владивосток с великим русским поэтом.
Действительно, «стрела времени». Все-таки есть в мире что-то такое необъяснимое, ведь недаром и улицу, и театр во Владивостоке наши предшественники назвали Пушкинскими.
В Покровском парке Владивостока в свое время был установлен простой деревянный крест на могиле Льва Анатольевича Пушкина, внучатого племянника великого поэта.
Эту могилу, вернее место захоронения, разыскали сотрудники профессор Ю. И. Лиханский и краевед Н. Г. Мизь.
Осенью 2008 г. директор компании «Теплый Дом» Сергей Витальевич Иванов, выпускник родного кораблестроительного факультета ДВПИ, оплатил из своих собственных средств работы по облагораживанию места захоронения, установку нового православного креста, укладку на участке брусчатки, высадку кустарника. На кресте – скромная табличка из белого металла, на которой выгравировано: «На этом участке православного Покровского кладбища 21 января 1920 г. похоронен Лев Анатольевич Пушкин (внук А. С. Пушкина)». На самом деле Лев Анатольевич доводился А. С. Пушкину внучатым племянником.
Н. Г. Мизь, передала Евгению Петровичу небольшую самиздатовскую брошюру государственного архива Оренбургской области под названием «Архивные находки», выпущенную в 1992 г. Заведующая отделом информации архива Т. Судоргина по данным рассекреченного фонда дореволюционного периода поведала об одном архивном досье только потому, что в нем была фамилия, известная всему миру: «О службе оренбургского вице-губернатора действительного статского советника Пушкина», который имел к тому же звание «камергера Высочайшего Двора».
Лев Анатольевич немало сделал для того, чтобы в Болдино сохранилась память о пребывании в имении его гениального предка.
Как известно, в 1896 г. Болдинское имение было продано с торгов. Но через два года случилось невероятное. Имение в Болдино купил Н. И. Приклонский и отдал его в приданое своей племяннице, вышедшей замуж за… Льва Анатольевича Пушкина, который, выйдя в отставку корнетом, стал управлять усадьбой от имени жены.
Осознавая свою ответственность перед памятью великого поэта, Лев Анатольевич стал хлопотать о продаже Болдинской усадьбы государству. Хлопотать пришлось долго, лет 10, не меньше. В одной из просьб Лев Анатольевич сообщает, что в 1904 году «дважды обращался в Российскую Академию наук, но получил полный отказ, мотивированный неимением денег, малой площадью усадьбы, которую ни к чему нельзя пристроить и ничего в ней не устроить».
Дело сдвинулось с мертвой точки только после четвертой просьбы Льва Анатольевича от 15 мая 1910 г. уже на имя царя.
По приказу губернатора была создана комиссия «по покупке в казну имения господ Пушкиных при селе Болдине Лукояновского уезда». 24 марта 1911 г. было принято, наконец, решение Совета министров «О приобретении в собственность государства за 30 тысяч рублей принадлежавшего дворянам Пушкиным родового имения при селе Болдине Лукояновского уезда Нижегородской губернии мерою около 48 десятин земли с усадьбою, домом, флигелем, в котором жил А. С. Пушкин, портретами поэта и его родных».
В должности вице-губернатора Оренбургской губернии Лев Анатольевич служил с 1914 по 1917 гг.
Редактором газеты «Оренбургская жизнь» в те годы был С. П. Наумов, который в своих воспоминаниях писал: «Незадолго перед революцией в Оренбург был назначен вице-губернатором некий Пушкин. Газеты его рекомендовали – “внук великого поэта”. Это был высокий, уже немолодой мужчина, представительный, отличием которого были большие выхоленные усы, к тому времени почти седые. При личном знакомстве он рассказывал работникам прессы, как и с какой стороны он приходится внуком великому поэту. Он имел у себя и семейные пушкинские сувениры, подтверждающие его близость к А. С. Пушкину. В частности, у него была тетрадь… стихов, в том числе и самого Пушкина с его личными приписками и поправками. Это было своего рода эпистолярное наследие Пушкина, и оно хранилось в секрете семьёй, как своего рода святыня, не подлежащая какому-либо разглашению…»
Т. Судоргина приводит несколько интересных фактов о деятельности Л. А. Пушкина на посту вице-губернатора.
Осенью 1916 г. в Оренбург приехал Эмир Бухарский, который встречался с Л. А. Пушкиным у него на квартире.
За полгода до этой встречи, 30 марта 1916 г. Государь Император дал соизволение на принятие и ношение ордена Бухарской Золотой Звезды первой степени Оренбургским вице-губернатором в звании камергера Высочайшего Двора действительным статским советником Пушкиным.
В фонде Оренбургского дворянского депутатского собрания случайно встретился документ, благодаря которому потомок великого поэта соприкоснулся с судьбой будущего атамана Оренбургского казачьего войска Дутова, одного из лидеров контрреволюции. В ноябре 1916 г. вице-губернатор Л. А. Пушкин подписал свидетельство следующего содержания: «Дано Войсковому Старшине Оренбургского казачьего войска Александру Ильичу Дутову для представления в Оренбургское дворянское депутатское собрание, в том, что он поведения безукоризненного, под судом и следствием не был и в настоящее время не состоит и ни в чем предосудительном в политическом отношении не замечен».
Губернатор М. С. Тюлин осенью 1916 г. «доверительно» писал о Льве Анатольевиче так: «На действительном статском советнике Пушкине все время лежит заведывание текущими делами по губернии… Свидетельствуя о широком административном опыте камергера Пушкина, непрерывной огромной затрате энергии высокополезной его деятельности по управлению губернией в настоящее трудное время, я имею честь просить действительному статскому советнику Пушкину награды за труды, понесенные при обстоятельствах военного времени».
О последних годах жизни Л. А. Пушкина архивных материалов почти не сохранилось. Однако в газете «Дальний Восток» за 24 января 1920 г. была опубликована заметка «Лев Анатольевич Пушкин», которая сообщала:
«22 января состоялись похороны бывшего оренбургского вице-губернатора, действительного статского советника, Льва Анатольевича Пушкина.
Лев Анатольевич, внук поэта Пушкина, родился 7 июня 1870 года, окончил Николаевское кавалерийское училище и в 1892 г. в чине корнета был прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку. Чувствуя свое призвание к гражданской службе, Л. А. Пушкин в 1896 г. выходит в запас и начинает гражданскую карьеру с земского начальника Лукоянского уезда Нижегородской губернии, в 1906 г. избран предводителем дворянства того же уезда, состоял гласным нижегородского земского собрания и в должности почетного мирового судьи. В 1910 г. назначен рогачевским уездным предводителем дворянства; в 1914 г. назначен оренбургским вице-губернатором в каковой должности состоял до начала революции.
Революция положила конец плодотворной деятельности Льва Анатольевича, положила конец его жизни. Его постигла участь тех тысяч и десятков тысяч русских людей, которые приняли смерть в награду за свою преданность и службу родине.
В 1917 г., когда разливающаяся стихия смела и разрушила государственный аппарат, Лев Анатольевич по вызову Временного правительства выехал в Петроград. В пути, недалеко от Петрограда, ехавший с ним в одном вагоне оренбургский купец имел неосторожность, обращаясь к Льву Анатольевичу, назвать его «ваше превосходительство».
– А-а, превосходительство!.. Бей его! – в один голос заревели свободные граждане свободной России, и начались страшные избиения и надругательства.
Полуживой Лев Анатольевич был доставлен в Москву, где лечился и, оправившись, стал пробиваться на Урал. На этом пути в Туркестане он был опознан и вторично подвергся избиению.
В г. Троицке его приютил, больного и нищего, главный инженер Троицко-Орской железной дороги Веховский. Со взятием Оренбурга сибирскими войсками Лев Анатольевич получил возможность выбраться из кровавой совдепии; в нем принял участие адмирал Колчак и отправил в Японию лечиться. Однако подорванное здоровье восстановить не удалось, и по возвращении из Японии его жизнь тихо угасла…»
К сказанному следует добавить, что во Владивостоке Лев Анатольевич находился на излечении с августа 1919 г. по январь 1920 г. в больнице Блюменфельда, располагавшейся в то время на улице Пушкинской, и в морском госпитале.
Однако ни в Японии, ни во Владивостоке не смогли распознать, что за болезнь его мучила. Между тем не исключена вероятность того, что в периоды улучшения здоровья Лев Анатольевич мог прогуливаться по улице и заходить в театр, которые носили имя его великого предка.
Пушкинский историко-литературный музей в театре появился благодаря одному из сослуживцев Евгения Петровича по военно-морскому училищу Александру Вячеславовичу Бутырину. Он занимал должность начальника лаборатории на радиофакультете, и их служебные обязанности практически не пересекались. Хотя они вместе маршировали в составе офицерской роты на училищном плацу, сдавали или принимали вахты и получали разносы от начальства по делу и просто так. Служил он не за страх, а за совесть, начиная с суворовского училища, которое закончил в Ленинграде, где и начал собирать свою Пушкинскую коллекцию, показанную однажды в краевом музее им. Арсеньева.
Они договорились об условиях работы создаваемой экспозиции, и А. В. Бутырин несколько лет работал директором своего собственного музея, экспонаты которого заняли весь третий этаж Пушкинского театра. Евгений Петрович искренне удивлялся, как могла такая коллекция размещаться в его двухкомнатной квартире?
В театре находится Пушкинская библиотека, книги в которой собраны, наверное, со всего мира.
Бывая в зарубежных командировках, Евгений Петрович обычно заходил в книжные магазины и интересовался, есть ли у них в продаже книги А. С. Пушкина? И, конечно, приобретал их, получив утвердительный ответ. Теперь в Пушкинской библиотеке имеются его произведения на многих западных и восточных языках.
Полное собрание Пушкинских сочинений из 13 томов на китайском языке подарил ректор Цзилиньского университета из г. Чанчуня – бывшей столицы государства Маньчжоу-Го. Ректор одного из сеульских университетов презентовал книгу А. С. Пушкина на корейском. Есть книги из Биробиджана на еврейском языке, Якутии, где президентом – выпускник политехнического Вячеслав Штыров, одаривший библиотеку сочинениями на якутском языке… А японский профессор Мори из Токийского института русского языка прислал несколько журналов, посвященных творчеству русского поэта, в благодарность за то, что ему помогли разыскать самого первого переводчика произведений А. С. Пушкина на японский язык, жившего, кстати, во Владивостоке.
Еще одну раритетную книгу, изданную в Санкт-Петербурге в 1800 г., Евгению Петровичу посчастливилось буквально выклянчить у одного знакомого.
Книга посвящена «путешествию в южной половине земного шара и вокруг него английскими королевскими судами “Резолюцией” и “Адвентюром” под командованием капитана Иакова Кука» (да, того самого Кука, о котором пел в свое время Владимир Высоцкий).
Но книга была дорога вдвойне еще и тем, что принадлежала библиотеке Собрания приказчиков во Владивостоке, т. е. Пушкинскому театру. Об этом свидетельствует табличка, приклеенная на обороте обложки.
«Библиотека Владивостокского Собрания приказчиков. Автор – Иаков Кук, том 1, отдел – Народный артист, время поступления – 26 мая 1910 г., инвентарный номер 31709/829, цена в переплете – 85 руб.»
Но, пожалуй, самое интересное заключалось в примечании:
«К читателям! Обращайтесь с книгой бережно. Она служит многим, а не Вам одному. Ничего не пишите на книге и не подчеркивайте слова. Не загибайте углы у страниц. Не перелистывайте страниц грязными и мокрыми руками, так как это негигиенично».
Сотни и тысячи посетителей Пушкинского театра с благоговением знакомятся с раритетами коллекции А. В. Бутырина, со всеми этими значками и знаками, медалями и орденами, книгами и открытками, статуэтками и скульптурами, картинами и фотографиями… А сколько здесь побывало школьников и студентов!
Однажды А. В. Бутырин познакомил Евгения Петровича с пожилой женщиной, работавшей в Пушкинском театре еще во время Великой Отечественной войны. Она рассказала, что во время гастролей в театре джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова кто-то пробрался в помещение театра и выкрал все ноты. Правда, через день ноты были подброшены обратно.
Евгений Петрович вспомнил, что о гастролях Л. Утесова ему рассказывал отчим. Было это в Уссурийске, куда после Владивостока оркестр прибыл на гастроли. Запомнилось ему выступление оркестра не очень. Зато бригада шахтеров-ударников, получившая премию в виде билетов на концерт, решила отметить это событие в ресторанчике, расположенном на углу двух главных улиц Уссурийска. Среди народа он был известен под названием «Ломай-нога», по-видимому, из-за высокого деревянного крыльца, на ступеньках которого поднабравшийся посетитель легко мог повредить, а то и переломать все конечности.
В самый разгар веселья пожаловал в этот ресторанчик и весь оркестр во главе с Л. Утесовым. Отчим говорил, что с удивлением отметил про себя следы оспы на лице музыканта. А потом после неизбежного знакомства шахтеры подбили его на спор с Л. Утесовым – кто больше выпьет шампанского. Победителем вышел отчим, который выпил девять бутылок, а Л. Утесов остановился уже на седьмой. Теперь Евгений Петрович понимал, почему отец не переносил даже вида бутылок с шампанским.
«Утесовская» история имела неожиданное продолжение. На конференции в Токио по Русско-японской войне Евгений Петрович встретился с… внучкой Л. Утесова Марией, которая является теперь гражданкой Франции и специалистом по Японии. Работает Мария в научно-исследовательском центре в Париже. Приезжала она и во Владивосток, где приняла активное участие в конференции по Русско-японской войне 1904–1905 гг. и была приятно удивлена Пушкинским театром.
Позже Евгений Петрович переслал ей по электронной почте открытку с портретом Эдит Утесовой тридцатых годов и вопросом: «Это Ваша родственница?», на что получил ответ: «Как это мило!»
В память о выступлении В. Высоцкого в Пушкинском театре у Евгения Петровича хранятся оригиналы его фотографий, переданные тележурналисткой Е. Щедриной. Фотографии эти сделаны известным приморским фотографом Б. Подалевым, к сожалению, рано ушедшим из жизни.
На стене театра, у фонтана, рядом со скульптурой А. С. Пушкина, установили памятную доску с надписью о том, что здесь выступал известный бард, и теперь ежегодно отмечался этот день как дань памяти замечательному артисту.
Через некоторое время обнаружилось, что на доске неправильно указана дата концерта В. Высоцкого в Пушкинском театре. Вдобавок нашлись вандалы, испортившие доску, и доску заменили. Открытие новой доски приурочили к 35-летию со дня выступления В. Высоцкого во Владивостоке. В это же время Владивосток готовился отметить 146-й день рождения. Всенародно любимый бард Владимир Высоцкий давал концерты в конце июня – в начале июля. Во Владивостоке он пробыл всего пять дней, но они до того обросли легендами, что уже трудно стало правду отделить от вымысла.
Но как бы то ни было, 35 лет – тоже юбилей.
Примерно месяца за два до этого события к Евгению Петровичу подошел Андрей Земсков, приморский поэт и исполнитель песен, с просьбой оказать помощь в проведении концерта памяти В. Высоцкого. Девизом концерта стали слова из известной песни – «Открыт закрытый порт Владивосток». К этой дате и предполагалось заменить мемориальную доску у Пушкинского театра в связи с 35-летием визита поэта во Владивосток. В качестве специального гостя был приглашен Никита Высоцкий, сын барда, актер и директор Государственного центра-музея В. С. Высоцкого.
И вот они стоит у памятной доски. Речи, положенные по такому случаю, произнесены, доска открыта, аплодисменты прозвучали, Никита Высоцкий, немногословный, высокого роста, могучего телосложения человек, удивительно похожий лицом на своего отца, обронил:
– Мне нравится такое соседство, – намекая на то, что мемориальная доска памяти В. Высоцкого установлена рядом с памятником А. С. Пушкину.
Они немного поговорили с Никитой, причем он попросил более подробно рассказать о редких фотографиях В. Высоцкого, и условились встретиться позднее. Но нахлынули журналисты, люди, пришедшие на концерт, обступив Никиту со всех сторон… А после концерта им завладели местные барды.
На следующий день Никита Высоцкий уже вылетел в Москву. Новая встреча отодвинулась на неопределенное время.
Как-то будучи в командировке Евгений Петрович проходил по Таганке мимо музея В. С. Высоцкого. К сожалению, он был закрыт, а у него не нашлось времени посетить его еще раз. Но он дал себе слово, что обязательно заглянет сюда в следующий приезд в столицу.
А тогда, теплым июньским вечером, нехарактерным для приморской погоды, при большом скоплении народа и под бурные аплодисменты Евгений Петрович с Никитой Владимировичем убрали белое покрывало с доски, на которой было начертано: «На сцене Пушкинского театра 2–4 июля 1971 г. выступал с концертами Высоцкий Владимир Семенович».
Впервые Евгений Петрович увидел скульптуру Пушкина, выполненную в гипсе в натуральную величину, на выставке заслуженного архитектора России Э. Барсегова. Дальзавод выполнил чугунную отливку, а когда памятник установили, им со скульптором пришлось пережить упреки одного уважаемого поэта, который писал в газетах, что А. С. Пушкин не был в жизни таким «сутулым», «хмурым» и так далее. «Осаду» выдержали. Памятник А. С. Пушкину привлекает многочисленных туристов, здесь любят бывать горожане, в любое время года у его подножия лежат цветы. К нему приходят любители поэзии в Дни памяти поэта и собираются во время Болдинской осени «по-приморски» участники одноименного Дальневосточного фестиваля, который организовывал неугомонный А. В. Бутырин.
Собирать почтовые открытки об актрисе В. Ф. Комиссаржевской Евгений Петрович начал лет двадцать или даже тридцать тому назад. Сначала его заинтересовала ее звучная фамилия – Комиссаржевская! А затем из скудных сведений энциклопедий и редких книг узнал, что Веру Комиссаржевскую современники ставили в один ряд с великой актрисой Марией Ермоловой. Значительно позже ему стало известно, что В. Комиссаржевская в 1909 г. давала гастроли во Владивостоке. В литературе того времени эти гастроли называли «сибирскими», а проходили они в городах, расположенных на линии транссибирской магистрали и КВЖД: Иркутске, Омске, Челябинске, Владивостоке и даже Харбине!
Во Владивостоке гастроли В. Ф. Комиссаржевской сопровождались полным аншлагом и шумным успехом. Первая реклама появилась уже 17 марта. Отзывы на спектакли В. Комиссаржевской, состоявшиеся в период с 30 марта по 7 апреля 1909 г., публиковались в местной прессе, которую представляли газеты «Далекая окраина» и «Дальний Восток».
Спектакли В. Ф. Комиссаржевской проходили в основном в так называемом Общедоступном театре К. Боровикса.
В одной из газет «Дальний Восток» можно было прочитать такие строки: «Госпожа Комиссаржевская, да что там говорить про нее! Большое тебе спасибо за то, что ты посетила и наш далекий Владивосток и после долгой голодухи дала возможность в течение недели наслаждаться дивными образами, тобой создаваемыми. Ты показала нам пошлость мелочной жизни и раскрыла идеальные стороны женской души. Побольше таких женщин в жизни, и мир будет счастлив».
Евгению Петровичу посчастливилось приобрести интересные книги о В. Ф. Комиссаржевской: книгу с одноименным названием под авторством Ю. Беляева, изданную в Санкт-Петербурге в 1900 г. и «Альбом Солнца России», изданный в Петрограде в 1915 г. к пятилетней годовщине со дня смерти В. Ф. Комиссаржевской Умерла она в 1910 г., заразившись черной оспой, в возрасте 46 лет, возвращаясь из гастролей в Ташкенте.
Прочитав небольшой очерк Т. И. Алексинской, опубликованный в журнале «Возрождение» за 1966 г., издаваемый в Париже, Евгений Петрович понял, почему великая актриса с таким «надрывом», как отмечают современники, играла характерные женские роли. В литературе встречались намеки на «личную драму» В. Комиссаржевской. Но только из этого очерка стало понятно, почему измена мужа, графа Муравьева, с ее собственной сестрой так подействовала на ее тонкую психику. Она не смогла оправиться от нервного шока в течение всей своей короткой жизни и периодически проходила лечение в психиатрических клиниках.
Правда, и у ее сестры личная жизнь не сложилась, вероятно, вследствие того, что разрыв их отношений с графом Муравьевым был просто неизбежен.
Всю жизнь В. Ф. Комиссаржевскую преследовали последствия неудачного замужества и растоптанной любви.
И даже на гастролях в Америке в 1908 г. одна из газет иронически писала: «Что это за графиня, которая ходит в простых платьях, не надевает на себя бриллиантов и играет в простой обстановке?!» В Америке, по рассказам ее брата, актрису называли графиней Муравьевой, по фамилии бывшего мужа.
Не раз присутствовавший на спектаклях В. Ф. Комиссаржевской будущий «красный» нарком А. Луначарский вспоминал, что хотя бы порой он забывался и радостно смеялся, «…все-таки таланту Комиссаржевской была присуща неизбывная нота философского пессимизма. Никогда не могла она с крыльев своего таланта стереть какой-то траурный пепел…».
Американцы, склонные к аналогиям, сравнивали игру В. Ф. Комиссаржевской с игрой известной в то время итальянской актрисы Элеоноры Дузе, выступавшей с огромным успехом во многих странах, в том числе России. Но Евгению Петровичу казалось, что это сравнение некорректно, потому что без своего собственного таланта великой драматической актрисы она не только не смогла бы великолепно играть на сцене, но и создать театр своего имени в Санкт-Петербурге, который вошел в список ста великих театров мира. Эстафету подхватил ее брат Федор, открыв в 1914 г. в Москве театр им. В. Ф. Комиссаржевской, впоследствии заслуживший репутацию одного из самых значительных театров в Москве.
Евгению Петровичу запомнились несколько парадоксов, прозвучавших из уст В. Ф. Комиссаржевской и опубликованных ее знакомым А. Измайловым в книге «Альбом Солнца России», книге оригинально изданной, с многочисленными вклейками, выполненными с непередаваемым изяществом.
Актриса однажды сказала: «Стихи Пушкина нельзя читать вслух. Их можно читать только про себя. Нет такого голоса, который бы мог чтением вслух не нарушить их нежности и не вспугнуть прелести».
В другой раз она заявила: «Слова не имеют значения для пафоса актера. Вся тайна в силе души и в чарах голоса. Хотите, я уйду в соседнюю комнату и “с душой” прочитаю вам таблицу умножения? Не слыша слов, вы разделите мое волнение. Но это будет только таблица умножения».
У нее были странные настроения, и однажды она сказала про своего знакомого: «Этот человек голубой и воскресенье, а вы – четверг и оранжевый. Он четный, а вы – нечетный».
Ну, как тут не вспомнить «Войну и мир» Л. Толстого, когда Наташа Ростова описывает своей матери Пьера Безухова: «Он синий, темно-синий с красным… Он славный…»
Однажды в конце рабочего дня Евгений Петрович обходил холл второго этажа восстанавливаемого Пушкинского театра, полы которого были вскрыты, а стены ободраны. Только что закончилось совещание, где он крупно поспорил со строителями по поводу устройства полов. Решение было принято, и он еще раз осматривал конструкции, чтобы убедиться в правильности своего предложения. Перекрытия были заполнены шлаком вперемежку со строительными отходами, а со стен взирали облупившиеся портреты «красных» маршалов Буденного и Ворошилова, выполненные прямо по штукатурке. Под одним из еще не оторванных до конца плинтусов он увидел уголок выцветшей от времени газетной бумаги. Потянув за него, извлек сложенный вдвое журнал без обложки. На первом листе увидел название «Красная нива», дату 9 июня 1929 г., седьмой год издания. Здесь же во весь лист иллюстрация памятника А. С. Пушкину в Москве и стихи Э. Багрицкого, посвященные поэту. Номер журнала был юбилейным и издан в честь 130-летия со дня рождения поэта.
Ему с трудом удалось прочитать, вернее, расшифровать почти выцветшую карандашную надпись в верхней части листа: «Очень редкий журнал. Чудом сохранившийся экземпляр. Погиб во времени и уничтожен». И подпись – «Евгений». Тезка, однако, подписал.
Из энциклопедий Евгений Петрович выяснил, что литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал «Красная нива» издавался в 1923–1931 гг. под редакцией А. Луначарского. Назван так он был, вероятно, в противовес издававшемуся в царское время весьма популярному журналу «Нива».
В «Красной ниве» публиковались главным образом небольшие произведения – стихи, рассказы, очерки, отрывки из романов, повестей и таких писателей, как А. Толстой, М. Шолохов, А. Грин, С. Есенин, В. Маяковский и других «пролетарских» писателей и поэтов.
Внимание Евгения Петровича привлекли выходные данные, где указывалось, что и типография, и редакция находились на проспекте имени одного и того же человека – И. Скворцова-Степанова, наркома финансов (так тогда называли министров в ленинском правительстве). Вспомнил, что ему посчастливилось служить с его сыном, капитаном 1-го ранга М. И. Скворцовым, профессором, доктором наук, образцовым военно-морским офицером, живой легендой для многих из офицеров (поговаривали, что у него хранилась фотография, где он запечатлен еще ребенком, сидящим на коленях у В. И. Ленина).
В найденном журнале было напечатано много неизвестных в то время материалов из жизни А. С. Пушкина. Заинтересовала набранная очень мелким шрифтом публикация «Пушкин и Дантес» Бориса Анибала, напечатанная на последней странице журнала под рубрикой «Сатира и юмор». Наверное, это был псевдоним, а заметка – пародия на роман некоего В. Каменского «Пушкин и Дантес»:
«Пушкин и Дантес
Сочинение бывшего ученика приготовительного класса Василия Каменского
Александр Сергеевич Пушкин был поэт – изгнанник и скрытый революционер, который боролся за народ и народ которого любил, хотя и не читал в то время его произведений.
Он был выслан царем Николаем, но не вторым, как я думал раньше, а первым, в имение Михайловское, где жил с няней Ариной Родионовной пролетарского происхождения.
Арина Родионовна была музой Пушкина. Она очень хорошо рассказывала сказки и рассказала ему про царя Берендея, которого, как оказалось после выхода моей книги, написал не Пушкин, а Жуковский.
Пушкин одевался по-мужицки и вел себя так простецки, что в общей группе крестьян он ничем внешним не отличался, но в Тригорском он блестяще читал стихи, бросая снопами бриллиантовых искр великого мастерства в сторону торжествующей Анны Петровны, по фамилии Керн.
С Керн он потом, в лунную ночь, гулял по саду, и она не долго торжествовала, а поддалась ему.
Писать Пушкину приходилось много, так как нужны были деньги и было вообще трудно, потому что раньше сочинений вроде моего совсем бы не напечатали.
Поэтому с кипящим рвеньем он взялся за осуществление беременной мысли – написать «Бориса Годунова», бурно желая блеснуть зрелостью своего мастерства.
Царь Николай, которого называли Палкин за его любовь к тросточкам, под давлением Европы и Африки, откуда происходил поэт, должен был вернуть его из ссылки обратно.
Пушкин приехал на фельдъегере в Москву, и царь, брезгливо повесив губы, сказал, что будет его цензурой, но сам велел тертому генералу Бенкендорфу, шефу жандармов, жать Пушкина.
Бенкендорф стал жать, а друг поэта – Соболевский, всеобщий любимец передовой молодежи, зычным, природным голосом сочинил на это экспромт:
Нас жмали, жмуть,
И будут жмать!
В Москве поэт встретил ослепительную девицу Наталью Гончарову, и у него закружилась голова; рубиновыми молниями под небом черепа засверкали огненные мысли.
Пушкин долго наблюдал за ней, а потом признался в любви, но Наташа, вся залитая солнечным концом апреля, велела обратиться к маманьке.
Он долго бился с маманькой, пока, наконец, не обвенчался на Наташе в церкви Большого Вознесенья, а не Старого, как я написал в своей книге.
Наташа скоро закружилась в вихре роскошных великосветских удовольствий, вызывая круговое восхищенье, и Николай Палкин, ужасно любивший интрижки, стал к ней приставать.
На одном опьяняющем балу, где были разные князья, графы и генералы, Пушкин за картами накрыл голландского посланника, барона Геккерена, который передергивал, играя в три листика.
Тут же на балу жена поэта плясала трепака с белогвардейским офицером Жоржем Дантесом, приемным сыном посланника, состоявшим с ним в двусмысленных отношеньях.
Геккерен был похож на обезьяну и страшно озлился на поэта. Он решил его погубить и стал подставлять ножку.
Вместе с ним начала действовать Идалия Полетика, женщина с напудренными глазами, замучившая Пушкина своей прилипчивостью, но он ей не поддавался.
Дантеса науськали на Наташу, Пушкин, конечно, взъелся, и у него, как бриллиант, выкатилась слеза из левого глаза, освещенного лампой.
Тут ввязались Николай, Бенкендорф, Нессельроде, и началась такая неразбериха, в которой я до сих пор ничего не могу понять.
Но дело дошло до дуэли, и Дантес, струсив, сначала женился на свояченице Пушкина, а потом убил его.
Так умер от руки белогвардейского наемника наш величайший поэт. Пушкина не стало.
Впрочем, он все равно бы не пережил моего пошлого и нелепого романа.
Борис Анибал».
Комментарии, как говорится, излишни.
Как-то во время отпуска раздался телефонный звонок помощника с сообщением, что с Евгением Петровичем ищут встречи мать и сын Балякины, приехавшие из Америки. Они напомнили, что с их отцом, он когда-то работал. Они встретились на следующий день в Пушкинском театре перед концертом. Поговорили о профессоре О. Балякине, который работал в Дальневосточном высшем инженерном училище им. Г. И. Невельского. Евгений Петрович сотрудничал с ним в области судоремонта, и даже получил от него положительную рецензию на одну из книг, изданных в Ленинграде. Евгений Петрович не стал интересоваться, по какой причине Балякины оказались в Америке, – у каждого своя судьба. На визитке его визави значилось «Стив Балякин, MD, PhD, доктор медицины». В конце разговора Стив, хитро улыбнувшись, спросил:
– А вы знаете, что в Пушкинском театре пел Леонид Собинов?
Евгений Петрович замешкался с ответом:
– Ну, я знаю о том, что он был во Владивостоке, но вот в Пушкинском театре или нет, не уверен.
– А я вот твердо в этом уверен, – заявил Стив.
В это время прозвучал первый звонок, и они прошли в зал. Концерт французских исполнителей был посвящен 100-летию Пушкинского театра. Ведущая назвала среди прочих знаменитостей, выступавших с его сцены, и Леонида Собинова, который прослыл в свое время певцом любви, красоты и свободы.
Леонид Витальевич Собинов (1872–1934) родился в семье приказчика (дед был крепостным). Окончил юридический факультет Московского университета и в качестве помощника присяжного поверенного был приписан к адвокату Ф. Н. Плевако, с которым проработал четыре года. Певческая одаренность отличала семью Собиновых: и отец, и дед, и оба брата обладали красивейшими голосами. Сам Л. Собинов в качестве участника университетского хора выступал в опере «Сельская честь», поставленной учениками музыкально-драматического училища Московской филармонии, где учился, продолжая занятия в университете. В 1897 г. он впервые выступил на сцене Большого театра, с которым затем был связан на протяжении всей творческой деятельности, а после революции 1917 г. несколько лет его возглавлял.
Л. Собинов был мастером камерного вокального жанра, пропагандистом русской вокальной лирики. Выступления на сценах лучших западно-европейских оперных театров принесла ему мировую славу.
Весной 1910 г. Л. Собинов совершил большую концертную поездку по городам России – от Варшавы до Владивостока, нашедшую широкое отражение в прессе, в отзывах которой, особенно сибирских городов, подчеркивалось большое музыкально-культурное значение его концертов. Интересно, что по завершении гастролей он писал одному из своих друзей В. П. Коломийцеву:
«Пока скажу только, что всей Сибири грош цена. Один и есть серьезный город Владивосток, а остальное какая-то собачья старость, самодовольная, самодовлеющая, но – увы! – пахнущая невыносимо затхлостью и “пылью веков”. Турне закончил я блестяще. Последние пятнадцать – восемнадцать концертов пел шутя, как редко удается, с полной силой. Усталости и в помине не было».
Во Владивостоке Л. Собинов дал три концерта, в которых участвовали также певец (баритон) Витторио Андога (настоящая фамилия Журов) и пианист-солист и аккомпаниатор М. М. Златин.
В воспоминаниях Веры Каралли, балерины Большого театра и киноактрисы, которая сопровождала певца в этой поездке, есть такие строки:
«Пересев в сибирский поезд, Леонид Витальевич пришел в восторг: железная дорога была ширококолейная, и вагоны отличались своим удобством, поместительностью, комфортом, особенно спальные вагоны, с отличными диванами и даже с электрической лампочкой на столике. В поезде была библиотека, аптека, ванна и, конечно, вагон-ресторан, где подавались сибирские пельмени. Сопровождал поезд и доктор. “Вот это я понимаю! – шутил Собинов. – Если объешься пельменями – тут как тут доктор с каким-нибудь снадобьем, а если от паровозной копоти превратишься в трубочиста, так отмоешься в ванне”».
…Во время переезда или отдыха Собинов иногда писал стихи, но, считая их праздной забавой, куда-то забрасывал или просто рвал. Случайно сохранились стихи, посвященные М. М. Попелло-Давыдову (приятелю Собинова):
Когда бы был я гордым Цеппелином Иль авиатором Ефимовым воздушным, Иль кузнецом Вакулой добродушным — Верь, не скучал бы ты по мне, страдая сплином. Чудесного коня я оседлал бы мигом, Будь это гордый Райд, иль гоголевский бес, Что в Питер ездил под Вакулы игом. Как вихрь, помчал и на твоем подъезде слез… Увы! Лишь мысль моя к тебе несется смело, С ней дружеский привет – свидания залог. Хотел бы с ней послать и тело, Но мчит его экспресс в Владивосток. Харбин. 1910 г.Как человеку, связанному с высшим образованием, Евгению Петровичу очень импонировали заметки Л. Собинова о Татьянином дне.
Этот день, когда в 1755 г. был основан Московский университет, считался праздником просвещения, но в то же время 12 января (по ст. ст.) в святцах – день именин Татьяны. Так возникла традиция называть день основания университета Татьяниным днем. Указом Президента России 25 января объявлен праздничным днем российского студенчества – Татьяниным днем.
В 1910 г. Л. Собинов писал в газете «Раннее утро»:
«GAUDEAMUS. К ТАТЬЯНИНУ ДНЮ
Мое главное пожелание имениннице заключается в том, чтобы университет был свободен. Я понимаю эту свободу не только в смысле свободы самоуправления университета, но и в смысле свободы научных исследований и права чтения профессорами лекций каких угодно направлений. Но антигосударственным лекциям места в университете быть все-таки не может.
К этому надо прибавить, что наш университет должен быть не только свободен, но и доступен всем желающим получить высшее образование, разумеется, считая в том числе и женщин».
А вот еще одна его заметка:
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Я поступил в университет в 1890 г. и помню, с каким нетерпением ждал Татьянина дня. Помню, как торопился уехать из Ярославля, чтобы не пропустить этого дня.
Я тогда жил на “Живодерке” (теперь Владимиро-Долгоруковская ул.). Утром 12 января вышел из дому.
Настроение торжественно-праздничное. Легкий морозец, небольшой снег – чудная бодрящая погода. И какой радостью забилось мое сердце, когда проезжавший мимо извозчик окликнул меня: “С праздником, господин студент! Прокатились бы…”
Я поехал к своему знакомому, а оттуда с ним вместе в знаменитую тогда “Италию”, на Тверском бульваре.
Узнав о моем желании видеть настоящее празднование “Татьяны”, знакомый из “Италии” повез меня в “Эрмитаж”.
Там я застал невиданную еще для меня картину. Народу – не пройдешь, и все стоят. То там, то сям вскакивают на столы, говорят речи. Говорил, между прочим, покойный Ф. Н. Плевако. Меня поразила обстановка для Татьянина дня этого шикарного ресторана. Столы без скатертей, посуда самая простая. После я узнал, что это были меры предосторожности против чересчур “праздновавших”.
Какие тогда у меня были деньги? Ну, рубль – два свободных было. На них я скромно заказал пива.
Поставили его на столик, а я стал пробираться к говорившему старику. Говорили, что это какой-то профессор. Седые волосы его растрепались. Мне запомнилась его фраза: “Наш национальный костюм – халат. Пора нам скинуть, наконец, этот халат!” – прокричал старик, но в этот момент какой-то пьяненький студент толкнул его, и он упал со стула.
Я вернулся к своему столику и с грустью убедился, что мое пиво на полу и от бутылок остались одни осколки.
Мы вышли на улицу. Везде толпы шумящей молодежи. Все говорят друг другу “ты”, братаются…
Было еще много “Татьян”, но ни одна так не врезалась мне в память, как эта, первая.
В последующие годы неизменно перед “Татьяной” передавали слух, что празднование не будет допущено. Мы “глухо волновались”, обсуждая на разные лады этот слух, но все обходилось благополучно».
Всю жизнь Л. Собинов оставался другом учащейся молодежи.
Ежегодно, начиная с 1903 г., Л. Собинов устраивал концерты в пользу Общества помощи нуждающимся студентам Московского университета. Эти концерты были крупнейшими событиями в музыкальной жизни Москвы.
До революции Собинову было присвоено звание солиста Императорского театра. В советское время он стал народным артистом республики, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Имя Собинова присвоено Саратовской консерватории и Ярославскому музыкальному училищу.
Писательница, поэтесса, автор воспоминаний о Л. Собинове Т. Л. Щепкина-Куперник писала:
«Когда он умер, скульптор Мухина, делавшая его памятник, изобразила на надгробной плите умершего лебедя. Я думала, что это в память Лоэнгрина, так как Собинова часто называли “лебедем русской сцены”. Но художница так объясняла свою мысль: “У русских людей лебедь всегда является символом чистоты, а чище человека, чем Собинов, я не знала”».
Пушкинский театр славился своими маскарадами и балами. Они были разными: и цветочными, и пестрыми, и масленичными, и даже давался бал среди льдов, для которого художником-декоратором Императорских театров П. П. Сергеевым была написана громадная роскошная панорама полярной звездной ночи и гибель корабля среди вечных льдов. Зал был убран ледяными гротами, глыбами льда и хлопьями сверкающего снега.
Кстати, именно в Пушкинском театре впервые в 1909 г. прошли конкурсы красоты, где выбирали «красавицу» и «красавца» Владивостока (в наши дни выбирают, как известно, «мисс» и «мистера»). А тогда «первым» вручались золотые жетоны с надписью. Позднее были и такие призы: дамский приз – золотой кулон с драгоценным камнем, мужской – массивный серебряный портсигар.
Конечно, не только балами, маскарадами и конкурсами заполнялась жизнь Пушкинского театра. На его сцене ставились спектакли, звучали музыкальные номера самых знаменитых исполнителей. Были и пикантные спектакли «только для взрослых» с участием петербургских артистов императорских театров. Наиболее известная среди них актриса Нинина-Петипа из семьи потомственных актеров.
Ставились спектакли и для детей, и самими детьми. Пресса об этом писала под заголовком: «Дети – детям»:
«Сегодня в Пушкинском театре днем идет фантастическая детская пьеса “Встреча Весны”. Играют дети, ученики и ученицы городских школ.
Весь сбор со спектакля пойдет на устройство детской колонии для беднейших учениц 3-го начального училища.
Маленькие артисты надеются, что публика отзывчиво отнесется к этой благой цели и каждый маленький гражданин или гражданка г. Владивостока придут сегодня в театр, тем самым дадут возможность нескольким десяткам бедных детей подышать летом чистым дачным воздухом и набраться здоровья и сил для зимней школьной жизни».
В 1911 г. в Собрании приказчиков состоялось «торжество открытия школы и при ней детского сада, основанной Собранием в память 19 февраля 1861 г. (освобождения крестьян от крепостной зависимости). Торжество освещения школы посетили: военный губернатор Манакин, инспектор народных училищ Пеляничкин, начальница Алексеевской женской гимназии А. Г. Кравцова, полицмейстер подполковник Лединг, городской голова Маргаритов, Совет Старшин и члены Собрания приказчиков во главе с председателем Совета В. О. Жариковым, ученики школы с родителями и посторонняя публика.
…После молебствия взрослым было подано шампанское…
По окончании торжества была снята группа из учеников и гостей (имеется в виду фотографирование).
Школа помещается в нижнем этаже здания, где была биллиардная, состоит из 2-х комнат: классной и детского сада. В первой кроме портрета Его Величества стоит бюст Императора Александра III, украшенный гирляндами из живых цветов.
Школа здесь помещается временно; по мере накопления средств будет построено отдельное здание на отведенном городом участке».
Буквально через два года после открытия здания Собрания приказчиков ночью 22 августа в театральном зале обвалился потолок. Осматривавшим городским архитектором установлено, что обвал произошел вследствие неумелого устройства придерживающих штукатурку решеток из драни, вследствие чего можно ожидать падения штукатурки и в остальных помещениях собрания.
Для предупреждения обвала предложено принять меры, без чего помещение Собрания надо считать небезопасным, а потому и недопустимым.
Летом 1913 г. при школе приказчичьего собрания открылись курсы «Эсперо»; в члены записалось 56 чел. и учащихся более 120 чел. Все бывшие в запасе учебники эсперанто были раскуплены нарасхват, и в них оказался недостаток; представителю Общества пришлось телеграммой затребовать новый запас учебников.
А осенью 1913 г. в помещении Пушкинского театра состоялась лекция президента местного общества эсперантистов и делегата Всемирной эсперанто ассоциации А. Д. Пагирёва на тему: «Международный язык “Эсперанто”, его возникновение, состав, строй, значение и распространение». После лекции демонстрировались эсперантистские граммофонные пластинки и запись желающих в члены общества «Эсперо» и на курсы языка. Зал был украшен эсперантскими флагами.
Нередко на сцене Пушкинского театра выступал военный оркестр под управлением И. Г. Щербинского, которому композитор М. А. Кюсс посвятил одно из своих произведений. Жителям Владивостока М. А. Кюсс известен как автор любимого многими вальса «Амурские волны».
В годы Первой мировой и Гражданской войн в Пушкинском театре выступали иностранцы.
В 1915 г. проездом через г. Владивосток обратно в Японию знаменитой японской труппой драматических артистов при участии известной японской артистки Сумако Мацуй был дан «только один спектакль:
1. «Издевательство», комедия.
2. Песнь о Катюше Масловой.
3. «Бритва», драма в 1 действии».
Вот так писал об этом один из журналистов:
«Третьего дня Пушкинский театр представлял необычную картину: уголок Японии. Русской публики было очень мало, зато японцы заполнили весь зрительный зал: смокинги, пиджаки и рядом кимоно. Японская колония пришла посмотреть своих артистов. Дала один спектакль японская труппа господина Хогецу Симамару, возвращающаяся в Японию после гастролей по Дальнему Востоку.
Я смотрел спектакль и должен сказать, что редко выходил из театра под таким впечатлением, как в этот раз. Правда, некоторую роль сыграли новизна зрелища и своеобразный фон всего спектакля. Но главное лежит в исполнении.
Трупа подобрана превосходно, и пьесы, даже при незнании языка, смотрятся с напряженным интересом.
Первой шла одноактная драма японского драматурга господина Накамура “Бритва”. Я не понимаю по-японски, и поэтому пользовался любезным пояснением господина секретаря японского консульства. Пьеса из современной жизни… написана в мягких полутонах, и только в последней сцене (убийство) автор резко переходит к так называемой “раздирающей” мелодраме…
Премьерша труппы госпожа Сумока Мацуй дает фейерверк тонких интонаций и движений…
Также хорошо прошла другая пьеса, так сказать, комедия нравов “Издевательство”, написанная тоже господином Накамура…
Японцы горячо принимали своих артистов».
Весной 1918 г. в зале Пушкинского театра состоялся Вечер тяжелой атлетики, в котором приняли участие чемпионы Чехии. В программе: выжимание тяжестей с пола и с плеч, балансирование тяжестей, винтовое выжимание, упражнение с тяжестями на козлах, выжимание простого и двойного живого веса, французская борьба и прочее.
А летом этого же года был дан только один большой концерт Линкэ, военнопленного, бывшего профессора венской консерватории (рояль). Это был вечер собственных произведений.
Тогда же состоялся концерт симфонического оркестра чехословаков, в программе которого звучали произведения Шопена, Листа, Бетховена, Рахманинова, романсы, характерные и классические танцы, шуточно-детские песни Вертинского.
Однако интервенция в Приморье продолжалась, и вот что мы читаем в газете «Далекая окраина» за 4 ноября 1918 г.:
«К реквизиции Пушкинского театра
Резолюция протеста, принятая на чрезвычайном общем собрании членов Владивостокского торгово-промышленного собрания 1 ноября 1918 г. большинством всех, против 5. Все союзные командования, входя в Россию, заверяли перед лицом всего мира о полном невмешательстве во внутренние русские дела. На самом же деле мы видим совершенно обратное явление: на каждом шагу попираются интересы русских граждан, а именно: союзники, с одной стороны, строят театры, клубы и собрания для своих солдат, а с другой – захватывают помещение культурно-просветительного общества, просуществовавшего во Владивостоке более 30 лет. Торгово-промышленное собрание имеет лучшие в городе: библиотеку, школу, курсы, театр и расходуют почти все свои доходы на дела просвещения и благотворительности. Казалось бы, что такое Общество имеет право на неприкосновенность, а между тем наши союзники, в лице канадского командования, захватили помещение Общества и тем лишили его членов и их семейства в количестве 700 человек и весь торгово-промышленный класс возможности продолжать свою культурно-просветительскую и общественную деятельность.
Общее собрание членов Общества, в виде наличия в городе многих свободных помещений, протестует против захвата помещения Общества и поручает избранной делегации обратить внимание Канадского командования на недопустимость реквизиции и настаивает на освобождении занятого помещения. Поручить той же делегации просить содействия у Биржевого Комитета, у Комитета торговли и промышленности и у Союзов: Торгово-промышленного, Учительского и Тружеников сцены.
Подписали делегаты торгово-промышленного собрания».
Но в городе были уже другие хозяева, на резолюцию никто не обратил внимания, и место канадцев в Пушкинском театре заняли французы. Газета «Дальневосточное обозрение» писала 16 декабря 1919 г.:
«14 декабря в 6 ч. утра в Пушкинском театре, занятом французским командованием, в кухне вспыхнул пожар по неизвестной причине. Огонь был потушен прибывшей пожарной командой. Убыток выясняется».
Но этот «убыток» пришлось восполнять спустя 80 лет, при реставрации Пушкинского театра в 1999 г.
Новое Собрание приказчиков, построенное во Владивостоке в 1908 г., стали называть Пушкинским театром в 1909 г., после очередной круглой даты – 110-летия со дня рождения поэта. Но и после этого еще несколько лет в местной прессе журналисты называли его то театром, то собранием.
Несколько интересных случаев из жизни Пушкинского театра того времени можно узнать из газет «Далекая окраина», «Текущий день» и других.
Так, в конце декабря 1908 г. и начале января 1909 г. в Собрании приказчиков устраивались новогодние праздники для детей.
«Елка в Собрании Приказчиков была устроена для бедных детей не учащихся и для учащихся 1 и 2 элементарных школ, на этой елке было роздано 550 подарков.
Елка эта отличалась особенным оживлением: прекрасное помещение способствовало тому, что такая масса детей совершенно свободно танцевала, играла и любовалась елкой. На сцене наиболее способные декламировали стихи, разыгрывали сценки и устраивали живые картинки. Везде царило веселье и оживление; в зале детишки танцевали, в столовой дамы Комитета угощали детей чаем с бутербродами, в фойе дети получали подарки. Беднейшие – получали бумазею на платье и костюмы, теплые платки и ботинки; более зажиточные – книги; и все без исключения – по мешку сластей и украшения с елки».
Не обошлось и без трагических случаев. Как сообщали газеты:
«В Пушкинском Собрании елка, устроенная 28 декабря 1909 г., закончилась катастрофой. Мальчик-швейцар Собрания Василий Федоров, нарядившись елочным дедом в ватный костюм, густо обсыпанный бертолетовой солью, принял непосредственное участие в танцах вместе со всеми. Народу на елку набралось много и в зале было тесно. Несмотря на это, кому-то из распорядителей пришла в голову нелепая мысль раздавать гостям комнатный бенгальский огонь. Через минуту искра, попав на костюм елочного деда, моментально превратила его в пылающий костер. Началась паника. Часть публики бросилась бежать в разные стороны.
К счастью, не все растерялись. Дверь, ведущую в сторону буфета, загородил какой-то мужчина и никому не позволял пройти. Как известно, к этой двери примыкает небольшая лестница, и на ней остался бы, по всей вероятности, не один детский труп.
Между тем в зале огонь с несчастного В. Федорова перешел еще на одного костюмированного ребенка и даму. Их скоро удалось отстоять от опасности, но В. Федорова огонь охватил всего. И благодаря лишь тому, что один из гостей, служащий фирмы “Чурин и Ко” П. Силаков, бросившись на горевшего мальчика, повалил его на пол и погасил огонь собственным телом.
В. Федоров и его спаситель П. Силаков оба получили сильные ожоги. Положение В. Федорова очень тяжелое, он находится в городской больнице».
В январе 1909 г. газеты беспокоились о нравах в Собрании приказчиков:
«Публика здесь какая-то особенная. Несмотря на извещение о том, что начало спектакля в 8 ч. вечера, публика собирается к 9 ч., а то и позже. К третьему звонку обыкновенно из зрителей никого нет на местах. Начинают собираться в зал только после поднятия занавеса, т. е. пол-акта проходит в толкотне и суматохе. Артистов почти совсем не слышно. Господа члены и постоянные гости, занимавшие “свободные места”, нередко гоняются с места на место имеющими подлежащие билеты на определенное место.
В антрактах, для препровождения времени, публика упражняется игрой в лото. Места здесь берутся с бою: добрая половина играющих, не исключая и дам, держа карты в руках, стоя ожидают свое счастье. Нередко, за недостатком места в комнатке, можно видеть игроков с картами в руках, прислонившимися к косякам и к стене коридора, напряженно слушающих выкрикивание номеров. В комнате для игры в лото накурено и душно. Не лучше ли было отвести для игры, если это так необходимо для посетителей Приказчичьего Собрания, – почти всегда пустующую комнату – залу, в которой в настоящее время стоят три испорченных автомата для сластей и открыток.
Дамы жалуются, что во время посещения дамской уборной горничная, забравшись с ногами на диван, преспокойно продолжает спать, не обращая внимания на посетительниц, и в виде большого одолжения принимает верхнее платье на хранение. Было бы желательно, хотя бы только в дамской уборной, иметь более вежливую прислугу, и для отличия от посетительниц театра не мешало бы горничных снабдить передниками и вменять им в обязанность не валяться на диванах и не пользоваться косметикой, если только последняя назначена исключительно для публики.
Предусмотрительные хозяева Собрания вывесили на всех стенах надписи: “просят окурков не бросать и на пол не плевать”, но публика на это не обращает никакого внимания».
Об этих же проблемах журналисты напоминали в марте 1909 г.:
«Я хочу сказать о местном Приказчичьем Собрании. В этом милом обществе честных тружеников с очень недавнего времени прочно установило свое право существования одно явление. Местом функции, так сказать, этого явления служит хотя и небольшая комната Собрания, но, к слову сказать, годная все-таки под библиотеку, приютившуюся где-то в конце коридора. На одной из половинок дверей этой комнаты висит плакат и скромно гласит: “Игра в лото”.
Вы входите и, прежде всего, видите столик с громадным шаром, похожим на глобус, по которому изучают обширную планету Земля наши школьники. На нем явственно изображены меридианы и параллели. Вы всматриваетесь, но… вместо очертаний материков видите массу шариков с цифрами. Это лоточная урна.
За нею помещается почтенный блондин в сюртуке. Он рассеян и на лице его заметна скука. За длинными столами уже расположились несколько игроков. Они, не стесняясь, громко зевают и ждут.
Но вот слышны хлопки, шум: раскрываются двери зрительного зала, и толпа, толкая друг друга, направляется играть.
Мне приходилось бывать в различного рода бойких местах, где жизнь бьет ключом. Но никогда, нигде и ничего подобного я не встречал. Столпотворение вавилонское, сказал бы я, но ведь там друг друга не понимали, здесь слишком хорошо понимают:
– Ну что, Петя, вчера взял? – слышу я за собой голос.
– Кой черт, продулся!
– И много?
– Да рублей около двадцати.
– О-го-го!
Я оборачиваюсь, толкаю какую-то худосочную девицу и вижу перед собой говорившего, по лицу коммерсанта, по костюму чиновника.
– Голубчик! – толкает меня в бок, не стесняясь, дама бальзаковского возраста, – возьмите мне, пожалуйста, карточку! – и чуть не вырывает ее из рук разносившего карточки служителя.
– А я вчера выиграл 70 рублей, – слышу я в гуле голосов чей-то старческий голос.
– Ну?! Скажите, черт возьми, как вам везет…
В комнате становится душно от табачного дыма и дыхания не менее 120 человек. Я с трудом протискиваюсь, пуская в ход локти, и ухожу. А за мной слышится монотонный голос блондина и шорох поворачиваемых шаров. 16… 38… 72…
Что же это такое? – задаю я себе вопрос. Игра, азартная игра или время провождения? У меня перед глазами начинают прыгать цифры и полускромные, полуприличные и далеко не богатые костюмы игроков.
А лица? Да разве же это лица святых людей, думаю я, незнающих как убить свободное от безделья время. Нет. Это лица тружеников, т. н. среднего класса людей. Эти бальзаковские дамы и тощие девицы, жены чиновников и служащих, получающих гроши и ютящихся в Корейских и Матросских слободках. Влечет их сюда не для время провождения, а страсть и азарт. Надежда шутя воспользоваться чужими деньгами. Не они, а их дети и близкие, в течение, быть может, целого месяца, почувствуют на себе расходившиеся страсти игроков.
Тогда неужели же нельзя убить это зло, или по крайней мере побороться с ним? Но кому бороться? Обществу? Так большинство этого Общества заинтересовано само. Администрации? И то нет! Лото не принадлежит к азартным играм.
Тогда кого касается это, далеко уже пустившее корни, зло?..»
Видимо, по этой причине в 1909 г. комендант города запретил офицерам, врачам и чиновникам Военного и Морского ведомств оставаться в Приказчичьем Собрании после спектаклей, посещать маскарады, карточные комнаты и буфет.
С легкой руки конферансье, ведущих концерты в Пушкинском театре, появилась легенда о том, что на сцене Пушкинского театра танцевала Айседора Дункан, американская балерина, создавшая новый стиль в танце.
Позже стали говорить о том, что в Пушкинском театре выступала не Айседора, а ее приемная дочь и ученица Ирма, которую тоже называли «босоножкой» за то, что она, как и Айседора, танцевала без обуви.
Некоторые «знатоки» утверждали, что вообще дальше Красноярска Айседора Дункан не заезжала, не объясняя, а что же она делала в этом самом Красноярске?
Шло время. Удалось установить, что во Владивостоке действительно выступала Ирма Дункан. Об этом свидетельствуют публикации в газете «Красное Знамя» за сентябрь 1926 г.:
«Только три гастроли знаменитой танцовщицы Ирмы Дункан при участии 15 студиек Московской государственной студии Айседоры Дункан.
В программе вечеров: Шуберт, Штраус, Бетховен, Брамс, Моцарт и другие.
Танцы революции: Ирландская революция, Французская революция. Иллюстрация в движении женщин русской революции».
Известно, что после трагической гибели Айседоры Дункан в 1927 г. Ирма возглавила Школу ее имени, но в 1929 г. выехала в Америку. Школа была преобразована в «Концертную студию Дункан», которую возглавила ученица великой танцовщицы М. Борисова. «Студия» просуществовала до 1949 г. и была расформирована в эпоху «борьбы с низкопоклонством перед Западом». Попытки возродить ее в начале 60-х гг. не увенчались успехом.
Ирма открыла несколько балетных школ в Европе и Америке, но самой успешной была школа в России.
Совсем недавно нашлись свидетельства пребывания во Владивостоке и выступления на сцене Пушкинского театра Айседоры Дункан. Газета «Далекая окраина» за 29 октября 1909 г. сообщала:
«2 ноября в зале Пушкинского театра состоится прощальная гастроль перед отъездом в Америку польского литератора-юмориста, артиста Варшавских Правительственных театров г. И. Якса-Хамец, при участии местных сил.
Кабаре в Париже пользуется огромным успехом. Парижское кабаре – это живое дополнение больших газет, живая сатира на парижскую жизнь!
Здесь, по цензурным условиям, кабаре не может идти в сравнении с парижскими, но вечера заехавшего к нам артиста проходят весело, так умеет он вносить в них много интересного и остроумного, реагируя на российские “злобы”.
Программу заполняют две кабаретные пьесы, собственные исполнителя, и ряд монологов, травестации, куплетов и трансформации, а также соло на виолончели и флейте.
Гвоздем вечера является танец реформаторши танца, босоногой Айседоры Дункан и демонстрация местного миниатюрного аэроплана “Победа”».
Айседора Дункан, по другим данным, Дезидора или Исидора Данкан (годы жизни 1877–1927 гг., урожденная Дора Анджела Дункан) – американская танцовщица – основоположница «свободного» танца – предтечи танца модерн. В начале XX века этот танец считался танцем будущего. Она использовала древнегреческую пластику, хитон вместо балетного костюма, танцевала без обуви.
Дункан несколько раз навещала Россию в начале XX века, а в 1921–1924 гг. уже жила в России как жена Сергея Есенина. Организовала студию в Москве, просуществовавшую до 1949 года. Приняла российское гражданство, в 1924 г. вернулась в Америку, оставив школу на попечение своей приемной дочери Ирмы Дункан.
Воспитанницы Дункан выступали под мелодии революционных песен и пользовались большим успехом у тогдашнего советского зрителя.
Женщина трагической судьбы: в 1913 г. двое ее детей утонули вместе с няней, сама Дункан погибла в Ницце, задушенная собственным шарфом, намотавшимся на колесо кабриолета – открытого автомобиля, в котором она ехала. Ее последними словами были: «Прощайте, друзья! Я иду к славе».
Она танцевала так, как придумала сама – босой, без лифа и трико.
Не заключая официальных браков, Дункан воспитывала и своих, и удочеренных ею детей.
В России были изданы две ее книги «Танец будущего» (1907 г.) и «Моя жизнь» (1930 г.).
На сцене Пушкинского театра выступали и другие балерины-босоножки.
В январе 1910 г. газеты Владивостока восторженно отзывались о творчестве известной танцовщицы Артемис Колонна:
«Оперетта “Птички певчие” с танцами Артемис Колонны в антрактах собрали большое количество публики.
Артемис Колонна, как и Айседора Дункан, представительница нового направления в области танцев.
Пластическими, легкими движениями и выразительной мимикой она передает то или иное настроение – любовь и печаль, отчаяние и чувственность, страх и недоумение перед смертью – “Похоронный марш” Шопена и т. д.
Она рассказывает целые поэмы. В ритме движения иллюстрирует музыкальные произведения. Этот род искусства своеобразен и имеет очень мало общего с казенным шаблоном современного балета, уже несколько десятков лет застывшего в своих традиционных балетных тапочках, со своими трудностями, классическими, но безжизненными и скучными “па”.
От новых танцев веет простой, свободной и языческой красотой Древней Греции, полунагой, но целомудренной.
Танцы Артемис Колонны – это музыка для глаз. Особенно сильное впечатление производит она на людей с музыкальным чутьем и развитым чувством ритма».
Перелистывая подшивки старых газет, выходивших во Владивостоке в разное время, Евгений Петрович с удивлением узнал, что в 1913 г. Пушкинский театр готовился к гастролям Ф. И. Шаляпина, который планировал проехать в поезде от Москвы до Владивостока с концертами в каждом крупном городе Сибири. Однако вояж не состоялся в связи с болезнью певца.
Тем не менее в музее технического университета экспонировался ни много ни мало, а граммофон, принадлежавший Федору Ивановичу Шаляпину, и несколько десятков почтовых открыток с автографами великого певца. Почтовые открытки Евгений Петрович собирал от случая к случаю, в основном в периоды московских командировок. А вот с «Шаляпинским» граммофоном случилась такая история.
Однажды в ветреную, снежную, почти буранную погоду, когда он пробивался сквозь сугробы в Покровском парке, его кто-то окликнул:
– Евгений Петрович! Подождите…
Он остановился, с ним поравнялся пожилой, крепкого телосложения мужчина, который, казалось бы, просто не замечал пронизывающего насквозь ветра. Он еще раз обратился к нему по имени-отчеству и попросил уделить минуту внимания.
– Я давно присматриваюсь к вам, – проговорил он, – и хотел бы сделать небольшой подарок для вашего музея. За символическую плату, естественно.
Они разговорились. Оказалось, что собеседник во время Отечественной войны плавал или, как говорят моряки, «ходил» на транспортных судах, перевозивших грузы из Америки во Владивосток по ленд-лизу.
В одном из рейсов он познакомился с русским эмигрантом, который оказался дальним родственником известнейшего русского певца-баса Федора Ивановича Шаляпина. Они подружились, и хотя в то время зарубежное знакомство могло завершиться для советского моряка довольно плачевно, встречались, когда пароход заходил в американский порт за очередной партией груза. И вот однажды знакомый эмигрант подарил ему граммофон, который когда-то принадлежал Шаляпину. Этот граммофон моряк и собирался передать музею. Евгений Петрович было засомневался в правдивости его рассказа, но он предложил встретиться у него дома через неделю и обещал представить доказательства.
По дороге домой Евгений Петрович вспомнил годы своего становления как инженера на Сосновском судостроительном заводе. Тогда ему часто приходилось бывать в Казани по разным служебным делам. Кстати, и кандидатский экзамен по иностранному языку довелось сдавать в Казанском университете, в аудитории, в которой, как ему доверительно шепнули, учился В. И. Ленин. Он вспомнил дом из красного кирпича, расположенный в центре Казани недалеко от гостиницы, в которой останавливался во время командировок. На стене этого дома была сделана надпись:
– Здесь жили Федор Шаляпин и Максим Горький.
Причем надпись была сделана не на табличке, а крупными буквами прямо на одной из стен. Евгений Петрович вспомнил ходившую в то время легенду о том, что в Казанскую консерваторию приняли М. Горького, а Ф. Шаляпину отказали. Как-то совсем недавно, находясь в командировке в Москве, он спросил у ректора Казанского технического авиационного университета об этой надписи. Геннадий Лукич пожал плечами:
– По-моему, не только этой надписи, но и этого дома уже нет. Сломали…
Как-то Евгений Петрович приобрел по случаю прекрасно изданную в наше время книгу самого Ф. И. Шаляпина «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах». Впервые эта книга увидела свет в 1932 г. в Париже. К своему великому удивлению он обнаружил в ней подтверждение легенды о том, что Шаляпин и Горький вместе поступали, правда, не в консерваторию, а в оперный театр. Вот так об этом пишет Шаляпин в своей книге:
«Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он – нижегородского, я – казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра, и одновременно держали пробу на хористов: Горький был принят, а я – отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись…»
С Валентином, так звали хозяина «Шаляпинского» граммофона, они встретились в назначенное время. Евгению Петровичу с трудом удалось отыскать его дом. Лифт не работал, что стало типичным для Владивостока. Пришлось карабкаться на девятый этаж, а потом ждать у запертой двери. Валентин не слышал звонка в дверь, так как разговаривал в это время по телефону. Наконец они оказались в двухкомнатной квартирке, заставленной вещами и поделками хозяина. У Валентина умелые руки, и потому по всей комнате были расставлены и развешаны изделия из кости, красного дерева, цветного металла. Наверное, благодаря его «золотым» рукам и сохранился «Шаляпинский» граммофон почти в первозданном виде. Они прослушали несколько пластинок, а потом была целая операция по транспортировке раритета по узким и крутым лестницам. Хорошо еще, что вниз спускались.
Граммофон занял свое место в музее. Вообще-то Евгений Петрович представлял себе, что каждый граммофон обязательно должен иметь какой-то раструб, однако этот представлял собой высокую тумбочку, в верхней части которой располагалось патефонное устройство. Ниже, затянутое тканью пространство занимала звуковая часть, чем-то напоминающая радиоприемники и радиолы 60-х гг., а еще ниже был встроен шкафчик для грампластинок. Валентин взял с Евгения Петровича клятвенное обязательство нигде не упоминать о том, кому принадлежал раньше «Шаляпинский» граммофон.
Евгений Петрович вспомнил о Харбине. В центре города на одной из его площадей стоит православная церковь Св. Софии. Предприимчивые китайцы в начале 90-х гг. отреставрировали фасад и сделали из церкви музей. В первые дни после его открытия Евгений Петрович тоже побывал там и с интересом посмотрел стенды, вывешенные на стенах и рассказывающие об истории города. Харбин был частью КВЖД, и русское влияние не только на его архитектуру, но и на культуру сказывалось очень сильно. Евгения Петровича заинтересовал один из стендов, посвященный Федору Шаляпину, который, как оказалось, давал гастроли и в этом северном китайском городе.
Через несколько лет Евгений Петрович совершил повторную экскурсию в церковь-музей. Площадь стала еще более благоустроенной, подсветка и иллюминация в вечернее время выполнены так, как это умеют делать только китайцы, на газонах – композиции из живых цветов, высаженных в специальные горшочки. Но стенд с информацией о Шаляпине исчез, зато в подвальном помещении церкви появился новый музей, где в крупномасштабном исполнении на искусно выполненном макете раскинулся современный Харбин, а изображения церкви Св. Софии на буклетах, открытках, фарфоровых и металлических тарелках предлагались на каждом углу многочисленным туристам.
Кстати сказать, свидетельства русского присутствия в Харбине со временем исчезают словно карандашный набросок с листа бумаги, стираемый чьей-то невидимой рукой.
После реконструкции Пушкинского театра Евгений Петрович столкнулся с проблемой, где «достать» музыкальные инструменты? Именно «достать», ибо на покупку новых инструментов средств не было – зарплату бы вовремя выдать.
Как часто в таких ситуациях происходит, на помощь пришел его величество Случай.
Пушкинский театр с первых дней своего возрождения стал, как магнит, притягивать к себе людей творческих, ищущих, талантливых. Среди этих почитателей искусства были (и есть) не только музыканты, литераторы, художники, артисты, но и люди, чей талант – просто поклоняться любому виду искусства – заслуживает высшей похвалы. Как правило, это бескорыстные, с чистой душой и помыслами люди. Евгений Петрович иногда вспоминал стихи Александра Дементьева:
Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы!Главный смысл этих стихов в том, что все шедевры создаются для зрителей, слушателей, читателей и почитателей.
К ним можно отнести и Ольгу Анисимову, долгое время работавшую в Доме культуры моряков (так назывался одно время Пушкинский театр). Она-то и предложила заново рожденному театру комнатный рояль, который спасла от уничтожения два десятка лет тому назад.
Естественно, реставрация этого древнего инструмента стоила значительных денег и времени. Но помогли, как всегда, выпускники вуза, не потерявшие и в перестроечные времена чувств благодарности к родному вузу.
И вот белый рояль занял свое место в театре, в зале Пушкинского историко-литературного музея им. А. В. Бутырина. Но стоит он там не только как экспонат. В его сопровождении проходили и проходят многие поэтические вечера и творческие встречи.
Рояль этот был изготовлен на паровой фабрике пианино в г. Санкт-Петербурге еще в XIX веке. Каким образом он попал во Владивосток и кому первоначально принадлежал, узнать, вероятно, не удастся.
Как и все исторические романы, написанные В. С. Пикулем, книга «Крейсера» не только документальна, но и почти не имеет вымышленных героев: подавляющее большинство их – реально существовавшие люди. Поэтому высказывания Пикуля о Восточном институте, рассказ о мичмане Сергее Панафидине с крейсера «Богатырь», который носился со своей виолончелью по всему г. Владивостоку, не зная, куда ее пристроить, зарисовки о культурной жизни Владивостока в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. – все в романе реально и подтверждено документами. Например, крейсер «Богатырь» сел на камни вблизи Владивостока во время одного из боевых выходов легендарного отряда владивостокских крейсеров. А недавно Евгению Петровичу в руки попала старая открытка с изображением этой аварии. Сравнив открытку с фотографией из «волшебного» сундучка капитана Мешкова, Евгений Петрович обнаружил полную идентичность изображенных на них скалах. Это совпадение убеждает в том, что после прочтения романа «Крейсера» с большой долей вероятности можно утверждать, что белый рояль, украшающий сейчас музейный зал Пушкинского театра, стоял в 1904–1905 гг. в одном из домов на улице Алеутской, а конкретно – в доме доктора Парчевского.
Уже в наши дни коллектив Академического театра им. М. Горького под руководством народного артиста Ефима Звеняцкого взялся за постановку спектакля по книге В. Пикуля «Крейсера». Евгения Петровича пригласили выступить в качестве военного консультанта. Он с удовольствием согласился. Спектакль до настоящего времени пользуется огромным успехом. В кассах аншлаг. И не только во Владивостоке, но и в Москве, куда театр выезжал на гастроли.
Второй рояль, установленный на главной сцене Пушкинского театра, не связан с событиями Русско-японской войны 1904–1905 гг. Да и возраст его не позволяет даже намекать на какую-либо связь с историей начала XX века: рояль изготовлен в Германии в 1934 г. на фирме «Блютнер».
И тем не менее этот музыкальный инструмент напрямую связан с событиями другой войны – Второй мировой, которая закончилась, как известно, атомной трагедией Хиросимы и Нагасаки и поражением Японии после вступления в войну СССР.
В свое время рояль стоял в фешенебельном салоне «Ганзы» – крупнейшего пассажирского парохода гитлеровского рейха. По слухам, на этом лайнере часто бывал Адольф Гитлер и – то ли сам играл (во что с трудом верится), то ли наслаждался игрой лучших исполнителей Германии на этом рояле.
В 1945 г. пароход «Ганза» во время эвакуации гитлеровцев из Восточной Пруссии подорвался на мине и затонул на 20-метровой глубине в 9 милях от берега.
В 1949 г. судно было поднято в качестве трофея Советского Союза. Пароход отремонтировали, модернизировали, заменили паровую силовую установку, удлинили корпус на 20 метров и назвали преображенный турбоход «Советским Союзом». Отправили его на Дальний Восток, где этот лайнер вошел в реестр судов Дальневосточного морского пароходства. Долгие десятилетия «Советский Союз» стоял на линии Владивосток – Петропавловск-Камчатский, перевозя не только гражданских пассажиров, но и тысячи призванных на военную службу и уволенных в запас военнослужащих срочной службы. В 80-х гг. XX века, когда из-за резкого падения рентабельности морских пассажирских перевозок перед руководством Дальневосточного пароходства встала задача решительного сокращения плановых убытков предприятия, судьба турбохода «Советский Союз» была решена. Сыграл в этом свою роль и возрастной фактор. Белоснежный океанский лайнер был переименован в «Тобольск» и продан на металлолом.
Ходят слухи, что кто-то когда-то видел этот лайнер в качестве то ли казино, то ли плавучей гостиницы…
А любимый Гитлером рояль оказался в пригороде Владивостока, в Доме отдыха моряков. Там инструмент и был обнаружен первым директором Пушкинского театра Косяковым. Он-то и предложил приобрести эти «музыкальные дрова».
Приобрели. Отреставрировали. Восстановили. Настроили. И вот когда на своем первом концерте в Пушкинском театре зазвучал этот музыкальный инструмент, Евгений Петрович вспомнил…
В начале шестидесятых годов XX века, когда по воле Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева тысячам первокурсников пришлось делить свой день между работой на предприятиях и вечерней учебой в институтских аудиториях, Евгений Петрович работал судосборщиком (по профилю избранного факультета) на Дальзаводе. И вот как-то поставили в док на ремонт белокорпусный «Советский Союз». Бригадир прихватил Евгения, и они взошли на борт красавца теплохода для выполнения каких-то корпусных работ в одном из залов-салонов этого лайнера.
Войдя в помещение, Евгений обомлел, увидев роскошь и объемность громадного пространства холла: высокие и широкие трапы, укрытые не менее широкими ковровыми дорожками, изящные столики и стулья, великолепные картины на переборках, и где-то в далекой дали этой роскоши на небольшом возвышении стоял элегантный темно-вишневый рояль.
Тот самый рояль, который через сорок лет будет найден на пригородных задворках Владивостока и, отреставрированный, украсит сцену Пушкинского театра.
Университет часто посещают иностранные гости. Бывают они не только в учебных аудиториях, но и на концертах в Пушкинском театре.
Узнав историю вишневого рояля, многие из них предлагают за этот инструмент немалые деньги, желая приобрести уникальную реликвию в собственность.
По роду своей деятельности Евгений Петрович написал сотни статей, десятки монографий и учебников, авторских свидетельств и патентов на изобретения. За заслуги в изобретательстве был даже удостоен «Нобелевской медали» Российской академии естественных наук.
Не менее значимыми оказались его находки и в исторической области.
Помимо редких почтовых открыток, давно канувших в Лету времени, ему удалось разыскать письмо-завещание ученого-путешественника с мировым именем В. К. Арсеньева, фотографию первого ректора Высшего Владивостокского политехникума В. М. Мендрина, фотографию ректора политехнического института М. Озерова, подозреваемого в связях с фашистами, неизвестную фотографию А. Колчака, лейтенантом служившего на крейсерах «Память Азова» и «Рюрик» во время вояжа цесаревича Николая в конце XIX в., и многое другое.
В свое время Евгению Петровичу посчастливилось приобрести в одном из московских антикварных магазинов два старинных фотоальбома в лакированных японских обложках с инкрустациями из перламутра. В альбомах этих были редкие фотографии, снабженные аккуратными надписями.
На одной из групповых фотографий – мичман А. В. Колчак собственной персоной.
После службы на «Рюрике» мичман А. В. Колчак переводится на клипер «Крейсер». Наблюдения по гидрологии во время плавания на этом корабле легли в основу первого научного труда, опубликованного в Санкт-Петербурге. За три года пребывания во Владивостоке мичман А. В. Колчак большую часть времени проводил в плаваниях. Но увольняясь на берег, он не забывал посещать Географическое общество, участвовал в открытии памятников адмиралу Невельскому и шхуне «Крейсерок».
Весной 1904 года Колчак снова во Владивостоке – проездом в Порт-Артур к новому месту службы во время Русско-японской войны.
В начале 1910 г. Колчак возглавил полярную экспедицию из двух судов ледового плавания – «Таймыр» и «Вайгач», и в июле этого же года снова сошел на берег бухты Золотой Рог. Он пробыл во Владивостоке до середины августа и, наверное, не один раз посещал Пушкинский театр.
В последний раз Колчак прибыл во Владивосток из Японии осенью 1918 г. вместе с Анной Тимиревой. Здесь же, во Владивостоке, в местной консистории были оформлены документы о разводе Анны с ее мужем – героем Русско-японской войны контр-адмиралом и другом Колчака С. Тимиревым. С этого времени А. Тимирева считалась гражданской женой Колчака, хотя официально его брак с женой Софьей не был расторгнут. Поначалу Колчак и Анна Тимирева жили в разных гостиницах – Александр Васильевич в «Золотом Роге», а Анна – в «Версале», и нередко появлялись на публике и в Пушкинском театре.
Несколько лет назад Евгения Петровича включили в комиссию по комплексной проверке Томского политехнического университета. Дело было в конце декабря. Прямого авиарейса из Владивостока до Томска не было, и ему пришлось лететь до Новосибирска, где его ожидал автомобиль, на котором он и должен был добраться до Томска.
Работа комиссии продолжалась несколько дней, закончилась положительной оценкой деятельности университета, и в ночь с 30 на 31 декабря Евгений Петрович должен был выехать опять же на автомобиле до Новосибирска, чтобы успеть на самолет до Владивостока. Новый год он все-таки рассчитывал встретить в кругу семьи.
Выехали с водителем по имени Сергей при ясной луне и звездном небе. Евгений Петрович пошутил, что и его водителя во Владивостоке, и сына тоже зовут Сергей.
Где-то на полпути до места назначения их настигла пурга. Сначала повалил крупный снег, затем налетел ветер, вокруг автомобиля закрутилась такая круговерть, что казалось, будто снежинки не только падают на землю, но и взлетают к небу. Видимость настолько ухудшилась, что автомобильные фары пробивали темноту и снежную завесу всего на несколько метров.
Водитель свернул куда-то не туда и через некоторое время фары высветили торчащие из глубокого снега штакетины «редкозубого» забора.
Они с водителем посовещались и решили, несмотря на поздноту, постучаться в какой-нибудь первый дом, чтобы узнать, где же они находятся?
Придерживая дверцы автомобиля, которые ветер буквально вырывал из рук, они выбрались из автомобиля и, проваливаясь в сугробы чуть ли не по пояс, добрались до двери дома с закрытыми ставнями.
Удивительно, что сразу же после первого стука дверь отворилась и сухонькая седая старушка в наброшенной на плечи толстой шали пригласила их в дом.
Отряхнувшись в сенях от снега, они зашли в чистенькую горницу. Пахло хлебом, травами, медом и еще чем-то знакомым еще с детства. Раздевшись, они прошли по чистым домотканным половичкам и скрипучим половицам к стоявшему посреди комнаты круглому столу.
– Как же, бабушка, вы не побоялись дверь открыть незнакомым людям? – спросил Евгений Петрович, усаживаясь на добротно сработанную табуретку.
– А кого мне бояться? – пожала плечами хозяйка. – Да и не спится мне что-то. Мы гостям завсегда рады. Сейчас чайком вас угощу.
Несмотря на дружные заверения, что это ни к чему, хозяйка, которую звали Алевтина Марковна, сноровисто накрыла стол. Оказалось, что заехали они в какой то район соседней с Томской – Омской области.
Алевтина Марковна довольно толково объяснила, как доехать до главной дороги на Новосибирск.
В комнате было тепло, уютно… На огромном деревянном сундуке мурлыкал черный котище, с белым галстуком и белым кончиком хвоста. Иногда он осматривал их пронзительными зелеными глазами, а затем прикрывал их, притворяясь, будто спит.
Евгений Петрович все это время не отводил глаз от деревянной шкатулки, в которой хозяйка подала чай, чтобы они заварили его по своему вкусу.
На шкатулке были изображены корабли Тихоокеанской эскадры периода Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Евгений Петрович обратился к Алевтине Марковне:
– Извините, а вы не скажете, откуда у вас эта шкатулка, если не секрет, конечно?
– Да какой там секрет! – махнула она рукой. – От сродственника досталась, ныне уже можно говорить – в услужении у Колчака был.
Евгений Петрович подумал, как можно было предложить ей продать эту шкатулку, и считал в уме – хватит ли оставшихся от командировки денег.
Испросив у хозяйки разрешения, он взял шкатулку в руки и пристально стал рассматривать ее.
Алевтина Марковна взглянула на него с лукавинкой и вдруг спросила:
– Понравилась вещица-то?
– Еще бы! – ответил он и только собрался с духом, чтобы задать вопрос о покупке, как Алевтина Марковна предложила:
– А возьми-ка ты эту шкатулку на память, мил-человек. Ты ведь, чай, на море служишь-то? – полувопросительно – полуутвердительно продолжила она.
– А вы-то откуда знаете, – буквально задохнулся он от неожиданности.
– Бери, бери, много чего я про тебя-то знаю, – ответила хозяйка. – Вот только чай пересыплю в другую посудину.
От денег она категорически отказалась, отдариться было нечем, но он все-таки оставил ей ручку в позолоченном корпусе.
Когда вышли на улицу, непогода так же быстро прекратилась, как и началась. Тепло попрощавшись с хозяйкой и убрав снег от машины, двинулись в путь. На рейс Евгений Петрович почти не опоздал, зарегистрировавшись одним из последних.
По возвращении во Владивосток сразу же после Нового года он написал Алевтине Марковне письмо, но ответа не получил.
А в самолете он не спал и долго рассматривал шкатулку. Изготовленная из липовых дощечек шкатулка для чая была изнутри покрашена краской серебристого цвета, а снаружи на крышке и боковых поверхностях выполнена художественная роспись, в цвете, с изображением кораблей Тихоокеанской эскадры и портретами адмирала С. О. Макарова и командиров этих кораблей. Портреты помещены в овальных «рамках», с нижней части обрамлены якорями, с верхней – подписями, а с боковых частей – знаменами; обрамление снизу заканчивали георгиевские ленты.
На крышке шкатулки изображен крейсер 1-го ранга «Варяг» с соответствующей надписью, в левом верхнем углу портрет капитана 1-го ранга Руднева, а в нижнем правом углу надпись – «В. Бонакер», Москва.
Уже во Владивостоке Евгений Петрович выяснил, что фирма «В. Бонакер» была в конце XIX – начале XX века наиболее известным в России акционерным обществом по изготовлению кондитерских упаковок.
На передней стороне шкатулки изображен пятитрубный крейсер 1-го ранга «Аскольд» и портрет адмирала С. О. Макарова, а на тыльной стороне помещены изображения канонерской лодки «Кореец» и портрет ее командира капитана 2-го ранга Беляева.
На левой боковой стороне изображен крейсер 2-го ранга «Новик» и портрет его командира капитана 2-го ранга фон Эссена, а на правой – броненосец «Цесаревич» и его командир капитан 1-го ранга Григорович.
Изображения кораблей на шкатулке срисованы с почтовых открыток, оригиналы которых есть и в коллекции Евгения Петровича.
Тот Новый год ему запомнился надолго. Иногда, когда он берет шкатулку в руки, ему вспоминается мудрый взгляд Алевтины Марковны, пожилой женщины из Сибири.
В часы редкого досуга Евгений Петрович любил рассматривать экспонаты своей коллекции. В этот раз он заострил внимание на старых открытках с портретами П. Нестерова и С. Уточкина.
Петр Нестеров служил во Владивостоке с 1906 по 1910 г. Да, это тот самый летчик, который выполнил знаменитую фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю», названную его именем. А «заболел небом» Петр Нестеров именно во Владивостоке, в который он попал из-за …любви.
Петр учился в Нижегородском кадетском корпусе, среди первых окончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге и при выпуске имел право выбрать столицу, но… он полюбил Надежду Галецкую. По существовавшим тогда негласным законам младший офицер не имел права жениться, не внеся залога в размере 5000 рублей. Однако это правило не распространялось на Сибирь и Дальний Восток. Так молодой поручик прибыл во Владивосток для прохождения службы в 9-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригаде.
Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. во Владивостоке появилась крепостная воздухоплавательная рота. Сначала этот воздухоплавательный парк, состоящий из нескольких воздушных шаров и аэростатов, располагался в Гнилом углу, а затем на Эгершельде. В то время это был закрытый район города, допуск в который осуществлялся по специальным пропускам.
Командир отряда воздухоплавателей инженер-капитан Федор Постников был инициатором изучения искусственного языка эсперанто во Владивостоке и первый из построенных аэростатов назвали «Эсперанто», что в переводе означает «надежда».
Один из полетов на воздушном шаре Федор Постников описывал так: «Я поднялся с транспорта “Колыма” в 10 часов 25 минут дня, имея на борту 8 мешков с песком – балластом. Через час с небольшим я поднялся на высоту 580 метров, пересек береговую черту около копей Кларксона (район Седанки). Шар стал медленно опускаться, и мне пришлось выбросить полмешка песку, что вызвало подъем шара на высоту 900 метров. Вот подо мной устье реки Суйфун. Видны фабричные трубы и лагерь какой-то кавалерийской части. Оказалось, это был лагерь конно-охотничьей команды штабс-капитана Арсеньева. Я написал ему записку и положил в мешок с остатками балласта. Потрубив в рожок с целью обратить на себя внимание, я бросил мешок вниз. Как я потом узнал, он упал неудачно, прямо в кустарник. Из-за того, что он был защитного цвета, солдаты не смогли отыскать его в зелени кустов…»
Петр Нестеров, познакомившись с офицерами-воздухоплавателями, подал командованию рапорт о переводе его к воздухоплавателям, который был удовлетворен в 1908 г.
В 1910 г. Владивосток принимал известного авиатора Сергея Уточкина, который демонстрировал летное мастерство на городском ипподроме. А чуть позже, в октябре 1910 г., П. Нестеров наблюдая за полетами одного из первых авиаторов России, твердо решает – летать.
В 1912 г. Петр Нестеров оканчивает Гатчинскую офицерскую воздухоплавательную школу, становится пилотом-авиатором, а уже в 1913 г. выполняет на самолете «Ньюпор» свою знаменитую «мертвую петлю», за что получает выговор от начальства. Повторивший эту фигуру французский летчик Адольф Пегу произвел в Европе сенсацию. Шустрые газетчики записывают Нестерова в последователи Пегу, но француз отказался от чужих лавров: 30 мая 1914 г. на лекции в Политехническом музее в Москве он заявил, что решился на «мертвую петлю» только после того, как ее выполнил русский штабс-капитан Нестеров. Под овации зала русский и француз обнялись и расцеловались.
А 28 августа 1911 г. Петр Нестеров совершил первый в мире воздушный таран, выследив и сбив на своем маленьком моноплане «Моран» более мощный австрийский «Альбатрос». Погибли оба летчика – и австриец и Нестеров, которому было всего 27 лет. После этого поединка на российские самолеты стали ставить пулеметы. О такой необходимости Нестеров неоднократно докладывал командованию.
Нестеров был похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище. На месте его гибели в г. Жолкве, переименованном в г. Нестеров, был сооружен монумент. Позднее, в 1980 г. здесь построили мемориал памяти героя-авиатора. В 1990-годы мемориал был разрушен, городок опять переименовали в Жолкву, а на постаменте вместо статуи Нестерова водрузили статую основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца.
Петр Нестеров был талантлив не только в авиации. Он прекрасно музицировал и пел. Более того, когда он был еще юнкером, композитор Александр Глазунов предлагал ему поступить в консерваторию. Этот талант унаследовала его дочь Маргарита, ставшая оперной певицей.
И, конечно, находясь во Владивостоке в 1909 и 1910 гг. П. Нестеров посещал Пушкинский театр, как это делал и другой знаменитый авиатор С. Уточкин, посетивший Владивосток в 1910 г.
В честь Петра Нестерова названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Гатчине, Минске и Нижнем Новгороде, установлены памятники в Киеве и Нижнем Новгороде. Имя «Нестеров» присвоено одному из астероидов. В 1962 году Международная авиационная федерации ввела переходной приз для победителя первенства мира по высшему пилотажу – кубок имени П. Н. Нестерова.
Один из первых русских летчиков Сергей Исаевич Уточкин родился в Одессе в 1876 г.
Знаменитый писатель Александр Куприн, который в 1907 г. вместе с С. Уточкиным дебютировал как аэронавт, пролетев на воздушном шаре за 12 минут около 20 верст на высоте 1400 метров, писал: «Если есть в Одессе два популярных имени, то это имена бронзового Дюка… и Сергея Уточкина».
Одна из главных заслуг С. Уточкина – пропаганда авиации на начальном этапе ее зарождения. В 77 городах России он демонстрировал полеты на аэроплане. В 1910 г. Сергей Уточкин побывал и во Владивостоке. Полеты производились в «гнилом углу» над ипподромом. С. Уточкин бывал и в Пушкинском театре, отдыхая душой от отнюдь не безопасных полетов и даже играл на бильярде, установленном в одном из его помещений. Сергей Уточкин мастерски владел бильярдным кием и в трудные периоды жизни выигрыши от поединков в этой игре были основной частью его доходов.
В разных городах России за полетами С. Уточкина наблюдали поручик Петр Нестеров, отец отечественной космонавтики тезка Сергей Королев, будущие авиаконструкторы: Николай Поликарпов, Павел Сухой, Александр Микулин, еще один тезка Сергей Илюшин, Владимир Климов и множество других, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю отечественной авиации.
С. Уточкин был летчиком-самоучкой. В трудной и опасной работе ему помогали занятия физической культурой. Петербургский «Синий» журнал в 1913 г. писал, что он успешно занимался 15 видами спорта.
Печальная участь постигла С. Уточкина через год после полетов во Владивостоке. Во время грандиозного для того времени перелета Петербург – Москва его аэроплан при вынужденной посадке врезался в берег реки и разлетелся на мелкие части. Сам авиатор получил перелом ключицы, вывих колена и многочисленные ушибы.
Летать он уже не смог, пробовал устроиться на работу в школу авиации, созданную по его же инициативе в Москве, – не получилось. Переехал в Петербург, где в ожидании работы в авиации, перебивался заработками от выигрышей в бильярде. Писал обращения к общественным деятелям, обивал пороги различных ведомств. Знакомые делали вид, что его не узнают, аэроклубы вычеркнули имя Уточкина из своих списков. Он бедствовал, голодал, ночевал, где придется, чаще всего под мостами. По теперешним понятиям, недавний кумир публики, превратился в обыкновенного бомжа.
В «Авиационной энциклопедии в лицах», 2008 г. издания, приводится факт о том, что доведенный до отчаяния С. Уточкин, однажды пытался прорваться в Зимний дворец, заявив изумленной охране, что требует аудиенции у царя. Его схватили, скрутили и доставили в канцелярию градоначальника, а оттуда – в психиатрическую больницу.
В январе 1916 г. С. Уточкин умер от воспаления легких, не дожив до 40 лет. Похоронен в Александровской лавре. Как нередко бывает в таких случаях, отечество, а вернее, государство, своих героев при жизни не замечает.
Осенью 1950 г. в Приморском крае давал гастроли родоначальник русского шансона Александр Николаевич Вертинский.
По малости лет Евгений не мог присутствовать на концертах Вертинского, но слышал от матери и отчима восторженные отзывы о его творчестве. Более 20 лет Вертинский жил в эмиграции.
Он прибыл на Родину в самый разгар Великой Отечественной войны и испытывал искреннюю благодарность к Сталину за разрешение вернуться. «Пусть допоет» – слова, которые приписывают Сталину, когда ему доложили о просьбе Вертинского возвратиться в Советский Союз. Восхищаясь военным гением Сталина, Александр Николаевич написал песню «Он»:
Чуть седой, как серебряный тополь, Он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь? Сколько стоил ему Сталинград?Одна из дочерей Вертинского была замужем за народным артистом России Борисом Хмельницким, уроженцем Уссурийска. Может быть, и пересекались пути-дорожки Евгения и Бориса, а с его тезкой по имени и фамилии Борисом Хмельницким Евгений учился в одном классе.
Вертинский, как в исполняемой им известной послевоенной песне Михаила Блантера на стихи Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», и сам был своего рода перелетной птицей. Советская творческая интеллигенция не особо жаловала Вертинского. «Нахлебником парижских кабаков» называла его Вера Инбер. А Леонид Утесов утверждал, что «Вертинского любят люди с извращенным вкусом».
Тем не менее народ валом валил на его концерты, а песня «Летят перелетные птицы» была любимой песней профессора Барабанова.
Шанхай был последним иностранным городом, в котором жил Вертинский перед возвращением на Родину. Там он познакомился с известным дальневосточным поэтом Арсением Несмеловым, там встретил свою будущую жену Лидию – дочь служащего КВЖД Владимира Циргвава, грузина по национальности. Вертинский шутливо называл себя «кавказским пленником». Судьба отвела им пятнадцать лет счастливого брака.
Ночной Шанхай был Меккой для русских эмигрантов. В ресторанах и ночных клубах происходили самые неожиданные встречи и знакомства. Писательница и журналистка Наталья Ильина в книге «Дороги и судьбы» пишет: «Знакомство с Вертинским ввело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы…
Под собственным именем танцевала то в одном, то в другом ночном клубе Шанхая некая Лариса А., красивая, гибкая, синеглазая женщина, одаренная поэтесса, печаталась в эмигрантских журналах, выпустила книгу стихов “По земным лугам”, но на стихи не проживешь, и вот – танцевала… В середине шестидесятых годов Е. Евтушенко, вернувшись из заграничной поездки, передал мне привет от Ларисы… Он познакомился с ней на острове Таити, где тогда постоянно жила Лариса с мужем-французом. Стихов давно не пишет (кому? для кого?), но русский язык не забыла и очень скучает… И сразу пришли мне на память строчки из песенки Вертинского на слова Тэффи: «…к островам ли сиреневых птиц все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц».
Евгений Петрович догадался, что Ильина пишет о Ларисе Андерсен, которая в 1920 г. вместе с семьей прибыла во Владивосток и писала о своих детских впечатлениях в дневнике: «…я сразу забыла все мои игрушки, любимую куклу Лелю, потому что влюбилась в эти леса, скалы, цветы. Но самым главным, самым любимым было море. Тот, совсем не далекий от нас залив, куда я бегала почти каждый день, чтобы искупаться… Там, в море, я была счастлива…
Может быть, желание жить не в городе, а на природе осталось во мне навсегда благодаря тому небольшому отрезку моей жизни, который я провела на Русском острове?…»
Хотя память о счастливых мгновениях на острове Русский сохранилась надолго, отрезок этот и вправду был совсем небольшим. В октябре 1922 года в связи с наступлением Красной армии семья покинула Владивосток вместе с эскадрой контр-адмирала Г. К. Старка, взявшей курс на Китай, и вскоре поселилась в Харбине.
Лариса Андерсен, русская поэтесса и танцовщица, стала легендой в период ее жизни в Китае. В 2009 г. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве организовал выставку, приуроченную к 95-летию Л. Андерсен, и Евгению Петровичу посчастливилось на ней побывать.
Приморская журналистка Тамара Калиберова познакомилась с Ларисой Андерсен в Париже и впоследствии неоднократно посещала ее дом. А во Владивостоке при Пушкинском театре ею был создан клуб «Мы любим Ларису Андерсен». Александр Вертинский дал во Владивостоке десятки концертов, из них несколько «левых», как их тогда называли, в том числе и в Пушкинском театре. Ведь ему надо было содержать семью, надо было зарабатывать.
Свои впечатления о Владивостоке Вертинский описывал в письмах к жене:
«Владивосток, 11 октября 1950 г.
…город огромный, грязный, мощенный булыжниками. Драки на каждом шагу. Город портовый, и страсти тут морские, буйные. Кораблей никаких нет, кроме наших. На базаре продают живых крабов. Но кто их будет варить и с чем их есть? Майонез остался у Елисеева. А устрицы вообще обиделись и ушли отсюда со старым режимом».
У меня в номере собачий холод. Был сильный шторм, порвал электрические провода, и моя гостиница без света, без воды, без отопления. Тут много мышей, и они жрут все. Прячу свою колбасу и хлеб за окном. Они достать не могут. Так, вчера увели мое мыло. Целый кусок! Я закрыл дырки кирпичами, но не помогает…»
«17 октября 1950 г. Моя дорогая жена Лиличка!
Если бы ты знала, как я скучаю! Никогда так мне не было противно в поездке, как в этой. Целые дни сижу в затхлом номере, потому что я сильно простудился в день приезда, а на улице холод и дуют с моря ветры. Вечером, еще больной, пою концерт и еле вытягиваю его. Лечусь стрептоцидом. У меня грипп, конечно. Впрочем, сегодня уже чувствую себя лучше. Город грязный, мощенный булыжником еще в прежнее время, пыль крутит столбами. В магазинах пусто, пьяных полно, а жрать нечего; в гастрономах даже колбас нет – одни консервы, и то второго сорта (вермишель, мясная тушенка, омуль и пр.), даже вина нет и водки. Есть почему-то коньяк – и все. В ресторане с утра сидят любители и к вечеру съедают все, что “отпустила база”. Так что, когда я, возвратясь с концерта, пытаюсь поесть – уже ничего нет, или такая гадость, что в рот нельзя взять. Впрочем, это неважно, потому что у меня все равно пропал аппетит, и я ничего не хочу».
«21 октября. Уже спел 10 концертов. Город отвратительный. Дуют ветры. Ничего нет, хоть шаром покати. В гастрономах ни колбасы, ни сыру, ни даже масла. Белый хлеб надо искать по городу…»
Но зато зрителями артист был вполне доволен.
«Здесь масса точек, в которых можно петь, – пишет он в самом начале гастролей, – и на меня в филармонии сотни заявок отовсюду. Прием везде хороший, но понимают меня, конечно, хуже, чем в центрах».
Но тут он ошибался. Как могли не понять моряки и их семьи песню, которая была популярна в годы юности Евгения:
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная моя сторона, Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна.Однажды Евгений Петрович председательствовал на заседании Ассоциации профессоров стран Северо-Восточной Азии. Проходила эта конференция в Улан-Баторе и собрала профессоров из Японии, России, Кореи, Китая и Монголии.
Во время перерыва к нему подошел один из переводчиков, обслуживающих конференцию, и на довольно чистом русском языке представился:
– Я – Тимур, так звали сына вашего писателя Гайдара.
Потом добавил:
– Молодые люди в Монголии сейчас почти не знают русского языка. А мне нравится Гайдар. Читал многие его произведения. Но особенно мне понравилась повесть «Тимур и его команда». Я тоже Тимур, но только без команды, – обезоруживающе улыбнулся монгол.
На самом деле его фамилия читается, как Тумур, что в переводе с монгольского означает «железный, твердый». Это имя закрепилось и за Тамерланом который известен, как полководец и эмир, создатель государства со столицей в Самарканде, Тамерлан, получивший прозвище Хромой Тимур. Он разгромил Золотую Орду, прославился своей жестокостью. Происходил из монгольского племени. Выше предписаний религии ставил законы Чингисхана. Наверное, его прозвали так не только за железные доспехи, но и за твердость характера и железную волю, позволившую завоевать полмира.
Несмотря на то, что в творчестве Гайдара (А. Голикова) восточная тематика не нашла отражения, он, по-видимому, к Востоку относился неравнодушно. Поэтому и сына назвал Тимуром, и литературный псевдоним себе выбрал Гайдар.
Некоторые современники в своих воспоминаниях пишут, что когда они спрашивали у Аркадия Петровича, что означает его псевдоним, то он говорил, что так в Хакассии называют красных командиров. Однако на хакасском языке слово «Хайдар» означает «Куда? В какую сторону?» и словосочетание «Хайдар Голик» якобы звучало так: «Куда едет Голиков? В какую сторону?»
Один из биографов писателя Борис Емельянов трактовал перевод этого слова с монгольского так: «Гайдар – это всадник скачущий впереди». В этом есть какая-то доля истины. Аркадий Голиков действительно бывал в Башкирии, Хакассии, а имена Гайдар, Гейдар, Хайдар на Востоке распространены.
А вот какую версию выдвигает сын писателя Тимур Гайдар в своей книге об отце:
«Аркадий Гайдар на такой вопрос (о псевдониме) не отвечал. Если приставали, то отделывался шуткой…»
Но чего бы вздумалось девятнадцатилетнему Аркадию Голикову брать иноплеменное, хотя и звучное имя?..
Разгадать загадку удалось его школьному товарищу А. М. Гольдину. В детстве Аркадий учил французский язык, в котором приставка «д» указывает на принадлежность или происхождение, скажем д’Артаньян – из Артаньяна.
Итак, 1923 год, Аркадий Голиков ранен, контужен, болен. Путь кадрового командира, начатый так уверенно, заволокли тучи. Что делать дальше? Как жить? Созревает решение – литература.
Тогда и придуман, найден литературный псевдоним: «Г» – первая буква фамилии Голиков; «АЙ» – первая и последняя буква имени; «Д» – по-французски «из»; «АР» – первые буквы названия родного города. Г-АЙ-Д-АР: «Голиков Аркадий из Арзамаса». Кстати, поначалу он и подписывался – Гайдар, без имени и даже без инициалов. Ведь имя уже входило частичкой в псевдоним. Лишь когда псевдоним стал фамилией, на книгах появилось: «Аркадий Гайдар».
Евгений Петрович дважды был в Монголии. Неоднократно задавал и переводчикам, и монголам, знающим русский язык, вопрос, что означает в переводе с монгольского слово «Гайдар». Как правило, ему отвечали, что в современном монгольском языке такого слова нет.
Однажды ректоров повезли на экскурсию в заповедник «Монголия. XIII век». Перед этим прошли грозовые дожди. Автобус, переваливаясь с борта на борт и весело разбрызгивая лужи, доставил к месту назначения за несколько сотен верст от Улан-Батора.
Евгения Петровича вежливо спросили:
– Вас не укачивает?
Он мысленно усмехнулся, вспоминая свое морское прошлое и борьбу с самим собой и с качкой корабля во время шторма.
– Да нет, спасибо, – ответил он, стараясь не прикусить язык, когда автобус неожиданно подбросило на внеочередном ухабе.
Переводчик продолжал:
– А вот один профессор из Кореи (он едет в другом автобусе), качку вообще не переносит, так мы ему по старому монгольскому рецепту скотчем заклеили попку.
– Это как? – ошарашенно спросил Евгений Петрович. Оказалось, что не попку, а пупок, а скотчем, потому что под рукой другого материала не оказалось. Потом ему показали этого корейского страдальца и надо отметить, что выглядел он довольно бодро.
Обедом накормили в большой юрте, обустроенной так, как она должна была выглядеть во времена Чингисхана. Единственным неудобством служило то, что сидеть пришлось прямо на полу перед низенькими столиками. Дали попробовать по чашке кумыса, а обед сопровождался выступлением монгольских девушек в национальных костюмах, играющих на национальных инструментах.
Позже доверительно сообщили, что все они – студенты из университета, который их принимал, как и бронзовые от загара монгольские воины в доспехах из кожи, с копьями, луками, колчанами со стрелами и кривыми саблями.
Потом гостям дали пострелять из настоящего монгольского лука. Евгению Петровичу удалось запустить стрелу дальше всех, что было встречено аплодисментами присутствующих. Конечно, в мишень, представляющую собой шкуру какого-то животного, никто и близко не попал.
Они посетили шаманскую деревню, аратскую семью, где желающих покатали на низкорослых лошадях-монголках и верблюдах. Вернее, на одном верблюде, который, видимо, до того устал от посещений туристов, что утробным ревом выражал свое недовольство и отказывался подчиняться погонщику.
В юрте-библиотеке едва Евгений Петрович успел сесть за стол с шахматной доской, на которой были расставлены фигурки древних монгольских шахмат довольно внушительного размера, как напротив примостился мальчик-монгол лет двенадцати и сразу сделал ход Е2 – Е4. Пришлось играть. Отец мальчика сопровождал немецкую делегацию и неплохо говорил по-русски. Гости немного прошлись до следующего объекта заповедника, беседуя ни о чем, а недалеко от юрты ремесленников по изготовлению изделий под монгольскую старину Тимур-переводчик протянул Евгению Петровичу неприметный цветок, похожий на бархатную звездочку, и назвал его:
– Эдельвейс!
Евгений Петрович впервые видел этот цветок и ожидал, в общем-то, чего-то большего, тем более, что он ассоциировался с названием немецкой горной дивизии «Эдельвейс», воевавшей на Кавказе против Красной армии во время Великой Отечественной войны. Показал этот цветок немцам.
– О, я, я… – послышались восхищенные возгласы.
На обратном пути к автобусу Евгений Петрович шел одним из замыкающих и заметил, что немцы оборвали все цветы эдельвейса на доступном от тропы расстоянии кроме небольшого пространства у деревянной клетки, где томился волчонок, посаженный на железную цепь.
Евгений Петрович попросил переводчика спросить у пожилого главы дома, одетого в древнемонгольское платье и не выпускающего прокуренной трубки изо рта, не знает ли он, что означает слово «Гайдар». И очень удивился, когда услышал в ответ, что на древнемонгольском языке есть созвучное слово, которое означает: «Всадник, скачущий впереди».
В детстве Евгений Петрович зачитывался Гайдаром, да и сейчас иногда перелистывал его книги. Однако до зрелого возраста он и не предполагал, что писатель Гайдар в 30-х годах теперь уже прошлого столетия жил на Дальнем Востоке и, хотя местом его постоянного жительства был Хабаровск, он как корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» объездил все Приморье, неоднократно бывал во Владивостоке. В городе «нашенском» он выполнял не только журналистские задания, но и как писатель выступал перед своими читателями и почитателями – пионерами и школьниками. Выступал он в Доме культуры моряков, как в то время назывался Пушкинский театр. По свидетельству очевидцев, по окончании выступления Гайдара буквально осыпали цветами и понятно почему. Произведения А. Гайдара учат мужеству, благородству, доброте, чего так не хватает в наше неспокойное время.
Многие слышали, что в 16 лет Гайдар командовал полком, попал в армию в 14 лет, а уже в 20 был демобилизован по болезни. А. Гайдар воевал на Украине, Тамбовщине, в Башкирии, Сибири, был несколько раз ранен. Последствия этого сказались в мирное время, когда ему приходилось лечиться в психиатрических больницах, в том числе и в Хабаровске.
В своем дневнике 20 августа 1931 г. он пишет: «Хабаровск. Психбольница. Очень хочется крикнуть: “Идите к чертовой матери”. Но сдерживаешься. А то переведут еще вниз в третье отделение, а там у меня за одну ночь украли папиросы и разорвали на раскурку спрятанную под матрац тетрадку. За свою жизнь я был в лечебницах раз, вероятно, 8-й или 10-й, все-таки это единственный раз, когда – эту хабаровскую, сквернейшую из больниц – я вспоминаю без озлобления, потому что здесь будет неожиданно написана повесть о “Мальчише-Кибальчише”».
В августе 1941 г. Аркадий Гайдар ушел на войну корреспондентом «Комсомольской правды». Его не взяли в регулярную армию по медицинским показаниям. Оказавшись в окружении, он стал партизаном и погиб, выручая товарищей. Это случилось 29 октября 1941 г. в бою под деревней Леплява, когда небольшая группа партизан наткнулась на засаду. Похоронен Гайдар на высоком берегу Днепра в г. Каневе. Поэт Самуил Маршак написал по этому поводу:
Погиб он в роще под Леплявою Как партизан, в тылу врагов И, осененный вечной славою, Спит у Днепровских берегов.Просматривая материалы об Аркадии Гайдаре, Евгений Петрович обнаружил статью 15-летней девушки Маши Пархоменко, кстати, его землячки – он ведь тоже родом из-под Воронежа. Статья озаглавлена «Аркадий Гайдар! Это кто?»
«Если бы Вы знали, Аркадий Петрович, как нам сейчас нелегко! Как “достали” нас учебники по истории России, изданные на деньги американского бизнесмена Сороса, бесконечные бразильские сериалы и вездесущий Гарри Поттер! За чем он мне, русской девчонке Маше из села Новобогородицкого Петропавловского района Воронежской области? Чувствуете, как от одних этих слов русским духом пахнет?
Этот самый наш родной дух в Ваших книгах. Неужели этого не чувствуют те, кто составляет школьные программы и учебники? Они, когда заменяли Ваши произведения японскими хокку и небылицами Джеральда Даррелла, у нас спросили?
Ну, хватит уже нам глаза замазывать и от настоящей жизни уводить! Да, время сложное, и мы – не подарок, но так с нами нельзя. Да, мы такие: балдеем от модных групп и часами зависаем в Интернете, но нам тоже дороги такие понятия, как честь, смелость, правда…
И я себе представила, как гордо мчится по бескрайним просторам нашей Родины сильный и мужественный всадник сквозь время и пространство. А из-под копыт его коня улетают прочь из нашей жизни подлость и трусость, хулиганство и предательство, лень и жадность. Он так мечтал об этом в своем XX веке и так надеялся, что мы сделаем это в наше время – веке XXI. И мы обязательно выполним гайдаровские заветы. Только для этого нужно, чтобы все мы были вместе: Россия, Гайдар и мы!»
Евгений Петрович искренне подумал: «Молодец, Маша! Умница!»
Ведь никто не смог и никогда не сможет опровергнуть непреложную истину, что без прошлого не будет и будущего.
Годы, десятилетия уходят в прошлое и, к сожалению, безвозвратно.
Школа, институт, работа на заводе, служба на флоте, ректорство пролетали с необыкновенной быстротой и, кажется, даже выше скорости звука. Бывшее призрачной мечтой, море и дальние походы стали суровой реальностью. Воинские звания от лейтенанта до капитана 1-го ранга строго отмерялись установленным порядком прохождения службы.
Да и ректорство ограничивалось пятилетними сроками – от выборов до выборов, от одной дуги большого круга, до другой.
Эпилог
Кто-то сказал, что житейская мудрость – наше богатство. Как показывает статистика, чаще всего мудрыми бывают женщины. Женская мудрость – явление непредсказуемое. В одном из книжных магазинов Евгений Петрович полистал книгу Луизы Хей «Мудрость женщины», но так и не понял, в чем она заключается. А однажды в интернете выскочило: «Вся мудрость в том, чтобы сохранить свой дом». Наверное, так оно и есть.
По своей натуре Евгений Петрович и в зрелом возрасте оставался романтиком и считал, что любая профессия имеет свой романтический ореол. Его можно найти – не смейтесь! – даже в предрассветном труде дворников. Ведь не зря же в Ростове-на-Дону этих владык метлы и мусорного ведра именуют «мастерами чистоты». Там даже таблички эмалированные приколочены к стенам домов. «Этот участок улицы обслуживает мастер чистоты Иванов Иван Иванович».
А уж моряки – они и без эмалированных табличек неисправимые романтики. Иначе грош цена была бы тяжести прощаний и фейерверку встреч на причалах, бессонницам штормовых вахт, мраморному напряжению лиц подводников во время спуска подводной лодки на предельную глубину погружения, тысячам миль океанского одиночества и всем другим мужественным атрибутам морячества.
Но как и все люди, избравшие себе профессию, связанную с риском для жизни, моряки безоговорочно суеверны. Правда, рассуждают они на эту тему не очень охотно. Например, совершенно бессмысленно выпытывать у военного моряка, уходящего на выполнение даже откровенно безопасного задания, время возвращения корабля на базу. Никогда не скажет. И дело тут не в пресловутом сохранении военной тайны. Причина более прозаична: вера в приметы, суеверие.
Рассказывают, что одного известного и опытного капитана дальнего плавания журналисты спросили:
– А правда, что суда не выходят в море 13 числа или в ночь с воскресенья на понедельник?
Матерый морской волк пожал плечами и ухмыльнулся:
– Да что вы! Господи, какие предрассудки!
Потом помолчал немного и, насупив брови, добавил:
– Вот пятница – это другое дело!
Есть и уйма других примет и верований, нарушать которые или отказываться от которых настоящий моряк не станет никогда. И нужно сказать, что хорошая морская практика не раз подтверждала действенность этих примет.
Но подтверждения одной легенде Евгений Петрович так и не нашел за все годы своей морской практики.
Леонид Соболев, моряк и писатель-маринист, в одном из рассказов поведал о легенде, утверждавшей, что человек, увидевший в океане, укутанном густым туманом и тьмой, зеленый луч света, становится счастливым на всю оставшуюся жизнь.
Евгений Петрович не думал, что Леонид Соболев написал подобный рассказ исключительно ради легковесного украшения. Ни один писатель-маринист, серьезно знакомый с океаном, не уронит собственное достоинство ради тиражирования симпатичных небылиц. Но и по сей день он не мог поверить в абсолютную достоверность события, изложенного этим писателем. Причина тут одна: ему удалось наяву видеть подтверждение легенды о «Летучем голландце», он встречал ошеломительные вещественные подтверждения и многим другим морским легендам.
Но, к сожалению, за все время своей морской службы он так и не увидел в океане зеленый луч света. А ведь поводов и предпосылок для такого видения было предостаточно.
Как-то подводная лодка всплыла в намеченном заданием квадрате моря. Как обычно, Евгений Петрович поднялся на мостик сразу вслед за командиром и очутился в таком густейшем тумане, что в десяти сантиметрах от лица не мог разглядеть собственную ладонь. Тумана подобной сгущенности он не встречал больше никогда.
Лодка шла в надводном положении, и, как того требовали правила безопасности мореплавания, ее сирена беспрерывно ревела, подавая в непроглядное пространство густые и низкие гудки. Откуда-то издалека доносились ответные басы других судов, плутающих в туманном море. И он вдруг совсем не к месту подумал: как мог Соболев – моряк и писатель-документалист, вообще говорить о возможности увидеть зеленый луч света в подобной обстановке?
Но Евгений Петрович не терял надежды. Он пытался увидеть зеленый луч света в бездонной тьме тропических ночей, и в кисейной мгле Балтики, и в хрустальном безлунии Черного моря, но так и не увидел.
Может быть, потому, что уж очень хотел увидеть этот сказочный свет? Может быть, он вообще не существует и является лишь творческой придумкой писателя?
Да и возможно ли увидеть зеленый луч света в густейших океанских туманах?
Или невозможно?
Или кому-то все-таки повезет обнаружить это чудо?
Евгению Петровичу, во всяком случае, не повезло. Но несчастным он себя не чувствовал. Он думал, что пока романтика и любовь к морю еще не канули в Лету, пока мальчишки торопятся повзрослеть, чтобы стать моряками, чтобы уйти в океан и вдруг увидеть там в суматохе волн, ветров, тьмы и туманов зеленый луч света, то можно оставаться счастливым и не встретив в своей жизни этот редкостный луч.
Его вполне заменят преемники дела, которому он отдал свою сознательную жизнь – молодые, сильные и по-весеннему «зеленые» в своей неудержимой и бесстрашной жизни.
Ведь у каждого из них своя «дуга большого круга».
Примечания
1
Из «Корабельного устава»: «…В целях лучшего применения оружия и использования технических средств в бою на кораблях создаются боевые части и службы: штурманская – БЧ-1; ракетная (ракетно-артиллерийская, артиллерийская) – БЧ-2; минно-торпедная – БЧ-3; связи – БЧ-4; электромеханическая – БЧ-5; авиационная – БЧ-6; радиотехническая – БЧ-7; службы радиационной, химической и биологической защиты – Сл-Х; медицинская служба – Сл-М; снабжения – Сл-С».
(обратно)2
Метацентрическая высота – возвышение метацентра над центром тяжести корабля. Различают метацентрическую высоту поперечную и метацентрическую высоту продольную. М.В. является мерой начальной остойчивости корабля на малых углах крена или дифферента. Метацентр – условная точка отсчета, относительно которой происходит наклонение корабля при его крене или дифференте. Эта специфическая величина зависит от типа корабля и определяет его остойчивость, т. е. способность корабля принимать первоначальное вертикальное положение после наклонения. Различают продольную и поперечную остойчивость корабля. При потере остойчивости корабль опрокидывается.
(обратно)3
Дифферент – наклон корабля в продольной плоскости. Измеряется в градусах или линейных единицах как разница между углублениями носа и кормы.
На подводных лодках для облегчения маневрирования под водой в вертикальной плоскости дифферент создается специально с помощью горизонтальных рулей. Дифферентовка подводной лодки – приведение нагрузок подводной лодки к заданным (близким к нулевым) значениям плавучести и дифферента (без крена), при которых она может погружаться и свободно маневрировать под водой.
(обратно)4
См.: Турмов Геннадий. На Сибирской флотилии. М.: Вече, 2013.
(обратно)




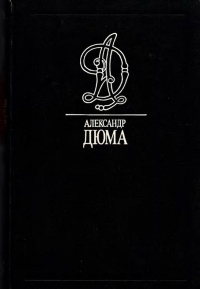
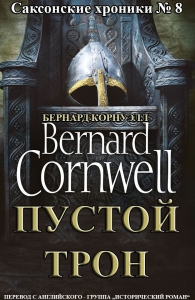

Комментарии к книге «По дуге большого круга», Геннадий Петрович Турмов
Всего 0 комментариев