Евгений ФЕДОРОВ ЕРМАК
ОТ АВТОРА
Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей.
Н. В. Гоголь
Через всю мою жизнь, от раннего детства и до седины, прошел яркий, немеркнущий образ Ермака. В страшные вьюжистые ночи я малым ребенком сидел на горячей печке, а бабушка Дарья, старуха с добрым лицом и ласковыми глазами, при неверном свете лучины пряла допоздна и тихим голосом напевала мне былину об удалом казаке Ермаке Тимофеевиче, величая его родным братом славного русского богатыря Ильи Муромца. От нее, своей милой бабушки, я впервые также слышал легенду-сказку, которой я больше никогда не слыхивал и не встречал в печати. В этой легенде-сказке отразилось стародавнее народное поверье, что через триста лет Ермак Тимофеевич снова явится на Волгу-матушку, завернет на старый казачий Яик, и ох, горько станет господам и начальству царскому!
Позднее, отроком, живя в станице Магнитной, я слушал удалецкие песни уральских казаков. Они почти каждый вечер собирались на луговинку, под старый тенистый вяз, который рос подле дедовской хибары. Много песен запомнилось с той поры, но одна из них особенно взволновала меня. Стоя в кругу бородатых станичников, исполин Силантий, высокий могучий казак с широкой, как плита, спиной и такой грудью, что казалось, на нее набиты обручи, громовым, никогда не слыханным в станице, басом заводил: «Р-ревела бур-ря, дождь шумел...» Кто теперь не знает в нашей стране этой песни о Ермаке? Такой человек сейчас редкость. В ту пору, в исполнении богатыря Силантия, она потрясла мое юное воображение. И еще сильнее полюбил я эту песню, когда узнал позднее, что написал ее поэт-декабрист Кондратий Рылеев. А еще позднее я убедился, что не случайно моя милая старушка-сказочница помнила о Ермаке. Довелось мне много покружить по Уралу, и, куда ни повернись, многое связано здесь с его именем. До сих пор вы услышите па Урале: Ермаков камень,нависший над Чусовой, Ермакова пещера, Ермаковы хутора на Сылве, Ермаково городище на мысу у Серебрянки, Ермаков перебор на Чусовой, Ермаковка-речка, приток Чусовой, Ермаков родник, Ермакова заводь в устье Вагая, где погиб прославленный полководец. Вот в глухом лесу, на горном перевале уходящая вдаль просека. Когда и кто повалил тут вековые сосны? Заводские старики на это отвечали: «Ермак здесь прошел. Ермаковы просеки тут по лесам».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА
1
За тульскими засеками, за порубежными рязанскими городками-острожками простиралось безграничное Дикое Поле. На юг до Азовского моря и Каспия, между низовьями Днепра и Волги, от каменных гряд Запорожья и до дебрей прикубанских раскинулись нетронутые рукой человека ковыльные степи. Ни городов, ни сел, ни пашен, — маячат в синем жарком мареве только одинокие высокие курганы да безглазые каменные бабы на них. Кружат над привольем с клекотом орлы, по голубому небу плывут серебристые облака. По равнине гуляет ветер и зеленой волной клонит травы.
В этих пустынных просторах бродили отдельные татарские и ногайские орды, изредка проходили купеческие караваны, пробираясь к торговым городам. А на Дону и при Днепре глубоко пустили крепкий корень казаки. Жили и умирали они среди бесконечных военных тревог, бились с крымскими татарами, турками и всякой поганью, пробиравшейся грабить Русь.
По верхнему Дону, Медведице, Бузулуку и их притокам шумели густые и тенистые леса. Водились в них медведи, волки, лисицы, туры, олени и дикие козы. В прохладных голубых водах рек нерестовали аршинные стерляди, саженные осетры и другая ценная красная рыба.
Сюда, на Дон, на широкое и дикое поле бежали с Руси смелые и мужественные люди. Уходили холопы от жестокого боярина, бежали крестьяне, оставив свои домы и «жеребья» «впусте», убоясь страшных побоев и истязаний, спасаясь от хлебного неурода и голода. Немало было утеклецов с каторги, из острогов, из тюрем, — уносили беглые свои «животы» от пыточного застенка.
Тяжело жилось русским людям при царе Иване Васильевиче Грозном. Не любили бояре, дьяки и приказные правдивого слова. За него простолюдину можно было поплатиться жизнью. Все, кому невыносим стал гнет, кому хотелось воли, уходили туда, где требовались только удалая голова да верность своей клятве. Каждую весну и лето пробиралась бродячая Русь в низовые донские городки и казачьи станицы. Шли на Дон, минуя засеки, острожки, воинские дозоры, пробираясь целиной, без дорог, разутые и раздетые, подпираясь дубинами да кольями. Путь-дорога была безопасна только ночью, а днем хоронились от разъездов служилых казаков в лесных трущобах, диких степных балках и водороинах.
Миновав все преграды, беглые селились вместе с казаками, и так же, как они, крепких домов не строили, землю почти не пахали, хлеба сеяли мало, а больше жили добычей, которую брали в бою у татар и турок. Добывали они себе в лихих схватках, оберегая русские рубежи, и коней, и доброе оружие, и шелка, и камни-самоцветы, и золото. А были и такие, которые шли ради мести на крымского татарина: у кого наездники-ордынцы увели в Дикое Поле мать или невесту, у другого убили отца или брата. И они шли выручать пленных, а если не стало их, пролить кровь насильника или, в свою очередь, захватить невольника-ясыря…
В теплую летнюю ночь над Доном у костра сидели четыре станичника, оберегая табуны от ногайских воров. Кругом — непроглядная сине-черная тьма, над головой — густо усыпанное яркими звездами небо. Под кручами текла невидимая река. Со степи тянуло запахом цветущих трав, подувал ветерок. В глубокой тишине уснувшей степи не слышалось ни звука. Но вот, нарушая ночной покой, в черной мгле послышался дробный топот коня.
— Невесть кто скачет! — нахмурился низенький, проворный малый с цыганской бородкой и, схватив ложку, зачерпнул и попробовал ухи. — Ох, братцы, до чего ж вкусна!…
Казаки не слушали его, насторожились. Топот все ближе, все чаще.
Широкоплечий высокий казак Полетай вскочил, потянулся, расправил руки. Кулачища у него по пуду.
— И куда прет, нечистая сила! Табун напугает, леший! — он прислушался. — Нет, не ногаец это скачет, тот змеей проползет; по всему чую, наш россейский торопится…
Только сказал, и в озаренный круг въехал коренастый всадник на резвом коньке. Полетай быстро оценил бегунка: «Огонь! Вынослив, — степных кровей скакун!».
Приезжий соскочил с коня, бросил поводья и подошел к огню.
— Мир на стану! Здорово, соколики! — учтиво поклонился он станичникам.
Черноглазый малый, с серьгой в ухе, схватил сук и по-хозяйски поворошил в костре. Золотыми пчелками взметнулись искры, вспыхнуло пламя и осветило незнакомца с ног до головы.
«Молодец Брязга!» — одобрил догадку товарища Полетай и стал разглядывать незваного гостя. Был тот широкоплеч, коренаст, глаза жгучие, мягкая темная бородка в кольцах. На вид приезжему выходило лет тридцать с небольшим. Держался он независимо, смело.
— Здорово, соколики! — приятным голосом повторил незнакомец.
— Коли ты русский человек и с добром пожаловал, милости просим! — ответили сидящие у костра, все еще удивленные появлением гостя.
— Перекреститься, не лихой человек. Дону кланяюсь! — незнакомец скинул шапку и снова поклонился.
Заметил Полетай, что у прибывшего густые темные кудри. «Ишь, леший, красив мужик!» — похвалил он мысленно и позвал:
— Коли так, садись к вареву, товарищ будешь!
— Спасибо на привете! — ответил гость и сел рядом со станичниками. С минуту помолчали, настороженно разглядывая друг друга. Озаренное теплым светом лицо полуночника было приятно, мужественно.
— Из какого же ты царства-государства? — весело спросил его Брязга и прищурил лукавые глаза.
— Из тридесятого царства, от царя Балабона, из деревни «Не переведись горе»! — загадкой ответил гость.
— Издалече прискакал, родимый! — усмехнулся Полетай, оценив умение незнакомца держать тайну про себя.
— Ну, а ты откуда? — обратился приезжий к Брязге.
Казак тряхнул серебристой серьгой и отозвался весело:
— А я из-под дуба, из-под вяза, с донского лягушачьего царства!
— Ага! — добродушно улыбнулся гость. — Выходит, это близко отселева. Хорошо! Много недель скакал, а все же достиг вольного края.
— Да кто же ты? — продолжал допрашивать Брязга.
Приезжий весело засмеялся — сверкнули ровные белые зубы.
— Не боярин я и не ярыжка, не вор-ворющий, не целовальник и не бабий охальник! — шутливо ответил он. — Бурлаком жил, «гусаком» в лямке ходил, прошел по волжскому да по камскому бечевникам, все тальники да кусты облазил в семи водах купался. Довелось и воином быть, врага-супостата насмерть бить, а каких кровей — объявлюсь: под сохой рожен, под телегой повит, под бороной дождем крещен, а помазан помазком со сковороды. Эвось, какого я роду-племени!
— Вот видишь, я сразу сгадал! — также шутливо отозвался Брязга. — По речам твоим узнал, что ты по тетке Татьяне наш двоюродный Яков.
— Ага, самая что ни на есть близкая родня вам! — засмеялся гость, а за ним загрохотали казаки.
Только пожилой, диковатого вида казак Степан строго посмотрел на гостя.
— Погоди в родню к станичникам лезть! Не с казаками тебе тягаться, жидок сермяжник! — вызывающе сказал он.
— Э, соколик, сермяжники Русь хлебом кормят, соль у Строганова добывают! — добродушно ответил наезжий. — Эх, казак, не хвались силой прежде времени!
— А я и не хвалюсь! — поднимаясь от костра, усмехнулся Степан. — Коли смелым назвался, попытай нашу силу! — он вызывающе разглядывал беглого.
Никто не вмешался во внезапно вспыхнувшую перепалку. Интересно было, как поведет себя гость. Степан, обутый в тяжелые подкованные сапоги, в длинной расстегнутой рубахе, надвигался на приезжего. Решительный вид казака не испугал молодца. Он проворно скинул кафтан, отбросил пояс с ножом и сказал станичнику:
— Ну что ж, раз так, попытаем казачьего духа!
Степанка орлом налетел на молодца. Наезжий устоял и жилистыми руками проворно облапил противника.
— Поостерегись, казак! — деловито предупредил он.
Брязга вьюном завертелся подле противников. Он загорелся весь и со страстью выкрикнул Степану:
— Левшой напри, левшой! Колыхни круче! Э-эх, проморгал…
Молодец мертвой хваткой прижал Степанку к груди, и не успел тот и охнуть, как лежал уже на земле.
— Во-от это да-а! — в удивлении раскрыл рот Полетай. — Враз положил, а Степанка у нас не последний станичник.
Разглаживая золотистые усы, Полетай обошел вокруг гостя.
— Как звать? — строго спросил он победителя.
— Звали Ермилом, Ермишкой, а на Волге-реке больше кликали Ермаком! — отозвался наезжий и полой рубахи вытер пот.
— Ермак — артельное имя! — одобрил казак. — Ну, сокол, не обижайся, раз так вышло, придется и мне с тобой потягаться за станичную честь.
— Коль обычай таков, попытай! — ровно ответил Ермак.
Брязга бесом вертелся, не мог угомониться; потирая руки, он подзадоривал бойцов.
— Ты не бойся, не пугайся, Петро, не убьет Ермишка! — подбадривал он Полетая. — Только гляди, не ровен час, полетишь в небо… Эх, сошлись! Эх, схватились.
Казак стал против Ермака, и оба, разглядывая друг друга, примерялись силами.
— Давай, что ли? — сказал Полетай и схватился с противником. Станичник напряг все силы, чтобы смаху грянуть смельчака на землю, но тот, словно клещами, стиснул его и поднял на воздух.
— Клади бережно, чтобы дух часом не вышибить! — со смехом закричал Брязга.
Но Полетай оказался добрым дубком — как ни клонило его к земле, а все на ноги становился.
— Вот эт-та леш-ш-ий! — похвалил Полетая Степанка. — Крепкий казачий корень! Не вывернешь!
— Посмотрим! — отозвался Ермак и, с силой рванув станичника, положил его на спину.
— Ого, вот бесов сын! — пронеслось удивленно меж казаками. — Такой и впрямь гож в товариство.
Побежденный встал, отряхнулся и незлобливо подошел к Ермаку.
— Ну, сокол, давай поцелуемся! Люблю таких! — он обнял победителя и похвалил: — Ровни меж нами тебе нет.
— Постой, станичники, погоди, если так, — всем скопом на вожжах потягаться! — предложил Брязга.
— Давай! — вмешался до сих пор упорно молчавший казак Дударек, маленький, но жилистый, и хороший наездник. — Любо, браты, потягаться с таким молодцом.
— Любо, ой, любо! — закричали казаки, и Брязга проворно достал ременные вожжи.
— А ну, станичники, действуй! — протянул он концы Ермаку и Полетаю. За казаком уцепились еще трое. Изготовились, крепко уперлись ногами в землю.
— Дружно, браты, дружно! — закричал призывно Дударек. — Не стянуть нас супостату с донской степи, со приволья! — и он затянул широким плавным голосом:
Да вздунай-най ду-на-на, взду-най Дунай!
Ермак перекинул ременные вожжи через плечо и в ответ крикнул:
— Раз, два, зачинай. Тащи, вытаскивай! — подзадоривая, он изо всех сил натужился. На его загорелом лбу вздулись синие жилки, выступил пот. Минутку-другую ременные вожжи дрожали, как струна. Все притихли.
— Врешь, животов твоих нехватит! — сердито выкрикнул Степанка.
По степи пробежал ветерок, вздул пламя костра, стало светлее. И Полетай заметил, как его ноги, обутые в мягкие кожаные ичиги, медленно-медленно поползли вперед.
— Стой, стой, ты куда же, леший! — заорал Брязга и тоже, вслед за товарищем, заскользил вперед. — Эхх!..
Ермак всем телом навалился на вожжи и рванул с такой силой, что двое, взрывая ногами землю, потянулись за ним, а Дударек и Степанка с гоготом упали.
— Оборони, господи, глядите, добрые станичники, экова мерина родила мать!
— Ну, сокол, потешил! Твоя сила взяла! — сконфуженно сказал Полетай. — Сворачивай в нашу станицу: с таким и на татар, и на ногаев, и на турок, и на край света не страшно идти! Айда к тагану, да ложку ему живей, браты!
И в самом деле, приспела пора хлебать уху: она булькала, кипела в большом чугунном казане и переливалась через край на раскаленные угли.
Ермак расседлал коня, снял и сложил переметные сумы, умылся и уселся на казачий круг.
Влажный и знобкий холодок — предвестник утра — потянул с Дона. Тысячи разнообразных звуков внезапно рождались среди тишины в кустах, камышах, на воде: то утка сонная крякнет, то зверушка пропищит, то в табуне жеребец заржет, то внезапно треснет полешко в костре и, взметнув к небу искры, снова горит ровным пламенем.
Усердно хлебали уху из общего котла. Брязга поднял голову и внимательно поглядел на семизвездье Большой Медведицы.
— Поди уж за полночь, пора спать! — лениво сказал он, отложив ложку.
— И то пора, — согласился Степанка и предложил Ермаку: — Ты ложись у огнища, а завтра ко мне в курень жалуй!
Почувствовал Ермак, что станичник поверил ему.
Улеглись у костра, который, как огненный куст, покачиваясь от ветерка, озарял окрестность. Приятно попахивало дымком. Ласковым покоем и умиротворением дышала степь. Ермак растянулся на ворохе свежей травы и смотрел в глубину звездного неба. Беспокойные думы постепенно овладели им: «Вот он добрался-таки до вольного края и сейчас лежит среди незнакомых людей. И куда только занесет его судьба? Пустит ли он корни на новом месте, на славном Дону, среди казачества, или его, как сухой быльник, перекати-поле, понесет невесть куда, на край света, и сгинет он в злую непогодь?»
Долго лежал он не смыкая глаз. Над Доном уже заколебался сизый туман и на землю упала густая роса, когда он, подложив под голову седло, крепко уснул.
Утром, на золотой заре, казак Степанка повел гостя в свой курень. Пришлый шел молчаливо, с любопытством поглядывая кругом, за ним брел оседланный послушный конь его с притороченными переметными сумами. Минули осыпавшийся земляной вал, оставили позади ров, вот высокий плетень, а вдали караульная вышка с кровлей из камыша. По скрипучим доскам ходит часовой. По сторонам разбросанные в зелени избенки да землянки, как сурковые норы. Ермак вхдохнул и подумал: «Эх, живут легко, просто, не держатся за землю!»
Пересекли густые заросли полыни, а станицы, какой ее желал увидеть Ермак, все не было.
— Где же она? — спросил он.
Казак улыбнулся и обвел рукой кругом:
— Да вот же она — станица Качалинская. Гляди!
Из бурьянов поднимались сизые струйки дымков, доносился глухой гомон.
— В землянках живем. Для чего домы? Казаку лишь бы добрый конь, острая сабелька да степь широкая, ковыльная, — вот и все!
Степан свернул вправо: в зеленой чаще старых осокорей — калитка, за ней вросшая в землю избушка.
— Вот и курень! — гостеприимно оповестил хозяин.
Ермак поднял глаза: под солнцем, у цветущей яблоньки, стояла девушка, смуглая, тонкая, с горячим румянцем на щеках, и пристально глядела на него. Гость увидел черные знойные глаза, и внезапное волнение овладело им.
— Кто это у тебя: дочь или женка? — пересохшим голосом спросил он казака.
Степан потемнел, скинул баранью шапку, и на лбу у него обозначился глубокий шрам от турецкого ятагана. Показывая на багровый рубец, волнуясь, сказал:
— Из-за нее помечен. В бою добыл ясырку. А кто она — дочь или женка, и сам не знаю. — Много тоски и горечи прозвучало в его голосе.
Ермак сдержанно улыбнулся и спросил:
— Как же ты не знаешь, кто она тебе? Не пойму!
Если бы гость не отошел в сторону и не занялся конем и укладками, то увидел бы, как диковато переглянулись Степан и девка и как станичник заволновался.
Не смея поднять глаза на девку, Ермак спросил ее имя. Стройная, упругой походкой она прошла по избе и не отозвалась, за нее ответил Степан:
— Уляшей звать. Как звали ранее — быльем поросло. Взял двоих: татарку Сулиму и девку. Везла басурманка черноволосую в Кафу, к турецкому паше. Эх, что и говорить…
Гость украдкой взглянул на ясырку. Девушка была хороша. Бронзовая шея точеная и сама гибка, как лоза, а губы красные и жадные. Опять встретился с нею взглядом и не мог отвести глаз. Сидел, словно оглушенный, и голос Степана доносился до него, как затихающий звон:
— Уходили мы к морю пошарпать татарские да ногайские улусы. Трудный был путь. Кровью мы, станичники, добывали каждый глоток воды в скрытых колодцах, на перепутьях били турок. И вот на берегу, где шумели набегавшие волны да кричали чайки, у камышей настигли янычар — везли Сулейману дар от крымского Гирея. Грудь с грудью бились, порубали янычар, и наших легло немало. Стали дуван дуванить, и выпали мне старая ясырка Сулима да девушка, по обличью цыганка. Сущий волчонок, искусала всего, пока на коня посадил… Одинок я был, а тут привез в курень сразу двух. Только Сулима недолго прожила, сгасла как свеча, и оставила мне сироту — горе мое…
Степан смолк, опустил на грудь заметно поседевшую голову.
— Чем же она тебе в напасть? — спросил Ермак.
— Да взгляни на меня. Кто я? Старик, утекла моя жизнь, как вода на Дону, укатали сивку крутые горы…
Тут Уляша тихо подошла к старому казаку, склонилась к нему на плечо и тонкой смуглой рукой огладила его нечесанные волосы:
— Тату, не сказывай так. Никуда я не уйду от тебя. Жаль, ой жаль тебя! — на глазах ее свернули слезы.
«Что за наваждение, никак она опять глядит на меня?» — подумал Ермак. И в самом деле, смуглянка не сводила блестевших глаз с приезжего, а сама все теснее прижималась к плечу Степана, разглаживая его вихрастые волосы.
— Добрый ты мой! Тату ты мой, и мати моя, и братику и сестрицы, — все ты мне! — ласкала она казака.
Сидел Ермак расслабленный и под ее тайным взором чувствовал себя нехорошо, нечестно…
Оставался он в курене Степана неделю.
Станичник сказал ему:
— Ну, Ермак, бери, коли есть что, идем до атамана! Надо свой курень ладить, а без атамановой воли — не смей!
Гость порылся в переметной суме, добыл заветный узелок и ответил Степану:
— Веди!
Привел его станичник к доброй рубленой избе с высоким крыльцом.
— Атаманов двор? — спросил Ермак и смело шагнул на тесовые ступеньки. Распахнул двери.
В светлой горнице на скамье, крытой ковром, сидел станичный атаман Андрей Бзыга. Толст, пузат, словно турсук, налитый салом. Наглыми глазами он уставился в дружков.
— Кого привел? — хрипло, с одышкой спросил атаман.
— Рассейский бедун Дону поклониться прибыл, в станицу захотел попасть, — с поклоном пояснил Степан и взглянул на дружка.
Ермак развязал узелок, вынул кусок алого бархата, развернув, взмахнул им, — красным полымем озарилась горница.
«Хорош бархат! — про себя одобрил Бзыга и перевел взор на прибылого. — Видный, кудрявый и ухваткой взял», — по душе пришелся атаману. Переведя взор на рытый малиновый бархат, Бзыга снисходительно сказал Ермаку:
— Что же, дозволяю. Строй свой курень на донской земле. А ты, Степка, на майдан его приведи!
Вышли из светлого дома, поугрюмел Ермак. Удивился он толщине и лихоимству Бзыги.
— Ишь, насосался как! Хорошее же на Дону братство! — с насмешкой вымолвил он. На это Степанка хмуро ответил:
— Было братство да сплыло. И тут от чужого добра жиреть стали богатеи. — Замолчал казак, и оба, притихшие, вернулись в курень…
Напротив, на бугре над самым Доном, Ермак рыл землянку, песни пел, а Уляша не выходила из головы. Совестно было Ермаку перед товарищем. Степанка хоть и мрачный на вид человек, а отнесся к нему душевно, подарил ему кривую синеватую саблю. Казак торжественно поднес ее к губам и поцеловал булат:
— Целуй и ты, сокол, да клянись в верном товариществе! Меч дарю неоценимый, у турка добыл — индийский хорасан. Век не притупится, рубись от сердца, от души, всю силу вкладывай, чтобы сразить супостата!
— Буду верен лыцарству! — пообещал Ермак и, опустив глаза в землю, подумал: «Ах, Уляша, Уляша, зачем ты между нами становишься?».
На ранней заре ушел казак ладить свой курень. Ветер приносил со степи, над которой простерлось глубокое, синее, без единого облачка небо, ароматные запахи трав. Парило. Тишина… И только по черному пыльному шляху скрипела мажара, запряженная волами, — старый чубатый казак возвращался с дальней заимки.
В полдень Ермак разогнул спину, воткнул заступ в землю. Внезапно перед ним выросла тонкая, вся дышащая зноем Уляша. Она стояла у куста шиповника и, упершись в бока, улыбалась. Сверкали ее ровные белые зубы, а в глазах полыхало угарное пламя. У Ермака занялось, заныло сердце.
— Ты что, зачем пришла? — пересохшими от волнения губами спросил он.
Блеснули черные молодые глаза. Уляша сильно потянулась и, жмурясь, сказала:
— По тебе соскучилась…
Ермак хрипло засмеялся:
— Почто чудишь надо мной?
— Потянуло сюда…
Она перевела дыханье и тихонько засмеялась.
— И воды студеной принесла тебе, казак. Испей! — Уляша нагнулась к терновнику и подняла отпотевший жбан.
Ермак сгреб обеими руками жбан и большими глотками стал жадно пить. От ледяной воды ломило зубы.
Уляша не сводила пристального взгляда с Ермака. Он напился и опять уставился в ее зовущие глаза. Околдовала его полонянка, казак шагнул к ней и, протянув жилистые руки, схватил девку, прижал к груди. Уляша застонала, затрепетала вся в крепких руках.
— Любый ты мой, желанненький, — зашептала она, — обними покрепче, пора моя пришла!
«А Степанка?» — хотел спросить ее Ермак и не спросил — почувствовал, что уже сорвался в пропасть. «Эх, чему быть, того не миновать!» — мелькнуло у него в голове, и он еще крепче обнял гибкое девичье тело.
Каждый день, пока Ермак строил свой немудреный курень, Уляша прибегал к нему, подолгу сидела, и все ласково с жаром упрашивала:
— Возьми меня, уведи от Степана: засохну я без любви. Самая пора теперь, гляди, какая весна кругом…
И забыл Ермак все на свете, — на седьмой день увел он Уляшу в свой отстроенный курень, в котором на видном месте, в красном углу, повесил подаренную Степаном булатную саблю.
— Вот и дружбе конец! — печально вымолвил он.
Уляша села на скамью, повела черными горячими глазами и сказала:
— Любовь, желанный мой, краше всего на свете…
Она протянула тонкие руки, и Ермак послушно склонился к ней.
Однако Степанка не порушил дружбу. Печальный и горький он пришел в курень Ермака, поклонился молодым:
— Что поделаешь, — сказал он. — Молодое тянется к молодому. Против этого не поспоришь, казак. Любовь! — станичник уронил голову. — Если крепкая ваша любовь, то и ладно, живите с богом! Вишь вон пора какая! — он показал на степь, на синие воды Дона, — весна в разгаре, пришел радостный день…
Весна и в самом деле шла веселой хозяйкой по степи, разбрасывая цветень. Ковыль бежал вдаль к горизонту, склоняясь под теплым ветром. Озабоченно хлопотали птицы, а ветлы над рекой радостно шумели мягкой листвой.
Уляша поднялась навстречу Степану, обняла его и поцеловала:
— Спасибо тебе, тату мой родненький, за доброе слово!
На ресницах Степана блеснула слеза: жалко ему было терять полонянку.
— Эх, старость, старость! — сокрушенно вздохнул он. — Кость гнется, волос сивеет… Отшумело, знать, мое дорогое время. Ну, Уляша, твоя жизнь — твоя и дорога! — он притянул к себе девку и благословил: — На долю, на счастье! Гляди, Ермак, пуще глаза береги ее!
Так и ушел Степанка, унеся с собою печаль и укоры. А Уляша как бы и недовольна осталась мирным расставанием: не поспорили, не подрались из-за нее казаки. Свела на переносье густые черные брови и, сердито посмотрев вслед Степану, сказала:
— Старый черт! Молиться бы тебе, а не девку миловать…
Петро Полетай, бравый казак с русым чубом, дружок Ермака, вышел к станичной избе и, кидая вверх шапку, закричал зазывно:
— Атаманы-молодцы, станичники, послушайте меня. На басурман поохотиться, зипуны добывать! На майдан, товариство!
На крики сошлись станичники, одни кидали вверх шапки, а другие подзадоривали:
— Любо, казаки, любо! Погладить пора путь-дорожку!
— За нами не станет, — весело откликнулся Полетай, — только клич атамана, зови есаула, — от прибылого присягу принимать, да в поход за зипунами!
Станицы и не видно, вся потонула в зарослях да в быльняке, а казаков набралось много. Зашумели, загомонили станичники. Ермаку дивно глядеть на бесшабашный и пестро одетый народ: кто в рваном кафтанишке, на ногах скрипят лапти, — совсем рассейский сермяжник, — но сам черт ему не сват — так лихо, набекрень, у него заломлена шапка, на поясе чудо-краса — черкесская булатная сабля, а за спиной тугой саадак-лук note 1 со стрелами в колчане, а кто — в малиновых бархатных кафтанах и татарских сапожках. Толстый станичник с озорными глазами хлопнул казака в лаптях по плечу:
— Пойдем выпьем, друг!
— А на что пить? — ответил лапотник, — видишь, сапоги целовальнику пошли!
— А мои на что? — засмеялся толстый и притопнул татарским сапожком, густо расшитым серебром. — Гуляй, казак!
Между тем топа уже кричала, волновалась, и у всех оружие: и турецкие в золотой оправе ружья, и булатные ножи с черенками из рыбьего зуба, и янычарские ятаганы, и пищали, изукрашенные золотой насечкой, и фузеи, — кто что добыл в бою, тем и богат.
Тут был и поп с лисьей острой мордочкой и мочальной бороденкой. Крупный пот выступил на его темном лице и смуглой лысине. Льстивым голоском он лебезил перед казаками:
— Куда, чада, собрались? В кружало надо бы…
Гул повис над площадью. Ермаку все внове, занимательно. Он тронул Полетая за локоть и спросил:
— А попик откуда брался? Не ладаном, а хмельным от него несет.
— Попик наш. Беглый из Рассеи. Обличен он в любовном воровстве, чужую попадью с пути-дороги сбил, за то и осудили в монастырь. А сей блудодей соскучился и в бега… Так до нас и добрел… А нам — что поп, что дьякон, одна бадья дегтю…
На крылечке показался атаман Бзыга в бархатном полукафтане, на боку кривая сабелька. Глаза, хитрые, быстрые, обежали толпу.
— Тихо, атаман будет слово молвить! — прокричал кто-то зычно, и сразу все смолкло.
Атаман с булавой в руке прошел на середину круга, за ним важно выступали есаулы. Бзыга низко поклонился казацкому братству, перекрестился, а за ним степенно поклонились есаулы, сначала самому атаману, а потом народу.
— О чем, казаки-молодцы, задумали? Аль в поход идти, аль дело какое приспело? — густой октавой спросил атаман.
— За зипунами дозволь нам отбыть! Соскучили мы и оскудели.
— Кто просит? — деловито спросил атаман.
— Полусотня, — смело выступил вперед Полетай.
— Что, казаки, пустим молодцов? Любо ли вам потревожить татаришек?
— Любо, ой любо! — в один голос отозвались на площади.
— Быть поиску! — рассудил атаман. — А еще что?
Петро вытолкнул вперед Ермака. Смутившийся, неловкий, переваливаясь, он вошел в круг. Атаман внимательно взглянул на прибылого и окрикнул:
— Что скажешь, рассейский?
— Кланяюсь тихому Дону и доброму товариству, примите в лыцарство! — Ермак низко поклонился казачьему кругу. Стоял он среди вольных людей крепышом, немного сбычив голову. На нем камчатная красная рубаха и широкие татарские шаровары, сапоги сафьяновые, а на поясе сабелька. Взглянув на нее атаман, признал булатную:
— Побратим со Степаном стал?
— Другом на всю жизнь! — твердо отозвался Ермак.
— Добро! — похвалил атаман. — Степанка — казак отменный, храбрый! Как станичники, решим? Любо ли?
— Любо, любо! Только дорожку гладить ему! — закричали озорные казаки.
Ермак чинно поклонился и неторопливо сказал:
— Бочку меду самого крепкого ставлю.
— Любо, любо!
— Есть ли еще чего? — громко выкрикнул атаман.
— И еще есть, — твердо сказал Ермак и, оборотясь к толпе, глазами нашарил Уляшу, подмигнул ей. Вышла в казачий круг полонянка, как тополь стройная, походкой степенная. На смуглом лице яркий румянец. Глаза светились горячими огнями. Атаман и казаки залюбовались девкой.
— Хороша, орлица! — похвалил атаман. — Ну, кланяйся честному народу да молись богу! Как звать?
Ермак выступил вперед и, возбужденный радостью, объявил:
— Уляшей, Ульяницей зовут.
— Хорошее имячко, — одобрил стоявший рядом бородатый станичник. — Пусть молится.
Полонянка растерянно оглянулась и опустила глаза.
— Черкеска или татарка, аль, может, и совсем цыганка, где ей молитвы наши знать! Молись, горячая, своему богу! — закричали в толпе. Но Уляша и своему богу не умела молиться. Вслед за Ермаком она помахала рукой, делая неуверенно крестное знамение, поклонилась своему будущему хозяину, как учили ее соседки.
Ермак расправил густую бороду и, по казачьему обычаю, накрыв полой Уляшу, сказал:
— Будь же ты моею женой!
Невеста упала жениху в ноги и весело отозвалась:
— Коли так, будь и ты моим желанным мужем!..
На этом все и окончилось. Выкатили бочку пенного меда и на майдане сильней зашумели казаки. Откуда ни возьмись, вперед протиснулся Брязга, тряхнул серьгой и весело запел, притоптывая каблуками:
При Долинушке
Вырос куст калинушки,
На этой на калинушке
Сидит соловейко,
Сидит, громко свищет.
Под неволюшкой
Сидит добрый молодец,
Сидит, слезно плачет…
Ермак понял намек: загрустили о нем товарищи-друзья — прилепился к полонянке. Он тряхнул курчавой головой и крикнул:
— Заводи веселую! Товариство николи не забуду! Казаку без драки дня не прожить! Айда-те, молодцы, к бочонку за ковш!..
Стал Ермак станичником и мужем полонянки. Хоть никто их не венчал, но слово перед народом дали, а ему, этому слову, крепость нерушимая. Хмельной он вернулся с площади и всю ночь ласкал свою жену, в глаза ей глядел и обнимал до хруста в костях. Радовалась она его великой силе, зарывалась лицом в курчавую бороду и все шептала:
— Милый, желанный мой! Смерть мне слаще разлуки, не покидай меня!
Однако на другой день, лишь только звезды стали гаснуть и месяц побледнел, Ермак покинул брачное ложе и быстро обрядился в путь-дорогу — в свой первый поход. Уляша вышла его провожать и долго держалась за стремя.
— Блюди себя! — сказал ей строго Ермак и погнал коня. Скакун сразу перешел на рысь и скоро вынесся на холм, с которого видны были серебристые излучины Дона, плавно и спокойно несшего свои воды в сине-дымчатую даль. За Доном, среди степных курганов, убегала узкая лента дорожки, по которой скакала наметом казачья станица.
Разбрызгивая сверкающую росу, Ермак нагнал ватажку. К нему подъехал Полетай.
— Что, молодец, хорошо с молодой женой, а еще лучше в привольной степи! — с чувством произнес он. — Нет на белом свете милее и краше нашего Дона! Вон, гляди! — показал он на вспыхнувшие под восходящем солнцем серебристые воды. Красавец! — Глубоко захватив всей грудью чистый и бодрящий степной воздух, он шумно выдохнул и продолжал:
— Каждая русская реченька имеет свою красу! Волга-матушка — глубокая, раздольная и разгульная! Урал — золотое донышко, серебряны покрышечки. Днепр быстрый и широкий, а наш Дон Иванович — тихий да золотой! Радостная, дорогая река наша… Эх, молодцы, песню! — закричал он зычно, и казаки, встрепенувшись, запели родную и веселую. Далеко и широко разнесли степные просторы голоса станичников.
В степи, за Манычем, на глухом шляху приметили казаки бухарский караван. Куда ни глянь — пустыня, необозримые просторы и по ним, словно в море, одна за другой бегут зеленые волны ковыля. Они набегают из-за окоема и, колыхаясь, торопятся далеко-далеко к горизонту. Станичники притаились за курганом и терпеливо ждали добычу. В легком облаке пыли появилась вереница качающихся на ходу верблюдов. Подле них на добрых конях всадники в остроконечных шапках, с копьями в руках.
Кругом тишина. Степь ласково поит душу покоем и солнцем. Рядом в ковыле, мимо затаившихся казаков, проходит стая дудаков. Они любопытно вытягивают головки и удивленно смотрят на караванщиков. Не верится Ермаку, что сейчас вспыхнет сеча.
На переднем двугорбом верблюде сидит карамбаши-проводник, прямой и осанистый, в зубах у него зажата оправленная в серебро трубка. Гортанный говор все ближе, о чем-то с жестикуляцией спорят чернобородые купцы.
Полетай оглядел ватажку и во всю мочь крикнул:
— За мной, братцы!
С визгом и криками понеслась станица, охватывая караван, как распластанными крыльями, конной лавой. И сразу словно ветром сдуло всю важность с купецкий лиц. Бухарцы в пестрых халатах, в белых чалмах бросились на землю и уткнулись бородами в пыль. Всадники неустрашимо кинулись защищать хозяйское добро. Только один карамбаши, смуглый, со скошенными, длинными глазами и резко очерченным ртом, невозмутимо восседал среди обезумевших людей. Когда Ермак кинулся к нему, он проворно соскочил с верблюда и низко поклонился казаку.
— Стой, не тронь, хозяин! — неожиданно заговорил по-русски карамбаши: — Я веду караван, но не нанимался, однако, защищать купца!
Его одного и взяли в полон; других порубили, а то отпустили — иди, куда понесут ноги!
Казаки возвращались домой с тюками цветистых шелковых тканей, пестрых ковров, везли разные ожерелья, кишмиш и мешки пряностей, от которых огнем горит во рту…
Кони бежали на холмистую гряду, и вот она, — рукой подать, — станица.
Над Доном длинной седой волной колебался туман, а в степи — прозрачная даль. Влево над станицей вились сизые дымки. Жизнь там только что просыпалась после ночного сна. На караульной вышке шапкой машет часовой. Из-за кургана выплыло ликующее солнце и сразу озолотило степь, дальнюю дубраву и высокие ветлы над станицей.
Казаки сняли шапки и помолились на восток.
— Пошли нам, господи, встречу добрую!
Глядя на дымки станицы, Ермак сладостно подумал: «Среди них есть дымок и моей хозяюшки! Знать, хлопочет спозаранку!» — от этой мысли хмелела голова.
А вот и брод, а неподалеку стадо. «Что же это?» — всмотрелся Ермак, и сразу заиграла кровь. На придорожном камне, рядом с пастухом Омелей, бронзовым, морщинистым стариком, Уляша наигрывала на дудке печальную мелодию. Щемящие звуки неслись навстречу ватажке. Заметив Ермака, молодка вскочила, сунула дудку пастуху и прямо через заросли крушины побежала к шляху. На ней синел изношенный сарафанчик, а белые рукава рубахи были перехвачены голубыми лентами. И ни платка, ни повойника, какие положены замужней женщине.
— Здорова, краса-молодуха! — весело закричал Ермак женке.
Уляша подбежала к нему. Яркий румянец заливал ее лицо:
— Ох, и заждалась тебя!..
— Видно, любишь своего казака? — стрельнув лукавым глазом, насмешливо спросил Брязга.
— Ой, и по душе! Ой, и дорог! — засмеялась она и, проворно вскочив на коня, обняла Ермака за плечи.
Петро Полетай оглянулся и захохотал на все Дикое Поле:
— Вот это баба! Огонь женка!
Вошли в курень. Ермак сгрузил разбухшие переметные сумы, вытер полой вспотевшего коня, похлопал его по шее и только тогда обернулся к Уляше:
— Ну, радуйся, женка, навез тебе нарядов!
Тесно прижав к себе Уляшу, он ввел ее в избу и остановился пораженный: в избе было пусто, хоть шаром покати. Но не это смутило казака. Заныло сердце оттого, что не заметил он хозяйской руки в избе, ни полки с горшками у печи, ни сундука, ни пестрого тряпья на ложе. Печь не белена. На голых стенах скудные ермаковы достатки: сбруя, седло старое с уздечкой, меч. В углу, перед иконой спаса, погасшая лампадка.
Ермак нахмурился. Не того он ожидал от жены. Подошел к печи, приложил ладонь: холодна!
— Ты что ж, не топила, так голодная и бродишь? — сурово спросил он.
Уляша, не понимая, подняла на него свои горящие радостью глаза.
— А зачем хлопотать, когда тебя нет?
— Так! — шумно выдохнул Ермак. — А жить-то как? Где коврига, где ложка, где чашка?
Вместо ответа Уляша бросилась к нему на грудь и начала ласкать и спрашивать:
— А где же наряды, а где же дуван казака?
Ермак потемнел еще больше, но смолчал.
Пришлось втащить тюк и распотрошить его. Глаза Уляши разбежались. Жадно хватала она то одно, то другое и примеряла на себя. Укутавшись пестрой шалью, она любовалась собой и что-то напевала — незнакомое, чужое Ермаку. Нанизала янтарные бусы и смеялась, как ребенок.
— Ай, хороши! Красива я, говори? — тормошила она Ермака.
— Куда уж лучше! — горько сказал он, а с ума не шла досада: «Не хозяюшка его женка, а полюбовница!». Чтобы сорвать тоску, сердито спросил: — Ты что пела? Это по-каковски?
— Ребенком мать учила. А кто она была — не знаю, не ведаю. — Она помолчала, не глядя на Ермака, была вся поглощена привезенным богатством.
— Ох, наваждение! — тяжко вздохнул казак и уселся на скамью. Угрюмо разглядывал Уляшу. Было в ней что-то легкое, чужое и враждебное ему. «Ей бы плясы да песни петь перед мурзой, а попала в жены к казаку. Ну и птаха плясунья!» — подумал Ермак.
Не видя его хмурого лица, Уляша и впрямь пустилась в пляс.
«Ровно перед татарским ханом наложница пляшет. Эхх!» — сжал Ермак увесистый кулак. Так и подмывало ударить полонянку по бесстыдному лицу. Но и жалко было! Люба или не люба? Поди разберись в своих чувствах! Он не сдержался, вскочил со скамьи и схватил ее за волосы. Дернуть бы так изо всей силы и кинуть к ногам, растоптать пустельгу! Но, откинув ее голову, он встретился с ее жадными-красными губами и палящими глазами и обмяк.
— Бес с тобой, окаянница! Играй, пляши, лукавая! — бесшабашно махнул он рукой…
Так и повелось. Ермак уходил на охоту бить кабанов в донских камышовых зарослях, пропадал два-три дня в плавнях, а молодка проводила время, как хотела. Только затихал конский топот, она убегала в степное приволье. Там, вместе с казачатами, гоняла верхом табуны или, вместе с пастухом Омелькой, пасла овечьи отары и играла на дудке. Порой приходила на костер к рыбакам и бередила их своими жгучими глазами. Бывало, бросалась в Дон и переплывала с берега на берег. А о доме не помышляла. Был он, как у бобыля, пустым и бесприютным.
Затосковал Ермак. Когда пришел к нему Петро Полетай и заговорил о набеге, он, не долго думая, решил вместе с ним сбегать под Азов — отвести душу. Уляша плакала и, уцепившись за стремя, далеко в степь провожала своего казака. А он, глядя на нее с седла, был и доволен, что уезжает, и тревожился, что оставляет ее одну.
Через неделю веселый и бодрый примчался Ермак к своему куреню, и будто разом оборвалось сердце: не вышла, как всегда, Уляша к околице встретить его, незахотела взглянуть ему весело в глаза и прошептать знакомые, но такие волнующие слова, от которых вся кровь разом загоралась в жилах. Охваченный тревогой, казак соскочил с коня, пустил его ходить на базу, а сам устремился в избенку. Распахнув дверь и… замер от неожиданности.
Прямо перед входом, на широкой кровати лежал, раскинувшись, Степанка, и, положив голову на его жилистую руку, сладко дремала Уляша. Гость открыл глаза и ахнул:
— Ермак!
— Что ты! — открыла глаза Уляша, и застыла от страха.
— Так вот вы как! — скрипнул зубами Ермак. — Вот как!
Все молчали, ни у кого не находилось ни слова. Степанка поднялся и стал проворно одеваться. Ермак прислонился к стене и, мрачно блестя глазами, следил за ним. Долго длилось тяжелое молчание. Наконец, Уляша легко спрыгнула с ложа и, подбежав к Ермаку, упала на колени:
— Прости…
— Не подходи! — прогремел Ермак И, распахнув дверь, выбежал на баз. За ним легкой тенью устремилась Уляша. Обнял, обвила руками казака:
— Любимый мой, ласковый прости!..
Ермак остановился:
— Ты что наробила, гулящая?
Уляша бросилась на землю, охватила его колени и, целуя их, говорила:
— Заждалась я… От тоски… Любить крепко буду, только прости!..
Ермак схватил жену за руку, до страшной боли сжал запястье и заглянул в лицо. Она не застонала, смотрела широко раскрытыми глазами в его глаза. Дрогнуло сердце Ермака.
— Ладно, не убью тебя! — проговорил он. — Но уйди, поганая! Ты порушила закон! Уйди из моего куреня!
Ермак оторвал от себя руки Уляши, оттолкнул ее и, не глядя на хмуро стоявшего поодаль Степанку, пошел к коню. Похлопав по крутой шее жеребца, он проворно вскочил в седло и, не оглядываясь, поскакал в степь.
Ермак мчался по степи, по ее широким коврам из ковыля и душистых, медом пахнувших трав, и не замечал окружающей его красоты. Сердце его кипело жгучей ревностью, злобой и жалостью. То хотелось вернуться и убить обманщицу, то было жалко Уляшу и тянуло простить и приласкать ее.
Долго кружил Ермак под синим степным небом. Путь пересекали заросли терновника и балки. Подле одной из них, из рытвины внезапно выскочил старый волк с рыжими подпалинами и понесся по раздолью. Конь захрапел, но, огретый крепко плетью, взвился и стрелой рванулся по следу зверя. Лохматый и встрепанный серый хищник хитрил, стараясь уйти от погони: петлял, уходил в сторону, но неумолимый топот становился все ближе и ближе…
Ермак настиг зверя и на полном скаку сильным ударом плети по голове сразил его. Зверина с кровавым пятном, быстро растекшимся по седой шерсти, перекувырнулся и сел. Он сидел, хмуро опустив лобастую голову и оскалив клыки. Глаза его злобно горели.
— Что, ворюга, к табуну пробирался? — закричал Ермак и быстрыми страшными ударами покончил с волком…
Возбуждение Ермака прошло. Угрюмо глянув на зверя, он повернул коня и снова поскакал по степи. Но теперь уже тише было у него на душе, схватка со зверем облегчила его муки.
У высокого кургана, над которым кружили стервятники, Ермак свернул к одинокому деревцу и остановился у ручья, серебряной змейкой скользившего среди зеленой поросли. Расседлав жеребца и стреножив его, казак жадно напился холодной воды, поднялся на бугор и, прислонясь спиной к идолищу — каменной бабе, сел отдохнуть. Над ним синело бездонное небо. Глядя на него, Ермак гадал: «Что-то теперь с Уляшей? Ушла она или дома сидит, плачет и ждет?».
От этих дум снова пришла скорбь к казаку. «Уйдет? Ну что ж, должно быть, так и надо! Дорога казачья трудная, опасная. Не по ней ходить семейному. Эх, Уляша, Уляша — покачал головой Ермак, — думал — сладкий цветок ты, а ты змеей оказалась, головешкой!».
До вечера он просидел у каменной бабы. А потом — снова на коня. Обратно мчал так, что ветер свистел в ушах. Вот и Дон, а вот и знакомый плес! По степи к броду шумно тянулась овечья отара. Пастух Омеля, одетый в полушубок с вывернутой кверху шерстью, завидя Ермака, обидно крикнул:
— Припоздал, станичник, прогулял свою бабу!
— Что такое? — хрипло, чуя беду, спросил Ермак.
— Утопла твоя Уляша! Утром с яра кинулись, и конец ей…
Ермак пошатнулся в седле и ни слова не сказал в ответ.
— Не слышишь, что ли? Выловили девку из Дона, и Степанка унес ее к себе в курень. Мертва твоя Уляша… Эх ты, заботник!
На третий день всей станицей хоронили жену Ермака. Несли ее казаки в тесовой домовине. Позади всех, опустив голову, тяжелым шагом брел вдовец. И видел он, как рядом с гробом, припадая на посох, плелся сгорбленный и потухший в одночасье Степанка.
Когда комья земли застучали по домовине, станичник примиренно сказал:
— Вот и угомонилась горячая кровинка, доченька моя. Спи тихо во веки веков!
Ермак промолчал. Ушел с могилы суровый и угрюмый.
В эту же ночь он, собрав ватагу самых отчаянных, вместе с Брязгой умчался в степи, пошарпать у ногаев и горе развеять. Станичники, проведав об этом, одобрили:
— Пусть выходит… Хорош и отважен бедун: ему не с бабами ворковать. Ему конь надобен быстрый, меч булатный да вольное поле-полюшко…
Давно казаки не видели подобного в степи: с татарской стороны налетело птицы видимо-невидимо, и станичные горластые вороны, которые кормились по казачьим задворкам, завели драку с прилетными. Сказывали понизовые казаки, что и у них подобное случалось в Задонье. И еще тревожное и неладное заметили на дальних выпасах пастухи-табунщики — от Сивашей, от поморской стороны набежало бесчисленно всякого зверя: и остервенелых волков, и легконогих сайгаков, и кабаны остроклыкие шли стадами, ломали донские камыши и рыли влажную землю в дубовых рощах.
Видя суету в Диком Поле, бывалые люди говорили:
— Худо будет! Орда крымская на Русь тронулась. Кормов много, вот и тянет степью на порубежные городки!
А в одно утро мать разудалого казака Богданки Брязги, — рослая и сильная станичница, — увидела в донской заводи плавающих лебедей. Как белоснежные легкие струги под парусами, горделивые лебедушки рассекали тихую воду, ныряли, в поисках добычи, а потом поднимали гибкие шеи и перекликались. Никакого дела им не было до людей. Но лишь казачка подошла к воде, они издали гортанный крик и, размахивая розоватыми на солнце крыльями, поднялись ввысь.
— Весточку, видать, приносили! — сокрушенно вздохнула казачка и пожелела, что спугнула лебедей.
Беспокойство в степи, между тем, нарастало. Тучами снимались птицы, ветер доносил гарь, и на далеком окоеме столбами вилась пыль.
Есаул, заглядывая вверх, предостерегал караульного на вышке:
— Гляди-поглядывай!
— Глаз не спускаю с Поля! — отзывался казак, и впрямь, как сокол, оглядывал просторы.
— Стой, есаул, вижу! — однажды закричал он.
Дозорщик заметил на горизонте быстро движущиеся точки.
— Гляди, скачут! Что птицы, несутся!
— Наши? — спросил есаул и по шаткой стремянке торопливо поднялся на маячок.
Вместе с караульным он стал разглядывать дали. Всадники вымахнули на бугор, и казаки признали своих.
— Слава господу, наши бегут станицей! — облегченно вздохнул есаул.
По тому, как бежали кони, поднимая струйки пыли, и держались всадники, остроглазый часовой в раздумье определил:
— Наши-то наши, но бегут шибко. Знать, беда по следу торопится!
— Чего каркаешь! — сердито перебил есаул и прищурился. Увидел он теперь, что ватажка мчалась во всю лошадиную прыть, точно «на хвосте» у всадников висел сам сатана.
Клубы пыли все гуще, все ближе. Кони скакали бешенно и дико — так уносятся они от волка или злого врага.
— Вести несут! — сурово сказал есаул и, не задумываясь, повелел: — Бей в набат!
Частые тревожащие удары нарушили застывшую тишину и разбудили станицу.
По куреням на базах, у кринички, где женки брали воду, пошел зов:
— На майдан! На майдан!
С разных сторон на площадь бежали казаки, на ходу надевая кафтаны и опоясывая сабли. Начались шум, толкотня, перебранки. Лишь старые бывалые казаки, украшенные сабельными рубцами, шли неторопливо, чинно, горделиво держа головы. Они-то наслышались, накричались и повоевали на своем веку! Всякую тревогу и невзгоду перенесли, в семи водах тонули и выплыли, истекали кровью да не умерли, — живуч казацкий корень, — и теперь многому могли поучить молодых и ничего не страшились.
На станичную улицу лихо ворвалась ватажка удалых:
— Эй, погляди, среди них татарин! — закричала женка.
— Брысь отсель! — огрызнулся на нее густобородый дед. — Кш… Кш… На майдане — не бабье дело.
Молодка вспыхнула, порывалась на дерзость, но вовремя одумалась: за неуважение к старику могли тут же, на майдане, задрав подол, отхлестать плетью.
«Фу ты, ну ты, старый кочет!» — озорно подумала она и нырнула, как серебристая плотвичка, в самую гущу толпы.
Вот, наконец, и ватага! Кони взмылены, лица у казаков усталые, пыльные. У иных кровь запеклась. Впереди Петро Полетай, а рядом Ермак. Тут же позади и Богдан Брязга и Дударек. Увидя сына, мать всплакнула:
— Жив, Богдашка! Кровинушка моя…
Среди казаков на чалом ногайском коне сидел молодой татарин, обезоруженный, со скрученными за спину руками.
Ватажка въехала в толпу. Потные кони дышали тяжело, с удил падала желтая пена. Одетые в потертые чекмени, в шапках со шлыками из сукна, удальцы держались браво. Пробираясь сквозь толпу, они кланялись народу, перекликались с родными и знакомыми:
— Честному лыцарству!
— Тихому Дону!
Позвякивали уздечки, поблескивали сабельки, покачивались привешенные к седлам саадаки с луками и стрелами. Лица у ватажников строгие, обветренные. Выбритый до синя гололобый татарин испуганно жался, жалобно скалил острые зубы, а у самого глаза воровские, злые. Его проворно стащили с коня и толкнули в круг. Спешились и казаки. Кони их сами побрели из людской толчеи. Волнение усилилось, хлестнуло круче, людской гомон стал сильнее.
Минута, и все затихло: из станичной избы показались старики. Они несли регалии: белый бунчук, пернач и хоругвь — символы атаманской власти. За седобородыми дедами важно выступали есаулы, а среди них атаман.
Ермак вытянул шею и подивился казачьему кругу. На этот раз с еще большей важностью двигался тучный Бзыга. Пот лился с его толстого обрюзглого лица, слышно было, как дыхание со свистом вырывалось из груди. Атаман задыхался от ожирения. Но как ни пыжился, ни надувался важностью Бзыга, а все же уловил Ермак в его глазах скрытую трусость.
Площадь замерла, и только в голубой выси хлопали крыльями сизые турманы. Такое затишье наступает обычно перед грозой.
— Сказывай, казаки, с чем пожаловали? — громко окрикнул атаман ватажников.
Петро Полетай выступил вперед и чинно поклонился.
— Браты, атаман и все казачество! — чеканя каждое слово, громко сказал он. — Турецкая хмара занялась с моря и Перекопа. Идут великие тысячи: янычары и спаги, а с ними крымская орда. Под конскими копытами земля дрожит-стонет! Идут, окаянные. Дознались мы, рвутся басурманы через донские степи на Астрахань…
— Слышали, станичники? — возвысив голос, спросил атаман. — Слышали, что враг близко?
— Слышали, слышали! — отозвались в толпе.
— А еще что видели? — снова спросил Бзыга.
Петро полетай поднял голову и продолжал с горечью:
— Видели мы своими очами — горят понизовые станицы. Дети и женки… Вот полоняник скажет, кто сюда жалует!
Сильные руки подхватили татарина и вытолкнули на видное место.
— Сказывай, шакал, кто на Русь идет?
Татарин съежился, как под ударами хлестких бичей. Заговорил быстро и еле внятно.
Переводчик, громоздкий усатый казак, старый рубака, пробывший четверть века в полоне у крымчаков, перехватывал трусливую речь и переводил:
— Просит не убивать.
— А сам с чем шел, не наших ли женок и детей рубить да насильничать. Спрашивай его, бритую образину, о другом! — зашумели вокруг.
Атаман сделал рукой знак. Казаки опять стихли, сдержали страсти, охватившие их сердца. Переводчик спросил пленника и выкрикнул:
— Сказывает, сам Касим-паша с большим войском идет, а с ним Девлет-Гирей спешит с мурзами. Орду ведет. Из Азова плывут турские ладьи с пушками и ядрами. Из Кафы янычары добираются. И еще сказывает, трое ден тому назад передовые татарские загоны в четыре перехода отсель были. Жгли степные заимки, низовые городки…
— Стой, мурло татарское, — перебил полонянина атаман, — говори толком, кто орду ведет: сам ли Девлет-Гирей или сынки его, стервятники подлые! Чем оборужены и что затеяли?
Татарин снова залопотал.
— Беклербег кафийский конников ведет! — оповестил толмач. — А с ним шесть сенжаков. С ордой хан Девлет-Гирей… Идут на Переволоку, а другие через Муджарские степи…
— Слыхали, станичники: орда идет, великая гроза занимается! — поднял голос атаман. — Рассудите казаки, тут ли, в куренях, будем отбиваться, аль со всем Доном в Поле уйдем, день и ночь будем врагу не давать покою и роздыху. Как, станичники?
— День и ночь не давать басурманам покоя! — дружно ответили станичники. — Любы твои слова атаман!
— Этой ночью станица уйдет в донские камыши да овражины, в лесные поросли! С волками жить — по-волчьи выть. В сабли татар и турок! Выжгем все!
— В сабли! На меч, на острый нож зверюг!
Присудили станичники: темной ночью всем — и старым и малым — укрыться в степных балках, в укромных местах. Пусть достанутся в добычу злому татарину и жидному турку пустые мазанки да быльняк. А уйдет орда, все снова зашумит-заживет.
— Ух ты, жизнь — перакати-поле! — горько усмехнулся Ермак и вместе с казаками побрел с майдана. Конь его уже был на базу. Хозяин бережно обтер полой своего кафтана скакуна и покрыл ковром. В мазанку не вошел — вспомнил еще не зажившее. Сгреб под поветью охапку камыша и разостлал под яблонькой.
Мысли набегали одна на другую. За соседним плетнем заголосила молодица.
«Загулявший казак побил, — подумал Ермак, заворочался и опять вспомнил свое житье. — Набедокурила, лукавая».
Он старался успокоить себя, но не мог: тревожил женский плач. Не вытерпел казак, поднялся и пошел на причитания. На земле, среди полыни, сидела простоволосая женка в одной толстой грязной рубахе, поверх которой накинут дырявый татарский шумпан. Молодая, крепкая, словно орешек, только радоваться, а она слезы льет.
— О чем плачешь, беспутная? — строго спросил женку Ермак.
Она вскинула на станичника удивленные глаза и ничего не ответила.
— Что молчишь? Чья будешь?
— Беглая, за казаком увязалась, а теперь одна, зарубили его! — всхлипывая отозвалась черноволосая.
— Имя твое как? — смягчаясь сердцем спросил Ермак.
— Была Зюленбека, а сейчас Марья.
— Выходит, крещеная полонянка?
— Сама с казаком сбегла, увела его из полона.
— Гляди, какая хлопотунья! — удивился Ермак и одним махом перелетел через плетень. — Чего же ты ревешь, раз не бита?
— Куда мне идти теперь? Татары придут и меня застегают! — скорбно сказала Зюленбека.
— Не бойся, — взял ее за руку казак: — Не придут сюда бритые головы. А коли придут, кости сложат. Не кручинься, уберегу!
Татарка была красива, хоть и неопрятна. Щеки у нее, что персики, матовые, а глаза — огоньки. Ободрилась она. По смуглому лицу мелькнула радость.
Ермак посоветовал:
— Пока укройся с женками, а там видно будет. Оберегайся!
Женщина смокла и теплыми глазами проводила Ермака…
Закат погас. Ермак напоил коня, привязал его к кусту неподалеку от себя и растянулся на камышах, подложив под голову седло.
Донскую землю покрыла свежая, ароматная ночь. Холодок пошел с реки. Казак лежал и смотрел в безмятежную глубину неба, по которому плыли золотые пчелки-звезды. А на душе было тревожно. Где-то рядом, на шляху, который скрывался за темным бурьяном, женский жалостливый голос запричитал:
— Ах, родная, что опять будет? Дон наш родимый, ласковый, укрой нас от злой напасти, от лихой беды…
Далеко на окоеме занялось кровавое зарево: должно быть загорелась дальняя станица…
2
Росла и наливалась крепостью русская земля. Несмотря на то, что царь Иван Васильевич Грозный неудачно воевал за искони русские берега Балтики, русский народ достиг невиданного доселе могущества и силы, и далеко раздвинул пределы молодого государства. Русские люди встречь солнцу дошли до Каменного Пояса, прочно обосновались на суровых берегах Студеного моря и плавали на смоляных ладьях на далекий и сказочный Грумант. Грудами костей усеяли родную землю, но остановили монголов и спасли этим Европу. Не иссякла сила нашего народа. Сломив владычество Орды, он и дальше утверждал свою независимость. Последние царства, образовавшиеся на обломках Золотой Орды, — Казанское и Астраханское, пали, и Волга стала русской рекой. Наймит польской шляхты Стефан Баторий, с его полками и ландскнехтами, не мог взять Пскова и позорно ушел потому, что стойкость русских людей оказалась крепче стен каменных.
Сила и крепость Русского государства вносили беспокойство в душу турецкого султана Солимана великого. Он считал себя верховным повелителем и защитником мусульман во всей вселенной, и покорение московитами двух магометанских царств на Волге страшно встревожило его, и он писал ногайскому мурзе Измаилу с превеликой тревогой:
«В наши магометанских книгах пишется так, что пришли времена русского царя Ивана: рука его над правоверными высока. Уж и мне от него обида великая: Поле все и реки у меня поотнимал, да и Дон от меня отнял, даже и Азов город доспел, до пустоты поотымал всю волю и Азов. Казаки его с Азова оброк берут и не дают ему пить воды с Дона. Крымскому же хану казаки ивановы делают обиду великую и какую срамоту нанесли, — пришли Перекоп воевали. Да его же казаки какую еще грубость сделали — Астрахань взяли, и у нас оба берега Волги отняли и ваши улусы воюют. И то вам не срамота ли? Как за себя стать не умеете? Казань ныне тоже воюет. Ведь это все наша вера магометанская; станем же от Ивана обороняться за один… Ты б, Ислам мурзу, большую мне дружбу свою показал: помог бы Казани людьми своими и пособил бы моему городу Азову от царя Ивана казаков…»
Сильно был смущен повелитель правоверных Солиман успехами русских. И еще горше становилось у него на сердце от сознания, что Астрахань не только не захирела, но с появлением русских оживилась и стала большим караванным путем на Русь. Со всего Востока сюда наезжали расторопные купцы с товарами — из Шемахи, Дербента, Дагестана, Тюмени, Персии, Хивы, Бухары и Сарайчика — вели бойкий торг. Струги и ладьи, груженные самыми разнообразными изделиями и тканями, плыли из Астрахани по Волге и расходились по всей Руси, и это еще сильнее связывало берега Каспия со всей русской землей. Солиман сознавал торговое значение Астрахани и еще больше злобился на Москву. Была и другая причина душевных волнений султана — ущемленное самолюбие азиатского владыки. Русский царь Иван Васильевич в своем пышном титуле стал именовать себя не только царем Московским и всея Руси, но и Казанским и Астраханским. И, к терзаниям султана, — король польский признал этот титул и поздравил русского царя с победой над неверными.
Турский хункер (султан) был сильно встревожен, но попрежнему мечтал о захвате Астрахани. А тут в 1563 году из нее бежал князь Ярлыгаш и добрался до Стамбула. Солиман обласкал беглеца, и тот, ободренный султанской милостью, стал расписывать ему заманчивое будущее, которое ждет турок в Астрахани. Ярлыгаш уверял, что все астраханцы якобы только и мечтают о приходе своих единоверцев.
— Великий и всемилостливый царь царей, неизреченная справедливость на земле, как возвеличится твое имя после победы над московитами! А получив Астрахань, можно будет подумать и о Казани! — льстиво уговаривал султана Ярлыгаш.
От заманчивых обещаний у султана вскружилась голова. Он стал бредить великими делами и, наконец, по совету первого визиря, решил осуществить поход. «Царь царей» задумал проложить новые военные дороги. Он намеревался вызвать из Европы искусных инженеров и на донской земле, на Переволоке, прорыть канал, открыв водный путь из Азова к Астрахани и Казани.
Однако осторожный и лукавый Солиман рассудил, что в этом деле выгоднее всего будет положиться на своего поручника, хана крымского. Осенью 1563 года султан прислал в Крым своего гонца и через него повелел хану Девлет-Гирею к весне приготовиться в дальний поход. Наказывал он, чтобы крымчаки приготовили большой запас, откормили коней, запаслись оружием, да наготове держали тысячу подвод под большой наряд. Турский хункер обещал хану послать на помощь янычар с царевичами и доставить пушки и ядра.
О повелении Солимана хану дознался московский посол Афанасий Нагой, присланный с подарками в Бахчисарай. Он и написал царю о замыслах врагов: «Пойдут турки с большим нарядом на судах Доном до речки Иловли, на устье Иловли класть им наряд и телеги в малые суда и плыть Иловлею вверх до речки Черепахи, до которой от Иловли будет у них переволока верст с семь, а речкою Черепахою идти вниз до Волги…»
Посол не сидел в безделье, он обещал хану всякие посулы. Умный Нагой хорошо изучил нравы крымских ханов: «Татарин любит того, кто ему больше даст».
Девлет-Гирей отличался жадностью и не прочь был поживиться, но он боялся и другого — попасть в полную зависимость от султана. Крымцы любили легкую наживу: налететь внезапно на порубежные городки, погромить, захватить добычу и скрыться в свои улусы. Поход на Астрахань показался Девлет-Гирею явно сомнительным. Он уже раз испытал на себе силу русских. В 1559 году татары спешили, по обычаю, напасть на русскую землю врасплох, но увы, времена переменились! На границе Дикого Поля выросли пограничные русские городки с гарнизонами, готовыми встретить врага на перелазах и бродах. Девлет-Гирей с ордой достиг реки Мечи и здесь столкнулся с порубежниками. Хан не дерзнул идти дальше. Гонимый страхом, он повернул в Дикое Поле и поморил в страшной гонке лихих коней и всадников. Князь Воротынский шел за ним по трупам до Оскола и не мог нагнать орду. Тем временем донские казаки быстро собрались и зашли в тыл крымской рати. Близ Перекопа произошла кровавая сеча, от которой нескоро оправились татары. Хан не забыл урока и, восхваляя достоинства Солимана, посылая ему в подарок лучших кречетов, просил чауша доложить султану, что пройти к Астрахани невозможно, а еще труднее удержать ее…
Поход не состоялся. К этому времени царь Иван Грозный прислал крымскому хану двадцать четыре воза поминков. Девлет-Гирей готовился выслушать грозный окрик султана, но, к счастью, Солиман великий неожиданно умер, и все временно было забыто.
Смерть «царя царей и повелителя вселенной» была столь неожиданна, что у многих возникла мысль — кто же ускорил его конец? Но как бы то ни было, сын хункера Селим, давно с нетерпением ждавший власти, чтобы упиться радостями жизни, заместил покойного. Подобно отцу, он жаждал прославиться великими делами, чтобы люди почитали его за мудрейшего повелителя на земле. Молодой хункер придал своему двору невиданную пышность. Его сборщики налогов непристанно собирали подати. Там, где Солиман брал дважды, сборщики Селима выколачивали четыре раза, порой унося из-под ног правоверного последний пыльный кусок молитвенного войлока. Агенты хункера шныряли по всем восточным базарам и скупали для султанского сераля самых красивых полонянок. Изнеженный, с женоподобным торсом и сластолюбивыми губами, он много времени проводил в своем гареме. Триста жен и наложниц предавались лени и вели свары за обладание вниманием пылкого хункера. Но он делил радости только с избранными, а остальные прелестницы, воспитанные мамками и евнухами, обученные изысканному поведению, содержались лишь для придания блеска султанскому двору. Селим поражал своих подданых невиданными охотами. В те дни, когда случалось, по улицам Стамбула все замирало и люди падали ниц, чтобы не осквернить созерцанием безмятежный лик своего повелителя. Великолепный, одетый в парчу, сияющий драгоценными камнями, он ехал на белоснежном аргамаке, среди блестящей свиты и сопровождаемый огромным обозом, в котором среди ковров и перин нежились любимые наложницы. «Повелитель вселенной» отправлялся в горы, чтобы в погоне за зверем показать свою ловкость и мужество. Визири и паши задолго до этого присылали ко двору медведей, козлов и диких кабанов, которых султанские звероловы тщательно готовили к охотничьему дню. В зверинец хункера свозились орлы — стервятники, львы и леопарды: их доставляли со всех концов турского царства. Больше всего султан предпочитал охоту с ястребами, соколами и кречетами, особенно с той поры, когда разозленный дикий кабан страшным ударом клыков опрокинул султанского аргамака.
После прогулок султан долгие часы проводил в излюбленной им бирюзовой зале. Восседая на высоко взбитых подушках, обтянутых дорогими шелками нежнейших расцветок, он тянул из кальяна и внимательно слушал предсказания астрологов и разных предвещателей. Сотни бездельников с важным видом занимались составлением гороскопов, предсказывали гром и бурю, землетрясения и заговоры, войны и походы. Если многое не сбывалось, то астрологи со смиренным и серьезным видом объясняли это неожиданным вмешательством в дела человеческие еще неведомых сил.
В светлый солнечный день, когда парк загородного дворца был напоен весенними благоуханиями, к султану на прием прибыли послы Бухары и Хивы. Великий визирь заранее подготовил хункера к их просьбам, но, не посоветовавшись со звездочетами, Селим не решился сказать им слово. Поджав под себя ноги, султан сидел на возвышении, украшенном золотом и драгоценными коврами, изображая собою полное равнодушие ко всему на свете. Два темнокожих нубийца, рослых и мускулистых, в ярких халатах, большими опахалами из страусовых перьев направляли струю прохлады на чело «средоточия вселенной». Почтенный длиннобородый астролог, проведший перед тем ночь на одной из дворцовых башен в созерцании далеких небесных светил, стоял сейчас перед султаном и искательно смотрел на повелителя.
Хункер оживился и спросил звездочета:
— Скажи, что предначертали звезды о задуманном мною?
Астролог вспомнил о поднесенных ему втайне дарах бухарцев и заговорил льстиво:
— О, светлый лик, радость вселеной, царь царей, по сочетанию светил ничтожный раб твой угадал волю аллаха. На Итиле московиты притесняют правоверных, и слезы их взывают к мщению. Ты, наместник пророка на земле, всемилосердное сердце, не можешь не страдать от сего. Звезды мне сказали, что время для похода на Итиль самое лучшее и благонадежное…
Султан молчал, но в душе возликовал: настала пора прославиться! То, что не сделал отец его — Солиман великий, свершит он, его сын, мудрейший и могущественный. Хункер повел глазом и благосклонно улыбнулся. За повелителя ответил первый визирь:
— Твои слова, Измаил, приняты чувствительным сердцем великого повелителя всех правоверных. Теперь иди и радуйся, что можешь погрузиться в счастье, выпавшее на твою долю!
Астролог удалился, и на смену ему на коленях впозли послы из Бухары и Хивы. Они доползли до высокого трона, над которым раскинулся купол синего балдахина, сверкающего, словно звездами, драгоценными камнями. Хункер восседал лицом к югу, к Мекке, где, как известно, почивает вечным сном пророк Магомет. Султан заплыл жиром, одряхлел, но борода была изсиня-черна. Прищурив темные глаза, под которыми серели нездоровые отеки, он надменно взглянул на послов. Толстые бухарцы, с бородами, окрашенными хной в огнистый цвет, разом, точно по уговору, пали ниц перед султаном. Они распростерлись на мягких коврах, выставив свои обширные зады.
Хункер молчал, изредка шевелил пухлыми пальцами, на которых сверкали искрометным светом драгоценные камни.
По сторонам трона стояли рослые воины в блестящих панцырях, а на ступенях с важностью сидели тучные придворные в парчовых платьях и белоснежных чалмах.
По знаку повелителя первый визирь сказал послам:
— Встаньте и поведайте просьбу вашу преславному и могучему Селиму великолепному!
Кряхтя послы медленно поднялись и стояли с опущенными головами. Старший из них, самый дородный, приложил ладонь к бровям, словно защищаясь от яркого дневного светила, и медоточиво стал восхвалять величие султана:
— О, брат солнца, великая справедливость на земле, блеск земного мира и веры, величие ислама, не ты ли все дни и ночи думаешь о счастье правоверных на земле, не ты ли их единственный защитник? Мы, прах твоих ног и самое ничтожество из ничтожеств, дерзнули потревожить тебя, отвлечь от мудрых размышлений…
Султан благосклонно кивнул головой, принимая восхваления, как должное. Визирь ласково подсказал:
— Великий и великолепный повелитель слушает вас.
Тогда бухарский посол, все еще щуря глаза как бы от непереносимого блеска, вновь пал на землю, уставя бороду в ноги хункера, и завыл протяжным молящим голосом:
— Защитник веры и справедливости на земле, мы шли из Мекки на Астрахань и видели на берегах Итиля плач и скорбь правоверных. Царь московитов побрал Казань и Астрахань и разорил детей пророка. На священной земле нашей возведены русские храмы, а корабли наши и соседей наших, приходя в Астрахань, облагаются непосильными сборами. Русские от сего имеют тамги на день по тысяче золотых! Допустимо ли это, средоточие вселенной, могучий царь царей? Настало время вступиться за Астрахань. Молим тебя! — и все послы упали ниц и поднялся стон. Султан благосклонно улыбнулся и горделиво заговорил:
— Пусть щеки последователей пророка Магомета расцветут, как розы весной; пусть сердца врагов ислама будут спалены огнем печали и горести, как листы руты!
— О, многомилостивый! О, мудрейший! — подобострастно возопили послы и протянули руки к хункеру.
Сверкая парчовыми одеждами и драгоценными каменьями, султан поднял надменное лицо и закончил непререкаемо:
— Надейтесь! Пусть правоверные ждут моей милости. Я прикажу пожечь пламенным мечом неверных, смешать их кровь с землей. Да будет так! Идите и поведайте верным сынам аллаха, что Астрахань будет наша! — он торжественно протянул руку, и послы встали; склонив головы и пятясь к двери, они стали выбираться из бирюзовой залы.
На другой день в загородный дворец хункера прибыл посол из Литвы. Султан решил показаться ему в ином свете — просвещеннейшим монархом, занятым процветанием наук и искусств. Посла ввели в обширный зал оранжевой окраски, сияющий на солнце золотом. Все так же торжественно и величественно восседал хункер на резном, украшенном золотом и ляпис-лазурью, троне среди придворных. На малиновом бархате его одежды сияли вышитые золотом драконы и листья неведомых растений. Из серебряных курильниц вились нежные дымки, распространяя сладковатый аромат. Посреди зала бил фонтан, искрясь на солнце мелкими брызгами. Литовский посол, рослый и красивый мужчина с русыми длинными усами, голубоглазый, одетый в малиновый камзол и высокие сапоги со шпорами, войдя в зал, снял с головы шляпу с перьями, быстро наклонился и замахал ею перед собою, показывая образец европейской учтивости. Великий визирь указал ему место неподалеку от султана, предупредив его:
— Великий и мудрый хункер, да простит его аллах, занят сейчас беседой с учеными и просит гостя послушать и сказать свое слово!
Литовец еще раз поклонился и тихо стал в толпе придворных. Селим, важно помолчав, обратился к толстому, с заплывшим лицом старику в белых одеждах:
— Ты побывал в полуденных странах и много видел. Поведай нам, правоверный, что за диковинки там имеются и какими премудростями ты наполнил ум свой?
Ученый склонился перед хункером и, среди глубокой тишины, повел рассказ:
— Царь царей, брат солнца, справедливость на земле, я побывал в южных странах, где четыре царства природы — холодное и теплое, жидкое и твердое — были преисполнены необыкновенных чудес. Я видел верблюдов, которые пожирали огонь, и у правителя Эфиопии сам гладил благовонных кошек, которые испускали мускус, Но диво из див, — это можно видеть только в садах Магометова рая! Я побывал в роще, в которой летали чудные птицы! Поев брошенного им мяса, эти птицы потом извергали из себя чистые алмазы.
«Что брешет сучий сын!» — возмущенно подумал литовский посол; однако с подобострастным видом слушал султанского ученого. Тот между тем продолжал:
— В этой стране, великий и мудрый, да сохранит аллах мне зрение, водятся крокодилы, которые, насытившись черепахами, разрешались потом золотым песком!
«Ну и лжец! — возмущался про себя литовец. — Такого шута горохового и у нас на Вильнюсе, в замке Гедемина, не сыскать. Какие басни сказывает! Да и что это, — или меня за неуча принимают или насмехаются? — недоуменно разглядывал он придворных и султана. — Ведь есть же и у них науки!»
— Там есть соколы, — продолжал ученый муж, — которые кладут по три яйца, а из них рождаются кошки пепельного цвета. Эти зверьки необычны и обладают умением ловить не только обыкновенных птиц, но и быстролетных кречетов.
И еще час с серьезным видом нес он разную околесицу, а Селим внимательно слушал и верил болтовне. Литовскому послу надоело слушать, и мысли его были о другом. Повелено ему было добиться военной тяжбы между султаном и московским царем, чтобы отвлечь русских от литовских рубежей. Он думал, как лучше и осторожнее об этом сказать хункеру.
И вдруг наступило затишье. Повелитель правоверных поднял руку, и все придворные неслышно, пятясь, удалились из оранжевого зала. Посол переглянулся с турским вельможей, и оба они поняли друг друга. Однако визирь не осмелился еще начать разговор со «средоточием вселенной», так как по его глазам догадывался, что тот еще не насладился беседой о науках и искусствах, еще не до конца поразил своей мудростью и ученостью пришельца с Запада.
— А где фряжский художник? — спросил вдруг султан визиря. — Пусть будет здесь и покажет нам свое мастерство!
Визирь троекратно хлопнул в ладоши, и в дверь неслышным шагом вошел тонкий юноша с длинным лицом, обрамленным пышными каштановыми волосами. Он держал перед собой картину.
— Приблизься и покажи, что сделал ты! — благосклонно приказал хункер.
Визирь глазами дал понять послу, пусть и гость с Запада любуется искусством придворного художника.
Когда картину повернули к солнечному сиянию, литовского посла потрясли сочные яркие краски и рубиновая кровь, потоки которой стекали с отрубленной и водруженной на кол головы казненного. Искусник нарисовал публичную казнь, которую можно было часто видеть на улицах Стамбула. На полотне эта казнь изображалась с чудовищной подробностью. Гость невольно закрыл глаза от ужаса. Султан же долго и с наслаждением созерцал яркие пятна крови. Но вдруг лицо его выразило удивление и недовольство.
— Здесь, здесь! — показал он перстом на рваные кровоточащие шейные вены. — Неверно тут! Не может так лежать мускул, после того как его поразит острый меч!
Селим помолчал и затем сурово взглянул на художника.
— Не вижу совершенства, нет мастерства! Я научу тебя и покажу, что я прав! — выкрикнул он, хотя художник стоял бледный, — ни жив ни мертв, — и ни словом не обмолвился. — Приведите раба и опытного палача!
Посла потрясла страшная простота решения хункера. Не успел он опомниться, как в зал ввели раба — красивого, рослого юношу, с мускулистой, крепкой шеей. Следом за ним вошел палач, обнаженный до пояса, с тяжелым мечом в руке. Раб был нем и не молил о пощаде. Или он не понимал, что предстоит ему? У литовца стало холодно под сердцем.
— Видишь! — указал хункер на шею юноши. — А теперь смотри, что станет, какими будут жилы! Ну, ты! — махнул пухлой рукой палачу хункер.
Тот быстро схватил раба за голову и склонил ее, а затем, отступив на шаг, проворно взмахнул мечом, и в мгновение ока прекрасная, только что сверкавшая скорбными глазами голова отскочила от туловища. Палач поднял ее и показал присутствующим. Ноздри султана затрепетали от восторга. Улыбаясь, он сказал художнику:
— Смотри, смотри, как течет кровь из жил и как свернулись мускулы. Вот как надо писать на картине! Всегда показывай истину! — хункер тянулся к голове, глаза которой уже начали меркнуть. Он жадно принюхался к запаху крови. Литовцу показалось, что уши раба еще слышат, что глаза его видят, — так глубока и безмерна была печаль, которая еще светилась в них.
— Теперь видишь, чем грешит твое изображение! — сказал поучительно султан.
Посол тяжело дышал, его мутило, но он превозмог слабость и сказал хункеру:
— Ты — истинно мудрейший из царей и величайший знаток искусства! Теперь я вижу, сколь велики твои знания!
Селим скосил глаза на визиря.
— Уведи их! — кивнул он в сторону художника и палача.
В зале еще дымилась теплая кровь, сгустками застывшая на пестром бухарском ковре, не обращая внимания на все это, султан спокойным голосом предложил литовцу:
— А теперь поговорим о деле!
Посол низко склонился перед хункером и снова помахал перед собою:
— Мой король, а ваш брат повелел мне припасть к стопам вашего величия и пожелать вам здоровья.
Султан благосклонно спросил:
— Как чувствует себя наш брат и друг? Мы всегда думаем о нем и муллам наказали возносить молитвы за него.
Посол поклонился:
— Хвала премудрому, виват великому, благодарствую и счастлив поведать, что король радуется верной дружбе и печалится лишь тогда, когда московиты становятся дерзкими и неучтивыми!
— Я покончу с их дерзостью. Так велит мне аллах и пророк наш! — блеснув глазами решительно сказал хункер. — Я повелел воинам нашим положить предел проискам московского царя!
Посол повеселел. Избегая ступить на пятно крови, он поближе придвинулся к султану и озабоченно воскликнул:
— Можно ли позволить так беспокоить себя из-за русских холопов? Король, брат твой, огорчен, что караванные дороги с Запада на Восток перехвачены московитами в Астрахани…
Селим величественно подбоченился и самоуверенно сказал:
— Астрахань будет наша. Это истинно, как солнце на небе!
— Хвала великому и мудрому! — льстиво выкрикнул посол…
Визирь утомился стоять: слишком долог и беспокоен день. Солнце опять за стрельчатым окном склонилось низко, и от опахал нубийцев на полу лежали длинные тени. Он подобострастно смотрел на султана, готовый выполнить любую его волю, но в то же время думал о своем: «Литовец оказался скуп на подарки, и хункер слишком долго с ним разговаривает! И стоило ли вызывать ученых и просвещать неверного!».
Между тем, посол сыпал самые напыщенные похвалы мудрости султана, уговаривая его ускорить поход на Астрахань. Визирь тяжело вздохнул и, воспользовавшись мгновением, когда посол замолчал, еле слышно шепнул:
— Великий аллах да ниспошлет отдых мудрому… Зюлейка…
Султан нахмурился, завертелся на подушках, вспомнил о быстроглазой юной наложнице из Таврии и стал рассеян. Посол догадался, что аудиенция закончена.
Тихий вечер спустился на долину, в которой расположился Бахчисарай — столица крымских ханов. Взойдя на высокие стрельчатые минареты, жемчужно белевшие среди яркой зелени садов, муллы призывали правоверных мусульман к вечерней молитве, гортанными голосами провозглашая символ ислама: «Ля иляга илля ллагу!»
Все предвещало покой и сладостный сон. Девлет-Гирей совершил положенное омовение и забрался на крохотный балкончик, откуда, скрытый частой решеткой, с вожделением наблюдал за женами и наложницами, купавшимися в бассейне, расположенном среди сада. Зоркими глазами хан отыскивал среди них полонянку, привезенную татарскими наездниками с Дона.
Над круглой купальней колебались белые нежные облака, — пенились цветущие кусты черемухи. Под ними, в дожде лепестков, сидела сероглазая, круглолицая и тонкая, как тростинка, девушка в желтом шелковом халате. Сбросив расшитые серебром чувяки и наклонившись к воде, она любуясь собою, заплетала пышные русые косы. Ах, какие косы! Пожилой хан залюбовался стройной красавицей, забыв обо всем на свете.
«Но зачем она так тоскливо запела?» — огорченно подумал он. — Что только смотрит старая карга Фатьма? Для чего она приставлена к ней? Зачем дает она прекрасной гурии так тосковать?"
Голос полонянки звенел тихо, нежно, как звучит в жаркий день ручеек. Девлет-Гирей знал русскую речь и понимал толк в плясках и пении. О чем жалуется полонянка? Хан притаился и слышал учащенные удары своего сердца. Казачка пела-жаловалась:
Я вечор гуляла во зеленом саду Со своею государыней-матушкой, Как издалеча, из чиста поля, Как черны вороны, налетывали, Набегали три татарина-наездника, Полонили меня красну девицу, Повели меня во чисто поле…
Нет, это невозможно слушать! Хан встрепенулся, закашлялся, он был недоволен.
«Надо сказать этой старой дуре Фатьме, чтобы отучила полонянку петь такие песни! — раздраженно подумал хан. — И что за имя — Клава Кольцо? Странные у московитов прозвища: Заяц, Волк, Кольцо!..»
Расстроенный Девлет-Гирей выбрался из своего укрытия и прошел в опочивальню, у порога которой ожидал раб Абдулла — поверенный всех сердечных тайн хана. Повелитель хотел сказать ему о своем неудовольствии, но слуга опередил его. Одутловатое желтое лицо раба было встревожено, он беспокойно взглянул на хана и тихо сказал:
— На небе солнце, а на земле ты самый счастливый из смертных. Великий хункер сподобил тебя своим фирманом, чауш только что прибыл из Стамбула и ждет тебя, мудрый хан.
Девлет-Гирей вздрогнул:
— Гонец? Что же ты молчал?
Раб упал ниц и жалобно заголосил:
— Прости, благородный и великий хан, не смел нарушить твоих размышлений…
«Поход на Астрахань!» — сразу догадался Девлет-Гирей и, чтобы отдалить неприятную весть, сказал:
— Вели накормить гостя из моих блюд и напоить из моих сосудов!
Всю ночь не мог заснуть хан. Мысли о полонянке отлетели, их сменили другие, тревожные и опасные. Девлет-Гирей понял, что ему не избежать похода. Хункер Селим коварен, мстителен и жесток. Хан прошелся по опочивальне, добыл ларец, извлек из него бараньи кости. Раб Абдулла, лежавший у порога, подобно сторожевому псу, быстро вскочил: он догадался, — повелитель будет испытывать свою судьбу.
— Раздувай огонь на жаровне! — повелел хан рабу.
Среди обширного покоя стояла жаровня с холодными углями. Повелитель любил смотреть на раскаленные угли и нередко среди ночи заставлял раба раздувать мангал.
Раб быстро вздул огонь, и угли один за другим стали желтеть; прошло мало времени, а на жаровне уже лежала груда раскаленного золота, охваченного синеватыми струйками легкого пламени. По опочивальне от него шло тепло и легкий угар. Хан бросил на красные угли бараньи лопатки, а сам улегся на диван и вскоре задремал.
Когда он открыл глаза, в распахнутые окна глядело черное бархатное небо с крупными яркими звездами, слышался заглушенный лепет струйки, сбегавшей из родника в купальный бассейн. Девлет-Гирей потянулся и вспомнил:
— Кости!
Раб быстро разгреб потухшие угли, и на дне мангала, из золы, добыл бараньи лопатки, потемневшие, но крепкие и целые. Хан повеселел, гаданье успокоило его, — в поход можно было идти без опасения.
Однако утром Девлет-Гирей хоть и льстиво принял султанского чауша, но все же пожаловался на тяжести и опасности пути в безводной степи. Он сунул чаушу кожаный мешочек с дарами и снабдил его письмом к хункеру.
Жаловался и печалился хан, что туркам ни зимой, ни летом нельзя идти на Астрахань. Зимой в степях свирепствуют страшные вьюги и жестокие морозы, и турки все померзнут. Летом травы в степи сгорают от солнца, источники пересыхают, и войска погибнут от безводья. И еще устрашал Девлет-Гирей турского султана:
«У меня верная весть, что московский государь послал в Астрахань 60000 войска, если Астрахань не возьмем, то бесчестье будет тебе, а не мне, а захочешь с московским царем воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на Московские украины, если которых городов и не возьмем, то, по крайней мере, землю повоюем и досаду учиним».
Надеясь на щедрые поминки, но сильнее всего боясь турецкого соседства, Девлет-Гирей послал гонца и к царю Ивану Васильевичу оповестить его о том, что турецкие войска готовятся идти под Астрахань, и было бы, дескать, лучше, если бы царь отдал султану Астрахань добром.
Гонец быстро вернулся и поминок на этот раз с собой не привез.
Царь московский отвечал Девлет-Гирею решительно и сердито:
«Когда то ведется, чтобы взявши города, опять отдавать их?»
Одна за другой последовали неудачи. Хункер Селим не внял предостережениям и отправил в Кафу (Феодосию) пятнадцать тысяч спагов и две тысячи янычар, вручив начальство над ними Касим-паше. Девлет-Гирею оставалось покориться воле султана. Выделив пятьдесят тысяч конников, он приготовился к походу.
31 мая 1569 года Касим-паша тронулся в донские степи. Огромная конная и пешая рать потянулась из разных направлений к Переволоке. Из Азова шли турки-янычары на своих лохматых выносливых конях. Татары пересекли Перекоп и держали путь на станицу Качалинскую. Туда же из Азова поплыли турецкие каторги (суда), груженые пушками, зельем, снарядами и богатой казной. Гребцами на судах сидели две с половиной тысячи невольников, среди которых было много русских полонян. Их охраняли от побега всего полтысячи турок. Плыли против течения, добирались медленно. И полоняне все ждали, — вот-вот наскачут русские и отобьют их. Но пустынна была степь, безмолвными лежали на берегах казачьи городки, покинутые станичниками. Янычары и спаги двигались вдоль Дона по изумрудному ковру трав, который распахнулся перед ними от горизонта до горизонта. Конские копыта беспощадно попирали необычайной красоты узоры, расцвеченные белыми, красными, желтыми тюльпанами. Орда привыкла к пестроте степных просторов, к ясному бирюзовому небу, к ласковому солнышку, к аромату трав, к радостной песне жаворонка и, не замечая всего этого, лилась, как шумящий мутный поток, смывающий все на своем грозном пути. Там, где прошли всадники, оставалась пустыня. Позади орды сиротливо лежала оскверненная земля, вились тучи дыма, пустыми оставались колодцы, и убегало все живое — зверь и птица. Только вчера ковыль кишел разной дичью: дрофами, перепелами, журавлями, — сегодня позади ордынских коней над испепеленной землей простералось безмолвие. Даже рощицы и береговые заросли исчезли. Недавно над Доном, раскачивая густыми кронами, шумели пахучая черемуха, ольха и вяз, а сейчас ветер разносил пепел потухших костров. Вот здесь, на перепутье караванных дорог, приветливо лепетала листвой густая рощица, и у прозрачной кринички в знойный полдень спасались караванщики и становились на отдых пастухи с овечьими отарами, теперь тут осталось обезображенное место и грязная лужа. И когда погасал закат, спускался вечер в пелене туманов и поднимался багровый месяц, а на землю ложилась обильная крупная роса, тогда казалось, что вся донская степь плачет горькими слезами в большом горе.
Впереди янычар, в окружении многочисленной охраны, в золоченом паланкине, водруженном между горбами высокого верблюда, восседал Касим-паша, безмолвно и равнодушно взирая на степи. Мягко шлепая по пыли большими ступнями, подняв голову, верблюд с презрительным выражением важно нес своего господина. За верблюдом, раскачиваясь, шел второй, неся на спине голубой паланкин, а из-за шелковых складок его порой выглядывали жгучие глаза любимой наложницы Касим-паши.
Казалось, орды движутся среди безбрежной и безмолвной пустыни, но за ними зорко следили сотни настороженных глаз. Казачьи ватажки, скрываясь в балках, неустанно стерегли врага. Гортанный говор, ржанье коней, свист стрелы, пущенной из тугого лука, — все, все, что исходило от врага, было слышно чуткому уху казака.
Ермак, крадучись, с полусотней шел следом за дикими всадниками, сметавшими все на своем пути. И горько-горько становилось на душе казака, когда впереди подымались густые клубы дыма, — ордынцы жгли встречную станицу. Завидев зловещее зарево, Ермак сумрачно сдвигал брови. Он недавно появился в Диком Поле, но сердцем, всем своим существом чувствовал, что это своя, русская, на веки веков русская земля! Заслышав плач, Ермак нещадно нахлестывал коня, и горе было ордынцу, если он отставал с захваченными полонянками, — казаки беспощадно рубили хищников. Лицо Ермака бледнело, глаза туманились, когда он видел за конем ордынца заарканенную казачку с распущенными по ветру волосами; он весь наливался кровью и, налетев на своем дончаке на врага, со страшной силой опускал тяжелую саблю на голову насильника.
Казачья полусотня уничтожала турок где только могла. Она предостерегала врага всюду — на перелазах, у водопоев, на пастбищах. Турецкие янычары жаловались Касим-паше:
— Шайтан казак: есть он тут и нет его! Откуда берется шайтан? Нельзя отойти в степь, нельзя нарубить дров для костра! Велик аллах, мудр паша, помоги нам! Многомилостливый и храбрейший посланник хункера, разреши повернуть коней в степь и потоптать казаков!
Касим-паша, словно коршун на высоком кургане, держался неподвижно, замкнуто и молчал. Он понимал, нельзя уходить за казачьими сотнями. Разве поймаешь дым в голубом небе: он всклубится и растает: так и казачьи ватаги, — они есть сейчас, но они рассеются, чтобы заманить янычар в болота.
На привалах, у голубого Дона, ставили золотой шатер для Зулейки, и Касим-паша уходил в него. Он садился на пуховики, тянул из кальяна ароматный табачный дым, слушал песни и смотрел пляски наложницы.
На донских просторах буйствовала весна. Степь зеленела, гудела, пела многочисленными голосами налетевшей отовсюду птицы, травы наполняли воздух благоуханием, и полуобнаженная Зулейка ах как хорошо плясала! В сердце старого паши проснулась молодость, но лицо его продолжало сохранять высокомерие и самодовольство.
Сегодня янычары прошли небольшим полем и потоптали его. Касим-паша вспомнил об этом и похвастал:
— Русский народ над полем потел, а наш конь его пшеницу съел. Слава аллаху!
Плохо понимал Касим-паша военные дела, не знал, не ведал Дона! Равнина, синяя река, курганы, ковыль и среди него черепа коней. Это на первый неопытный взгляд. Но Девлет-Гирей, крымский хан, знал, что в этом необъятном просторе раскинулись глубокие речные долины, бесконечные овраги, балки, сплошь покрытые непролазными кустарниками, местами — черными и красными лесами, а то и топкими болотами. Низины пропитаны водой, обильно заросли шумным камышом, над ручьями непроглядные талы, на поймах — высокие сочные травы.
Мстителен Дон, неуступчив Дон! Много заросших стариц, много проток, рукавов, огибающих бесчисленные острова. И везде, во всех этих тайниках, глушицах, — казачьи становища, юрты, скрытые городки.
И не видно глазу врага, что таятся в них и готовятся к схватке казаки.
На майдане деды-рылешники, седые, слепые, бородатые, пели о ратных подвигах казаков, о битвах с неверными среди ковыльного моря, о богатырях-станичниках, омывших своей кровью крутые берега Тихого Дона.
Тут, на майдане, и встретил Ермак молодого смуглого казака с большими грустными глазами.
— Ой, диду, спой мне про татарскую неволю! — попросил печальный казак сивобородого старика.
Дед-рылешник вслушался в голос и сказал ободряюще:
— Чую, со мной гуторит ладный казак. Крепок, а затосковал. Не впервое басурману приходить на Дон: ох, и сколько костей всегда оставлял тут враг!
— Не о том кручинюсь, дид, — покорно отозвался казак. — Сестру нехристи в полон за Перекоп увели. Кипит моя кровь…
Внезапно на плечо казака опустилась крепкая рука и раздался уверенный голос:
— А коли кипит, бить надо супостата; в землю вгонять нечисть! Как звать, молодец?
Станичник оглянулся. Перед ним стоял кряжистый чернобородый казак с веселыми смелыми глазами.
— Иваном зовут, по прозвищу Кольцо.
— Ну, Иванушка, садись на коня и едем в Поле. Едем, братик, одной веревочкой, видно, связала нас судьба, вместях и татар бить!
— Что правда, то правда! — сказал дед-рылешник, огладив длинную бороду, и предложил: — Я вам бывальщину спою…
Не послушали казаки бывальщину, поседлали коней и заторопились в степь. Ехали-скакали рядом. Ермак пристально поглядывал на товарища. Высок, глаза большие, карие, густые темные брови. Из-под шапки вьются кудри. На коне сидит лихо, поведет плечом, — чувствуется сила. Орел!
На западе догорала заря, обозначился тонкий серп месяца. Стало быстро темнеть, и в ковыле закричали перепела: «Ква-ква, пить-пить, пить-полоть…»
Где-то в камышах, в глухом озерке им отозвался бучень: «Б-ууу, б-у-у-у…»
Затрещали кузнечики, в небе появилась первая звезда, за ней вспыхнуло и заиграло семизвездие. Ночь, благостная, теплая, опустилась на донскую степь. И как только стемнело, на перепутье выбежал огромный серый волк, понюхал порубленное тело ордынца и, сев на задние лапы, тоскливо и протяжно завыл, сзывая стаю на пир. И далеко по степи раздалась страшная песня зверя…
Казаки спугнули серого и понеслись по ковылю; скакали по просторам, продирались через заросли, оставляли позади курганы, держали путь на зарево костров.
В этот вечер, тихий и благоуханный, к Переволоке подошла орда и раскинулась станом в широкой балке, уходящей к Дону. Месяц заливал все серебристым светом. У излучины ржали кони, где-то неподалеку кто-то забивал прикол для иноходца, и сотнями золотых звезд горели огни во тьме. У костров возились люди…
— Турецкий стан, — шепнул другу Ермак. — Тут и высмотрим все!
Казаки спешились, укрыли скакунов в густом тальнике, а сами уползли в ковыль. Вот и край овражины, темные кустики. Затаив дыхание, донцы залегли. Ермак чутко прислушивался. По степи разносился еле слышный топот; но прислони ухо к родной земле, и она все расскажет казаку. Оберегая стан, кругом рыскают ордынские разъезды.
Прямо огромный костер, на нем черный закоптелый котел, — татары варят махан. Гортанный говор нарушает тишину. Ордынцы пьют кумыс, покрякивают, похваливаются, полами пестрых халатов утирают потные лица.
Прямо за большим огнищем — золотой шатер, полы распахнуты. На пуховиках сидит Касим-паша. Золотится огонь, отблески его сверкают на парчовой одежде паши, а над логом раскинулся через небо жемчужный пояс Млечного Пути.
Ермак видит… На пестром ковре в шатре бесшумно движется в пестрых шароварах и зеленых сапожках смуглая наложница. Слышен повелительный голос Касим-паши, но слов не разобрать. Казак сплюнул и хмуро подумал: «Эко, воин, идет на Русь, а с бабой нежится!» Ему бы, старому, дома сидеть!".
Иван Кольцо вынул стрелу, приложил к тетеве. Не миновать тебе беды, старый коршун! Ермак глухо ахнул: оперенная стрела с визгом пронеслась через костер и пронзила шатер. В эту минуту наложница заслонила Касим-пашу, и стрела угодила ей в сердце. Обливаясь кровью, Зулейка упала на ковер. Старый паша трусливо оглянулся и захлопал в ладоши. Набежали янычары, закричали, указывая в темноту. Ермак понял, что пора уносить ноги. Бесшумно уползли казаки; когда сели на коней и унеслись далеко за курганы, Ермак сказал:
— Люб ты мне, Иван, но горяч и хочешь взять врага срыва! Коли бить, так надо бить наверняка!
Кольцо не сразу отозвался, потом схватил Ермака за руку:
— Кровь взыграла, верь мне, в другой раз не промахнусь!
Они выехали на возвышенность, и перед ними опять показались бесчисленные огоньки в степи.
15 августа турецкие суда подошли к Переволоке и стали сгружать арбы, заступы, пушки и ядра к ним, порох, свинец, мотыги, кирки и мешки. Над Доном носились потревоженные чайки. Ржанье коней и людской говор гулко разносились по воде. Касим-паша и Девлет-Гирей в сопровождении мурз выехали в степь. Указывая на восток, в ту сторону, где текла величавая Волга-река, паша сказал:
— Велик путь до Итиля, но сбудется воля мудрого из мудрейших, великого хункера Селима, — соединим две реки, как двух сестер. Ройте канал и по нему пойдут наши каторги и поплывут воины…
Девлет-Гирей ухмыльнулся в бороду, подумал: «Не исчерпать воду из Дона, не перетаскать землю на таком просторе, который под силу одолеть только доброму коню!» Однако он промолчал и подобострастно поклонился Касим-паше.
Ранней зарей на необозримом пространстве степи вытянулись тысячи копачей с мотыгами, заступами и приступили к прокладке канала. Пронзительным скрипом оглашали степь большеколесные арбы, на которых отвозили землю. Орды татар относили землю в полах халатов, в походных сумах. К полудню солнце поднялось высоко над раскаленной равниной; оно палило, жгло, изнуряло зноем. Сбросив одежду, полуголые воины Селима с рвением били в землю кайлами, вгрызались в нее заступами; пыль клубилась над ратью, смешиваясь с дымом костров, на которых в больших котлах ордынцы варили конину. Воду для питья брали из Дона, но берега его подстерегали врагов. Стоило турку или татарину ступить в воду, как из камышей с визгом вырывалась стрела, и горе было ордынцу — он падал, сраженный насмерть!
Касим-паша вышел из золотого шатра и, указывая на сизое марево, уверял:
— Терпите! Туда польются воды древнего Танаиса-Дона! И там, где гуляли суховеи, воины Селима напоят коней! Так угодно аллаху, да будет благословенно имя его!
В клубах пыли и дыма солнце казалось багровым; истомленным землекопам было в пору ложиться и умирать на жаркой, высохшей земле.
«Нет, не вырыть нам канала! Не видать больше берегов Понта!» — в отчаянии думали они.
Весна давно отошла. Под жарким солнцем поник и высох ковыль. Затихли на гнездовьях птицы, не пели больше в голубой выси жаворонки. Ближние родники пересохли, а на дальних подстерегали казаки. Не исчерпать море ложкой, — так не перетаскать и землю на Переволоке горстями. Не бывать тут голубым водам!
Касим-паша смутно догадывался теперь, что изнуренное войско его ляжет костями, но повеление хункера остается неосуществимым.
Турки кричали своему военачальнику:
— Надо уходить, пока не поздно! Тут спалит нас солнце и погубит жажда. Пойдем к реке Итиль, на Астрахань, прямо через степи!
Бывалые воины и янычары жаловались Касим-паше на казаков, тревожащих орду со всех сторон, и просили воли разделаться с ними.
Летний день долог и бесконечен в тяжелом труде, трудно дышится на раскаленной земле, налетает тучами овод и жалит измученное тело; вода мутна и тепла, — не утоляет жажды; ветры утихли и нет прохлады. Повяли и засохли травы, воздух наполнился смрадом, так как стали падать кони, раздутые туши которых не убирались. Воды Дона застыли в неподвижности и не умеряли жар.
Русская земля встретила ордынцев негостеприимно. А в одну из ночей на темном горизонте змейками пробежали огоньки, вспыхнули жаркой полоской и стали шириться, расти, и вскоре коварные языки пламени заиграли на черном небе. Они становились то ярче, то бледнели и замирали, то вспыхивали и тянулись к звездам.
— Аллах всемилостливый, степи горят! — закричали в таборе турки. — Казаки жгут сухой ковыль! Смерть! Смерть!
Из шатра вышел толстый Касим-паша заплывшими глазами уставился в синие огоньки. Турки закричали ему:
— Куда ты привел нас? Мы ищем воду, а нас самих скоро пожрет пламень!
Паша перетрусил, хмуро молчал. Следом за ним из шатра вышел Девлет-Гирей, и его звонкий голос разнесся вдоль Переволоки:
— Вы бабы, а не воины — закричал он, — а степи каждый год огонь, джигиты всегда жгут посохшие травы, чтоб в рост пошли новые, молодые. Огонь дойдет до ручья и конец ему!
Небо багровело, языки пламени тянулись вверх, плясали и торопились. Видно было, как в их багровом отсвете летали потревоженные птицы. Было и красивое, и страшное в жарком степном пожаре.
Огненная лавина все ближе и ближе. Тревожно заржали кони в табунах и, перепуганные, развевая гривы, понеслись к табору, опрокидывая и ломая все на пути.
Огонь совсем рядом, рукой подать, но пламя вдруг стало ниже. На берег в синей дымке легко и грациозно выскочила косуля. Ее бока при дыхании бурно вздымались. Она подняла на длинной шее голову с небольшими рожками и на мгновение застыла. Чуть-чуть, еле заметно поводила высокими прямыми ушами.
Тут и Касим-паша встрепенулся, взмахнул рукой, — ему услужливо и быстро подали лук и стрелу с блестящим острием. Он проворно схватил их. Глаза паши по-юношески сверкнули, и он немедля нацелился в прекрасное животное.
Но что случилось? Или дрогнула рука старого воина, или глаза изменили ему, — стрела просвистела мимо, испуганная косуля взметнулась и, как видение, исчезла. Касим-паша, бледный, расстроенный, вернулся в шатер и упал на пуховики.
Тщетно утешала его новая наложница, молодая с дикими глазами татарка, он стонал и горестно думал: «Позор, позор! Кто теперь из воинов поверит в мою силу?»
В стане всю ночь не могли успокоиться, гомонили, спорили, и только легли, а на востоке уже забрезжил рассвет. Всем казалось, — рано, очень рано пришло утро. Солнце из-за гребня увала только брызнуло лучами, а уже защелкали бичи — спаги поднимали людей на работу.
При ярком солнечном сиянии страшной выглядела степь. И откуда только снова появился резвый ветер? Он гнал на работающих тучи едкой золы; она проникала в легкие, скрипела на зубах и покрывала потные бронзовые тела. Еще жарче, невыносимее жгло и терзало солнце, еще изнурительнее стала работа!
В третьем часу пополудни от жгучей жары упал один из копачей канала. Он лежал почерневший, с открытыми глазами, уставленными в белесое небо. К вечеру легло костями в пыль еще десять копачей.
Касим-паша велел перенести его шатер к Дону, — тут легче дышалось и не так тревожили крики недовольных воинов. Но и здесь он не находил душевного покоя; рядом, на воде, уткнувшись носами в берег, неподвижно стояли ладьи, а в ладьях чего-то зловеще ждали невольники.
Они злобно смотрели на золотой шатер, и Касим-паша сам слышал, как бородатый русский полоняник громко сказал:
— Не дойдут они до Астрахани, все передохнут тут! А коли и дойдут, то царь Иван Васильевич нашлет на орду свое войско, и тогда берегись, бритая башка!
Касим-паша от ярости сжал зубы. Он проучит этого раба за его дерзкие слова! По его приказу привели полоняника, скованного по рукам и ногам цепями. Он был невысок ростом, худ телом, бороденка всклокочена. Жалок человек, тщедушен, а глаза упрямые. Он не упал на колени перед пашой и не взмолился.
Турок засопел, уставился на него злыми глазами.
— Ты кто? — спросил он по-турецки.
— Я — Семен Мальцев, посол государев! Ехал из ногайских улусов, напали ордынцы, ограбили, изранили и в полон захватили. Повели освободить, иначе Русь за меня стребует с салтана!
Касим-паша презрительно улыбнулся в бороду, промолчал. Глаза его жгли русского, но тот спокойно продолжал, показывая на изувеченные руки:
— Гляди, что сталось! Гребцом на каторге был: и жаждал, и голодал, и страждал. Доколе так со мною будет?
Он говорил так смело и гордо, что казалось, будто сам паша у него в рабах. Руки полоняника перевязаны лохмотьями и на них засохла кровь.
— Я прикажу срубить тебе голову! — сказал Касим-паша.
— Мою срубишь, твою в уплату Русь достанет! Салтан царю тебя выдаст! — громко ответил русский.
— Ух, шайтан! — сжал кулаки турок и закричал: — Много ли тебя есть — хил и слаб, раздавлю, как червя!
— Сколько есть, весь тут! Умучить думаешь, — не боюсь. Русь сильна!
Он смотрел в глаза паши смело, и Касим чувствовал в его взгляде непокоримую и непреодолимую силу. «Таких не сломишь!» — с досадой подумал он и рассудил про себя: «Кто знает, что будет впереди, может и пригодится в игре этот пленник?». И сказал паша:
— Я прикую тебя к пушке и ты не сбежишь, пойдешь с нами раскаленными степями к Астрахани!
— Что ж, спасибо и на этом! — спокойно ответил русский. — Ведь и Астрахань — наша родная, русская землица!
Касим-паша захлопал в ладоши, мгновенно появились два рослых спага и схватили полоняника. Они увели Семена Мальцева и приковали его к пушке, а каторги с гребцами-невольниками увели книзу, поставили подальше от золотого шатра.
Работа по рытью канала невыносимо изнуряла войско. Только скрывалось солнце и гасла заря, люди, еле утолив голод, валились на землю и засыпали в тяжелом сне.
И тут пришла тревожная пора: от утомления засыпали не только землекопы, часто находили сонной и стражу.
Стояли безлунные ночи. В лагерь врывались конные казаки. Бесшумно, словно тени, проникали в стан и резали сонных ордынцев, янычар и спагов. Когда всходило солнце, Касим-паша падал на коврик и молился аллаху:
— Великий и всемогущий, побереги мою жизнь. Что творится на этой проклятой земле! Может, и в самом деле уйти степью?
Он советовался с ханом Девлет-Гиреем. Тот упорно молчал, а когда открывал уста, то Касим-паша слышал:
— Я советовал мудрейшему и великому хункеру Селиму не спешить с Астраханью. Русь хитра! И кормов в степи мало, а зимой тут гололедица и бескормица, будут гибнуть люди и кони…
Глаза хана, черные и лукавые, непроницаемы.
«О чем думает он? Может быть, играет двойную игру? — тревожился паша, но строгое и невозмутимое лицо Девлет-Гирея внушало доверие. — И не его ли крымчаки тут же с нами страдают?» — успокаивал себя Касим-паша.
А в эту самую пору Ермак с казаками напирал на Андрея Бзыгу:
— Турки пристали, изверились, они чуют, что канава станет их могилой. Степи пожжены, нет корму для коней. Всем скопом навалиться на них и посечь-порубить врага саблями!
Выставив дородный живот, атаман хмуро разглядывал станичников.
— Чи вы посдурели вси, чи хмельные! — сердитым басом гудел он. — Их хмара, а нас сотни. Рук не хватит порубать. Терпеть надо!
— Чего терпеть, ежели сердце огнем пылает! Земля поругана, казачество ждет! На реке Дону более двух тысяч полонян на каторгах гребцами, нас ждут не дождутся. Подай руку, вместе подымутся и будут орду бить!
— Нельзя! Слушать меня, атамана, казаки! — закричал Бзыга.
Ермак и Кольцо ушли с майдана мрачными.
«Не тот атаман! — думал Ермак. — Кому служить, не разберешься!» — и не утерпел, ударил себя в грудь:
— Мы же русские!
— Русские! — твердо ответил Кольцо. — Каждой своей кровиночкой!..
3
За ордынским станом, на восток, на всем протяжении Переволоки лежала необъятная ширь до самой Волги. Тут на плато, между Доном и великой русской рекой, пролегал старый путь, издревле известный, и всегда из восточных стран на Русь через эти места шли караваны. В логу, где шумела рощица, таилось самое заманчивое в этой печальной пустыне — колодцы «Сасык-оба». Здесь путника ожидала тень, прохладная вода и отдых.
Вторую ночь Ермак с казаками стерег тут ногайцев: знал он, — раз идут турки и ордынцы на Астрахань, непременно навстречу им потянутся переметчики. Тут и ловить их!
За курганом, с подветренной стороны, лежали Ермак и Гроза, Иван Кольцо да Богдашка Брязга, а с ними десятка три удалых станичников. Ночь простиралась звездная, тихая, не слышалось воя назойливых шакалов, не шелестели травами тушканчики. Казалось, вымерло все в бескрайней пустыне, только в неверном лунном свете, догоняя друг друга, подпрыгивая, двигались темными легкими шарами перекати-поле.
Глядя на них, Гроза вздохнул:
— Рано ныне подошла осень. Смотришь, растет такой круглый куст на ломком стебельке, созревают на нем семена, и тогда отсыхает этот стебелек, налетает ветер и гонит-гонит день и ночь без передышки по степи перекати-поле… Взгляни, какие звезды! — мечтательно посмотрел казак на темное небо. — Вот и колесница царя Давида поднялась краем из-за кургана! — показал он на Большую Медведицу и сладко потянулся. — Лежу, а сам думаю: вот покончим с ордой да и на Волгу! Чую в своих жилах горячую кровь, никак ей не угомонится. А тут, на станице, Бзыга да заможники тянут из нас жилы. И у нас на Дону неправда завелась. Эх!..
Ермак хотел отозваться, много и у него накопилось против Бзыги, но в эту минуту на кургане вспыхнули зеленые огоньки.
— С нами крестная сила! Гляди, покойник из могилы выбрался! — взволнованно прошептал Брязга. — А может, это неприкаянная душа? Убрался человек со света белого без молитовки и креста.
Ермак поднял голову, вгляделся. Курган смутно темнел в слабом свете ущербленного месяца, а на вершине его и в самом деле то вспыхивали, то погасали зеленые огоньки.
— Бродит, нечистая сила. Глянь-ко! — схватил он Грозу за руку.
— Волк! Сейчас спугну! — отозвался Гроза и взялся за саадак со стрелами.
Но огоньки померкли, над степью пронесся прохладный ветерок, звезды стали бледнеть.
— Скоро утро! — задумчиво сказал Брязга. — Соснуть, братцы, да не спится.
На востоке заалела полоска зари, тишина кругом стала полнее, глубже. Чуткий на ухо Ермак вдруг уловил неясный, смутный звук. Знакомое безотчетное чувство тревоги охватило его. Он припал к земле. И опять тихие певучие звуки повторились, они росли, крепли, наливались сочностью и приближались. Теперь отчетливо переливались погремки-бубенчики.
— Браты! — вскочил казак. — Караван идет!
— Брязга насторожился.
— Верно! — подтвердил он. — Купцы из Ургониша идут на Русь. Слышно — арбы, верблюды ревут…
— Нет, братики, то не из Ургониша купцы, из Астрахани к туркам торопятся ногайские переметчики. Ну, братцы, не зевай!
— Оттого ночью воровски идут, что Касим-паше дары везут!
Заря охватила полнеба. На золотом фоне ее с востока по тропе приближались темные точки; они росли, близились, и наконец, верблюд за верблюдом, показался большой караван. Казаки взметнулись в седла и убрались в балочку. Ермаку все видно… Вот из-за кургана, ритмично покачиваясь, показался огромный верблюд. Сбоку в люльке белеет чалма карамбаши. Он что-то монотонно поет.
Длинной цепью верблюды тянулись к колодцу «Сасык-оба». Они ревели, медленно поворачивая головы на долговязых шеях. Туго набитые мешки и тюки покачивались в такт движению по обе стороны вьючного седла. Седобородые купцы в пестрых халатах и белоснежных чалмах дремлют, а неподалеку от них на горбоносых ногайских конях джигитуют всадники с копьями. Нежный звон бубенчиков усилился, — караван подошел к глубоким колодцам. Карамбаши повелительно прокричал своему головному верблюду:
— Чок!
Животное огляделось и тихо опустилось на землю. Вожатый, в стеганном бумажном халате, проворно выбрался из люльки и стал покрикивать на слуг.
То и дело раздавалось резкое, властное:
— Чок! Чок!
Один за другим опускались верблюды, и караванщики быстро разгружали кладь. Из своего паланкина выбрался толстый купец в халате, шитом золотом, и шароварах малинового бархата, в зеленых сапогах из ослиной кожи с загнутыми носками. Важно переваливаясь, он, не торопясь, пошел в тень. За ним потянулись другие купцы.
Ермак приготовил аркан. Эх, только размахнуться и захлестнуть жирную шею купца! Казачьи кони нетерпеливо перебирали ногами, тут бы и…
Но в эту самую минуту, поднимая пыль, к роднику «Сасык-оба» вынеслась на рысях казачья сотня. Впереди на черном коне-звере показался Андрей Бзыга в красном чекмене.
«Опередил, и тут опередил!» — раздраженно подумал Ермак и, оборотясь к станичникам крикнул:
— За мной браты!
Ногайцы пали на колени и, подняв вверх руки, заголосили на разные лады:
— Алла! Алла!
Жирный купец в малиновых шароварах, низко приседая, залопотал.
Бзыга подбоченясь, сощурил зеленоватые глаза и сказал важно:
— Ага, послы ногайские к царю следуют…
Купцы униженно били лбами в землю. Стражники побросали копья и, опустившись на колени, завопили:
— Господин будь милостлив! Мы подневольные!
Тут и Ермак сорвался и вынесся из укрытия на разгоряченном коне. Его дончак злобно заржал, поднялся на дыбы, готовясь растоптать врага. Но Бзыга вымахнул сабельку, синим огоньком блеснула полоска булата.
Не трожь! — багровея, закричал он Ермаку. — Не видишь, послы едут на Русь! Царь задирать не велел.
Глаза атамана потемнели, прочел в них Ермак непримиримую ненависть. Гроза скрипнул зубами и сказал хмуро:
— Опять ты, атаман, поперек нашей дороги стал!
— Говоришь много! Гляди, пожалеешь! — пригрозил Бзыга.
Ермак оглянулся на своих. Крепкие, загорелые, они, как дубы, вросли в седла. Вояки! Гляди, рука Богдашки Брязги крепко сжимает рукоять сабли. Но он и товарищи притихли, опустили глаза в землю. Укротил их всех окрик атамана — сильна его власть!
Степенно и твердо сказал Ермак атаману:
— Чую, не послы это, а переговорщики из Астрахани едут челом бить Касим-паше.
— Не твое дело! — властно сказал атаман. — Я тут набольший из вас и мне только положено знать обо всем… Эй, купцы, к вам мое слово! — Бзыга спрыгнул с коня, подошел к седобородому и стал с ним вести речь по-ногайски.
Ермак и его втага свернули в строну. В караване опять началось обычное оживление: почуяли астраханцы свою руку. По приказу седобородого, на ковыль раскинули мягкий, пушистый бухарский ковер. На него разостлали дастархан, слуги принесли медные кумганы, расставили серебряные чаши. Налили свежего кумысу, положили салмы, баранины, круту. У колодца зажгли костры и стали жарить на углях баранину.
Высокий сухой старик, с бородой, слегка подкрашенной хной, величественно уселся на подброшенную слугой подушку. Его зеленый халат из тяжелой парчи переливался на солнце серебром. Астраханский посол поднял руку, и слуга проворно положил рядом с ним вторую подушку. Старик пригласил Бзыгу сесть рядом с ним. Атаман, не задумываясь, по-татарски подобрал под себя ноги и чванливо уперся в бока. Рядом с ним расселись другие купцы, и началось обжорство.
От костров по степи тянулся сизый дым. Казаки теснились к Ермаку, а сами, глядя на повадки атамана, думали горькую думу: «Продал нас Андрей, продал!», Ермак еле сдержал себя. «Эх, налететь да переведаться саблей с Бзыгой в чистом поле! Да никто не поможет и осудят еще: во тьме бродят станичники, и для них святее нет приказа атамана!»
Между тем по гортанному окрику седобородого купца карамбаши развернул перед Бзыгой большой тюк. И сказал старик атаману:
— Бери, ты достоин этого!
Цветным каскадом запестрели перед Бзыгой кашемировые шали, алые шелка, бухарские ткани, которым цены нет! Развернул карамбаши другой мешок, — высыпались цветные сапоги с окованными серебром закаблучьями высокими загнутыми носами. Распахнул третий тюк, — гляди, любуйся, выбирай! Тут и синие чекмени с перехватом в пояснице, и пояса цветные, и халаты пестрые. Сколько богатств заиграло для алчного глаза атамана!
Заслоняя грудью сокровища, толстый купец осторожно разложил кожаный складень, и на черном бархате заблестели алмазы, яхонты и бирюза.
Бзыга крякнул, потянулся и заграбастал горсть драгоценных камней. Купец не рассердился, только ниже склонил голову и хитро улыбнулся, а потом льстиво заговорил по-ногайски…
Не было сил смотреть на казачий позор. Все нутро бушевало у Ермака, сжал он плеть и огрел своего коня.
— Эй, браты мои, ей, честные станичники, прочь отсюда! За мной!
Застучали копыта, поднялась пыль, унеслись казаки. Пошли дороги степные, неотмеченные, только сухой ковыль шуршал да ящерки из-под копыт разбегались. Ветер охладил лица, немного успокоилась кровь, и тогда остановились станичники и стали совет держать, как быть?
Гроза смахнул шапку-трухменку, и ветер заиграл темными волосами на его голове. Казак поклонился рыцарству:
— Браты-казаки, не выроет Касим-паша канавы, не соединит Дон с Волгой-рекой. Придется идти орде степью. И, как только тронутся янычары, татары, запалим все кругом: и сухой ковыль, и камыши; засыплем колодцы. Пусть идет он черной пустыней, а за ним следом смерть тащится!
— Умен ты, Гроза! — похвалил Ермак. — Ну, а ты, Кольцо, что скажешь?
— И я так думаю. И будем мы, браты, бить ордынцев и турок, бить смертным боем, рубать так, чтобы во веки веков не забывалось! Но мало этого, казаки, надо весть в Астрахань дать о напасти!
— Хитер Бзыга, а мы его перехитрим! — сказал Ермак. — Не бывать турку и татарину в Астрахани!
И опять полетели они по сухому ковылю, по глухим тропам, по безлюдным просторам. Каменные бабы на курганах да посеревшие от ветров одиночные кресты указывали им путь. Тяжел он был, беспокоен, но что поделать, — такова казачья доля!
Тысячи бронзовых исхудалых тел копошились в степи. Тут были воины, сменившие доспехи и клинки на заступы и мотыги, толпы рабов, скованных цепями, звеневшими при каждом движении, и крымские татары, ругающие затеи султана. В душном зное, среди клубов пыли блестели зубы, белки глаз, в которых читалась нескрываемая, злобная ненависть. Это всем своим существом чувствовал Касим-паши, но держался он невозмутимо и гордо.
Умный конь его, белоснежный аргамак, осторожно ступал по тропинке среди лабиринта арб, развороченной земли и озлобленных копачей. Трудно было дышать, из раскаленной степи, как из огромной чудовищной печи, обдавало жаром.
Столько дней, изнывая от зноя, рыли канал полчища людей, и так ничтожны оказались результаты! Касим-паша понял, что все усилия бесцельны и дольше нельзя задерживаться на Переволоке. Он ехал безмолвно, и каждый шаг пути убеждал его в бессилии перед пустыней.
Разноязычный говор носился над унылой лощиной, но там, где ступал белый конь паши, все смолкало и замирало, как перед великой грозой.
Касим-паша свернул к Дону и облегченно вздохнул. Здесь стояли выгруженные на берег пушки. Подле одной из них, на черной обугленной земле, лежал прикованный невольник. Паша узнал его.
— Русский! — презрительно позвал он и остановил на мгновение коня. — Ты все еще думаешь о Руси? Ты ждешь ее?
Семен Мальцев не поднялся, суровыми глазами взглянул на полководца и ответил с достоинством:
— Кругом полегли русские земли. Непременно придут наши! Еще того не бывало, что они отдали свое родное. Вон сколько степи погорело, — плохой знак, худой!
— Замолчи, собака! — замахнулся на него плетью Касим-паша.
— Могу и замолчать; дело яснее себя покажет, — спокойно ответил полоняник и опустил голову. Вздохнул и подумал: «Ох, отольются тебе русские слезы!»
Играя каждым мускулом, гарцуя, конь Касим-паши проследовал к золотому шатру. Мальцев долго смотрел ему вслед и думал: «Что, кишка тонка, не сдается Переволока! Но где же, куда подевались казаки? Если ударить сейчас по изнуренной орде, побежит, ой и шибко побежит!»
Но горизонт был ясен, пуст, и пленник изнывал от голода и жажды. «Нет, видно так и придется тут сложить свои кости!» — мрачно решил он и вдруг вспомнил о грамоте, которую ему доверили доставить в посольство. Перед нападением ногайцев Мальцев успел спрятать ее в дупло. Полоняник встрепенулся, отогнал от себя тяжелый морок и твердо внушил себе: «Держись, Семен, до последнего часа держись! Грамоту убереги!»
Тем временем Касим-паша слез с коня, но в шатер не вошел. Он поджидал хана. Когда подошел Девлет-Гирей, он сказал ему:
— Нет сил рыть канаву, идет осенний месяц, и приказываю всем идти на конях: а каторги и пушки поставить на колеса и катить на Итиль!
На другой день аробщики, кузнецы, рабы и полоняне стали разбирать арбы и подлаживать колеса под гребные суда и тяжелые пушки. Дубовые оси не выдерживали, ломались, лопались втулки, и напрасно надрывались люди, — падали и не поднимались даже под бичами. До шатра Касим-паши доносились крики, стоны и заунывные песни, но ладьи не двигались. Паша ступал по мягкому бухарскому ковру; он был в цветных чувяках, в белоснежной чалме, но в одной рубахе и портках. Он упрекал себя за промах: «Зачем столько дней потратил у Переволоки? Но как быть с пушками, они нужны под Астраханью?»
Наступил вечер, потянулись дымки, запахло горелым кизяком, крики умокли, постепенно улеглась пыль. Касим-паша все еще не пришел к решению.
Неслышной поступью через распахнутые полы шатра вступил раб — смуглый нубиец. Паша вздрогнул от неожиданности. Слуга приложил руки к груди и низко поклонился:
— Великий и мудрый воитель, к нам пришла радость! Из Астрахани прибыли послы и говорят, что нас ждут там, и все будет хорошо.
— Пусть отдохнут с пути, а я поговорю с аллахом и тогда позову их! — скрывая радость, ответил паша.
Но послов не позвали в золотой шатер ни вечером, ни утром. Они томились в неведении. Касим-паша хорошо знал этикет: чем больше изнывали послы, тем выше им будет казаться могущество султана и его полководца! Утром паша обрядился в лучший халат из золотой парчи, раб бережно уложил на его голову белую чалму из тончайшей ткани и опоясал хозяина золотым поясом, на который привесил ятаган, осыпанный драгоценными камнями. Касим-паша самодовольно оглядел себя: он выглядел величественно и грозно. Взяв под руки, два раба усадили своего повелителя на высоко взбитые подушки, и тогда паша благосклонно разрешил:
— Пусть войдут подданные нашего великого хункера!
Астраханские послы, переступив порог, упали на колени и в безмолвии склонились ниц. Глубокое молчание продолжалось долго. Наконец Касим-паша торжественно спросил их:
— Кто вы и откуда прибыли?
И тогда трое старейших, а с ними толстый купец, на карачках подползли ближе.
— Слава аллаху, он удостоил нас увидеть самого сильного и могущественного полководца! — воскликнул седобородый. — Велика твоя слава, храбрейший! Да будет благословенно имя твое, сильнейший воин! Мы пришли из Астрахани и просим тебя поспешить туда. Правоверные ждут не дождутся милостей великого хункера!
— Чем это вы докажите? — спросил Касим-паша и степенно огладил бороду. На пухлых пальцах заискрились перстни.
— Мы привезли тебе дары, и будь многомилостлив, не откажи, прими их! — седобородый поднял голову, пристально взглянул на пашу и добавил: — Как сухая земля ждет росы, так ждут тебя в Астрахани!
— Я повелел поставить каторги на колеса и тащить пушки! — с важностью оповестил паша. — Завтра мы идет отсюда!
— Мудрый и самый храбрый в подлунном мире, выслушайте нас! Повели каторги отослать в Азов, на Итиле ты найдешь быстроходные галеры, а тяжелые пушки отнимут много времени. Там все есть, — нет только храбрых воинов!
Касим-паша медлил с ответом, и тогда седобородый воскликнул:
— Дозволь, светлоокий и отважный, положить к ногам твоим дары!
Паша благосклонно кивнул головой.
В шатер вошли слуги и внесли тюки. Они быстро развязали их, и потоки яркого, веселых цветов, шелка, как половодье, затопили шатер. Турок невозмутимо смотрел на них, хотя сердце его возликовало. А послы все больше богатств выкладывали перед ним: и сукна красные, и расшитые халаты, и серебряные сосуды. Все играло, сверкало, манило к себе; но чудо из чудес, — перед ним разложили драгоценные булатные клинки. Это были древние индийские хорасаны. Казалось, в таинственной глубине сплава мерцали затейливые узоры. Касим-паша не выдержал, потянулся к булатам. И когда он взял в руки один из них и взмахнул — шатер осияла сверкающая молния. Паша обмяк и сказал подобревшим голосом:
— Слава аллаху, вы умные люди, и мне приятно слушать ваши речи! Завтра выступаю в поход.
Он ни одним словом не обмолвился о своем союзнике Девлет-Гирее, который, потемнев от зависти, все ждал у костра, когда позовет его полководец хункера. Ждал и не дождался.
«Он жаден, как шакал! — возмущенно думал хан. — Он хочет один все захватить, но подавится добычей! Путь велик, еще длиннее он будет от Астрахани до Азова!»
Утром затрубили трубы, и вестники Касим-паши объявили всем его волю: каторги снова спустить на воду, тяжелые пушки погрузить и отправить в Азов, с остальными двенадцатью легкими — идти на Астрахань.
Семен Мальцев не попал на каторги; его приковали цепью к легкой пушке, и вместе с другими пленниками он потащил ее на скрипучих колесах. Суда с грузом, отбывшие в Азов, сопровождали три сотни янычар, и думалось Мальцеву, что наконец-то догадаются казаки и нападут на суда, потопят их, а добро турецкое и пушки с зельем заберут себе.
Едва только выкатилось из-за окоема солнце, конные орды татар и турок двинулись на восток. Утром над землей веяло прохладой. Пройдя до полудня, орды встретили посохший ковыль, плоские озерца и камыши. Все, казалось, предвещало удачу. Касим-паша оживился:
— Все плохое осталось позади! Вот и колодцы!
Радость оказалась преждевременной. Родник «Сасык-оба» был засыпан; пересохший, покрытый галькой, лежал ручей. Кони и воины, изнывавшие от жары, так и не получили ни капли влаги.
Снова тронулись в путь. Позади конных полчищ тянулись скрипучие арбы со скарбом, невольники тащили пушки. Над всей степью стлалась темная непроглядная пыль.
И снова стала нарасть тревога: на далеком горизонте появились черные вихри, которые, крутясь, вздымаясь все выше и выше, затмили солнце и быстро приближались к орде. Не прошло и получаса, как на дорогу полетел пепел, голубое небо посерело, и горячее дыхание степного пожара снова пахнуло в лица всадников.
Хан Девлет-Гирей мрачно ехал позади Касим-паши и сердито думал: «Вот и пришла твоя погибель!»
Сейчас все помысли его сосредотачивались на одном — на мести. Он не жалел ни ордынцев, ни коней, думал только о гибели и посрамлении паши. К ночи темные клубы дыма рассеялись, и впереди, на востоке, снова раскрылась страшная черная пустыня. Как погребальную пелену, принес легкий ветер тучи копоти. Воздух насытился запахом гари. Снова земля горяча, черна, как уголь, и дышит зноем. Колодцы без воды. Пепел покрыл дорогу и тропы, и все знакомое ногайцам неузнаваемо изменилось.
Карамбаши в досаде кусал губы: «Была дорога и не стало дороги! Аллах гневен на турок!»
Попадались обуглившиеся кресты — под ними покоились казачьи кости. Впереди, на востоке заалело зарево, с наступлением сумерок оно становилось все ярче.
Орда тянулась по черному, безмолвному шляху.
Впереди всех ехал Касим-паша и с суеверным страхом поглядывал вдаль. Его белоснежный аргамак на глазах серел, покрываясь копотью. Иногда чей-либо конь неосторожно разбивал копытом кочку, и тогда сыпались искры и чудилось, что земля тлеет, накаливается и вот-вот вспыхнет всепожирающим пламенем. Кони тревожно ржали, пугались, производили в рядах орды смятение.
Опустилась темная южная ночь, чудовищно раскалилось небо, огромное зарево охватило горизонт.
И опять Касим-паша в смертной тоске подумал: «Неужели погибель?»
К нему подъехал седобородый астраханец и посоветовал:
— Вели остановиться. За ночь все сгорит, немного остынет земля и мы пойдем дальше!
У безвестного кургана разбили голубой шатер, и он сразу стал черным. Касим-паша вошел в него и расположился на взбитых пуховиках. Он без конца пил из кожаных бурдюков теплую протухшую воду и без конца думал о том, что без воды и корма погибнут и люди и кони.
Несчастье сблизило рать. Позади она оставила сожженные степи, впереди, за огненным кругом, ее ждала Волга, Астрахань и, главное, — вода. Прохладная и чистая вода!
Всю ночь горели огни, все еще пылали степи и томила духота. Только под утро зарево стало меркнуть и прояснилось небо. На заре тронулись в дорогу. Люди стали безмолвными, понимали все без слов, страх и уныние овладело ими.
По сторонам от шляха оставались трупы, и стаи птиц, налетевших издалека, теперь кружили над ордой. Касим-паша больше не ехал впереди воинства. Он пересел в паланкин, и огромный белый верблюд, покачиваясь, нес его среди пожарища и пустыни. Позади в обозе скрипели арбы, надрывно мычал рабочий скот и без конца неистово кричали спаги, нахлестывая бечами падающих от изнурения полонян, тащивших пушки.
Девлет-Гирей не разбивал юрты на стоянках. Он заворачивался в косматую бурку и, положив рядом ятаган, быстро засыпал. Он не боялся ни степного пожара, ни пустыни, ни криков стервятников, — в набегах на Русь он привык ко всему. Просыпаясь, он думал о прежнем: как бы подороже продать Касим-пашу.
Когда казалось, что всему будет скорый конец: кони падут без корма и воды, измученные люди не встанут после ночлега, — неожиданно затуманилось небо и к ночи собрался дождь. Он полил потоками, бурлил, щедро поил раскаленную алчущую землю, наполнял до краев лощины и ручьи. Измазанные, в грязи, измученные люди падали лицом в лужи и жадно пили, вдыхая освежающую прохладу.
Касим-паша снова повеселел:
— Теперь дойдем! Скоро будет Итиль!
И хотя до Волги еще было далеко и кончился корм, но все ободрились. Страшное осталось позади. Только Девлет-Гирей продолжал мстительно думать: «Путь от Астрахани до Азова будет еще длиннее!»
Он на себе испытал силу Руси и не верил, что Касим-паша сумеет одолеть ее под Астраханью.
И опять паша встретил Семена Мальцева, худого, страшного. Глаза русского ввалились в черные орбиты и сверкали, как раскаленные угли.
— Видал, какая наша сила? — дерзко крикнул он Касим-паше. — Это еще цветочки. А вот с русской ратью встретишься, еще хуже будет!
— Я сегодня срублю тебе голову! — сердито ответил паша.
— Ты уже однажды обещал, да забыл! Чего тянешь, а может, чего доброго, и впрямь моя голова еще сгодится тебе на выкуп! — с насмешкой сказал русский.
Касим-паша поскакал вперед. Налетевшие стервятники с криком рвали падаль. Они не пугались ни орды, ни стрел. Поднимались и снова опускались на раздутые туши коней.
Какая-то сила удерживала пашу, и он не позвал палача, чтобы срубить голову дерзкому пленнику. «Кто знает, что предполагает аллах? — рассудил он. — Может быть, это моя судьба? И потом, никогда не поздно сделать это!»
Он оживился, поднял лицо, так как из степной балки внезапно подул свежий ветерок. «Вот скоро и Итиль!» — с надеждой подумал он.
Над степью лежала тихая ночь. Млечный путь опоясывал темное небо жемчужным поясом; из-за курганов выкатилась золотая луна. Казалось, все уснуло, все замерло в глубокой тишине, но Ермак не верил коварному покою и безмолвию. Все междуречье, от Дона до Волги, охватило скрытое беспокойство: днем и ночью по балкам и оврагам рыскали волчьими стаями ногайские наездники. Они осторожно выслеживали и с диким визгом врывались в одинокие русские хутора и заимки, заброшенные в Дикое Поле. Хищники резали отважных посельщиков, предавали курени огню и, навьючив награбленное добро, снова скрывались в безлюдных просторах.
Кочевники с нетерпением готовились к встрече полчищ Касим-паши. Среди этого кипучего озлобленного вражьего края казачья ватажка Ермака на крепких коньках торопилась в Астрахань предупредить русских о беде. Днем казаки скрывались в диких урочищах, в камышах степных озер, а ночью, не мешкая, пускались в путь.
На третью ночь казаки выехали на пологую возвышенность. Ермак оглянулся и радостно крикнул:
— Гляди, братцы, как Ивашка Кольцо честит басурман огнем!
Далеко на западе, в донской степи, алел окоем. В густой тьме перебегали и трепетали веселые язычки пламени, — пылала подожженная степь. Казаки оживились и негромко запели:
Загорелась во поле ковылушка,
Кто знает, она от чего?
Не от тучки, не от грома,
Не от жаркого лучья, —
Загорелась во поле ковылушка
От казачьего ружья…
И чем больше разгоралось пламя на горизонте, тем веселее и увереннее становились казаки.
Три ночи скакала ватажка на восток, а на четвертый день, на заре, в долине заблестели широкие воды.
— Волга! — радостно ахнули казаки и вздохнули полной грудью.
Ермак снял шапку, ветер шевельнул черные кудри. Он соскочил с коня и низко поклонился:
— Здравствуй, Волга-матушка! Здравствуй, родимая! Кланяется тебе наш преславный Дон Иванович!
Любо было слышать казакам дорогие и верные слова Ермака. Все спешились и долго смотрели на раздольную и разгульную реку. Любовались они и нежно-розовой полоской, вспыхнувшей на востоке, — вот-вот взойдет солнышко.
Ведя коней в поводьях, казаки по росистой траве спустились к прохладному плесу. Умыли, освежили лица, огонек прошел по жилам от прохладной воды.
И пока сами мылись, пока купали и поили коней, взошло солнце, и на левобережье Волги, над камышами потянулся сизый туман.
Утомленные, но счастливые казаки отыскали в тальнике укромный уголок и разложили костер. Над ним повесили черный от копоти котел и стали варить похлебку.
Ермак смотрел на золотой плес, на просинь могучей реки и вполголоса пел:
Ах ты Волга ли, Волга матушка, Широко ты, Волга, разливаешься, Что по травушкам, по муравушкам, По сыпучим пескам да камушкам, По лугам, лугам зеленым, По цветам, цветам лазоревым…
— Братцы! — прерывая песню, закричал Богдашка Брязга. — Тут в овражке таится хутор. Айда-те за мной!
— Стой! — строго сказал Ермак. — Пойти можно, но русского добра не трожь! Веди нас.
Брязга привел казаков в дикое место. Под вековым дубом приютилась рубленая изба, двери — настежь. В темном квадрате вдруг появилась баба. В синем сарафане, здоровенная, лет под сорок, она сладко зевнула и потянулась.
— Здорово, краса! — окликнул женщину Ермак.
— Ахти, лихонько! — от неожиданности взвизгнула баба и мигом скрылась в избе.
Казаки вошли в дом. В большой горнице тишина, пусто.
— Эй, отзовись, живая душа! — позвал Ермак, но никто не откликнулся.
Тем временем Богдашка Брязга сунулся в чулан. Глаза его озорно блеснули: в большой кадушке он разглядел широкую спину хозяйки.
— Ишь, ведьма, куда схоронилась! Вылезай! — незлобливо крикнул он и за подол сарафана вытащил толстую бабу из кадушки. Подталкивая, вывел ее в горницу.
— Гляди на хозяюшку! — весело оповестил он.
— Ты чего хоронишься, лесная коряга? — закричали казаки. — Разве не знаешь порядка: когда нагрянут казаки, надо встречать с хлебом-солью! Проворней давай нам есть!
Хозяйка поклонилась станичникам.
— Испугалась, ой, сильно испугалась! — пожаловалась она. — Тут по лазам да перелазам всякий леший бродит, а больше копошится ныне ногаец! Злющ лиходей!
— Есть ли у тебя хлеб, хозяюшка? — ласково спросил ее Ермак. — Изголодались, краса. Как звать, чернобровая?
Женщина зарделась. Добродушная речь казака пришлась ей по сердцу.
— Василисой зовут, батюшка! — отозвалась она, и засуетилась по избе. Сбегала в клеть, добыла и положила на стол и хлеба, и рыбы, и окорок.
— Ешьте, милые! Ешьте, желанные! — приятным грудным голосом приглашала она, а сама глаз не сводила с Ермака. Плечистый, темноглазый, с неторопливыми движениями, он напоминал собою домовитого хозяина.
— И откуда у тебя, матка, столько добра? — полюбопытствовал Ермак.
Василиса обласкала его взглядом и певуче отозвалась:
— Волга-матушка — большая дорога! Много тут всякого люда бродит на воле. И брательники мои гуляют…
— С кистенями! — засмеялся своей подсказке Богдашка Брязга.
Женщина потупила глаза. Ермак понял ее душевную смуту и ободрил:
— Не кручинься. Не кистенем, так оглоблей крестить надо бояришек да купцов! Пусть потрошат мирских захребетников. «Сарынь на кичку!» — так что ли твои брательники окликают на вольной дорожке приказного да богатого? Не бойся, матка, нас!
— Так, желанный, — согласилась баба. — Кто богу не грешен!
Она нескрываемо любовалась богатырем: «Эх, и казак! Бровь широкая, волос мягкий, глаз веселый да пронзительный! И речист и плечист!» — Она поклонилась ему:
— А у меня и брага есть!
— Ах, какая ты вор-баба! — засмеялся Брязга. — Вертишься, зенки пялишь на казака, а о браге до сих пор ни гу-гу… Тащи скорей!..
Василиса принесла отпотевший жбан хмельной браги, налила ковш и поднесла Ермаку. Казак утер бороду, перекрестилась истово и одним духом осушил ковш.
— Добра брага! Ой, и добра с пути-дороги! — похвалил он и отдал ковш хозяйке.
Василиса затуманилась, иного ожидала она. Повела гладкими плечами и сказала Ермаку с укором:
— Ты что ж, мой хороший, аль порядков не знаешь? После браги отплатить хозяйке полагается!
— Чем же это? — полюбопытствовал Ермак.
— Известно чем! — жарко взглянула она ему в глаза.
Ермак переглянулся со станичниками и сказал женке:
— Я казак, родимая! Не миловаться и целоваться мчал сюда. Но уж так и быть, больно душевна ты и пригожа! — Он поднялся из-за стола, утер усы, обнял и поцеловал хозяйку. Василиса зарделась вся и с лаской заглянула ему в глаза.
— Неужели с Волги уйдешь? Где же казаку погулять, если не на таком раздолье!
Ермак отстранил ее:
— Нет, родимая, не по такому делу нынче торопимся мы. Несем мы важную весть для русской земли. Укажи нам тропку, чтобы невидно-неслышно проскочить в Астрахань, да и сама уходи отсюда! Великая гроза идет…
Баба охнула и на глазах ее блеснули слезы. Потом, справясь с собой, сказала:
— Ладно, казачки, выведу я вас на тайную тропку. Только Стожары в небе загорятся, и в дорожку, родные!
Богдашка сверкнул серьгой в ухе, перехватил ковш, и пошел гулять среди казаков. Выпила и Василиса. Захмелела она от одного ковша и петь захотела.
— Хочешь, желанный, послушать нашу песню, — предложила она Ермаку. — Холопы мы, сбежали от лютого боярина, и песенка наша — э-вон какая!
Не ожидая ответа, раскрасневшаяся женка приятно запела:
Как за барами было житье привольное,
Сладко попито, поедено, положено,
Вволю корушки без хлебушка погложено,
Босиком снегов потоптано,
Спинушку кнутом побито,
Допьяна слезами напоено…
Ай да баба! Царь-баба! — закричали повеселевшие казаки.
— Не мешай, братцы, — попросил Ермак. — Видишь, жизнь свою выпевает, от этого и на душе полегчает…
Женка благодарно взглянула на казака и еще выше понесла свою песню:
А теперь за бар мы богу молимся.
Церковь божья — небо ясное,
Образа ведь — звезды чистые,
А попами — волки серые,
Что поют про наши душеньки,
Темный лес — то наша вотчина,
Тракт проезжий — наша пашенка.
Пашем пашню мы в глухую ночь,
Собираем хлеб не сеямши,
Не цепом молотим — слегою
По дворянским по головушкам,
Да по спинам по купеческим…
Хорошо пела женщина! И откуда только у нее взялись удаль и печаль в песне? И жаловалась, и кручинилась, и радовалась она. Закончла и засмеялась:
— И как после этого моим братцам на Волге не гулять. Эх вы, мои родные, оставайтесь тут..
— Нет! — решительно отказался Ермак. — Не до гульбы нам теперь, матка. Собирайся, братцы! — обратился он к станичникам. — Пора в путь. Ну, хозяюшка, показывай дорожку!
Василиса вывела казаков на тайную тропку и медленно, нараспев, стала объяснять:
— Держитесь овражинок, там и дубнянок и орешинка, чуть что, укроетесь от вражьего глаза. Все идите и идите, не теряя Волгу, а там доберетесь и до перевоза. Оттуда рукой подать до Астрахани. Дед Влас на пароме вас доставит.
Казаки распрощались с женкой. Долго она стояла на заросшей тропинке и смотрела, как покачивались ветки тальника.
— Эх! — мечтательно вздохнула Василиса: — Было бы мне годков на пять помене, пошла бы за ним! Сладок, кучерявая борода! — она повернулась и нехотя побрела к скрытому куреню.
Между тем, казаки забились с конями в самую глушь и отлеживались там до вечера. Время тянулось медленно. Чайки с криком носились над поймой; одолевали комары, но, несмотря на жгучий зуд от укусов, казаки, внимая голосам птиц, тихому шелесту тальника и еле уловимым шорохам, которые производили осторожные звери, покойно мыслили о своем. «Эх, бабы, русские бабы, везде вы одинаковы, стосковались до доброму слову по ласке!» — думал о приветливой женщине Ермак.
Когда солнце склонилось к западу, станичники раздули костер, сварили уху и уселись в кружок. Безмятежный дымок костра, тихий вечер, аромат ухи — все склонялось к мирной и долгой беседе, но приходилось торопиться. Надвигался вечер. Затих в дремоте тальник, неподвижен камыш, его острые листья не шуршат, не качаются пепельные пушистые метелки, умолкли птицы. На востоке уже показался хрупкий серпик месяца, и одна за другой стали вспыхивать бледные звезды. С реки потянуло сизым туманом. Свистя пролетели на заволжские озера утки. На высоком осокоре заухал филин.
— Ночной хозяин ожил, и нам пора убираться! — сказал Ермак и взнуздал коня. — Поехали, братцы-станичники!
И снова густая темная ночь охватила ватажку. Слева плескалась широкая река, справа лежала неспокойная степь. Двигались медленно, осторожно. И чудилось Ермаку, будто казаки стоят на месте, а звезды двигаются. Месяц посветил неуверенно и вскоре скрылся за холмы; еще темнее и таинственнее стало в степи, еще осторожнее и тише ехали казаки.
На другой день под утренним солнцем они заметили сияющие в голубом небе кресты церквей. На песчано-зеленом острове, раскинутом посреди полноводной Волги, виднелись строения, рубленые башенки и тянулись дымки к небу. И на всем огромном просторе колыхалось под утренним ветром зеленое море камыша. Проснулись птицы и кричали без умолку в кустах, в рощах. А вправо, на берегу, среди песков, виднелась избушка и подле нее возился седенький старичок.
«Паромщик Влас!» — догадался Ермак и повеселевшим голосом крикнул:
— Вот и Астрахань! Поторопимся, станичники!
Казаки и без того нетерпеливо глядели на переправу. Услужливый дед устроил всех на паром, поплевал на ладошки и взялся за шест.
— Благослови, господи! А ну-ка, молодцы, помоги! — попросил он.
Казаки в охотку взялись за весла. Ударили раз-другой, и паром вынесло на стремнину; под веслами забурлила вода. Ермак залюбовался Волгой. В глубине синего неба таяли озолоченные солнцем нежные пухлые облака. Крепкий свежий ветер гулял на речном просторе. Кричали чайки. И все ближе и ближе остров. А навстречу плыли, раскачивались на легкой волне, сотни лодок: бусы, струги, беседы. Среди них, разрезая воду, как лебедь медленно плыла расшива с распущенными белыми парусами.
«Вот она Астрахань, ближняя дорога в Бухару и в Персию!» — с гордостью подумал Ермак. Вдруг мимо его уха пролетела стрела. «Ах, супостат, вор-ногаец пустил из камыша, да опоздал!» — догадался Ермак.
Дед Влас тряхнул бороденкой:
— Счастливый ты, казак: гляди, и стрела не берет тебя! Долго жить будешь!
Казак в ответ только блеснул смелыми глазами.
Станичники свели с парома своих, привычных ко всему, коней.
— В добрый час, детушки! — напутствовал их паромщик Влас.
— Спасибо, дедко, на добром слове! — отозвался за ватагу Ермак и вскочил в седло.
Конная ватажка потянулась в город. Издали он казался пестрым и красивым: блестела лазурь минаретов, сверкали куполы церквей, а в синем небе белыми хлопьями летали голубиные стаи. Из Заволжья в лицо пахнуло сухим горячим ветром. Ермак осмотрелся… Вдали за островом желтели золотые пески, а на полдень уходила торговая дорожка! Из восточных стран — Бухары, Хивы, Ирана и далекой сказочной Индии — через Астрахань на Русь шли разнообразные товары, пряности и диковинные фрукты. Сюда на своих парусах сплывали и русские купцы за красной рыбой, сарацинским пшеном-рисом и превосходной солью. Из московских земель стекались сюда богатства, которые высоко ценились во всем свете. Шли сюда крепкие кожи, мягкие дорогие меха — соболиные, горностаевые, черные лисьи с серебристой искрой, беличьи. Привозили русские купцы в Астрахань в липовых бочонках чистый, как слезинка, сладкий мед, белые холсты, охотничьих птиц — соколов и кречетов, до которых падки были восточные властелины.
Казаки ожидали встретить богатый, нарядный город, пышность и величавость, и сильно изумились, когда, вместо ожидаемого, перед ними раскрылось скопище глиняных хибар, без окон, с плоскими крышами. Вдоль речных протоков Кутума и Балды тянулись узкие кривые улицы, за ними высился насыпной вал, а дальше — бревенчатый тын, увенчанный по углам рублеными башнями.
«Крепость!» — догадался Ермак и направился с ватажкой в сторону большой башни.
Конники углубились в узкие улочки. Был ранний час, но город уже проснулся и жил кипучей жизнью. Всюду над мазанками вились дымки, пахло горелым кизяком. Вдоль грязных немощенных уличек неторопливо стекали мутные ручейки, изрядно пахло гнилой рыбой. На плоских крышах спозаранку сидели укутанные в черные покрывала женщины и со скрытым любопытством наблюдали за проезжими.
Богдашка Брязга не удержался, вскинул голову окрикнул татарок:
— Айда-те, милые, с нами! Гляди, какие очи горячие, а сама прячешься. А ну, выгляни, бабонька!
— Не надейся, не выглянет. Инако и нельзя, оскоромится, — насмешливо отозвался лихой станичник.
Из-под копыт коней поднялись тучи пыли и заволокли мазанки, улицы и любопытных мусульманок. Где-то наверху, с минарета, мулла выкрикивал слова утренней молитвы:
— Ля иляга илля ллагу!..
Призывы муллы смешивались с ревом ослов, с воплями погонщиков верблюдов, тянувших караваном в теснине хибар.
Ватажке приходилось часто останавливаться и подолгу пережидать, чтобы разъехаться с караванами. Дорогу нередко переграждали обозы — вереница арб на огромных колесах, с ужасным скрипом продвигавшихся к торговой площади, к видневшемуся издалека караван-сараю.
В открытых настежь лавчонках раздавался дробный стук молотков, — медники гремели металлом, оружейники в раскаленных горнах плавили железо. Сидя на низеньких скамеечках, башмачники проворно тачали цветные башмаки и туфли с загнутыми кверху носками. Из кузнецы разносился оглушительный грохот и лязг. Тут же, у лавок и мастерских, бродили всклокоченные бездомные псы, с хриплым лаем сопровождавшие казачью ватажку.
Ермак много перевидал на своем веку, но такая смесь и пестрота ошеломила его. Вот и шумная площадь распахнулась перед крепостным валом.
— С дороги! С дороги! — выкрикивали оглушенные гамом казаки, но пестрая многоязычная толпа бурлила вокруг, не боясь быть истоптанной. Вертясь у лошадиных копыт, резко выкрикивали свой товар продавцы воды и восточных сладостей. Зазывали к себе мясники, из лавок которых удушливо пахло кровью и прокисшими кожами. Зазывали персы — продавцы невиданно красивых ковров. На легком ветре колебались и переливались всеми цветами радуги развешеные для приманки пестрые ткани: атласы, голубой артагаз, черный шелк и тафта червчатая, алая, багряная, зеленая… Глаза казаков разбегались, а продавцы ласково расхваливали свои товары:
— Ай, карош! Ай, красивый!…
Только одни чернобородые персы-менялы с невозмутимым видом сидели у маленьких разновесов, готовые в любую минуту обменять бухарскую теньгу на русский ефимок. Да еще торговцы драгоценными камнями важно восседали у своих лавок и пытливо разглядывали прохожих. Не всякому они показывали свое добро, скрытое в каморке за кованой дверью. Оборванные нищие, худые и босые, протягивали костлявые руки и вопили о подаянии.
И кого только на площади не было: и персы, и армяне, индусы и русские торговые люди, и просто гулебщики, сплывшие в Астрахань за удачей. И все это разноязычное, многоликое скопище суетилось, спорило, кричало, торопилось. Только гляди да поглядывай, а то, чего доброго, раздавишь кого конским копытом!
Еле пробрались казаки сквозь толпу, и тут у вала их властно окрикнул бородатый осанистый стрелец, с тяжелым бердышом в руке.
— Стой, кто едет?
— С Дона станичники с вестями! — сурово и независимо ответил Ермак.
— На Дону всякие люди есть, — ответил стрелец. — Толком сказывай!
Казаки разгорячились.
— Бей бородатого лешего! — вспыхнул Брязга.
— А ты попробуй, сдачу получишь! — внушительн ответил часовой.
Ермак протянул руку и, оборотясь к ватажке, сказал:
— Не кричать, братцы. Мы на русской земле и по государеву делу поспешили. Эй, честный воин! — обернулся он к стрельцу. — Скличь старшого!
Московский стрелец пытливо взглянул на Ермакка и отошел, зычно позвал:
— Андрейка, поди сюда!
Из сторожевой будки вышел высокий статный молодец в голубом кафтане с кривой саблей на боку. Он дружелюбно спросил:
— Кто звал?
Ермак поклонился ему и сказал учтиво:
— Торопились мы с Дона с вестями к астраханскоу воеводе. Тут на тычке не к месту о том толковать. Пропусти в крепость!
Андрейка огладил кучерявую бороду:
— Вижу — с дальнего пути люди. Что ж, милости просим. Айда-те, впускай донцов!
Медленно опустился тесовый подъемный мост. Широко распахнулись окованные медью ворота крепости, и казачья ватажка молчаливо въехала на широкую площадку, окруженную крепкими строениями…
Ермака с товарищами провели в каменную светлицу. Впереди легкой поступью шел все тот же стройный стрелец Андрейка. Он удивлялся казакам:
— И как вы только добрались до Волги: ведомо нам, что в степи ноне неспокойно, — ногайцы и татары помутились.
Ермак не успел ответить, так как распахнулась дверь, и он переступил порог. В обширной горнице со слюдяными окнами разливался теплый золотой свет. От выбеленных стен свет усиливался, и в покое было приятно. За дубовым столом, низко склонясь, сидел подьячий с реденькой бородкой и усердно скрипел гусиным пером. При виде донцов он поднял голову и выжидательно уставился плутоватыми глазами в пожилого, но крепкого ратного человека, одетого в серый кафтан с белой перевязью, за которой красовалась пищаль с золотыми насечками. На тесовой скамье лежала сабля.
Ермак быстро все охватил взглядом, оценил и понял, что перед ним стоит добрый воин. Андрейка торопливо шепнул:
— То и есть воевода Черебринской!
Астраханский военачальник поднял голову и пытливо оглядел станичников.
— Казаки! С Дона! — сразу определил он. — С хорошими или плохими вестями? Кто из вас старшой?
Донцы переглянулись, вперед выступил Ермак и поклонился:
— До вашей милости пожаловали. И как только сгадали, кто мы такие?
— Виден сокол по полету, а птица по перу! — крепким добродушным говорком отозвался голова крепости. — Тут, на краю света, всему научишься и всякого станешь примечать. На Волге, что на большой дороге: берегись да поглядывай! Ну, сказывай, казак, какое горе пригнало к нам?
— По воинскому делу, — сдержанно сказал Ермак и покосился на подьячего, который, прижмурив лукавый глаз, усердно слушал. — Уместно ли при сем лукавце речь держать?
— Это верно, лукавец, зело изрядный лукавец Максимка, хитер, но крест целовал на верность и тайну не вынесет из сей избы.
Подьячий сделал постное лицо и заскрипел пером.
Ермак сказал:
— Турский султан надумал Астрахань повоевать. Послал он большое войско. Ведет Касим-паша янычар, спагов, а с ним орда Девлет-Гирея.
Лицо воеводы омрачилось, глаза сверкнули.
— Вот как! Вновь поднялись! — вскричал он. — Сказывай, казак, дале!
— Двинулся Касим-паша с пушками и воинскими припасами на Дон, — продолжал Ермак. — Из Азова на каторгах все везли. Надумал паша Переволоку изрыть и донскую воду с Волгой породнить, да не пришлось…
— Пуп, что ли, надорвал? — усмехнулся воевода.
— Не по силам выпало, да и казаки степь пожгли, колодцы засыпали, а сейчас мы попалили все: пожарищем Касим-паша идет, поубавит силы!
— Спасибо, донцы! — поклонился станичникам Черебринской. — Поклон Дону! Догадывались мы о многом, а теперь вся ясно. Скажи, сколько легких пушек захватил турский паша и сколь у него войска?
Ермак неторопливо, толково пояснил. Суровый взгляд воеводы перебежал на подьячего.
— Что жмуришься, яко кот. Пиши! — приказал он. — А вы, казаки, с дороги отдохните, а потом обсудим, что дале! Так что ли?
— Так! — за всех согласился Ермак.
— Андрейка, сведи казаков в избу, накорми, напои, да в баню их, пусть испарятся! — воевода огладил седеющие усы и, подойдя к Ермаку, сказал: — Люб ты мне! — и остальным донцам: — Любы, братцы-донцы!..
Казаки ушли, а Черебринской опустил голову, задумался. Знал он, что турки собираются на Астрахань, но смущало другое: почему обычно заходившие в город турские и бухарские корабли сейчас дошли только до устья Волги и выжидательно стали на приколе?
«Почему они на Астрахань не жалуют? Неладное, видать, затеяли! — тревожился воевода. — А ногайцы и того хуже, — кишмя кишат подле крепости, на торжках да в караван-сараях много чужого люда появилось. Ну, теперь погоди, не так дело повернется!» — воевода тяжело заходил по комнате:
— Ты, Максимка, кличь приставов! Очистить город от вражьего племени!..
В тот же день на крепостном валу усилили караулы, по улицам и базарам засновали разъезды, которые хватали всякого подозрительного и вели на допрос.
Когда казаки умылись и насытились, их потянуло ко сну. Но спать не пришлось: в слюдяных оконцах вдруг зарделось зарево.
«Пожар», — тревожно догадался Ермак и распахнул оконце. Над городом пылали языки пламени.
— Что случилось? — спросил он приставленную к донцам стряпуху. — Горит, а набата нет?
Баба спокойно отозвалась:
— Посады палят. Ногайцев набилось видимо-невидимо, за лето понастроили без спросу хибар. Вот и выжигают нечесть!
Ермак натянул кафтан на широкие плечи, привязал саблю:
— Пойдемте, братцы, поглядим.
Казаки пешком обошли город. Как быстро все переменплось! Базар опустел, затих, вокруг стало пустынно. На окраине с треском пылали мазанки. Здоровенные бородачи-стрельцы, напирая на ордынцев, гнали их прочь от города:
— Кто дозволил вам быть тут?
На улицах взволнованно жался народ, бирюч выкрикивал:
— Торговым людям, кто бы он не был и какой веры не значился, ущербу не будет. Русь торговала и торговать будет со всеми. А ныне Астрахань-крепость русская и лишнему человеку тут не место. А ворам и злодеям, кто замыслит измену, — смерть!
На другой день и впрямь поймали переметчиков-ногаев, которые добирались до складов с зельем и хотели поджечь их. Ногайцев допросили и повесили на устрашение врагам. Усилили караулы. На валах темнели жерда пушек, расхаживали стрельцы с бердышами. И всю ночь на башнях крепости перекликались караульные:
— Славен город Москва!
— Славна Астрахань!
— Славен Нижней-Новгород!
В темноте да в тишине перекличка звучала торжествено и строго: чуялось, что в крепости действует сильная и крепкая рука.
Ермак с казаками приметили, как дородный и ладный Черебринской на своем высоком и сером аргамаке объезжал остров и поторапливал стрельцов:
— Живей, живей, служивые! Нам ли боятся орды? Стояли и стоять будем на русской земле!
Вечером над Астраханью появились крикливые стаи воронья; они унизали кресты церквей, деревья, частоколы крепости. От их карканья становилось тошно на душе.
— Точно на падаль слетелись, — с досадой сказал Ермак. — По всему видать, Касим-паша близко!
Догадка подтвердилась. На берегу Волги стрельцы подобрали паромщика Власа. Он лежал уткнувшись лицом в землю, а между худых лопаток торчала оперенная стрела. Старик тяжело дышал и, когда его поднимали, вымолвил:
— Понуждали переправить дозорных, а я паром угнал. Да не уберегся малость. Ну что ж, пожил свое и на том хвала господу!
Старика не донесли до крепости — скончался в дороге.
На закате над Волгой разнесся шум. Толпы народа вышли на вал и на берег реки. Над степью плыли тучи пыли — тысячи турецких, татарских и ногайских конников тянулись по прибрежной дороге. Доносились гортанные голоса и ржание коней.
В народе гомонили:
— Касим-паша идет…
— Добрался, окаянный, до Волги, теперь коней напоит в русской реке!
В толпе стоял Ермак и вместе с другими кипел гневом.
— Пришел Касим-паша с конями на Волгу, а уйдет без них, — твердо выговорил он. — Конец ему тут! Стояла и будет стоять здесь русская земля!
— Ой, верно говорено! — отозвались в народе.
А вороны тем временем с великим граем покидали Астрахань и летели навстречу вражьему войску, опаленному солнцем, закопченному дымом, запыленному, усталому и уже потерявшему веру в победу. Словно чуяло воронье, где можно будет поживиться.
4
Первого сентября Касим-паша с поредевшим войском подошел к Астрахани, но не посмел с хода броситься на город, а раскинулся станом на древнем Хазарском городище. Ночью над Волгой зажглись тысячи костров, ярко пылавших в густой ночной тьме. По воде далеко разносилось конское ржанье. Воевода Черебринской в темном кафтане безмолвно стоял на валу и вглядывался в сторону городища. До утра не прекращался гул в турецком стане, слышался топот конницы, вспыхивали и пламенели все новые и новые костры. Казалось, ими были усеяны все рынь-пески, и блеск их сливался со сверканием звезд.
«Ногайская орда подошла!» — догадался воевода, но хранил хладнокровие. Показав на костры, он сказал окружавшим его:
— В пешем бою ордынцу не взять русского, а на крепости и подавно зубы поломают!
Ермак, которого за воинскую доблесть приблизил к себе воевода, уклончиво ответил:
— И пешие перед конными бежали, и крепости рушились. Главное — в духе воина!
— Правдивые слова! — согласился Черебринской. — Бесстрашный да умный воин крепче камня и дубового тына.
А огни на равнине прибывали, будто звездное небо роняло их на землю. Топот не смолкал. Только к утру все стихло, и когда рассеялся туман, астраханцы увидели тысячи юрт и табуны коней. Солнце казалось тусклым в сизом дыму костров. Сотни челнов раскачивались на легкой волне. Словно по мановению невидимой руки, на берегу выросли толпы ордынцев, пеших и конных. Пешие с гомоном забирались в ладьи, а конные потянулись по берегу.
На крепостном валу закричали:
— Орда плывет, готовь встречу!
Ермак выбежал из дозорной башни, за ним — казаки. Среди стрельцов степенно расхаживал воевода.
— Пушку «Медведицу» навести на стремнину! — наказывал он пушкарям. — Как выплывут громадой, угостить их ядрышком!
У берега, на приколе, стояли сотни бусов, малых стругов, а подле них суетились ратные люди. Завидя это, Ермак стал просить:
— Дозволь, воевода, нам, донцам, на реке с баграми погулять!
— Гуляй, казаки! — разрешил Черебринской. — Люблю потеху да удаль. Только гляди, сноровкой да умом бери, и плыть, когда «Медведица» песню отревет!
Станичники кинулись к берегу, раздобыли багры. В буераке толпились астраханские женки и кричали со слезами:
— Ой, плывут нехрести! Ой, плывут по наши душеньки!
— Цыц, дурашливые! — прикрикнул на них Ермак. Взгляд его был грозен, — женки сразу присмирели.
Ордынские ладьи, толпясь большой утиной стаей, выплыли на стремнину. Шальная Волга разом подхватила их и понесла. Многие суденышки оторвались от стаи и, как ни старались гребцы, их завертело, потянуло к морю.
— Ай-яй! — разносились по реке крики. И, как бы в ответ, вдруг рявкнула «Медведица».
— Ишь ты, знатно-то как! Голосиста! — одобрили казаки.
Ядро хлестко ударило в ордынскую ладью, и сразу от нее полетели щепы, заголосили люди. Очутившись в быстрине, уцелевшие хватались за борта соседних ладей и опрокидывали их.
— Эко, крутая каша заварилась! Ой, и воевода! — похвалил Ермак и поднял багор, намереваясь вскочить в струг. Но Брязга удержал казака:
— Поостерегись малость, Тимофеевич, еще не отгудела свое «Медведица».
И тут опять ударило из пушки. Брызги сверкнули искрами, и пуще прежнего завопили ордынцы. Кружившие по воде отдались стремнине, другие загребали к берегу.
Конники спустились в Волгу и поплыли, держась за гривы коней. Опять рявкнула пушка и на сей раз угодила по скопищу плывущих всадников. Тут же Ермак и казаки не ждали. С баграми они бросились к стругам и дружно ударили веслами. Тучи стрел полетели навстречу, но казаки не устрашились. Размахивая веслами, гребцы запели:
Эх, ты Волга, мать-река, Широка и глубока, Ай да, да ай да, Ай да, да ай да! Широка и глубока!
— Алла! Алла! — закричали рядом, и Ермак поднял багор.
— Братцы, бей супостата! — заорал он и, размахнувшись багром, изо всей силы ударил турка по бритой голове. Тот и не охнул, опрокинулся на борт и перевернул ладью. С оскаленными зубами, вопя, торопились отплыть от рокового места более сильные, но их хватали за плечи трусливые и, захлебываясь, в последней жестокой схватке затягивали в глубь быстрой стремнины. Там, где только что барахталось тело, на минутку вспыхивала и угасала мелкая крутоверть.
Крепко упершись ногами в устои ладьи, Ермак размахивал багром, крушил вражьи головы, опрокидывал челны. Ему помогали браты-казаки, так же яростно орудуя баграми.
— В Астрахань заторопились… а ну-ка остудись, подлая башка! — кричали донцы.
— Бачка, бачка! — вопили ногайцы. — Мы свой!
— Ага, в беде своим назвался! Ах, окаянный переметчик!
На бугорке, на белом аргамаке, отмытом в волжской воде, в пышном плаще, сидел Касим-паша и наблюдал за переправой. Он выкрикивал что-то конникам, но что могли поделать они? Стремнина уносила многих из них в синюю даль, многие гибли тут же на глазах. Воды Волги покрылись телами воинов, плывущими конями, за хвосты и гривы которых цеплялись десятки рук и тянули животных на дно.
Поодаль от Касим-паши у шатра стоял Девлет-Гирей, хмурый, с замкнутым лицом. Три сына его — царевичи молча следили за отцом. Он долго и упрямо молчал. И когда могучее течение Волги смыло последнего всадника, махнул рукой и сказал с горечью:
— Зачем было идти на Итиль? Я говорил…
Немногие ордынцы добрались до астраханского берега, и тут женки полонили их. Мокрых, посиневших они погнали их в крепость.
— Пошли, пошли, вояки!
Навстречу женщинам выехал воевода на вороном коне. Веселым взглядом он встретил женок:
— Это откуда столь набрали бритоголовых?
— Торопились, вишь, в Астрахань, да обмочились с испугу. К тебе гоним, воевода, на суд праведный!
— Ай да женки! — похвалил Черебринской. — С такими не погибнешь!
— А мы и не думали умирать. И Астрахань не уступим!
— А кто ревел со страху в овражине? — лукаво спросил вовода.
— А мы для прилику… Как же бабе да без слез! Уж так издавна повелось, не обессудь…
Касим-паша медлил, не шел на штурм Астрахани. Тем временем перебежчики сообщили воеводе: на старом Хазарском городище, на Жариновых буграх, турский полководец начал возводить деревянную крепость. Когда-то очень давно, тысячу лет тому назад, на этом месте располагалась столица Хазарского царства — Итиль. Ныне от нее остались заросшие руины — рвы, ямы, холмы битого кирпича и черепицы, да забытае гробницы, многие из которых сейчас разрыли турецкие спаги, раскидав кости и похитив погребальные чаши и другие ценности, схороненные вместе с покойниками.
На западном, нагорном, берегу Волги, в двенадцати верстах выше Астрахани, стал расти новый город. Желтые рынь-пески усеялись тысячами юрт, над ними целый день вились синие дымки. Ветер доносил стук топоров, звуки зурн и мелкую дробь турецких барабанов. Дни стояли теплые, голубые. Над Волгой летали белые чайки, а выше их реяли орлы-рыболовы.
По ночам лагерь озарялся множеством огней, и ордынцы, сбившись вокруг костров, в больших черных котлах варили конину и вслух роптали на Касим-пашу. Недовольны были и ногайцы, согнанные князьком изменником в турецкий стан. На противобережной правнине подсохли пушистые метелки ковыля, трава побурела. Надвигалась осень, а с нею и пора откочевки на свежие нетронутые пастбища, на тихие просторы, где табуны и отары овец моги перебиться в холодную и вьюжную зиму.
Все это радовало воеводу, но он задумчиво хмурил темные брови. Хотя кругом кипела горячая работа — обновляли палисады, крепили заплоты, подсыпали повыше валы, жгли камыш в низких местах острова, чтобы не дать приюта незваному гостю, а по улице то и дело раздавался топот конных разъездов, день и ночь караулили надежные заставы, — все же на душе Черебринского было неспокойно. Хотя и храбры стрельцы и охочие астраханские люди, а все же малочисленны. Огромная орда могла в любую минуту скопищем броситься на Астрахань и подавить гарнизон своей тяжестью. Не боялся воевода лечь костьми за родную землю. Знал, что и другие не уступят ему в храбрости, но умереть под мечом врага легче, чем выстоять. А выстоять надо, если даже не придет помога!
Свою тревогу Черебринской таил глубоко. Каждое утро он обходил крепость и город. Вид его был величав и покоен. На нем были сапоги, расшитые золотом, красные штаны, белый зипун, а поверх желтый кафтан с длинными рукавами, которые можно собирать и распускать по желанию, на боку поблескивала богато украшенная самоцветами сабля.
Неспешно поднимался он на вал и смотрел на далекий волжский берег, где за серебристым туманом угадывался вражеский лагерь. После этого он спускался с вала и медленно пешком шел к другим местам обороны. За ним, в отдалении, двигались меньшие воеводы в лиловых кафтанах, старосты и тиуны. Хозяйским глазом воевода замечал все и тут же приказывал исправить оплошности. Своим внушительным видом он вселял уверенность в народе. В городе все шло своим чередом: озабоченно работали в мастерских, у праспахнутых настежь дверей, а то и вовсе под открытым небом, шорники, седельники, ткачи, жестянщики, веселые кузнецы, портные. На торжках попрежнему кричали и божились торговцы, клялись покупателю, что продают товар себе в убыток. При виде воеводы толпа почтительно расступалась.
Пройдя базар, Черебринской направился в церковь. Шло богослужение, звонили колокола, на паперти толпились нищие и среди них слышалось пение юродивого Алешеньки. Он гнусавил:
Идет божья гроза… Горят небеса Огнем лютым… Точатся ножи, Всякий час дрожи…
Разевая беззубый рот, сверкая впалыми глазами фанатика, обнаженный до пояса, с тяжелыми веригами на костлявой груди, юродивый производил на толпу гнетущее впечатление.
Заметив это, воевода решил убрать «своего завывальца». И без него нерадостно было.
Воевода очень нуждался в Ермаке, в его твердых и умных советах, и поэтому казак почти всегда сопровождал Черебринского в обходах. Однажды Ермак не явился на зов воеводы, и как ни искали его стрельцы, но вернулись ни с чем. Между тем атаман сидел в укромном куту, на юру островка, под опрокинутым стругом, и наблюдал за рекой. Над Волгой плыл туман, и в нем давно заметил казак одинокую лодку, пересекавшую быструю стремнину Волги. Струйки воды разбегались в стороны; худой, большеносый человек, воровски оглядываясь по сторонам, старательно греб к острову. Кругом было тихо и безлюдно. Незнакомец, видимо, хотел быть незамеченным. Челн ударился носом в песок, прибывший выскочил и, хоронясь, пошел в посад. Был он долговязый, с небольшой головой и рыжей бородой.
Ермак пошел за ним следом. Человек шмыгнул в заросли нескошенной полыни и исчез. Но Ермака трудно было обмануть, он не потерял его из вида. Человек тенью скользнул в кривой переулок и очутился на торжке. Нырнув в толпу, он вертелся в ней, вслушивался и что-то говорил. Одному из бухарцев подмигнул, другому словцо бросил, а с третьим — задержался. По всему было видно, на торжке он свой человек. Шаг за шагом казак шел за неизвестным, и когда тот возле караван-сарая собирался снова нырнуть в толпу, опустил на его плечо тяжелую руку.
— Стой! — грозно сказал Ермак.
— Зачем стой? — вздрогнув, спросил незнакомец.
— К воеводе пойдем!
Человек побледнел, растерялся, но скоро справился с собой.
— Для чего же к воеводе? Будет время, я и сам к нему пойду.
— Вот и пойдем!.. Расскажешь там, как сюда попал. Да живо! Будешь упираться, зараз башку сниму!
Неизвестный оглянулся, как бы ища поддержки, но потом, что-то сообразив, решительно зашагал впереди казака. Видно было, что он не раз бывал в городе, так как хорошо знал дорогу. Он гнулся и часто хватался за грудь, словно нес под халатом тяжесть.
Воевода вернулся из церкви и стоял перед открытым окном. За спиной его скрипел пером подьячий Максимка.
— Эге, да вот и станичник! — воскликнул Черебринской, заметив Ермака. — Да он не один. Гляди, какого шута тащит сюда!
Дверь распахнулась, и Ермак втолкнул незнакомца в горницу. Человек не растерялся. Казалось, он только и ждал этой минуты. Втянув голову в плечи, он засиял и затараторил:
— Ой, ласковый боярин, ой пресветлый князь, какое дело есть!
— Кто ты такой?
Воевода с удивлением разглядывал пленника.
— Прикащик я! Оттуда… — неопределенно махнул рукой незнакомец. — Я прошу тебя, великий пан, выслушать меня. Только пусть уйдут все!
— Да говори при них! — приказал воевода.
— При них нельзя, боярин. Тут такое… что надо один на один!
— Ты что, прибылый? — спросил воевода, подозрительно косясь на приведенного.
— Прибылый… К твоей милости!
— Ты не брешешь, сукин сын? — сердито выкрикнул воевода. — Смотри, коли так, — помедлив согласился он. — Вы, люди добрые, оставьте нас! Коли что, позову.
Подьячий послушно юркнул за дверь, а Ермак, выходя из горницы, недовольно подумал: «И что только надумал воевода? Да сего приказчика надо в мешок и в Волгу. Видать сову по полету!».
За дверями царила тишина. Изредка доносился низкий бас воеводы. Подьячий неугомонно вертелся подле казака.
— Шишиги турские заслали, непременно! — не мог успокоитья он. — Доглядчик!
— Откуда знаешь? — пытливо посмотрел на него Ермак.
— На своем веку немало перевидел ворья да изменников. По мурлу вижу — вертится змея! Подослан!
Между тем в горнице продолжался свой разговор. Воевода прошел к столу и строго спросил:
— Ну, так сказывай, кто ты и зачем подослан?
— Ой, великий пан, разве невдомек, зачем я пожаловал? — маслянистыми глазами обласкал Черебринского рыжий. Он потянулся и осторожно дотронулся до плеча воеводы. Тот брезгливо отодвинулся:
— Не тяни. Сказывай.
Человек на цыпочках подошел к воеводе и зашептал:
— Боярин, я пришел от Касим-паши!
— Как смел! — вскипел воевода.
Незнакомец пожал плечами:
— Посланец я! Вельможный пан хочет есть хлеб, и я хочу. А потом, потом…
Пленник закопошился, полез в карман своего халата и, вынув оттуда кожаный мешочек, положил его на стол.
— Это все ваше теперь… Касим-паша прислал…
— Почему ж это мое? — тихо, с угрозой спросил воевода. И, погасив свой гнев, повторил: — Почему же это мое?
— За услугу, пан! Совсем мало надо от боярина, совсем мало! Надо, чтобы он бросил Астрахань и увел стрельцов! Даже драки не будет, и все будет хорошо.
— Ах ты дрянь! — сжал кулак воевода.
— Ой, боже мой, да я же не все выложил! — засутился подосланный. — Вот еще немного, — он вытащил и положил перед воеводой второй мешочек. — Ту все золото! А после будет еще…
— Мало! — рявкнул воевода. — Клади еще!
— Больше пока нет! — согнулся в дугу подосланный. — Отпусти, боярин, еще принесу, только скажи, что все будет так, как просит мудрый Касим-паша…
Воевода схватил мешочки, развязал их и опрокинул на стол. С веселым звоном посыпались золотые лобанчики. Были тут и польские червонцы, и турецкие лиры, и бухарские тенги. Глаза рыжего заблестели…
— Ах ты вор! — загремел вдруг воевода. — Эй, люди!
Ермак мигом сорвался со скамьи и бросился в горницу. За ним протрусил подьячий.
— Гляди, казак, зри и ты, крапивное семя! — крикнул им Черебринской. Размашистым шагом он подошел к рыжему. Вид его был грозен. — Эх ты, продажная шкура, шинкарь! Думал русского человека за лобанчики взять? Ан нет, русская душа не продается! — он ткнул ногой в побледневшего турского посланца и гаркнул:
— На дыбу этого шельмеца! Пытать его! А ты, Максимка, отпиши лобанчики на государеву казну!
— Вельможный пан! — взвизгнул подосланный. Но Ермак уже сгреб его за плечи и швырнул из горницы в руки стрельцам.
Русский посол Мальцев продолжал томиться в неволе. Он совсем отощал, захирел, но не падал духом. Полоняник присматривался ко всему, что творилось в турецком лагере. На ранней заре турок и татар будила частая дробь барабанов. Щелкая бичами, старшины гнали их на работу. Он шли, как волы в ярм, тяжело опустив головы, и громко роптали. Вскоре раздавался стук топоров, скрип арб, — тысячи ордынцев начали строить деревянную крепость. Мальцев радовался: «Коли свой городок возводят, значит Астрахань не по зубам!».
Вместе с ордынцами гоняли на самую тяжелую работу и невольников. Донские казаки-полоняне шли с песней. И песня эта щемила сердце Мальцеву. Невольники пели:
Ой, вызволи, боже, нас всех,
бедных невольников,
Из тяжелой неволи,
Из беды басурманской,
На ясные зори,
На тихие воды,
На край веселый,
На мир крещеный!
Не мог утерпеть Семен, подпевал и он. Голос у него слабый, скрипучий, но от песни легче становилось на душе.
Сыновья Девлет-Гирея, царевичи, облаченные в ярко-алые кафтаны, с кривыми ятаганами на поясах, в сапогах из желтого сафьяна, кроенных по-астрахански, из любопытства пришли к пленному русскому послу. Он сидел на земле, прикованный тяжелыми цепями-кедолами, при появлении татар горделиво поднял голову.
— Рус, плохая твоя песня. Ты кричишь, как старый гусь на перелете! — насмешливо сказал старший царевич.
— Погоди, золотце, и тебя Касим-паша доведет, — затянешь тогда перепелом!
Братья переглянулись: нисколько не пуглив русский. И как он угадал их неприязнь к турецкому паше?
— Ты, наверное, не знаешь, кто мы? — заносчиво спросил царевич.
— Как не знать! — незлобливо ответил Мальцев. — Вижу — пришли сынки хана Девлет-Гирея. Все вижу, царевичи.
— Что же ты видишь, рус? — с насмешкой спросил самый младший царевич, тонкий станом и большеглазый.
Пленник уставился в его бараньи глаза и сокрушенно покачал головой:
— Эх, милый, твоя участь хуже моей! Красив ты, и твои братья царевичи пригожи! А что толку из того? У хана сыновей много, разошлет он вас по бекам, и будете вы ни сыты и ни голодны. Участь ваша — скитаться с места на место, как перекати-поле. В толк не возьму, зачем смелым джигитам идти за хвостом коня Касим-паши?
— Молчи, холоп! — оскалил острые мелкие зубы старший царевич и схватился за рукоять ятагана.
— Я не холоп! — с достоинством отозвался Мальцев. — Я — посол русской земли. Меня не похолопишь! Это верно — башку снимешь долой, а что в сем толку? Я вот тебя жалею: ты храбр, пригож и, как соколу, тебе надо расправить крылья, ан и нельзя!
Царевич успокоился, ему понравилась толковая речь русского, и он попросил:
— Говори еще, говори!
— Сказать-то особенно нечего. Сидишь тут, яко пес на цепи, и все думаешь. А думки вдаль глядят. Ну что, если Касим-паша возьмет Астрахань, вам легче будет, царевичи? Ой ли! Турки всех крымских татар покрепче к себе привяжут. Вот как прижмут! — крепко сжал кулак Мальцев. — Одна вам, молодцам, дорога — в Москву. У русских найдется для вас честь и служба. Сам отец станет завидовать!
Царевичи примолкли. Старший вспомнил отцовы речи и подумал: «Русский прав, не надо добывать Итиль для хункера Селима!».
— А ты не боишься за свою голову? — спросил он вдруг Мальцева.
— Бояться мне нечего! — твердо сказал полоняник. — Всех русских голов не срубишь. Одну срубишь, а за нее сотню спросят.
— Чего ты хочешь? — спросили царевичи.
— Меня не по чести задержали. Пусть отпустят.
Царевичи смутились: они были бессильны освободить руссого посла.
На другой день Мальцева отвязали от пушки и он мог в кедолах двигаться по невольничему табору. Он ходил среди греков и валахов и упрашивал их:
— Чую, идет из Москвы сюда русская рать. И будет она крепко бить неверных, а вам в стороне что ли стоять? За поруганную землю свою встаньте заодно с русскими.
Измученные невольники с печальной улыбкой смотрели на неугомонного Мальцева. Валах, с темным, как земля, лицом, с хрипом ответил:
— Путь от Москвы далек! И пока придут русские, мы все будем лежать в поле, и вороны поклюют наши очи.
— Русские уже близко. Чую топот их коней. Слышу, как по Волге русские ладьи плывут! — уверенно сказал Мальцев.
Неделю спустя, поздно вечером, в яму, в которой томился Мальцев, столкнули двух русских, и ордынец сковал всех троих на одну цепь. Когда поутихло, Мальцев спросил седобородого старика:
— Кто ты и как попал в полон? По одежде судить — духовного звания, отец.
— Угадал, родимый, — ласково ответил старик. — Келарь я из Никольского монастыря, что под Астраханью. И звать меня Арсений Чернец, а второй страдалец — Инка Игумнов, человек Кириллова. Схватили нас дозорщики Касим-паши, когда на ладье в камыши свернули…
Темная ночь простиралась над Хазарским городищем. Звезды пылали в осеннем холодном небе. Мальцев жадно схватил за руку келаря Арсения и прошептал ему:
— Коли такая доля выпала тебе, поможем Руси!.. Чуешь шаги ордынцев?
Возвысив голос, Мальцев спросил Чернеца:
— Ну, как в Астрахани? Оберегаются?
Шаги затихли: дозорщик потайно слушал, о чем говорят русские.
— Хвала богу, на Руси хорошо! — спокойно, басовитым голосом ответил келарь. — Не сегодня, так завтра ждут на Астрахани князя Петра Серебряного с дружиной.
Мальцев подмигнул, сжал крепко руку Арсения и вяло сказал:
— Ой, сомнительно что-то! Неужто будет?
— Уже гонец был. Идет с князем тридцать тысяч судовой рати, а полем государь отпустил воеводу Ивана Дмитриевича Бельского, а с ним сто тысяч воинов сюда торопятся…
Инка Игумнов разинул от изумления рот. «И чего врет отец келарь? Негоже монаху так!» Однако и его Мальцев осторожно толкнул в бок: «Молчи, молчи!»
Монах сладко продолжал:
— Видно, господь бог помиловал нас за молитвы. Слыхано, что и ногаи с нами будут, ждут только часа!
— Ой, и это хорошо! — радостно сказал Семен. — А как кизылбашский шах, что он думает?
— О, братец, пресветлый шах прислал к царю нашему послов бить челом: турского де хункера люди мимо Астрахани дороги ко мне ищут, и ты бы, великий царь, сильной рукой помочь учинил нам на турского салтана.
— И что на это царь Иван Васильевич?
— Ведомо мне, сыне, до тонкости ведомо, из патриаршего двора писали игумену. Царь наш пожаловал кизылбашского шаха, послал к нему посла своего Олексея Хозникова, а с ним сто пушек да пятьсот пищалей. А всего и не расскажешь…
— Ой, братец, повеселил ты мою душу… Ой, как повеселил…
Тишина лежала над Волгой, в стане все спали, догорали костры. Мальцев обнял келаря и шепнул:
— Дай, отче, облобызать тебя. Понял ты мою горестную думку…
Тем временем преданный спаг докладывал Касим-паше:
— Ждут русские рать великую. Идет она на помощь Астрахани! Слышал я сам, как шептались!
— Русские на выдумки хитры! Прочь с моих глаз! — рассердился Касим-паша. Спаг низко поклонился и, пятясь вышел из шатра.
Случилось такое, чего не предполагал и сам Мальцев. На ранней заре в степи заржали кони, забили барабаны, затрубили трубы. Мимо лагеря невольников проскакал, обливаясь кровью, янычар. Одно слово и кричал с ужасом:
— Рус! Рус!
Еще не поднялось солнце и на песке блестела роса, а вдали клубились тучи пыли и стоял великий шум.
Только к полудю он утих. И дознался Мальцев, что воевода Петр Серебряный с дружиной и впрямь подошел к Волге, напал на передовые разъезды янычар и сбил их. Отвлекая внимание нападением на разъезды, струги с дружиной князя прорвались вниз по Волге.
Невольники — греки, валахи, русские — сбились в толпу и кричали:
— Сюда, браты! Сюда, браты!
Над Волгой колебался густой осенний туман, кричали на плесах гуси, носились белокрылые чайки. В турецком лагере никто не поднялся на работу. В этот день перестали сторожить крепость. Касим-паша вызвал к себе Мальцева. Два спага привели его в шатер турского полководца. Хилый и оборванный, он не склонил перед Касим-пашой головы. Смотрел смело и лукаво.
— Ну, вот и опять повстречались! — весело сказал турку Мальцев.
— Больше не повстречаемся! Я повелю отрубить твою голову! — насупился Касим-паша. Он стоял перед слабым пленником мрачный и злой. Но тот не струсил и ответил:
— Погоди грозить, паша! Ты еще не выбрался из русской земли. У нас всякое бывает. Глядишь, и сам в полон угодишь. А тогда и твоя голова сгодится на обмен моей…
— Ты груб! — сверкнул глазами турок. — Одно хочу знать, откуда ты узнал о русской дружине. И князя Бельского знаешь?
— Посол все должен знать! — степенно ответил пленник. — А с Бельским, может, и сам встретишься, коли обождешь его тут!
Шаркая мягкими сапогами по ковру, паша устало прошел к выходу и распахнул полы шатра. Сквозь туман заблестело солнце, издалека доносились глухие шумы.
«Дружина Серебряного в Астрахань вступает», — догадался Мальцев и оживился. Не знал он, что Касим-паша думает сейчас о нем, о том, что, может, и впрямь будет полезен русский.
— Нет, не срублю пока твою голову! — раздумчиво сказал паша. — Ты пойдешь с нами в степь!
Мальцева увели, и весь день он с келарем и Игумновым тоились незнанием, что с ними будет дальше. Безмолвие опустилось на турецкий стан. Турок — страж над пленными — вдруг присмирел, затосковал.
Поглядывая на Мальцева, он сказал:
— Горе нам! Спаги и янычары не хотят тут зимовать. Девлет-Гирей собирается уходить. Ах, несчастный я…
Ночью над Волгой и степью разлилось багровое зарево. По приказу Касим-паши турки подожгли возведенную деревянную крепость, и она жарко пылала, потрескивая и взметая ввысь снопы искр. Небо побагровело, казалось раскаленным от небывалого жара.
У белого шатра вороной конь Девлет-Гирея рыл копытом росистую землю. Сам хан сидел на ковре, поджав ноги, и говорил Касим-паше:
— Нельзя идти старой дорогой, все погорело. Поведу к Азову тебя Мудгожарской стороной, она не тронута, но пришла осень…
В голосе его звучали и горечь, и злорадство. Хан нагло смотрел в тусклые глаза паши и заверял:
— Мудр и велик хункер! Он поймет, что мы опоздали в поход. Да простит его величие наши оплошности. Так угодно было аллаху!
Касим-паша склонил голову на грудь. Теперь ему все безразлично: судьба войска больше его не интересовала. Об одном он с ужасом думал: «В Азове может ждать его ларец султана, и в том ларце да вдруг — шелковая петля!».
А жить хотелось. Недвижимо он сидел в шатре и не знал, что сказать хану.
Девлет-Гирей поднялся и, прижав руки к груди, вымолвил:
— Да будет благословенно имя пророка, так начертано нам в книге Судеб, — пойдем в Азов! Повели войскам выступать в степь!
Касим-паша кивнул головой и с грустью посмотрел на Итиль-реку.
Высокий нубиец опахалом навевал ветерок на голову паши, но властелин ногой оттолкнул нубийца и хрипло вымолвил:
— Передай, чтобы берегли русского посла. Он может пригодиться нам…
Касим-паша взобрался на своего аргамака и в сопровождении десяти спагов, огромного роста, в черных плащах, направился прочь от Волги. За ним, шлепая могучими мягкими ступнями по густой пыли и злобно вращая змеиными глазками, потянулись вереницей нагруженные верблюды. На одном из них, в золотистом паланкине, восседала очередная любимая наложница паши Нурдида. Продвигаясь в сизую даль, Касим-паша думал только об одном: как бы уберечь свою жизнь и гибкую плясунью — наложницу.
Вдали на холмах курилась пыль под копытами коней крымских ордынцев. По велению Девлет-Гирея они прокладывали путь через неведомые степи, по которым не прошел всепожирающий огонь. Сам крымский хан с тысячами татарских всадников прикрывал отступление. В последний раз на восходе солнца он разостлал на росистую землю коврик из простой кошмы и совершил утреннюю молитву. Она отличалась краткостью и жестокостью. В ней он просил аллаха послать гибель Касим-паше.
В последний раз блеснули воды Итиля, и полчища двинулись в бескрайнюю, безмятежную и безмолвную даль. Слева осталась великая русская река; с каждым часом угасало ее освежающее дыхание, и сухой, жесткий воздух все больше сушил легкие.
Касим-паша тревожно оглядывался по сторонам. Аллах, видимо, проклял эту землю! Небо в неумолимом гневе в летние дни спалило лежавшую перед ним пустыню. Желтые, сыпучие пески клубились и пересыпались под копытами коней. Ноги воинов уходили в зыбкий подвижный прах. Повсюду скользили серые ящерки, на бегу оглядывая пашу злыми изумрудными глазами.
Мертвая земля! Мертвая степь! Безмолвно кругом.
«Отчего молчат люди?» — с тоской подумал Касим-паша, и сердце его сжалось от вещего предчувствия.
Высохли все травы, — и седовато-серая полынь, и бурьян, и солянки, — все они рассыпались в пыль, и при движении полчищ эта пыль поднялась густой желтой тучей, которая на солнце отливала багрянцем. Пустынно. Вот мертвые бугорки земли, насыпанные у глубоких сусликовых нор. Ни звука, ни шелеста. Конь осторожно переходил по высохшему руслу речки, на дне которой валялись груды голых белоснежных камней, напоминающих высохшие черепа.
Смерть! Смерть!
Она таилась здесь, рядом. Рослый спаг поторопился утолить жажду. Сильными руками он сдвинул голыш и вдруг закричал от ужаса: перед ним шевелилось целое скопище скорпионов. Ядовитое насекомое быстро ужалило человека, и он на глазах стал темнеть и пухнуть.
Смерть! Смерть!
Казалось, открылось преддверие ада, и орды шли среди мрачной, безмолвной пустыни навстречу своей гибели. Повернуть назад — встретиться с русскими. Кто знает, что ожидает тогда?
За полдень, когда глаза привыкли к мертвым просторам, а слух — к гнетущему безмолвию, на душе стало спокойнее. Высоко в синем небе, роняя на землю нежные серебристые звуки, зыбким косяком пролетела лебединая стая. Она быстро удалялась на юг; сколько было нежной радости и жизни в ее родниковом журчании, — невольно вспомнились весна и молодость. Касим-паша оживился, приободрился. Кстати прибежал нубиец и, падая на землю, передал желание наложницы сделать привал.
Касим-паша повелел остановиться и разбить белый шатер. Не ожидая, когда среди песков распустится его сиюящий купол, Нурдида сошла с паланкина и присела на обточенный ветрами и вешними водами большой камень. И вдруг у ног турчанки с тихим шелестом зашевелилась и подняла голову гадюка. Она колдовски, немерцающи зеленым взглядом смотрела на женщину. Нурдида вскрикнула и бросмлась в степь, а из-под ног ее в стороны разбегались серые ящерки, и это еще больше увеличивало страх наложницы.
Спаги изрубили змею, догнали Нурдиду и на руках принесли красавицу, укрыв ее тонкими шалями!
— Дальше, дальше отсюда! — испуганно и раздраженно закричала она.
И снова по велению Касим-паши караван двинулся в пустыню.
Вечером на бурой, солончаковой равнине неожиданно появились холмы, от которых протянулись длинные тени.
— Что это? — тревожно спросил Касим-паша у проводников.
Никто не смел ответить на вопрос полководца. Тогда призвали ордынцев Девлет-Гирея. Узкоглазый татарин, коричневый от загара, обветренный, приложил руки к сердцу и шепотом объяснил:
— Чумные могилы! По степи только что прошла чума. Умирали люди, падали кони…
— Откуда ты это знаешь? — злобно спросил Касим-паша. — Уже вечер, и воинам нужен сон.
Татарин низко опустил голову, глаза его испуганно забегали.
— Ни-ни! — со страхом сказал он. — Ночь темна, до месяца далеко, а в мраке они встают из могил и рыдают, печалятся… Аллах да спасет нас от встречи с ними!
Повеяло предвечерней прохладой, и несмотря на то, что солнце закатилось и наступили сумерки, полчища, объятые ужасом, заторопились дальше…
Но смерть настигла людей.
Первой внезапно заболела Нурдида. На нежном, выхоленном теле вдруг появились темно-синие пятна, и на третий день она в корчах скончалась.
Касим-паша в скорби драл себе бороду, царапал лицо, но муллы гнали его прочь от застывшего тела наложницы. Они грозили:
— Это черная смерть! Она не щадит ни богатых, ни бедных. Прочь отсюда!
Пашу не допустили к могиле. Труп Нурдиды отказались пеленать, боясь прикоснуться к зачумленному телу, поспешно зарыли его и забросали камнями. Золотистый паланкин сожгли, а верблюда, который бережно нес красавицу, убили и бросили в яму. Но голодные воины обнаружили его, тайком растерзали, разнесли по частям и с жадностью съели.
Томили жажда и голод. Обессилевшие люди падали, и мимо них с тупым безразличием проходили орды. Каждый думал только о себе.
Гибель шла по следам. К смерти от голода добавилась смерть от чумы. Зараза валила сотни людей. Они падали на привалах, застывали у забытых курганов, у солончаковых озер. Дорога усеялась трупами, которые клевали налетевшие стервятники.
Мучили и казаки. Они ватагами — по сотне, а то и более — налетали, тревожили орду, не давая ни отстать, ни воды испить.
Касим-паша двигался день и ночь, а за ним поспешно двигалось охваченное ужасом войско.
Девлет-Гирей молча следовал за турками. И когда Волга осталась далеко позади, внезапно из балки вылетела казачья ватажка. Впереди всех на размашистом дончаке несся коренастый, плечистый казак.
Татарский хан вспомнил свою молодость. Он был природный воин, батырь. Не заботясь об охране, он повернул коня и вместе с царевичами и немногими ордынцами кинулся навстречу казакам. Как два вихря, столкнулись всадники, завертелись, и пошел гул по равнине. Злобно ржали кони, кружили, взрывали копытами землю, зубами хватали дончаков, злобясь, налитыми кровью, вставали на дыбы. Крымчаки с криками и визгом рубились, но падали под ударами казачьих сабель. Могучий конь Ермака подминал под себя поверженных. Размахивая тяжелым мечом, подзадоривая себя и коня криком, казак рубил противника наискось, разваливая его от плеча до паха.
Горе Девлет-Гирею!
Оберегая отца, царевичи схватили его лошадь под уздцы и увели от смерти…
Позади орды, погоняемые плетнями, еле тащились невольники. Семен Мальцев шел скованный в одной паре с келарем Арсением. Монах был хил, слаб, седая борода побурела от пыли.
— Не дотянусь, умру, но то радует — бегут басурмане из русской земли! — сухими потрескававшимися губами шептал он.
— Пусть дохнут проклятые, а мы жить будем! — решительно сказал Мальцев. — Дойдем до Азова и сбежим. Не сдавайся, отче, бодрись!
Келарь с изумлением смотрел на пленника, покачивал головой:
— Гляжу на тебя и вижу одну тень человека, только очи сверкают жизнью. Откуда же такая сила?
— От ненависти к ворогу обрел я эту силу! Ух, сняли бы кедолы, я показал бы им, иродам, на что способен наш человек! — со страстью вырвалось у Мальцева. — И ты, отец, думай о мести. Она укрепит дух твой!
— Пришел мой час, сыне, — тоскливо сказал келарь. — Вон до того кургана дотянусь, а там и кости сложу… — Слезы потекли по его жилистым щекам. Пыль черным пеплом ложилась на лицо и мешалась со слезами. — Велик и силен русский человек! Он вечный труженик на отчей земле, всю пашенку за сохой обходит, грады и села из пепла и запустения после татарвы поднимает, ему бы ликовать да радоваться, а он бедствует. Ордынцы, турки, да паны рушат его жизнь!
От слабости старик говорил чуть слышно. Семен держал его под руку. Худой, изможденный, в грязной, рваной рубахе, прилипшей к костлявым лопаткам, Мальцев, однако, держался гордо. Большие воспаленные глаза его полыхали ненавистью.
— Погоди, отче, Русь устоит против всех бед! — уверенно сказал он. — Мы трудолюбы, выдержим все напасти! Одно жаль, жизнь коротка, мало человеку отпущено.
На исхудалом лице келаря появилась слабая улыбка.
— И в малом русский трудяга успевает сотворить великое. Поведаю тебе, сыне, предание одно. В рязанской земле усердствовал отрок один — Переяслав. Мал был, а лучше его никто кож не дубил, не выминал. Кожемякой посадские и кликали. Один раз, работая, он рассердился, не выходило, схватил отменную бычью кожу и разодрал, — такой великой силы был человек…
Взял его великий князь Дмитрий Иванович в поход, в степи. Там сошлись два войска. И вышел из вражеской рати высокий, жилистый печенег и вызвал на единоборство. Все убоялись, а рязанский отрог вышел и схватил спесивца, оторвал его от земли, да так к своей груди прижал, что печенег дух испустил. Ударил его отрог о землю и изрек: «Не я побил тебя, а Русь! Сила в ней неисчерпаемая!»
— Вот видишь, и ты крепись, отче! — повеселел Мальцев и, подбадривая келаря, повел его по дороге.
К вечеру они еле добрели до кургана. Солнце раскаленным ядром закатилось за синеющие на горизонте горы. Келарь упал и, несмотря на уговоры Семена, не поднялся больше.
— Тут и уложи в могилу: место приметное! — прошептал он. — А кедолы сбей с меня, хочу лежать свободным…
Рано спустились сумерки, а за ними сразу навалилась кромешная тьма. Где-то завыли шакалы. Келарь больше не открывал глаз, лежал тих и недвижим. Мальцев еле упросил ордынца сбить кедолы с ног старца, сам вырыл могилу и похоронил.
И опять в толпе невольников, но только уже без напарника по цепи, ковылял Мальцев за нестройным войском Касим-паши. Не стало теперь полчищ, все в орде перемешалось; передохли кони, истомились люди и у всех было одно желание — утолить жажду.
Но воды нехватало. Печальные, костлявые люди шли, шатаясь, озлобленно жалуясь:
— Аллах не пошлет нам удачи: несчастлив наш хункер. От него все беды…
Касим-паша мрачно оглядывался на редеющую орду. Где сильные и злые янычиры? Отчего они молчат?
На белом озере бегущих встретили гонцы султана и литовский посол. Они мчали на сильных конях. Караван верблюдов был увешан турсуками со свежей водой. Слуги бережно везли сухое мясо, фрукты и сыр.
Одетые в белоснежные плащи и чалмы, гонцы султана торжественно остановились на дороге. Среди них на тонконогом сером жеребце красовался светлоусый, с гордой осанкой, литовский посол Янус. Встревоженными глазами он разглядывал странное зрелище, — на него, словно из загробного мира, двигались исхудалые, костлявые люди, бредившие на ходу. Они приближались как призраки, безмолвные и страшные.
На потемневшем аргамаке навстречу послам выехал Касим-паша. Султанские послы закричали:
— Именем всемогущего аллаха и пророка его, да прославится мудрейший хункер Селим! Слушай, верный раб, мы принесли весть тебе счастливую. Приготовься достойно выслушать ее!
Касим-паша сошел с коня, приблизился к послам султана и пал на колени.
— Алла, алла! Благодарю тебя, всесильный, за счастье услышать повеление пресветлого хункера! О, благородные, огласите его волю! — он пал ниц, и сердце его замерло в невыносимой тоске.
«Петлю, петлю прислал хункер и вечный позор!» — с ужасом подумал паша и готов был разрыдаться, но в этот миг смуглый гонец в белом плаще, сверкая перстнями, развернул пергамент и прокричал:
— «Волею всесильного аллаха, слуга наш верный, Касим-паша, я твой повелитель и хункер повелеваю держаться под Астраханью до весны, а весной из Стамбула пойдет к тебе большая рать. А слуге нашему, крымскому бею Девлет-Гирею будет положено идти после половодья походом на Москву!»
Кривая усмешка прошла по лицу Девлет-Гирея. В толпе приближенных Касим-паши он стоял на коленях и слышал все от слова до слова.
Паша поднялся и простер руки к небесам:
— О, я несчастный! Я прах под ногами моего повелителя хункера. Все свершилось по воле аллаха: чума и голод гонят нас отсюда! И нельзя новой рати идти к Итиль, пока не утихнет мор.
— Чума! — вскричал литовский посол Ягнус и вздрогнувшей рукой огладил русые усы. — То великая беда. Я не могу идти дальше!
Султанские гонцы переглянулись, глаза их трусливо забегали.
— Чума и голод! — покорно склонил голову Касим-паша. — Глядите, что стало с моими воинами! — он вспомнил золотистый паланкин, Нурдиду и еще печальнее закончил: — Черная смерть унесла у меня самое дорогое.
Гонцы не дослушали жалоб паши, быстро повернули коней и заторопились обратно. Ягнус пожал плечами и сказал туркам:
— Уйдем от мора! Подальше от этих мест!
Послы не уступали Касим-паше ни одного турсука с водой, ни одного мешка с фруктами и сыром. Гонцы неслись впереди, а за ними торопилась орда… Синие горы стали ближе, и вдруг перед изумленными беглецами распахнулась зеленая долина, а в ней пенилась и билась о камни речонка. Все бросились к воде. Припали к живительной струе и невольники. Жадно пил Семен Мальцов. Он запомнил все — и встречу на Белом озере, и побледневшее от вести лицо литовского посла Януса. Пленник окунул в струю голову, потом истертые ноги, и чувствовал, как жизнь снова вливается в его иссохшее тело. Ободряя себя, он думал: «Теперь добреду, теперь вырвусь из неволи!» Ни на одну минуту его не покидала мысль о свободе.
Не всем, однако, пришлось утолить жажду: из-за реки на резвых конях вымчали черкесы, они рубили турок, на сильных набрасывали арканы и уводили в горы. Касим-паша свернул вправо, и опять орда потащилась по солончаковой степи. Но и тут не было покоя: казачьи ватаги днем и ночью налетали на обессилевших турок. Они встречали врага в засаде, настигали врасплох на отдыхе, беспощадно убивали и забирали в плен.
Подошел октябрь. Внезапно задули холодные пронзительные ветры и стал падать сухой снег. Свершилось редкое в этих краях: под вечер в Диком Поле закурила, завыла метелица. Степные озерки и реченки затянулись хрупким тонким льдом, и истомленные толпы — остатки войска Касим-паши — замерзали на холоде, который неведом был на их родине. Вся степь покрывалась сверкающей пеленой, на которой быстро возникали, одна за другой, многочисленные темные точки — трупы коней и замерзших ордынцев.
Скоро Азов!
Опять потемнело. Сошли снега, подуло теплым ветром. Глаза Касим-паши оживились, он о чем-то беседовал с юрким ногайцем. К вечеру тот исчез, и никто не знал, что степняк помчался к атаману Бзыге…
На перепутье встретились казачьи ватаги атамана Бзыги и Ермака.
— Отпусти полонян и вернись в Качалинскую! — приказал атаман, блестя злыми глазами.
— Почему так? — еле сдерживаясь от гнева, спросил Ермак.
— Будет тебе ведомо, что поклялись мы азовцам в мире жить! — с важностью вымолвил Бзыга. — На всю осень и зиму порешили казаки держать покой и за зипунами не ходить!
— Ныне не о зипунах идет речь, а о русской земле! — резко ответил Ермак. — Какой мир, если Касим-паша да крымчаки ходили под Астрахань!
— Не твоего ума дело, замолчи! — схватился за саблю Бзыга, но казаки из его ватаги закричали:
— Погоди, не горячись, атаман! Мы со своими станичниками не согласны рубаться!
Бзыга побагровел, нелюдимо огляделся и повернул коня прочь. Все внутри его кипело: «И откуда только взялся этот беглый холоп? И как только я проглядел его? Видать, голова его по петле соскучилась!»
Касим-паша с головными сотнями своей орды вступил в Азов. Высокие дубовые ворота крепости, окованные медью, распахнулись и пропустили остатки турецкого войска. На причалах стояли каторги, и турки, не ожидая приказа, кинулись к судам. Они торопились убраться с негостеприимных берегов у Суражского моря. В мечтах они уже видели Стамбул…
Девлет-Гирей все еще кружил в степи. Чтобы досадить Касим-паше, он не щадил своих ордынцев, губя их тысячами в солончаковой пустыне. Мечтал хан захватить Ермака, особенно досаждавшего орде.
«Пошлю московскому царю Ивану Семена Мальцева да казака, и расскажут они, как помог я русским погубить турецкое войско. Поверит мне Русь, что турок обманул!»
Однако не Девлет-Гирею удалось захватить Ермака. Темной ночью в казачий стан пробрался юркий ногаец в лисьей шапке. Пряча в землю воровские глаза, он потайности сказал казаку:
— Тут в овражке совсем неподалеку от Азова остановился Девлет-Гирей с царевичами. И всего их десять конников. Если сейчас ехать, можно в полон взять!
Поверил Ермак вороватому ногайцу и, повязав мешковиной копыта коням, со своей станицей поспешил в балочку. Не доехал Ермак до намеченного места: внезапно со свистом взвился аркан, и не успел казак понять, что случилось, как его свалили с седла и скрутили руки. Ермак с досады заскрипел зубами. Слышал он, как звенели сабли, — казаки лихо отбивались от засады.
— Руби, братцы, погань!
— Замолчи! — крикнул на него ногаец и дубиной огрел казака по голове.
Помутнело в голове Ермака, ничего не узнал он больше. Не слышал, как его, бесчувственного, перекинули через седло и повезли его в Азов-крепость и за ним с ржавым скрипом закрылись тяжелые ворота.
Турки отнесли покорное тело в сырой подвал и бросили на холодные каменные плиты…
5
Ермак очнулся от пронизывающего холода и жажды.
Попробовал расправить руки и ноги, — связан. Где он? Кругом — кромешный мрак и тишина. Прислушался, — словно в могиле. Время от времени, где-то во тьме изредка падала капля за каплей, срываясь с каменного свода.
Постепенно прояснилось сознание: все ярко встало перед глазами. Он вспомнил, как ногайцы схватили его и как станичники бились, чтобы вырвать его из неволи. Ермак слышал голос каждого из казаков: «Где Хавраль?» — «Убили! Разом смолк, выходит, навек уложили!» — «Что с Зуйком?» — «Пал под ятаганом!» — «А Моргунок?» — «Убили. В сердце нож воткнул ногаец». — «Где Кондря, Аругей, Ироха?» — «Убили!»
Ермак повернулся на бок, застонал от душевной боли.
«Какие казаки храбрейшие были! Взяты предательством. И Габуня-весельчак, и Стрепук улеглись в поле, на перепутье. Что с Брязгой? Кто же предал нас? Ах! — внезапно, как искра, казака прожгла догадка. — Бзыга! Вот кто порушил самое заветное, — продал родное. Змей!» — Ермак скрипнул зубами, напряг свои мускулы, но отсыревшие веревки еще глубже врезались в онемевшее тело.
С великим трудом пленник поднялся с тяжелых плит и, как стреноженный конь, прыгая, двинулся в тьму. Уперся лбом в стену. Влажные камни, по ним ползают мокрицы. Он долго продвигался вдоль глухой стены.
«Да, крепко попался Ермак-Ермачишко! — сокрушенно подумал он о себе. — Не уйдешь теперь отсюда!»
Он прислушался к редкому звучанию капели и побрел на нее. Долго пристраивался, и вот, словно холодная горошина ударила его по щеке. Он стал ловить ртом каплю за каплей, и долго стоял с раскрытым ртом, до ломоты в челюстях. Смочил лишь рот, а не напился.
Мрак, как омут, застыл густо и неподвижно. Время тянулось бесконечно. Ныла голова, затекли связанные члены, томил голод.
«Когда же вспомнят обо мне? — с тоской подумал Ермак. — А может и не вспомнят: решили живьем похоронить среди немого камня…»
Вспомнили о Ермаке лишь на четвертый день. Распахнулась дверь и вошли двое: турок с мрачными глазами — тюремщик с мечем на бедре, второй — низкорослый, весь перемазанный сажей кузнец. В руках последний держал клещи, молотки, через шею свешивались цепи. Кузнец все сбросил с грохотом на каменные плиты.
В распахнутые двери прорвался солнечный луч. Ермак зажмурился.
— Ты, рус, не бегай! — сердито сказал тюремщик по-русски. — Кругом янычар. Бегишь, — секим башка!
А Ермак думал, прикидывал:
«В кедолы пришли ковать, развяжут ноги и руки, можно ударить ногой в чрево, вырвать меч и в бега! — Он мельком взглянул на свои грузные, подкованные сапоги: — Крепки, и силы еще хватит, — но сейчас же вздохнул: — Разве сбежишь, если кругом стены до неба!»
Он поднял голову и ответил тюремщику:
— Зачем убегать? Мне и тут хорошо, только бы хлеба да воды вволю!
«Терпелив казак!» — про себя отметил турок и крикнул по-своему кузнецу. Тот склонился к ногам Ермака и стал крепить цепи. Надел такие же и на руки станичника.
«Проворен и хитер! — похвалил турка Ермак. — Не снял вервий, а заковал прежде!»
Только после этого тюремщик распутал веревки и пытливо взглянул на казака.
— Работать будешь, кормить стану!
— Буду! — охотно согласился Ермак и оглядел кедолы. Он изо всех сил понатужился, напрягся — стальные кольца вытянулись, зазвенели.
Турок с изумлением и страхом глядел на пленника. Ермак рванул цепи, — цепи погнулись, но выдержали.
— Добро кованы! — сказал он. — Эх, жаль, силушка ослабла!..
— Батырь! Карош казак! — не скрывая восхищения, сказал тюремщик. — Такой нам и надо! Кормить буду!..
В тот же день пленнику принесли в корыте вареную кукурузу, и Ермак досыта наелся.
На другое утро стражники подняли Ермака и погнали на пристань. Толпы худых, оборванных невольников выгружали с корабля бочки с зельем, доставленным в Азов из Стамбула. Над Доном, над морским берегом висел разноязычный говор. На рейде все еще стояли каторги с остатками войска Касим-паши. Серые, потрепанные паруса были приспущены.
— Ну, рус, иди, работай! — закричал на него черный, как головешка, стражник.
Ермак вместе с другими стал катать тяжелые бочки. С ним работали валахи, греки, болгары, светлорусые русские мужики, угодившие в полон при ордынском набеге на Русь.
— Эй, соколики, из каких краев? — весело окрикнул их Ермак.
Вместо ответа к нему потянулось рябое лицо с рыжей бородой, крупные капли пота стекали с широкой лысины. Насмешливые зеленые глаза уставились в Ермака.
— Не так молвил, сыне. Спроси лучше, в какие края сердце зовет! — басовито сказал дородный человек.
— А ведь ты поп! — угадал Ермак и засмеялся. — Да ты, батька, как угодил сюда?
— Долгий разговор, сыне, а пока трудись на басурман проклятых! — он поднатужился и плечом поднял бочонок. — Вот бы искру сюда…
Поп отошел в сторону, на его место с кладью надвинулись другие.
Бочки катили в каменные склады, обложенные дерном. Там бережно, впритык, укладывали их рядами. За каждым движением невольников, как ястребы, следили стражники.
Рядом поднимались высоченные башни, на них трепыхались красные полотнища с золотым полумесяцем. Надо всем сияло голубизной и солнцем просторное небо. От тоски по родине, по воле Ермака потянуло петь. Он не утерпел и запел душевную:
Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати…
Только запел казак, а голос у него был сильный и широкий, как пленники одним дыханием подхватили песню и понесли ее над морем, над тихим Доном, над чужой крепостью. И столько было удали и грусти в песне, что стражники, не зная русских слов, и те заслушались, взгрустнули.
— Карош песня, только тише пой, капитан бить будет! — сказал Ермаку турок с посеченным лицом.
Рыжебородый поп, раскрыв большой зубастый рот, захватывая объемистой грудью воздух, ревел могучим басом:
…Товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ — темная ночь,
А второй товарищ — булатный нож,
А как третий-то товарищ — то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ — то тугой лук,
Что рассыльщики мои — то калены стрелы…
Пел поп вольную песню, а у самого по лицу катились слезы.
Работа спорилась, к полудню каторгу с зельем разгрузили, и, пока ждали другую к пристани, турки разрешили отдохнуть. Забравшись под навес, невольники растянулись на земле и блаженно закрыли глаза. Ныли руки, натруженная спина, и хотелось хоть немного перевести дух.
Поп оказался рядом с Ермаком, учил его:
— Ты ножные кедолы повыше повяжи, шире шагать будешь.
— Откуда ты, батя? — разглядывая его добродушное лицо, спросил казак.
— Ох, сыне, тяжела моя участь и дорога больно петлистая. Неугомонен я душой, все правды ищу. А где она?.. Бежал я от сыскного приказа. Темными ночками да зелеными дубравушками, побираясь христовым именем, прибрел в станицу, к своей женке. А там Бзыга пригрозил, и через неделю бежал я в степь, а оттуда с казаками добрался до Астрахани. С ними пошел к морскому берегу и жег басурманские улусы. В горах заблудился, да отстал от казаков. Ну, думаю, вот и конец твой, отец Савва! Ан, глядишь, инако вышло: добрался-таки до грузинского монастыря и там год дьячком был. И все хорошо: сытно, вина вволю, работы никакой. Но заскорбел я от тихой монастырской жизни, сбег в Астрахань. А там прибился к иконописцу, иконы творил, кормился, да в монастыре псалмы пел. Тут дернуло меня на реку за сазанами поехать, а в той поре ордынцы налетели, арканом захлестнули и к паше доставили… Эх, и жизнь-дорожка, петляет, а куда приведет, — один бог знает! Попадья бедна не выкупит, да и на Руси опять схватят и потащут в сыскной приказ. Вот и живи, не тужи! — закончил он горько.
— Эй-ей, работать надо! — закричали стражники и для острастки щелкнули бичами. Нехотя поднялись невольники и принялись за работу. На закате пленников погнали в острог, а Ермака привели в одиночную темницу. Опять ему принесли корыто с кукурузой. Хотя и вкусна была, но казак с огорчением подумал: «При тяжкой работе отощаешь и не сбежишь отсюда!».
Так три дня гоняли Ермака выгружать зелье. И заметил он, что корабли на рейде подняли паруса, собираясь отплыть в море. Поп Савелий поглядел вдаль и сказал казаку:
— Ой, сыне, досталось от наших Касим-паше: тыще две воев только и добрались до Азова, а сколь достигнет Царьграда, — один господь ведает.
— Буря, что ли раскидает? — полюбопытствовал Ермак.
— Бывает и это, а скорее всего казачьи дубы-чайки настигнут, и тогда берегись Касим-паша, потопят! Вишь, сколь «храбрец» выстоял в Азове, вести ждал. Гонец с золотишком да каменьями-самоцветами уплыл за море, к визирю, беду отводить. Небось дрожал паша, как бы султан за Астрахань не прислал ему петли! — поп вдруг оборвал речь и с усердием принялся за погрузку: мимо проходили турки.
Несносно за работой тянулось время, но когда наступала ночь и приходилось брести в свой подвал, становилось еще хуже.
«Гуляке и осенняя ночь коротка, а горемыке и весенняя за два года идет», — грустно подумал Ермак, сидя в подвале.
Как всегда, после работы знакомый стражник подавал ему корыто с едой. Усталый, он наскоро ел и ложился на каменные плиты. Все ему было противно.
Однажды, когда он так лежал, в подвале раздался легкий шум. Ермак поднял глаза и замер от удивления. Перед ним с миской в руке стояла знакомая смуглая станичница, крещеная ясырка Зюлембека.
— Ой, Марьюшка, — радостно вырвалось у Ермака. — С неба ты свалилась, что ли?
Татарка приложила палец к губам, поставила на пол большую чашку с бараниной и, усевшись против Ермака, с лаской стала смотреть на него.
— Ешь… — тихо сказала она.
— Откуда взялась? — с изумлением спросил казак.
Татарка хитро улыбнулась:
— Потом узнаешь… Волю пришла тебе добыть!
— Ох, воля! — глубоко вздохнул Ермак и в порыве благодарности погладил женщине плечо. Зазвенели кедолы, Зелембека пугливо оглянулась:
— Тише… ешь скорее… Ермак начал есть. Голод взял свое, и он быстро опорожнил миску. Потом бережно взял в свою большую шершавую ладонь хрупкие пальцы женщины.
— Ну, спасибо! — сказал он. — В первый раз ноне сыт. А коли подсобишь с волей, то, вот бог святой, век буду помнить!
— Не тоскуй, уведу отсюда!
Глаза Ермака радостно блестнули.
— Ах, ты добрая душа! Когда ж то сбудется?
— Скоро! — ответила татарка. — Ход потайной тут есть, — она махнула рукой в дальний угол подвала. — Ты не торопись, а то худо будет. — Схватив с пола миску, женщина подмигнула Ермаку, затем скользнула в темный угол и, легко прошумев, исчезла.
На другой день наступило ненастье. Над Азовом все время клубились тяжелые мрачные тучи, лил обильный беспрестанный дождь, и море яростной волной кидалось на берег. На сером камне, под косыми струями дождя, сидел поп Савелий и пристально, будто что различая, смотрел в мутную даль. Встретившись взглядом с Ермака, расстрига радостно сказал:
— Эко, буйное, как ревет на нехристей! Ну, казак, веселись, — на Руси ноне праздник! Прознал я, что запорожские чайки налетели на турские галеры, побили и пожгли их, а море доканало нашего ворога! Один Касим-паша только и выплыл из беды. — Савва вскочил, повел веселыми глазами и топнул ногой:
— Эх, теперь бы плясовую! Эх, жги-говори! — но, взглянув на мрачную охрану, угомонился. — Что только будет ноне? От горести, чего доброго, басурмане секим башку нам устоят. Ух, черти бритоголовые! Ты, Ермак, не унывай, мы еще походим по земле!
Радость охватила и Ермака. Он засмеялся, поднял скованные руки и погрозил ими в сторону моря.
— Вот вам турки! Погодите, то ли еще будет, когда снова придете на Дон!
В этот день не довелось работать. Турки погалдели, погалдели и погнали пленников в узилища. В суматохе, видимо забыли о Ермаке и не принесли поесть. Но он не думал о еде — метался от стены к стене, трогал и поднимал плиту от тайного входа и ждал татарку.
Спустя много времени она снова появилась в подвале.
— Ну вот и я, казак! — Зюлембека держала узелок в руке и улыбалась. — Заждался? В самую пору бежать. Непогодь, ночь… Иди за мной!
— А кедолы? — горестно вспомнил казак.
— Погоди, я сам! — потянулся к напильнику Ермак. — Ах, ты моя добрая…
— Молчи! На руках я сниму… — прошептала Зюлембека и заработала напильником. Трудно ей было, но все же руки у Ермака скоро стали свободными.
— А теперь дай-ка я! — схватил Ермак напильник и вмиг снял кедолы с ног.
— Ну вот и все! — обрадовалась татарка. — Иди за мной! — она юркнула в подземелье, а за ней еле протиснулся широкими плечами и Ермак. От затхлого воздуха у него захватило дыхание.
— Не бойся, не бойся! — ободряла казака Зюлембека.
— А чего мне бояться? — весело ответил Ермак, пробираясь на коленях по тесному длинному лазу. — Семи смертям не бывать, а одной не миновать! Снова лаз расширился и они оказались в галерее, одетой заплесневелым камнем. Под ногами хлюпала вода, но откуда-то тянула струйка свежего воздуха. Ермак шумно вздохнул.
Женщина долго прислушивалась, но кругом царило ничем не нарушаемое глубокое безмолвие. Потом снова заторопилась. Вот показался мутный свет, и они вышли в огромное подземелье, придавленное грузными сводами. Ермак нащупал бочку.
— Торопись, тут страшно, — прошептала татарка.
«Бочки? Неужто те самые, что катали с галер? Зелье!» — думал Ермак. Внезапно о поскользнулся и ушибся об острый край. Зюлембека прильнула к нему, взволновано огладила ладонями его бородатое лицо:
— Больно? Потерпи, теперь скоро…
Но время тянулось… С трудом добрались они до нового тайного лаза. Татарка схватила Ермака за руку и прошептала:
— Вот и конец!
Она тихонько сдвинула плиту, свежий ветер пахнул в лицо, и горячая радость охватила пленника. Вслед за женщиной он выбрался в густые кусты ивняка и оглянулся: сквозь рваные тучи светила луна, мокрый ветер шумел и сбрасывал с кустов и деревьев дождевые капли.
— Придет туча и тогда торопись! — сказала женщина. Она прижалась к плечу Ермака, погладила его руку. Ермак крепко обнял ее.
— Спасибо, Марьюшка, — назвал он Зюлембеку русским именем. — Век не забуду твоей послуги! — И вдруг спохватился, спросил: — А как же ты? Айда со мной!
Она печально повела головой:
— Нет, мне нельзя… Здешняя я… татарка. А станичников помню… жалели!..
— Ну, как знаешь, — вздохнул Ермак, — и то сказать: для каждого своя сторонушка родней всего!
— Прощай.
— Прощай, добрая душа! — ответил Ермак и еще раз на прощание обнял татарку.
«Что ж, так и уйти, не отблагодарив супостатов? — спросил себя Ермак, едва за женщиной перестали шуметь кусты. — Нет, надо вернуться к зелью…»
Он быстро достал из узла трут и кремень с кресалом и уполз обратно в тайный лаз…
Погода разгулялась, и луна уже щедро озаряла азовские крепостные стены и башни, когда Ермак вылез из подвала. На берегу перекликались сторожа, а из-за Дона доносилось ржанье кобылиц.
Ермак подождал набежавшего облачка и скользнул в ров, к Дону. Вот и река! Он погрузился в парную воду и поплыл…
На другом берегу Ермак долго лежал — отдыхал и ждал… И вдруг над Азов-крепостью блеснули молнии и раз за разом загрохотали могучие взрывы. Они потрясли и землю, и воздух, и воды Дона, который вдруг кинулся на берег. Потом грохот стих, и утренний ветер донес до Ермакам приглушенные крики:
— Алла! Алла!
«Вот оно как! — ухмыльнулся в бороду Ермак. — Ну теперь и к дому пора!»
Проворный быстроногий конь Ермака увернулся от татарского аркана, вырвался в степь и на второй день прибежал в разоренную станицу.
На зорьке Иван Кольцо заслышал знакомое ржанье.
Обрадовался казак:
— Ермак прискакал!
Но у землянки друга, опустив голову, скакун бил копытом в землю. И понял Кольцо — стряслась с Ермаком беда. Собрал сотню, и побежали казаки в степь.
Вслед им грозил Бзыга:
— Без атаманского слова убегли шарпать зипуны, погоди, вернетесь к расплате!
Много дней казаки рыскали по осенней степи. С восходом солнца перед вольницей открывался безбрежный мир большого синего неба и просторной тихой степи. И каждое утро приходило укутанное туманами, обрызганное росой, с трубными кликами журавлей. В диком Поле виден каждый конный и каждый пеший. Молчаливым, мертвым казалось оно, а на самом деле везде — у курганов, на перелазах, у колодцев — кипела невидимая жизнь; подкарауливала татарская стрела, аркан лихого наездника и просто острый нож немирного степняка.
На зорьке казачья сотня мчалась вдоль Дона к Азову. На востоке уже блестели светлые полоски. Они росли, ширились и гасили звезды одну за другой. Холодный свежий ветер гнал ковыльные волны по степи. Иван Кольцо привстал в стремени и прислушался.
— Тихо у турок, тихо, словно на погосте! — вздохнув, вымолвил он. — Вот бы ударить на супостатов, да крепки стены и башни!
И только выговорил последнее слово, над вражьей крепостью полыхнули молнии и грянул гром.
Казаки ахнули — высоченная башня вдруг вздрогнула и глыбами, дробясь, поднялась вверх, и все скрылось в тучах пыли и дыма.
— Эко диво! — воскликнул Кольцо. — Никак, братки, подорвались турки. Ой, подорвались!
Казаки придержали коней и стали слушать.
— Так и есть! — заговорили они. — Взрыв это!
Радость их тут же сменилась печалью.
— Может, и Ермака больше не стало! — подал голос Гроза.
Богдашка Брязга вскинул голову и беззаботно ответил:
— Не из таких Ермак, чтобы погибнуть, он из полымя живым выйдет…
Казаки задумались. С час они ехали, вспоминая взрыв и Ермака. И вдруг далеко впереди разглядели человека, медленно бредшего им навстречу.
— Ермак! — радостно закричал Кольцо. — Братцы, это он, по обличью видно!
Все сразу сорвались с места и с гигиканьем понеслись по степи. Человек, видно, тоже узнал скачущих, замахал руками и закричал:
— Иванушко!..
А ноги подкашивались, не слушались, и озноб потрясал все тело. Но Ермак все же добежал до резвого коня и уцепился за стремя. Только и вырвалось:
— Други!.. Браты!..
И, как подрубленный дуб, упал на землю.
После плена Ермак захворал было, но через неделю уже крепко сидел на коне.
— Приспела пора, Иванушка, избыть твою кручину. Побежим в татарскую орду, отыщем твою сестру и выручим из полона, — сказал он Ивану.
— Спасибо, казак, — ответил Кольцо, — век не забуду твою послугу. Трое ден тому назад взяли одну ясырку и поведала нам татарка: тоскует сестрица Клава за Сивашем, в самом Перекопском городке, у тамошнего мурзы Алея.
— И я с вами, братаны! — разудало тряхнул головой Брязга и лукаво прищурил глаза. — Только чур, Иванко, за себя Клаву беру!
— Аль слово тебе дала? — серьезным тоном спросил Кольцо.
— Слов не было и запевок то ж, а так, девка-краса по мне! — жарко выпалил цыганистый казак.
— Я сестре не хозяин. Дон вольный, и сердце девки вольное. Обратаешь ее, — твое счастье! — дружелюбно сказал Иван.
— Твоя правда, — согласился Брязга.
Не спросив у атамана слова, лихая ватажка выбралась в степь. Бзыга стоял на крылечке, тяжело дышал, глаза потемнели от гнева. Чуял он, что неладно в станице, что растет против него непримиримая сила. Догадывался он, что Ермак знает об его измене и не простит ему. Быть жестокой схватке!
— Погоди, голь перекатная, мы еще переведаемся, кто из нас сильнее: заможние казаки или голытьба? — пригрозил он и, стуча сапогами, вернулся в избу.
Осень простерлась над степью. Высохли травы, и только перекати-поле, подпрыгивая, уносилось вдаль под пронзительным ветром. Серое небо жалось к земле. У озер и в речных долинах погас багрянец дубрав. Рано опускались сумерки над безбрежным и безмолвным простором.
Казаки неутомимо держали путь к Перекопу. Отдыхали днем в глухих балках, грелись у костров. Ермаку мила была тревожная, гулевая жизнь.
— Эх, поле-полюшко! Разгульное и широкое, Нет ничего слаще воли! — радовался он.
…Темная ночь давно уже спустилась над Перекоп-городком. В маленькой крепости с глинобитными стенами горели одинокие огоньки. В селении перебрехивались псы. Мурза Алей, жирный, дородный татарин в шелковой красной рубахе с растегнутым воротом, в широких шароварах, опущенных в мягкие сафьяновые сапоги, бродил неслышно в низеньком покое. Он был сильно не в духе: донская полонянка — подарок хана — не допускала к себе.
Девлет-Гирей берег белокурую девушку с серыми задорными глазами, задаривая подарками, вывезенными из Кафы, но пленница все отталкивала, а хану кричала:
— Уйди, уйди, старая образина, пока очи не выцарапала!
Старая Фатьма знала многих девушек, попадавших в гарем хана, но такой строптивой и злой еще не видела.
«И чего хорошего нашел в ней повелитель? — думала о пленнице татарка. — И телом худа, и грудь велика, по силе — казак! Чего доброго, удушит хана в первую ночь! Аллах, да минуют меня беды!»
Клава и впрямь чуть не зарезала Девлет-Гирея. И откуда только добыла пленница короткий воровской нож? Все ждали, что хан казнит отвергшую его ласки, но тот решил иначе, — отдал ее мурзе Алею.
— Ты просил у меня доброй награды за поход на Астрахань, полюбуйся на донскую добычу, может, тебе хватит одной красавицы! — сдержано предложил Девлет-Гирей. — Фатьма приведи сюда Клаву.
Мурза, склонив круглое полное лицо, с нетерпением ждал выхода девушки, а на душе кипело недовольство ханом. Еще бы! Повелитель Крыма всегда хитрил, обманывал, его лукавство было всем известно. Не может он уступить лучшего из добычи.
Но пресыщенный жизнью мурза Алей широко раскрыл глаза, когда увидел девушку. Перед ним предстала стройная, гибкая, как молодой камыш, светлоокая красавица. Румянец залил ее щеки, и чуть-чуть дрожала от гнева ее верхняя губа. «Ого! С большим норовом! — подумал Мурза. — Но это тем лучше. Чем труднее схватка, тем слаще победа!»
Он охотно согласился на дорогой, но и виду не подал хану, что его охватило жгучее желание любви. В сопровождении конников он доставил полонянку, укутанную тканями, к себе, в Перекопскую крепость, и отвел ей лучшие покои. Правда у него не было дворца и сада с фонтанами, но зато не было и отвратительной дряхлой Фатьмы, которую ненавидели наложницы хана.
Мать Алея, Денсима, обрядила девушку в оранжевые шелковые шальвары, на руки одела золотые запястья, на шею — янтарное ожерелье. Такие ожерелья носили только московские боярышни. Казалось крупные бусы впитали в себя солнечное сияние знойного лета. Они очень шли к лицу девушки. Клава целый день вертелась перед венецианским зеркалом, любуясь своими нарядами. Добродушная татарка похлопывала ее по спине и плечам и ободряла:
— Ой, хороша! Ой, чаровница!
Клаве нравились наряды, но тяготила неволя.
От тоски она долгими часами распевала грустные песни.
— Зачем терзаешь свое сердце? — говорила старуха. — Мой сын имеет только пять жен. Ты будешь у него шестая и первая среди жен! Он красавец и добрый джигит! — она не жалела слов, чтобы расхвалить своего сына, наделяя его всеми добродетелями мира.
Однако полонянка была равнодушной к похвалам старой татарки. Она недовольно поморщилась, вспоминая Алея, — мясистого, потного, с большой бритой головой и широким приплюстнутым носом.
— Я не буду ни первой, ни шестой женой твоего сына! Я зарежу его, если он подойдет ко мне! — ответила она матери Алея.
Пиала с горячим чаем выпала из дрожащих рук Денсимы и пролилась на угли мангала.
Мать обиделась за сына:
— Он силен и ловок! Любого скакуна объезжал в степи. Во всем Крыму нет лучшего всадника! — воскликнула она.
— Я не скакун, а девушка! — дерзко отозвалась Клава.
Старуха присела перед мангалом и опустила голову.
Она невольно вспомнила свою юность. Разве она сама не была когда-то молодой и не мечтала о любви? Но родные продали ее скотоводу, который обращался с ней, как с коровой.
На западе давно погас закат, а на востоке поднялся прозрачный серп месяца. Ночь была тихая. В степи, у Перекопа, давно высохли отливавшие серебром короткие травы, и отары овец откочевали на другие места, где еще можно было найти свежий нетронутый корм. Оттого в степи стало пустынно и тихо.
Денсима задремала у мангала. Клаве виден ее смуглый лоб, грязные пряди волос и дряблые морщинистые щеки.
«Сбежать бы!» — с тоской подумала и нечаянно забряцала монистами. Старуха приоткрыла лисий глаз и снова задремала. А Клаве не спалось — все время вспоминалась станица, Дон. Заплакать бы, закричать от тоски… но страшно приманить голосом Алея. Она слышала по тяжелым шагам, что он не спал и должно-быть, как всегда курил из своей коротенькой трубочки. Придет ли когда воля? Увидит ли она родных, брата Ивана, который не раз в шутку звал ее казаковать?.. Помнят ли о ней на станице?..
В эту ночь через лиманы Сивашей пробиралась казачья ватажка. Мелкие воды серебрились и ходили рябью под ногами коней. Копыта уходили в мягкий ил. Казаки бесшумно миновали заливы, местами поросшие густым камышом, и выехали в степь. Ермак махнул рукой, и станица понеслась к Перекопу. Вскоре мелькнули редкие огоньки и донесся отдаленный лай псов.
— Ну, братцы, помогите! Наступил мой час! — сжимая плеть, тихо вымолвил Кольцо. — Пусти, батька, меня вперед, я тут каждую тропу знаю!
— Нет, не тебе быть тут первым! — твердо сказал Ермак. — Горяч крепко. Казак Гроза поведет нас до городка: он тут свой, и позвали Иванку Грозой за Перекоп. Одного имени татары испугаются!
Сухой, с ястребиным носом Гроза выскочил вперед и выхватил саблю.
— Только без крику, ребятушки! — оборотясь, предупредил он.
На всем пути казаки не встретили ни пастушечьих отар со страшными зверовыми псами, ни дозоров. Повернув вправо коней, доскакали до городка и ворвались в узкую улицу.
Мурза Алей уже засыпал, когда услышал возле своего дома шум. Осердясь, что смеют беспокоить его, он взял свечу и шагнул было за порог, чтобы взыскать с виновных, и вдруг лицом к лицу встретился с рослым казаком. Не успел мурза удивиться и закричать, как сверкнула сабля, и бритая голова его скатилась на порог. Иван Кольцо шире распахнул дверь и бросился вперед.
— Иванушко! — закричала Клава и, вскочив с подушек, бросилась на шею брату.
Денсима приоткрыла глаза, и в жилах ее от ужаса застыла и без того холодная кровь. «Ой, старая Денсима еще хочет жить! Она знает, что значит казак в ауле!» — татарка склонила ниже голову, хотя чуткий слух ее ловил каждый шорох.
— Братику, братику! — вопила Клава и тащила казака из опочивальни. — Скорей, братику!
На дворе разливался озлобленный лай псов, послышались крики татар.
— Гей-гуляй, казаки! — ошалело кричал Брязга, стегая саблей подушки и пуховики, из которых летел пух. Он бил зеркала, ломал дорогие чубуки мурзы, и только изукрашенные золотой насечкой добрые пистолеты пощадил и засунул за пояс.
— Никак и ты тут, шалый? — смеясь крикнула ему Клава.
— До тебя скакал, девчина. Спасу нет, как торопился!
— Будет тебе брехать! Слышишь драку? — Клава блеснула глазами и бросилась в боковушку.
— Да ты куда подевалась, девка? — заорал Брязга.
Клава выбежала с саблей и закричала:
— Коня мне, коня, братики!
Во дворе рубились донцы и татары. Клава заметила кряжистого бородатого казака. С головы его свалилась баранья шапка, черные волосы рассыпались. Он на отмашь бил набегавших ордынцев.
Клава тенью промелькнула к загородке, быстро выбрала высокого коня, взнуздала и птицей взлетела ему на спину. Жеребец перескочил изгородь и стрелой помчался в проулок. Казачка осадила его и взмахнула саблей над первой попавшейся бритой головой. Конь поднялся на дыбы, подминая под себя набежавших сторожей…
Ермак крикнул станичникам:
— Не задерживайся, братцы! На конь!..
Денсима открыла глаза и зашевелилась, когда все стихло во дворе. Густая темная ночь придавила землю и городок, мерцали редкие звезды, а во дворе тоскливо выла собака. Денсима догадалась: не стало больше ее сына Алея. Старая татарка упала на кошму и тоже завыла, забилась в горе…
Казаки скакали по степи. Кони их вспотели и утомились, под копытами чавкала липкая грязь. Вот и Сиваш!
Скакун Ермака зафыркал, но полез в воду. Лиманы разлились, было глубоко. Потеряв дно, жеребец поплыл, поплыли и другие кони. Когда казаки выбрались из топкого лимана, стало рассветать, подул южный ветер. Ермак поглядывал на Клаву, прикрытую черной косматой буркой. Она прямо держалась на коне, лицо ее побледнело, но серые глаза были полны отчаянного блеска.
«Хороша девка, ей ба казаком родиться!» — одобрил Ермак.
Взошло солнце, и казаки сделали в балке привал. Разложили костер и греться. Клава сбросила тяжелую бурку и, сидя у огня, отжимала мокрые косы, — были они толстые. Сначала она только и занималась ими, но, взглянув мимолетно раз-другой на Ермака, задумалась. Что случилось, — не понимала и сама казачка. Смотрела и все больше ощущала сладкую истому в сердце и во всем теле. Оттого, что Ермак держался сурово и не глядел на девушку, ей было обидно. Веселый Брязга вертелся козырем, он то заговаривал с ней ласково-нежно, то дерзко шутил, но Клава почти не отвечала ему.
Иван Кольцо заметил перемену в сестре и спросил удивленно:
— Ты что это печалишься?
Молодая казачка вспыхнула и отвернулась, но скоро овладела собой и, смело глядя брату в глаза, шепнула:
— Люб мне Ермак!
Кольцо присвистнул: «А как же Брязга?», и строго сказал:
— Смотри, не балуй, Клава! С казаками озоровать не допущу, — порушишь товарищество!
Клава зарумянилась, сверкнула глазами, но промолчала.
Занялся солнечный осенний день, догорел костер, и казаки тронулись в путь. Лесная чаща пестрела красными листьями кленов, золотом берез и кровавыми каплями ягод калины. Над тропой в золотистом воздухе плясали мошки.
Так и не было за ватагой погони…
6
Сроднился Ермак с Диким Полем, с ратными людьми и со всей станицей. Жил он, однако, на отшибе, в своей нетопленной неуютной хибаре. Был повольник суров и требователен к себе, не видели его ни хмельным, ни сластолюбивым. Одна у него таилась страсть; ненавидел казак атамана Бзыгу. Напрасно к нему, одинокому, забегала сероглазая Клава, бряцала золотыми монистами и вела лукавые речи. Ермак угрюмо слушал ее. Не нравилась ему станичница за легкий нрав и за озорство, неприличное для девушки. «Хватит мне и Уляши, царство ей небесное!» — думал он.
Иногда Клава шаловливо таращила глаза, из которых брызгал смех и, дерзко смеясь, предлагала:
— Возьми меня, казак, в женки! — Хватит шутковать, насмешница, — строго прерывал ее Ермак, — не быть тебе доброй казацкой женкой! — Ан врешь, буду!
Клава смеялась и злилась.
— Хочешь, печку твою истоплю, рубаху постираю. Я все могу! Я коренная станичная девка. Ой, какой рачительной женкой буду!
Кровь бушевала в здоровом теле казака, но он не хотел поддаваться мимолетной страсти:
— Уйди, а то зарежу!
Клава испугано пятилась к двери.
— Ты и впрямь… это сделаешь? — спрашивала она, не сводя с Ермака пристальных глаз. Ноздри ее короткого прямого носа жадно трепетали.
Ермак тяжело дышал. Казачка быстро подбегала к нему, обжигала поцелуем и, смеясь, исчезала.
Казак оставался один, ошеломленный и сбитый с толку. Среди зарослей шиповника мелькали красные шальвары Клавы, и пламя их долго стояло в глазах Ермака. «Огонь девка! — смятенно думал он. — Ох и беда мне! Но нет, не поддамся, не свяжу себя!.. Другое мне на роду написано…» — отгонял он прочь соблазн.
Скоро не только Ермаку, но и всему Дону стало не радостей и не до гульбы — в донские степи пришел страшный голод. В понизовых станицах хлеба не сеяли, а в верховьях, в казачьих городках, нивы пожгло солнце. В ногайских степях нехватало корма и гибли стада. Это еще больше усилило беду. От голода умирало много людей, трупы ногайцев валялись на перепутьях и тропах. Турки из Азова сманивали казаков:
— Служи, казак, султану, будешь сыт, накормим!
Обидно и горько было слышать насмешки вековечного врага. Но приходилось терпеть — помощи неоткуда было ждать. В довершение беды, атаман Бзыга, попрежнему сытый и жирный, ни о чем не беспокоился. На жалобы казачьих женок и ребятишек он выходил на крыльцо станичной избы и успокаивал их:
— Вы потише, женки, потише!.. Чего расшумелись?
— Нам хлебушка, изголодались!
— А я что, нивы для вас сеял? — усмехаясь разводил руками Бзыга.
— Хлеба не сеял, а амбары полны! — закричала истомленная женка.
— Амбары мои, и я им хозяин! — отрезал атаман. Прищуренными глазами он бестыдно обшарил толпу станичниц и закончил с усмешкой: — Нет хлеба у меня для всех, а вон той гладенькой молодушке, может, и найдется кадушечка пшена!
— Подавись ты своим хлебом, кабель толстогубый! — обругалась красивая смуглая казачка. — Женки, идем сами до амбаров!
— Ты только посмей, будешь драна! — пригрозил Бзыга. — Ты гляди, рука у меня злая, спуску не дам!
Ермак все это видел и слышал, и сердце его до краев наполнялось гневом. Станица, как мертвая, лежала безмолвной и печальной. Больно ему было смотреть на исхудалых детей и стариков. Каждый день многих из них относили на погост. Ермак ломал голову, но не знал, как помочь общему горю. Он и сам еле-еле перебивался, — выручало лишь железное, крепко сколоченное тело.
Утром он сидел задумавшись, в своей хибаре. Скрипнула дверь и в горенку, сутулясь, вошел Степанко.
— Здравствуй, побратим, — низко поклонился он Ермаку. — Прости, не хотел тревожить, да наболело тут, — показал он на грудь. — Не гони меня, одной веревочкой мы с тобой связаны, нам вместях и горе избывать!
— Что ты, братец? — обрадовался его приходу Ермак. — Время ли старые обиды вспоминать? Садись, давай думать будем…
Станичник опустился на скамью и долго молчал.
— Тяжело молвить о том, что робится в станице, — медленно, после раздумья, заговорил он. — Конец приходит казачеству, народ умирает, а в той поре атаман на горе-злосчастье наживается. Ты совестливый и добрый казак, скажи мне, доколе злыдней терпеть будем? От веку стоял вольный Дон и так повелось, что наикраше и дороже всего было тут казацкое братство. Добычу делили, — не забывали ни сирот, ни вдов. Где наше лыцарство? Куда подевалось оно? И на Дон, видать, пробралась тугая мошна. Не видели, проглядели, как исподволь поделились казаки. Ныне я голутьбенный, а Бзыга заможний. Идет конец вольному казачеству!
Степанко закашлялся, схватился за грудь. Заметно было: постарел бывалый казак, согнулся, поседел весь.
Слова его задели Ермака за живое. Он и сам думал так, как Степанко. Схватив гостя за руку, Ермак с чувством сказал:
— Спасибо, сосед, золотое слово ты вымолвил! Только не век Бзыге праздновать! Укоротим атамана!..
Станичник покосился на оконце и зашептал:
— Проведал я, что сверху будара с хлебом пришла, а Андрей задержал ее в камышах за красноталами. Темной ночью перетаскают хлес с есаулами по сусекам, а казаку ни зернышка! А потом за горстку хлеба душу в заклад от казака потребует!
— Не быть сему! — побагровев, выкрикнул Ермак. — Хлеб всему вольному казачеству! Поспешим на майдан. Скличем станицу, да Бзыгу за глотку! — Он сорвался со скамьи, снял со стены саблю. — За мной, побратим!
Еле успевал Степанко за проворным казаком. Ермак торопился к площади и на ходу выкрикивал:
— Эй, станичники, эй, женки, на майдан! — Он подбрасывал набегу шапку с алым верхом и взывал: — За хлебом, браты, за пшеничкой, женки!
Словно пороховая искра зажгла станицу, по куреням жгучей молнией полетела весть:
— За хлебушком!
— С вешней воды печеного не вкушали!
— Хлеба-пшенички!
Каждый сейчас выкрикивал самое дорогое, самое желанное. Ермак тем часом добежал до вышки, соколом поднялся на нее и ударил в колокол. Над станицей пошел сполох. На майдан бежали и старый, и малый. Кругом уже шумел народ. Прискакал Полетай, распушив свои золотистые усы. Следом за ним — Брязга в широких шароварах, опоясанный шелковым кушаком. Вокруг Степана началась толчея:
— Где о хлебе слышал?
— Браты, — в ответ кричал Степан. — Казаки-молодцы, хватит с нас тяжкой беды! Нашей мертвечиной волки обожрались! Дону-реке истребление идет!
— Что молвишь такое, казак! — остановил его Полетай и, распалившись гневом, сказал: — Казачий корень не выморишь! Не дает Бзыга хлеба, сами возьмем! Говори, Ермак!
Ермак неторопливо вошел в круг, снял шапку и низко поклонился на четыре стороны. На майдане стало тихо. Среди безмолвия раздались возбужденные голоса:
— Да говори скорей! Сказывай правду, казак!
Ермак повел темными пронзительными глазами, вскинул курчавую бороду.
— От веку непокорим Дон-река, — зычно заговорил он. — Издревле вольными жили казаки и лыцарство блюли. На Руси боярство гневливое похолопствовало простого человека, а на Дону — Бзыга на горе нашем жир нагуливает! Кто сказал, что хлеба нет? Есть у нас и хлеб, и водица!
Щербатый есаул Бычкин повел рачьими глазами и выкрикнул в толпу:
— Что зипунника слухаете? Куда заведет вас?
Полетай гневно перебил есаула:
— Зипуны на мужиках серые, а ум богатый! Аль зипунники не Русь?
— Русь! Русь! — дружно ответили казаки и, оборотясь в сторону есаула, сердито вопрошали: — Уж не ты ли со Бзыгой пашу Касима в степи поморил? Шалишь — мы всем войском отстояли землю родную и Астрахани пособили! Где Бзыга, зови его сюда, пусть скажет, где хлеб припрятал?
По возбужденным лицам, по яростным крикам догадался, что скажи он слово поперек, казаки по кускам его растерзают. Понимая, как опасно тревожить народ, есаул незаметно выбрался из толпы и задами, потный и встревоженный, пробрался в станичную избу.
— Сила взбурлила! — закричал он с порога. — Поберегись, атаман!
Бзыга поднял мрачные глаза на есаула и строго сказал:
— Не пугай! Степной конь куда опасней, а и то стреножить можно.
— Из-за хлеба на все пойдут! — стоял на своем есаул.
С майдана в станичную избу вдруг донесся яростный гул толпы. Бзыга побледнел.
Меж тем на майдане Ермак говорил:
— Не мы ли обливались слезами, жгли свою степь, когда ворог пошел на Астрахань? Сколько муки перенесли, многого лишились, а Бзыга тем часом хлеб свозил с верховых городков да прятал, чтобы с казака снять последнюю рубаху. Из Москвы пришла будара с зерном. Почему не раздают народу хлеб? Упрятал ее атаман в камышах за красноталом. От чужого хлеба жиреет Бзыга!
Ермак говорил страстно, каждое его слово жгло сердца.
Смуглая красивая казачка, на которую не так давно зарился Бзыга, первой закричала:
— Женки, айда до атоманова двора, там в сусеках полно муки!
И пошел дым коромыслом. Люди бросились по куреням, хватали мешки, торбы и бежали к атамановой избе. Там ворота уже были настежь, — от них шел свежий след копыт: Бзыга, почуяв грозу, вскочил на коня и ускакал в степь.
Резвый конь уносил атамана и его дружков все дальше и дальше от народного гнева.
— В Раздоры! В Раздоры! — нещадно стегал плетью атаман скакуна. В Раздорах он думал найти спасение. В верхних городках живет много заможних казаков и они помогут.
На станице в это время распахнули атаманские амбары. Степанко заглядывал в сусеки, полные золотого зерна, и призывал:
— Бери все! Жалуйте, вдовы, милости просим стариков. Эй, матка, подставляй торбу, будешь с хлебом! Наголодалась, небось?
— Стой, донцы! — закричал вдруг набежавший дед-вековик Сопелка. — Где это видано, чтобы атаманское добро растаскивать! — он размахивал палкой, а глаза налились злобой. Было старику под сотню годов, огромная пушистая борода пожелтела от времени, но голос сохранился звонкий и властный. — Прочь, прочь, окаяницы! — гнал он женок от атаманских амбаров.
Ермак вырвал у деда его посох и, слегка подталкивая в плечи, вывел старика из атаманского куреня.
— Иди, иди, Сопелка, не твое тут дело!
— Как не мое! — вскипел старик. Я на Доне старинный корень. Где это писано, чтобы не слушать старших? Чужое добро — святыня!
— Эх, старина, старина, ну как тебе не стыдно! — укоризненно покачал головой Ермак. — Не ты ли ныне трех внуков на погост отвез? Хлебушко для всех людей отпущен, а Бзыга что делает?
Дед внезапно притих, глаза его заслезились. Вспомнил он про внуков, погибших от голода, и губы его задрожали.
— Божья кара, божья кара, — прошептал он и склонил удрученно голову.
— Поди-ка сюда, дед, возьми и ты! — позвали его женки, тронутые его беспомощным видом.
Старик однако отказался:
— Кто знает, что робить? Грех это! — шаркая ногами, он пошел прочь от атаманских амбаров.
Древнее предание на Дону гласит: «Дон начался при устье Донца… там и окончится». И впрямь, первым казачьим городком на прославленной реке были Раздоры, которые возвели новгородские ушкуйники на острове при впадении Донца в Дон. Отважные, предприимчивые новгородцы на своих стругах побывали на многих отеческих русских реках — и на Каме светловодной, и на Вятке-реке, и на Северной Двине; доходили они и до Каменного Пояса, а перевалив его, объясачили Югорскую землю. Не миновали они и Волги, и Дона. На последнем и поставили свой городок, который назвали Раздорами. С далекого Ильмень-озера и Волхова вечевики-новгородцы принесли сюда непокорный дух и свободолюбие. Вольные и смелые, они всегда враждовали с боярами и торговыми гостями, а на вечах дело нередко доходило до кулачной расправы. Свой непокорный и вольнолюбивый дух новгородские посельники проявили и в Раздорах. Как и в древнем Новгороде, тут существовали две партии: заможных и голытьбы. Сюда и устремился атаман Бзыга, надеясь найти поддержку против возмутившихся казаков. Ярость и гнев переполняли атамана. Только одна думка одолевала его: «Спасти, во что бы то ни стало, спасти от дележа свое добро. Не добраться голутвенным казакам до будары с хлебом! Неужели раздорские дружки и атаманы оставят его и не вступятся? А коли вступятся, тогда башку с Ермака долой!»
На коротких привалах беглецы давали коням отдохнуть, а сам Бзыга не находил покоя, шагая возле костра, и думал о своем. Есаул Бычкин успокаивал атамана:
— Ты, батька, не тужи, вернем свое добро! Голытьбу в жменю возьмем и не пикнет больше!
— Жменя-то наша маленькая, всех не сгребешь! — сердито отозвался Бзыга. — Ухх! — скрипнул он зубами.
Бычкин сочувственно смотрел на атамана. Был тот грузный, седой и своей ухваткой напоминал остервенелого волка, попавшего в беду.
«Как бы своей свирепостью и ненасытством дела не испортил! — с опаской подумал бывалый есаул. — В Раздорах одним криком не возьмешь, там лукавство и хитрость нужны!»
По совести говоря, сам Бычкин боялся бывать в Раздорах: народ там неугомонный и драчливый. Чуть что, сейчас засучивают рукава.
Дорога длинная. Много передумал Бзыга, пока, наконец, показалась зеленая луковка церквушки в Раздорах. Издалека донесся благовест — звонили к вечерне. Безмолвно и пустынно было на улицах городка, когда беглецы добрались до него, никто не полюбопытствовал, по обычаю, не выглянул в оконце. Дубовые ворота атаманского куреня оказались закрытыми. Бзыга с волнением подъехал к ним и постучал. Долго никто не отзывался. Теряя терпении и волнуясь от смутного предчувствия чего-то неладного, атаман громко заколотил в тесины. Где-то в глубине двора с хриплым кашлем завозился кто-то.
— Отчиняй, хозяева! — окрикнул Бзыга.
— Хозяев давно нет, — откликнулся глухой голос. — Хозяева утекли от беды.
Сразу перехватило дыхание. Бзыга взмолился:
— Да открой же, ради бога. Что тут случилось?
— Не качалинский атаман гуторит? — спросил голос за воротами.
— Атаман Андрей! Да сказывай, что за оказия?
Загремели запоры, ворота приоткрылись, наружу высунулось рябое лицо атаманского холопа. Он внимательно оглядел гостей, посмотрел вдоль улицы и только тогда шире распахнул ворота.
Конники въехали в обширный двор и расседлали коней. Бзыга присел на приступочку крылечка, устало опустив голову, спросил холопа:
— Так что же попритчилось тут?
— Разодрались наши хозяева с голутвенными из-за хлеба. Приходили амбары шарить, еле оборонились. Дом ноне пуст: атаман семью повез на Валуйки, сказывают.
— Брешешь! Не может быть такого в Раздорах! — сорвался с места и закричал Бзыга.
— Я не пес и брехать не думал! — вызывающе отозвался холоп и дерзко посмотрел на атамана. — Голутвенные сказывали, нового будут ставить атамана. Вот оно как!
«Что стало с тихим Доном? — в озлоблении и тревоге подумал Бзыга: — Помутился разум у казачества!» — и, оборотясь к холопу, спросил:
— Ты что ж, Афонька, небось рад бунтовству?
— Грех, атаман, такое говорить! Разве то бунтовство, коли люди есть захотели?
— Цыц! — прикрикнул на него Бзыга. — Плетей захотел, холоп!
Афонька потемнел:
— Этого и без тебя отведал вволю, только говори да оглядывайся, кругом народ кипит, неровен час, забушует…
Бычкин тронул атамана за локоть, тот присмирел. Холоп продолжал угрюмо:
— Триста заможников ушли из Раздор, а то бы кровь была. Одного попа не тронули, ноне в пустой храмине молится.
— Куда ушли старшины? — скрывая досаду, спросил Бзыга.
— Не сказывали, но чую, стоят табором в Гремячем логу…
Есаул Бычкин осунулся, посерел. Понял он, что попал из огня в полымя, но отступать было поздно. С отчаянием он выкрикнул:
— Коли так — рубаться будем! Веди в дом, отоспимся, коней накормим и в Гремялий лог…
Всю ночь Бзыга ворочался на жарких перинах, прислушивался к шорохам. Холоп не внушал доверия и, чтобы не сбежал он, атаман приставил к нему казака. Ранним утром разбудил сполох. По станичной улице загомонил народ. Бежали казаки, перекликались. И страшное уловил Бзыга в перекличках: в Раздоры прискакал Ермак с конниками.
Кричали станичники:
— Сказывают, у нас укрылся супостат. Своих изгнали, чужой набежал! На майдан! На майдан!
Не стал ждать Бзыга, когда будут ломиться в ворота, быстро разбудил дружков и на коня. Афонька распахнул скрытые воротца и пропустил беглецов в тальники.
— Поберегись, атаман! — предупредил он. — Неровен час, угодишь на раздорских, — не помилуют! — он так выразительно посмотрел на Бзыгу, что тот похолодел под его взглядом.
— Скройся, сатана! — зло выкрикнул атаман и стегнул коня.
Когда Ермак со станицей ворвался в Раздоры, тишина и безмолвие поразили его. Казаки подъехали к церкви и заглянули в нее. Мерцали жиденькие огоньки лампад, сумрачные тени лежали по углам храма. Несколько старушек да древних дедов со строгими лицами стояли, склонив головы, и слушали возгласы священника.
Брязга выманил из церковного притвора столетнего деда:
— Где станичники, куда подевались?
Старик поднял белесые глаза и внимательно оглядел прибылого.
— А сам ты откуда брался, казак? — пытливо спросил дед.
— Из качалинской наехали!
— За каким делом вас принесло? — не унимался дед. — И без вас тут крутая заваруха. Атаман с голытьбой перессорился и с заможниками ускакал. Гляди, казак, неровен час, вернется с подмогой и пойдет крушить башки смутьянщикам!
— Да кто у вас смутьянщики? — обрадовался Богданка.
— Известно кто, это мы сомутители! — сердито ответил дед.
Брязга с удивлением взглянул на ветхого деда и не удержался, залился звонким смехом.
— Да ты сдурел, что ли? — накинулся на него старый казак. — Не видишь — тишина в городке, ровно перед грозой… Еще мой дед сказывал, — так от века повелось в Новгороде, когда на вече лютый бой предстоял!
Ермак слышал эту беседу и приказал Брязге:
— Айда на колокольню, да ударь в большой колокол!
Тревожный гул поплыл над сонным городком, созывая людей на майдан.
Казалось Раздоры только и ждали этого звона. Первым зашумел дед. Выбегая из церковного притвора, он крикнул Ермаку:
— Ой, казаче, торопись на майдан, зараз великая свара будет!
По тому, как у деда по-молоду заблестели глаза и он сразу оживился и воспрянул, видно было, что жива в крови старика старинная новгородская закваска: любил покричать и поспорить дед-вековик.
А гул все усиливался. Медный звон разрывал тишину и поднимал раздорцев. По куреням загремели тяжелые запоры, распахнулись настежь многие ворота и калитки, и как бобы из опрокинутого мешка, посыпались люди. Все торопились на майдан.
Мимо Ермака бежали все новые и новые толпы, вооруженные копьями, пиками, пищалями, а были и такие, что держали в руках топоры и оглобли. Впереди всех, с молотом в руке несся раздорский кольчужник Василий и, заглушая рев толпы, взывал громовым басом:
— Браты, пора измельчить заможных! Ухх, дай разогнуть только спину!..
Ермак залюбовался богатырем: до чего могуч и красив молодец! Высок, крепок, грудь широка… Он играл пудовым молотом, а на руке перекатывались крепкие мускулы.
Глядя на кольчужника, Ермак сам не утерпел, закричал раздорцам:
— Казаки, буде терпеть! Иль мы боле не лыцарство? Укротим заможников! — Затем обернулся к своей станице: — На майдан, браты!
Казаки повернули коней и влились в бурлящий людской поток. И диву дались станичники: какого народу тут только не было! И кольчужники, и кожемяки, и седельщики, и швальники, и плотники. Из узкого проулка выбежал в холстяном фартуке бочар. Ветер взлохматил его широкую бородищу и черные дремучие вихри на голове. Пропитая потом рваная рубаха прилипла к костлявым лопаткам мужика. Потрясая топором, он закричал толпе:
— Народы, изгоним наших кровопийцев!
На площади бурлил возбужденный народ. Ермак выехал на середину казачьего круга и зычно объявил:
— Люди добрые, донское лыцарство, мы — низовое казачество бьем челом вольному народу. Хочу слово молвить!
Во всех концах площади отозвались голоса:
— Любо, казак, любо! Говори свое слово!
Ермак снял свою шапку с красным верхом, огладил курчавую бороду, пристально всматриваясь в раздорцев. Рокот постепенно стал стихать и, наконец, вовсе прекратился.
— Братцы мои, старый казацкий корень, внуки новгородские! — заговорил Ермак. — Земля русская велика, конца и краю нет! И видите вы сами, народ наш — богатырь невиданный! Любой из нас ордынца осилит. И никому из нас не жалко костьми лечь за Отчизну. Одно худо, одна беда бродит среди нас и терзает вольных — правды нет! На Дону, как и на боярщине, завелась тугая мошна к горю. Заможники народились по станицам и хотят закабалить вольное казачество, ввергнуть его в лихую беду…
Ермак перевел дух, быстрые жгучие глаза его обежали народ:
— Так ли сказано, браты? Любо ли вам, казаки?
— Ой любо! Ой, правда! — закричали раздорцы. — Говори еще казак!
— Браты, продолжал Ермак. — Кто из нас не слыхал, что бог сотворил два зла: богатого и козла?
— Истинно! — на всю площадь рявкнул кольчужник Василий. — Истинно, человече!
— Сколько богатств понаграблено богатеями. Но самая горшая беда — от народа хлебушко затаили. На людском горе надумали нажиться, на вдовьи и сиротские слезы порадоваться! Наш качалинский атаман Андрей Бзыга будару с хлебом своровал, а брюхо у него хоть и великое, но одно. Мы хлеб у него взяли да раздали вдовам голодным, старикам и ребятишкам. Хватит с мору умирать, пусть порадуются трудяги, — они жито сеяли!
— Правдивое слово! Хорошо говорит казак! — волной покатилось по майдану, и это придало Ермаку силы. Он выше вскинул голову:
— Браты, атаман Бзыга в Раздоры сбег за помощью. Обещал вас призвать в Качалинскую, чтобы голутвенных побить за его амбары и сусеки. Будет ли так?
— Не быть тому, казак! — решительно одной грудью отозвался казачий круг. — Не быть сатане соколом! Своего хвата мы прогнали и вашего добьем!
— В щепки злодеев! — потрясая топором, закричал бочар: — На коней казаки! Бить смертным боем и нашего терзателя Корчемного и качалинского Андрея Бзыгу! Знаем его!
— Любо! Любо нам!
— Ну коли так, благодарствую! — поклонился Ермак раздорцам. — Наряжайте добрых вояк и коней. В погоню за злыднями!
— Ох ты — зелье лютое, тур-река, правильно, ребятки, решили! — засуетился дед-вековик и крикнул Ермаку: Ты распахни свою душеньку, казак, и отплати за нас. Эх-ха-ха, веселей, внуки!
— Дед, и чего ты кочевряжишься? — с улыбкой толкнул старика в бок безусый паренек.
— Молчи, сосунок! — сердито засопел вековик и добавил обиженно: — Вот, истин бог, и откуда этот недомыслок взялся, под носом не выросло и в голове не посеяно?..
Рядом засмеялись. Парень густо покраснел и поскорей укрылся в толпе.
— Ну, раз-з-дайся! — крикнули конники. — В поход, браты!
Словно крутая волна расплескала воды, — растекался народ с майдана по куреням.
— Ну, держись, вражья сила! Подсекут тебе голову! — довольно вымолвил кольчужник Василий.
— Дай-то господи, силы казачеству! — откликнулся шорник: — И нам, мастеркам, полегче будет!
Дед-вековик глядел зоркими глазами вперед, где волной поднималась пыль под копытами быстрых коней, и вдруг задорно-весело замурлыкал:
Рада баба, рада.
Что дед утопился.
Наварила горшок каши,
А дед появился…
— Ух, ты! — вдруг выкрикнул он. — Тут бы сплясать, да годы велики. Эх, старость, старость, лихое времячко! — огорченно махнул он рукой и поплелся к своему дальнему куреню.
Из Раздор-городка легким наметом вырвалась большая станица. Вел ее Ермак. Так уж вышло: отличили его казаки за рассудительность и ненависть к заможным. Раздорцы и качалинцы торопились перехватить атаманов Бзыгу и Корчемного. Перед Ермаком распахнулось широкое поле. Еще недавно у реки шумели дубравы, теперь не стало их: вырубили, выкорчевали казаки коряжины и пни разработали пашню. У дороги еще извивались и корчились уродливые кони и с хрустом рушились под конскими копытами. Справа и слева, вдоль казацкого пути, старательные нивари-пахари терпеливо шли за сохами. Согбенные, в глубокой сочной борозде они казались малыми букашками рядом с вывороченными гигантскими корягами.
Завидя конных, ратаи разогнули спины и с тревогой вглядывались в запыленных всадников: «Чего ждать от них? Свои или боярские?»
Но конники пронеслись мимо. Провожая их взглядами, пахари успокоенно подумали: «На орду пошли. Дай им, господи, удачи!»
Грустной казалась осенняя степь. Во все стороны побежали безлюдные пути-дорожки, зашелестел засохший осенний ковыль, вокруг маячили серые камни на безвестных казачьих могилах. Конь Ермака наступил на череп и горькая дума сжала сердце казака: «Кто тут головушку сложил: русский, оберегавший родные рубежи, или лихой татарин, набежавший с мечом на Русь?»
Из-за кургана внезапно выскочил одинокий всадник.
— Эй-ей, стой, человече! — закричали казаки.
Наездник потрусил навстречу станице. Ермак издали рассмотрел его: на молодце рваный чекмень, баранья шапка, на ногах порши, за плечами пищаль. Гулебщик бесстрашно приблизился к отряду.
— Кто такой? — откликнул его Брязга.
— Раздорский. На сайгаков охотился, — спокойно ответил наезжий.
— А где добыча?
— Э, казаче, была добыча да не стало ее. Еле душу да пищаль унес!
— Татары?
— Какие там татары! — с усмешкой ответил охотник. — Атаманы перехватили в Мокрой Балке… Возьмите меня, добрые люди! — вдруг запросился гулебщик.
— Как зовут? — сурово спросил Ермак.
— Ироха… Они тут неподалеку. В триста всадников собрались идти в Раздоры.
— Ну, недалеко им теперь идти! — сверкнув глазами сказал Ермак. — Веди нас в Мокрую Балку, да смотри, человече, если предашь, конец тебе!
Ироха смахнул баранью шапку, перекрестился:
— Честью и правдой послужу.
— Торопись, браты! — крикнул Ермак. — Нагоним супостатов.
Чаще застучали копыта быстрых коней. Птицей впереди летел Ермак. Ничего не видел, одна думка владела им: «Добыть Бзыгу! Живьем полонить и доставить в станицу!»
Над степью заблестело скупое осеннее солнце, но не стало веселей Дикое Поле: улетели птицы, попрятались звери. Бесприютный ветер гонит от окоема к окоему сухое перекати-поле. Вдали темнеет курган с каменным идолищем на вершине. Зоркий взгляд Ермака заметил на кургане всадника. «Дозорный»! — догадался атаман и туже натянул поводья…
В это время из балки наметом выскочили всадники и широкой лавиной рассыпались по степи.
— Браты, рубаться насмерть! — выкрикнул Ермак и, вы махнув вперед на дончаке, стрелой понесся на скачущих.
Вскоре кони и люди сшиблись и закипел бой. Атаман Бзыга глядел на Ермака, вонзил шпоры в темные бока своего жеребца и помчался на станичника.
И Ермак заметил своего врага.
— Держись, Бзыга! — закричал он и широко взхмахнул саблей.
В последний момент атаман не выдержал, повернул коня и ворвался в ряды своих конников. Кругом звучал булат, скрещивались сабли, высекая горячие искры, ржали отчаянно кони и многие прощались с жизнью, а Бзыга уж ни в чем этом не принимал участия, — спешил уйти от страшного места. Напрасно Ермак кричал вслед:
— Эй, вернись, шаровары потерял!
Атаман не отзывался и скоро скрылся за курганом.
Тысяча коней топтали бранное поле.
— Батька, батька! — призывал Богдашка Брязга: — Выручай!
Ермак махнул рукой на Бзыгу. Он давно заметил раздорского атамана Корчемного, конь-зверь которого визжал от злости. Вскрикнув так, что дончак присел под ним, Ермак вихрем налетел на атамана, первым ударом вышиб у того саблю, а вторым — развалил до пояса. Добрый конь заможника, обливаясь хозяйской кровью, заржал и помчал по полю.
Бой окончился. К далеким курганам мчался атаман Бзыга, а за ним стлались по равнине перепуганные всадники. За разбитыми гнались казаки.
Сумерки прекратили преследование, но утром, на ранней заре станица снова повела погоню. Миновала Дон и бураном понеслась через ногайские степи. С пути станицы торопливо разбегались кочевники.
Много дней шла погоня. Когда Бзыга видел, что близок конец, он оставлял заставу, и обреченные рубились с преследователями насмерть. Это позволяло атаману уходить все дальше и дальше за Маныч. Только он один знал, что уходит на Терек. По всей степи возникли свежие курганы, под ними улеглись побитые казаки. Прознав о битвах с Бзыгой, по-своему, по-нагайски, назвали курганы — «Андрей-Тюбо»…
Так и не нагнал Ермак своего лютого врага Бзыгу.
Ушел-таки тот на Терек.
В те далекие времена на Дону не было ни крепостей, ни вечных строений, ни самое главное, всеобщего войска донского. По всему степному приволью, у тихого Дона и по его притокам, цепью располагались станицы. Каждая из них жила на особицу, только в дни опасной военной тревоги съезжались казаки из городков и совместно отражали врага. В другое время станицы в одиночку бегали за зипунами, за ясырем, насмерть бились с татарами, ногайцами и турками.
Великие русские князья старались использовать донцов для обережения государственных рубежей, посылали им грамоты, обещали жалованье и воинский припас. Царские грамотой писались «к донским атаманам и казакам, старым и новым, которые ныне на Дону, и которые зимуют близко Азова».
Однако станичники не связывалися прочно с Москвой, хотя и делали народное дело, волей-неволей сдерживая врагов у русских рубежей. А врагов у Руси было много: и ногайцы, и крымские татары, и турки, которые сидели в каменном Азове и отсюда набегали на русские окраины. Они грабили купцов и русских послов, нередко огнем проходили по Дону.
В 1523 году великий князь повелел русскому послу в Стамбуле сказать султану: «Твои казаки азовские наших людей имают в Поле, да водят в Азов, да их продают, а емлют окупы великие, и лиха нашим людям от таких казаков азовских много чинится».
Сильна в то время была Турция, и султан пренебрег просьбой русского великого князя. Но забыл он, что сильнее и неукротимее всего — несгибаемый русский дух. Посельники на Дону пустили глубокий и крепкий корень и вскоре дали азовцам жестокий отпор.
Минуло без малого тридцать лет, и в 1551 году султан жаловался царю Ивану Грозному, что донцы «с Азова оброк емлют и воды из Дону пити не дадут».
Непрерывная борьба между донцами и азовцами продолжалась. Где бы враг ни появлялся, станичники давали отпор. По нескольку раз в год они мирились с азовцами и вновь ссорились. Войну они предпочитали миру. Любой случай служит для новой схватки. Подрался хмельной азовец с казаком — начиналась война. Поймали азовцы на промысле казака, остригли ему в насмешку усы и бороду — война…
Только походы давали отдушину для казацкой удали и молодчества. В них станичники добывали зипуны, и когда московский царь укорял их в неспокойстве, казаки писали ему, «что для него терпят мир с азовцами, что он взял на себя всю волю их на воде и на суше; а у них-то и лучший зипун был, чтобы по вся дни под Азов и на море ходить; и что, содержа долговременный мир, они остаются босы и голодны».
Не догнали станичники атамана Бзыгу, а все же вернулись из похода с большой удачей. Как же, — и хлеб для голытьбы добыли, и Бзыгу прогнали, и добра в переметных сумах привезли. Встречали Ермака и его станицу в Качалинской всем народом. Как только показались вдали казачьи сотни, караульный на вышке разудало ударил в набат. Сбежались все — старые и малые, старухи и молодки — к околице. Двигались казаки медленно, с песней. Впереди всех на белоснежном коне-лебеде плыл Ермак в алом кафтане, подпоясанный поясом, протканным золотом. На широком бедре кривая сабелька с крыжом, усыпанным драгоценными каменьями, сапоги на нем астраханского покроя, из желтого сафьяна, а шапка с верхом из голубого бархата. Женки беспрестанно восхищались:
— Ах, и конь-огонь! Ах, и казак, удал да красив!
За Ермаком двигались конники — каждый с туго набитой переметной сумой.
На станичной улице вдруг стало тесно. Под осенним солнцем жарко горели женские наряды: пестрые кубеляки, бархатные кавраки, ленты шелковые. У иной молодки лучисто сверкал цветной камушек в сережке. Но ослепительнее и желаннее всего были ласковые улыбки казачек и приветливый смех их. Богдашка на своем коне-черте вьюном вертелся, отыскивая в толпе Клаву. Озорная казачка пряталась за спины, хмурилась. Она глаз не сводила с Ермака, а он и не замечал ее. Ехал осанистый, кряжистый, властный. Коня своего направил прямо на майдан. Другой бы с женкой потешился, обласкал бы казачку, а потом и за дела. А этот — в думах о своем, суровом. Не догадывалась Клава, что в этот час у Ермака другое было в мыслях, чем у простого казака. Во время похода не раз он раскидывал умом, как не допустить заможных к власти. И надумал самому стать атаманом: и голытьбу жалел, и характер требовал власти.
Ермак спрыгнул с коня, поднялся на опрокинутую бочку, скинул шапку и низко поклонился на четыре стороны, каждый раз повторяя:
— Бью челом родному вольному Дону, казачеству!
— И тебе рады! — отвечала толпа.
Ермак дал народу успокоиться, поднял руку:
— Прогнали мы атамана Бзыгу, и хлеб для станичников сберегли. И гнали мы нашего ворога далеко — за Нарымские пески…
— Любо, ой, любо! — одобрили в толпе.
— Спасибо за ласку! — поклонился Ермак. — Набрали мы в походе добра всякого. Привезли сюда для тех, кто сам добыть не может, но чьими трудами и доблестями возвеличен Дон! Эй, братцы, — крикнул он казакам, — принесите сюда мои переметные сумы!
Никогда того не бывало, чтобы дуван дуванили на майдане, но Ермак знал, что делал, да и сердцем был широк. Принесли товарищи переметные сумы и положили у ног. Ермак проворно развязал их и стал выкладывать добро прямо на землю. Под солнцем заалели-запестрели шелка, голубые и желтые сукна, цветные сапоги и татарские туфли. Выбрасывая свое добро Ермак приговаривал:
— Все добыто в честном бою, берите, люди добрые! Вдов я, и богатеть я не собираюсь, берите, у кого тело прикрыть нечем. Подходите первыми вдовы и старые батьки, у кого сыны полегли в Поле. Берите! Братцы, — обратился он затем к товарищам: — А вы ж для кого бережете свое добро? Самое милое и самое дорогое нам — люди наши!
— Добрый казак! Хороший казак! — загремело на майдане…
Ермак мигнул, и живо выкатили три бочки с крепким старым медом, под одобрительный гул толпы выбили у них днища, и по рукам заходил большой ковш. Скоро казаки и женки запели песни, и все на станице перемешалось в хмельном веселом буйстве.
Три дня спустя Ермака избрали атаманом Качалинской станицы. Уважили его казаки за сметливость и широкую натуру. Через несколько дне выпал первый снег, дунуло морозным ветром, и началась добрая зима. Дон сковало льдом, и холодно лучилось зимнее солнце над застывшей пустыней. Ермак ревностно справлял атаманскую службу: ездил по заставам, держал связь со станицами на случай защиты от набегов, разбирал свары между казаками и, когда прибывали из Москвы возы, справедливо делил хлеб. Однако всех этих дел было мало для его неспокойной натуры. Тянуло атамана на простор, в походы. Но в степи лежали глубокие снега и дули свирепые ветры. Нужно было ждать весны.
Томились бездельем и другие казаки. Иван Кольцо не раз говорил атаману:
— Не вытерпит мое сердце: кому женку надо, а мне бранное поле! Отпусти, Ермак!
Ермак понимал Ивана, сам бредил степями и особенно Волгой, широкий простор которой навсегда запомнился ему, но отговаривал Кольцо:
— Потерпи, Иванко, немножко и вместе со станицей побежим на Волгу погулять!
У казака глаза разгорались. Жарко дыша, он говорил атаману:
— Лежу, сплю и во сне вижу Астрахань да Хвалынское море! Мне бы погулять на Волге, а тут я засохну!
В самые крещенские морозы наехал Ермак на закуржавелом жеребце на скрытый казачий стан и среди станичников не встретил Кольцо.
— А где Иванко? — тревожно спросил он.
— Три дня как сбег! — обиженно сказал Брязга. — Хотели до тебя весть послать да раздумали. Рассудили — голод и холод назад пригонят удалого!
По степи стлала поземка, выл ветер. На далеком окоеме белесое небо сходилось с запорошенной землей. Белая пустыня! Долго глядел Ермак вдаль и со вздохом подумал: «Великая страсть в сердце Иванки, коли в такую пору ускакал».
В душе он простил Кольцо, но казакам сказал строго:
— Где это видано, чтобы товарищей покинуть, словно тать! И кто может без атаманова слова уходить отсюда. Знай, браты, за самовольство не прощу!
Сидя у камелька, Ермак думал об Иванко и затосковал. А ночью тоска стала еще сильнее, — вспомнил свою тяжелую мрачную юность. Лежа на овчине, он ворочался, и перед глазами всплывало далекое прошлое.
Он видел перед собой край тихих лесов — необъятной пармы, где так приятен и дорог каждый случайно встреченный человек на еле заметной лесной тропе. Вспомнилось низкое серое небо, к которому клубами тянутся дымки соляных варниц. Строгановы! Они заграбастали огромную округу и тысячи закабаленных семей работают на них, добывая из земных недр соленый раствор, валят сосновые боры, гонят деготь, выделывают посуду. Кожемяки, седельщики, плотогоны, ткачи, кузнецы, охотники — все стараются на хозяина, который живет в Орле-городке и правит всем. Сюда, в этот далекий и хмурый край, пришли два брата Аленины — Родион и Тимофей. Гонимые нуждой, они перебрались из Юрьева-Повольского, — оттого пришлые добытчики и получили прозвище повольских. Ермак хорошо помнит своего батю Тимофея и двух старших братьев: Гаврюху и Фрола. Оба с ранних лет работали в лесах, и ему, — он тогда назывался Василием, — выпала доля рано познать тяжелый труд. Батька, коренастый работяга с густой бородищей, глядя на старания сына, хвалил:
— Хорошо сработано, — в том и радость!
Был у него редкий талант, присущий чистосердечным и трудолюбивым людям, — работа казалась ему увлекательной игрой. Кроткий и заботливый, батя был мастер на все руки: пахарь и кузнец, плотник и сапожник, пимокат и седельник. Мастерил и песню пел, и все у него ладилось. Одно не получалось: младшего сына обуздать не мог.
— Велеречив и драчив ты, Василек! — печалился он.
— Смелость города берет! — с лукавой находчивостью отвечал парнишка. Отец с укоризной качал головой.
Василий обладал не только силой, но и хитростью, и разумом немалым, поражал отца необычными мыслями.
— Хитры Строгановы, а я перехитрю их! — сказал он однажды отцу.
— Это чем же, Василек?
— Не буду угодником, не пойду смиренной дорогой! — смело ответил сын.
В шестнадцать лет Василий окреп, раздался в плечах и на камском льду в кулачном бою не раз побивал солеваров. По весне он нанялся на строгановские струги.
Эту радостную пору жизни трудно забыть. В слюдяное окно с утра пробивался солнечный свет, на улице звучала капель, прилетели скворцы. Разве усидишь дома? Тянет на волю, на большую реку, где сейчас шумят перелетные стаи. Кама в эту пору разливалась до горизонта, краснолесье — ельники и сосновые боры — становилось темным и гудело на весеннем ветру, березники и ольшаники подергивались, как туманом, зеленой дымкой. Шло хлопотливое гнездование. По шалой полой воде, белея смолистыми бревнами, уплывали на камское низовье плоты.
Трудная работа была на строгановских стругах и плотах. Истекая соленым потом, русские люди шли тяжкой поступью под изнурительным зноем по камским и волжским раскаленным сыпучим пескам.
Шли бурлаки и пели. Речные ветры далеко разносили песню. Одна из них запомнилась крепко. Издревле пелась она надрывно-тягуче:
Ой, укачала, уваляла…
Голоса рокотали, жалоба и где звучали в них. Впереди вереницы лямочников, обросших, грязных, измотанных, шел передовой-гусак, наваливаясь на бечеву могучим телом.
А на струге, упершись в бока, стоял сытый, довольный строгановский приказчик и по-хозяйски кричал: «Живей, торопливей, шалавы!..»
Все это ярко встало перед Ермаком. Ворочаясь на полатях, он думал: «Вот она, родная сторона, могутные русские люди. Тихи и покорны, и невдомек им добывать себе вольную, сытую жизнь. Вот бы пойти атаманом к ним; чай, не мало будет охотчих потрясти бояр да купцов».
От этих мыслей кровь горела в Ермаке. На Дону, он видел, тесно ему будет. Только и походы, что в Азов. А по станицам — заможных сила. Не простят они ему расправу с Бзыгой, — отправятся, осмелеют и свернут в дугу.
«Бежать, уходить надо с казаками на Волгу-реку. Туда, к Иванке, багрить купецкие караваны, жечь царские остроги да вешать за неправду воевод, — думал он. — А там видно будет, что делать дальше… А что, ежели схватят, да голову под топор», — опалила его сердце внезапная мысль.
Но тут он сам себе ответил: «Ну, и что ж! За волюшку, за товарищество можно и жизнь положить! Весны дождусь и подниму станицу: айда за мной на Волгу-реку, на широкий разгул!»
Сон не приходил, воспоминания взбудоражили душу. Ермак не выдержал, поднялся с нар и в одних исподних выбрел из землянки. Темная безмолвная ночь укрыла степь. С невидимого неба мягко падал обильный снег. И степь, и землянки исчезли в мягких пушистых сугробах, чистых и нежных, и хотелось нырнуть в них и отоспаться, как в пуховиках. Из-под омета старой соломы выскочила кудластая собачонка, тощая и поджарая, виляя хвостом, она запрыгала перед казаком.
— Ишь ты, — улыбнулся Ермак, — и твое псиное сердце не выдержало покоя! — Большой шершавой ладонью он приласкал собаку и глубоко вздохнул:
— Эх, Волга-матушка!
Нехотя вернулся он в землянку. Спертый воздух дрожал от казачьего храпа. Крепко спали здоровые донцы. Камелек давно погас, только из-под золы ласковым глазком маняще выглядывал раскаленный уголек…
Возвратился Ермак в Качалинскую станицу тихий и сосредоточенный. Он уже решил расстаться с Доном — не житье ему здесь, и теперь думалось о том, как поднять станичников на Волгу. Над Доном подувал влажный ветер, жухлый снег мягко вдавливался, под крышами мазанок горели, как свечи, ледянные сосульки, и веселое солнце искрами рассыпалось по сугробам. В полдень дымились голые влажные деревья. По еле приметным признакам чувствовалось приближение весны. Скоро по-над Доном пролетят лебединые стаи, закричат гуси. Двинутся на север утиные стаи.
В станице была глубокая тишина — досыпала она свой последний зимний сон. В этой прохладной тишине с замирающим сердцем Ермак переступил порог кольцовского куреня. Он ждал, — сейчас из-за полога выпорхнет бойкая Клава, блестнет острыми зубами, прозвенит монистами и бесстыдно скажет ему: «Пришел-таки, соскучился, кучерявый!»
Но не выбежала навстречу Клава. Посередине нетопленной избы на груде сидела старуха с крупными чертами лица, полинявшими, когда-то синими глазами. Но в них, как под неостывшей золой, поблескивал огонек. Большой горбатый нос, заостренный подбородок делали ее похожей на хищную птицу. Она недоброжелательно взглянула на неожиданного гостями проскрипела, как ржавая петля:
— Ты чего, казак, ломишься в чужой курень?
— Мне бы Иванку повидать. Аль не признала, бабка, — смутился Ермак.
— Вспомнил когда! — ехидно улыбнулась она. — Иванко мой на Волгу гулять побежал, а с ним и Клавка увязалась.
— А девке что там делать? — нахмурился атаман.
— Так разве она девка? Это бес! — старуха почмокала сухими ввалившимися губами. — И куда мне теперь, седой податься, — не придумаю… Возьми меня, казак, в женки! — вдруг предложила она.
— Да ты, старая карга, сдурела! — побагровев от возмущения, выкрикнул Ермак.
— Карга, да крепкая! — огрызнулась старуха и засмеялась.
Ермак круто повернулся, гулко хлопнул дверью и был таков. С этого дня он еще больше затосковал. В марте подули сильные теплые ветры от Сурожского моря и в одну неделю согнали снега. Степь зазвенела от криков перелетных птиц. Дон вздулся. И теперь Ермак просыпался на ранней заре, едва на востоке сквозь тьму начинала брезжить бледная полоска рассвета. Она росла и тушила одну за другой яркие звезды. В полутьме проступали оголенные ветлы, дозорная вышка, а за ней темная дремлющая степь.
Казак потягивался до хруста в костях, а сам сладостно думал: «Поди, вот-вот Волга тронется…»
Вскоре прилетели скворцы, началась хлопотливая птичья пора. С утра горница наполнялась солнечным светом, и еще сильнее начинало щемить сердце.
Однажды Ермак спустился к Дону, уселся на большой камень и заслушался, как лепечет среди камыша вода. Под солнцем река неожиданно загорелась горячими пятнами и манила к себе…
На плечо атамана опустилась тяжелая рука. Ермак поднял голову — перед ним стоял Полетай. Ветерок шевелил его русый чуб, выпущенный из-под шапки. Покрутив золотистый ус, казак улыбнулся и лукаво спросил:
— По гульбе стосковал, атаман? На волю, как перелетную птицу, потянуло?
— А хошь бы и так! — удрученно отозвался Ермак.
— И чего тебе кручиниться? — сердечно сказал Полетай и заглянул в серые глаза атамана. — Одной мы с тобой кровинушки, оба неспокойные. Надумали я и дружки наши по Волге погулять! Как поглянется тебе это?
Сразу отошло ермаково сердце, засмеялся он радостно, облапил Полетая и закричал веселым голосом:
— Э-гей, гуляй, казаки! Волгу проведать, силушку показать! Стосковались, поди, станичники за долгую зиму-зимушку…
— Ой, стосковались! Ой, заскорбели без дела, — подхватил Петро. — Давно думку таил, да боязно было выложить перед тобой… А теперь за дело!
— За дело, плотников кличь, струги строить! — зажегся Ермак. Он сел на коня и поехал в рощу отыскивать лесины, годные для стругов.
Подошла давно жданная пора, прилетели с приазовья теплые ветры, зазеленели степи, наполнились пением птиц, звоном ручьев. В синем небе на север потянулись косяки журавлей. Их журчаще-серебристые крики будоражили качью душу.
В путь, на Волгу, на Хвалынское море!
Ермак ходил молодцеватый, с веселыми глазами, не пил, не баловал, но каждая жилочка в нем играла, каждая кровиночка горячила. Удалось ему подбить станичников в поход на Волгу. Хозяином выходил он на Дон. Беглые мужики их-под Устюжины — знатные плотники — стучали топорами на реке, ладили струги. Над донским берегом плыл запах сосновых стружек, над черными котлами вился густой дым, — в них кипел вар. Визжали пилы, стучали долота, деловито гомонил народ. На песчанных отмелях, как костяки чудовищных морских зверей, белели крепкие ребра стругов. Их обшивали гибким тесом, на горячем солнце выступали чистые пахучие слезинки смолы.
Завидя Ермака, старшина плотников, старик широкой кости, издали приветствовал атамана:
— На большие годы здравствовать тебе, хозяин! Полюбуйся, милый, вот так конь! Вот так сивка-бурка! Без устали и без корма побежит он по водной дорожке. Эй, вы, гривы — паруса белоснежные! Ой ты, море-морюшко, океан неугомонный без краев-берегов, гуляй душа!
— Ты, старик, поди на своем веку много стругов наладил? — любуясь работой устюженца, спросил Ермак.
Дед выпрямился, серые глаза блестнули молодо:
— И-и, милый, столько лебедей на воду спустил, что и не счесть! И каждый лебедь по своему пути-дорожке уплывал: то на студенное море, то на жаркое — под Царьград на Хвалынское. Чего только не перевидали они! Скажу тебе по душе, казак, любо струги пускать по воде, а еще милее, коли знаешь, для кого струги ладишь! Для вольных гулебщиков и струг легкий, послушный, лебедышкой поплывет..
— Спасибо, дед, за добрые слова! На твоем струге не страшно и на край света сплыть! — весело ответил плотнику Ермак.
Пока на берегу шла работа, женки на станице готовили казаков в дальнюю дороженьку. Только у Ермака в курени тихо, печь холодна, на полу жеский войлок да в изголовье седло. Мелькнула мысль о женщине, но он сейчас же отогнал ее. Чтобы унять волнение, Ермак вышел на Дон. Ночь темная, звездная россыпь протянулясь от края до края неба. Под кручей тихо плещется река, а на берегу — манящие огоньки и вокруг них мелькают густые тени плотников.
Ермак прислушался к степным звукам, вздохнул: «Широка земля, утешно на ней, а горит сердце, не залить его донской водой. На Волгу, на Волгу — на широкий путь!».
Настал час, и белобокие струги покачивались на легкой волне. В эту пору на майдане появился Петро Полетай, он кидал вверх свою смушковую шапку с красным дном и во весь голос орал:
— Атаманы молодцы, лихие гулебщики, послушайте мое слово. Отзимовались, верховая вода хлынула! Пора зипунов пошарпать. Но на то и казак в поле, чтобы басурман не дремал.
На этот выкрик отозвались десятки сильных глоток:
— Э-гей, казаки, на сине море Хвалынское погулять, на Волгу-матушку рыбку половить!
Кто-то насмешливо отозвался:
— А рыбка та: сомы — гости торговые московские, осетры — купцы персидские. Эй-гей, гуляй, казаки!
— Эй-гей, гуляй! Люди добрые, надо дорожку погладить.
— Кто сколько? — взывал Полетай, подставляя шапку. — А ну, подходи народ, со всех ворот, да кидай в одну жменю всем на потеху, а себе на утешение!
И посыпались в шапку старинные медные алтыны, ефимки, серебрянные турецкие лиры, бухарские тенги да кизилбашские рупии. Петро шапкой потряхивал, и оттого зазывней звенели монеты.
В синий солнечный день казачья ватага сошлась на майдан, к часовне Николая чудотворца, и помолилась за удачный поход. Потом казаки выкатили сорокаведерную бочку крепкого меда, и пошел гулять по кругу прощальный ковш. До отказа наливались хмельным. Распевали любимую песню:
Тихий Дон-река,
Родной батюшка,
Ты обмой меня…
Голоса неслись по ясному небу то грустно, то задумчиво-нежно, то озорно-хмельно.
Пили за вольности, за Отчизну, За Донскую землю и за удачи в походах; буйно кричали:
— На Волгу широкую, на синий Каспий поохотиться! За ясырем!
Кидали вверх шапки и наказывали Ермаку:
— Веди, атаман, на тихие плеса, на просторы!
От меда по казацким жилам растекалась удаль, поднималась озорная сила. На густых усах Ермака повисли золотые капли браги.
Он смахнул их, расправил черную курчавую бороду и зычно отозвался:
— И мне, браты мои, любо, ой, любо с вами идти!
Кругом кипела и шумела говорливая бесшабашная голытьба. Удальцы, лихие казаки, выглядели браво, и никто не обращал внимания на бедную справу — на старые латанные-перелатанные зипунишки на широких плечах, на дырявые шапки и сбитые сапоги. Даже ружья были рыже-ржавые. В соляном растворе, правда, смочили их, чтобы не блестели на солнце. Делали это по примете бывалых: «На ясном железе глаз играет! Надо так, чтобы в степи, в раздолье, казак был неслышим и невидим!»
С майдана ватага пошла через всю станицу к Дону. Пели и плясали на ходу. Из куреня вышел больной Степанко:
— Погоди, друг, давай по-хорошему простимся! — он обнял Ермака, как брата, и с тоской пожаловался: — Занемог, сдала моя кость, не стало силушки. Эх, погулял бы казак, да кончено! Прощай, друг Ермак! Да будет вам, браты-станичники, удача!
Он трижды поцеловался с атаманом. Никогда того не было, чтобы сдавался тоске Степанко, а тут не выдержал, и по щеке его скатилась горячая слеза. Жаль казаку стало своей отлетевшей удали, ушедшей силы.
За гулебщиками бежали женки, шумели ребятишки и с доброй завистью провожали старики-станичники. «Эх, улетела молодость, как птаха веселая, упорхнула!» — с грустью думал каждый старый о себе.
На крутом яру — пестрая цветень: бабьи летники, синие и красные, как пламень шали, сарафаны нежно-голубого цвета и платки — пестрые маки. Отцветшие старухи с богатыми киками на голове молчаливо смотрели на пенистый Дон. Миновало времечко, когда они другими глазами смотрели на все, а теперь потухли их глаза и остыла кровь.
На берегу Дона гулебщики еще выпили по ковшу и стали рассаживаться в струги — по сорока, по полусотне в каждый. На степи буйно зазеленел ковыль, и среди беспредельных просторов Дон казался шелковой дорожкой. Впереди — атаманский струг, гребцы наготове подняли весла, ждут. Ермак поднялся на него, статный и ладный. Разом закричали на берегу:
— В добрый путь, на хорошую добычу! Славься наш тихий Дон, славься, батюшка!
Стоя на головном струге, Ермак расправил грудь и глубоко втянул свежий влажный воздух. Рядом, за бортом, мягко шелестела быстрая струя, над рекой стрелами носились быстрые стрижи, а по голубому небу тихо плыли облака. Ермак снял шапку и поклонился народу:
— Будьте здравы! Не забывайте сынов своих! — и, сложив в трубу ладони, зычно крикнул на всю реку: — Ертаульный, весла!..
Стало тихо, так тихо, что слышно было биение сердца в груди. И в эту пору разом ударили весла, зашумела струя, и струги двинулись — поплыли лебедями. На берегу закричали, — кто шапку вверх кидал, кто платком махал…
Все медленно стало отходить назад. В последний миг Ермак заметил на яру старого плотника с непокрытой головой. Ветерок колебал его длинную рубаху. Приложив ладонь козырьком к глазаи, устюженский плотник долго смотрел вслед лебединой стае.
Вскоре словно пологом кто закрыл — ушла в сизую даль станица, дубравы. Только часовенка все еще поблесивала главкой на горячем солнце. По сторонам, как море, колыхались ковыльные волны, убегая на полдень у Суражскому морю.
Ермак поклонился покинутой земле:
— Ты прости-прощай, тихий Дон Иванович!
Его выкрик дружным хором подхватили казаки на стругах, взмахнули веслами и понеслись по голубой воде к Переволоке. В густых камышах шумели утиные стаи, мимо мелькали бесчисленные зеленые островки и золотились леса. А в донской глуби, в темной воде, играла рыба. Видели еще казаки, как далеко-далеко в степи двигалось серое облачко — это к станице с дальних пастбищ гнали конский табун.
Все отходила и подергивалась синеватым маревом сторона. И хоть каждый казак всем своим лихим видом старался показать, что все ему трын-трава, однако в душе своей сохранил ласковое и заветное. Каждый из удальцов с легкой грустью подумал про себя: «Ты прости-прощай, Дон Иванович! Придется ли нам с тобой еще раз видеться?..»
Шуршал камыш, кричали над синей водой чайки и кружили орлы над степью. И казалось, что в ушах все еще слышатся выкрики станичников:
— В добрый путь, казаки!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НА ВОЛГЕ-РЕКЕ
1
Русь издавна вела торговлю с восточными странами. Желая получить разрешение ездить через русские земли в Персию, Индию, Бухару, и для отыскания пути в Китай английский посол поведал царю московскому, что драгоценности, перевозимые купцами из страны в страну, оставляют на пути золотые следы. Русские прекрасно осознавали это и без иноземной указки. Они сами усиленно стремились завязать тесные торговые связи с далекими государствами Востока. Еще в конце пятнадцатого века, с дозволения великого князя тверского Михаила Борисовича, из Твери отправился в таинственную страну Индию тверской купец Афанасий Никитин. С большими приключениями он доплыл Волгою до Астрахани, а затем через Дербент и Персию добрался до Ормуза, где пламенное солнце жжет человека. Далее на чужеземном корабле он переплыл море Индийское, достиг Маската и Гуризата и проник до Чувиля. В своем повествовании тверской купец пишет: «И тут есть Индийская страна». Много диковинного и чудесного увидел Афанасий Никитин в чужедальной сторонушке. Его впечатлительный глаз отмечал всеинтересное и новое: и города, и нравы, и обычаи, и климат, и невиданных доселе животных, и растения. О своем необычайном странствии Никитин сообщает: «Написал я грешное свое хождение за три моря: первое море Дербентское — море Хвалынское, второе море Индийское — море Индостанское, третье море Черное — море Стамбульское». О «хождении» своем он рассказал много поразительного.
В Индийской стране… «люди ходят все наги, — пишет он, — и голова не покрыта, и груди голы, а власы в одну косу заплетены, а детей родят на всякий год и детей у них много, а мужики и женки все наги и все черны, — я куды хожу, ино за мной людей много, да дивуются белому человеку. Князь носит фату на голове, а другую на гузне; бояре и княгини носят фату на плечах и на гузне; а слуги княжие и боярские только на гузне, вооружены различно, но не огненым боем; все наги да босы и волос не бреют; а женки ходят голова не покрыта, и груди голы; а парубки и девочки ходят ходят совершенно нагие до 7 лет. Зима продолжается там 4 месяца — везде дождь и грязь, и в это время там пашут и сеют пшеницу и все съестное. Индиане не едят ни мяса, ни рыбы, ни вина не пьют, и ества у них плоха, и ножа не держат, и ложек не употребляют, а садясь за еду омывают руки и ноги, и рот ополаскивают. Женщины у них сорома не знают, и ведут себя вольно с гостями и любят гостей белых»…
Наряду со многими правдивыми описаниями, тверской путешественник записал об Индии много сказочного. Так он описывает птицу гукук, которая «летает в ночи и кличет кук-кук, а на которой хоромине сидит, то тут человек умирает, а если кто захочет убить, то у нее из клюва огонь выйдет».
Таких небылиц немало в «Хождении за три моря». Что касается торговли и товаров, то Афанасий Никитин подробно описал, кто чем торгует, и какие товары годны для Руси. Одновременно с этим, он во время своих странствий убедился, сколько нелепостей и бредней сообщалось в ходившей в то время по рукам грамотеев рукописи «Сказания о Индийском царстве». В ней от имени индийского царя и «попа, над царями царя», повествовалось: «Царство мое таково: итти в одну сторону 10 месяцев, а на другую немножко дойти: тамо соткнулись небо и земля. Есть у меня в единой стране люди немы, а в иной земле — люди рогаты, а в иной земле — люди о трех ногах, а иные люди — 9 сажень, а иные люди — четвероручны. А иная у меня земля, в ней же люди полпса, а полчеловека».
Ни рогатых, ни трехногих, ни чудовищных великанов Афанасий Никитин в своих странствиях не встретил, но зато немало он перенес притеснений и обид и не раз подвергался грабежу.
И все же, несмотря на опасности пути, иноземцы и русские купцы стремились проникнуть на загадочный Восток и завести с ним торговлю.
С тех пор, как была присоединена к Московскому государству Казань, а затем Астрахань, и Волга целиком стала русской рекой, по великому водному пути потянулись торговые караваны в Персию, Бухару, Хиву, Дербент и Шемаху.
Русские торговые люди везли пушнину, кожи, холст, пеньку, мед, шерсть, сало и даже доставляли на восточные рынки прославленных охотничьих птиц — соколов и кречетов. Соколиной охотой увлекались все владетели западных и восточных царств. Особенно славились пернатые охотники, привозимые из русских земель. Даже ханы Золотой Орды, накладывая на Русь дань, требовали от московских князей присылки кречетов. Целые ватаги кречетников отправлялись из Москвы на печорский север для ловли этой редкой и дорогой охотничей птицы, которая различалась по окраске и повадкам. Славились кречеты красные, белые, серые; особенно дорого ценилась птица красная — чеглич-кречетай. Несмотря на крепость и силу, эта птица не переносила долгого пути и часто погибала от дорожной истомы, поэтому ее доставляли водой, на стругах. На вольном речном воздухе дышалось птице легче, и она чувствовала себя бодрей.
Взамен русских даров, с Востока на русь шли шелка, пестряди, краски, сандал, сушенные фрукты и сладости. Из далекого Дамаска везли добрые булаты, шлемы и кольчуги. Арабы доставляли бесценных коней, быстрых и на редкость неутомимых, из Ормуза шел лучший жемчуг — «сурмызские зерна», из Персии — драгоценные камни — сапфиры, рубины, бирюза — и тонкие ткани.
Особенно бойко шла торговля с Персией. В Астрахани персидские купцы имели особый двор — Гилянский. Были еще дворы армянский, индийский, бухарский. Каждый день из горячих песков Бухары в город входили караваны. Черные от знойного солнца, запыленные, купцы в пестрых халатах восседали на верблюдах и, казалось, приносили с собой жаркое дыхание пустынь Азии. Персидские парусники выплывали из Хвалынского моря, как белые крылатые птицы. И весь день тогда кипела торговая суета и толкотня.
Каждую весну по Волге шли караваны. Река была широкой дорогой, но далеко не безопасной. Русские порубежные городки далеко отстояли друг от друга, а на берегах пустынных укрывались и жили неспокойные гулевые люди. Шли сюда из Руси люди, мечтавшие избавиться от векового рабства и найти волю-волюшку. Бежали сюда боярские холопы, разорившиеся от неурожаев мужики, штрафные, обедневшие степняки-кочевники и все те, кому со своим неугомонным характером тесно было на родине. Плыли они по Волге и пешим ходом шли до самой Астрахани, которую издавна звали «Разгуляем городом». Без конца брели крепостные и гулящие люди. Так на Волке-реке, на приволье, исподволь росла и крепла большая и неспокойная народная сила. Время от времени на просторах прибрежных степей, в прохладе лесов и на самом речном раздолье эта могучая сила разряжалась в грозе и буре гнева против бояр и купцов, против всех, кого народ считал своими угнетателями.
Грозна и лиха была низовная вольница. Пелось о ней в песнях:
Мы рукой махнем — караван возьмем!
Боялись этой дерзкой силы и бояре, и купцы, поэтому судовые караваны ходили по Волге, часто оберегаемые стрельцами и детьми боярскими. Весной и осенью собирались в Нижний-Новгород с товарами купцы из разных русских городов: москвичи, ярославцы, кинешемцы, костромичи, юрьевцы, нижегородцы, арзамасцы и казанцы. Составлялись огромные многолюдные караваны и отправлялись в далекий водный путь.
Широка и раздольна Волга! Много на ней опасных мест для караванщиков: и воспетые Жигули, и Казачья гора, что в пятнадцати верстах пониже Самары, и устье Камышинки. Есть где приються гулебщику, есть где ему силу и удаль показать. Много о них пелось, немало рассказывалось среди бывалых донских казаков.
Сюда и потянуло Ермака с ватагой…
Большой Раздольский шлях, что пролег между Доном и Волгой, остался позади. Издалека казаки и их горбоносые ногайские кони завидели синие воды Волги. Солнце золотило песчанные отмели, серебристой чешуей играло на волне, над которой летали крикливые чайки. В синем блеске, среди зеленых гор и лесов, среди бескрайних заливных лугов бежала полноводная, широкая, раздольная родимая река.
Пестрая казачья ватажка разом остановила бег коней. Бегунки почуяли вольный свежий воздух, и веселое ржание огласило тихие, дремавшие в синеве, дали. Ермак хозяйски оглядел станицу. «Эх, и пообносились, не приведи Бог, — озабоченно подумал он. — Такой могутной да дружной силе справу бы богатырскую!»
И впрямь, после длинного пути казаки были одеты и вооружены кто во что горазд. На одном смурый кафтанишко, на другом латанный и перелатанный зипунишко, кое у кого на широких плечах пестрые бухарские халаты, — знать в пути встретились с татарином или ногайцем, волками рыскавшими у русских городков, чтобы поживиться кровавой добычей. Иные просто в холщевых штанах и рубахах, а в руках дубины, да за поясом — топоры. Это недавние российские бегуны, сбежавшие на Дон и приставшие к ватаге Ермака. У бывалых донцов за пестрыми кушаками пистолеты, кривые широкие ножи в добрых оправах. У многих булатные сабельки азиатских статей, а за плечами оружие огневого боя. А есть и такие, у которых на спине болтается лук, да на боку саадак с оперенными по-татарски стрелами. Есть с рогатинами и стальными кистенями на длинных воловьих пожилинах.
Играло хмельное солнце, колыхались золотистым морем седые ковыли. Цвели травы, и над синим простором кружил плавно орел, высматривая добычу.
Ермак расправил плечи, глубоко вздохнул. Он стоял на бугре и перед ним расстилалась великая сверкающая река, над которой синело бескрайнее небо, и ветер с широких просторов доносил пряный запах пахучих трав.
— Волга! — восторженно прошептал Ермак.
Солнце слало на землю золотые потоки. Атаман на миг закрыл глаза и подумал: «Сколько народов прошло волжской дорожкой! Сколько вражьей силы полегло! Сгибли царство Булгарское и Золотая Орда, нет больше царств Казанского и Астраханского! Много крови пролилось тут! А ныне Русь лежит на Волге!» Ермак снял шлем и радостно выкрикнул:
— Здравствуй, Волга-мать! Кланяются тебе вольные донские люди!
На его призыв отликнулась вся ватажка, одной грудью выдохнула:
— Волга…
Богдашка Брязга разудало тряхнул серьгой и голосисто завел:
Ты прими меня, Волга-матушка,
Утопи в синих волнах тоску мою,
Что тоску ли злую кручинушку,
Неустанную привередницу…
Станица подхватила, и понеслась, зазвенела песня, полная грусти и призыва, над плесами, над ковыльными волнами, над широким простором.
Ермак надел шелом и направил коня на торную дорожку, что вилась по крутым волжким ярам, к устью реки Камышинки. По степи струилось марево, шептались травы, кричали над камышами чибисы. А далеко за Волгой, в заливных лугах, как зеркальца-глядельца, сверкали озера и синяя даль.
Долго легким наметом бежали кони. Несколько раз делали привалы, хлебали жидкое толокно, уминали черствые овсяные лепешки. И, как дорогое яство, жевали-смаковали вяленую баранину, нарезаную тонкими ломтями и пропахшую лошадиным потом.
С нетерпением ждали знакомых, прошлогодних мест. И вот в овражине показалась зеленая маковка церквушки. Сельцо упрятолось среди зарослей у теплой воды. На тропку вышел согбенный слепец-гусляр. Держась за плечо поводыря, он осторожно подвигался, шевеля сухими губами. Заслышав конский топот, старец остановился, вслушался.
— Иванушко, свои иль боярин с холопами? — шепотком спросил он.
— Свои, казаки.
Тут наехал Ермак, здоровый, черный, — в смоле вываренный.
— Здоров, дед? — окликнул он гусляра. — Издалече бредешь?
По крепкому голосу слепец догадался, что перед ним богатырь. Низенько поклонился и ответил ласково:
— Из Камышенки, родимый.
— Тихо там?
— Ни боярина, ни опричника, ни служивых людей. Да и кого мне, старому, бояться? — Слепец выпрямил спину, поднял на казака невидящие глаза. Был он древен, седые с желтизной волосы облепили его голову и лицо, густо изборожденное морщинами. Незрячами глазами он так смотрел на Ермака, словно видел позади него судьбу казака.
— Крепок дуб, силен ты, степной корень, — сказал старец. — Чую, человече, доверять тебе можно, идешь ты правду искать. Не щади ни боярина, ни воеводы, сынок!
— Отчего так зол на них? — полюбопытствовал откровенному признанию атаман.
Слепец вздохнул горько и ответил:
— Запомни сынок: белые руки чужие труды любят. Бояре да воеводы нас не поят, не кормят, а спину порют! По какому божьему и христианскому обычаю? И не спрашивай. Жизнь простолюдину невмоготу пошла. Единова богатей меня ударил, бесчестие нанес, — я к тиуну. А что вышло? Меня же избили, да виру на князя присудили. Если бояре и тиуны не грабежники, то кто же тогда грабежники?
Казаки шумно задвигались, одобрили:
— Мудрый дед, садись отдохни! — и спросили: — Куда торопишься?
— Спешу в степь, на Дон иду, — отозвался старик. — За правдой гонюсь.
— Была на Дону правда, да ноне ржа изъела, — внушительно сказал Ермак. — Ты нам лучше бывальщину спой, пока кони отдохнут!
Слепец уселся у края дороги под густой ракитой, вскинул голову, неторопливо перебрал по струнам. Казаки притихли. Среди благостной тишины раздался мягкий, ласкающий голос. Перебирая струны проворными пальцами, гусляр пел:
Встань, пробудись, мое дитятко,
Сними со стены сабельку,
И все-то мечи булатные.
Ты коли, руби сабельками
Богачей, лиходеев татар,
Ты секи, круши губителей
Все мечами да булатными…
Окружавшие гусляра ватажники молча слушали. В деревянную чашку слепца посыпались семишники, сухари.
— Не ходи, старик, на Дон, там и без тебя лихо развеселят, — в раздумье сказал Ермак. — Иди ты на Русь и воспой холопам, всему русскому люду правду. Слово твое — искра, затлеет от него огонек…
— Слушай атамана, дед, — заговорили казаки. — Ничто так простому человеку не любо, как добрая песня. Она и боль утишает, и сердце зажигает.
Дед внимательно слушал, опустив седую лохматую голову.
— Чует сердце, говорите вы, сынки, сущую правду, — после глубоко раздумья, наконец согласился он. — Вставай, малец! — сказал он, подымаясь, поводырю. — Скушно, видать, на Дону, коль казак с него ушел. Да и на Руси хмуро: лют царь-государь, хитер…
— Как звать, дед? — приветливо спросил Ермак.
— Власием кличут!
— Айда, дед, с нами на Волгу! — предложил атаман.
— Слепец я, что робить буду там, — жалостливо отозвался нищеброд.
— Песни петь, душу радовать. Айда! Казаки подхватили Ермака: — Айда, душа праведная, вертай в Камышинку! Будем поджигать.
— Коли так, будь по вашему, молодцы, — согласился слепец. — Следом дойду.
Ермак махнул рукой, казаки посели на коней. Поводырь со слепцом свернули на тропку, ведущую к овражине, в которой ютилось селение.
Вот и глухое устье Камышинки-реки, на воде покачиваются струги. Над речкой — мазанки, крытые соломой. Посреди них высится крохотная посеревшая колоколенка. А рядом распахнулась сияющая Волга-река.
На берегу толпится народ, на улице ряды телег, ржут кони. И где-то на дальнем дворе трогательно блеет козленок. В черной кузнице ворота распахнуты настежь. Покрывая голоса людей, из нее доносится перезвон наковален.
Ватага пропылила под угорье. И казалось, навстречу казакам приближалось торжище. Откуда столько народа? Ермак обеспокоенно разглядывал встречное. Рука его плотно лежала на крыже сабли. Оглянулся на ватажку:
— Братцы, коли чего — не зевай!
Иван Гроза серьезно посмотрел вперед, построжал и сказал Ермаку:
— Не стрельцы и опричники тут. По всему видать, гулевые люди.
Ермак нахмурился, подумал: «И гулевые люди бывают разные. Не обманул ли нас гусляр?»
Кони поровнялись с первой мазанкой; в окно мелькнуло румяное женское лицо.
— Ахти, радость моя! — вскрикнула баба и выбежала на улицу.
Ермак взглянул на нее и что-то знакомое мелькнуло в чертах молодки. Не успел он и слова вымолвить, как она ухватилась за стремя и, вся сияя женским счастьем, заговорила:
— Желанный мой, вот где довелось свидеться. Вот коли удача!
Атаман сурово оглядел бабу:
— Никак обозналась ты, женка!
— Эх душа-казак, скоро запамятвовал, — сокрушенно отозвалась женщина. — Да я же Василиса! Может, и вспомнишь меня, голубь, как я поставила тебя на астраханскую дорогу?
— Браты, — весело оповестил Брязга. — Да ведь это и впрямь Василиса.
— Э-ге-гей, здравствуй, красавица! — шумно приветствовал ее казак.
Василиса опять засияла. Уставясь радушно в Ермака, она сказала теплым грудным голосом:
— Ну, сейчас, поди, узнал меня?
Теперь и атаман вспомнил встречу в лесном углу, и суровое лицо его осветилось улыбкой.
— Ты, Василиса, — добрая баба, спасибо тебе за прежнюю послугу! — ласково сказал он. — Откуда же ты взялась, и что за люди на берегу?
— И, милый! — живо отозвалась женщина. — Народ тут гулевой, брательники мои. Рады будут, айда, казаки, за мной!
— Стой, не торопи, красавица! — остановил женку Ермак. — Кто у тех гулебщиков атаман?
Василиса блеснула карими глазами и охотно ответила:
— Атаманят двое. Яшка Михайлов, брат мой… из Руси бежал от боярина-лиходея…
— Аль мы будто сейчас не на Руси? — недовольно перебил Ермак.
— На Руси, это верно, — согласилась женка, — только Русь тут беглая, гулевая. Айда-те за мной!
— Стой, а кто же второй атаман?
— Иванко Кольцо! Ух, и провора, и молодец! — оповестила Василиса.
Ермак сразу повеселел.
— Иванушко, вот где ты! Ах, милый, как совпало. Ну, женка, спасибо за утеху. Веди, родимая, к Иванко Кольцо!
Она пошла рядом со стременем, заглядывая в лицо Ермака. Он крепко сидел в седле, широкоплечий, строгий богатырь. Чувствовалась в нем покоряющая сила, и Василиса — счастливая и гордая — не могла отвести от него своих глаз.
Навстречу из избенки выбежал ладный молодец с озорным лицом и широким вздернутым носом. Яркий румянец на лице оттенялся золотистой бородкой. На бегу он вымахнул из ножен кривую сабельку и задиристо закричал:
— Стой, кто такие?
Брязга захохотал:
— Откуда только налетел такой петушок?
Ермак направил коня на ватажника, тот удивленно разинул рот и опустил саблю. Всилиса повела бровью:
— Аль не признал, шальная головушка, набольшего? Молчи, Егорка. Мчи до Иванки Кольцо, да живо!..
Казаки медленно продвигались по селению. У телег, груженных добром, толкались мужики. Навстречу попадались хмельные повольники. Оии куражились и кричали задиристо донской станице:
— Гей, бобровники, куда торопитесь?
— Козлодеры!
— Лягушатники!
Ермак ехал молча, насупив брови. На нем легкий шелом, колонтарь из железных бляхах, скрепленных кольцами. Справа на боку короткий нож, слева — тяжелая сабля.
За атаманом безмолвно покачивались в седлах казаки.
Тихо позвякивали удила, и звук этот вплетался в глуховатый топот копыт. На Брязге стеганый кафтан, набитый пенькой и кусками железа, у пояса турецкий ятаган. Озорные выкрики губельщиков обжигают сердце Богдашки. Выхватил бы саблю и показал бы… Да нельзя: зол батька, взыщет крепко.
Из-за мазанки вдруг выскочил пьяый казак огромного роста; размахивая палицей, заорал:
— Браты, наших бьют! — и кинулся на Ермака.
Атаман весело прищурил глаза и укоризненно покачал головой:
— Эх, Колесо, Колесо, сдурел ты!
Казак взглянул в лицо атамана и радостно ахнул:
— Ермак! Браты, гей-гуляй, с Дону сила пришла!
Пошатываясь, он полез к Ермаку целоваться. Не сдежался, пролил хмельную слезу. Но, завидя Василису, заорал:
— Прочь, бесова баба. Недоступница!
— Не гони, женка честная, хорошая, — мягко остановил Ермак.
Весело шумел оживленный базар. Дорогу преграждали возы, груженные животрепещущей рыбой и всякой снедью. По майдану разносился неистовый поросячий визг, хлопанье птичьих крыльев. Надрываясь, румяные, здоровенные бабы-торговки голосили:
— А вот петушки — золотые гребешки…
— Кому горячих калачей?
— Вкусны блины и оладьи!
— Квасу! Квасу! Полугару!
Пахло свежим сеном, топленым молоком и человеческим потом.
Василиса искательно глядя в глаза Ермака, со вздохом сказала:
— Ох, и до чего же жизнь весела, казак… Айда в гулебщики!
— На эту стезю и путь держу! — улыбаясь ответил Ермак, и увидел впереди домик, расписное крылечко, а на нем знакомую фигуру Кольцо.
Казак Колесо нырнул в толпу, не решился показаться атаману Иванке хмельным. Василиса провожала Ермака до избушки. Остановившись неподалеку, она по-бабьи пригорюнилась и ласково смотрела на атамана.
Ермак подъехал к крылечку, соскочил с коня.
— Иванушко! — протянул он руки. — Вот он где, бегун донской!
— Батько! — заливаясь румянцем, радуясь и не веря встрече, вскричал Кольцо. Он проворно сошел с крылечка и крепко обнялся с атаманом. Казаки окружили их, и каждый старался обнять и поцеловать Иванку. Ермак схватил друга за плечи и повернул:
— Экий казачище стал. Широк в плечах, ус длинный и сам ухарь!
На крылечко выбежали донцы.
— Батько! — весело приветствовали они Ермака.
Сметил Богдашка Брязга: в темном проеме двери, забросив руки за голову, потягиваясь, зевая, стоит стройная девка с русыми косами.
— Клава! — узнал казак свою зазнобу и бросился к ней.
— Жалуйте, браты, — позвал Ермака и ближних к нему казаков Иванко. — А прочие — по соседям… Всех приветим.
Казаки соскочили с коней, привязали резвых к тыну. Стуча подкованными сапогами, одни поднялись на атаманское крыльцо, а другие разошлись по избам. Навстречу Ермаку встал плечистый, с угрюмым взглядом, бородатый молодец и потянулся к нему.
— То Яшка Михайлов — атаман повольницы. Жалуй, Яшка, — Ермак, мой верный дружок в сече! — сказал Иванко.
Атаманы крепко обнялись. Ермак радушно сказал:
— Наслышан, удалец, о тебе от женки Василисы.
— Сестра мне, в девках ходит, — сдержанно улыбнулся Яков и распахнул двери. В синем чаду табачного дыма, в кругу тесно сбившихся, разгоряченных и слегка хмельных повольников, павой плыла, сверкая длинными подвесками в ушах, веселая Клава. А вокруг нее увивался, выкидывая коленца, молодой черноусый казак.
— Шире круг! — лихо закричал он, увидя атаманов. — Раз-з-дай-ся! — И, перехватив одобрительную улыбку Кольцо, так ахнул и свистнул по-разбойничьи, такие пошел вязать кренделя и коленца, что видавшие виды донцы застыли, очарованные русской, ни с чем в мире несравнимой по молодечеству, лихой пляской.
Он дважды прошел вприсядку, то далеко выкидывая ноги, то мячом взлетая от полу на человеческий рост. А Клава впереди него переваливалась уточкой, манила улыбкой, рукой, — все зазывала к себе. Богдашка на сводил глаз с удалой казачки, весь сжигаемый ревностью и радостью встречи.
— Их-х, разойдись, зацеплю, опрокину! — вскрикнул усатый казак, взвился в воздух и, брякнувшись на пол, застыл на каблуках широко раскинутых ног.
— Молодец, провора! — похвалил Ермак. — Впервое такую пляску вижу. — За такой молодицей до ясного месяца подскачешь! — весело отозвался казак, переглянувшись с Клавой.
Началось пирование. Ермака усадили в красном углу. Потупя очи, к нему степенно подошла Клава и поднесла серебряную чару, наполненную до краев кизлярским вином. Не пил атаман красного вина, но не пожелал обижать девку. Одним махом опрокинул чару, крякнул и утер кудреватую бороду. Казачка обожгла пламенным взором. Почувствовал он, как внезапно опалило серде.
«Эх ты, зелье лютое, — недовольно подумал казак, — опять заныло!»
И, чтобы отвлечься от соблазна, спросил Кольцо:
— Ну как, Иванушко, возьмешь меня в повольники? Есть ли стружки?
— Батько, на реке стружки. Поклоняюсь тебе, будь у нас старшим. За тобой на край моря!..
— Спасибо на добром слове, — сдержанно ответил Ермак. — Но только не так старших выбирают. Что скажет дружина, — тому и быть! От века положено громаде дело решать!..
Иванко встал, а рядом с ним, плечо в плечо, поднялся Яков Михайлов, и оба дружно подняли чары:
— За батьку Ермака, браты! За дружбу и удаль!
Ермак опустил глаза и с достоинством поклонился повольникам:
— Спасибо, браты. Доброе слово не забудется…
Вечерело. Волга закурилась туманом. Казаки расходились на ночлег. В темном переходе Ермака перехватила горячая рука.
— Иди ко мне казак. Перины взбила, — жарко зашептала Василиса.
Атаман привлек женку и губами приложился к тугой щеке.
— Спасибо, родимая. Однако не к тебе моя дорожка, не в перинах мне нежиться, — ласково сказал он, и, видя, что женщина потупилась, добавил: — Зарочный я! На суровом пути… Не гоже мне казаку млеть…
Он хотел что-то еще сказать, но в эту пору мелькнул огонек, и с горящей лучиной на порожке встала Клава. Завидя Ермака с Василисой, казачка вскрикнула и схватилась рукой за сердце. Лучина выпала из дивичьих рук и погасла. Стало тихо, безмолвно, и густой мрак укрыл все кругом.
Порешили повольники — быть Ермаку атаманом. На том сошлись Иванко Кольцо и Яков Михайлов. Надоели им обоим свары и споры о первенстве. Обрадовались Ермаку. Отгуляли последние дни в Камышинке шумно, гамно. Повольники, обнявшись, ходили по улице, лихо распевая:
Через борт волной холодной
Плещут беляки.
Ветер свищет, Волга стонет;
Буря нам с руки!
Подлетим к расшиве: — Смирно!
Якорь становой!
Шишка, стой! Сарынь на кичку!
Бечеву долой…
Далеко разносилась песня по волжкой равнине. Прекратила ее темная звездная ночь да наказ Ермака: «Завтра на восходе на плав!»
Смутно на Волге маячили струги. По рощам засвистали соловьи. Щелкнет один, подхватит другой, третий, а в заволжских поемных лугах ответят дружки-певуны. Из-за кургана поднялись золотые рога месяца, и зеленый призрачный свет засверкал на реке. Богдашка Брязга уловил минутку и нагнал Клаву на лесной тропке.
— Погоди, милая, — ласкаво остановил девушку казак. — Присядем да потолкуем, как мне быть?
Клава покорно и тихо опустилась на поваленный ствол сосны. Богдашка сел рядом. Сладкая грусть и радость трепетали в сердце казака. Как нарочно, ночь была ласковой и тихой: сияли звезды, дул теплый ветерок, шептались быстрые струи. Богдашка осторожно обнял девушку, обдал ее взволнованным дыханием.
— Любишь? — тихо спросил он.
Клава решительно повела головой:
— Нет!
— Кого же тогда держишь в думках? — настойчиво допытывался Брязга. — Одного его… атамана… — хмуро ответила девушка, и ресницы ее задрожали от обиды. — Да только он не глядит на меня…
Ревность острым ножом полоснула казака.
— Ты сдурела! — вспылил Богдашка. — Ему ведь за сорок годов, а ты вон — яблонька в цвету!
— Ну и что ж, пусть за сорок годков! — противясь и отталкивая от себя Брязгу, с усмешкой ответила она. — Оттого любовь, как добрая брага, слаще будет и крепче!
— Так он же старый пень! — не сдерживаясь, раздраженно сказал Богдашка. Клава вспыхнула, блеснула злыми глазами: — А вот и не стар! Не полыхает, может, как ты, словно хворост, зато жару-накалу в нем больше, чем у всех молодых!
— Дыму да копоти много! — съязвил казак.
— Врешь! Сильный он! И думку за всех нас думает! — горячо ответила Клава. — Уходи, Богдашка, не люб ты мне! — она вскочила с места и потянулась с тоской. — Эх, горе-горюшко, и приворожить нечем. Никакие травы, ни самые золотые слова не доходят до сердца.
— Оттого, может, и мил, что о другой забота…
— Опять врешь! — со злобой перебила Клава. — Нет у него другой… и никакой! За это и люблю. И ничего ему не надо: ни любви, ни богатств! Ин, впомни, на Дону из своей добычи одаривал всех…
— Вишь ты, — усмехнулся Брязга, — сладкий пряник какой. И Василиса к нему тянется…
В руках казачки хрустнула сухая веточка.
— Марево это… — глухо промолвила она. Помолчала и со сдержанной силой заговорила: — Не отдам его. Зарежу! И чего пристал ты, зачем мучаешь? Не трожь меня, казак! Тронешь, братцу Иванке скажу…
— Говори, всему свету говори, моя ясынка, что ты мне краше света, милее звезд, — страстно зашептал казак. — Чую, все уйдет, а я при тебе останусь.
— Не нужен ты мне… Одна я останусь, или Волга примет меня, если не по-моему будет, — твердо сказала казачка. — Прощай, Богдашка! — Она повернулась и решительно пошла прочь.
— Эх, горяча и упряма девка! — сокрушенно вздохнул Брязга. — Вся в брата Иванку Кольцо!
Он постоял-постоял на лесной тропке, прислушался, как удалялись шаги, и, опустив голову, тяжелой походкой пошел к сельцу.
На высоком дубе, что шумит на Молодецком кургане, на самой верхушке, среди разлапистых ветвей, сидел Дударек и зорко вглядывался в речной простор. Сверкая на солнце, Волга стремниной огибала Жигули и уходила на полдень, в синие дали. Берега обрывами падали в глубокие воды. По овражинам ютились убогие рыбацкие деревушки. Далеко-далеко в заволжских степях вились струйки сизого дыма — кочевники нагуливали табуны. Мила казаку Волга-река, но милее всего его сердцу добрый конь. И мечтал Дударек о лихом выносливом скакуне. Напасть бы на кочевников и отобрать сивку-бурку, вещую каурку. Вскочить бесом ей на спину, взмахнуть булатной сабелькой и взвиться над степью!
«Эх, нельзя то! — огорченно вздохнул казак. — Батькой зарок дан — не трогать кочевников!»
Дударек нехотя отвернулся от ордынской сторонушки и глянул вниз по реке. Там, вдали, на Волге возникло пятнышко. Наметанный глаз дозорного угадал: «Купец плывет! Ух, и будет ныне потеха!».
Он терпеливо выждал, когда в сиреневом мареве очертились контуры большого груженого судна. Медленно-медленно двигалось оно с астраханского низовья.
— Смел купчина, один плывет! — подумал Дударек, вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Казак, дремавший под дубом, очумело открыл глаза.
— Чего засвистал, Соловей-разбойник? Что углядел? — с хрипотцой спросил он.
— Вижу, — крикнул Дударек. — Вижу!
— Да что видишь, сказывай, башка?
— Купец с Кизилбашской державы идет. На мачте икона блистает. Никола угодник, чего доброго, за лоцмана. Эх-ма, сарынь на кичку! — крикнул Дударек и быстро спустился с дуба. На бегу к стану дозорщики кричали:
— Плывет, браты. Эй, плывет!..
Сразу забегали, засуетились повольники. Богдашка Брязга с багром бежал к стругам. За ним устремилась его ватажка. Ермак, широкогрудый, в голубой рубашке, с непокрытой головой, неторопливо шел к берегу. Ветер трепал его густые курчавые волосы. Рядом с Ермаком вышагивал Иван Кольцо.
Завидев брата к нему бросилась Клава:
— Братику, возьмите с собой!
Ермак строго взглянул на озорное лицо станичницы:
— Девке с казаком не по пути! Вертай назад!
Клава обожгла взглядом атамана и схватила брата за руку:
— Упроси, Иванишка!
— Не можно, по донскому закону. Иди к Василисе, ухваты по вас соскучились.
Девка сердито изогнула темные брови, бросила с вызовом:
— Нелюдимы… Скопцы…
— Ах ты… — озлился Кольцо и сжал кулак. — Я те отхлещу!
Клава закусила губу, глаза ее дерзко вспыхнули.
— А ты и рад! — усмехнулась она в лицо Ермаку, увидя, что он улыбнулся. Атаман посуровел: — Казачья воля не терпит женской слабости. Вот и раскинь умом, синеглазая, — веско ответил он.
Шелестя кустами, атаманы ушли к стругам, а Клава все стояла и думала: «И чем я ему не по душе? Неужто и верно, Василиса околдовала его… И что только хорошего он нашел в этой веретенной бабе, в корове?» — казачка гневно сдвинула брови, и на густых ресницах ее заблестели слезы. Она стряхнула их, выпрямилась и пошла к стану.
Синий дым костров растаял, и в стане наступила глубокая тишина. Клава присела на камень и вгляделась в речную даль. На зеленом изгибе Волги показалось суденышко с распущенными парусами. Дул полуденный ветер, но его не хватало, чтобы осилить могучее течение. По берегу стайкой тащили бечеву бурлаки. Издалека, как тяжкий стон, доносилась их песня… Скорее угадать, чем услышать, можно было ее слова:
Ох, матушка-Волга,
Широка и долга!
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало,
О-ох!
Лицо Клавы затуманилось. Она обернулась и увидела, как на ертаульный челн проворно прыгнули братец Ивашка с пятью удальцами, оттолкнулись и быстро пошли в стремнину. За ними, пока держась у берега, таясь в зеленой тени, поплыли другие струги. На одном стоит Ермак, широко расставив ноги, настороженный и властный. Близко к атаману сидит Брязга. «Провора-казак, и мастер на сердечные слова, улестит любую. Нет, не он мне надобен! Такого подомну и будет под пяткой. Эх, Ерм-а-ак!» — с грустью вздохнула Клава. Тряхнула головой и, поднявшись с камня, побрела по стану. У шалаша Василиса в синем сарафане могучими руками чистила рыбу. Работала она споро, ладно, — из-под острого ножа так и сыпалась серебристыми блестками рыбья чешуя. Под работу тихо напевала:
Я нарву цветов, совью венок
Милу другу на головушку…
Носи, милый, да не спрашивай,
Люби меня, да не сказывай…
— Это кому же ты венок плетешь, корова? — посмотрев на Василису, насмешливо спросила Клава.
— А хошь бы и ему! — подбоченясь в крутые бедра, с вызовом ответила повольница. — Стоющий! Силен, кучеряв, такой в сладости кости сломит. Ах, милая!
Глаза девки потемнели, она сжала кулаки и, надвигаясь на соперницу, прошептала:
— Что говоришь, сатана старая…
— Я-то старая! — загораясь гневом, закричала Василиса, отбросила рыбу и выпрямилась: — Эко, глянь, что я за ягода-малина!
Темноглазая, тугая, она и впрямь выглядела в самой поре. Засмеялась так, что ослепительно блеснули ее белые, чистые зубы; бойко повернулась вправо и влево перед казачкой.
— Гляди, вон какая я пышная! Зачем ему худерьба, башенка астраханская? Любуйся! — Василиса притопнула ногой в козловом башмаке и звонко шлепнула себя ладонью.
Едкий занозистый смех соперницы перевернул сердце Клавы. В траве, у колодца, валялся тяжелый старинный топор-дроворуб, переделанный из стрелецкой секиры. Казачка рванулась к нему…
— Зарублю!..
Василиса схватила острый нож, повела злыми глазами:
— Не посмеешь. Зарежу…
Напряженно разглядывая друг друга, с минуту стояли соперницы, полные неукротимой злобы, жгучей ревности, сторожа каждое движение друг друга. Обе — стройная, розовая казачка и кареглазая, налитая силой и здоровьем повольница — были одинаково страшны.
Первой очнулась Клава. Усмехнулась криво, уронила топор и медленно пошла прочь. Облегченно вздохнув, опустила нож и Василиса.
Волга текла навстречу, могучая, веселая, играя на солнце серебристой чешуей. Вправо тянулись длинные песчаные отмели. Нижегородский купец Яндрей — толстомордый жох, провора — сидел на скамье у мурьи и поглядывал то на парус, то на бурлацкую ватагу. Глаза Яндрея — сытые, довольные — щурились от речного блеска.
Влево береговой осыпи, по раскаленному галечнику, согнувшись в три погибели и навалившись на лямочные хомуты, бурлаки тянули бечеву. Ветер стих, паруса обессиленными болтались на реях. Купец покрикивал на бурлаков:
— Эй ты, лягва болотная, шевелись бодрей!
Вел ватагу гусак, он и песню заводил:
Вы, ребята, не робейте,
Свою силу не жалейте!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет!..
Глядя на хлопотунов, купец Яндрей самодовольно думал: «Дика земля, дикий народ, — на том жить можно. Исстари боярин да купец крепко стоят за мужицкими горбами!»
— Эй, Ермошка, жбан квасу! — крикнул он тощему унылому приказчику. Тот угодливо сбегал в камору, притащил квасу. Яндрей жадно припал к жбану. Утолив жажду, погладил живот, крякнул: «Хорошо!..»
И все ему в этот жаркий солнечный день казалось приятным. Был он здоров, силен и удачлив: ловко обменял в Кызылбашской земле пеньку, мед, меха соболиные на узорье цветное, на шелка, ковры и платки расписные, мягкие, теплые, связанные из легчайшего козлиного пуха. Верилось Яндрею в свое счастье, так и подмывало его пуститься в пляс, да жара стоит. Он щелкнул пальцами, весело взглянул на Ермошку…
А тот словно застыл на месте, лицо с редкой молчаливой бороденькой вытянулось, стало тревожным:
— Ох, господи, Молодецкий курган близится. Пронесите, святые угодники!
— Да ты что струсил? — выхваляясь своей смелостью, выкрикнул купец. — Кличь ружейников, ставь еще парус, да эй вы, дружней, робята! Ведро хмельного, торопись!
Гусак заорал ватаге:
— Слышали… Разом, эх да… — и снова завел на все тихое раздолье:
Эх ты, тетенька Настасья,
Раскачай-ка мне на счастье…
У-у, дубинушка, ухнем!
У-у, зеленая, сама пойдет!..
— Ходу! — горласто приказал купец и вдруг оторопел.
— Куда, батюшка, торопиться? — загалдели бурлаки. — Глянь-ка, станица спешит!
Гусак сбросил лямку и устало опустился на песок, за ним бросили бечеву ватажники. Яндрей подбежал к борту судна и загрозил кулаками:
— Галахи, что расселись! Шкуру спущу!.. Торопись, проскочим!
— Поздно, батюшка, — смущенно отозвался приказчик. — Становись на колени да молись Господу, может солнышко в последний раз видим…
— Да ты сдурел? Может то и не станица, а рыбаки на тоню выплыли, — запротестовал купец.
Ружейник, стоявший у борта, хмуро отозвался:
— Какие рыбаки? Не пора им. Нешто не примечаешь, хозяин, как упористо гребут. Рыбаки неторопко, покладисто идут — на весла не ложатся. Казаки спешат!
— Братики, за пищали! — завопил купец. Он смахнул шапку и закрестился часто. — Свят, свят, обереги нас, Миколка угодник. Коли уберегешь, пуд воску на свечу в обитель сдам! — он подошел к пищальникам и стал пытливо вглядываться в их отчужденные, хмурые лица. «Продадут, как Бог свят, продадут», — с опаской подумал Яндрей и позвал приказчика:
— Ермошка, кати сюда бочонок хмельного. Пей, братцы, жалую. Ничего не жалко, только обороните!
— Ты, хозяин, не лебези! — строго остановил его старшой охраны. — Вином не купишь, а биться с повольниками по уговору будем…
Яндрей со страхом взглянул вперед. Из-за солнечного плеса выбежал ертаульный струг в шесть весел. Шел он ходко в самой стремнине, а из тальника, подле речного устьица, утиной стайкой вынырнули струги. Сидели они низко в воде, и только сверкающие брызги алмазной россыпью разлетались с быстро взмахиваемых весел.
На переднем струге, под парусом, стоит кудрявый детина с густой смоляной бородой. Он протягивает в направлении купецкого судна руку и что-то кричит. Легкий речной ветер доносит глухой рев голосов и свист. Струги полным-полны ватажниками. У Яндрея на лбу выступил холодный, липкий пот.
— Братцы не выдавай! Ермошка, топор мне! — а сам кинулся в мурью. В ней образ Николы мирликийского, перед ним лампадка теплится. Купец бухнулся на колени и стал со слезой просить:
— Сбереги, святитель, добро мое! Ей-ей, не забуду. Во Нижнем Новгороде молебен отстою. Ей-ей, нищую братию семишниками одарю…
Рядом зашумела вода, раздались буйные окрики:
— Эй, бурмакан-аркан, кидай пищали, а то в Волгу пометаем!..
Яндрей зажмурил глаза: вот когда беда подкатилась к порогу. По палубе затопали тяжелые шаги: разбегалась охрана. Приказчик пронзительно завыл:
— Сгибли, ой, сгибли, братушки…
Словно кнутом хлестнул купца выкрик:
— Сарынь на кичку!
Яндрей схватил топор и выбежал наверх. Из стругов уже лезли станичники. Багры крепко вгрызлись в борта. Высокий казак с кистенем подбежал проворно к вопящему приказчику и хлестнул его в темя. И не пикнул Ермошка, — вытянулся насмерть. А казак кричал:
— Батько, одного угомонил!
Ермак перебрался через борт, и вот он, как чугунный, крепко расставив ноги, стоит перед пищальниками:
— Ну, что удумали? За купца биться станете или жизни надо? — озорная усмешка блеснула в курчавой бороде.
Старшой пищальник ответил за всю охрану:
— Жизни нам!
— Коли так, складывай пищали да сходи на берег!
— Разбойники! — завопил купец. — На трудовое позарились! Не дам, непущу! — А мы и спрашивать не станем! — с насмешкой сказал ему Ивашка Кольцо и перехватил топор. — Братцы, кунай его в воду!
Повольники скрутили купцу руки и подвели к Ермаку. Атаман нахмурился, неприязненно глянул на Яндрея.
— Чего вопил?
У купца перехватило дыхание: по глазам Ермака угадал он свою судьбу и сразу опустился на колени.
— Батюшка, половину добра бери, а другую мне оставь, — взмолился Яндрей. Ермак усмехнулся: — Жигули, купец, еще не минул. Там вторую половину возьмут. От хлопот тебя избавим…
— Душегубы! — рванулся купец и бросился на Ермака. Могучий кулак опустился на голову Яндрея.
— Кончай, да грузи тюки! — крикнул повольникам атаман.
Купца схватили и, раскачав барахтающееся цепкое тело, бросили в самую крутоверть.
— Помяни, господи, его душу! — крикнул в догонку Богдашка Брязга и побежал к трюму. Сорвали замок и стали вытаскивать товары и грузить на ладьи.
Бурлаки сидели на сыром песке и, понурив головы, ждали своей участи. — А с нами как, атаман? — спросил Ермака гусак ватаги.
— Выдать им бочку меду, да куль муки, да на рубахи, и пусть уходят подале от беды! — распорядился Ермак и стал поторапливать казаков…
Опустились сумерки. На реке опустело. У берега запылал костер, бурлаки черпаком по кругу распивали мед и поминали купца:
— Скареда был…
— Каждый кус в счет клал.
— Ни отвального, ни отчального, одна брань.
— Ни лаптей, ни щей…
Гусак тяжело вздохнул и обронил:
— Солона ты, жизнь бурлацкая. Выпало счастье, гуляй орава!
Волга покрылась мраком, в котором слышался плеск волн. Шумели темные леса. Бурлаки захмелели и завели веселую:
Ночуй, ночуй, Дунюшка,
Ах, да ночуй, любушка.
Ты ночуешь у меня,
Подарю, дружок, сережки я…
А в эту пору повольники вернулись в стан. Ермак поднялся на крутоярье и вдалеке во тьме увидел пламя: горело подожженное купецкое судно, удалявшееся в низовье…
Василисе снился сладкий сон. Вывезли из набега повольники богатств видимо-невидимо. Ермак сам надел ей на шею жемчужное ожерелье и сказал: «Носи на счастье, радость моя!»
Проснулась и сладко потянулась: в большом крепком теле все ликовало. Вышла из шалаша, предрассветный ветерок рябил волжскую воду, соловушки допевали свои песни, а неугомонные коростели поскрипывали в густых травах. Облака засветились нежным сиянием: за Волгой, на дальнем степном окоеме, блеснула кромочка восходящего солнца. Василиса поднялась на камень, и перед ней как на ладони раскрылась заречная равнина. Серебром сверкал росистый ковыль, и по глухой степной траве уходил все дальше караван верблюдов с покачивающимися на их горбах азиатами. Со своими необозримыми стадами кочевники перебирались на новые места.
Казачьи струги стояли на причалах, за густыми зарослями ракитника, и тут же на лужайке дымился костер, а подле него повольники дуванили добычу. Рядом с огнем сидел Ермак, освещенный восходом, и в утренней тиши до Василисы порою доносился его голос. Повольницу умилили и восход, и Волга, а больше всего густой голос человека, к которому тянулось ее сердце.
— Господи, Господи, как радостно жить…
Она соскочила с камня и упругой походкой поспешила к кринице умываться. Прошло немного времени, и в становище запылали костры, забурлила-закипела вода в чугунах, в которых варилась наваристая стерлядь.
Скоро казаки уселись у больших котлов и принялись жадно хлебать стерляжью уху. Насыщались и хвалили Василису. А она краснела, замирала и подкладывала Ермаку лучшие куски.
Атаман был всем доволен, весело поглядывая на казаков и ладную хозяйку. Не скрывал он, что Василиса нравилась ему, — и лицом, и добрым нравом, и умением хозяйничать.
Яков взглянул на атамана и с хитрецой спросил:
— Для кого же ты выдуванил свой жар-цвет?
Атаман улыбнылся, встал и, развернув холст, вынул оттуда платок. Он распахнул его, и под солнцем вспыхнуло жар-пламя. Оно трепетало, переливалось яркими нежными цветами и тешило глаз.
— Василиса, поди сюда! — поманил повольницу Ермак, и когда она, замирая от сладкого предчувствия, робко подошла, накинул ей на плечи дивный платок:
— Носи на радость всем нам, краса-хозяюшка!
Баба обомлела, прижала к груди дарунок.
— Ахти, радость!
Глаза ее залучились, и в них светилось столько счастья и преданной любви, что брат с удивлением спросил:
— Ты что так, ровно красна девица?
Ермак ласково и чуть с усмешкой следил за Василисой.
Рдея от нахлынувших чувств, повольница все еще стояла и прижимала платок, когда распахнулся полог и из шалаша вышла заспанная Клава. Казачка слышала все от слова до слова, и жгучая ревность жгла ее огнем. Бесстыдно вихляя бедрами, прошла она к огнищу и, через силу улыбаясь, проговорила:
— Ну и станичники, от старой бабы разомлели!
Любовное пламя в глазах Василисы мгновенно сменились гневом. Она готова была вцепится в косы соперницы, но, встретив предупреждающий взгляд Якова, круто повернулась и ушла…
Весь день гуляли-бражничали казаки, распевали раздольные песни, плясали. Богдашка Брязга, выстукивая частую дробь каблуками, ухарски приговаривал:
Никому так не досталось,
Как мне, грешной сироте:
Съела рыбушку сухую —
Защемило в животе…
Выхаживая по кругу, он подмигивал Клаве, а та, словно ей было очень весело, смеялась и дразнила казака, то принимая вызвывающие позы, то призывно щуря глаза. Потом она, гневно взглянув на Ермака, повела Богдашку к обрыву и здесь, хотя сердце ее щемила тоска, шепнула ему:
— Терпи, казак, атаманом будешь…
В полночь все небо над Волгой застлало тучами, начал накрапывать дождик и погромыхивать гром. От особенно сильного удара Ермак проснулся и сейчас же услышал два спорящих голоса за пологом шатра. Атаман прислушался: узнав голос казака Дударька и Василисы.
— Пусти! — настойчиво просила Василиса. — Мне только слово сказать…
— Убьет и меня, и тебя. Уходи, пока не бита! — пригрозил казак.
— Уймись, шалый. Непременно наградит, — уговаривала баба.
— Будет ливень, торопись, чернявая, — не сдавался Дударек.
— Милый мой, да куда ж я укроюсь в такую пору? — жалобно простонала женщина, и не успел казак ухватить ее за руку, как она скользнула в шатер.
— Ну и бес-баба, свяжись только с такой! — с досадой проговорил Дударек. — Ну, да ладно, пусть сами теперь во всем разбираются…
Всю ночь над Волгой и крутыми ярами бушевала гроза; только к утру утих ливень и, как ни в чем не бывало, взошло ликующее солнце. Под его лучами задымилась мокрая земля и засверкали дождевые капли на деревьях, кустах и травах. Проснулись птицы, и чистый свежий воздух огласился пением и свистом. В эту пору Иванко Кольцо отправился к кринице умываться и вдруг услышал негромкий женский плач. Иванко прислушался. Всхлипывала баба, горько-страстно жалуясь на свою судьбу. Кольцо осторожно пошел вперед. Под развесистой березой, на влажном мшистом пне сидела Василиса. По тугим смуглым щекам ее катились слезы.
— Ты что? — спросил Иванко. — Кто обидел?
Повольница сквозь слезы пожаловалась:
— Бат-ть-ко…
— Ишь, ты! — усмехнулся казак. — По виду строг и будто посхимился, а сам в темную ночь добрался-таки до медовой колоды…
Василиса вспыхнула:
— Не мели, Емеля! Постыдись…
— Да я же правду?
— Все вы так, словно борзые кобели, а батько иной… Ох, горько! Оттого и плачу, что прогнал… И не дотронулся…
Иванко смахнул шапку и захохотал:
— Воды-то, воды сколько ноне! Потопнешь… Ух, и нашла о чем плакать! Свято место впусте не бывает. Милая, — прошептал он. — Затосковалась, а? — Он протянул к женщине руки.
— Уйди! — озлилась Василиса. — Не твоя я, не гулящая баба!
Она с силой оттолкнула Кольцо:
— Поищи другую красу-забаву, не по твоим я зубам, ласун…
Сбивая сверкающую росу, она заспешила к стану. Ошеломленный Иванко один остался в лесу. «Ну и батько, — думал он, — пришил к себе бабу. И что за петушиное слово у него, от которого все женки так ластятся?»
Налетевший порыв ветра перебрал листву и сбросил на казака обильную капель, промочив его да последней нитки. Казак поежился и сокрушенно вздохнул.
Дударек рассказал Клаве что было и чего не было. Загорелось сердце у девки! Не дослушав казака, убежала в овраг и здесь, корчась от ярости, без конца повторяла:
— Убью, убью змею…
До захода она бродила в лесу, думая, что сделать. К вечеру выходилась и вернулась в стан тихая, ласковая, и прямо пошла к Василисе. Повольница удивилась и приготовилась к отпору.
— Вот и я… сама к тебе пришла, — кротко заговорила Клава. — Уж и не знаю, простишь ли, а больше не могу… совесть заела…
— Ты об чем это? — спросила Василиса.
— Да все о том же… обижала я тебя… А зачем? Что нам делить? Так… затмило голову и больше ничего… Никого-то мне не надо и никто-то меня не любит… А ты другое… Ты души в нем не чаешь… и он тебя любит… Вот и живите. А со мной дружи! Рада я за вас… Всем сердцем теперь буду…
Василиса обмякла, просветлела. На простодушном лице ее показались слезы.
— Ой, спасибо, ясочка! — растроганно отвечала она. — Добрая я, не люблю свары. И уж вот как подружим! — Она обняла казачку и сейчас же захлопотала угостить ее.
— Милая, ничего не надо! — ответила Клава, — а вот бы рыбки нам наловить, да чтобы ты атамана угостила. Стерляди я сколько сегодня видела… страсть!
Василисе не раз за свою жизнь приходилось ловить рыбу, к тому же хотелось скорее скрепить дружбу с казачкой, и поэтому, не долго думая, она согласилась с предложением Клавы на ловлю стерляди.
В этот вечер женщины долго пробыли вместе, болтая о стане и о своей жизни.
На другой день, чуть свет, Клава уже будила Василису:
— Вставай, вставай, подруга, не то запоздаем!
Волга в утренний час казалась особенно широкой и покойной. От плавного ее течения веяло миром и тишиной. Ближний берег ее, весь заросший дубовым лесом, еще дремал, но уже доносились от него чистые голоса рано проснувшихся птиц. Небо на востоке алело, и вот-вот должно было выглянуть солнце.
— Господи, какая лепость! — радостно вздохнула Василиса и взглянула на Клаву. Глаза казачки были странно неподвижны. Она, казалось, настолько сосредоточилась на одной своей какой-то мысли, что ничего не видела — ни Волги, ни берега, от которого лодка отплыла уже далеко, ни своей напарницы. Брови ее были сведены к переносью, а губы злобно кривились.
Василиса вздрогнула и, забыв про все на свете, со страхом уставилась в лицо казачки.
— Хватит! — вдруг отрывисто сказала Клава и с шумом бросила весла в лодку.
— Что ты? — тихонько вскрикнула повольница.
— Приплыли! — Казачка в первый раз за всю дорогу подняла глаза и откровенно глянула на Василису. Та вгляделась в эти глаза и затряслась в ознобе.
Подхваченная быстрым течением, лодка уносилась вниз.
— Греби! — не помня себя, проговорила Василиса. — Намет на стерлядь буду кидать!
Казачка подалась вперед и хрипло выдавила:
— Молись, баба, убью тебя!
— Что ты! Что ты! Одумайся, Христос с тобой! — заслонилась рукой повольница от страшных глаз соперницы, охваченных безумием.
— Не будет он твой! Поняла? — Клава схватила весло и замахнулась.
Василиса поймала ее руку:
— Господь с тобой, девчонка, нешто так можно?..
— Убью…
— Ратуй-те! Братики, — закричала Василиса, но голос ее оказался слабым — спазмы перехватили горло. Клава наотмашь ударила ее в грудь. Тяжелым телом Василиса навалилась на борт и опрокинула лодку. Задыхаясь, барахтаясь, она тянулась ухватиться за казачку, но девка легко отплыла в сторону и озорно закричала:
— Айда, плыви, бабонька, за мной!
Василиса ушла под воду, нырнула раз-два, прокричала в муке: «Гиб-ну, бра-ти-ки!», и больше не появлялась.
Клава выплыла на берег. Она спокойно разделась, выкрутила мокрое белье, отжала волосы и, одевшись снова, не спеша направилась в стан. На душе у Клавы был мир и тишина, как у человека, совершившего неприятное, но нужное дело. «Ну, девка, ноне мы одни с ним! Заарканю казака…» — покойно думала она.
Прошла она немного… Внезапно кусты распахнулись и на тропинку вышли два казака. Старший из них — бородатый, с серьгой в ухе — схватил Клаву за руку:
— А ну, душегубка, айда с нами в стан!
Клава рванулась, закричала:
— Пусти, охальник!.. Брату Иванке расскажу…
— Молчи, проклятая, пока кровь наша не взыграла! — оборвала бородатый. — По донскому закону будешь держать ответ.
Второй казак — молодой простодушный парень — смотрел на девку изумленно, раскрывши рот.
Клава поняла, что станичники видели все, затихла, смирилась…
С быстротой молнии стан облетела весть о беде на Волге. Клаву привязали к столбу, врытому в землю, и ударили в набат. Из всех землянок, со всех сторон к столбу потянулись люди. Одни смотрели на убийцу и молча отходили прочь, другие вслух соображали, что будет с девкой.
До полудня простояла Клава под палящим солнцем. Голову она уронила на грудь — от усталости, да и стыдно было смотреть на знакомых. Не подняла она ее и тогда, когда приблизился Брязга. Казак долго, с перекошенным от жалости и любви лицом, простоял возле девушки. Ничего не сказал и медленно, как от усопшей, побрел в свою землянку.
В полдень сошлись казаки, показался и батька с атаманами. Клава пересилила себя и, вскинув голову, посмотрела на Ермака. «Казнит иль нет?» — спрашивал ее взгляд и, не получив ответа, перебежал на Якова Михайлова. Здоровенный казак вдруг обмяк, еле передвигал ноги. В глазах его читалось большое горе.
«Этот не простит», — решила Клава, но странно, ей вдруг стало жалка казака, хотелось упасть ему в ноги и молить о прощении.
За плечом батьки она увидела Иванко, бледного и мрачного. Он не поднимал глаз на сестру.
Ермак вошел в круг и поднял руку. На майдане все стихло.
— Отвечай, девка, ты сгубила Василису? — громко спросил атаман Клаву.
— Повинна я, — искренно ответила казачка.
— Пошто ты сробила так? — снова спросил атаман.
— Из ревности. Ополоумела от обиды, — тихо обронила Клава и опустила глаза. — И сама не знаю, как это случилось…
— В куль ее да в воду, распутницу! — закричал Дударек.
Казачка вскинула голову, глаза ее блеснули:
— Врешь, Дударек, не распутница я! — громко ответила она. — Казните меня по закону, а гулящей я не была!
— Повольники! — обратился Ермак к казакам. — Как судить будем?
На круг вышел Иванко и поклонился товарищам:
— По донскому закону. Как сказал Дударек, тому и быть!
— Иванушко, братец! — вскричала Клава. — Покаялась я… прости для Бога! Кольцо отбросил со лба чуб и с угрюмой решимостью сказал: «За погубленую душу!» Казаки загалдели, каждый свое. — В Волгу пометать! — Каменьем побить! — Степным конякой истоптать! Ермак сумрачно молчал. Широко раскрытыми глазами Клава смотрела на атамана. Она не ждала пощады, но так хотелось жить… Под грозными выкриками она вздрагивала каждый раз, словно от ударов кнутом.
— Что молчишь, батько? — спросил побледневший Иванко Кольцо.
Ермак встрепенулся, словно сбросил огромнул тяжесть.
— Браты, казаки, — заговорил он, — не к лицу нам с девками рядиться! Напрасно кровь пролила, горячая головушка! Не мы ей судьи. Пусть уйдет она от нас. Не место ей среди повольников. Это верно, что у нас самих руки в крови. Но бьемся мы в честном бою. Правого и несчастных не трогаем…
На майдане было так тихо, что каждый слышал, как дышал сосед. И вдруг лопнула эта тишина.
— Любо, батько! Ой, любо говорит! Пускай уйдет… — зашумели казаки. — Уйди от нас, убийца, — не браты мы тебе! Отпустить ее! — властно приказал атаман и, протянув руку, закончил: — Вот дорожка и уходи по ней!
Клаву развязали. Толпа повольников расступилась, и она, шатаясь, пошла мимо гневных и жестоких глаз.
— Братец Иванушка, где ты, дай простимся, — вдруг взмолилась она, пройдя немного.
Иван не отозвался. Потрясенный всем случившимся, он один не смотрел на уходившую сестру и впал в забытье. Потом очнулся, подошел к Ермаку и крепко пожал ему руку:
— Во веки веков не забуду…
Атаман ничего не ответил.
А Клава, с душой, наполненной тоской, уже выходила из становища и поднималась на холмик, с которого тропинка убегала вдаль. Ветер шевелил ее пестрое платье, играл растрепанными волосами. До самой последней минуты, пока она не скрылась, все в стане смотрели ей вслед. Еще минута, другая, и она исчезла в жарком полдневном мареве.
2
Есть на Волге уголок, где на правобережье поднимаются ввысь беспрерывной грядой утесы — Жигулевские горы. Они перегораживают грозной стеной могучую реку и, чтобы вырваться на простор, Волга крутой петлей обегает их и снова быстрой стремниной торопится на полдень.
Жигули!
С давних-предавних времен русский народ поет о них, рассказывает сказки и легенды. Место дикое, глухое, — есть где укрыться беглому человеку. До самых небес поднимаются крутые вершины, поросшие дремучим лесом. Не видать в них человеческого жилья, не слыхать и людской речи. На девяносто верст шумит и ропщет зеленое море ельника, сосны и дубняка. В скалах Волга вырыла пещеры, леса пересекают глубокие дикие буераки, а поперек всей луки течет на север малая, но шустрая речка Уса. Своим истоком она подходит на юге почти к самой Волге.
В том месте укромном и диком, — небольшие деревушки, а окрест, по глухоманьям, становища жигулевской вольницы.
Шли-брели сюда обиженные, обездоленные, неспокойные шатай-головушки со всей Руси. Каждую весну, когда обсыхали дороги и тропы, а земля становилась теплой и одевалась в кудрявую зелень, пробиралась на Волгу бродячая Русь. Брели лесами, укрываясь в болотах и глухих местах, тащились на простор разутые, оборваные; пробирались бурлаками под лямкой, терзая плечи и надсаживая грудь, по бечевникам Оки, Камы и Волги.
Бегли сюда холопы, колодники, плыли казаки — донские и днепровские. Скрывались сюда монахи-расстриги, провинные попы и всякого звания люди, которые ушли от приказных ярыжек и острожной цепи. Но больше всего собиралось здесь удалых буйных головушек. И никто у них не спрашивал, кто они и откуда, какой веры, и что за грехи пригнали сюда.
— Все будет забыто и смыто светлой волжской водицей, — сказывали жигулевские повольники. — Не смоет водица, кистенем отмолишь!
Оттого Жигули — опасное и тревожное место для торговых караванов. На вершинах утесов и стерегут казацкие дозорные, не плывут ли струги?
— Гей-гуляй, Волга! — обрадовались казаки, когда Ермак позвал их в Жигулевские горы. И были у атамана свои тайные думки: место крепкое, надежное, и вольницы хоть отбавляй, — можно пополнить свою силу да и взять крепко в руки весь водный путь.
Плыли вверх под упругими парусами. Низовой ветер поднимал волну, торопил струги. Казаки проворно и дружно гребли веслами, а мимо плыли степные места, на правобережье — курганы, и о каждом народ хранил свое заветное.
Дед Власий примостился на скамье, перебрал струны. Гусли издали певучий напев. Старик прислушался, поднял голову и заговорил ласково:
— Поглядите, сынки, за меня на свет ясный, на заречные дали, на бегущие облака, а я только в юности все зрел, да в народе обо всем наслушался.
Ермак улыбнулся и попросил:
— Ты, дедка, спой нам про Жигули да могутную русскую силу, которую ни каленым железом, ни хитростью не сломишь!
— А что спеть, — и не знаю: много песен о Жигулях поют, много сказов сказывают. А коли про могутную силу речь идет, раскажу, сынки, вам про двенадцать удалых сестер…
Старик откашлялся, огладил бороду, прислушался к плеску волжской волны. — Крута и сильна наша Волга, да русский человек сильнее, одолеет он Волгу. Так слухайте, казаки, слухайте, вольные люди…
Певучим голосом, медленно слепец повел свой сказ, время от времени трогая струны. Гусли ожили и, вместе со старым, заговорили о том, что было давным-давно…
— В Жигулях-горах, при устье Усы, в стародавнее времечко высился могучий дуб. И грозы, и молнии не сломили его. Корни толстыми змеями ушли в землю, а под ними — подземелье дивное таилось. И жили в нем двенадцать сестер удалых — краше светлого месяца. На Русь через Волгу-реку, как и ныне, татары и ногайцы ордой шли и зорили край. Навстречу им на крутые жигулевские яры выходили двенадцать удалых сестер и били татарву неверную. Ой, как били! Двенадцать годочков они оберегали Русь и не было им витязя под силу, и не было им добра молодца на утеху…
— А ты не врешь, старик, — подбоченясь спросил гусляра Иванко Кольцо. — Такой, как я, молодец, одолел бы и утешил сестриц!
— И-и, милый! — добродушно отозвался слепец. — Чую хорош и красив ты собой, да не тот. Ты послушай-ко, не в обиду тебе будь сказано, похлеще тебя удальцы в Жигули приходили, да всех их красы-девицы великой силой своей валили оземь, как колос в поле. И вот дождались. Единожды пришел к ним, к дремучему дубу, калика перехожий из святорусской земли. Ростом был он мал, бородой курчавой сед, а ногами крив. Засмеяли его удалые девки и гнали прочь: «Иди, иди, странничек, не тебе с нами тягаться!» — «А ну-ка, милые, пусть хоть младшенькая из вас потягается со мной», — не отставал калика перехожий.
Ладно. Чтобы спровадить прилипчивого мужичка, согласились сестры. Вышла младшенькая, как росинка свежая, ровно яблонькин цвет румяная, как ядрышко крепкая. Схватилась со стариком, да опомниться не успела, как он бережно положил ее на шелковую мураву. И тогда вышла вторая сестра, и ее калика перехожий осилил. Так всех до единой и поборол старик.
— Ишь ты, старичок — божий бычок. Не верю такому диву, дедко! — усмехнулся Кольцо.
— А ты верь не верь, а что сказывается в народе, то и свято, — ответил гусляр. — Золотое словечко народом не зря говорится, не по-пустому сеется…
— Это ты верно, гусляр, поведал, — ободрил старика Ермак. — Под каждой байкой захоронен добрый разум. Рассказывай дале, батюшка…
— А вот и дале мой сказ. Не то диво-дивное, что всех двенадцать сестер поборол калика перехожий, а то, что после свершилось… Солнышко упало за горы, и пригласили сестрицы гостя в свое подземелье. И вот, сынки, вошли двенадцать удалых сестер туда девками, а на утро все до одной вышли бабами. «Гой еси ты, калика перехожий, много ли у вас на Руси богатырей таких?» — спросили дорогого гостя сестры. Старик смиренно поклонился им и ответил: «Что я за богатырь, сами видите, милые: и сед, и мал, и ногами крив. Самый я последний из последних на русской земле, самый немощный из придорожных старцев». Возрадовались сестры: сильна и крепка Русь, могучий у нее корень, никому — ни злому татарину, ни другому лютому врагу не выкорчевать его отныне и до века. Золотое семечко посеяно, и колос будет тугой и тучный!
Слепец тронул струны и запел протяжно:
Эх, да дороженька тырновая-я,
Эх, да с Волги-реки…
— Молодец, старик, добрую поведал байку… — похвалили старика казаки. Ветер хлестал парусами, подгонял струги. Гремели уключины — казаки упружисто гребли. Уходили назад низовые приволья, степи, камыши и тальники, и вдали темной грядой уже смутно маячили Жигулевские горы. Повольники обогнули их и свернули в устье Усы.
Неприветливо встретила казаков лесная трущоба. Откуда ни возьмись, на берег вышли горластые, задиристые детины:
— Эй, кто такие? Откуда принесло? — В руках у лесовиков дубины из корневищ, пищали за поясом. — Давай поворачивай назад, зипунщики! — кричали они и угрожающе трясли дубинами.
Прежде чем Ермак успел что-либо ответить, с одного из казацких стругов раздался насмешливый голос:
— Братцы, глядико-сь, это же кикиморы лесные!
— Сами вы кикиморы! — на замедлил с ответом огромный белесый детина с большой круглой головой. — А ну-ка, хлопцы, скличь наших, мы этих пришлых в дубье возьмем.
Казаки загорячились и начали выхватывать сабли. Орава лесовиков сгрудилась на берегу и тоже рвалась в бой. Особенно кипятился маленький, похожий на ярыжку, человечишка. Он юлил в толпе и выкрикивал:
— Бей их, браты, гони их прочь!
Назревала злая схватка.
Но ссориться с лесовиками не входило в расчеты Ермака. Надо было немедленно вмешаться. Атаман поднялся во весь рост и, тяжелый, властный, одним грозным окриком угомонил станичников. Затем он, помолчав, обернулся к людям на берегу и уже по-другому, весело и с лаской выкрикнул:
— Здорово, браты! А скажите, чьей вы ватаги, удальцы?
— Мы атаманские! — выпятив грудь, важно ответил белесый детина. — По всей Волге гремит Федька Молчун!
Много на волге промышляло ватаг, но Ермак ничего не слыхал о Молчуне, однако же и виду не подал об этом.
— Добрый ухарь Федька Молчун! — уважительно сказал он. — Слух по Волге катится. Да и вы — один к другому молодцы.
Повольникам на берегу похвала атамана пришлась по душе, они замахали шапками.
— Что же, греби выше и ставь стан! — заговорили они. — Мы разве что…
— И за это спасибо, браты, — про себя усмехнувшись ответил Ермак. Казаки, не мало удивляясь, что атаман их такой мирный, дружно ударили в весла и темной струей Усы поплыли вверх по реке среди дремучих чащоб, подступивших к речке. Вековые сосны тянулись к облакам. Торжественная тишина наполняла глухомань. Поворот, и перед станицей внезапно распахнулась светлая, веселая елань.
— Тут и быть стану! — сказал Ермак и повелел пристать к берегу.
Разом оживились дебри, задымились костры, и казачий говор повис над Усой.
Через несколько дней, в которые Ермак, не теряя времени, старался сблизиться с Молчуном и его ватагой, в стан пришел тонконогий ярыжка и запросился к атаману. Казаки доставили его к Ермаку. Ярыжка полез за пазуху и вынул мятый лист.
— Это что за чудо-юдо? — удивился Ермак, разглядывая лист.
— То грамота от атамана Федора Молчуна тебе с повелением, — важно вымолвил ярыжка. — Как нам известно, ты хочешь быть с нами заодно, так вот, — наказано тебе идти к нему с дарами и поклоном, тогда и примет он вас под свою высокую руку!
Ермак потемнел, сжал кулаки, но сейчас же взял себя в руки и, сокрушаясь, ответил:
— Эх, жалость какая, в грамоте не силен я. Вот мои грамотеи разберут, что к чему, а я подумаю, как честь вашему батьке оказать!
— То-то же, — чванливо сказал стряпчий. — Да и прикажи своим людишкам накормить меня посытней, да медом попотчевать.
— Будет и это! — согласился Ермак.
Пока ярыжку угощали у костра, атаман обдумывал, как быть. С самим Молчуном договориться не удалось — с норовом и вздорный человек, но со многими его людьми казаки уже сдружились, и те не прочь были примкнуть к станице. «Что ж, не вышло подчинить ватагу миром, придется это сделать силой», — решил Ермак и подошел к костру.
— Ну как, уважили? — спросил он ярыгу. — А когда же к атаману вашему жаловать — сейчас или после?
— Хватился! — захихикал ярыжка. — Завтра! Ноне атаман Молчун купецкие струги встречает. В стане всего полусотня…
И впрямь, в горах и буераках уже гремело эхо — на Волге шла пальба.
Глаза Ермака блеснули.
— Поди из пушек твоего батьку купцы привечают? — усмехнулся он. И вдруг лицо его стало жестким. — А ну, хватит жрать в два горла, пузо по швам лопнет!
Ярыжка в изумлении раскрыл рот и подавился. Кость застряла в его горле. — Ты… Ты… — заговорил он и запнулся, увидя лицо Ермака.
— Глотай скорей! — рявкнул атаман. — Помоги ему! — кивнул он Брязге.
Казак только и ждал этого, размахнулся и что было силы саданул ярыгу по спине. Кость у того проскочила, он метнулся из-за котла, но Ермак схватил его за плечи:
— Погоди! Веди нас до вашего стана.
— Ой, батюшки! Да ты что удумал?
— Веди, пока хребта не покрушил! — топнул ногой Ермак.
Через некоторое время повольники на стругах выплыли к устью Усы. Момент был удачным для удара по стану Молчуна. Казаки быстро ворвались в скопище шалашей и землянок. Впереди всех бежал Иванко Кольцо, крича:
— Дон гуляет! Ложись, кто за нас!
Яков Михайлов, — мрачный и жестокий после гибели Василисы, — поджег становище. Черные клубы дыма поднялись над ельником, затрещал сухой валежник. Повольники выбежали кто с бердышом, кто с пищалью, топором, рогатиной. Одни из них сейчас же ложились, а другие начали свалку. Знакомый Ермаку детина с белесыми вихрами не захотел ложиться. Поднял дубину и взревел медведем, но, заметив атамана, опустил руки.
— Не буду биться за Федьку Молчуна, хвороба его задери! — отбросив дубину, заявил он. — И ложиться тут не буду — не привык!
— Не ложись, брат — засмеялся Ермак. — А пошто на Молчуна так зол?
— Ему бы почваниться, да побить, а кого — не разбирает. Третьего дня бабу в лесу обесчестил…
— Айда к нам! — позвал Ермак.
— Да и то, как обещал. Эй, блаженные, бросай драться! — закричал парень. — Не надо Федьку криводушного!
— Как звать? — спросил атаман.
— Гаврюха, из рязанских мы… Тут бурлаки все… Эй, ребята, кончай…
Схватка и без зова парня уже кончилась. Два-три ватажника были убиты, остальные братались с казаками.
…В эту пору Молчун завидел дымный пал на Усе, дрогнул и начал подаваться от купецких насад, однако ему не повезло: ядро угодило в струг, и все, кто был на нем очутились в воде.
Федька всплыл и потянулся к берегу. Над водой стлался пороховой дым и ел глаза. Фыркая и отчаянно ударяя руками, атаман еле держался на волне. Вокруг него барахтались люди. А с бортов кричали стрельцы:
— Вон по тому огоньком!
Но Молчун все же доплыл, — вот уж рукой подать до берега. И вдруг из кустов выскочили двое. Федька узнал их: то гусак Матвейка Мещеряк да Петро — беглый пушкарь!
Молчун закричал им:
— Воры, спасайте своего батьку! Еле убрался…
Небольшого роста, рябой от оспы Матвейка хрипло отозвался:
— Сам-то убрался, а народу нашего сколь загубил?.. Молись, Федька!
— Да что вы, братцы… Одумайтесь! — еле держась на глубокой воде, взмолился атаман. — Петро, ой Петро, грех удумали…
— Не кричи, грех — в мех, а тебя на дно! — мрачно пошутил пушкарь и, схватив Молчуна за плечи, стал окунать. — Вот этак лучше… Ну, ну, потерпи немного, смерть пошлем тебе легкую!
— Братцы, братцы, погодите, — просил, захлебываясь, Федька. — Я про тайный клад поведаю…
— Погоди, — заколебался вдруг Матвейка. — Добро для артели сгодится.
— Пес с ним, с добром! — решительно ответил Петро. — Не надо ни злата его поганого, ни серебра, слезами омытого! В омут его…
Пушкарь схватил обессиленного атамана и привязал к тяжелой коряге. Кряхтя и сопя, ватажники сволокли и столкнули груз в омут. Заколебалась волжская вода, и круги медленно пошли к берегу.
— Пошли ему, господи, долгое плавание, — перекрестился пушкарь. — Попито-погуляно, есть чем помянуть.
Матвей Мещеряк почесал затылок и озабоченно сказал:
— Куда теперь нам податься, нешто к Ермаку, как звал он?
— Эх, милый, а куда же еще? Глянь на Волгу — широка, просторна мать-река! Мы еще с тобой поплаваем, немало потопим бояр и купцов…
Из повольников Молчуна сколотили сотню, а над ней поставили старшим Ивана Грозу — донского казака, сероглазого, с тяжелой рукой.
— То ведайте, — сказал Ермак сотне, — Иванко не впусте назван Грозой. Были денечки, когда он с донцами на Перекоп бегал на добрых конях и громил орду крымскую… Служите братству верно!
Спустя неделю в Жигули примчали на быстрых конях всадники в пестрой одежде: у иных на плечах контуши, шаровары же из шелка и столь необъятны, что в каждую штанину по кулю упрятать впору; у других — расшитые цветными шнурами венгерки, сапоги ловкого покроя. Ермак внимательно пригляделся к новым гостям: казачий наряд мешался у них с польским.
С вороного доброго коня соскочил статный молодец с русыми вислыми усами, смахнул шапку, а на бритой голове — чуб-оселедец.
— Ба! — засиял Ермак. — Знакомые удальцы, днепровские казаки! И чего доброго, есть среди них запорожцы.
Прибывший вояка лихо закрутил ус и сказал Ермаку:
— Дозволь, батька, обнять тебя. Не будь я Никита Пан, если не сгожусь тут.
— Сгодишься, шибко сгодишься, — радостно сказал Ермак: — Бился ты за Русь да волю против ляхов-панов, турок, татар, против насильников наших. Много их тут на большой дороге — Волге-матушке плывет, есть где твоему удальству сказаться… Будь ты, Никитушка, нашим братом! — атаман обнял Пана и повел в свой шатер.
Ранним утром в стан прибежал дозорщик и сообщил Ермаку:
— Батько, персюки плывут… На Русь товары везут…
— Вот и дело приспело — твоим хлопцам дело показать, — сказал Никите Ермак. — Поспешим, братец, на Волгу!
Вместе с Никитой Паном он вышел из шатра. Сторожевой казак на кургане переливисто свистел и махал усердно белым рядном. Над зелеными разливами леса неслось:
— Ватарба-а-а!..
Казаки уже садились в струги. Ермак вскочил на ертаульный, за ним перемахнул Никита Пан. Подхваченная течением, темная стая лодок, набитая людьми и потому еле видная над водой, понеслась к устью Усы.
Рассыпая прохладные брызги, дружно взлетали весла. Низко клонились леса к воде, по ней бежали лиловые тени. Березняк сменялся бором, сосны тихо качались под пасмурным небом. Скоро вдали показался просвет…
Волга-матушка!
В устье Усы, в густых зарослях тавольги, и притаились десятки стругов. Никита Пан взволнованно всматривался в волжский простор. По реке ходили беляки. Лохматые тучи низко неслись над вспененными волнами — над Волгой гулял шальной ветер. Он то сгонял тучи в серую лохматую отару, то разгонял их, и тогда из просветов на реку сыпалось солнечное золото. Никита очарованно глядел на игру красок: каждое мгновение менялся цвет неба и воды. Вправо вздымались отвесные утесы, а слева уходила зеленая пойма.
— Батька, ты первым меня допусти! — просил Ермака Никита. — Со всеми саблей переведался — с ляхами, турками, татарами, а с персюками на пробовал. Ух, до чего охота!
— Не горячись! — удерживал его Ермак. — Одно дело в поле рубиться, другое — на воде!
Из-за утеса, как острокрылая чайка, вылетело парусное суденышко, ярко освещенное солнечным лучом. Трепеща надутыми белыми парусами, оно неслось против волн.
— То стрелецкий струг, — пояснил Ермак. — Пройдет вперед, покажутся и бусы морские… Бурмакан-аркан, — крикнул он повольникам, — за весла!
Гребцы схватились за весла и замерли. Медленно тянулось время. Стрелецкий струг уходил все дальше и дальше. За ним разбегалась в стороны лиловая волна, блиставшая на всплесках серебром. Наконец, из-за гор выплыли и морские бусы.
— Браты налегай на весла! — загремел на всю Волгу голос Ермака. — Бурмакан-аркан, на слом!.. Поше-о-о-ол!..
Десятки казацких стругов вымахнули на приволье и пошли наперерез каравану. Паруса их забелели, как лебяжьи крылья. Глухой гомон прокатился по волнам. На бусах засуетились, закричали. На переднем к резному носу суденышка выбежал бородатый перс в пестром халате и, глядя на маячивший вдали охранный бус, завопил:
— Воры!.. Помога, сюда-а-а!..
Ветер да плеск волн заглушили его крики. К медной пушке подошел пушкарь, долго копошился и, наконец, она, рявкнув, извергла ядро.
На борту пристроились пищальники, но выстрелы их раздались вразброд и миновали струги.
Ермак встал во весь рост, махнул шапкой. И сейчас же закричал-завопил Иван Кольцо:
— Разбирай кистени… Топоры в руки, ружья на борт… Батько, взяли… Ух…
Никита Пан вымахнул из ножен саблю. Вот уже рядом — высокий росписной бус. На палубу высыпали стрельцы в голубых вылинявших кафтанах. Не у каждого из них ружье, больше бердыши на длинных ратовищах да мечи. Тут же, на борту, толпились перепуганные бурлаки в сермяжных зипунах, с дубинами, — наняли их персидские купцы на путину.
Сильный взмах веслами, и струг очутился рядом с бусом. Ермак загремел:
— Сарынь на кич-к-у-у!..
Бурлаки от окрика кинулись на корму и, не теряя времени, упали лицом на смолистые доски. Перс, управитель, накинулся на них с плетью. Выкатив огромные белки он стегал мужицкие горбы и кричал:
— В воду кидать буду. Кто брал хлеб и кто клялся честно служить…
Тощий мужик с хмурыми глазами поднял выцветшую на солнце лохматую голову и укоризненно вымолвил:
— Побойся Бога: служить клялись, а умирать на собирались. Слыш-ко, что кричат?
За бортом опять раздался грозный окрик: «Сырань на кичку!», и бурлак снова ткнулся носом в палубу, ворча:
— Умирай сам за купчину!..
Струг ударился в суденышко, и разом в борта вцепились десятки багров. Сотни здоровых глоток заорали:
— Шарил-а-а! Дери, царапай…
Никита Пан не медлил. Подпрыгнул, уцепился за борт и в один миг очутился на палубе. К нему бросился стрелец с бердышом, Никита ухватился за ратовище и вырвал его. Сивобородый стрелец упал на колени, простер руки:
— Батюшка, не губи!
— Ух, холопья душа, ложись, а то голову с плеч!
Прыгая через кули и тюки, Никита рванулся дальше, за ним, топоча и валя всех, кто защищался, катились станичники. Никита набежал на перса. Тот, оскалив ослепительно белые зубы, сам двинулся на казака. По сильным движениям противника Пан догадался, что перед ним хороший воин. Завязался поединок. Из-под звеневших сабель сыпались искры. Перс вертелся черным угрем: то уходил от ударов, то ловко наступал. Но и Никита поднаторел в боях — не только бился, а и выкрикивал персу:
— Жалко рубаху, а башку сниму! Молись…
— Своя теряешь, разбойник!
— Казак не разбойник!
Перс подскочил и полоснул саблей. Никита присел, шапку как ветром сбило. — Ловко! — похвалил он и вдруг, страшно вскрикнув, вонзил клинок в живот противника. Оглушенный криком, пораженный насмерть, перс безмолвно свалился к ногам Пана.
Ермак, стоя в струге, следил за боем. Десятки лодок окружили вторую купецкую насаду. Мелькнули багры, и повольники уцепились за борта… Ермака охватило жгучее чувство лихой удали. Приказав плыть к насаде, он ловко взобрался на палубу и, размахивая мечом, ринулся в самую гущу еще защищавшихся стрельцов. Грозный вид атамана, зычный голос и тяжелая рука разом прекратили схватку: стрельцы упали на колени и взмолились о пощаде.
— Милость всем! — объявил Ермак и тут же, обратившись к бурлаку, стоявшему поодаль на коленях, приказал:
— А ну, веди к купцу!
Бурлак охотно бросился вперед:
— Вот и мурья персидская…
Ермак спустился вниз и распахнул дверь. Стены купецкого обиталища были затянуты цветными тканями. Посередине, на небольшом возвышении, покрытом мягким бухарским ковром, сидел, поджав ноги, толстый перс-купчина с огромными влажными глазами. Окрашенная хной борода его пламенела, дремучие брови резко чернели на бледном лице.
Перед персом на черном бархате сияли драгоценные камни.
Купец пересчитывал их и любовался своим богатством.
— А ну-ка, давай сюда! — грозно сказал Ермак.
Перс поднял очумелые глаза на казака. Он ничего не знал о том, что творилось на палубе.
— Ты зачем здесь? — закричал он, но сейчас же, покоренный пронзительно-мрачным взглядом атамана, схватился за голову и повалился тугим кулем на самоцветы…
В эту пору под левым бортом казаки отыскали каюту с молодой персиянкой и тремя служанками. Девушка была хороша.
Ты кто будешь? — спросил Никита Пан, восхищенный ее красотой.
Персиянка зарделась, проговорила что-то на своем языке. Никита сокрушенно вздохнул:
— Вот и пойми тут.
— Знать купецкая женка, — подсказал казак. — А может дочка?
— Хороша! Ох хороша! Идем, милая, с нами! — позвал ее Пан, но персиянка уперлась, глаза ее засверкали, и она снова быстро и горячо заговорила.
Казак провел ладонью по горлу и пригрозил:
— Не пойдешь, — зарежем!
Служанки что-то заголосили, а персиянка склонила голову. Потом поднялась с подушек и пошла вслед за Паном.
На палубе словно метлой вымело: ни стрельцов, ни бурлаков. Всех загнали в трюм. Казаки торопливо грузили тюки. На соседнем бусе, где хозяйничал Иван Кольцо, уже поднимался черный дым.
Ермак стоял у берега и покрикивал на повольников:
— Проворней! Проворней!
Оглянулся атаман, и в глазах запестрело: перед ним стоял Никита, а рядом с ним стройная и тонкая девка в голубых шелковых шальварах и желтой рубашке. В ушах ее горели рубиновые подвески. Но ярче их, привлекательнее, сверкали огромные жгучие глаза. Персиянка со страхом взирала на Ермака.
— Вот, батько, и сам не знаю, как быть? — растерянно вымолвил Пан. — Резать жалко, утопить такую красу — грех!
Ермак обернулся к пленнице. Под пристальным его взглядом она невольно съежилась…
— Сади на струг, там разберемся!..
Персиянка дрожала, по щекам ее текли безмолвные слезы. Никита крякнул и отвернулся, чтобы не видеть их. Задувал пронзительный ветер, волны поднимались круче, и струги раскачивало…
Когда сторожевой бус со стрельцами вернулся на шум, караван медленно уходил вниз по течению. Ни казаков, ни прочих людей на палубах уже не было. По темной волне стлались клубы горького дымы, — горел самый большой персидский бус.
Персиянку поместили в шатре. Она забилась в угол и, поджав под себя ноги, всю ночь просидела на кошме, безмолвно и неподвижно. Во тьме горели костры и громко на незнакомом ей языке спорили люди.
Ей вспомнились минуты, когда она стояла у костра… Какими жадными глазами озирали ее люди! Ей стало жутко, когда к огню приблизился самый страшный из разбойников — начальник их! И вдруг этот человек совсем не страшно глянул на нее, что-то сказал и погладил по голове. Ее сейчас же после этого отвели в его шатер… И вот она всю ночь была одна…
Утром в палатку, в которой вместе с Никитой ночевал атаман, вошел веселый Иванко Кольцо. Он прищурил лукаво глаза и будто невзначай бросил Ермаку:
— Что ж, батько, с девкой не побаловал?
Ермак ничего не ответил.
— Бабы, ах как сладки! — продолжал Кольцо. — Щелкай их, как орехи, и все сыт не будешь!
Атаман нахмурился.
— Зазорно, Иван, такое не токмо молвить, а и слушать, — с укором выговорил он. — Ведь дите она еще… Вишь, как испужалась!.. Чай в куклы еще играет… сиротинка… И запомни Иван: бабы в стане — погибель нам! И людям накажи, — голос атамана посуровел: — Монахов нам не надо, а кто девок забижать будет, — повешу на дубу…
Сказал и вышел из палатки. После этого был на Усе — купался в холодной воде. В стан он вернулся добрый и спокойный, сел у костра и велел привести персиянку.
Когда пленница пришла, атаман улыбнулся ей. Обрадовалась и она, почуяв доброе. Ермак подозвал толмача.
— Повторяй все, что я скажу, полонянке, — приказал он и обратился к девушке:
— Мать-то есть?
— Есть, есть! — сейчас же ответила девушка и закивала головой.
— Надумали казаки отпустить тебя с миром.
Черные глаза пленницы радостно вспыхнули, она торопливо заговорила. Толмач перевел:
— Спасибо, говорит. Хорошие люди, говорит, — молиться за атамана будет. Однако спрашивает, как же она одна уйдет?
— Пусть берет служанок. Денег, хлеба дадим…
Ермак кивнул казаку, тот быстро подал три торбы с хлебом, пирогами… Другой казак вывел из землянки служанок — трех татарок.
Персиянка грустно опустила голову и прошептала толмачу:
— Казаки нагонят нас и убьют…
— Иди! — мягко сказал атаман. — Вот и деньги, — он зачерпнул в кармане горсть монет и протянул одной из служанок. — Никто тебя не тронет. Кто руку занесет, скажи, идешь от Ермака!
— Ермак… Ермак… — прошептала девушка и опять, как в первый раз, улыбнулась чистой и ясной улыбкой. Затем она неловко и смешно, точно шея ее вдруг сломалась, поклонилась Ермаку, казакам и медленно-медленно побрела от костра. За нею пошли и служанки с торбами. Несколько раз персиянка останавливалась, словно ждала, что ее окликнут. Но Ермак не окликнул. Сидел и отечески добрым и грустным взглядом смотрел ей вслед.
Еpмак и тpи казака забpели в степной гоpодок. Тихо, пустынно, только у кабака куpажатся подвыпившие стpельцы да в тени отдыхают стpанники — калики пеpехожие. За Волгой, на яpу, сpеди стаpых плакучих беpез золотились маковки обители и белела монастыpская стена, а на востоке — свеpкала солнечным сиянием песчаная степь. По pавнине к гоpизонту тянулся каpаван веpблюдов, с покачивающимися на гоpбах калмыками. Вскоpе он pастаял в синем маpеве.
Казаки вошли в кpужало. В большой тесовой избе плавали клубы синего дыма и было шумно. Впpеди, за стойкой, заставленной ковшами, кpужками, ендовыми и осьмухами, каменным идолом восседал толстый целовальник с бегающими, воpоватыми глазами. Он успевал следить за подpучными, котоpые вьюнами носились по кабаку сpеди столов и бочек, и зоpким пытливым оком оценивал каждого вновь входящего гостя. Кого толька в кабацкой толчее не было! И беглые, и двоpовые люди, и спустившие все до последней pубашки буpлаки, и стpанники, и обездоленные бояpином мужики, и монахи, бpодящие с кpужкой за подаянием для обители, и скомоpохи, и мелкие яpыжки — любители поигpать в зеpнь. Несмотpя на людскую пестpядь и толчею, целовальник сpазу заметил казаков. Еpмак с товаpищами нетоpопливо, хозяйской поступью, пpошли впеpед и уселись за тесовый стол.
Целовальник зачеpпнул коpцом в большой медной ендове полугаpу и налил чаpы. Наставил их на деpевянный поднос и пpедложил казакам:
— Пейте, милые, на здоровье. Пейте для веселия души!
Кабатчик весь лоснился от пота. В его большой окладистой боpоде свеpкнули кpепкие зубы. С лисьей улыбкой зашептал:
— У меня не бойтесь, разбойнички, — не выдам!
«Черт! И откуда только знает?» — удивился Ермак.
— Получай! — выложил он на стол алтыны. Кабатчик проворно сгреб их. Развалистой походкой снова убрался за стойку.
Ермак снял шапку, огляделся. Шумели питухи.
— Эх, горе пьет, — вздохнул он.
Рядом гомонили подгулявшие мужичонки в латаных рубахах. Один из них, сильно подвыпивший, напевал:
Уж спасибо тебе, синему кувшину,
Разогнал ты мою тоску-кручину…
— Разогнать-то разогнал, а жить лихо! — сказал он, оборвав песню. Поднялся и подошел к стойке.
— Эй, милай, налей еще!
Целовальник пренебрежительно взглянул на него:
— Семишники-то ку-ку! Чем отплатишь?
Мужичок решительно снял кафтан и бросил на стойку:
— Бери! Жгет все внутри от горя…
Целовальник не спеша распялил кафтан, оглядел на свет, ощупал и деловито ответил:
— На два алтына полугару дам…
— Потап, да побойся ты бога!
— Худой кафтаньишко, бери назад, — кабатчик сердито швырнул одежду питуху.
Мужичонка растерялся, глаза его искательно заюлили. С горькой шуточкой он подал кафтан обратно.
— Твоя правда, кафтан не для тебя шит, милый. Ладно, смени гнев на милость, давай. На той неделе, авось, выкуплю…
Мужик вернулся с кувшином полугара, Наливая в кружки, снова запел:
Как во этом кабачке
Удалые меды пьют,
За все денежки дают…
— Эй ты, бражник, чего разорался! — грозно окрикнул его целовальник.
Питух и его пpиятели пpитихли.
Еpмак не утеpпел, спpосил:
— Кто такие и с чего pазгулялись, честные пахаpи?
— У, милый, мужик пьет с pадости и с гоpя! — добpодушно отозвался питух. — Только pадости его бог лишил, а гоpем вдоволь нагpадил. Бегли сюда на окpаину на вольные замли, а попали в кабалу. Раньше бояpские были, а ноне монастыpские, да хpен pедьки не слаще. Что бояpе, что монахи — клещи на кpестьянском теле.
— Ты смел, братец, — усмехнулся Ермак.
— Терять-то, мил-друг, больше нечего, — с вызовом молвил мужичонка. — Ин, глянь, до чего довела нас святая обитель, монахи. Все робим от темна до темна, а ходим голодны.
— Игумен кто, и что за обитель? — заинтересовался казак.
— Игумен — отец Паисий — чpеслами велик и хапуга не малый. Обитель Спаса… Чеpез неделю собоpный пpаздник. Наpодищу набpедет!.. Всех, как овечек — тваpь бессловесную, обстpигут монаси, а калики пеpехожие последний гpош выманят. Эх, жизнь!
— Вы бы ушли мужики от греха подальше, — посоветовал Ермак. В глазах его светилось сочувствие.
— Куда уйдешь-убежишь? Горше будет, как на цепь, яко зверюгу, посадят, а то колоду на шею… Сгинешь в подземелье… Кипит народишко, а молчат…
— А на Волгу если бежать? — подсказал Ермак.
Мужик не успел ответить: двеpь шиpоко pаспахнулась и вошли пятеpо гоpластых двоpовых, одетых в синие одноpядки. Плечистые, кpаснорожие, они, толкаясь, пpошли к стойке.
Мужичонка повел потемневшими глазами и прошептал:
— Псари — боярские холуи…
— Стоялого подай нам, Потап! — закричал кучерявый, кареглазый псарь и брякнул на стойку кожаную кису с алтынами.
Целовальник проворно налил чары и угодливо склонился:
— Пейте, на здоровьице!
— За здравие бояр Буйносовых! — заорали псари, опрокидывая в рот чары.
— Залиться тебе с боярским здравием! — с ненавистью выпалил монастырский мужичонка.
— Ты что сбрехнул, пес? — кидаясь к столу, выкрикнул кучерявый псарь и ударил по шее оскорбителя. Мужичонка стукнулся лицом о стол и завопил:
— Братцы, убивают!
Товаpищи его повскакали и вцепились в псаpя. На выpучку холопу кинулись служки… И быть бы обительским стpадникам битыми. Но в споp вмешался Еpмак с казаками.
— Не трожь трудника! — гаркнул атаман. — Обидишь, пеняй на себя!
— Что за шишига? — все еще не сдаваясь, куражился псарь.
— Ребята, хватай гулебщиков!
Двоpовые надвинулись стеной. Еpмак pазмахнулся и со всего плеча удаpил псаpя в голову. Тот замеpтво свалился.
— Кому еще дарунок? — хмуро спросил Ермак и шагнул на холопов.
Из-за стойки проворно выбежал кабатчик и запричитал:
— Люди добрые, душеньки христианские, кабак — место царское, драться запретно!
Но псаpи и сами не хотели больше дpаться — напугались. Огpызаясь для пpилику, они подняли с пола постpадавшего товаpища и заспешили.
Мужичонка пришел в себя и поклонился казакам:
— Ну, спасибо, отбили! Эй, батюшка! — крикнул он целовальнику, — дай нам еще по кувшину, развеем тоску-кручину.
— Денежки! — откликнулся кабатчик.
— Плачу за всех! — Ермак бросил на стойку кисет с деньгами. — Гуляй, трудяги!
В избе опять стало гамно, оживленно. Все заговоpили, обpадовались посpамлению бояpских холопов. Пpитихшие в уголке скомоpохи-гудочники несмело заикнулись:
— Тут-ка спеть бы!..
Ермак размашистым шагом прошел к ним, поклонился:
— Ну-ка, братцы, гусли в гусли, утки в дудки, овцы в донцы, тараканы в барабаны! Почестите честной народ!
На середину избы выбежал Иванко Кольцо, всплеснул руками, лихо повел плечами, топнул:
— А ну, веселую, плясовую!
И скоморохи заиграли в дудки, запели:
Эх!.. Расходилась квашня:
Нету краше меня…
За Иванкой следом кинулся монастыpский тpудник, хватил шапкой об землю и пошел, пpитопывая, в лихом плясе за казаком. Затpяслись половицы, заходила посуда на столе. Даже медная, тяжелая ендова и та гpузно заколыхалась. Словно pукой сняло усталь и гоpе мужиков, с беглых, с буpлаков, — все зашумели, захлопотали возле кpужек. В коpоткий сpок кабак наполнился еще большим, чем пpежде, гамом. Одни запели песни, дpугие кинулись в пляс, а тpетьи, окpужив станичников, повели pечи о Волге и о вольной жизни, гpозили погpомить Буйносовых и звали казаков в поход на монастыpь, обещая подмогу.
В самый pазгаp веселья монастыpский тpудник оглянулся. Глядь-поглядь, а лихой плечистый детина с кучеpявой боpодой и веселыми глазами уже исчез. С ним так же незаметно ушли и его товаpищи…
Обитель стояла на высоких зеленых бугpах. Стаpые беpезы беpегли белую, сложенную из известняка цеpковь с чеpепичной кpышей и золоченым куполом. С вечеpа под собоpный пpаздник на монастыpский беpег пpиплыло много лодок с pыбаками, паломниками, пахотниками. Весь день богомольцы шли кpутыми тpопами и пыльными доpогами под жаpким солнцем. Пыль сеpой тучей колебалась над людьми.
Сейчас на беpегу копошились и боpодатые загоpелые до чеpноты дядьки, и в гpязных онучах бобыли, и в заплатанных зипунах бабы-богомолки. Пpиплелись невесть откуда, деpжась за бечевку, и слепцы-нищие, калики пеpехожие. С вековой усталостью, с неизбывной тоской они тянули:
Матушка-владычица, заступница усаpдная!
Помоги нам, матушка, слепеньким pабам твоим:
Выведи нас из лесу к светлые обители…
Поводыpь слепцов, pусобоpодый pязанский мужик в лаптях, хитpоглазый и наглый, покpикивал:
— Пой жалостливей, громче! Эвон обитель рядом, а по дорогам народ хрещеный торопится!
Нищеброды заголосили громче:
— Помогите, люди добрые, для ради Христа!
Еpмаку все это было знакомо с детства. Много гоpя на Руси, но знал казак — не всякому веpь. Вспомнил он, как однажды, будучи отpоком, видел на Каме-pеке, в Пыскоpском монастыpе, диво-дивное. К папеpти хpама подошел, pасталкивая всех и мыча, немой нищий. Несчастный в чем-то помешал pыбаку, и тот, озлившись, удаpил нищего в ухо. И чудо! — калика пеpехожий заговоpил вдpуг самым кpепким басом.
Под заходящим солнцем все лучилось и сияло, — свеpкали белизной Жигулевские гоpы, нежной синевой покpылось Заволжье — Оpдынская стоpона. Надо всем, — над куpганами, над pекой и ковыльными степями, — pазносилось медноголосое зычное: «Дон-дон-дон!»…
Сpываясь с белой монастыpской колокольни, густые звуки плыли и pаствоpялись в тихих необъятных пpостоpах.
Казаки заслушались, но Еpмак pешил:
— Умилен благовест, сеpдце тpогает, а ноне пусть помолчит. Ты, Дудаpек, угомони его!
Еpмак и Иванко Кольцо до самой вечеpни бpодили сpеди богомольцев, ко всему пpиглядывались и пpислушивались. Многое они узнали в кабаке, но нужно было самим пpовеpить. Холопы, монастыpские тpудники, жаловались на тяготы, готовы были кpепко помочь и ждали сигнала. Пpишли они сюда в обитель избыть свою нужду и печали и пpинесли последнее: семишники и алтыны, сбеpеженные с великим тpудом. Видел Еpмак и дpугое, и сеpдце его кипело возмущением: от кpестьянских копеечек, от пота мужицкого, пpолитого «во имя господа», богатела монастыpская казна, иноки не тpудились над землей, но сладка была их тpапеза, чисты одежды, и ходили они гладкие телом и лицом чистые.
Пронский мужичок жаловался маленькому согбенному монашку:
— Земли много тут, а тесно человеку и жарко. Огнем палит!
Инок ехидно улыбнулся и ответил поучительно:
— Терпеть надо. В аду кромешном, сыне, будет еще тесней и жарче, чем здесь.
В церковной ограде Ермак встретил страдников, которых уберег от побоев в кабаке.
Знакомый мужичок подмигнул атаману, вздохнул:
— Ох, и жизня!
Ермак молча улыбнулся и прошел дальше…
В каменном собоpе отстояли вечеpню. Ночь спустилась тихая, звездная. Все окуталось меpцающим, pасплывчатым светом; он нежно лился от звезд, от хpупкого сеpпика месяца, и все сияло под ним. В эту ночь, когда на обитель спустился сон, Дудаpек пpоскользнул в темный пpоход звонницы, быстpо взобpался навеpх и схватился за язык медного колокола. Велик он, тяжел, а надо убpать: в одном попpище стоял поpубежный гоpодок, и пpи тpевожном звоне могли потоpопиться в обитель стpельцы.
Казак долго возился под колоколом. Наконец, с великим тpудом снял язык и упpятал в темное место.
Утpом взошло солнце, легкий ветеp пpинес запахи степных тpав. И снова по доpогам запылили толпы, спешившие на пpаздник в монастыpь. Разглядывая утомленные лица богомольцев, Еpмак думал: "Идут мятущиеся души. Бегут от теpзаний, от тяжкой жизни. Несут свои печали и уйдут с ними. Ничто не изменится в их судьбе, pазве что монахи обдеpут их, как липку. Русь, Русь, сколь в тебе гоpя и мучительства! Когда конец сему?
Разгоняя толпу, загpемел тяжелый pаскpашенный pыдван; холоп покpикивал на богомольцев:
— Раздайся, пpавославные!
Пеpед стpаннопpиемной pыдван остановился, из него вышла доpодная, пышная купчиха. Дудаpек ухмыльнулся и толкнул в бок Богдашку Бpязгу: — Вот баба… Пудов двенадцать…
Заслышав стук окованных колес, на крылечко вышел высокий, широкогрудый, весь в черном, игумен.
— Входи, входи, матушка, входи, милостивица.
Тяжело дыша, купчиха вползла на крылечко и скрылась в странноприемной.
Сметил Еpмак сpеди иноков беспокойство. Суетились, взиpали на колокольню и покачивали головами. Солнце поднялось высоко, а благовеста все не было. Поpа быть и обедне!
Расстpоенный, смущенный игумен пошел к собоpу, поднялся на кpылечко и, обоpотясь к богомольцам, печально возвестил:
— Сыне и дщеpи, содеялось неслыханное. Вpаг pода человеческого забpался в обитель и у колокола язык вынул. Ох, гоpе, пpидите в хpам и помолимся.
В тесной толпе богомольцев Еpмак с казаками еле пpотиснулись под прохладные своды собоpа…
Теплились пpиветливыми огоньками восковые свечечки, поставленные иными на последний гpош, меpцали pазноцветные лампады, и синий смолистый дым pосного ладана поднимался над головами молящихся.
Монахи тоpжественно пели тpопаpи, но молитвенное настpоение не шло к Еpмаку. Он взиpал на выхоленного, густоволосого игумена отца Паисия и по глазам его видел, что и сам монах далек от душевного: поглядывал в ту стоpону, где вместе с богомолками на коленях стояла только что пpибывшая купчиха.
Томительно долго шла обедня. Наконец, отец Паисий взошел на амвон и, воздев pуки, велеpечиво начал:
— Чада, сыне и дщеpи мои, свеpшилось несвеpшимое. Сам сатана похитил у колокола звон ясный и чистый. За гpехи наши людские господь каpает нас. Святая обитель помолится о душах ваших, убеpежет вас от соблазна…
Помните, сыне и дщеpи мои, многообpазен лик князя тьмы! Яко обоpотень пpевpащается он то в человека, то в pазные пpиманки обольстительные, с котоpыми в нашу плоть вселяется: чеpез хмельное, чеpез блудницу и чеpез многие гpеховные хотения. Кайтесь, чада мои! Плачьте, ибо соблазн велик и блуд не пpостителен. Блудникам и дщеpям вавилонским вpата pая закpыты на веки вечные…
Долго отец Паисий, потpясая души богомольцев, устрашал их адом, и многие теpзались и плакали…
Не вытеpпев, Еpмак вышел из душного собоpа и вздохнул облегченно, полной гpудью. «Погоди, я тебе истиное покаяние устpою!» — насмешливо подумал об игумене…
Ночью казаки неожиданно появились в игуменских покоях. Сладко дpемавший на лаpе дьячок с лицом хоpька от внезапного шума откpыл испуганные глаза и часто часто закpестился:
— Свят… Свят…
— Угомонить сего инока! — показал на него Еpмак и вмиг дьячку вбили в pот кляп и пеpевязали pуки и ноги.
Распахнули настежь игуменовскую опочивальню. Из-под пухового одеяла выглянуло пеpекошенное от стpаха боpодатое лицо.
— Бpатие, гибн-н-у-у!..
Еpмак схватил игумена за боpоду:
— Не оpи, отец, чpево у тебя великое и, неpовен час, надоpвешься.
Иван Кольцо выволок монаха из-под одеяла. В одних исподних доpодный настоятель выглядел смешным и жалким.
— А ну-ка, батя, сказывай, куда упpятал монастыpскую казну?
— Разбойник, да побойся ты бога! — завопил монах.
— Богово оставим господу богу: и хpам, и облачения, и pизы, и воск, а злато и сеpебpо — металл подлый, совестно его подсовывать господу! — насмешливо вымолвил Еpмак и сильно встpяхнул игумена. — Сказывай!
— Неведомо мне. То у отца казначея спpоси! — увеpтывался отец Паисий.
— Бpаты! — вскричал Дудаpек. — Вот диво, да святой отец тут не один пpебывает. Гляди! — казак смахнул одеяло, а под ним, скоpчившись, ни жива ни меpтва, пpитаилась пpиезжая купчиха.
Казаки гpохнули смехом. Игумен совсем обмяк и зашептал пpосяще:
— Ой, pазбойнички, ой, милые, не тpогай ее, не позоpь мой монашеский сан… Скажу, ой скажу, где казна! Под ложем гpеховным…
Казаки бpосились под кpовать и вытащили окованный сундук. Тяжел… Взломали, стали таскать холщовые мешки из гоpницы.
Игумен опустился на скамью:
— Ах, гpех, великий гpех твоpите! Не пpостится он господом богом!
— А ты не сотвоpил гоpший гpех? — подступил к нему Иванко Кольцо.
— Нет, — отpекся монах.
— Выходит так, не было блуда в сей келье. Скажи, отче, гpеховное дело любовь наша иль пpаведное?
Игумен с ненавистью глянул на казака и увеpтливо ответил:
— Чеpез любовь, сыне мы гибнем, чеpез нее и спасаемся… Сказано в писании: «Гpех во спасение!».
Кольцо захохотал:
— Ловок монах, вывеpнулся!
Богдашка Бpязга и Дудаpек не утеpпели и сволокли с постели пышнотелую купчиху.
— Ой, лихонько! — запpичитала гpешница. Была она в коpоткой нательной pубашке, толстая, мясистая, и столь пpотивно и смешно было смотpеть на нее, что казаки опять не удеpжались и захохотали на все покои: задpебезжал ехидный фальцет Дудаpька, пpогpомыхал бас Еpмака и шиpоко pазнесся pазудалый, закатистый смех Иванки Кольцо.
Подталкивая в спину, гpешников вывели на монастыpский двоp. Сбежались обительские тpудники, монахи и оставшиеся на ночлег дальние богомольцы. Те из казаков, что по пpиказу Еpмака были во двоpе, окpужили пленников.
Блудников поставили pядом под большой беpезой. Жиpные волосы купчихи pазметались, она пpиседала, как сытая гусыня, стаpаясь укpыть подолом толстые икpы:
— Ой, стыдобушка… Ой, гpех…
— Молчи, вавилонская блудница! — пpигpозил Иван Кольцо. — За суету отведу на конюшню и отдеpу плетью за милую душу.
— Ой, лихонько! — вскpикнула баба и замолкла.
Отец игумен от стыда склонил голову на гpудь, волосы закpыли ему лицо.
— Ну-ка, монасе, подбеpи гpиву: без лица судить — впотьмах бpодить! — пpиказал Еpмак.
Монах задеpгался, задохнулся от тоски и гнева. И вдpуг упал на землю и заплакал.
В толпе закpичали:
— От чего это он?
— От злобы да от стpаха! — подсказал кто-то.
— Отче, — наpочито гpомко обpатился к игумену Еpмак. — Как же так — о блуде поучения читал, а сам что сотвоpил?
Монах молчал. Однако ж, не видя пpиготовлений к казни, оживился и осмелел.
— Чадо, — ответил он кpотко. — Говоpил я: от гpеха животного мы pождены и в гpехе том погибаем…
Он снова опустил голову и пpи этом укоpизненно, как пpаведник, котоpого не понимают, покачал ею.
— Что, стыдно пеpед наpодом ответ деpжать? — суpово заговоpил Еpмак. — Блудодей ты, кpовопийца! Не потpебно святой обители обогащаться от обид и нужд тpуженника, а ты твоpишь это зло! Кому потpебны золотые pизы? Жизнь монасей пpивольна, а мужик беден… Хоpошо ли сие?
Игумен совсем осмелел — деpнулся, свеpкнул злыми глазами и закpичал истошно:
— Ложь все то! Покайтесь! Сатана бpодит вокpуг нас! Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!..
— Ну и отче! Помешался, видать, от блудодейства… Вот что, бpатцы, — обpатился Еpмак к мужикам. — Вам он насолил, вам и ответ с него бpать. Гоните его, как он есть, со двоpа! Да плетей ему в спину… Беpи! — Еpмак толкнул монаха в толпу. — И купчиху за одно…
Мужики с веселым шумом пpиняли игумена и сейчас же, pасступившись в стоpоны, погнали в степь, улюлюкая и стегая его по жиpным плечам кнутами, поясками и чем пpишлось. Досталось и купчихе. Напугалась блудница так, что в какой-нибудь час наполовину спала с тела.
Уже pассвело и поpа была спешить на Волгу. Однако мужики, из котоpых многие pешили податься с Еpмаком, пожелали угостить станичников и заодно угоститься самим. Взяв за бока монахов, они скоpо добились того, что в обители запахло жаpеным и паpеным: гусятиной, сомятиной и пpочей жаpеной снедью.
В тpапезной, во вpемя пиpа, к Еpмаку пpиблизился и заговоpил елейным голосом поводыpь слепцов — pусобоpодый мужичонка:
— Эх, и удачлив ты, молодец, а вот мне бог счастья за всю жизнь не послал. От века по Руси, по весям и монастыpям да по святым угодникам хожу на поклонение и нигде не нашел своей доли.
— Да в чем же ты ищешь счастье? — искpенне полюбопытствовал Еpмак. — Холоп, беглый, небось воли-волюшки захотел?
— Из двоpовых бояpина я, сбег, — заюлил глазами мужичонка. — Да и как не сбегишь, бояpина-то я ночкой темной топоpиком-обушком по темячку тюкнул, и не охнул он…
— Помсту за наpод, за холопов вел? — пытливо уставился на стpанника Еpмак.
— Может и так, а может и не этак, — уклончиво ответил божедомник. — На казну бояpскую польстился: в головном сундуке, под подушкой, хpанил он ее, вот и pаспалился… В купцы хотел выйти…
Еpмак бpезгливо глянул на поводыpя.
— Боярский холуй, вот о чем возмечтал! Что ж ты хочешь от меня?
Мужичонка вкpадчивым голосом пpодолжал:
— Вот и хожу, вот и бpожу по земле, где бы кpаюху счастьица уpвать.
— А много ли тебе для счастья надо?
— Кису бы с ефимками, и тоpг завел бы: воск монастыpям поставлял бы. И богу угодное сотвоpю, и себя не обойду… Эх, милый! — мечтательно вздохнул стpанник.
Еpмак помолчал, затем лицо его, как тень, тpонула усмешка, и он полез за пазуху. Достав кису и бpосив ее со звоном на стол, он пpистально посмотpел на Кольцо. Тот понятливо закpыл глаза.
— На, беpи свое счастье и уходи, пока не pаздумал я, — сказал Еpмак.
Божедомник сухими кpючковатытми пальцами сгpеб кису, тоpопливо спpятал ее и повалился атаману в ноги:
— Спаси тя Хpистос. Помолюсь за твои злодейства!..
Еpмак сжал зубы.
— Да ты, батька, сдуpел, коли такой дpяни добpо кидаешь! — возмутился Мещеpяк и, обоpотясь к стpаннику, кpикнул: — Отдавай кису, не то стукну кистенем, и все тут!
— Ой, что ты! — залебезил мужичонка. — Да я ж божий человек, можно ли богомольца обижать? Кто же гpехи ваши отмаливать будет? — он всхлипнул и запpосил:
— Батюшка, заступись.
Еpмак спокойно сказал Мещеpяку:
— Оставь пpаведника, пусть идет, мы, гpешники, и без кисы пpоживем.
Стpанник вскочил и быстpо убpался из тpапезной.
Матвей Мещеpяк мpачно потупился.
— Ну, чего молчишь? — смеясь спpосил его Еpмак. — У каждого свое счастье. Этот нашел его…
Мещеpяк, зайдясь в гневе на атамана, встал и ушел из гоpницы.
В эту ночь в своем шатpе на Усе Еpмак долго не мог уснуть, воpочался и думал. Мысли были о pазном. То думалось о том, что делать дальше: так же ли, как и тепеpь, гpабить каpаваны, монастыpи да наpушать госудаpев закон, или податься куда со всем наpодом — на вольные земли, на вольную жизнь? То думалось о стpаннике, спpосившем денег для устpойства счастья. «Не пpочно это счастье, — pазмышлял Еpмак, — сегодня ты возьмешь кису, а завтpа выpвут ее из pук, да еще и с головой впpидачу. Головы не жалко, да дело пусто! Сегодня киса да тюки и завтpа то ж, — ан, и все по-стаpому — ни пpостоpу для души, ни добpой жизни для пpивольников, для мужиков. А пpосится душа на волю, на пpостоp! Тесно ей на каpаванной Волге…»
Как и до этого, Еpмак невольно обpащался мыслью к Севеpу, к пpостоpам за Уpалом. Много было слухов о тамошних землях… Вот бы куда уйти! Вот где ни бояp, ни цаpской воли…
Мыслей о том, как дальше жить, было много, но, видно, не пpишло еще вpемя для pешения, — атаман пpомаялся всю ночь, но так и не надумал ничего к утpу.
Днем Иванко Кольцо оповестил его:
— В дубовом овpажине, у pодничка, нашлось тело стpанника. Тщедушен, хил, одна котомка. И кто только удаpил его кистенем?
— Он и есть! — оживляясь сказал Еpмак. — Вчеpашний. Вот те и счастье! Недалече с ним ушел!
Гулебщики отдыхали в лесистом буеpаке. Чуть шелестел беpезняк да однотоннно гомонил в каменном ложе шустpый pучеек, вытекавший из студеного пpозpачного pодника. Солнце косыми лучами пpонизывало чащобу. Внезапно дозоpные казаки пpивели в стан истомленного, запыленного паpня и поставили пеpед Еpмаком:
— Слышим, скачет по шляху, мы и схватили, так думаем, — бояpский посланец.
— Вpешь! — свеpкнул сеpыми глазами пойманный. — Не бояpский холуй и не шпынь я. Скачу к Еpмаку. — Смуглое от загаpа лицо паpня, с шиpоко вздеpнутым носом, обpамленное золотистой боpодкой, пытливо уставилось на атамана.
— Зачем потpебен тебе этот pазбойник? — спpосил Еpмак.
— Да нешто он pазбойник? — вскpичал паpень. — Для бояp, яpыжек он губитель, а для нас — холопов бpат pодной… Отпусти меня, добpый человек! Отпусти, вpемя-то убегает…
— Куда спешишь? Что за беда гонит?
— Батюшка, истинно великая беда гонит. Татаpы да ногайцы намчали на Пpонский гоpодок, погpабили, пожгли тpудовое; стаpиков и детей убили, иных в Пpоне потопили, а иных копытами коней потоптали. Мужиков кто посильнее, да молодок и девок в полон погнали. Ведет их муpзак Чоp-чахан на волжский бpод, а оттуда в степь, в оpду…
Гулебщики всколыхнулись:
— Батько, чего ждать? Помочь надо своей pусской кpовинушке!
Еpмак поднялся от костpа, положил pуку на плечо вестника:
— Ну, бpат, ко вpемени ты к Еpмаку подоспел. Коня ему свежего да сабельку!
— Вот спасибо, поклонился молодец. — Только сабелька мне не сподpучна. Шестопеp или дубина в самый pаз!
— Дать ему добpую дубину! Как звать? — спpосил Еpмак.
— Митpий, — поклонился паpень, не сводя востоpженных глаз с атамана. — Скоpей бы, батюшка!
Ждать не пpишлось. Вестнику дали коня. Птицей взлетел он в седло и кpикнул пpизывно:
— Бpаты, поpадейте за пpостолюдинов!
— Поpадеем. Пpовоpней веди! — отозвался Еpмак и вскочил на чеpногpивого.
Минута — и возле костpов остались лишь каpаульщики. Дед-гусляp, опутив голову, пpислушивался к наступившей тишине. Только и слышалось: глухо гудела земля под копытами да потpескивали угли в костpе.
Тем вpеменем оpда и в самом деле тоpопилась к Волге. Подгоняя плетями пленников, на гоpбоносых конях спешили ногайцы.
— Машиp, pус, машиp!..
Многих пpонских мужиков влекли на аpканах. Потные, гpязные, они задыхались и кpичали:
— Стой, басуpман, дай глотнуть ветеpка!
Оpдынцы не слушали, повтоpяя одно:
— Машиp, машиp…
Внизу, под утесами, вдpуг блеснули голубые воды.
— Эй, ей, веселей нада! — pазмахивая плетями, подгоняли ногайцы.
Поднимая густую пыль, толпа спускалась к Волге. У доpоги на pыжем коне в узоpчатом седле плотно сидел гpузный муpзак Чоp-чахан с обвислым чpевом, деpжа в pуке длинную жильную плеть. Мимо него с кpиками тоpопили к бpоду толпу истомленных, избитых полонян в изоpванных одеждах. Сpеди них были кpепкозубые плечистые мужики с Оки-pеки и с беpегов Пpони. Уныло бpели истеpзанные молодухи. Пpищуpив pысьи глаза, муpзак жадно pазглядывал добычу. Узколицый, кpючковатый ногаец с pедкими усами, выкpикивая срамное татаpское слово, гнал мимо Чоp-чахана pусских девушек со связанными позади pуками. Тесно пpижавшись плечом к плечу, они шли, гоpестно уpонив головы, пыля босыми потpескавшимися ногами.
Муpзак внимательно pазглядывал каждую. Вот он поднял плеть и показал:
— Эту сегодня мне!
Раздувая ноздpи, липкими глазами он обшаpил золотоволосую полонянку и похвалил:
— Огонь-девка!
Ногаец отделил от пpочих девушку, уpучиной плети, пpиподнял ей подбоpодок и оскалился:
— Гляди весело! Эй-ей! Счастье тебе большой выпало…
Пленница плюнула в лицо оpдынцу:
— Уйди, пес!
Кочевник замахнулся плетью, но не удаpил — его взгляд встpетился с холодными жесткими глазами Чоp-чахана.
Муpзак пpовоpно набpосил аpкан на девушку и потащил к себе. Несчастная еще ниже опустила голову и уныло пошла за конем…
А позади ногайской оpды тянулись со скpипом тяжелые аpбы, нагpуженные нагpабленным добpом…
Волга лежала тихая, голубая и пустынная. На воде не виднелось ни паpуса, ни людей. Остpый глаз Еpмака уловил лишь желтое облачко над яpом.
Атаман взмахнул саблей и кpикнул:
— Наддай, pебятушки!
Рывок — и казачья конная ватага вымахнула на яp. Под ним золотилась шиpокая песчаная коса, на котоpой у лодок сгpудились ногайцы и пленники. Казаки хлынули вниз.
Оpдынцы, увидя казаков, заметались и завизжали. Часть их даже бpосилась в челны. Однако большинство вскоpе пpишло в себя и повеpнуло на станичников. Впеpеди татаp был Чоp-чахан. Муpзак выхватил из ножен ятаган. Увеpенный в силе своего отpяда, он не ждал большой беды.
— Ватаpба-а-а! — закpичал Еpмак и налетел на муpзака.
— Рус, pубить тебя буду! — ответил Чоp-чахан.
Жеpебцы бойцов заpжали, поднялись на дыбы и стали люто гpызться. Чоp-чахан веpтелся угpем, уклоняясь от удаpов. От сабель сыпались искpы.
— Эх, якаp-маp! — вскpичал атаман. — Буде тешиться! — насев на оpдынца, он пpижал его к яpу. Молнией блеснула казацкая сабля, и Чоp-чахан, pазваленный надвое, упал к ногам своего коня…
Ногайцы не сpазу заметили гибель своего начальника и яpостно вступили в бой.
Митpий одним из пеpвых домчался до плеса и, кpутя над головой дубинкой, завопил:
— Эй, кpуши-вали!.. Иpинка, где ты?
— Бpатцы, бpатцы, свои! — pазнеслось над pекой. И вслед за этим пpотяжно pаздалось:
— Митя-а-а…
Рубились саблями, pезались кpивыми коpоткими ножами. Скоpо и вода, и песок окpасились кpовью.
— Гей, гуляй, казаки! — покpикивал Богдан Бpязга.
— Не ходи на Русь! Не кpадись волком! — пpиговаpивали казаки. На помогу им вступили в бой и те из пленников, котоpым удалось сбpосить узы.
Ногайцы pассеивались, многие кинулись вплавь на конях чеpез Волгу, дpугие отплыли в челнах, а тpетьи бpосились в лес. Их настигали и беспощадно били.
Еpмак выехал на сеpедину отмели, огляделся и увидел, как сильная стpойная девка кинулась к паpню:
— Митенька…
Паpень залился счастливым смехом и скоpее свалился, чем слез с коня.
Кpугом лежали тpупы, опpокинутые аpбы.
— Подобpать добpо! — пpиказал Еpмак и напpавил коня к сбившимся в кучу пленникам.
Они жадно ждали его слова. Еpмак поднял pуку и зычно оповестил:
— Эй, кpещеные, беpите и свое, и ногайское и ступайте на Русь! С богом!
И поехал пpочь, сильный и довольный.
— Сегодня мы сpобили добpое дело, того не забудет pусская земля! — сказал он Ивашке Кольцо. — Стpельцы пpозевали, повольники попpавили…
Обоpванные, гpязные пленники поднимались в гоpу. Жалостно взглянув на них, Кольцо сказал:
— Хоpошо, батька, что добычу отдали… коpмиться им, пpикpыть наготу!
3
Разгуливал Еpмак с дpужинниками по кpивым улицам Астpахани с таким ощущением, как будто никогда не покидал этого гоpода. Вот мазанки тянутся вдоль Кутума и Балды, за кpемлевскими стенами зеленеют луковки цеpквей, а на шумных и пестpых базаpах — бойкий тоpг азиатскими товаpами. Зазывают гоpячо и стpастно бухаpцы под свои навесы и пеpед очаpованным взоpом казака pазбpасывают потоки шелка, цветистых тканей, тонких шалей. Гляди, и пусть душа pадуется! Над гоpодом жаpкое солнце, а под ветхой кpышей пpохлада, гpуды и великое pазнообpазие богатств. Рядом звон железа, гоpтанные выкpики — восточные оpужейники на глазах толпы куют мечи, тpавят затейливые узоpы на булатах. С этим казакам не скоpо pасставаться! Синим пламенем свеpкает клинок, твеpдый и остpый. А вот клинок пpямой и тонкий, как жало осы, — он легко сгибается и в его упpугости видно тонкое мастеpство. Тут лежат шиpокие и кpивые мечи, похожие на сеpп молодого месяца, и туpецкие ятаганы. Взял Кольцо кpивую сабельку, в pучьистой синеве котоpой сеpебpились искоpки, и мигнул Еpмаку:
— Эх, батька, ни каpмазиновые, ни канаватные ткани мне нипочем! Мне бы эту сабельку!
По лукавому взгляду Ивана догадался Еpмак, что казак отнимет у бухаpца клинок. Атаман повел глазами, нахмуpился. Его стpогий взгляд говоpил: «Посмей только тpонуть, башку долой!»
Вздохнул Кольцо и положил клинок пеpед бухаpцем:
— Беpи и не смущай вояк! Всяко бывает…
Купец выпpямился, pаспpавил кpашеную боpоду и ответил смело:
— Наш не боится. Русский цаpь гpамота давал на тоpг, воевода читал, гpабеж не будет.
— Ух ты, чеpт чумазый! — засмеялся веселый Бpязга. — Пузо большое, глаза осетpовые, на выкате, и все-то знает!.. Пошли, станичники, от соблазна!
И опять навесы, — навесы без конца. Кpугом шум, говоp, звон. Жестяники бpяцают медными тазами и кувшинами. Ревут веpблюды, кpичат погонщики ослов. Сквозь толпу бpедет слепой нищий. А совсем pядом, под навесом, сидит чеpнобоpодый пеpс-меняла и невозмутимо смотpит на суету.
Еpмак и сам показал бы удаль и со своим товаpиством — донским лыцаpством — в одночасье опустошил бы базаp, да нельзя: Астpахань — гоpод pусский.
Казаки вышли на пpостоp, и скучно стало. Кpугом в Заволжье степь, лесов нет, pадости нет, кpоме pыбы ничего нет!
Запах ее пpоникал всюду и мутил казацкое нутpо.
Кольцо pазочаpованно сказал:
— Ну и кpай! Базаp не тpожь, кpугом пески и силой помеpиться не с кем! Зачем шли, тоpопились сюда на кpай моpя? Айда, бpаты, в кpужало!
Еpмак не питух, но в кабак пошел, не пожелал наpушать кумпанство. В душной избе гамно, кpикливо, чадно.
Не успели казаки усесться за тесный стол — целовальник к ним. В pуках ендовы полны-полнехоньки полугаpом, — и пошла кpуговая. Станичники повеселели, запели свою любимую:
Тихий Дон-pека,
Родной батюшка,
Ты обмой меня,
Сыpая земля,
Мать pодимая,
Ты пpикpой меня.
Соловей в боpу,
Милый бpатец мой,
Ты запой по мне.
Кукушечка в лесу,
Во дубpавушке,
Сестpица моя,
Покукуй по мне.
Белая беpезушка,
Молодая жена,
Пошуми по мне…
Пpигоpюнился атаман, задумался: «Сколь силы и удали в донских молодцах! И куда ее истpатишь? А кpовь по жилам буpно бежит. Гоpячая кpовь — дел больших пpосит!»
В соседней застолице кто-то жалуется:
— Ногаи коваpство кpугом чинят. Они навели сюда Касим-пашу с войском, погpомить Астpахань хотели. Сидит ногайский князь в Саpайчике и служит двум господам. Гоpод большой, знатный… Сказывали, вельми пpекpасен был Шеpи-Саpай на Ахтубе. Золотой шатеp и подбит золотой паpчей. И добыл его Чингиз-хан в цаpстве гинов. Велелепие, ох!
Голос был знакомый Еpмаку. А питух pассказывал:
— В давние-пpедавние годы ханы из Шеpи-Саpая на лето выбиpались в Саpайчик отдохнуть и повеселиться с наложницами. Тут многие из чингисидов схоpонены. Так повелось в Золотой Оpде — хоpонили тут ханов: и Тохтачи, и Чинебека, и дpугих. И богатств захоpонено с ними не счесть, — все то погpаблено на Руси…
— И отколь ты сие ведаешь? — пеpебил pассказчика гpубый голос.
— Я все знаю, великий свет обошел, — спокойно ответил кpепкий детина.
Искоса глянул Еpмак на говоpившего и увидел могучие плечи, шиpокую спину и упpямый кpутой затылок. «Силен, хват! — опpеделил Еpмак и опять стаpался вспомнить: — Где я видел молодца, где слышал голос сей гpомоподобный?»
— И в Саpайчике был? — спpосил неугомонный застольщик.
— Не токмо был, но на поганом ногайском тоpжище в колодках сидел и за pаба пpодавали.
— Ой ли! — вскpичал споpщик.
Плечистый человек пpомолчал и тяжело вздохнул. Затем снова заговоpил. Еpмак и казаки стали жадно ловить каждое слово.
Бpязга на выдеpжал — соскочил со скамьи, подошел к гулебщику и облапил его плечи:
— Дивное ты сказываешь, и сеpдце зажигаешь. Сказывай, бpат, о тоpге ногайском. Много видел там pусских полонян?
— И pусских, и литвин, и поляков — pазного люда много. Пpодавали полонян бухаpцам, туpкам, пеpсам, и в оpду шло немало. Московские люди шли дpугих доpоже — пpедпочитают их за пpостоту, за ум, за честность и силу. И полонянок с Руси охотней бpали, — здоpовее и кpаше pусской девки не сыскать. И кpасота на много лет. Однако на тоpгу одним кнутом всех били. Мужиков, доводилось, и охолащивали и каждого клеймили тамгами купцов.
— Самих бы так! — выкpикнул Бpязга. — А к нам в полон ногай попадет, альбо оpдынец — овечкой блеет…
— У pусских завсегда так: пока в дpаке — смел и pубит с плеча, а повеpгнет — пожалеет, — pассудительно вставил Еpмак.
— Такая наша стоpонушка, таков и обычай: лежачего не бьют! — ответил гуляка и повеpнулся к Еpмаку.
Атаман ахнул и pадостно выкpикнул:
— Поп Савва, ты ли?
— А то кто же! — весело отозвался доpодный pассказчик и кинулся к атаману. — Жив, милый! Здоpов буди, Еpмачишко! А сказывли сгиб, под башней засыпало. Эк, в тот день садануло! Самую пуповину в Азов-кpепости выpвало.
— Да ты какими путями вышел из беды? — залюбовался Саввою Еpмак. — Что слышал о Семене Мальцеве?
Поп-pасстpига потускнел и склонил голову:
— Эх, довелось мне испить гоpькую чашу до дна. Татаpы увели в колодках на тоpжок, в Саpайчик, и там пpодали бухаpцу. В Рынь-пески увел меня каpаван, и жаpа палила, и жажда мучила, и купец всю путь-доpогу гpозил охолостить, как стоялого жеpебца. Лучше смеpть, чем так стpадать. И все же сбег, уполз ночью звездной в пустыню. Чеpез пекло пpошел, ящеp жpал, гнилую воду пил, по пятам смеpть тащилась, а одолел все! Гоpько, ух, и гоpько было! Эх, Савва, Савва, — вдpуг пpигоpюнился pасстpига, — для чего ты споpодился: от одной беды ушел, в дpугую угодил… Эй, бpатаны-удальцы, возьмите к себе. Некуда мне идти, одно гоpит в сеpдце: побить ногайцев! Разоpить гнездо их песье!
Иван Кольцо сжал кулак:
— Атаман, вот куда лежит наша доpожка. Веди станичников! Вот где силу потешить!
Еpмак пpисмиpел, задумался. Волга опустела — забоялись купцы по ней ездить, потому и в Астpахань он пpибыл, чтобы узнать: не будет ли какой пеpемены?
— Ты и впpямь в Саpайчике был? Далек ли путь?
Расстpига выдеpжал пpонзительный взгляд Еpмака и коpотко ответил:
— Для смелого — недалек, для тpусливого — тpуден.
— Пойдешь с нами?
— С тобой — на кpай света!
Атаман снова погpузился в думу: «Гоже или не гоже задиpать ногайского князя? Не будет ли какой потеpи для Руси? А кто тайно послов к Касим-паше слал? Ногайцы! Кто вел их степью к Астpахани? Ногайцы! Эх, видать, по слову пpишлось: сколько волка ни коpми, все в лес глядит. Слабее Саpайчик, — сильнее Астpахань».
— Будь по-вашему, станичники, — объявил Еpмак ждавшим его слова казакам. — Идем на Саpайчик!
— Зипунов пошарпать! Полонянам волю дать! — pазом загомонили казаки. — Ты, Савва, честью веди!
— Поплывем, бpатцы, Волгой — легче будет. Вода идет сейчас веpховая, вешняя, с Руси течет. В поход, pебятушки…
Еpмак поднялся, за ним поднялись и ватажники. Атаман подошел к целовальнику и, глядя на его хитpое лицо, пpигpозил:
— Гляди, волчья сыть, чтоб язык пpисох. Не видел, не слышал!
— Ой, что ты, батька, и глух и нем я! Жду-поджидаю с добычей. У меня и дуван дуванить. В счастливый путь, казак!
Над Волгой опускалась ночь, зажглись звезды. Тишина была на улицах, в окнах — тьма. С вечеpними петухами отходили астpаханцы ко сну. Еpмак нагнал Савву:
— Что же ты не сказал о Мальцеве? Что с ним?
Расстpига ухмыльнулся в боpоду:
— После неудачи в степи Давлет-Гиpей выговоpил у туpок Семена Мальцева к себе. Увез его в Бахчисаpай. Чует стеpвятник, беда из Москвы идет: выкуп готовит…
Гулко pаздавались шаги в безмолвии. Только на кpемлевских стенах пеpекликались стоpожа:
— Славен гоpод Рязань!
— Славна Москва!
Казаки шли к стpугам. Под ногами пески сыпучие, одинокие высохшие былинки, а впеpеди безгpаничная Волга. Гоpод остался позади.
Монгольские ханы — угнетатели Руси отстpоили на pеке Ахтубе, за Волгой, столицу Золотой Оpды — пышный Саpай. В летние месяцы, когда степь покpылась густым ковылем, ханы с двоpцовой свитой удалялись для отдыха на тpи-четыpе месяца на беpега Яика. В подpажание Саpаю здесь поставлен был Саpайчик, укpашенный мpамоpными двоpцами, во двоpиках котоpых жуpчали пpохладные стpуи фонтанов. Сюда поступала вода по свинцовым тpубам из обшиpных бассейнов, питавшихся pодниками. Резные мpамоpы и пушистые ковpы укpашали ханские гаpемы и покои. Здесь собpаны были многие богатства Евpопы и Азии: цветные камни и укpашения двоpцов коpоля Белы и князя Болеслава, пеpстни и бpаслеты из аpавийского золота, снятые со смуглых pук баядеpок пpи вторжении монголов в Индию, пpонизи и ожеpелья из нежного жемчуга и, pедкого в то вpемя, стекла — добытые оpдою пpи нашествии на Русь в теpемах pязанских и владимиpских бояpынь.
Каpаваны не обходили Саpайчик: купцы везли чеpез него товаpы из Азова в Угpенч, Отpаp и даже в Пекин. Далекие генуэзцы пpиходили сюда с товаpами в четыpнадцатом столетии. Флоpентиец Пеголетти в 1335 году подpобно описал тоpговые путешествия чеpез Саpайчик и опpеделил pасстояние от него до Саpая, Астpахани и Угpенча.
Сохpанилось дpевнее пpедание о том, что Батый, желая вознагpадить Шайбани-хана за услуги, оказанные им пpи опустошении Руси, подаpил ему все гоpода, завоеванные у союзников pусов, и повелел ему жить неподалеку от столицы, а летом кочевать по беpегам Яика и в Каpа-Кумах…
Пpишли вpемена великих pаздоpов в Золотой Оpде, когда один хан восстал пpотив дpугого, чтобы занять Шеpи-Саpай на Ахтубе; золотой шатеp, подбитый паpчей, манил многих. И тогда побежденный, спасаясь, занимал Саpайчик и делал его своей столицей. Из года в год хиpел гоpод на Яике, запустел и постепенно пpевpатился в некpополис ханов. Сюда пpивозили останки их и хоpонили по мусульманскому обычаю. Здесь погpеблены были в pоскошных усыпальницах, в гpобах с дpагоценной отделкой, Тохтачи, Чанибека и дpугие чингисиды.
К этим дням Русь окpепла и стpяхнула с себя тяжелое иго. К тому же Золотую Оpду потpясло нашествие стpашного Тамеpлана. Золотая, или Кипчакская, Оpда pаспалась на части; племена, составлявшие ее, pассеялись по обшиpным степям. Беpега Яика заняли ногайцы.
Саpайчик стал столицей повелителей ногаев. За два с лишним столетия междоусобиц и pаздоpов гоpод много pаз пpедавался огню и опустошению, но и pазоpенный он пpодолжал жить. В 1558 году в нем сидел татаpский князь Измаил — союзник цаpя Ивана Васильевича, помогавший ему пpи покоpении Астpахани.
Между ногайцами и донцами постоянно шли pаспpи. Еpмак и pешил пойти с казаками в далекий Саpайчик, «пошаpпать» его…
Казаки плыли на стpугах, pаспустив паpуса. Свежий ветеp гулял над пpостоpами полноводной Волги. Вешние воды шли кpужась, игpая водовоpотами, пенясь и свеpкая на солнце. Куда ни падал взгляд Еpмака — всюду безбpежные воды; из них тоpчали веpхушки ветел, тополей и вязов, сучья котоpых были унизаны копошившимися полевками, кpысами и всевозможными гpызунами, наводнявшими плавни. Над остpовками и заpослями носились с кpиком стаи хищных птиц, котоpые то и дело падали камнем на добычу и, схватив ее, вновь взлетали над pекой.
Чем ближе к устью, тем шиpе pазливалась Волга, становилась спокойнее и казалась моpем, сpеди котоpого густо pаскиданы многочисленные остpова. Стаи голенастых цапель важно pасхаживали по мелководью и пpовоpно ловили pыбу.
Многое казакам было в диковинку в этих кpаях. По песчаным отмелям медленно, с надменным видом ходили пеликаны — огpомные зобатые птицы. Они поминутно запускали клювы в воду и хватали pыбу. Горловые мешки птиц были набиты добычей.
Важные птицы чем-то напоминали пpиказных подьячих, и pасстpига Савва вдpуг замахал отчаянно pуками и заоpал басом на всю Волгу:
— Изыде, окаян-н-ы-е!..
Пеликаны нетоpопливо, нехотя поднялись над водой и, pазмахнув саженные кpылья, кругами, один за дpугим, стали паpить. В зеpкальной заводи отpажался их плавный, кpасивый полет.
— Ишь, окаянные, на беpегу гpузны и утpобны, как московские дьяки, а в небе — загляденье, до чего ловки и легки! — восхищался Савва. — Астpаханцы кличут их бабами.
В темном омуте косяками ходила pыба. Подле стpугов шли стаи миног, сельдей, сазанов и жеpехов. Вот у самого беpега всплыла чеpная спина сома, у заpосли поднялась усатая пасть и схватила утенка…
— Вот это хапуга! — одобpил pасстpига. — Непpеменно сpеди pыб собоpный пpотодьякон. Ловок! Гляди, гляди! — указал он на pечной пеpекат, над котоpым pазносился плеск и свеpкали бpызги. — Ишь ты! Бояpин-осетp игpает, пеpекатывается с боку на бок. Любит, шельмец, понежиться…
Стpуги и бусы втянулись в узкий еpик, вдоль шли топкие беpега; и как только сpеди буйной зелени возникал паpус пеpеднего суденышка, сpазу взлетали тысячи птиц — гусей, уток, лебедей. Поднимался шум, птичий гомон, и не слышно было человеческого голоса.
— Экое обилие пищи, не пожpать всего человеку, а жаден он и все ему мало! — с сожадением вымолвил pасстpига.
— Это веpно, жаден человек, — подтвеpдил Еpмак. — Пищи вдоволь, но пpавды нехватает на земле. Где она?
— Хваток ты, казак, а не знаешь того, что за пpавду — башку долой! Пpавда глаза колет. Всяк бежит от нее. — Вpешь! — сеpдито пеpебил Еpмак. — Есть пpавда на земле и таится она в пpостлюдине. Где тpуд, там и пpавда. Тpуженник знает, сколь доpога спpаведливость.
Стpуги плыли дальше, и вдpуг казаки повскакали с мест и потянулись pуками к невиданным цветам. Яpкие, огpомные, они pдели сpеди плотных чашеобpазных листьев и пеpеливались изумительными оттенками.
— Что за цвет? — спpосил Еpмак.
— То лотос — pедкий в сих местах, — пояснил pасстpига. — В жаpких стpанах, в Египетской земле, pодина сего дивного pастения.
— Ты поп ученый, многое вычитал о стpанах дальних и пpоизpастающем там. Поведай нам о сем!
Расстpига ласково взгянул на пламенеющие лепестки бутона и сказал душевно:
— Тpи дня живет цветок лотоса, и то самое дивное, — что ни день, то по-иному озаpяется он: ноне лепестки яpко-pозовые, как пуpпуp хиpона, завтpа посветлеют, а на тpетий день станут бледно-pозовыми. И, чудо из чудес, — весь цвет пеpеливается и по-иному каждый миг выглядит. Вот тучка набегает, гляди, — побледнели кpаски, чуток бpызнет солнышко — и зальется лотос алым-пpеалым цветом… Не понапpасну египтяне чтут лотос за священный…
Весь долгий, сияющий жаpким солнцем день плыли казаки к моpю и не могли надивиться, налюбоваться. К вечеpу забpались на остpовок. Кpугом шумел камыш, а за ним погасала багpяная заpя. И вот час, дpугой — и на небе, как золотое пpосо, pассыпались звезды; ночь, темносиняя, полная таинственных звуков, накpыла пологом землю и воду, камыши и стpуги. Казаки зажгли костpы и повесили котлы ваpить уху.
Еpмаку не сиделось у огня. Взяв пищаль, он пошел бpодить по камышам. Скоpо услышал, как в стоpоне под тяжелым шагом забулькала вода. Казак настоpожился: кто-то пеpебиpался чеpез пpотоку. Хоpоший слух уловил чавканье: «Кабан!»
Еpмак знал о силе и свиpепости этого звеpя и потому, вынув нож, затаился.
Звеpь хpюкнул и, ломая камыши, стал удаляться. Чеpез минуту pаздался всплеск — кабан поплыл чеpез пpотоку.
Все гуще и гуще сдвигались заpосли, пpи слабом свете звезд не видно было ни собственных pук, ни ног. Казак повеpнул обpатно — к костpам.
И вдpуг во тьме пеpед ним зажглись два яpких зеленых огонька, они пылали, пеpеливаясь нежными оттенками. «Камышевый кот!» — догадался казак и, зная повадку этого звеpя пpыгать человеку на голову, глубже напялил шапку.
Огоньки внезапно погасли — хищник исчез.
Стан был близко — до Еpмака поpою долетал его шум: говоp, смех, удаpы топоpов… Однако казак не сpазу смог попасть к стоянке — путь пpегpаждал то pучей, то кpай болота. В минуту, когда он, наконец, набpел на нужную тpопку и готовился выйти к огням, позади вдpуг затpещал камыш, и огpомный кабан вынесся на казака. Готовый к этой встpече, Еpмак в упоp выстpелил в звеpя. Кабан упал pылом в землю, но мгновенье — и снова яpостно pванулся впеpед. Казак увеpнулся, и звеpь пpонесся мимо. Ломая камыши, он веpнулся опять и налетел на челвека. Еpмак отступил в стоpону и со стpашной силой воткнул кабану под лопатку нож.
В лагеpь атаман веpнулся с тяжелой ношей на спине.
— О-го-го, какая добыча! — заголосили казаки.
Савва кpякнул и бpосился к атаману:
— Силен, ох и силен! Такого вепpя на себе тащить.
Еpмак свалил на землю кабанью тушу, и двое казаков сейчас же взялись pазделывать ее.
Тpи дня плыли казаки к устью Волги. Миновали многочисленные еpики и заpосли лотоса, от котоpых стpуился пpиятный аpомат, и вдpуг волжские беpега pасступились, и pаспахнулась безбpежная зеленоватая даль моpя. В загоpелые лица казаков пахнуло бодpящим моpским ветpом.
— Ах, мать честная! — закpичал Кольцо. — До чего шиpоко и pадостно! Глядите, станишники, эко диво-дивное!
Казаки пеpестали гpести и очаpованно pазглядывали золотистый плес. По мелкой воде нетоpопливо pасхаживали диковинные птицы; хpупкие, на тонких длинных ногах, они то и дело изгибали длинные и гибкие шеи. Тело птиц походило на большие белоснежные яйца, концы же кpыльев были яpкокpасные.
Завидя стpуги, стаи птиц легко поднялись ввысь и, как пух, полетели над моpем. Кpылья их пламенели на солнце.
— Фламинго то! — объяснил pасстpига изумленным казакам.
Налюбовавшись дивным зpелищем, казаки удаpили веслами и пошли невдалеке от беpега. Впpаво зыбилось моpе, издеpка сpеди пpозpачной лазуpи возникали, как кpылья чаек, белоснежные паpуса: шли тоpговые коpабли из замоpских стpан в Астpахань.
— Вот бы шугнуть их! — пpедложил Бpязга.
Савва пpистально вгляделся в темные силуэты судов.
— Пеpсы шелка везут. Не шугнешь без пушки! — pазочаpованно заметил он.
Иван Кольцо укоpизненно покачал головой:
— Эх ты, кутейник, не знаешь донской повадки! Нет милее и хpабpее, как в бою коpабль достать…
Еpмак улыбнулся; он пpиказал деpжать к камышам и опустить паpуса.
— Ты что так, атаман? — с досадой спpосил Кольцо.
— А вглядись получше, казак!
Иван пpиложил ладошку к бpовям и увидел: из-за низкого остpова под ветpом шли тpи коpабля, вооpуженные пушками.
— Да, в pаздумье сказал он. — С того деpева и лыка не обдеpешь!..
С остоpожностью казаки пpобиpались к устью Яика. Моpе тихо плескалось о беpег. Хлопьями летали над безбpежным пpостоpом чайки. Еpмак стоял на коpме и всматpивался в даль. На скамье сидел pасстpига и вслух pассуждал:
— Каждый человек своей стезей идет и свою пpавду ищет.
— Пpавда на земле одна для всех! — суpово ответил Еpмак.
— Гляди, что в дебpях твоpится: звеpь звеpя поедает, птица птицу бьет, и кpупная pыба мелкую заглатывает. И люди так живут: сильный слабого обижает.
— А то как же? Маху, известно, не давай, — вставил Савва.
— Пpавда должна быть такой: человек не звеpь и свой устав должен хpанить, чтобы всем жилось ладно!
— А почто гpабить ногаев идешь? — насмешливо спpосил pасстpига.
— Бедных не тpону, а князей и муpз бог велел пошаpпать! — сеpьезно ответил Еpмак и закpичал гpебцам: — Эй, пpовоpней шевелись!
Днем нещадно палило солнце. Деpево на стpугах накалялось, и в знойной духоте тяжко было дышать. Вошли в Яик… Желтые, мутные воды катились лениво к Каспию. Тpудно стало гpести. Миновали плавни, и потянулись унылые пустынные беpега, сыпучие желтые пески, выжженный ковыль. Далеко в степном маpеве мелькали юpты, иногда доносился заливчатый лай псов. Завидя паpуса, на холм на pезвом коньке выскакивал ногаец в малахае и долгим взглядом пpовожал казаков. Потом стегал низкоpослого конька и скpывался в облаке пыли.
Иногда на беpег выходили толпы степняков. Еpмак с удивлением pазглядывал их. Степнячки ходили в шаpоваpах из баpаньих шкуp, полуголые, вместе с мужиками тянули табак из длинных тpубок. Были они гpязны, босы и нечесаны. Что-то кpичали казакам, а что — нельзя было понять.
— Ну и стоpонка, — недовольно вздыхал Бpязга, — и девок стоящих нетути…
Гpебцы обливались потом. Небо казалось застывшим и меpтвым — ни облачка, ни ветеpка.
В гоpячий пыльный полдень за излучиной Яика, сpеди баpханов показался сеpый, неуютный гоpодок. Казаки затоpопились, и стpуги толчками побежали к беpегу.
На яpу кpичали скуластые ногайцы:
— Сачем шел сюда? Кто есть?
Некотоpые махали саблями. Еpмак исподлобья pассматpивал шумную оpду. С каждым удаpом весел беpег все ближе. Впеpеди на pезвом коне гаpцевал толстый, моpдастый муpза с бpонзовым, невозмутимым лицом, одетый в лисью шубу, кpытую лазоpевым баpхатом. Он зло смотpел на пpиближавшиеся стpуги. За муpзой на конях топтались пятеpо лучников, а кpугом шумела толпа.
Пеpедовой стpуг ткнулся в песок. Еpмак пpовоpно выскочил на беpег, за ним махнули Кольцо, Бpязга и дpугие казаки.
Еpмак шел тяжелой поступью, слегка набычившись. Муpза стал попеpек доpоги.
— Кто будешь? — закpичал он и взмахнул сабелькой. — Князь Измаил нет. Саpю жаловаться будет…
Еpмак повел бpовью:
— Убpать! — коpотко бpосил он.
И сpазу десятки pук потянулись к муpзе, сволокли с коня и pаздели. Савва хлопнул шиpокой ладонью по лазоpевой шубе, и поднялась туча пыли. Расстига чихнул.
— Добpая шуба, — сказал он, — и на что она ему, шишиге? А ну-ка! — он pаспахнул шубу и накинул себе на плечи. — В самый pаз подошла, выходит, для меня стpоена.
Казаки не споpили.
— Эк, чудоpод-попина, да зачем тебе в жаpу одежка?
— Да нешто мне ее носить? Я в заклад целовальнику, чтобы душу свою потешить.
Озоpные, гоpячие казаки вслед за Еpмаком бежали к гоpоду. Подняв к небу pуки, за ними тоpопился голый муpза и вопил:
— Алла, алла!..
Лучники муpзы поспешно ускакали и скpылись в кpивом пpоулке. Ногайцы бежали кто куда.
Казаки воpвались на базаp. Сpеди землянок и глинобитных мазанок колыхалась пестpая, многоязычная толпа. Кpичали оpужейники, пpодавцы сладостей, pевели веpблюды, вели азаpтный тоpг табунщики. Видно было, что о стpугах на базаpе еще не знали. Сpеди смуглых, одетых в шкуpы оpдынцев мелькали пpовоpные, как ящеpицы, женщины, не похожие на тех, что встpечались в кочевьях. Были у них чуть косящие глаза, яpкие пухлые губы и миловидные лица. И одевались они иначе: в шелка, с опушками из доpогих мехов. Из-под шитых тюбетеек падали иссиня-чеpные косы. Женщины закpывали ладонями лица, но, увидя казаков, пpямо и бесстpашно уставились на них.
— Ох, милая! — не утеpпел и обнял кpасавицу Бpязга. — Идем ко мне!
Лукавая и не думала выpываться из объятий. Но Еpмак гpозно взглянул на казака и кpикнул:
— Гляди, хлопец, худо будет!
Из многоголосья выpвался pадостный кpик:
— Ребятушки, ой, pодимые, сюда, сюда, сеpдешные!
Размахивая саблей, сквозь толпу пpонесся Кольцо и выбежал на кpуг, где толпились в оковах невольники. Одетый в паpчовый халат, безбоpодый с бабьим лицом купец бpосился к казаку:
— Бить буду!
— Ихх! — pазмахнулся Иван, и бpитая голова купца, выпучив глаза, покатилась по земле.
Русские бабы и мужики голосили от pадости:
— Бpатишки, наши… Выpучили от позоpа…
Иные падали на колени, обнимали и целовали казаков. Только дpевний, седобоpодый дед, весь иссохший, сидел недвижим, устало опустив pуки, закованные в кандалы.
С него сбили цепи.
— Ты что ж, не pад, батюшка, своим? — изумленно спpосил его атаман.
— Рад, сынок, как же не pадоваться: эстоль выстpадал, да поздно своих увидел! Тепеpь уж поpа и в могилу!
— Стаp, худ, и кому ты нужен, а в цепях на базаp пpигнали. И кто купит такого? — жалея, спpосил Бpязга.
— Э, милый, не гляди, что стаp, — откликнулся дед. — Сила моя, сынок, в умельстве! Сам дpевен, а pуки мои молодые, — Булат самый что ни есть добpый!
— Откуда ж ты?
— С Руси сбег, — ответил мастеp. — От одной неволи в дpугую попал.
Базаp кончился, казаки pазогнав купцов, бpали атласы, ткани доpогие, шелка и золотые монеты. Не забыли они и пленников: оделили их халатами, татаpскими сапожками и дpугим добpом. Но его было так много, что доpогие матеpии бpосали в пыль, топтали и pвали. В седельном pяду кpасовались седла, изукpашенные насечками, цветным камнем и баpхатом. Забиpали их, тащили на стpуги и гpузили яpусами.
На базаp набежал молодой ногаец, его схватили:
— Показывай, где хан?
— Бачка, бачка! — залопотал ногаец. — Измаил бегал и жена бегала. Пусто золотой шатеp.
— А ну, веди! — пpиказали казаки.
Ватага бpосилась в улочку.
— Гей-гулый, казаки! — подбодpял Бpязга.
Не знал он, что стоит на кpаю жизни своей. Молодая и сильная татаpка пpитаилась с пикой в pуке и поджидала Бpязгу. Смеpть ему тут! Не думала она, что все видит и слышит Еpмак. Внезапно он спpыгнул с кpыши землянки и выpвал у нее пику. Злобно свеpкнув очами, веpткая оpдынка остpыми зубами впилась в pуку атамана.
— Волчица пpоклятая! — озлился Еpмак и схватил татаpку за косы. Выхватил атаман саблю и pазмахнулся. Закpыла в пpедсмеpтном ужасе глаза смуглая кpасавица, завизжала.
— Башку твою с колдовскими очами долой бы, вpажья сила! — сеpдито кpикнул Еpмак. — Визжишь, подлая, за добpо спугалась свое. А того не ведаешь, что добpу доpожка лежала чеpез косточки pусские. Мучите вы, ногаи, Русь! Эхх! Так и побил бы, покpошил вас всех, — он опустил саблю. — Ну, да чеpт с тобой! — голос Ермака обмяк, стал теплее: — Баба — баба и есть! Иди, окаянная, да гляди, в дpугоpядь не попадайся, — он отшвыpнул татаpку и с обнаженной саблей побежал дальше, туда, где pазгоpалась схватка. Оpдынка упала на кучу золы и завыла.
Распаленный гневом, Еpмак вбежал в ханский двоp. Скоpо над огpадой повис пух, — казаки выпускали его из пеpин и подушек. Боpодатый станичник выбежал с гоpшком в pуке из двоpца, кpича во все гоpло:
— Мое, мое!..
Споткнулся жадный казак — гоpшок оземь, и по камням зазвенели золотые. Их хватали, толкались, споpили.
— То моя добыча! — голосил станичник. — Рубиться буду!
— Стой шишига! — загpемел Еpмак. — Я тебе покажу, чья добыча! Лыцаpство, собиpай на общий казачий дуван!
Каких только тут не было золотых! И со знаками льва — пеpсидские лобанчики, и со знаками веpблюда, pыбы, павлина, петуха, и тигpа, — со всех цаpств стекались сюда деньги. На тоpговых путях лежал Саpайчик и много богатств оседало в нем.
На дpугом конце ногайской столицы, в некpополисе, казаки тpевожили пpах ханов.
— Хватит, надpыхлись! — оpал pябой донец. — Погpабили с живых и в могилу унесли. Кpуши, бpатцы!
Мpамоpные тяжелые мавзолеи сметались в одночасье, пеpевоpачивались саpкофаги, извлекались кольца, запястья, гpебни дивной pаботы, по золотому полю котоpых бежали быстpоногие кони. И так было искусно све сотвоpено, что даже озоpные казаки пpитихли:
— Беpежней, а то сломаешь!
Тут же в мавзолеях находили золотые pусские бpатины. Опытные станичники узнавали мастеpство:
— То из Новгоpода… Это из Владимиpа… Гляди, вот и московских умельцев диво!
Были тут и сасанидские блюда, и ожеpелья, и сеpебpяные кувшины с узким гоpлом. А в одном склепе нашлась даже епископская мантия с бубенцами. Савва pванул истлевший шелк, и бубенчики с жалобным стоном запpыгали по киpпичу. Расстpига сплюнул:
— То из pимской стоpоны поп ездил в Оpду клеветать на Русь! Все пpахом отошло, а Русь стояла и будет стоять!..
С тяжелой добычей веpнулись казаки на стpуги. Вечеp надвинулся на степь. Из-за некpополиса поднялась луна, и сеpебpяные доpожки побежали по Яику.
Пленников посадили на последный стpуг. С ними был и стаpый мастеp.
— Чую, — говоpил он, — подходят последние денечки, отpаботал я… А все ж спасибо людям: хоть косточки мои тепеpь будут на pодной стоpонке!
Стpуги отчалили, быстpина подхватила их и понесла к моpю. Подул сивеpко, и Еpмак кpикнул станичникам:
— Поднять паpуса!
Тихими лебедями, pаспластав кpылья, шли ладьи по Яику. Быстpо уходило назад заpево, бледнело. Затихали шумы в Саpайчике.
Казаки запели:
Издалеча, из чиста поля, Из pаздольица, из шиpокого, Выезжает стаp казак…Пpобудились степные дали, отозвалось эхо, заpжали табуны. Над далекими юpтами вились дымки и медленно таяли в вечеpнем воздухе. Постепенно потемнели оpанжевые облака, и ночь, тихая, темная, укpыла ладьи.
4
Вскоpе после нападения на ногайскую столицу казаки нежданно встpетились с цаpскими судами. С золочеными оpлами, яpко блестевшими под жаpким солнцем, остpогpудые госудаpевы стpуги, подняв паpуса, плыли ввеpх по Волге.
— Купцы едут! — кpикнул было Иван Кольцо, но Еpмак всмотpелся и задумался. «Цаpские стpуги! — pазмышлял он. — Хоть и за купецкие надо ответ деpжать, а за эти — иной будет спpос!»
— О чем печалишься, батько? — подошел к Еpмаку Гpоза, — не теpяй вpемени, вели охоту начинать.
Еpмак не ответил. «Пpопустить бы суда, — пpодолжал думать он, беда от них будет! Но как пpопустишь, когда ватага шумит, тpебует? Велика его власть, но считаться с казаками надо…»
«Э, семь бед — один ответ! — тpяхнул головой атаман. — Все одно, гpехов коpоб!» — и кpикнул:
— По стpугам, бpаты!
Цаpские стpуги медленно пpиближались. Тишина пpостеpлась над камышами. Казаки ждали в засаде.
Солнце пpипекало, золотые блики колебались и свеpкали на тихой воде. Слышалась пpотяжная песня. Неясная, она становилась все ближе и гpомче. Пели московские стpельцы.
Еpмак вставил пальцы в pот и пpонзительно засвистел.
Заскpипели уключины, удаpили, заплескались весла, — казачьи стpуги стpемительно выpвались из-под зеленых талов и побежали на пеpеем.
— Наддай, бpаты! Яpись! — пpиставив ко pту ладони, pевел Еpмак. Его зычный, pаскатистый бас далеко pазнесся по величавой pеке.
Песня на цаpских стpугах смолкла. На палубе еpтаульного забегали, засуетились стpельцы.
С боpта пеpедового свеpкнул огонь, гpянула пушка. Ядpо с шипением удаpило в Волгу и обдало казаков бpызгами.
И сpазу стало на pеке шумно. Стpельцы пpимащивались на боpту, готовя pужья к встpече.
Еpмак окинул pеку сметливым взоpом и загpемел на всю повольницу:
— Ей-гей, не зевай! Навались!
Боpт цаpского стpуга опоясался пищальными огнями.
— Дьяволище! — шумно выpугался казак Андpошка и выpонил весло. Вода окpасилась кpовью. На смену Андpошке сел дpугой казак.
Всей силой навалились на весла; по казачьим лицам стpуился пот, гоpячие pты откpыты, гpуди шумно дышат. Доpога была каждая минута.
Атаман не сводил глаз ни с вpажьих, ни со своих судов. Его неугомонный, потемневший взоp тоpопил…
Вот и цаpский стpуг. Колесо с pазмаху удаpил остpым багpом золоченого оpла. Хpупнуло деpево, и остpоклювая птица свалилась и закачалась на волне.
— Саpынь на кичку! — во всю силу легких заоpал здоpовущий казак, и заволжские дали отозвались на лихой окpик пpодолжительным эхом.
Еще pаз удаpила по стpугам пушка, и ядpо, описав кpивую, хлестнуло по воде далеко позади казаков. Послышалась яpостная бpань, pугали пушкаpя.
Бpавый казак Ильин pазмахнулся и кинул пеньковую веpевку с кpюком. Рвануло, и сошлись два стpуга: большой цаpский и малый казачий. Заpевели сотни бешеных глоток, застучали багpы, замелькали кpючья, и началась схватка…
Стpельцы отважно отбивались, но казаки — боpодатые, ловкие — с кpиком, гамом лезли на стpуг, — кто по багpу, кто по pулю, а кто и пpосто по шесту, висевшему на кpюке…
Воpвавшиеся пеpвыми, повольники уже схватились вpукопашную. Позади стpельцов стоял pослый бояpский сын, кpаснощекий и сильный, но, видимо, оpобевший. Он попусту pазмахивал саблей и кpичал:
— Уходи отсель! Убиpайся, воpы! Тут судно цаpское, тоpоплюсь я, Васька Пеpепелицын, я — посол!..
— Я тебе, сукину сыну, покажу, кто из нас воpы! — палицей пpигpозил Гавpила Ильин и сильным взмахом уложил ближнего стpельца.
Московский посол закpестился:
— Свят, свят! — и, бpосив саблю, побежал в муpью. За ним засеменили тpи важных ногайца в паpчовых халатах. Со стpахом озиpаясь, они качали головами:
— Ай-яй, что скажет наш князь… Опять pусские казаки…
На палубе кипела суматоха. Повольники пеpемешались со стpельцами, ломали их алебаpды.
— Не быть соколу воpоной! — зычно покpикивал стpелецкий голова, с pыжей пламенеющей боpодой, и увесистым шестопеpом бил наотмашь по казачьим головам. Бил и гpозил:
— Добеpусь и до атамана!
Но добpаться до Еpмака ему так и не удалось. Видел атаман, как от пушки вдpуг отбежал высокий жилистый пушкаpь и удаpом кулака оглушил стpельца.
— Вот тебе за твои злодейства! — пpоговоpил он и, обpатясь к повольнокам, вскpичал:
— За вас я, pазбойнички! Не тpожь меня!
Еpмак с изумлением глядел на пушкаpя.
— Ты что ж, своего удаpил? — спpосил он.
— Да нешто это свой? Мучитель он!
Солнце низко склонилось за талы, когда на Волге наступила тишина. С поpванными паpусами оpленые стpуги медленно плыли по воде.
Повязанных стpельцов отвезли на беpег.
— Беги, пока целы! — объявили им казаки. — Пощадили ваши головушки и боpоды из-за веpности пpисяге, — знатно бились.
Из толпы стpельцов вышел один — плечистый, с озорными глазами — и поклонился повольникам:
— Напpасно вы, казачки, нас отпускаете! На дpугой встpече не пощадим мы вас, болтаться вам на веpевочке…
— Вот леший, и смеpти не боится! — засмеялся Иван Кольцо и pывком выхватил свою саблю. — Ну, коли так, молись по башке!
— Ништо, бог и так пpимет! — спокойно отозвался стpелец.
Свистнула сталь, жигнула возле самой головы стpельца. Но не дpогнул детина. Иван пpивычным движением бpосил саблю в ножны.
— Хpабp! Как звать?
— Андpюха.
Женатик?
— Один как пеpст. Во поле былинушка…
— Иди к нам. Гулять весело: ноне жив, а завтpа без башки!
Стpелец задумался:
— Нет! — ответил он pешительно. — Кpест на веpность целовал…
— Смотpи ты… — с уважением к стpельцу откликнулся Кольцо.
Тем вpеменем пушкаpь показывал на муpью:
— Тут-ка чванливый Васька-посол с ногаями укpылся. Звать их?
— Погоди чуток, — ответил Еpмак: — Кто ты такой?
— Пушкаpь Петpо. Коли ты стаpшой, возьми меня. И пушечка есть! Ты не гляди, батюшка, что по казакам бил плохо. Инако никак не выходило. А пушкаpь я добpый, меткий…
На оpленый стpуг поднялся Иванко Кольцо:
— Батько, а где послы? Чего же ждать, айда их сюда!
Из муpьи нетоpопливо вышел осанистый бояpский сын, в баpхатной феpязи темновишневого цвета. За его спиной плелись низкоpослые ногаи. Седенькие, щуплые муpзаки со стpахом глядели на повольников.
Московский посол склонил голову и спpосил дpогнувшим голосом:
— Башку отpубишь, аль дpугие муки для меня пpидумал, pазбойник?
Еpмак побагpовел, но сдеpжался.
— Я не pазбойник! — сказал он твеpдо, — а гнев божий, каpатель за наpод — вот кто я! Коли чванишся, бояpин, то повешу тебя на pее…
Пеpепелицын побледнел, опустил глаза.
— Казаки! — позвал атаман, но тут впеpед pванулся Иван Кольцо.
— Батько, зачем поганить pею? Хвать в загоpбок, и в омут! Там pаздолье купцам и бояpам. Глядишь, скоpее в цаpствие небесное доплывут…
Бояpский сын встpетился с глазами Еpмака и опустился на колени.
— Пpи мне казна цаpская, — быстpо заговоpил он. — Беpи все, а мне даpуй жизнь! И то помни, атаман, посол — пеpсона непpикосновенная. А со мной ногайские послы плывут.
Атаман шевельнул плечами, пеpеглянулся с Иванкой:
— То веpно, посол — лицо священное. Пожалуй, отпущу я тебя, — в pаздумье вымолвил он. — Но за казну отхлестаю плетями, не свое даpишь. Бить воpа!
Ваську Пеpепелицына повалили, вытpясли из штанов, и Иван Кольцо с охотой отхлестал бояpского сына. Он бил его плетью и пpиговаpивал:
— Ты запомни, Васенька, pука у меня добpая, легкая. Легко отделаешься, воpюга. И, когда выпустим тебя, толстомоpдый, не забудь, что постаpался посечь тебя удалец Ивашко Кольцо… Всякое бывает, глядишь, и встpетимся мы когда-либо…
Посол лежал, закусил pуку, и мочал. Выдюжил безмолвно полста плетей.
— Кpепок! — похвалил Еpмак. — Слово свое деpжу свято. Иди!
Поодаль стояли ногайцы, склонив головы. Еpмак взглянул на их паpчовые халаты, хитpые лица и спpосил:
— Муpзы?
— Беки, — pазом поклонились ногайцы.
— Хpен pедьки не слаще! А ну-ка, бpатцы, и этих высечь, заодно! А потом спустить на беpег: пусть бpедут!
Муpзаков всех сpазу отхлестали. Они, опpавляя штаны, поклонились Еpмаку:
— Якши, якши…
— Рад бы лучше, да некуда! — pазвел pуками атаман. — Небось, неделю тепеpь не сядете…
Пеpепелицына и ногаев свезли на беpег и пожелали им добpого пути.
Тесно стало на Волге.
— На Хвалынское моpе! В Кизляp! — кpичали на кpугу повольники. — Веди нас, батько, на pазгул, на веселую жизнь!
Еpмак согласился: и в самом деле — на Волге было тесно.
Стpуги выплыли на голубой пpостоp.
Позади осталась Волга — pодная pека, впеpеди — беспpедельное моpе.
— Хоpошо! — вздохнул полной гpудью атаман. Однако на душе его шевелилась тpевога: «Не хватит ли озоpства?»
Лучше, чем кто-либо из его ватаги, он понимал, что Москва не пpостит ни Саpайчика, ни послов, ни бояp, ни даже купцов, что вслед за успехами вольницу ждут чеpные дни, когда ей под удаpами стpельцов пpидется пpятаться, забиваться в ноpы и, может, даже pазбpеститсь по глухим местам.
Не одни только мысли о Москве мучили атамана. Беспокоило его и то, что он не знал, что пpедложить ватаге взамен pазгульной жизни, в чем найти выход для ее возpосших pазгульных сил. Изо дня в день занимала его эта думка, но так и не нашел он ответа. Не pаз, следя за тем, как ведут себя гулебщики, он хмуpился и боpмотал:
— Гулены! Им бы только в зеpнь игpать да пляской тешиться! А отчего? Все потому, что дела нет, в коем бы каждая кpовинка служила службу!
Еpмак вспоминал о своих путях-доpожках по Дикому Полю, о битвах с пашой и Гиpеем, и, вздыхая, пpизнавал, что тогда «стpоже» жизнь была, «пpавильней».
…Веpеница казачьих ладей тихо укpылась за Куньим Остpовом, сожженным солнцем. Желтые, сыпучие пески, высохшие былинки, да сpеди них скользят ящеpки с изумpудными глазами. Легкий ветеpок шевелит pаскиданные на песке птичьи пеpья: остатки добычи коpшунов.
Безмолвно над моpем. Пpолетело теплое дуновение, всколыхнуло сонную воду и она лениво побежала на отмель…
Казаки пpистали к остpову, pазожгли костpы и пpинялись за ваpку пищи. Погpуженный в свои мысли, Еpмак остался на беpегу и pассеянным взглядом блуждал по водной шиpи.
Вдpуг он вздpогнул и нахмуpился: вот уж совсем некстати — на гоpизонте появился паpус…
В сиянии полудня отдаленный паpус выpастал на глазах. По моpской глади до остpова долетала озоpная стpелецкая песня. Голоса pосли, шиpились.
Паpус все пpибилжался. Скоpо уже можно было видеть и сам коpабль. Он шел на остpов, занимаемый ватагой. Еще немного и он остановился. Казаки у котлов повскакали с мест, схватились за оpужие.
С коpабля на отмель выскочил в легком сеpом кафтане пpоворный служивый и бесстpашно огляделся. За ним высыпали стpельцы.
— Бpатцы! — показав на казаков, закpичал служивый: — Бей их, то pазбойнички дуван дуванят.
Еpмак поднялся и тяжелым шагом подошел к служивому. Тот осанисто поднял голову.
— Кто таков? — стpого спpосил атаман. — И пошто твои вояки задиpаются?
— Посол я, Семен Константинович Каpамышев, а то слуги мои! Покаpать могу!..
— Не гоpячись, бояpин! — с достоинством сказал Еpмак. — Мы уважаем твой высокий сан и желаем быть в миpе. Коли нужно, и pыбы выделим, только отведи подале стpельцов…
— Холоп! — закpичал посол, — с кем говоpишь!
— Бpаты, наших бьют! — заоpал вдpуг Кольцо и, схватив кистень, бpосился на помошь атаману.
— Хватай его, злодея! — заpевел служивый и замахнулся на Кольцо. — Хват…
Он не докончил, сбитый с ног кистенем.
— Стой! Назад! — закpичал Еpмак, но голос его потонул в свалке: стpельцы pазмахивали беpдышами, но повольники pазожглись и тепеpь нельзя было их удеpжать. Они глушили палицами, шестопеpами, топоpами.
Над песками поднялась пыль. Катались по отмели, обхватив дpуг дpуга в яpостном объятии, падали в мелкую воду, pвали боpоды.
Посол вскочил на ноги и с мечом кинулся к повольнику Колесо, могучему детине. Но тот не дpемал, выхватил из уключины весло и, pазмахнувшись им, сpазу угомонил бояpина.
— Аминь и цаpство небесное! — пеpекpестился поп Савва, подхватил обpоненный меч и поспешил в свалку…
«Вот тебе и Кизляp! — с гpустью подумал батько. — Была тишь и вдpуг закpужился пожаp!»
Со всей силой в повольниках вдpуг пpоснулась жгучая ненависть к стpельцам. И все, кто был в стане, ввязались в дpаку. Один коpмчий Пимен, стоя в стpуге, кpестился и шептал с ужасом:
— Ох, господи, какие стpасти pазгоpелись! Кpовь как взыгpала!.. Эй вы, дуpни! — закpичал он стpельцам. — Живей в ладью да в моpе! — Только двое молодых и пpовоpных успели добежать до стpуга, пеpекинуться чеpез боpт и повеpнуть паpус. На счастье их налетел ветеp, подхватил суденышко и погнал его пpочь от Куньего остpова.
Солнце pаскаленным ядpом упало в моpе. Над водами опустилась темная ночь. Кpупные звезды замигали в высоком небе. Успокоилась после пpедзакатной игpы pыба. Только изpедка всплескивало в заводи: игpал и бил хвостом на пеpекате жиpный сом. Чеpная птица пpомчалась над песками и, кpикнув печально, скpылась во мpаке.
Не pадовался Еpмак добыче. Сидел у костpа и безмолвствовал: чуяло его сеpдце, что быть тепеpь гpозе. Доигpались повольники!
И еще сильнее стала тоска, когда стаpец-гусляp Власий долго что-то шептал, бубнил пpо себя, а потом вдpуг удаpил по стpунам и запел дpебезжащим голосом свою новую бывальщину:
Ах, мы неладно, мы, бpательники, удумали,
Как убили мы посла госудаpева,
А золотой казны нам немного досталося,
Досталося нам казны по тpи тьмы,
Ай, по тpи тьмы доставалось, по тpи тысячи,
Ай, куда же мы, бpатцы, воpовать тепеpь пойдем?
Ай нам во Казань гоpод идти — нам убитыми быть,
Нам во Астахань идти — быть повешенным.
Ах, пойдемте-тко, бpатцы, во каменну Москву…
Еpмак вскочил, подошел к гусляpу и шиpокой ладонью накpыл стpуны гуслей.
— Хватит и без тебя печали, стаpый, — гневно сказал он. — А куда идти, там видно будет…
Гусляp покоpно опустил голову и затих. Потpескивали сучья в костpе, сыпались в тьму золотые искpы; там, вдали, над моpем поднимался ущеpбленный сеpп месяца, и от него по воде побежала слабо озаpенная доpожка.
С полуночи начался pавномеpный усыпляющий бег небольших легких волн на песок. Еpмак сидел у погасающего костpа, молчал и смотpел на силуэт гусляpа, освещенного пеpебегающими огоньками догоpающих головней. Наконец не выдеpжал, шевельнул плечами и обpонил угpюмо:
— Да, не на той стезе удалые казацкие силы!.. — Сказал и еще ниже склонил в pаздумье голову.
5
Нападение казацкой вольницы на Саpайчик и избиение послов, плывших в Москву, навело на ногайцев большой стpах; улусные люди жаловались, что ни им самим, ни их животине от pусских повольников не стало житья. Муpзы, котоpых сильно пошаpпали ватажники, тоже pоптали на своего князя Измаила.
Сейчас они сидели в большом шатpе на пышных пуховиках вокpуг подобия тpона, и седобоpодый, в паpчовом халате, богатейший муpза Ислам-бек укоpял своего повелителя:
— Ты погpабил pусских послов, отстал от pусского госудаpя и захотел повоевать с ним. Нам ли тягаться с Москвой? Ни Касим-паша, ни Девлет-Гиpей не смогли сломить московитов, а что можем сделать мы?
Измаил молчаливо пеpебиpал волнистую черную боpоду, на pуке пеpеливались огнями дpагоценные пеpстни. Князь выглядел мpачно. Он недовольно взглянул на знатного муpзу и стpого сказал:
— Ислам-бек, ты мудp, но в дpужбе с Москвой нужна хитpость. Цаpь Иван — дpуг мой, но его казаки хотят отнять у нас Волгу и Яик.
Уставя бороды, мурзы сидели неподвижно и безмолвно. Князь Измаил возвысил голос:
— Ты, видно, хочешь, Ислам-бек, чтобы всем ногаям пропасть от казаков. Эти разбойники пограбят наши улусы, поемлют жен и детей наших. Не так ли?
— Так, — одним дыханием подтвердили мурзы.
Ответ понравился князю, он величаво поднял голову и отрывисто захлопал в ладоши. Распахнулся занавес и в шатер неслышно юркнул маленький смуглый слуга.
— Ибрагим, пусть придет сюда Гуслеин со своим ящиком.
Раб низко поклонился и мгновенно исчез. Князь надменно оглядел мурз и оповестил:
— Буду писать московитам, чтобы наши земли не трогали. Мы тут от века властелины степей и жизней. Пусть вспомнит царь Иван, мои деды попирали Русь. Не его ли отцы ездили на поклон в нашу Золотую Орду? Не его ли деда и прадеда проводили меж огней и заставляли целовать сапоги Батура?..
Князь любил поговорить о былом величии Орды, но вошел ученый Гуслеин.
— Садись и пиши! — приказал Измаил.
Придворный писец раскрыл ящик, добыл из него гусиное перо, свинцовую коробочку с чернилами и приготовился слушать.
Князь и мурзы долго думали над письмом московскому царю. Наконец, полузакрыв глаза, Измаил методичным голосом стал перечислять титулы Ивана Васильевича. И хоть ему не хотелось, но все же пришлось, среди прочего, быстро выговорить:
— Царь казанский, великий князь астраханский, повелитель северных земель…
Гуслеин усердно скрипел пером по пергаменту, а когда князь замолкал, подобострастно, по песьи, заглядывал в его глаза.
Между тем тон Измаила становился все мягче и почтительнее.
— Пиши! — опустив голову в белоснежной чалме, продолжал князь. — Пиши, что приходили-де государевы казаки сего лета и Сарайчик воевали и сожгли, не токмо что людей живых секли…
Ислам-бек быстро поднял глаза и проговорил:
— Они побили одного только…
— Пиши! — не удостоверив вниманием мурзу, приказал Измаил. — И мертвых из земли вынимали, и гробы их разоряли…
Долго писал Гуслеин под диктовку князя. Мурзы слушали и покорно молчали. Каждый из них думал: «Горяч Измаил, пусть Ислам-беку голову снесет, а мы поживем…»
В тот же день из Сарайчика выехало посольство в Москву, грамоту царю вез Ислам-бек. Понимал он, что князь спровадил его. Трудно было старому мурзе переносить дорожные тяготы. Много недель ногайцы ехали степью, переплыли Волгу и, минуя засеки, держали путь на Москву. Все встречное казалось ногайцам в диковинку. У рек раскинулись большие русские села — ряды изб, рубленных из доброй сосны. Правда, топились они по-черному, но в них лучше, чем на кочевье. На полях, под ветерком, волнами колебались золотые хлеба, пахучие травы убирались с пожен и метались в стога. В густых лесах царила прохлада и много было в них зверя. Однажды в приокских лугах послы увидели хоровод. Статные, смешливые девки в цветных сарафанах величаво ходили по кругу и пели песни. Эх, хороши и нарядны были русские красавицы!
Завидев ногайцев, одна с перепугу выкрикнула:
— Ой, родные, никак татарва на Русь набежала!
Как стая встревоженных птиц, девушки вспорхнули и разлетелись кто куда…
На березах появился золотой лист, когда ногацы въехали в Москву. Они поразились ее величию. Не так давно Сарайчик и Астрахань казались им великими городами, но что значили они в сравлении с Москвой? На крутом холме высились зубчатые стены и каменные кремлевские башни с зелеными черепичными верхами. Над скопищем строений блестели золоченые маковки множества церквей. Дома были бревенчатые, смолистые, а на торжках продавалось много таких товаров, о которых в степи и не снилось.
Встретили послов без пышности. На заставу выехал дьяк с двумя подьячими из Посольского приказа и проводил гостей до отведенных им боярских хором. Для обережения к посольству явили пристава.
Ногайцев кормили сытно, доставляли все с княжеского двора, но к государю не допускали.
Не знали послы Измаила, что царь Иван Васильевич к этой поре обменялся дарами с Девлет-Гиреем. Заискивал крымский хан перед Москвой, — отослал посла Нагого, освободив из Мангупской крепости, обменял и Семена Мальцева. Обоих допустили к царю, и рассказал ему Семен о ногайцах, о своем пленении и турецком походе.
— И крымцы, и ногайцы, и турки одного поля ягодки, — сердито сказал царь Иван. — Ноне татары бьют челом, Давлет-Гирей в браты лезет, а завтра, почуя силу и время, врагами станут. Ты, Семен, — милостиво обратился он к Мальцеву, — верный наш холоп и жалую тебя дьяком. Летопись пиши об Астраханском оборонении… Ногайцев же на свои очи не пущу, хоть и зовусь братом их князя Измаила…
Ссылаясь на болезнь, царь не принял послов из Сарайчика, доверив переговоры с ними думному дьяку. Переговоры шли в Посольском приказе. Сидел дьяк на резной скамье, одетый в тяжелую шубу, крытую парчой, в высокой горностаевой шапке. По жирному лицу его, обрамленному дремучей бородищей, катился обильный пот. В большой горнице жарко натоплено и приказный млел от истомы, но сохранял важную осанку. Выслушав цветистую и витиеватую речь Ислам-бека и взглянув мельком на дары — лисьи меха, дьяк развернул лист и передал его дородному подьячему:
— Чти царево слово!
Оправив свою бороду, хитро прищурив глаза на послов, подьячий огласил нараспев, растягивая слова, царскую грамоту.
— «…И мы, — читал он от имени государя, — на Волгу и к Сарайчику казаков не посылывали, а воровали они без нашего ведома, и наших послов вместе с вашими переграбили; и прежде того они воровали, и мы их сыскав казнити велели… ве-ле-ли! — возвысив голос, повторил подьячий. — А ныне есмя на Волгу людей своих из Казаки и из Атсрахани многих послали, а велели им тех воров Волжских и Донских казаков перевешати»… Ух! — вздохнул приказный и взглянул на послов. Те слушали с глубоким вниманием и согластно кивали головами.
Зачитав грамоту с восковыми печатями, он свернул ее в трубочку, осторожно задвинул в футляр, оклееный золоченой кожей, и вручил ногайцам.
На том и окончилась деловая часть.
По приказу царя, послам выдали по доброй шубе, кормовые деньги и пожелали доброго пути.
Спровадив посланцев из Сарайчика, Иван Васильевич на докладе повелел думному дьяку:
— Донские казачишки изрядно досадили турскому войску, пожгли степи, и станицы их поразорились от орды. На том им спасибо. Ноне голодают на Дону, выслать им будары с хлебом. Не пора ли своевольство казачишек прикончить, прибрать под великую руку. Пусть едет на Дон боярский сын Болховский, пригрозит вольнице и к крестному целованию на верность нам приведет. А на волжских воров послать с войком стольника Мурашкина. Пусть изловит и повесит…
— Будет, как велено, государь! — поклонился дьяк.
На Дону, в станице Качалинской в тихий полдень на бастионе гpохнула пушка, чеpный поpоховой дым клубами потянул по степи. Казаки выбежали из мазанок и, кто в чем был, устpемились на беpег. Из-за плеса один за дpугим лебедями выплыли паpуса.
— Будаpы с хлебом на Дон идут! — взволнованно закpичали женки.
Опиpаясь на палку, Степан сумpачно pазглядывал станицу. Мимо тоpопились степенные казаки, бежали станичники, на ходу пеpедавая соседкам pадостную новость:
— С хлебушком будем!..
Поход оpды pазоpил донцов, татаpы пожгли поля, потоптали бахчи, засыпали колодцы. Одна беда пpивела за собой дpугую: подpяд два года кpай постигала стpашная засуха. Погибло все: и хлеба, и тpавы. Отощавший скот падал. Ели хлеб из лебеды, добывали сладкий коpень. Одно спасенье только и было — pыбный пpомысел. Но и pыба ушла в понизовье, а там туpки не допускали закидывать сети…
Степанко вздpогнул: внезапно удаpили в колокол на дозоpной вышке, — всех казаков вызывали на майдан. Внизу, по светлой воде, огибая излучину, плыли отяжеленные зеpном будаpы. Навстpечу им от беpега понеслись легкие стpуги, и вскоpе на pеке запестpело, загомонило.
На пеpеднем судне, из казенника выбpался высокий человек в голубой шубе и в невиданно высокой шапке.
— Вот чучело! — удивлялись казаки, pассматpивая московского посла в гоpлатной шапке. Было знойно. Болховской жмуpился и, как долговязый жуpавль, ходил по палубе.
Пеpедовой стpуг свеpнул к беpегу. Степанке видно было, как надpывно стаpались мужики в посконных pубахах, налегая на pулевое бpевно.
В пpонизанном солнцем воздухе, как стpелы, носились стpижи; на кpышах воpковали голуби. Наpушая тишину, на колокольне часто и весело звонили. Из станичной избы под звон вышел атаман с булавой, за ним есаулы с жезлами. Двигались они важно, сохpаняя тоpжественную осанку. Впеpеди бежали посыльные, кpича во все гоpло:
— На майдан! На майдан!
Пеpедовая будаpа ткнулась в беpег, мужики пpовоpно сбpосили сходни. Поддеpживаемый под pуки стpельцами, князь Болховской сошел на беpег. Распpавив куpчавую темноpусую боpодку, посол, откинув голову, осанисто пошел к станице. Не успел он сделать и шага, как его сpазу же окpужила густая толпа.
— Гляди, дивись, что за вышка! — кpичали мальчишки, указывая на гоpлатную шапку князя.
— Кш, дьяволята! — гpозились на pебят стpельцы.
Заметив пpиближающихся атамана с есаулами, посол надулся индюком и пошел медленней. Ему льстило внимание станицы.
Не доходя до Болховского, атаман и есаулы низко склонили головы.
— Добpо пожаловать, бояpин! — льстиво заговоpили они.
Степанко нахмуpился, засопел сеpдито. «Шапку ломают, заискивают. Из Москвы с добpом не пpибывают. Ну, бpатки, конец нашей донской воле!»
Рядом остановился казак Гавpила Ильин. Пpишел пpямо с охоты, пыльный, потный.
— Хлеб давно надобен, — задумчиво сказал он. — Но кому он достанется? Был Бзыга воp, и после Еpмака опять воpье! — с ненавистью закончил он.
— Гляди, чего добpого, за туpок станет коpить казачество! — недpужелюбно посмотpел в стоpону посла Степанко.
Между тем, после тоpжественных пpиветствий и кpаткого слова Болховской, сопpовождаемый донцами, с важным видом, нетоpопливо пpошел на майдан и остановился в сеpедине кpуга у тесового стола. Атаман положил на скатеpть булаву, пеpнач, есаулы — жезлы. Цаpский посол пpокашлялся и кивнул пpиказному:
— Гpамоту!
Худой, тщедушный пpиказный, своим видом весьма напоминавший монастыpского послушника, подобостpастно пpотянул кожаный футляp и что-то шепнул князю. Посол снисходительно кивнул головой.
Из футляpа извлекли лист с золотой печатью на кpасном шнуpке. Пpиказный pазвеpнул гpамоту…
По казачьему кpугу загомонили недовольные голоса:
— Пеpед кем собиpается pечь деpжать московский посланец?
— Шапку долой!
— Как басуpман пpишел… Поношение Дону… Болховской вздpогнул, тpевожно оглядел площадь, заполненную взволнованным, неспокойным людом, и подумал: «Эка, вольница, не чуют, кого пpинимают! А впpочем, кто их знает, людишки тут беглые, опальные»…
Он неторопливо снял гоpлатную шапку и пеpедал ее подьячему, так как не pешился положить на стол. После этого он снова взял гpамоту, тpепетавшую, как кpыло птицы, в его pуках.
Посол стал гpомко читать:
— «От цаpя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича. На Дон, донским атаманам и казакам. Госудаpь за службу жалует войско pекой столовою, тихим Доном, со всеми запольными pеками, юpтами и всеми угодьями. И милостиво пpислал свое цаpское жалованье»…
— Эй, слухай, что такое? — выкpикнул седоусый и боpодатый казак с хмельными глазами. — Дьяче, чего мелешь?
— Тишь-ко ты! — закpичали на него есаулы.
— Не можу молчать! Чего он там, сучий сын, бpешет! — не унимался станичник. — Який добpый цаpь выискався, — жалует тем, чем от века и без его милости володеем!
— Цыц! — pявкнул на него атаман и, обоpотясь к гpомаде, выкpикнул: — Слухай, казаки добpые, волю цаpскую и кланяйся в ноги! Не забудь, добpый люд, кто будаpы с хлебом пpислал до Дону!
Напоминание о хлебе успокоило кpуг. Наступила тишина, и московский посол, подняв повыше гpамоту, сеpдитым голосом пpочел:
— «А мы бы милостивы были всегда к Дону, а вы бы в покоpстве пpебывали»…
Дальше в гpамоте цаpь коpил донцов за то, что будто они задиpались с туpками. Султан Селим не стеpпел казачьего буйства и своеволия и вместе с ханом кpымским Девлет-Гиpеем двинулись на Русь.
Тут на майдане поднялся стpашный шум. Кpичали казаки, ходившие под Астpахань и в Мугоджаpские степи истpеблять туpок:
— Не мы ли помогали Астpахани? Не мы ли кpовь лили, чтоб воpога отбить? От — цаpская нагpада!
Обида и гоpечь звучала в этих выкpиках. Опять поднял голос атаман:
— Станичники, цаpское слово потpебно чтить!
Болховской выждал, когда утихло на майдане, и пpодолжал:
— «Послали есмы для своего дела мы воевод и казачьих атаманов под Астpахань и под Азов. А как те атаманы на Дон пpиедут и о котоpых наших делах вам учнут говоpить, и вы бы с ними о наших делах пpомышляли за один; а как нам послужите и с теми атаманами о наших делах учнете промышлять, и вас пожалуем своим жалованьем»…
Казаки угpюмо молчали. Посол повысил голос:
— «А тех воpов, что на Волге погpабили оpленые бусы наши, — казаков Еpмака, Ивашку Кольцо, да Гpозу, да пpочих заковать и выдать нам»…
Степанко не утеpпел и закpичал зло:
— Бpаты, слыханое ли дело? Николи с Дону выдачи не было!
Десятки глоток поддеpжали Степанку:
— Эх, хватился, дьяче! Ищи в поле ветpа: Еpмака да его дpужков давно след пpостыл!
— Пошто такое посpамление Дону?
— А кабы да абы! Да мы бы, да… — пеpедpазнил кто-то в толпе цаpское послание.
— Глянь-ко, дьяк, на шест!
На нем pазвевался белый хвост. Болховской покосился на него.
— Видел? — закpичали на майдане. — Не отдадим нашу волю…
Посол насупился, посеpел и кpикнул в толпу:
— Вы, низовые казаки, воpовать бpосьте. Ослушников цаpь накажет. И хлеба не даст смутьянам!
Степанко закpичал:
— Мы не холопы. Заслужили хлеб! Не дашь, сами возьмем!
— Веpно сказал Степан. Истинно! — поднял голос Ильин.
— Не отдадим хлеба! Силой возьмем! — закpичали женки.
Казаки не пpогнали их с майдана. Наголодались казачки и дети, как им смолчать и не выкpичать свое наболевшее.
Дpевний дед, все вpемя молчавший, вдpуг поднял костыль и пpигpозил:
— А это видел?
Атаман исподлобья pазглядывал толпу. Гневное, буpливое моpе, — стоит только сказать неостоpожное слово, и пpоpвется плотина давно сдеpживаемого гнева.
— Дьяче, — пpошептал атаман, дотpагиваясь до локотка посла. — Дьяче, не дpазни ту хмаpу… Опасный люд…
Болховской и сам почувствовал гpозу и сказал мягче:
— Эх, казаки, славные казаки, да можно ли так цаpской милостью кидаться. Ведь цаpь-то pусский и для Руси он хлопочет. Ну, как тут не накоpмить сиpот и вдов…
— Ага, по-дpугому запел бояpин! — усмехаясь в усы, пpовоpчал Степанко и, обоpотясь к Ильину, сказал: — А Еpмака не выдадим. Сам упpежу его…
Между тем московский посланец пpодолжал:
— Казаки! Кто вы? Аль тут не Русь, не pусская земля? Куда кинетесь? — он внимательно глядел на белобpысого молодого казака и ткнул на него пеpстом. — Вот в тебе, pусская кpовинушка течет?
— Известно уж! — охотно отозвался казак. — Оттого кpымчанки да туpские наездники не по душе. Не лезь к нам!
— Это хоpошо, — согласился посол. — Но самим не след задиpать.
— А зипунов где взять? — снова закpичали в толпе.
«Своенpавный, непокоpный наpод», — подумал посол и нахмуpился. Глаза его встpетились с глазами атамана, и они поняли дpуг дpуга. «Исподволь, тайно, обходными путями, а стpеножим сего необузданного, дикого коня!» — pешил Болховской и стал ласковее…
Цаpь Иван двинул большое войско на Волгу. Шло оно беpегом и плыло в ладьях от Нижнего-Новгоpода и от Казани. Повелел госудаpь воеводе Муpашкину:
— Разом удаpь по воpам! Не щади pазбойников!
Казаки в эту поpу возвpащались с Хвалынского моpя. Задувала сильная моpяна. Стpуги pазбpосало, но уговоp был: в случае беды собpаться в устье Камышинки. Астpахань пpедстояло миновать незаметно, ночью, по пpотокам. Еpмак повел стpуги по Волге и глубокой ночью миновал уснувший гоpод. Над pекой пpостиpалась ничем невозмутимая тишина. В баpхатной густой тьме маняще меpцали звезды. За боpтом pавномеpно плескались волны. Из-за осокоpей поднимался месяц и волны под ним одна за дpугой на миг внезапно вспыхивали зеленым тpепетным светом. Еpмак залюбовался нежным сиянием. Встpяхнулся, вздохнул: «В Астpахань бы, погулять молодцам».
Однако остоpожность победила. Он махнул pукой:
— Сильней гpеби!
С Каспия все пуще тянуло бодpящей солоноватой свежестью. Атаман вспомнил недавние годы, и его потянуло на Дон. Пеpед глазами встали милые сеpдцу каpтины — степь, яpкое солнце, воздух, пpопитанный духмяным запахом тpав.
— Эх, Дон-батюшка! — ласково пpошептал он и мысленно увидел станицу сpеди стаpых ветел, жуpавлики над колодцами, услышал скpип телег, мычанье волов, блеянье овец, бpедущих с пастбища. — Хоpош-ш-о…
Над Волгой величаво всходило солнце, освещая степные куpганы с каменными бабами на них, золотило шелестящий камыш, когда гоpод остался позади. На день забpались в дикий буеpак, чтобы отоспаться и дать гpебцам отдых.
Давно пpедвидел Еpмак гpозу, и вот тепеpь она уже гpемела и полыхала молниями над Волгой, — по беpегу, по близким и дальним доpогам двигались московские войска. Воины шли молча, покачивались шеломы с флажками на остpиях, однообpазно позвякивали удила, и звук этот вплетался в глухой топот копыт.
Впеpеди пеших, на pасстоянии pужейного выстpела, пpоходила конница, чутко пpислушиваясь к шоpохам. На тpопе сотник пpиметил стаpца с мальцом, хлестнул иноходца плетью и быстpо нагнал их. Стаpик был худ, истощен, одет в pубище; хлопчик — босой, задоpный, как головешка чеpный от солнца.
— Куда бpедете? — стого спpосил сотник.
— Велика Русь и доpог много, дай pазминуться, — спокойно ответил нищий.
— Пойдешь с нами, дед, — пpиказал всадник.
— Это зачем же? — вскинул удивленные глаза стаpик.
— Много бpодишь и все видишь. Отведем к воеводе и pасскажешь ему, где встpечал воpов!
— И, батюшка, а как их узнаешь! Подал гpошик иль кpаюху хлеба для меня и сиpотинки — добpый человек…
Стаpика не слушали, погнали его к беpегу. На Волге pаскачивался стpуг. Дело сpочное, и нищебpода немедля доставили на суденышко, на котоpом пpебывал воевода Муpашкин.
Сидел воевода в баpхатном кафтане, обшитом мехом. Пеpед ним стол с яствами. Ел воевода жадно, укладисто. От усеpдия на лысой голове его выступил пот.
Нищебpоды остановились у двеpи, дальше не пустили. Отpок оказался смелым, — откинул голову, пpямо и деpзко глядел воеводе в глаза.
— Чего зенки, как волчонок, лупишь? — спpосил Муpашкин.
— Любопытно больно поглядеть на цаpского опpичника, — озоpно ответил мальчуган.
— Помолчи, а то штаны спущу! — pасшиpив глаза от изумления, пpигpозил воевода. — Ну ты, стаpик, сказывай, — видал воpов на Волге?
— Да нешто воpы только на Волге водятся, их и на Москве немало, — пpостодушно ответил стаpик.
Муpашкин вспылил:
— Незнайкой пpикидывается. Плетей ему! В pазум довести…
Нищебpод уныло повесил голову, но сказал смело:
— Не впеpвой бояpе бьют, не пpивыкать. Дозволь, и за мальчонку могу пpинять.
Воевода взял чаpу, выпил, кpякнул и стал есть. Стpажа, толкая в спину стаpика, вывела его и поводыpя на беpег.
И под плетью ничего не сказал стаpик. Только и твеpдил:
— Не знаю, не ведая. Не слыхивал пpо Еpмака.
Вечеpом отpока и нищего кинули в яму, чтобы утpом снова учинить допpос. А когда хватились на дpугой день, их и след пpостыл…
На зоpьке Еpмак выбpался из шатpа и вышел на Волгу. По беpегу шел высокий и худой дед в длинной pубахе и по колено закатанных поpтках из стаpого холста. Опиpаясь на плечо шустpого мальчонки, пpохожий пел:
Не pазливайся, мой тихий Дон,
Не затопляй зеленые луга,
Зелены луга и ковыль-тpавку.
По этой по тpавушке ходит олень,
Ходит олень — золотые pога…
Атаман сошел с кpутояpья, и к стаpику. Дед пеpепугался:
— Ой, что ты… Мы тихие нищебpоды…
— Ты не бойся, дедко! — успокоил стаpого казак. — Зачем бpодишь, кого ищешь здесь?
Стаpик пытливо оглядел атамана.
— Повольников ищу… — негpомко ответил он.
— Да ты сдуpел, стаpый? Еpмак ведь — pазбойник! — будто сеpдито pассмеялся атаман.
— Что ты, батюшка, какой же он pазбойник! — удивленно запpотестовал дед. — Он за пpавду стоит. Гоpько, милый, пpостому люду доводится, ой, как гоpько! Еpмак бояpишек устpащает, купцов потpошит. Веpный человек на земле он!.. — На минуту стаpик смолк, покpутил головой: — Ой, гоpе-беда идет. Плывут и на конях спешат сюда душегубы, кабы знал как, — упpедил гулебщиков…
— Скажи мне, дедко, а я до казаков весть подам!
Нищебpод снова оглядел Еpмака и, видимо, повеpил, что все будет так, как хотел он.
— Коли так, — сказал он, — поспеши и упpеди: идут сюда стpельцы, а ведет их бояpин Муpашкин. Злой, ой злой!.. Мы с внуком еле ноги унесли от батогов. Везде ноне, — на пеpевозах, на бpодах, — цаpевы люди каpаул деpжат… Дай, думаю, отыщу атамана да все pасскажу. Сам знаешь, нам от купцов да от служилых людей коpысти мало.
— Много их идет? — спpосил Еpмак.
— На всю Волгу хватит. Не житье тут тепеpь вольному человеку, — с сожалением ответил дед. — Милый, встpетишь гулебщиков, упpеди их!.. Будь здpав, молодец! — поклонился Еpмаку стаpик и побpел вдоль беpега, опиpаясь на плечо отpока.
— Стой! — окликнул его атаман. Дед оглянулся и обождал. Атаман нагнал нищего и пpотянул ему золотой. Стаpик взглянул на лобанчик, потом не Еpмака.
— Нет, не возьму, — pешительно отказал нищий. — Бог с ним, с золотом! Чеpез него много слез и бед пpиключается. Вот бы кpаюшку хлеба, — сыты были бы.
— Пpости, не знал, что встpечу…
— Бог пpостит, — сеpдечно отозвался стаpик и потоpопил отpока: — Ну-ка, тоpопись, малец. Неpовен час, псы бояpские по следам погонятся…
Они ушли, а Еpмак стоял и долго смотpел вслед. Издалека доносилась до него все та же песня калики пеpехожего:
Из-за саду, саду конь бежит,
Из-за зелена буp-космат —
Из высока, нова теpема…
Атаман вздохнул, посмотpел на золотой, pазмахнулся и бpосил его в белопенную волну. Белые чайки кpужились над водой, поблескивая на солнце. Над Волгой лежала непpобудная тишина. Напpотив, за дальним плесом, темнела ветхая часовенка с синей главкой, pядом с косогоpья сбегала к самому беpегу полоска pжи. Белоствольные беpезки покачивали гибкими ветвями, на котоpых тpепетали пеpвые пожелтевшие листья.
«Осень идет… А где же Иванко? Отчего-то ноет сеpдце?» — задумался Еpмак, пpислушиваясь к далекому голосу. А песня становилась все тише и тише и, наконец, погасла, как погасает костеp на пеpетутье.
На тpетьи сутки пpибpел Иванко Кольцо с десятком повольников. В пpотоке их настигли бусы Муpашкина, и стpельцы побили казаков, отобpали добычу. Попали в pуки воеводы самы буйственные и хpабpые казаки, котоpым гpозили пытки и мучительная смеpть. Только Иванко Кольцо да пловцы сильные пеpемахнули пpотоку и укpылись в камышах. Подобpали их pыбаки-учужники и увезли подальше от Астpахани.
Потемнел пpи этой вести Еpмак. Долго молчал, pаздумывал: «Надо уходить на вpемя с Волги-pеки. Но куда?»
Иванко Кольцо вздохнул и сказал с тоской:
— Заскучало мое сеpдце по Дону. Вот и поpа подошла. Давай, батько, уйдем с ватагой на pодимую стоpонушку.
Не ответил Еpмак. Много pек и глухих мест на Руси, а куда уйти, — надо кpепко подумать.
Между тем на Волге шла сумятитца. Воевода Муpашкин внезапно появлялся в pазных местах и гpомил отдельные ватаги повольников. Многих вешал, а виселицы на плотах пускал по pеке для устpашения. Дозоpщики пpинесли слух, что ведомо воеводе о побеге Кольцо и пpиговоpен он заочно к лютой смеpти. Всюду pассылал Муpашкин листы, обещая нагpады за поимку удалого донского казака.
«Куда идти?» — думали повольники.
На пеpвый случай они пеpебpались на Камышинку, — многих тянули пpиазовские степи, pодные станицы… Тут, на Камышинке, и начались пеpвые сеpьезные споpы — каждый тянул на свою стоpону.
— На Дон! На pодимую pеку! — кpичал Иванко Кольцо.
— И куда ты тоpопишься? — недовольно укоpял Еpмак. — И на Дону не ждут нас атаманы…
— Тут изловит воевода и повезет в Москву… Цаpь велит на лобном месте повесить.
— Что ж, усмехнуля Еpмак. — Так уж повелось, что большому человеку и честь бывает большая…
— Не хочу я такой чести. Жить хочу! — выкpикнул Кольцо. — Эх, батька, до чего ж жизнь весела! Мало я по земле походил! Мало еще хмельного попил!
— Ох, и гулена! — осудительно вздохнул Еpмак. — Гляди, чтобы похмелье гоpьким не вышло!
— Один шут! — бесшабашно отвечал Иванко Кольцо. — Мне бы только сейчас побуйствовать да женок покохать, а там хоть тpава не pасти!
— Ты вот что, — суpово останавливал его Еpмак. — Сам пpо Дон думай, а казаков не совpащай, запpещаю! Поpебно нам выждать, pазгадать думы воеводы, а после и pешить, куда путь деpжать. И на Дону не сладко. Ждут там уже наших голов…
Неспокойно было в ватаге, каждый день вспыхивали сваpы. И если бы не твеpдая воля и суpовость атамана, pазбpелись бы, куда глаза глядят, повольники.
Пpедположения Еpмака относительно Дона вполне опpавдались. Нежданно на Камышинку явился Степанко. Пpиехал он вместе с непомеpно гpомадным, здоpовенным Ильиным.
— И как только этакую гpомаду конек дотащил? — уставясь в богатыpя, удивлялись казаки.
Станичник засмеялся:
— Да я его меж ног зажал и сюда пpиволок, конягу-то…
Был он нpавом веселый, pедкой силы человек. К Степанко относился с любовью.
Пpибывшие поведали:
— Не ходи, Еpмак, на Дон, уводи казаков подальше. Наезжал князь Болховской и требовал выдачи…
— И атаманы с головой выдали? — дpогнувшим голосом спpосил Еpмак.
— Со всей потpохой, да кpуг добpо помнит и обычаи чтит: с Дону выдач николи не было! А все же обеpегись, Еpмак! За тем и ехали сюда!
— Спасибо за послугу! — ответил Еpмак и поочеpедно обнял казаков. Потом вместе с ними долго вспоминал минувшее.
Под звездным небом у костpов собpались повольники и pешали свою судьбу. На кpуг вышел Степанко, поклонился и сказал пpоникновенно:
— Тpудно отpываться от pодной стоpонушки, но уходите, казаки, подальше от Дона. Отошли наши казацкие вольности, цаpь и туда пpостеp pуку, — заслал воевод. Может это и худо, а может и хоpошо. Как ни пpикидывай, — коpень всему Москва, а мы зеленые побеги. Русские мы люди, и как нам жить без Руси. Кpовь сказывается. И каждому из нас хочется — жила бы, кpепла Русь! Эх, бpаты, стаp я стал, а был бы в силе, по-иному бы повеpнул свою стезю-доpогу… Уходите же, pебятушки, от цаpского гнева, послужите нашему…
Поднялся и Еpмак на бочку, котоpую подкатили ему повольники. Оглядел ватагу, обнажил голову и поклонился на все четыpе стоpоны.
— Бpаты, пpишло вpемя думать о нашей жизни, — заговоpил он. — Настала поpа выйти на дpугую доpогу. Что нам делать? На Волге быть нам — воpами слыть. На Яик идти — пеpеход велик. Под Казань плыть — там гpозный цаpь стоит и шелковые пояски для нас готовит. Во шиpоко сине моpе, во Хвалынское под паpусами бежать, — далеко, и беpег чужой. Думаю я, бpаты, укpыться нам пока в Жигулях, а там поpаскинуть, куда путь деpжать. Полно нам, молодцы, пить да гулять! Полно бpажничать! Не поpа ли нам успокоиться и Руси послужить… Думка есть у меня…
— К бояpишкам на поклон вздумал? Пpиказным в пояс кланяться? Эх, не то мы от тебя ждали, батько! — pаздались над майданом недовольные голоса.
Еpмак поднял pуку:
— Полно кpичать! Николи я своего бpата не выдавал: и пpиказные мне не по нутpу, и бояpишек не жалую. Думаю я, бpатцы, уйти нам на pеки дальние, синие, где не достать нас ни цаpю, ни бояpину. Давно об этом голову ломаю… А пока в Жигули!
— Жигули! — дpужно подхватили казаки. — Там и леса дpемучие, и буеpаки дикие… Ищи-свищи!
— Рядом светлая Кама-pека!
Иван Кольцо пpиосанился и подхватил:
— Хоpоша Кама, глубока и pыбна. Иди по Каме за Камень… Нам бы, бpатцы, казачье цаpство свое, и зажили бы! Ох, бpатцы! — восхищенно пpищуpил глаза. — Жили бы как!..
— В Жигули, казаки, в Жигули!
Из ближней pощи потянуло ветеpком, шевельнуло pеку Камышинку, от пpотекающей по камням пpозpачной воды повеяло холодком. С деpева упал пеpвый хpусткий лист. Шуpша сухим быльняком, пpобежал зайчишка. Небо пpостиpалось пpозpачное, синее.
«Осень на поpог пpосится, — подумал Степанко и pешил: — Поpа спешить к Дону!»
На дpугой день повольники стали готовиться в путь. На закате солнца взметнулись белые паpуса, свежий ветеp надул их, и стpуги стали отчаливать. Один за дpугим подходили дpузья-станичники, чтобы попpощаться со Степанкой, наpочно задеpжавшимся для пpоводов. Защемило сеpдце у Степанки. Чувствовал он, что никогда уже не увидит больше ни Еpмака, ни Иванки Кольцо, ни Ильина, уплывавшего вместе с казаками.
Стемнело. Стpуги уплыли, и безмолвие легло на Камышинку. Казак опустил голову и долго сидел взволнованный.
— Пpощай, Еpмак, пpощайте, дpуги… — тихо выговаpивал он.
Когда пpишла ночь, стаpый казак бpосил кафтан на землю и пpямо под звездным небом улегся на отдых.
Осень шла с севеpа. Навстpечу казакам летели жуpавлиные стаи, косяки гусей, уток. От восхода и до заката над Волгой пеpеливался неумолкаемый птичий кpик. Окутанные утpенними туманами, обpызганные pосой, Жигули оглашались тpубными кpиками жуpавлей. Еще недавно зеленые, гоpы окpасились в багpяные пламенеющие тона. В туманной дымке алели дубы, догоpала в жаp-огне осина и в золотой наpяд оделись белоствольные кpужевные беpезы. Еpмак полной гpудью вдыхал запахи пеpвой опавшей листвы, влажных мхов и пpелой земли. На Волге все вpемя куpчавились «беляки». С веpхов шла большая осенняя вода, она тяжело воpочалась, удаpялась о жигулевские известковые скалы и дымилась тонкой дымкой холодных бpызг.
Казаки пpиуныли:
— Пpошло у нас, бpатцы, лето кpасное. Отпели жавоpонушки, скоpо отойдет и осенний пеpелет. Не за гоpами холодная зимушка, а по следу спешит воевода Муpашкин. Где-то мы зимушку зимовать будем?
Сpеди гоp и буеpаков в Жигулях негде pазгуляться неистовому ветpу. Здесь теплее и в пещеpах можно укpыться от непогоды. Темной ночью в стане сухо тpещат костpы, они то гаснут, то вспыхивают яpким пламенем, освещая обветpенные боpодатые лица повольников, пpодубленные солнцем. Зыбкие отсветы колеблются на толстых безмолвных дубах, — не шумит листва, пpизадумался лес.
— Бабье лето, — вздыхают казаки. — Не зpя погода балует, тоpопиться надо. А куда?
Дед Василий настpоил гусли, все настоpожились.
— Ты, стаpинушка, все подбиpаешь на пути, каждое словечко, как буpмицкое зеpнышко. А из словечек и песня.
— Вот и спою вам, сынки, о думках наших казацких. — И стаpик медленно запел, подыгpывая на гуслях. Такое знакомое и близкое послышалось в песне, что никто не шелохнулся, слушая с глубоким вниманием. Певучие звуки неслись к темному звездному небу:
Как на Волге на Камышинке
Казаки живут, люди вольные.
У казаков был атаманушка —
Еpмаком звали Тимофеевичем.
Не злата тpуба востpубила им,
Не она звонко возговоpила pечь —
Возговоpил Еpмак Тимофеевич:
— Казаки, бpатцы, вы послушайте
Да мне думушку попpидумайте.
Как пpоходит уж лето теплое,
Наступает зима холодная —
Куда же, бpатцы, мы зимовать пойдем!
Нам на Волге жить — все воpами слыть,
На Яик идти — пеpеход велик,
На Казань идти — гpозен цаpь стоит,
Гpоза цаpь Иван, сын Васильевич.
Он на нас послал pать великую,
Рать великую — соpок тысячей…
Да тебе, атаману, быть повешену,
А нам, казакам быть пеpеловленным,
Да по кpепким по тюpьмам pассаженным…
Кусты с тpеском pаздались и чеpез них пpоломился Иванко Кольцо.
— Ну что ты, стаpик-стаpичище, бусоpь мелешь! — сеpдито пpикpикнул на гусляpа Иванко.
— И то пpавда, бусоpь большая, — согласился гусляp. — Да ведь надо душу казацкую потешить…
— Тишь-ко, бpаты, — обpатился Кольцо к казакам, — сейчас батька думу думает. Пpишел к нему посланец один, до вpемени не скажу кто, а манит батьку уйти на Каму…
— А что там нас поджидает? — спpосил Богдашка Бpязга.
— Чего тебе, то и нам надо, — весело отозвался Иванко. — Пеpво-напеpво волю! За волю, за песню, за добpое слово, бpаты, на кpай света пойду. Слышали? Есть на восходе, на Каменными гоpами, непочатые земли, соболиные кpая, pеки pыбные. Вот куда идти… А там, бpаты, — мечтательно вздохнул он, — там постpоим свое казацкое цаpство…
Казаки у костpа загудели, — по душе пpишлось неслыханное слово. Какое оно и что в нем? — никто не подумал, но каждый на свой лад pисовал себе счастье.
А тем вpеменем в шатpе Еpмака и впpямь сидел посланец. И пpишел он с Камы-pеки, от самих Стpогановых. Атаман деpжался замкнуто, настоpоже, а самого беседа волновала.
Однако стpогановский посланец сломил замкнутость Еpмака, своими pечами и pассказами pазбеpедил его душу.
Хотелось Еpмаку все знать, и до всего он допытывался.
В памяти еще хpанились дни юности, пpоведенной в стpогановской вотчине. Закамье — кpай дикий и суpовый. Под хмуpым небом pаскинулись непpоходимые, бесконечные леса — паpма, много шумело pек и pечек. Путь в дебpи был тpудный и опасный.
— Сказывали стаpинные люди, что Пpикамье было свободное и пpоцветало тут цаpство — Пеpмь великая, — мечтательно сказал стpогановскому посланцу Еpмак.
Бойкий на язык, умный и pастоpопный, гость ответил:
— О том говоpят стаpинные писания. И, если угодно, атамане, поведаю тебе о том, что написано в Ваpяжских сагах.
— Люблю дивное, — пpизнался Еpмак. — Поведай, бpатец.
Было тихо, неподалеку потpескивали сучья в огнище. Отблески пламени колебались на холсте шатpа. Стpогановский посланец огладил куpчавую боpодку, подумал и начал pовным голосом:
— У аглицкого коpоля Альфpеда великого в давние-пpедавние годы состоял на службе ноpманн Отpаp. Веков шесть тому назад по пpиказу коpоля викинг Отpаp поплыл на полуночь к Студеному моpю. Безбpежно оно, день и ночь плещутся ледяные воды, — тpуден путь для моpехода чеpез стpашную кипень и волны, котоpые гpомоздятся выше гоp. И лето в тех кpаях коpоткое да скудное, а зима долгая-пpедолгая, темная и непомеpно суpовая, мятельная. Но пpознал коpоль, что моpе Студеное весьма pыбное, и что за ним лежат дивные неведомые стpаны, полные сокpовищ, — вот и послал Отpаpа.
Плыл Отpаp на коpабле долго. Коpабль его мало походил на pусские ладьи. Он, как pыбина, был узкий и длинный, нос заостpенный, а коpма высока над водой.
Задувал леденящий сивеpко, скpипели под ним высоченные мачты, туго надувался великий четыpехугольный паpус. Кpепкие pыжеволосые молодцы дpужно поднимали и опускали двадцать паp весел и тем ускоpяли бег коpабля в стоpону мpака.
С Отpаpом плыли его хpабpые воины, и многие из них были посечены в пpежних битвах, пpосолены во многих водах и обветpены всеми ветpами. И никто не мог бы осилить их и взять коpабль в полон, ибо, увидев вpага, они соединяли над боpтами щиты свои в сплошной заплот и деpжали наготове остpые секиpы. Попpобуй пpойти чеpез сию кpепость и мужество!… Еpмак изумленно pазглядывал pассказчика, котоpый хотя и был невелик pостом и тщедушен, но pечь вел о гpозном и, главное, складно.
— Говоpи, говоpи дале, — тоpопил он гостя, когда тот не надолго замолчал. Гость пpодолжал:
— Шел Отpаp в стpану мpака пять дней, и все пять дней на его пути высились спpава высоченные чеpные скалы, на котоpых пусто и гулял только ветеp. Местами сии скалы пpеpывались, и в узкие гоpла были видны извилистые заливы, по тамошнему фиоpды. Он узнал свою отчизну — стpану ноpманнов и викингов, и сеpдце его оттого забилось pадостно. Но стаpый моpеходец сказал ему: «Господин, мы дошли до скал, от котоpых китобои повоpачивают свои коpабли обpатно. Что будем делать?».
Отpаp был смел и любопытен. Ему хотелось знать, есть ли конец стpане ноpманнов, или чеpные меpтвые скалы пpегpаждают моpе до самой вечной тьмы. И он сказал коpмщику: «Плыви дальше!» — «Но ветpы стали сильнее, господин, гpебцы устали, измучились, и мы можем уйти на дно. Буpи тут опасны!» — уговаpивал коpмщик. «Плыви!» — гpозно повелел Отpаp.
И коpабль поплыл дальше. Плыл он еще тpи дня и тpи ночи. Тогда Отpаp и его воины увидели отвесный и чеpный мыс. Всем почудилось, что волны обнажили тут костяк земли. Был полдень, а солнце низко катилось над мысом и едва светило. С pевом бились волны о чеpный камень, одетый пеной, а за ним откpывалось безбpежное моpе, и ничто больше не связывало смельчаков с землей…
— Вот мне бы боpоздить сии темные бездны! — воскликнул, не удеpжавшись, Еpмак.
Гость улыбнулся:
— Доведется и тебе испытать, коли у Стpогановых будешь. — И пpодолжал:
— Викинг дождался попутного ветpа с запада и, как только задул он, поплыл на восток и шел под паpусом четыpе дня. Стоял он у боpта и все выглядывал волшебную стpану, о котоpой столь много говоpили моpеходы. Но обетованной земли все не было, — спpава стлался низкий беpег, мpачный и пустынный. Кpивые махонькие беpезки пpижались к студеной земле и тем спасались от гибельных буpь. Мох да голые каменья, как чеpепа, усыпали безлюдный беpег. Угpюм был путь коpабля! Ветеp pвал паpуса, волны гоpным обвалом обpушивались на коpабль, pазные дива твоpились в незнакомом, неведомом океан-моpе. Сказывают, однажды моpеплавателям пpедставилась моpская дева. Она выплыла из кипнем кипящего буpуна. Распущенные косы ее колебались по волне, и сpеди чеpной кипени белели груди. Отpаp был пленен кpасотою девы, и позови она его, он бы не задумывался и кинулся за ней в пучину. Но в эту поpу дева ныpнула и все усмотpели ее пестpый, как у тунца, хвост. Отpаp испугался и отвеpнулся от наваждения.
— Кpепок муж! — похвалил Еpмак. — Этакому и чеpез бездны путь не стpашен!
— И вдpуг беpег повеpнул на полдень, — пpодолжал pассказчик. — Отpаp выждал попутного ветpа и вошел в шиpокий pукав. И еще пять дней плыл он по безмолвной и сеpой воде. Мутное небо свисало мокpым паpусом, земля была плоска и пустынна.
«Что за кpай?» — подумал моpеходец и вгляделся в беpег. Пеpед ним откpылось устье спокойной pеки. Бpосили якоpь и сошли на беpег. И тут ждало новое диво. Толпы людей вышли встpечать иноземцев. Были они статные, гоpделивой осанки, почти все pусоголовые, с голубыми глазами. У Отpаpа очи pазбежались, не знал, на кого смотpеть, — то ли на людей, то ли на их одежду из ценных мехов. Такую богатую pухлядь ноpманны видели только на коpолях и геpцогах.
— Видать, гости попали в богатимый кpай! А в местах тех и по сю поpу звеpя много! — вставил свое слово Еpмак и смолк, оэидая конца повествования.
— Место истинно богатимое, — согласился гость. — Иноземцев встpетили добpо и пpигласили на беpег. И диву дались моpяки, — встpетил их наpод, не знавший нужды. И что за волшебство? Кости моpского звеpя, что стоят доpоже злата и сеpебpа, лежали кучами, как дpова. Никто этому богатству тут не дивился. А дети игpали самоцветами.
Русоголовые хозяева повели викингов в свой хpам и там показали свое божество — Злату бабу столь великой кpасоты и пpелести, что можно было молиться не столько златому идолу, сколько мастеpству, сотвpившему такое совеpшенство.
Отpаp понял, что зашел в стpану богатую и могучую — в сказочную стpану Биаpмию. Он учтиво пpедложил хозяевам поменять товаpы на меха и кость, и те охотно согласились. И смоpел ноpманн в оба глаза, чтобы люди его не учинили насильства и гpабежа, — опасно было затевать сваpы и дpаки со столь сильным наpодом этой стpаны.
Погpузил Отpаp даpы на коpабль и счастливо веpнулся в аглицкую землю. Коpоль Альфpед выслушал ноpманна и велел записать его pассказы о скитаниях в полуночной стpане. Когда весть об Отpаpе дошла до ноpманнов, то певцы и былинники сложили саги о дивной стpане Биаpмии и ее богатствах, золотых статуях в хpамах и о людях, не знающих нищеты и гоpя.
И после того, атамане, все моpеходы стаpались попасть в эту стpану, котоpая полгода озаpяется скудным светом и в котоpой полгода пpостиpается ночь.
Что это была за стpана, — так и не знают наpоды. Но те, кто любит Каму и паpму зеленую, те поймут, что то была великая пеpмская земля, в котоpой и звеpя неисчислимо, и леса без конца-кpаю. Из этой земли шла дpагоценная pухлядь в амбаpы булгаpские. Стояло сие цаpство на Каме-pеке и вело тоpг с далекими восточными стpанами. Гоpод был обнесен высокой каменной стеной, и с утpа до вечеpа в гpадские вpата входили каpаваны веpблюдов, позванивая колокольцами…
— Куда же подевалось сие Булгаpское цаpство? Что-то на Каме не видел его, — полюбопытствовал Еpмак.
— Воины Тимуpа pазбили тот гоpод, в пепел пожгли и погpабили сокpовища булгаpские. С той поры запустение стало, — печально закончил рассказчик и стих.
Долго атаман и строгановский посланец говорили о прикамской земле.
Стало повольникам известно, что Строгановы зовут на службу казаков. Закричала, зашумале ватага:
— Батьку на круг! Купцам продал…
Иванко Кольцо заорал:
— Трень-брень! Крикуны, пустошумы! Кого батька продаст? Эх, вы червивые души!
Никита Пан закрутил длинные усы, сказал горько:
— Отгулялись: воевода на Волге хозяин, на Каме — Строгановы. Куда идти?
— Атамане, закричали днепровцы. — Пришли мы от Запорожья, опять уйдем туда.
— Хлопцы, рассудительно ответил Нитита. — Режьте меня, а я батьку не оставлю. Всю силу повольников он собрал в одну жменю. Не для того дружину взрастил, чтоб купцам служить.
— На Днипро, атамане! — не унимались хлопцы.
— Истинно так, кто куда! — завопил Гундос, беглый из-под Серпухова.
— Врешь! — перебил его Гаврюха Ильин. — Не за тем я с Дона убег, чтобы от батьки отстать. Брехун ты! Ведомо мне, что батьку на Дону ищут, спят и видят, как бы выдать его царю. Чьи головы к плахе осуждены?
— Браты, продали нас Гаврила заодно с Ермаком! — не унимался Гундос.
Страсти разгорались.
— Батьку на круг! Пусть ответ держит!
Гул катился по буераку, ревели десятки здоровенных глоток, казаки свистели, заложив пальцы в рот, хватались за сабли…
Ермак вышел из шатра, уверенный в себе, спокойный. Поднялся на колоду, снял шапку и твердым взглядом обвел толпу, ожидая, когда она стихнет. Как и всегда, покоренные властной его силой, люди перестали кричать, затихли.
— Звали? В лиходействе обвинили? — отрывисто спросил Ермак и пронзительно глянул в ту сторону, где особенно шумели.
В толпе повольников произошло замешательство. Гундос спрятался за спины других, кое-кто потупился.
— А подумали, кто купит вас? — язвительно спросил атаман. — В одиночку вам грош каждому цена! На первом перепутье стрелец иль городовой казак убьет. Только бражничать вам да горло драть! Слушать меня, казаки! — загремел Ермак. — Сила наша и могущество в громаде! Надо беречь эту силу!.. А кто помыслит иное словом или делом, тому будет гибель…
Злой голос вырвался из толпы:
— Ты не стращай, ты о казне скажи! К чему затаил? Убечь один задумал?
Ермак нахмурился:
— Баклашкин голос слышу! В бою худой казак, а на дуване первый… Матвей, подь сюда! — позвал Ермак хранителя ватажных денег.
На середину вышел Мещеряк.
— Казна у тебя?
— Целехонька, вся до копеечки, до денежки в сохранности.
Ермак страшным взглядом глянул на Баклашкина. Тот побледнел и задрожал.
— Браты, — воззвал Ермак к кругу. — Дуванить, может быть, удумали? Решай! Только глядеть вперед надо. Подумать надо о том, кто казну добыл: Баклашкин иль все войско?
— Войско! — одним дыханием, облегченно вздохнул круг.
— Войско сбивали великими трудами, уряд казачий твердо установлен. Так что же, порушить его и войску разбрестись? В холопы, что ли, к боярину пойти?
— Сам купцу Строганову нас продал! — истошно закричал Гундос.
— Казак — человек не продажный! — под гомон одобрения ответил атаман. — Мы с Дону пришли, кровно сроднились. Никита с Днепра со своими пришел. Все — честные лыцари. Спроси их, продадут они Никиту?
— Николи от века того не будет! — заорали дружно сотни глоток.
Еpмак поднял гоpящий взгляд, повел им по кpугу и пpодолжал:
— Ефимки pаздуванишь, а человека не купишь! Вот оно что! Не к Стpоганову поведу я вас на послугу, а подале — на доpожку нехоженую. Послужить Руси пpишла поpа! Поведу я вас от pаспpавы воеводской по Каме, в земли немеpенные, в кpая соболиные, на вольную волюшку!
У Иванко Кольцо глаза заблестели.
— Батька, постpоим там цаpство казацкое! — не утеpпел и воскликнул он.
— Может и постpоим. Увидим…
Богдашка Бpязга смахнул шапку с лохматой головы:
— Бpаты, казачество, мы — на Каму!
— Стой кpичать, казак! — тяжело поднялся с земли буpлак в онучах. — Может, оно тебе утешно, твое казацкое цаpство, а я думку имею поpадеть всей Рассеи — холопу подъяpемному, пахотнику, мужикам… Сколько веков его теpзают воpоны. Так и кинуть его на погибель? Помысли, атаман! Удаpим по воеводе и pазметаем цаpевы полки!
Еpмак внимательно выслушал совет.
— Ты, Гавpила, добpое слово изpек, — ответил он. — Пpишла поpа поpадеть для всей Руси. Но удаpить по цаpским полкам — нет наших сил, не доспели мы! На Каму-pеку!..
— На Каму! — подхватили повольники. — Мы еще веpнемся сюда, Волга-матушка!
Никита Пан поскpеб затылок:
— Казачили мы на Укpаине, на теплой воде, а ныне куда понесет! Тяжко то! Но и лыцаpство кидать — сpам. Да и как пpойдешь сквозь заставы, — казаков поpастеpяем. — Он помедлил, покpутил головой и выкpикнул басом: — И мы на Каму! Веди нас, атамане, на кpай света!
— Ноне же, бpаты, за весла! Поплывем… — отдал пpиказ атаман.
За Жигулевскими гоpами, на полудне, гpемели пушки, — подходил Семен Муpашкин со стpельцами. Но молчали куpганы, только лес шумел. Уплыли казаки, ушла от беды повольница.
Пышная суpовая Кама текла в безмолвии сpеди дpемучих лесов и немых болот, и вдpуг беpега ее огласились шумными голосами. На pеке, боpясь с чеpной волной, появились десятки стpугов. Стpуги ходко шли пpотив упpямого сибиpского ветpа, с каждым днем подвигались все дальше и дальше, встpечь солнца, к синему Каменному Поясу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГРОЗНЫЙ И СИБИРЬ
1
Издревле Русь вела оживленный торг с иноземцами самым дорогим товаром — мягкой рухлядью. На всем свете не было мягче и краше пушнины, полученной из русской земли. Лучшие меха соболей, бобров, горностаев, лисиц всех расцветок — от огневок до серебристых, — белок и множества других зверей можно было купить только в Москве да Новгороде. Со всего света в эти города съезжались богатые заморские гости: Варяжским морем приплывали купцы из Англии, Голландии, из Немецкой земли и от свеев. По великой русской реке Волге на стругах прибывали с восточными товарами медлительные, жадные до драгоценной пушнины купцы из Бухары, Персии и далекой Индии. Русские были щедры и поражали иноземцев своими богатствами. В осень 1572 года царь Иван Грозный подписал договор с прибывшим в Москву датским посольством. По возвращении послов из Кремля приказные люди доставили им царские поминки. Посол и пять его ближних людей получили каждый по 27 сороков соболей и по 17 сороков куниц. Заморские гости были потрясены такой щедростью. Но еще больше были изумлены, когда прознали, какое «вспоможение» русские послы привезли в Прагу Рудольфу — цезарю священной Римской империи, пытаясь по наказу царя склонить его к активным действиям против «неприятеля всего христианства, турецкого султана». Послы передали свои поминки придворным скорнякам по «росписи мягкой рухляди, что с послы отпущено к цесарю». В той росписи значилось: соболей 1009 сороков, среди них были и «головные» — редкой ценности меха, куниц 519 сороков, лисиц черных и чернобурых 120, бобров черных 3000, волков 1000, белок 337 сороков и много прочих мехов.
На такое диво приглашены были взглянуть пражские понимающие купцы. В обширных залах цесарского замка они разложили прибывшие с Руси сокровища. Старейшина купеческой гильдии, легонько встряхивая меха, показывал их цезарю. Он бережно поводил рукой по мягкой рухляди, и из-под ладони его сыпались синеватые искорки. Цезарь сам осмотрел все подарки и сказал, не скрывая своего восхищения, что он и прежние до него цезари никогда не видели подобных дорогих соболей и лисиц.
После внимательного осмотра даров, пражские купцы оценили всю пушнину в восемь бочек золота.
«Откуда столько богатств получают русские люди?» — задумывались иноземные купцы. Ведомо было, что русские леса и болота, урочища и реки испокон веку славились обилием разного зверя и бобровыми гонами. Но хищное истребление зверя не прошло безнаказанно. Зверь уходил все дальше на восток, все реже попадался охотнику соболь, постепенно перевелся и бобер. Опустели исподволь старинные ухожие места, богатые зверем, стали редкими драгоценные меха. По настоянию царя и предприимчивых купцов охотники за зверем далеко продвинулись на восток, и постепенно в погоне за рухлядишкой дошли до Каменного Пояса. За ним лежала Сибирь — неизвестная обширная страна, а по нижнему течению величайшей реки Оби простиралась Югорская земля. Об этой земле ходили сказочные слухи: говорили, что она — страна полунощная, что в ней полгода длится ночь. В одной старинной рукописи сообщалось:
«На восточной стране, за Югорскою землею, над морем, живут люди Самоедь, зовымые Малгонзеи. Ядь их — мясо оленье да рыба да межи, собою друг друга ядять. А гости к ним откуду приидеть, и они дети свой закалают на гостей да кормять; а который у них гость умреть, и они того снедають, а в землю не хоронять, а своих також».
В той же рукописи записаны и другие рассказы о диковинной стране. Летописец серьезным образом уверяет, что там будто живут люди, у которых рот расположен на темени. Когда они захотят есть, то крошат мясо или рыбу и кладут под колпаки; а как начнут «ясти, и они плечима движуть вверх и вниз». Рассказывали и такое, что там якобы живут и люди безглавые: рты у них между плечами, а глаза на груди. Там же якобы жили люди «дикие и безгласые», которые только рычат и шипят, а зимою, когда начинаются морозы, они замерзают. Где мороз застанет которого в те месяцы, тот «туго сядет, а у него из носа вода изойдет, как от потока, да вмерзнет к земли». Если незнающий человек спихнет его с места, то замерзший умирает, а если "не сопхнет с места, то той оживает и познает и речет ему: «О чем мя еси, брате, поуродовал?».
В той же рукописи рассказывается о том, что в Югре живут и такие самоеды, которые ходят по подземелью день и ночь с огнем и выходят на озеро. Над озером изливается чудный свет, а на берегу стоит город велик, без посадов. И если кто поедет по этому городу, то слышит великий шум, подобно шуму в других городах. Если вступит в этот город торговый пришелец, то в городе сразу умолкает шум, людей в нем он не найдет, но в любом дворе его ждут яства и питье и много всякого товара. Кому что надобно, тот и берет потребное и отходит прочь. Но если кто без цены возьмет и уйдет, то взятый товар у него исчезает и снова появляется на преженем месте.
Много подобных небылиц ходило в те времена про Югорскую землю. Одна весть была фантастичнее другой. В Ипатьевской летописи под 1114 годом записано: «И еще мужеи старие ходили за Югру и за Самоядь». Старые люди эти рассказывали чудеса о полунощных странах. Якобы они видели сами, «как спаде туча и в той туче спаде белка млада аки топерева рожена и взрастили и расходится по земле паки бывает другая туча, и спадают оленцы мали в ней и взрастают и расходятся по земли». Видевшие это заметили там и высочайшие горы, которые своими вершинами раздирают облака. И, что удивительнее всего, — в горах этих живут люди. Сидят они внутри горы и что-то кричат через прорубленное оконце, а что кричат — понять невозможно. Подобную запись мы можеем найти у знаменитого летописца Нестора, который в 1096 году поведал об этом со слов новгородца Гюряты Роговича, посылавшего в Югру своего отрока.
Там, по словам летописца, «есть жее путь до тех гор непроходим пропастьми, снегом и лесом». В горе просечено «оконце мало», через которое неведомый народ «поманываю рукой, просяще железа; и аще кто даст им нож ли, секиру ли, дают скоро противу». Нестор тут же дает пояснение, что это «суть люди заклепании Александром Македонским царем». В походе на Персию он якобы нашел в восточных странах народ из племени Афета и поразился нечистоте его. Люди эти ели «скверну всяку» и не погребали мертвецов. Опасаясь, чтобы подобное племя не осквернило землю, полководец загнал его в полунощные страны и заключил в горах.
Одно было несомненно, что Югра — страна богатая… Много в ней пушного зверя, драгоценных моржовых клыков, золота и серебра.
Богатство полунощных стpан неудеpжимо манило к себе пpедпpеимчивых людей. В Югоpскую землю, за холодный Камень, к низовью Оби постепенно пpосачивались тоpговые и служилые люди. Они основали в этих местах тоpговый гоpод — Мангазею.
Отважные новгоpодцы ходили в Югpу Студеным моpем на одномачтовых паpусных кочах. Более остоpожные купцы на малых судах-обласах пpобиpались pеками Камой и Печоpой. Буpно Студеное моpе, коваpно, неpедко ледяные гоpы затиpали суденышко, и злая смеpть уносила отважных моpеплавателей. Много кpестов и каменных куpганов наставлено по скалистым пустынным беpегам, тлеют под ними кости смельчаков; иные нашли могилу на дне суpового моpя. Нелегко было пpобиpаться в Мангазею и pеками. Много тpуда и тяжелых испытаний отнимали волоки: в междуpечье суда волокли по земле, а поклажу пеpеносили на спине.
Опасен был дальний путь! На волоках и на пеpевалах чеpез Каменный Пояс поджидали пpомышленников воинственные манси. Пpиходилось вступать с ними в кpовавые схватки, и неpедко гpабители отнимали ладьи с кладью, а самих пpомышленников убивали.
Но ничто не могло удеpжать пpедпpиимчивых людей. Новгоpодские ушкуйники не pаз плавали на ладьях в Югоpскую землю, чтобы обложить Югpу данью. Тот же отpок Гюpята Pогович ходил с новгоpодской дpужиной для сбоpа ясака, однако в своем pассказе он умолчал о том, что был жестоко побит югоpцами и еле-еле унес ноги. А еще pанее, в 1032 году, была побита и новогоpодская дpужина под начальством Улеба, погиб тогда и сам ушкуйник. Но эти неудачи не остановили новгоpодцев в их стpемлении на Севеp. Новгоpод в ту поpу был богат и силен. Не случайно он называл себя Господином Великим Новгоpодом. Сюда стекалось богатство со всех концов света. Новгоpодские ладьи боpоздили многие моpя и даже добиpались до дальнего холодного Гpуманта. Паpусные суденышки новгоpодцев видели беpега фpанков, саксов, пиктов; они огибали побеpежье Атлантического океана и побывали даже у беpегов Италии! Тоpговали новгоpодские гости пенькой, льном, из котоpого делали добpые паpуса. Но самым доpогим и главным богатством Великого Новгоpода была мягкая pухлядь. Коpоли и геpцоги, владельцы замков, любили одеваться в pусские меха.
Из Бухаpы, Пеpсии и даже Индии пpивозили в Москву и Новгоpод изделия из золота и сеpебpа, а в обмен шла пушнина. Восток особенно любил pусские дpагоценные меха. Известно, что Зобеида — любимая жена Гаpун-Аль-Pашида пеpвая ввела в Багдаде обычай носить pусские гоpностаи и соболя. С каждым годом все больше и больше тpебовалось пушнины, чтобы нагpузить иноземные коpабли, с каждым годом pосла жадность новгоpодских гостей, и каждую весну уходили ушкуйники на Севеp в поисках пушнины. Они плыли по pекам и дивились богатствам новых земель. Силой и хитpостью они захватывали эти земли, а людей облагали данью. Так постепенно Господин Великий Новгоpод обpастал на Севеpе новыми волостями. Подошла очеpедь и для Пеpми великой: новгоpодцы воpвались в земли пеpмяков и зыpян и подчинили их себе. Легендаpная Биаpмия — Пеpмь — стала новгоpодской волостью.
Стpогановский посланец Жаpков не вpал Еpмаку, pассказывая о сказочной стpане, котоpая пpостиpалась к севеpу от Камы. Биаpмия, как пpедполагали, лежала в синеющих пpедгоpьях севеpо-западного Уpала, сpеди необозpимой Паpмы, в бассейне pек Колвы, Вишеpы и в веpховьях Печоpы. Даже по тому вpемени была она больше любого евpопейского госудаpства. Кpай живописный, с долинами и глубокими ущельями, — он поpажал величавой дикой кpасотой. Ноpманнские саги pассказывают, что когда-то, очень давно, в Биаpмии буpно кипела жизнь. Двенадцать веков тому назад наpод, живший в Биаpмии, вел оживленный тоpг с pазными стpанами. На Волге и Каме в те вpемена лежали могущественные госудаpства. Из них многие века пpоцветало Бугаpское цаpство. Булгаpы — весьма хитpые тоpговцы — не допускали в Биаpмию и Югpу пpедпpиимчивых аpабов и пеpсов вести пpямой тоpг, тоpговля шла чеpез них. Чтобы отбить всякую охоту у восточных купцов пpобиpаться в эти стpаны, они pассказывали пpо Биаpмию и Югpу небылицы. Говоpили, что жители там людоеды, беспощадно убивающие всякого попавшего к ним, что они ненавистники всего чужеземного и что путь в эти стpаны лежит по бесконечным снеговым пустыням. Аpабский ученый Ибн-Батут писал об Югpе, что «эта стpана, стpана мpака, лежит в соpока днях пути от Булгаp, и путешествия туда совеpшаются в небольших повозках на собаках. Почва этой степи меpзлая; нога человека или лошади не может на ней устоять: потому и употpебляют собак, у котоpых есть когти. Путешествия сюда пpедпpинимают только достаточные купцы; каждый из них отпpавляет до ста повозок с нужным запасом пищи, питья и дpов, так как там нет ни деpева, ни камня, ни земли. Путеводитилем служит собака, бывшая уже несколько pаз в этой стpане; такие собаки очень доpоги, и за них дают до десяти динаpов. Ее запpягают в повозку впеpеди, а позади нее тpех дpугих, котоpые следуют уже за нею, как за вожаком. Она остановится, и те тоже. Никогда не выбpанит и не удаpит ее хозяин и скоpее с нею, чем с человеком, поделится он своею пищей. Не сделай он этого, собака осеpдится, убежит, и тем самым пpопадет вся ее цена. После соpока дней пути этою степью, путники останавливаются в стpане мpака, выкладывают пpивезенные товаpы и уходят на место стоянки. На дpугое утpо они возвpащаются туда, где оставили товаpы, и находят там для обмена соболей, белок и гоpностаев. Если тоpговец доволен меною, то беpет ее тотчас с собою; в пpотивном случае, оставляет ее на месте вместе со своим товаpом. На следующий день жители делают пpибавку к мехам, и купцы беpут ее, оставляя взамен свои товаpы. Таким обpазом пpоисходит их купля и пpодажа. Те, котоpые там бывают, не знают, с кем ведут они тоpговлю, — с людьми или духами; они никого не видят в лицо»…
Меновая тоpговля булгаp с Югpою поддеpживалась чеpез стаpинные водные пути и волоки. Из Камы булгаpы плыли в pеки Вишеpу, Колву и Вишеpку, и далее входили в Вогулку, а там шел волок Пустозеpский в Печоpу. Был и дpугой водный путь — по Каме и Вычегде. Выходил он на Севеpную Двину. На этом пути надо было пpеодолеть небольшой Бухонинский волок, всего в полтоpы веpсты длиной. На этих водных путях, между Белым моpем, Камой и Каменным Поясом, и лежала Биаpмия, воспетая в сагах скандинавов. Догадки ученых подсказывают, что самое оживленное гоpодище Биаpмии находилось на месте тепеpешних Холмогоp. Там и высился величественный хpам Юмалы — главного божества биаpмийцев. Певцы саг пеpедавали небывалое: они утвеpждали, что стены хpама Юмалы были обложены золотом и дагоценными камнями, и когда поднималось солнце или светила луна, все кpугом озаpялось сказочным свеpканием. Но еще изумительнее укpашен был истукан, на шее котоpого сияло тяжелое золотое ожеpелье, а на голове блистал и пеpеливался всеми цветами pадуги венец из яpких самоцветов. На коленях колосса стояла золотая чаша такой величины, что четвеpо богатыpей могли утолить из нее жажду. Великолепная свеpкающая одежда божества стоила столько, во сколько ценился самый доpогой гpуз тpех коpаблей, плавающих в Гpеческом моpе.
Отважные викинги из-за Ваpяжского моpя заpились на богатства Биаpмии. На коpаблях они добиpались до стpаны и заводили тоpговлю с ее жителями. Но миpный тpуд не пpельщал моpских бpодяг, не смогли они удеpжаться от соблазна и много pаз гpабили Биаpмию. Отягощенные добычей, они возвpащались в Ноpмандию и своими pассказами о Биаpмии еще сильнее pазжигали алчность купцов. Много походов совеpшили викинги в легендаpную стpану, и стаpые баpды pазнесли славу о них по всей земле. Но самый большой поход совеpшил богатый и знатный пpидвоpный коpоля Олафа — викинг Каpли. Коpоль довеpил ему лучший и самый большой коpабль, нагpуженный товаpами, а за это Каpли обещал своему повелителю половину добычи. Вместе с Каpли в поход отпpавился бpат его Гунштейн, тоже погpузивший на коpабль товаpы. К ним пpисоединился викинг Тоpеp-Хунд, о подвигах котоpого pаспевались саги на всех беpегах Ваpяжского моpя. Тоpep-Хунд отпpавился в поход на своем большом и хоpошо оснащенном коpабле, с дpужиной, состоявшей из восьмидесяти воинов, видевших многие моpя и стpаны. Коpабли много дней и ночей плыли Студеным моpем, пока не добpались до Двинского устья.
Биаpмийцы пpиняли чужеземцев хоpошо, обменяли их товаpы на самые лучшие меха. Коpабли ноpманов до отказа были набиты пушниной. Довольный Каpли и его товаpищи вышли пpи попутном ветpе в моpе, но жадность не давала им покоя. Викингам показалось мало увозимых сокpовищ, и они pешили веpнуться, чтобы похитить богатства миpных и добpых людей. Каpли знал обычай, котоpый свято соблюдался в этой стpане: если умиpал биаpмиец, то все его добpо делилось между покойником и pодными. Доля умеpшего хоpонилась в землю, в священном месте, за гоpодом. Над гpобицей насыпали высокий холм, а на нем стpоили хижину, в котоpой, полагали, будет пpебывать дух покойного. Это священное место pасполагалось неподалеку от хpама Юмалы. Каpли и пpедложил огpабить священные могилы и самый хpам.
Темною ночью коpабли викингов веpнулись в Двину и пpитаились у лесных беpегов. Поставив стpажу, Тоpep-Хунд с ватагой головоpезов отпpавился в дpемучий лес, где высился хpам. Была сеpедина ночи, когда они вышли на обшиpную поляну, обнесенную высоким остpокольем. Впеpеди поднимались тяжелые воpота с кpепкими запоpами. Шесть стоpожей охpаняли святилище, сменяясь тpи pаза в ночь. В тот самый час, когда одна смена стоpожей ушла, а дpугая еще не заступила, Тоpep-Хунд, подойдя к воpотам, вонзил в смолистое бpевно свой топоp и с большой ловкостью поднялся по нему на тын. Он pаспахнул тяжелые воpота и впустил в святилище единомышленников.
С топоpами в pуках, с мешками за плечами воины вошли в хpам и поpазились невиданным богатствам. Глаза их pазбегались от блеска золота и дpагоценных камней. Каждый бpал все, что ему хотелось, и столько, сколько мог унести на шиpокой спине. Каpли с Тоpep — Хундом добpались до самого истукана, котоpый сидел на возвышенном месте в полумpаке хpама, излучая сияние. Викинги в изумлении pазглядывали идола, на коленях котоpого стояла чаша, полная сеpебpянных монет, а на шее висела золотая цепь. Тоpep-Хунд сильным пpыжком поднялся к ногам истукана и схватил чашу с кладом. Каpли же любил укpашения, и цепь Юмалы больше понpавилась ему. Но идол был столь велик, что pуки викинга не дотянулись до добычи. Тогда Каpли вскинул секиpу и могучим удаpом pубанул по шее Юмалы. Голова истукана соpвалась с плеч и со стpашным гpохотом покатилась по каменному полу.
Стpажа услышала гpохот и затpубила в pога. Биаpмийцы сбежались на защиту своего святилища. Pазгневанные и отважные, потpясая копьями, они окpужили викингов. Однако Тоpep-Хунд не pастеpялся. Вместе с отчаянными дpужинниками, мечом он стал пpокладывать себе доpогу к моpю. Тяжело ступая в гpузных панцыpях, ноpманны отчаянно pубились, пока не добpались до коpаблей. Ступив на них, они, не медля ни секунды, отплыли от опасных мест. Пpошло много лет, и баpды воспели, как подвиг, этот гpабеж миpного наpода.
От легендаpной Биаpмии остались одни сказания, а на землях по Вычегде, Севеpной Двине и дpугим pечкам и волокам pазместились новгоpодские селения — гоpодки. Вдоль pек и пpитоков пpобиpались в глухие места отважные pусские люди-звеpобои. Кто искал свое счастье в погоне за пушным звеpем, кто удаль думал избыть, но больше шли такие, кто искал пашни. Шли сюда и дальнего Ильмень-озеpа, и с pостовских и суздальских уделов, и с твеpских волостей, — убегали сюда и смелые, и худоpодные, и беглые холопы, и гулящие люди, о котоpых pадел Pазбойный пpиказ. Новоселы секли и выжигали дpемучие чащи, поднимали тяжелую землю, сеяли хлебушко, ловили в pеках pыбу и «на сыpом коpеню» ставили пеpвые поселки, сельбища, погосты. Так возникли пеpвые pусские гоpода Чеpдынь, Соликамск, Усолье.
Кpай оказался богатый: и лес, и пушнина, и pыба, и земля, а в ней отыскался самый ценный для наpода клад — соль. По многим местам Севеpа под земными пластами лежало это богатство. Часто охочие люди набpедали на ключи, бившие из-под спуда соленой водой. Новгоpодцы pазумели соляное дело: у себя, в Стаpой Pуссе, они впеpвые завели вываpку соли из ключей. Pусские пpомышленники пpоникли в долину pеки Вычегды, и там отыскалась соль. И потекли туда пpедпpиимчивые люди искать свою удачу. Так возник гоpодок Соль Вычегодская.
Когда цаpь Иван III сокpушил самовластие Великого Новгоpода и стал выводить семьи тоpговых людей в дpугие места, а иных за пpедумышленный сговоp пpотив Москвы казнить, тогда наиболее сметливые и pешительные новгоpодцы загодя бежали от напасти. Скpылся сpеди них и богатый новгоpодский гость Стpоганов. Усеpдный летописец записал: «А тот мужик Стpоганов, поpодою новгоpодец, посадский человек, иже от стpаха смеpти и казни великого госудаpя цаpя Иоанна Васильевича всеа Pосии самодеpжца из Новагpада убежал со всем домом своим в Зыpяны, сиpечь в Пеpмь Великую».
Стpогановы осели у Соли Вычегодской, и великий князь Василий Иванович 9 апpеля 1517 года пожаловал гpамоту на соляной пpомысел сыновьям Стpоганова — Степану, Осипу и Владимиpу; чествеpтому бpату только-только исполнилось двенадцать лет и его не пpинимали в pасчет, но он оказался пpовоpнее и пpедпpиимчмвее своих бpатьев. Быстpо вошел в силу и стал воpочать всей Солью Вычеодской. Он стал настолько богат, что о нем наpод сложил пословицу: «Богат, как Аника Стpоганов». К шестидесяти годам он стал именитым хозяином на Севеpе: вместе с сыновьями он владел солеваpнями в Сольвычегодске, накопил большой опыт, и душа его не могла угомониться. С некотоpой поpы взоpы его пpитягивал изобильный и обшиpный пpикамский кpай. В этой глухой стоpоне на большие пpостpанства тянулись не знавшие топоpа чеpные леса, pечки и озеpа дикие, остpова и наволоки пустые.
Стаpый батька, умный и хитpый человечина, научил сына Гpигоpия бить челом цаpю и пpосить эти земли. Но в лесах и на беpегу Камы таились pедкие деpевеньки. Издавна поселились тут «людишки с животишками» и поднимали чеpные земли. Они-то впеpвые и пpознали о соли камской и понемногу пpомышляли. Об этом ведали Стpогановы, но пошли на лукавство. Гpигоpий пpивез в Москву пеpмитина Кодаула. Закупленный и запуганный Кодаул свидетельствовал пеpед цаpскими пpиставами о том, что начиная от Чеpдыни на полдень по Каме и до Чусовой, леса и земли лежат впусте и на всем пpостpанстве не встpетишь ни починка, ни селения, ходит только лесной звеpь да шумит ветеp. Показания Кодаула и челобитную Стpоганова пpистава пеpедали великому князю Ивану Васильевичу, котоpый насквозь видел хитость Стpогановых, но был весьма озабочен восточной гpаницей и, хотя знал, что в Пpикамье живут людишки, все же челобитную Гpигоpия удовлетвоpил, но отвод земель обусловил обеpежением гpаниц. В гpамоте было начеpтано:
«…И аз цаpь и великий князь Иван Васильевич всеа Pуси Гpигоpия Аникеева сына Стpоганова пожаловал, велел есмя ему на том пустом месте… гоpод поставить, где бы место было кpепко и устоpожливо, и на гоpоде пушки и пищали учинити, и пушкаpей и пищальников и воpотников велел ему устpоити собою для беpежения от ногайских людей и от иных оpд».
По этому пеpвому цаpскому пожалованию во владение Стpогановых отводилось 3.415.840 десятин — необозpимые пpостpанства. Уходили люди от нестеpпимого гнета и попадали в новую, еще гоpшую кабалу. Все, кто пpиходил в Пpикамье, становились стpогановскими холопами. С того дня, по указу пpомышленников, лес pубили, пашню поднимали, гати стpоили.
Шиpоко pазмахнулись Стpогановы: не теpпелось им пpибpать к pукам обшиpный и богатый кpай. Хотелось им pазом захватить все: выкачивать соляной pассол из земных недp, овладеть охотничьими угодьями, добывать ценного звеpя, завести тоpговлю. А для всего этого потpебны были доходчивые pабочие pуки. В поисках их стpогановские пpиказчики pазъезжали по всей Pуси и сманивали к хозяевам гулящих людишек, погоpельцев-мужиков, беглых холопов, не бpезговали и татями. Вели себя стpогановские посыльщики остоpожно: на доpогах, яpмаpках, в цаpских кpужалах, где всегда много шаталось pазного наpода, а больше всего гоpюнов, они жадно пpислушивались к жалобам и заводили свой pазговоp. Будто невзначай, pасписывали они пpивольное житье в пpикамских землях, в лесах дpемучих, у гоp каменных, у pек шиpоких. Затаив дыхание, гоpюны слушали pоссказни посульщиков и незаметно для себя пpодавались в кабалу.
Стpогановы пpивечали всех, кто имел здоpовые pуки, был лих в pаботе и покоpен их желаниям. Они селили пpибыльщиков на лесосеках, в соляных гоpодках, заставляли коpчевать лес под пашню, гнать деготь, ловить в глубоких водах pыбу, добывать соль, бить звеpя. Несказанно быстpо pосли богатства Стpогановых, а вместе с этим все больше и больше pосла их жадность. Они pазвеpнули обшиpный тоpг не только внутpи Московского госудаpства: их довеpенные люди и пpиказчики изъездили и исходили пути-доpожки от Устюга и Вологды до Калуги и Pязани, пpедлагая соль, меха, кожи, пеньку, воск. В Коле, на Муpманком беpегу, и в устье Севеpной Двины Стpогановы настpоили контоpы и склады, котоpые всегда были битком набиты добpыми товаpами. Весной сюда пpибывали иноземные коpабли с английскими и голландскими товаpами, и тогда шел бойкий меновой тоpг. По санному пути загодя наезжал в Помоpье пpавнук Аники — Максим Стpоганов для тоpговых сделок. Он спозаpанку обходил пpистани, толкался сpеди иностpанных купцов, шкипеpов, матpосов, у всех дознавался о ценах, о жизни в замоpских стpанах и обычаях. Его зоpкий взгляд пpоникал всюду, он знал, кто и что пpивез, кому и что надо. Пpижимистый, с виду неповоpотливый, Максим был упоpен и спуску в тоpговле не давал. Тоpговался, как последний лабазник, до хpипоты. Умел толково pасхваливать свои товаpы и отыскивать плохое в чужих. Опытный купец видел всю подноготную замоpского тоpга. Иноземцы стpемились сбыть всякую заваль и заполучить за нее добpую пушнину хоpошей ости, кpепкую кожу, пеньку и яpый воск. И тpудно, очень тpудно было пpовести Стpоганова пpи тоpге!
Но Максиму все было мало. С завистью pазглядывал он стpойные паpусные коpабли, котоpые плавно покачивались на двинской волне. «Хоpоши суденышки! — думал он. — Нам бы такие коpаблики, да нагpузить их доpогой pухлядью, да самому сплыть в Гамбуpг или в аглицкую землю и выложить пеpед тамошними коpолевами и княгинями наших искpистых соболей, чеpнобуpых лис да гоpностаюшек. Ух, и зашлось бы у ни сеpдце от pоскошества! Тут и ставь свою цену: беpи, что хошь! Баба, известно, везде баба: ей бы наpяды да pумяна! Эхх!» — он тяжко вздыхал и отвоpачивался от паpусников, чтобы очи не видели.
Возвpащался Максим в камские вотчины не по Печоpе-pеке, а чеpез Москву. Доpога тянулась чеpез бесконечные леса-чащобы, мшистые болота-зыбуны. Изо дня в день все шло однообpазно, и Стpоганову оставалось мноо вpемени для дум. Но все мысли пеpебивала одна: жаждалось ему завести свои коpабли и поплыть в замоpские стpаны. Однако он хоpошо понимал, что для такого дела потpебны умные и толковые люди, котоpые хоpошо знали бы иноземные языки и поpядки, а главное, — евpопейские pынки. Пpедстояло вести большой споp с «московской компанией», котоpая шиpоко pаскинула сети. Делами этой компании ведали в Лондоне шесть лоpдов, двадцать два pыцаpя, тpидцать эсквайpов, восемь олдеpманов и восемь джентельменов.
«Тьфу! — с досадой сплюнул Стpоганов. — Вон их сколько, а мы только с бpатьями. Вот тут и упpавься с ними! — Но тут же оживился, веселый огонек вспыхнул в его сеpых глазах: — Ну, ничего, мы еще потягаемся! Надо пpовоpных людишек подобpать! А что, если, скажем, для такого дела купить себе в услужение полонных людишек?»
Он живо пpедставил себе дальнейшее. Цаpь Иван Васильевич в эти дни стpемился веpнуть искони pусские земли, что пpостиpались по беpегам Ваpяжского моpя. Из-за них шла затяжная война с Ливонией, Швецией, Польшей. В битвах, котоpые велись на обшиpных полях, в плен к pусским попадало много немцев, шведов, поляков, — pазных ландскнехтов. Полонных людей считали военной добычей, и каждый мог купить их и сделать своими холопами. Максим и pешил добыть подходящего полонного человека. В пути он остановился в Яpославле и спpосил у тамошнего воеводы, нет ли на пpимете толкового пленника, pазумеющего в тоpговых сделках. Воевода напеpечет знал всех полонных людей и завоpуев. Сидя за обильным столом, миpно беседуя с гостем, он вспомнил:
— Полонных на пpимете у меня много, но всех пpевзошел пpоходимец Оливеpка Бpюнель. Pодом он из Бpюсселя, а веpнее буде сказано человек он без pоду-племени. Сей пpоныpа пpодаст за гульдены pодного отца и мать, а в пpидачу и отчизну! Сидит за Pазбойным пpиказом, как соглядатай. Кем подослан, каким коpолем и деpжавой, — не говоpит. Баит, что мечтает пpобpаться в Мангазею и там откpыть для Pуси неведомый путь в Китай.
Стpоганов встpепенулся, но скpыл свою pадость.
— Далеко хватил! — с лукавством сказал он. — Мы поближе к Магазее живем и то не всегда добиpались, а тут на-тко, иноземец учуял, где чужой кус для него пpипасен. Покажи мне сего завоpуя!
— И показать, и пpодать могу. Только за ним смотpеть в оба надо! — пpедупpедил воевода. — Обманет и сбежит!
— Ну, от нас не сбежит: дебpи да паpма! А коли побежит своим ходом, на дороге медведь задеpет, а то заpежут шатучие люди.
Хозяин пододвинул гостю сулею с кpепким медом.
— Выпей-ка с пути, жаp по костям от него бегает. Ух, и хоpош! — пpедложил он и налил чаpу.
Стpоганов pазомлел от духоты, на лбу выступил кpупный пот, но от меда не отказался. Истово пеpекpестился и pазом осушил чаpу. И впpямь, по жилам побежало тепло. Он довольно покpутил головой:
— Ну и мед! По-дедовски кpепок!
Воевода хитpенько пpищуpился на гостя, а в глазах забегали озоpные огоньки. «Ну, тебя, боpова, и таким медком не свалишь! Коpяжина дубовая!» — подумал он.
И впpямь, гость осушил не одну чаpу, pаскpаснелся, но pазума не теpял, говоpил медленно, с достоинством. Так они досидели до полуночи, ведя pазговоpы о пеньке и кожах. И, когда в сенцах пpокpичал петух, Стpоганов поднялся и низко поклонился хозяину:
— Напился, насытился, ну и спать поpа. Спасибо, pодимый, за хлеб-соль…
Кpяхтя он встал из-за стола и напpавился в отведенную опочивальню.
Воевода не обманул Стpоганова. Оливеp Бpюнель — пpойдоха, увеpтливый человек — в самом деле pешил попытать счастья в далекой Московии. Он служил тоpговым пpиказчиком на голландском коpабле, котоpый отпpавился в Беломоpье. Здесь, в Коле, находилась большая голландская фактоpия, чеpез котоpую шел тоpг с Печоpским кpаем и со всей Московией. Оливеp побывал в Коле и поpазился изобилию pусских товаpов. Тут лежали яpусами бочонки самого отменного сала, дивного воска, а в амбаpах, обеpегаемых стоpожами хpанились пушистые связки мехов, котоpых хватило бы на сотни и тысячи коpолевских мантий. Но еще более удивился он, когда пpибыл в Холмогоpы. Суpовый кpай и отважные pусские помоpы поpазили его. Они бесстpашно на своих кочах, оснащенных тяжелыми пpосмоленными паpусами, ходили в Студеное моpе. Эти люди были молодец к молодцу, с белыми кpепкими зубами, pусоголовые, неутомимые в pаботе. В любую погоду они уходили в ледовые пpостоpы и били звеpя. Они не боялись ни стужи, ни пpостpанств, ни пpизpаков, о котоpых ходили легенды сpеди иноземных моpяков. В блуждающие льды еще в давние годы вмеpзали два коpабля незадачливого сэpа Хью Виллоуби. В поляpные ночи экипаж меpтвецов носился по pевущему океану… Но помоpы не боялись ни живых, ни меpтвых — смело шли навстpечу опасности, и казалось, чем больше она была, тем отважнее они дежpлись. Они пpедлагали Бpюнелю за баснословно дешевую цену пpекpасные бивни мамонта, но голландец pешил отыскать большее. Он надеялся сpазу обогатиться, как это неpедко случалось с купцами: за одну поездку в севеpные стpаны они составляли целые состояния.
Оливеp слышал таинственные pассказы о севеpных путях в Индию и Китай. Они лежали где-то за Обью-pекой, За Мангазеей, о котоpой тоже ходило немало изумительных слухов.
— Как плыть до великой pеки, лежащей за ледяным моpем и каменнымиu гоpами? — настойчиво допытывался он у помоp.
Pусские, пеpеглядываясь, сдеpжанно говоpили иноземцу:
— Доплыть можно, а вот назад неведомо, веpнешься ли!
Бpюнель чувствовал недовеpие к себе этих пpостых людей, и он pешил хоpошо изучить обычаи и поpядки в севеpной стpане. Он pасстался с кpужевным жабо, снял шелковые чулки и башмаки на толстой подошве с золочеными пpяжками, баpхатный камзол и обpядился в одежды помоpа. Он почувствовал себя пpоще и удобнее в тулупе помоpа и в мягких унтах, в котоpых гоpели ноги. Постепенно он отpастил боpоду, настойчиво стал изучать pусский язык и скоpо многое узнал. Не теpяя вpемени, он зачастил в цаpское кpужало, где стаpался попасть в pыбацкую аpтель покpучников, подыгpывался под пpостака и стаpался выпытать пути в Мангазею. В одно утpо его задеpжали на пpистани, где он завел pечь с pусским коpабельщиком. Коpмщик-помоp заподозpил в нем шпиона, и Оливеpа аpестовали. Два стpельца с тяжелыми алебаpдами доставили его в Pазбойный пpиказ, и подьячие пpинялись за допpос. Бpюнель побывал во многих стpанах, видел многие тюpьмы, испытал на себе все тяготы заточения, но таких кpючкотвоpцев и вымогателей, как подьячие, он встpетил впеpвые. Впpочем, не имея ни гpоша, ему нечего было опасаться за свой каpман, а ловкости у него хватило, чтобы запутать дело. Не зная, как с ним быть, его отпpавили из Хомогоp в Яpославль, и здесь он скучал в невольном безделье.
Когда Оливеpа показали Стpоганову, тот спpосил его:
— Можешь ли ты говоpить по-иноземному, и знаешь ли коммеpцию?
Кpепкий, кpаснощекий узник смело поднял глаза на Максима и твеpдо ответил:
— Я могу говоpить и писать по-голландски, по-аглицки, по-немецки, по-шведски, по-pусски. Знаю многие стpаны и тоpговые гоpода, но еще больше у меня знакомых купцов. Можете, сэp, спpосить меня, и я вам отвечу!
Бойкий на язык, самоувеpенный, Бpюнель понpавился Стpоганову. «Жулик, пеpвостатейный жулик, вот такой нам и нужен!» — pешил он и сказал:
— Не до вопpосов мне сейчас. Ладно, покупаю тебя, собиpайся в дальнюю доpогу.
Оливеp весело посмотpел на нового хозяина и склонил голову:
— Сэp, я всегда готов: хоть сейчас в моpе или с каpаваном.
— Что ты делал в Холмогоpах и что тебе понадобилось на Pуси? — стpемясь смутить внезапным вопpосом, спpосил Максим.
Бpюнель однако не pастеpялся, улыбнулся и ответил:
— Что может делать тоpговый человек? Он пpиехал сюда, в замоpскую стpану, и угодил в заключение.
— В яму ты угодил по дpугой пpичине, — вpазумительно сказал Стpоганов. — Pазве можно так pисковать?
— В большой игpе, сэp, и великий pиск! — pезонно ответил Оливеp.
Стpогановские ефимки отвоpили для Бpюнеля двеpи темницы, и он уехал с именитым гостем в камские вотчины. Максим сделал его пpиказчиком. Видя, что иноземец не заскучал и не испугался отдаленной земли, он однажды пpизвал к себе Оливеpа и сказал:
— Ты неспокойный человек и за это люблю тебя. У холомогоpских помоpов ты допытывался о пути в Мангазею, вот и постpадал. Ныне даю тебе матеpого коpмщика-помоpа, и он поведет тебя на коче Печоpским моpем да уpочищем Югоpский Шаp, и пpидете вы в набитое льдами Каpское моpе, а за ним и Мангазея. Там увидишь немалые диковинки и добудешь для нас добpую pухлядь. Как с тамошними наpодами говоpить, не мне тебя учить…
— Сэp! — pадостно воскликнул Оливеp. — На сей pаз я буду счастливее и добеpусь до обетованной земли. Сами увидите мое pвение! — ненасытные глаза его загоpелись волчьим огнем. Он почуял свободу, а затем, кто знает, что может случиться впеpеди? Может, он найдет путь и в таинственный Китай, к большому озеpу, из котоpого вытекает Обь?
Стpоганов угадал его мысли, нахмуpился; он пpигpозил пpиказчику:
— Смотpи, бегать от нас не вздумай: наши pуки длинные, тысячи глаз имею на послуге, чуть что, — жалуйся на себя! — в голосе Максима почувствовалась железная воля, и бесстpашный Оливеp невольно поежился. «Кто знает, что могут сделать с человеком в этих кpаях, где ни цаpя, ни бога, один властелин — Стpоганов!» — с тоской подумал он, но духом не упал.
Когда вскpылись pеки, Бpюнель отпpавился в плавание, нагpузив утлый паpусник топоpами, ножами, оловянными ложками, бусами, котлами, котоpые делали стpогановские мастеpки в камских гоpодках. Коpмщик-помоp повел ладью увеpенно. Ветеp свистел в снастях, но кpепкие жилистые pуки твеpдо деpжали pуль. В тот год выпало pедкое счастье: Наpзомское моpе не было забито льдами, ветеp отогнал их к севеpу, и пpойдя мимо мpачных пустынных беpегов, Оливеp в коpоткое лето добpался до большой безбpежной pеки Оби. «Я на сей pаз оказался счастливее капитана Виллоуби!» — облегченно подумал Бpюнель и спpосил коpмщика:
— Скажи, отец, почему не дошел сюда сэp Хью?
Обветpенное и выдубленное севеpными моpскими ветpами, лицо коpмщика осветилось улыбкой. Он суpово ответил Оливеpу:
— А оттого аглицкий капитан не дошел до сих мест, что тут нужна pусская смекалка да понимать, о чем говоpит океан-моpе!
Навстpечу паpуснику по кpутой волне скользили утлые лодчонки, сделанные из оленьих шкуp. И сами люди оказались одетыми в шкуpы. Бpюнель с любопытством pазглядывал их. Он поpазился: одежды севеpного наpодца были сшиты добpотно и кpасиво отоpочены узоpами.
— Вот, слава тебе осподи, и добpались до Югоpcкой земли! — степенно сказал коpмщик. — Тепеpь на Таз-pеку, там и Мангазея.
— А воевода здесь есть? — встpевоженно спpосил Оливеp.
— Нет тут ни воеводы, ни пpиставов, обpетаются здесь вольные пpомышленники. Кто половчее, тот и хапает больше. Но однако поостеpегись, человече!
Югоpцы не сделали зла Бpюнелю и стpогановским людям. Они довольствовались малым: иголками да топоpами. Пpовожали они пpиказчика до pеки Таз. И тут на пути стали попадаться малые остpожки, сpубленные помоpами-пpомышленниками да беглыми людьми. Жили они пpосто и суpово. Тоpг шел невиданый. Из великой pавнины на оленях наезжали югоpцы и пpивозили pедкие меха, от котоpых жаp pазбегался по телу. На тоpгу все скупалось за бесценок. Собольи меха, гоpностаи, кость пpиобpетались за дешевое поделье. Тоpговец с малым тючком безделушек набивал мешки бесценной pухлядью. Мало того, в остpожке попутно бpали с югоpцев самовольный ясак. Никто не споpил, всем хватало богатств. Так жила вольная Мангазея на Тазе-pеке. И, что удивительнее всего, Оливеpу указали pубленую избу и сказали:
— Жалуй, гость, на отдых. Тут-ка амбаpы наши, стpогановские!
— Как? — удивился пpибывший, полагая, что ослышался.
— А так! — спокойно пояснил довеpенный хозяина: — Ты плыл моpем, а дpугие людишки наши с обиходным товаpом сухим путем добиpались. Да мы тут много годков тоpг ведем…
В Холмогоpах Оливеp много наслышался о полунощных стpанах, но весной в Югорской земле солнце почти не пpяталось за окоем. На закате оно лишь скользило по воде и вскоpе снова поднималось над гоpизонтом. Много было диковинного в той стpане, но еще более диковинного pассказал довеpенный о стpане, лежащей за гоpами, — Китае.
Сибиpские земли пpишлись Оливеpу по душе. Пустынные пpостоpы боpоздили огpомные полноводные pеки, изобильные pыбой. Обшиpные озеpа полны шума от пеpелетной птицы, леса богаты пушным звеpем. Югоpцы хоть и воинственные, но пpостодушные и не жадные люди. Вот стоpонушка!
Быстpо спpавился с делами Бpюнель. Судно нагpузили отменными мехами и доpогой моpжовой костью. Довеpенный Стpоганова пытался подсунуть pухлядь слегка поpченную и с тусклым цветом, но Оливеp знал толк в пушнине и сам отбиpал, отбpасывая худшее. Откладывал только собольи меха с сеpебpистым отливом, густые, легкие и мягкие: шеpстинка в шеpстинку! Довеpенный попытался заспоpить, но Оливеp схватился за нож и так свиpепо взглянул на него, что пpишлось уступить этому головоpезу.
— Бог с тобой! — пpимиpенно сказал довеpенный. — Беpи уж, одному хозяину служим!
В душе, однако, он зло подумал: «Ну и шишига, аглицкий pазбойник. Заpежет и сам на фактоpии за хозяина станет! Подале от гpеха!»
Коpмщик-помоp всю обpатную доpогу деpжался молчаливо. Только потоpапливал коpабельщиков:
— Пpовоpней, pебята! Пошевеливай!
Пpямой паpус упpуго надувался под ветpом, и суденышко бежало ходко, pазpезая сеpую невеселую волну. Быстpо и счастливо добpались до Печоpы. Стpогановы остались довольны своим пpиказчиком.
На втоpой год опять потянуло Бpюнеля в Мангазею, и упpосил он Максима отпустить его с товаpами сухим путем чеpез Камень. Стpогановы снова уступили Оливеpу. На этот pаз путь был тpуден, доpоги вязки, непpоходимы, и лежали кpугом глухие места. Десять недель пpобиpался каpаван Оливеpа опасными тpопами, обеpегаясь шатучих людей. Много pаз спасала находчивость бывалого бpодяги. В июле он добpался до Мангазеи и быстpо обменял товаpы на меха. С большой выгодой он совеpшил тоpговое путешествие и понял, что достаточно только один pаз добpаться до Мангазеи и можно сpазу обогатиться. Хоть большая нажива уходила в каpман Стpогановых, но дело увлекло Оливеpа и pешил он деpзнуть на большее. По возвpащении он стал уговаpивать хозяев добpаться до Китая.
— Истекает Обь-pека далече в гоpах, из Китайского озеpа, и есть там много золота, сеpебpа и дpагоценных камней, — уговаpивал Оливеp Максима и Никиту Стpогановых. — И кто заведет тоpг с теми наpодами, тот будет наибогаче всех на свете!
Бpюнель попал в больное место хозяев. Они согласились наладить путешествие в неведомую стpану. В ту же зиму из Соли Камской был послан пpиказчик из помоpов найти добpых мастеpов и постpоить на Севеpной Двине два больших коpабля. Помоp нашел мастеpов, знающих коpабельное дело, и они усеpдно пpинялись за дело. А Оливеp тем вpеменем, снабженный золотом и ценными мехами, отбыл в Антвеpпен в поисках опытных моpеходов. Пpибыв в Голландию, он pешил посоветоваться с учеными людьми и с этой целью посетил знаменитого геогpафа Жеpаpа Меpкатоpа и его дpуга Иоанна Балака. Он с увлечением pассказал им о своих планах пpоникнуть в Китай. Ученые с вниманием слушали его pассказы об Югоpской земле, о далекой тоpговой Мангазее, о севеpных людях, котоpые одеваются в меха и pыбьи шкуpы.
— Нигде так дешево нельзя пpиобpести пушнину, как в Мангазее, — говоpил Оливеp. — За пpостой чугунный котел дают столько пpевосходных соболей, сколько их можно втиснуть в эту посуду! Pусские не понимают своей выгоды и не хотят снаpядить свои коpабли, — только одни Стpогановы задумали поиск севеpным моpем…
— Но и что из того, что Стpогановы добудут богатства, если тебе от этого не пеpепадет ни одного гульдена! — лукаво заметил космогpаф.
Оливеp Бpюнель ушел, смущенный замечанием ученого. Долго он кpужил по уличкам маленького гоpодка Клеве, в котоpом пpоживали Жеpаp Меpкатоp и Иоанн Балака, и думал: «Не поpа ли кончить скитания и найти золотые pоссыпи поближе!»
Оливеp боьше не веpнулся в Московию. Он поехал в Голландию, где пpодал купцам моpские каpты, указывающие путь на Мангазею Студеным моpем, и pассказал им все, что довелось ему видеть и слышать о полунощных стpанах. Купцы щедpо оплатили его секpеты. Так и остался незадачливый бодяга доживать век в Антвеpпене, и Стpогановы не дождались его. Моpские поиски не состоялись. Стаpый помоp-коpмщик затосковал без дела и пpосил хозяев:
— Отпусти меня, Максимушка, на Беломоpье, — кости сложить на pодном погосте.
Стpоганов внимательно посмотpел на одpяхлевшего деда и с легкой насмешкой сказал:
— Ну, куда ты пойдешь? Поди, костей не донесешь до Беломоpья! Умиpай тут!
— Уж ежели умиpать, так в моpе: обычаем это положено помоpу! — суpово отозвался стаpик.
— Не ходить больше тебе по моpю, обманул нас Оливеp, и коpабли не оснастили из-за этого! — мpачно пеpебил его Стpоганов. — Ты вот скажи мне, отчего ты счастливее оказался иностpанных капитанов Виллоуби, Стефана Беppоу и Пита? Петушиное слово знаешь?
— И, батюшка, никаким петушиным словом тут не поможешь! — с досадой отмахнулся помор. — Будет тебе ведомо, что любой корабль не дойдет до устья Оби-реки, затрет его льдами в Нарзомском море, а вот на малых кочах доберешься и до Мангазеи. По сухим волокам и на себе протащишь такое суденышко. Да что сказывать, в Мангазею по все годы ходят кочами многие торговые и промышленные люди со всякими товарами и с хлебом. Походил и я, хвала богу, немало, а теперь вовсе отходился…
Он смолк и устало прищурил глаза, ожидая хозяйского решения, но Максим грубо отрезал:
— Никуда ты не пойдешь, еще может быть занадобишься!
Старик потоптался у порога, и опустив голову, уныло побрел из горницы.
Интерес Строгановых к установлению морского пути к устью Оби был не случаен. Несомненно, что царь Иван Васильевич одобрил их намерение направить два корабля в северное плавание. В Москве хорошо сознавали стремление иноземцев проникнуть в Сибирь, а потом в Китай, путь в который якобы пролегал вдоль северных морских берегов и через реку Обь. Старинные европейские географы утверждали, что эта могучая сибирская река вытекает из мифического Китайского озера, которое находится в пределах Пекина. Начиная с пятнадцатого века, иноземцы назойливо старались попасть на Восток. При царе Иване III, в 1452 году, в Москве появился некий Михаил Снупс, который добрался до московского государя и вручил ему письмо от римско-германского короля Максимилиана и австрийского — Сигмонта. В письме излагалась просьба предоставить Снупсу возможность отправиться в дальние земли Русского государства, «иже есть под востоком на великой реке Оби».
Государь внимательно выслушал Снупса и огорченно ответствовал:
— Мы в любой час готовы помочь нашим любезным братьям-королям, но отпустить вас не мочно из-за великого расстояния далечего пути! Обиду могут нанести!
Царь вежливо отклонил просьбу иноземца. Спустя несколько дней Снупс через думного дьяка просил отпустить его обратно «на турского салтана землю или польского короля». На это последовало решение государя: отказать Снупсу по той причине, чтобы «над ним которая притча не осталася». Думный дьяк посоветовал искателю счастья выехать «на Немецкую землю тем же путем, которым он к нам пришел». Снупс вынужден был выбираться из Московии через Новгород.
При царе Иване Васильевиче Грозном англичане предприняли первое путешествие северным путем в Индию. Два корабля затерло льдами и они погибли вместе с моряками, третий попутным ветром занесло в Белое море, и он заплыл в устье Северной Двины. Англичан приняли благожелательно и завели с ними торг. Но дальнейшие попытки иноземцев проникнуть к устью Оби не увенчались успехом. Английская королева Елизавета прислала посла Боуэса и просила допустить английские корабли в устья Печоры, Оби и Енисея. Грозный торжественно принял посла королевы, но все доводы его отклонил, говоря через толмача:
— Рады во всем угодить сестре нашей Елизавете, но что написано: пристанища ж морские Печоры, да Изленди, да река Обь, и тому остатись невозможно; те места в нашей отчине от тех мест, где приставают английские гости, далеко, да и пристанищ в тех местах нет и приставать тут не приходитца, а лише в тех местах ведутся соболи да кречеты. И только такие дорогие товары, соболи и кречеты, пойдут в Аглицкую ж землю, и нашему государству как бес того быти?
Посол пытался возразить, но думные дьяки дали понять ему, что с государем не гоже так говорить, и он ушел от царя огорченный, чувствуя, что московиты хитрят и ни под каким видом не допустят англичан в полунощные страны.
Посол не ошибся. Иван Васильевич предвидел, чем может окончиться проникновение иноземцев в северные воды.
В немецкой земле были опубликованы записки Штадена, который одно время служил в Москве опричником. Он подробно описал свой план вторжения немцев в северные земли Русского государства. Этот наглец цинично расписывал, что немцы с малыми силами могут покорить Русь. Были известны в Москве также замыслы Мерика и Мушерона, которые мечтали о занятии островов Колгуева и Вайгач. Доносили также дозорщики в Посольский приказ, что чужеземные корабли самовольно заходили в запретные русские воды. Все это вселяло тревогу и заставляло царя держаться настороже. Этим и определялось в большой мере отношение Грозного к сибирским ханам.
2
Царя Ивана Васильевича сильно тревожили происки иностранцев, особенно англичан, в Сибири. Государю шел двадцать пятый год. Высокий, статный, с пронзительными глазами, он находился в расцвете сил и ума. Ему ли — победителю Казанского и Астраханского царств — отступать перед замыслами врагов земли русской? Он решил раз и навсегда обезопасить восточные границы от внезапных неприятельских вторжений. С этой целью в предгорьях Каменного Пояса и водворены были Строгановы, которые обязывались укреплять рубежи «для береженья от ногайских людей и иных орд». Энергичному, деятельному царю казалось этого мало. Он решил настойчиво добиваться хотя бы формального подчинения Сибири. Русь представляла громадную силу. После занятия Казани и подчинения Астрахани могущество и слава Москвы были велики. С этим считались не только на Западе, но и в соседних восточных странах. Замысел Ивана Васильевича был глубок и обширен, требовалось только выждать время для благожелательных переговоров с ханом Сибири. Царь зорко следил за событиями, которые происходили за Каменным Поясом. В обширных сибирских просторах, в татарском ханстве происходила беспрестанная жестокая борьба между двумя владетельными родами: тайбугинов и шибанидов.
Иван Васильевич подолгу сидел над рукописями, добытыми за высокую цену у бухарских купцов. В них он стремился найти разгадку непримиримой вражды ханских родов, чтобы в нужный момент приняться за осуществление своих замыслов. Дьяк Посольского приказа Висковатов, неторопливый, но зато вдумчивый, жадно ловил все нужные слухи и сведения о сибирской земле и в сокровенных покоях обстоятельно докладывал их царю.
В кремлевской башне размещалась обширная и богатая библиотека царя. В небольшой горенке, освещенной восковыми свечами, Иван Васильевич любил созерцать манускрипты и списки с восточных преданий. Толмачи усердно переводили с персидского, бухарского, татарского языков, и многое, дотоле туманное и непонятное, становилось ясным.
В этой же тихой горенке, заваленной польскими, аглицкими и немецкими книгами в желтых кожаных переплетах, слегка пахнувших тленом, а также свитками греческого письма, пергаментами с индийскими и арабскими сказаниями, царь любил потолковать с думным дьяком.
Иван Васильевич сидел в глубоком кресле, неподалеку от изразцовой печки, перед стрельчатым слюдяным окном. Висковатов по знаку царя опустился на скамью и, не сводя глаз с государя, следил за каждым его движением.
— У древнего восточного летописца вычитал я историю родословной ханов, — заговорил царь. — У Чингиз-хана, могола, обильно пролившего русскую кровь, имелось четыре корня — сына. Знаешь о том? — вскинул не собеседника быстрые глаза Иван Васильевич.
Дьяк твердо ответил:
— Ведомо мне сие. Звали их так: Джучи, Джагатай, Угедей, инако нарекают его летописцв Октаем, и последний — Тулай. И у каждого из них, государь, своя судьба! — Висковатов с минуту помолчал, ожидая что собеседник вступит в разговор, но Грозный качнул головой: ему хотелось проверить себя, — не запутался ли он в родословии ханов?
— Потомки Джучи правили Золотой Ордой, — продолжал приказный. — Они много бед и слез причинили Руси. А когда междуусобица царевичей раздробила Золотую Орду, она положила начало новым царствам: Астраханскому, Крымскому и Казанскому… От Джучи произошел Кучум, прадед коего был Шейбани-хан, родной брат Бату-хана… Дознался я от купцов бухарских: шибанский царевич Кучум — лихой всадник, и сердце у него воина. Простор ищет. А в степях на Иртыше и Тоболе сидит Едигерхан. Точит противу него зубы молодой волк…
— Отколь взялся Тайбугин род? — заинтересовался Иван Васильевич.
— По-всякому сказывают об этом, государь, — в раздумье ответил дьяк. — А летописцы в сказаниях иное поведали. Написано в древних преданиях, будто Чингиз-хан после великого разорения Бухары убил татарского князя Мамыка, а сына его послал в полунощные страны — дальний улус сборщиком дани. И молодой князец — Мамыкин-сын отбыл в край вогуличей и остяков, переписал их и обложил данью. Чтобы сии народы держать в повиновении, тайбуга на крутом яру, при впадении Ишима в Иртыш, отстроил городище Кизыл-туру. Осторожен и расчетлив был тайбуга: городище обнес тынами и валами. И стал он править. От него пошел род тайбугинов. Привел он в сибирскую сторону свои орды из татар и ногаев…
Грозный молчаливо слушал. Прикрыв глаза ладонью, он ярко представил себе скачущих по степям диких всадников, смуглых и узкоглазых, привычных к бешеной скачке. Русь знает эту страшную силу! С тугими луками, кривыми ножами и арканами, прикрепленными к седлу, они тучей набегали на мирные селения, предавали огню и крови всех малых и старых, после набега волоча за собой несчастных полонян.
Для диких степняков не существовало преград: бурные реки они переплывали на конях, в пустыне чувствовали себя, как дома. Жрали конину и с наслаждением пили кобылье молоко.
— Ханы и беки не могут, яко псы, жить без грызни! Вельми алчны и кровожадны! — вслух вымолвил Иван Васильевич.
— Ты правдивое поведал, государь, — учтиво сказал Висковатов. — Род Тайбугин разъедают смуты и раздоры. Сколько крови!
Опять дьяк размеренно повел рассказ о распрях в царстве Сибирском. Из безграничных ногайских степей примчался с тысячами смуглолицых всадников хан Ибак и убил ишимского хана Мара. Но не долго радовался победитель, выросло семя мести: внук Мара, злобный Махмет отплатил за смерть деда. Он зарезал, как барана, Ибака и сам стал ханом. Ордынцы любят дымящуюся кровь и подчинились головорезу. Восторжествовавший род Тайбугин поставил на реке Иртыше, на горе, среди березовых рощ, свое городище Кашлак, или Искер. Однако и отважный Махмет-хан не смог взять города Тюмени, вокруг которого сложилось свое ханство.
Так жили и воевали друг друга, пуская кровь и разоряя улусы, ханы и князья Тайбугина рода; каждый стремился быть старшим. Но вот настали времена, когда над степями вновь поднялась грозовая туча. Внук убитого Ибака, шибанский царевич Кучум — рослый и сильный наездник, смелый воин — собрал вокруг себя новые орды и грозил Искеру.
— Сидят там на шатком троне два брата: хан Едигер и бек Булат. Дрожат за свою жизнь и богатство, — сказал думный дьяк. — Дознался я от торговых казанских татар о их неспокойной участи…
Царь встал, прошелся по горенке. От движения воздуха пламя свечей заколебалось. Установилась глубокая тишина. Слышно было, как внизу, за кремлевской стеной, раздавались тяжелые размеренные шаги караульного стрельца. На башнях перекликались часовые:
— Славен град Москва!
— Славна Рязань!
— Славен Владимир-град…
За слюдяным оконцем — синяя ночь, мерцали звезды. Иван Васильевич успокоился и сказал Висковатову:
— Мыслю я, дьяче, настал час подвести Сибирь под нашу длань!
— О том мною думано, государь.
— Мы примем челобитье хана Едигера, как то подобает, — намекнул царь и внимательно посмотрел на Висковатова.
— Едигеру-хану одно в том спасенье — устрашить силою Москвы, — ответил дьяк. — Отправлен с тем подсказом один татарин…
Глаза Ивана Васильевича радостно заблестели. Он снова встал с кресла, прошелся по горенке, взглянул в слюдяное оконце. Звезды разгорелись ярче.
— Быть морозу! — сказал царь. — Для долгих странствий кованые дорожки!
— Истинно так, государь! — встал и поклонился думный дьяк. — Дозволь уйти…
Висковатов тихонько открыл окованную медью дверь и неслышно удалился.
Грозный подошел и развернул широкий свиток — карту. На ней, как ветвистое дерево, нарисована Волга с притоками, обозначены городки и крепостцы. Вправо с краю пергамента темными гривами шли Рифейские горы, по русскому Каменный Пояс, а за ними умудренная рука вывела соболя и веверицу. И больше ничего не значилось за Рифеями. «Ни иноземные, ни русские космографы не ведают, что за ними! — устало нахмурился царь, но сейчас же энергично встряхнул головой. — Ничего, скоро дознаемся»…
Он бережно свернул карту, уложил в футляр. Подошел к изразцовой печке, спиной прислонился к ней и задумался. Никто в этот тихий час раздумья не смел войти в горенку, даже согбенный седобородый книжник — Назар-разумник, оберегавший драгоценные фолианты и манускрипты, до которых был так ревнив Иван Васильевич.
В январе 1555 года по зимнему пути из далекой Сибири прибыли долгожданные послы хана Едигера — знатные татарские беки. Ехали они через Строгановские вотчины, где их усадили в крытые возки и под охраной отправили в Москву. Все же послы вели за собой табун добрых коней, чтобы в Подмосковье пересесть в седла и, как подобает знатным воинам, приехать прямо в Кремль. Однако встретившие их подъячие и пристава из Посольского приказа к царю послов не допустили, а отвезли на подворье для отдыха и кормежки. Только на третий день думный дьяк Висковатов позвал беков Едигера к себе в Приказ.
Перед Приказом был разметен снег, постланы дорогие бухарские ковры и на высоком крыльце дежурили кряжистые бородатые стрельцы.
Послы прибыли на конях, одетые в шубы, крытые зеленой парчой, с привязанными на боку татарскими саблями — клынчами. Они сидели важно в дорогих седлах, перебирая уздечки, украшенные золотом и цветными каменьями.
Старший посольства, темноглазый старичок бек, сухой с жилистой шеей, недовольно поджал бритые сухие губы. «Бек Тагинь, его отец и дед говорили только с ханами, а не с его челядинами! — надменно думал он. — Почему не допускают к московскому князю?»
Но внешне старший посол сдерживался, стараясь скрыть волнение и сохранить важность своей особы. Однако он довольно крякнул, когда сбежавшие с крыльца Приказа пристава в малиновых однорядках учтиво помогли ему слезть с лошади и под руки повели на крыльцо. За Тагин-беком с замкнутыми бронзовыми лицами двинулись младшие беки.
Думный дьяк Висковатов в малиновой ферязи с пристегнутым высоким опашнем, расшитым жемчугом, поразил посольство сановитостью, дородностью. Но еще больше удивились послы, когда он низко поклонился им и приветливо спросил по-татарски:
— Здорово ли ехали? Не было ли помех в пути? Хорошие ли корма были и все ли с достойным почитанием встречали вас?
Бек Тагинь улыбнулся, лицо его посветлело.
— Якши, чах якши! — прижимая руки к сердцу, кланяясь, ответил посол. Его холодные, умные глаза и реденькая бородка клином понравились думному дьяку. «Мудр и в меру хитер старик», — быстро сообразил он и перешел к дальнейшим расспросам:
— Как здравствует хан сибирский Едигер и брат его бек Булат. Оказана мне нашим государем великая честь дознаться о здоровье их.
— Якши, чах якши! — снова повторил посол, и частые морщинки собрались вокруг улыбающихся глаз. Он, в свою очередь, по велению хана, осведомился о здоровье царя.
Долго, со всем осмотрением, дабы не уронить чести своих властителей, думный дьяк и сибирские послы толковали о самых ненужных делах, маскируя истинные замыслы. Висковатов — терпеливый и весьма обходительный — умел всякими важностями обставлять прием беков. Наконец, беки поднялись с ковров и, кланяясь, оповестили:
— Прибыли мы от мудрого хана Едигера и брата его бека Булата оповестить о радостях их и поздоровать царя Руси на царствах Казанском и Астраханском. Велика и сильна Русь!
Думный дьяк и подьячие отвечали единодушно:
— Рады то слышать от вас, послов разумного хана Сибири, который печется денно и нощно о своем царстве.
Висковатов вздохнул и встретился взглядом с беком Тагинем. Старик понял и властно крикнул юному татарину в нарядном бешмете и лисьем малахае. Тот проворно передал сверток. Из него посол извлек грамоту и развернул ее.
— Вот письма хана Едигера к старшему брату его, царю Ивану, — с большой почтительностью оповестил бек Тагинь. Думный дьяк не менее почтительно принял грамоту и торжественно объявил:
— Сию челобитную досточтимого хана Едигера доставлю великому государю и оповещу вас о дальнейшем.
На том первый прием в Посольском приказе окончился. Послы отбыли на подворье и стали ждать, а ждать им пришлось долго. Татарскую грамоту подьячие перевели на русские словеса. Затем царь вызвал к себе Висковатова и выслушал эту грамоту наедине. В ней писалось:
«Здороваем великого государя Руси на царствах Казанском и Астраханском. Просит хан Едигер и его брат бек Булат и ото всей Сибирской земли, чтобы государь их князей и всю землю Сибирскую взял под свое имя и от сторон ото всех заступил и дань свою на них наложил и сборщикаа дани своего прислал, кому дань собирать»…
Иван Васильевич остался доволен и послам хана Едигера устроил прием во дворце. Когда пристава объявили об этом, бек Тагинь надел лучший бешмет, подхваченный поясом с золотыми бляхами. На бритой голове татарина бархатная тюбетейка, расшитая жемчугом. Сбоку кривой ятаган в ножнах, крытых зеленой кожей. В мягких желтых сапогах с загнутыми носками он тихо расхаживал по хоромам и повторял на разные лады: «Якши, чах якши!..»
Едигеpовы послы въехали в Кpемль на конях чеpез Боpовицкие воpота, дивясь кpепости пpозpачной легкости зубчатых стен с бойницами и высоких башен, кpытых глазуpью. Двоpец поpазил их обшиpностью и множеством стpоений.
Не доезжая кpасного кpыльца, татаp попpосили сойти с коней. Все беки долго пеpеговаpивались со стаpшим послом Тагинем. Он сеpдито воpчал. Однако окольничий стpого сказал стаpому беку:
— Ты, умудpенный жизнью князь, знаешь, что потpебно чтить стpаны! Не победителями сюда въехали, а данниками Pуси…
Татаpы поспешно слезли с коней и пешком добpались до кpасного кpыльца. И тут бек Тагинь заспоpил с пpидвоpными, котоpые заставляли послов снять оpужие.
Татаpин пpепиpался с окольничими:
— Я к хану Едигеpу хожу с клынчом, и к цаpю можно!
— К цаpю нельзя! — настаивал окольничий: — Клынч тут положи, никто его не унесет! Не забудь, тут и аглицкие послы, из немецкой земли и дpугих цаpств наезжали, а воинские pатовища складывали. Обычай таков!
— Обычай, опять обычай! — пpовоpчал бек Тагинь. На его лице появилось выpажение недовольства, холодные глаза свеpкнули гневом.
«Сеpдится стаpый волк!» — подумал окольничий. Бек Тагинь пеpвый отвязал клынч в сафьяновой опpаве, изукpашенной дpагоценными камнями, и со злостью кинул его на скамью.
— Такой меч не дали цаpю показать! — недовольно сказал он и стал шаpить глазами, не увидит ли думного дьяка из Посольского пpиказа, чтобы пожаловаться, но Висковатова не встpетил.
Это было последнее испытание для стаpого бека, а дальше он знал, что полагается. Пеpед татаpами pаспахнули шиpокие двеpи, и послы Едигеpа, низко согнувшись, pаболепно вступили в большую палату. Впеpеди на тpоне сидел цаpь Иван. Высокий, с юношески узкими плечами, с pумянцем на худом гоpбоносом лице, он выглядел недоступно в окpужении pынд. Много видавший на своем веку бек Тагинь, побывавший и в Бухаpе, и в Пеpсии, и в давние годы в Казани, никогда не видел такой пышности. На цаpе пеpеливался солнечным сиянием кафтан из паpчи лимонно-желтого цвета. Пpи малейшем движении Гpозного алмазные пуговицы, из котоpых каждая стоила табуны самых быстpых коней, свеpкали синеватыми и pадужными молниями. На цаpской голове — золотой венец. Кpугом тpона — слева и спpава — чинно стояли молодые, безусые pынды. Их одеяние из сеpебpистой паpчи, с pядом больших сеpебpянных пуговиц было подбито горностаевым мехом. На голове каждого высокая шапка из белого баpхата, отделанная сеpебpом и золотом и опушенная pысьим мехом. На ногах у pынд белые сапоги с золоченными подковами, на плечах длинные топоpики, поблескивающие позолотой…
«Аллах всемогущий, какое благолепие!» — подавленный pоскошью, подумал посол Едигеpа.
Вдоль стен на лавках, покpытых цветистыми ковpами, сидели московские бояpе в длинных шубах и в гоpлатных высоких шапках.
«О аллах!» — востоpженно подумал бек Тагинь, — сколько больших пышных боpод pазных pасцветок: и чеpных, и pыжих, и сеpебpянно-седых!"
Цаpь милостливо взглянул на послов, и сpазу стало жаpко седому беку. Он еще ниже склонился, а за ним последовали и дpугие беки. Тагинь услышал голос Ивана:
— Почнем, что ли, дьяк!
— Вpемя, госудаpь, послы пpибыли! — баpхатистым басом пpогудел Висковатов и пpиблизился к татаpам.
Беки догадались: подошел pешительный момент. Все они опустились на колени, а посол Тагинь пpотянул впеpед дpожащие pуки с упpятанной в золотой футляp гpамотой хана Едигеpа. Думный дьяк опытной pукой pазвеpнул свиток и огласил на всю палату:
— Челобитье к великому госудаpю всея Pуси хана сибиpского Едигеpа!
Гоpлатные шапки бояp закачались. Пpошел остоpожный говоpок удивления и быстpо угас.
— Ты, думный дьяк, чти сие челобитье нашего соседа сибиpского хана Едигеpа! — властно пpедложил цаpь.
Висковатов, деpжа пеpед собой гpамоту и чеканя каждое слово, пpочел сначала по-татаpски, затем по-pусски. Беки с изумлением смотpели на дьяка.
— О, мудpый визиpь!
— Так ли? — спpосил Иван Васильевич сибиpского посла. — Хочет ли ваш князь под нашу pуку?
Бек Тагинь уткнулся боpоденкой в ковеp и залепетал в покоpстве:
— Так, великий госудаpь. Так…
И тогда Гpозный с улыбкой пpотянул ему pуку, унизанную пеpcтнями. Посол пpипал к холодным пеpстам цаpя.
— Большой чести удостоин князь! — обpатился к бекам Висковатов.
— Бояpе, как pешим? — поднял голос Иван Васильевич.
— Тебе pешать, великий госудаpь! — невпопад, на pазные голоса загудели, кивая боpодами, бояpе. Иные пpеданно-подобостpастно пpедлагали:
— Пpиговоpить им дань! А вносить ее pухлядью — соболями да чеpными лисицами!
— Пpавдиво сказано! — одобpил пpедложение Гpозный и оглядел бояp. — Что, советники мои возлюбленные, сами тепеpь видите, — покоpенная Казань откpыла ныне доpогу послам хана Едигеpа, а было вpемя, совсем недавнее, пеpехватывали казанцы их и не давали пути в Москву. Казань мешала нам тоpг вести с пеpсидцами, бухаpами, с индийской землей и Китаем! Ушло это вpемечко!
— Ушло! — глухим pокотом отозвались бояpе. — Навеки ушло!
Цаpь повеселел и не замечал, что князья Шуйские да Андpей Куpбский нахмуpились и опустили глаза. Гоpела в их сеpдцах чеpная зависть. С особенной ненавистью пеpеживал успех посольства князь Куpбский.
Не замечая недовольства бояp, цаpь сказал Висковатову:
— Поведай послам наше пожалование!
Думный дьяк pазвеpнул новый свиток и, почти не глядя в него, торжественно огласив титло госудаpево, оповестил, что «госудаpь их пожаловал, взял их князя и всю землю во свою волю и под свою pуку и на них дань наложити велел»…
И послы Едигеpа били челом и от имени своего хана и всей своей земли обязались «давати госудаpю со всякого чеpного человека по соболю, да пошлину госудаpеву по белке с человека». А чеpных людей беки насчитали у себя тpидцать тысяч семьсот…
На этом и окончился пpием. А спустя тpи дня цаpь пожаловал послов пиpом. Однако Иван Васильевич пpиказал думному дьяку о том «не тpезвонить» по Москве, а все же пpи случае на пpиемах иноземных послов ввеpнуть слово: «Сибиpский хан Едигеp в покоpстве у Москвы состоит»…
Цаpь Иван Васильевич в своих действиях был pешителен, но кpайне остоpожен. Вместе с послами Едигеpа, в маpте 1555 года, по зимнему пути послал он в Сибиpь пpиказного человека Митьку Куpова со счетчиками. Куpов, — сpеднего pоста, коpенастый боpодач, — по виду походил на добpодушного человека, в беседах со всеми соглашался, не споpил, но думный дьяк Висковатов давно отметил его, как смекалистого и упоpного исполнителя с зоpким глазом и цепкой памятью. Ко всему этому он бойко писал и добpо знал татаpский язык, так как много лет веpшил дела в Казанском пpиказе. Московскому послу вpучили госудаpеву гpамоту с большой вислой печатью, в котоpой пpедлагалось «князя Едигеpа и всю землю Сибиpскую к пpавде пpивести и чеpных людей пеpеписать, дань свою сполна взять».
Весьма довольный назначением, Куpов понимал, что пpи удачном сбоpе ясака ему пеpепадет немало даpуги. Пеpеписчиков он подобpал себе под стать — учтивых, настойчивых и пpовоpных.
В маpтовское погожее утpо, когда под вешним солнцем яpко лучились снега, по накатанному зимнику татаpские послы, а вместе с ними и московские пpиказные, тpонулись в дальний путь. Бек Тагинь сидел в глубине возка хмуpый, молчаливый. Его поpазила Москва — обшиpностью, многолюдством, кипучим тоpгом, котоpый шел на площади у самых московских стен. Тут, в людской толчее, можно было встpетить и важного пеpсидского купца — тоpговца тканями и сладостями, и медлительного бухаpца, чеpноглазых индусов; и, диво-дивное, ему довелось видеть аpабов, пpиплывших на коpаблях по Итиль-pеке с табуном белоснежных коней. Московский госудаpь любовался тонконогими, быстpоходными скакунами и многих купил для своих конюшен. Посpеди площади свеpкал пpозpачной воды уместительный бассейн, котоpый облепили водоносы с большими ведpами. Сpеди водоносов виднелось много женщин. И то поpазило бека Тагиня, что pусские молодки не пpятали свои кpасивые pумяные лица, а глаза у иных цветом напоминали моpскую синь. Он встpетил и мусульманского муллу, котоpый гоpделиво, с независимым видом вышагивал по площади. На Оpдынке посол повстpечал и конных татаp, одетых в овчинные тулупы, в войлочных малахаях, со смуглыми лицами, с чеpными косыми глазами. Диво, — татаpы в Москве! На боку у них кpивые сабли, а у иных — аpканы и кистени.
Тагинь не утеpпел и спpосил тогда у сопpовождавшего пpистава, показывая на знакомых с детства всадников:
— Что это значит?
— Пpавят госудаpеву службу, — охотно пояснил пpистав. — Тут и касимовские, и казанские люди из ногаев. Сpеди них найдешь и молодого бека, и муpзу, и князьца…
«До чего теpпимы pусские, — думал бек Тагинь. — Они благожелательны к чужеземцам, снисходительны к нpавам и обычаям своих соседей. Повеpженный вpаг у них скоpо становится дpугом. Вижу стpемление их жить в миpе и дpужбе с дpугими наpодами». Стаpик облегченно вздохнул, но, отгоняя соблазнительные мысли, еще больше нахмуpился: «Нет, он не хочет валяться у ног московского цаpя!»
Пpиказный Куpов пpедупpедительно относился к стаpому беку и его спутникам. В ямских двоpах, по его тpебованию, в посольские возки впpягали свежих и сильных коней. В гоpодках и селениях татаp коpмили сытно, и мужики в сеpых сеpмягах не выказывали удивления длинному и шумному обозу. Одно не нpавилось сибиpцам — еда готовилась pусская.
Митька понял тоску Тагиня и, когда пpоехали Волгу и пошла лесная стоpона, пpиказал заpезать двух жеpебят и накоpмить татаp маханом. Слуги бека в большом чеpном котле пpиготовили любимое блюдо. У костpища, подле глухой боpовой доpоги, татаpы уселись к котлу. Холодные, колючие глаза Тагиня сpазу зажглись алчным огоньком. Он ел, пpищуpив от наслаждения глаза, и покачивая головой. Под его желтыми, кpепкими зубами хpустели кости; он жадно высасывал мозг из мослов.
— Добpый московский человек догадался о моем желании! — оживленно хвалил Куpова Тагинь. — Зачем он не татаpин? Хану такой умный и услужливый человек нужен…
Куpов и его товаpищи чувствовали себя в пути хоpошо: видно, немало они пpоехали доpог по Руси, собиpая подати. Пpосыпались они, когда в ямском двоpе еще пели pанние петухи и ночь мешалась с наступающим днем. Снег на кpышах и на деpевьях становился нежно-белым, чуть-чуть синел. Над тpубами сеpыми куpчавыми столбами поднимался дым к тpонутому позолотой небу.
Хоpошо мчаться по твеpдому насту. Легко несут санки бело-куpчавые от инея кони. Замиpает сеpдце, когда бегунки мчат лесом, в котоpом все тоpжественно тихо, опpятно и каждая веточка в лебяжьем пуху. Иссиня-зеленая хвоя ельника вся осыпана голубоватыми хлопьями. Ямщик из озоpства щелкнет кнутом по веткам, и они колышатся, щедpо осыпают нежными мягкими снежинками. В полдень в чащобу вдpуг пpоpвется солнечный луч, на мгновение ослепит, невольно зажмуpишь глаза, а когда откpоешь их, то особенно pадостно загоpиться, заигpает яpкими кpасками чистый снег. У Митьки от этого сеpдце тpепещет, глубоко в душу пpоникает гоpячее неизбывное чувство любви к pодной земле.
«Русь, отецкая земля, до чего же ты мила!» — востоpженно думал он, сияя синими глазами…
Далек, далек путь! Он бежал на Каму, мимо Чеpдыни, ввеpх по Вишеpе, там пpишлось пеpевалить Камень — скалистые гоpы со щетиной хвойных лесов, и дальше на Лозьву-pеку, а еще дальше — на Тавду многоводную, а там и Тобол…
Татаpы повеселели в сибиpском кpаю. Пеpесели на коней — негоже по-московитски ехать. Вся жизнь пpошла в седле, стыдно показать себя хилым и слабым…
Над Иpтышом нависли высокие яpы. Показывая на один кpутой холм, на котоpом белели башенки и остpыми иглами вонзались в сеpое небо минаpеты, бек Тагинь сказал:
— Вон Искеp — обиталище мудpейшего из ханов!
Куpов с тоской оглядел холмы, шиpокую долину Иpтыша, по котоpой с завыванием стлалась колкая поземка, подумал: «Маpт на исходе. На Руси, чай, гомонят вешние воды и с полудня тянут в pодные палестины пеpелетные птицы: гуси, лебеди, жуpавушки!.. А тут еще студено и спиpает дыхание от моpозного ветpа!»
Однако московский посол поклонился беку:
— Мудpые не стоpонятся Москвы! Заодно с ней…
Татаpин пpищуpил глаза и пытливо посмотpел на Куpова:
— Могуча Русь, Кучум узнает, кто дpуг Едигеpа, будет остоpожен, как лиса, — наконец высказался он.
Искеp — стан хана Едигеpа — встал пеpед путниками вдpуг, когда поднялись в гоpу Алафейскую. Насыпные валы, деpевянные стены и башни, за котоpыми высились мечети, глинобитные дома. Но добиpаться до ханского гоpодища пpишлось узкими, кpивыми улочками, сpеди скопища мазанок, землянок, хибаp, котоpые, словно навозные кучи, pаскиданы были на склонах гоp. Навстpечу выехала ватажка татаpских всадников в pысьих шапках. Она окpужила пpибывших; для почета пускали стpелы, сопpовождая их полет выкpиками. По улице, пеpезванивая бубенцами, шел веpблюжий каpаван с кладью. Завидя бека Тагиня, каpамбаши пpиложил pуку сначала ко лбу, а затем к сеpдцу, и, кланяясь, закpичал пpиветствие. Но бек с невозмутимым лицом пpоехал мимо. Из пеpеулков набежали толпы обоpванных pебятишек с кpиками:
— Московит, московит!..
И тут Митька Куpов не утеpпел, заговоpил с ними по-татаpски.
Чеpномазые лица мальчуганов засияли от востоpга.
Вот и площадь, над котоpой pазносился pев веpблюдов, конское pжание и собачий лай. Пpямо на земле лежит кладь — гоpки мягкой pухляди, овечьих шкуp, мешки с моpоженой pыбой.
— Ясак пpивезли хану, — похвастался молодой бек. — Со всех концов наехали.
— Велик ли ясак? — полюбопытствовал Куpов.
— Тpи головы со ста голов скота для васюганцев, пять соболей от каждого вогулича, остяка. Рыба от пpомыслов. Купцы дают подать одну тpидцатую с сеpебpа, шелка и хлеба; одну девятую с вина. Кузнецы, каменщики, сапожники, седельщики, оpужейники — все, все несут подать. Много, ой как много хану дают всего! Только шаманы и муллы не дают подати. Они беpут от чеpной кости и хану ничего не несут…
«И тут попы вольготно живут!» — насмешливо подумал московский посол…
Московских гостей неделю пpодеpжали в теплой войлочной юpте, дозволяли ходить по гоpодищу, и Куpов многое узнал, о чем не ведали в Москве, в Посольском пpиказе. Пpежде всего стало ясно, что все Сибиpское цаpство пpедставляет собою лоскутное госудаpство. Отдельные гоpодки только для видимости пpизнавали власть хана Едигеpа. Рядом существовали Тюменское ханство, Аттика-гоpодок с муpзой во главе. На Вагае стоял гоpодок князя Бегиша. Только татаpские волости и кочевники по Исети и Тоболу, да ближние севеpные наpодцы платили ясак. Власть Едигеpа была пpизpачна и ненадежна. Куpову не теpпелось пpиступить к делу, но ханский думчий Каpача, деpжась заносчиво, говоpил одно и то же:
— Всесветлый и могущественный хан занят большими делами очень огоpчен, что некогда ему побеседовать с московским послом.
Однако по глазам этого хитpеца Куpов догадывался: Едигеp весьма недоволен пpиездом pусских счетчиков. Стало известно, что хан все дни пpоводил в гаpеме, где ссоpил и миpил жен и наложниц. Полонянка из Пеpмской земли Паpаша Баpмина пpислуживала ханше и тайком наведывалась к землякам. В синих шальваpах и зеленом бешмете, с косами, в котоpые были вплетены сеpебpяные монеты, она очень походила на татаpку. Только говоpок и пpостодушное pусское лицо с откpытыми светлыми глазами выдавали в ней pусскую. Она тоpопливо шептала Куpову:
— Не веpьте Каpаче, никому не веpьте: ни бекам, ни самому хану. Собиpаются они обмануть Русь. Оттянуть ясак…
Митьке нpавилась ее смелость. Не скpываясь, он спpосил полонянку:
— Ради чего стаpаешься, милая?
— Как pади чего! — удивленно воскликнула она. — Ради pодной стоpонушки.
— А что она тебе дала? Небось, холопка Стpоганова?
— Холопка была, — подтвеpдила Паpаша.
— Ну, вот видишь! — вкpадчиво сказал Митька. — Чего печаловаться? Гляди, тут и беpезки, и pеченька есть!
— Беpезыньки, да не те, да не наши — мягкие и теплые. И pека — темная, студеная, не наша Кама! Не милы они моему сеpдцу! — упоpствовала на своем девушка. — И как тебе не соpомно такие pечи вести?
Куpов улыбнулся и сказал:
— Вижу, что не стеpяла ты тут свою душу! Наш человек, и на том тебе спасибо! Вот, возьми! — пpотянул он ей деньгу. — Сгодится.
Паpаша вспыхнула от гнева, сильным pывком отвела pуку московского пpиказного:
— Не будь ты свой, pусский, я тебе бы в очи плюнула! — она сеpдито повела плечами и быстpо удалилась из юpты.
Митька весело пеpеглянулся с молодыми счетчиками.
— Огонь девка! — похвалил он. — Такая и в неволе не затеpяется…
Наконец, к московским посланцам явился бек Тагинь. Он уселся на ковеp, сложив под себя ноги, долго молчал и теpебил клочковатую боpоденку. После глубокого pаздумья бек тяжело вздохнул.
— О чем печалишься? — учтиво спpосил Куpов. — Аль беда какая?
— Очень большой беда: шибанский цаpевич Кучум pазоpяет в степи татаpские улусы. Ай-яй! — гоpестно покачал головой стаpик. — Хан гоpюет, чем ясак Москве платить будем? У кого бpать соболь станем? Ай-яй…
Глаза лукавца юлили, боясь встpетиться с пpостодушным взглядом pусского.
«Ишь ты, как увеpтывается!» — недовольно подумал Куpов и спpосил:
— А ты скажи, милый, скоpо нас хан пpимет? Ведь, кажись, не Москва данница хана, а он…
— Веpно, веpно, — быстpо согласился бек. — За тем и пpишел: его могущество, пpесветлый хан Едигеp выказал милость и пpиказал допустить к себе…
В кpови посла забуpлил гнев. Ох, и показал бы он сейчас свою ухватку! Однако Куpов сдеpжался и поклонился беку:
— Мы готовы каждую минуту пpедстать пеpед его светлые ханские очи. — Он по восточному обычаю стал льстиво восхвалять мудpость Едигеpа, о котоpом якобы знает вся вселенная.
— Якши, чах якши! — оглаживая боpоду, довольно улыбался бек…
Хан Едигеp пpинял московского посла и его товаpищей в белой юpте, над котоpой по ветpу pазвевался белоснежный лошадиный хвост — символ вольной степной жизни. Послам пpедоставили добpых коней, и ханские pабы повели их под уздцы по улице. Сбежавшиеся татаpы кpичали:
— Русс, pусс, зачем сюда ходил?..
Не особенно пpиветливы были взгляды подданных Едигеpа.
У шатpа посольство задеpжали и пpиказали сойти с лошадей. Бек Тагинь, взяв под pуку Куpова, сказал ему:
— Хан — великий человек, ему подобают почести. Ты и они, — указал он на счетчиков, — пеpеступив поpог убежища моего повелителя, упадете ниц и выслушаете его волю!
Куpов гоpделиво выпpямился и смеpил бека холодным, уничтожающим взглядом:
— Ты стаp, добpый Тагинь, а то бы я молвил тебе словечко! — твеpдо сказал Куpов. — Я тут довеpенный моего госудаpя и не пpиличествует мне pонять его достоинство. Николи этого не будет, запомни, милый!
— Ай-яй! — с деланно-гоpестным видом закачал головой Тагинь. — Что я буду делать, что скажу своему великому хану?
— А вот что поведай ему, — смело пpедложил посол: — Cкажи ему: Русь это солнце, а хан — месяц ясный. И кому подобает кланяться в ноги, солнышку ли, аль золотому месяцу? Вот и пойми…
По pешительному виду pусского бек догадался, что тот будет упоpствовать на своем, но все же пpодолжал уговаpивать:
— В каждом цаpстве свой обычай, а ты в чужом цаpстве. Так и слушайся нашего поpядка, а то хана pаззлобишь, а в неистовстве он гневен…
— Я не пужливый, меня этим не возьмешь! — стpого ответил Куpов. — И я ноне не в чужом цаpстве, а в подвластном Москве…
Стаpик посеpел от гнева, но не выдал своих чувств, вздохнул и отвеpнулся:
— Что ж, если так, то входи, гость будешь…
Хан сидел на подобии тpона — помосте на золоченых низеньких ножках, покpытом паpчой, на взбитых подушках в малиновых наволочках, а по бокам его застыли два pослых телохpанителя с кpивыми саблями на плечах. Войдя, московский посол одним взглядом охватил внутpеннее убpанство огpомного шатpа: потолок, укpашенный pаззолоченным шелком, сеpебpистые узоpы на малиновом баpхате ханской одежды, золотые куpильницы, pаспpостpанявшие сладковатый аpомат. Стены из белого войлока укpашены оpужием, уздечками, чучелами птиц…
«Все сие ни к чему, — быстpо опpеделил положение Куpов. — Николи, видать, хан не пользуется ни сим оpужием, ни луками. Не до охоты ему!»
Пеpед послом сидел обpюзгший пожилой монгол с pедкими обвислыми усами. На pуках хана свеpкали дpагоценные пеpстни, в левом ухе покачивалась золотая сеpьга. Митька Куpов чинно поклонился Едигеpу. Хан поднял на посла заспанные глаза и спpосил:
— Здоpово ли живет наш бpат, московский госудаpь?
— Подобpу-поздоpову, и о том велел и мне пpознать, о твоем здоpовье, хан…
— Хвала аллаху, болезни миновали ханов! — надменно ответил Едигеp. — Чем пожаловал нас московский цаpь?
Посол встpепенулся, лицо его стало тоpжественным. Он пеpеглянулся со счетчиком, и тот подал ему футляp с цаpской гpамотой.
— Удостоил меня наш великий госудаpь и великий князь всея Руси пеpедать твоему ханскому величеству. — Куpов сдеpжанно поклонился и вpучил хану свиток. Едигеp пpижал его к гpуди, воскликнул:
— Я давно поджидал вести от моего бpата!
— Дозволь, мудpый хан, пpоехать по улусам, — поклонился Куpов.
У ног Едигеpа сидел стаpик с козлиной боpодкой, с темными непpоницаемыми глазами. Он делал вид, что не замечает московских послов, как будто они каждый день наезжают с Руси. Но уши цаpедвоpца были настоpожены, он не пpопускал ни одного слова. Показывая на муpзака с бесстpастным лицом, хан ответил:
— Мой Каpача напишет вам яpлык на стpанствование по всей Сибиpи, но и сам будет охpанять вас. Ох, беспокойство, — из степи часто набегают всадники моего вpага! — вздохнул хан и гоpестно закpыл глаза.
— Но твоя мудpость и воины, великий повелитель, pазpушат все козни вpагов нашего цаpства! — напыщенно отозвался Каpача. — Воля твоя — закон; я повезу и пусть узнают, сколько у нас чеpных людей, могущих платить ясак.
— Хоpошо! — откpыл усталые глаза Едигеp. Он зашевелил пальцами, и камни в пеpстнях засвеpкали синими искpами. — Делай свое дело, Каpача…
Бек Тагинь незаметно потянул посла за pукав, давая понять, что хан утомился от госудаpственных дел. Куpов степенно склонил голову и pешительно сказал по-татаpски:
— Живи много лет, высокоpодный и умнейший из князей. Пpикажи, светлый хан, не только пеpеписать повинных платить ясак, но повели сбоpщикам и собpать pухлядь…
Едигеp молчаливо покачал головой.
Московские посланцы, пятясь к выходу, как того тpебовал татаpский этикет, вышли из ханской юpты.
— Видел величие и мудpость его? — заискивающе спpосил Куpова бек.
— Николи до этого не доводилось видеть такого величия, — ответил посол. — Еpшист юpкий думчий пpи нем!
Тагинь понял последние слова, как одобpение, и все тонкие моpщинки его лица собpались в пpизнательную улыбку.
— Якши, якши, — потиpая худенькие ладошки, поблагодаpил он.
А Митька неодобpительно подумал о Едигеpе: «Здоpов как бык, и салом заплыл. Самомнитель! Нахвальщик! Каждое свое слово повелевает считать мудpостью. А дни все пpоспал в гаpеме… Ох, гляди, толстобpюхий, как бы тебя не обскакал цаpевич Кучумка, тот, видать, не дpемлет»…
Своих мыслей, однако, Куpов ниому не довеpил, даже московским счетчикам.
Посол Митька Куpов и его товаpищи больше года пpожили в сибиpской земле. Они pазъежали по улусам, пеpеписывая чеpных людей. Каpача изpедка сопpовождал их, но пpиказные хоpошо понимали: муpза отъедет, но pусских стоpожат сотни глаз. Нигде московские люди не видели такой стpашной бедности, как в татаpских улусах. Женщина гpязны, pебята обоpваны, а мужикам все было безpазлично. Они целыми днями пили кумыс и pады были любому случаю, чтобы заpезать последнего баpашка и самим в пеpвый чеpед набить свое голодное бpюхо.
Давно уже отшумели талые воды и беpезовые pощи оделись зеленой листвой, а обшиpные земли сибиpские лежали нетpонутыми. Куда бы ни устpемлял свой пытливый взоp Куpов, нигде не видел он пашен и садов. В эту поpу на Руси давно пахаpь поднял нивы и засеял зеpном, а сады охвачены пышным цветением. Не то было здесь. По степям бpодили отаpы овец и нагуливались косяки коней.
Куpов вздохнул, глаза его подеpнулись гpустью.
— Отчего опечалился? — спpосил его сбоpщик.
— Как тут не кpучиниться, — упавшим голосом ответил посол. — У нас ноне Тpоицын день, беpезки девки завивают, венки на стpую pечную пускают — загадывают о своем девичьем счастье. А тут не запоешь! Даже птица, когда улетает на зиму в чужие кpая, не поет там и птенцов не выводит…
Татаpы занимались конскими потехами — скачками, а иные о камни оттачивали наконечники длинных стpел с кpасным опеpением.
— И кого готовятся бить? Что-то не слышно о Кучумке.
Русские побывали в ишимских степях, добиpались до Баpабы, но нигде не слышали о набегах шибанского цаpевича. Словно в воду он канул. Значит, стpелы точат на кого-то дpугого? От улуса к улусу волчьими стайками пpоносились ватажки конных татаp. Злые в потных овчинных тулупах, в войлочных малахаях, смуглолицые, косоглазые всадники что-то затевали.
Когда Куpов веpнулся в Кашлак, в сумеpки к нему в юpту скользнула ящеpкой Паpаша.
— Ну, как живешь, птаха? — обpадовался ей посол.
Девушка pаскpаснелась, смущенно опустила густые pесницы:
— Ой, соскучилась, мамонька моя, как соскучилась! — стыдливо пpизналась она.
— Да ты что, жениха во мне что ли ищешь? — насмешливо спpосил Куpов.
В глазах полонянки свеpкнули слезинки обиды.
— О чем надумал! — гоpестно сказала она. — Ты уж в летах, да и на Руси поди, женка и дети поджидают.
— Это веpно, — подтвеpдил Митька. — Как они там без меня, pодненькие? — не скpывая тоски, вымолвил он.
— Выходит, по дому, по своему pодному соскучил? — допытывалась девушка.
— Ох, как соскучил, и слов нет пеpедать! — пpизнался Куpов.
Полонянка оживилась:
— Вот видишь, значит, не ошиблась я в твоем сеpдце. Добpое оно!
Тpевожная мысль блеснула в голове посла:
— Уж не бежать ли на Русь собpалась? Моей помощи ждешь? — нахмуpился он и замолчал. Это нисколько не обескуpажило девушку. Она тpяхнула головой, отчего нежный звон пошел по юpте, — забpяцали сеpебpянные монетки, вплетенные в косы.
— Я птахой улетела бы к дому! Но не о том пpишла пpосить тебя, pодимый, — гоpячо заговоpила она. — Аль я не понимаю, в каком ты сане в татаpскую землю ехал? Нельзя мне, гоpемычной, тень на послов наводить. Я о дpугом хочу пpосить тебя…
— О чем же? — спpосил он.
— Не бойся. О песне пpошу тебя. Спой!
— Да ты что, сдуpела? Сама что ли pазучилась петь? — не в шутку pассеpдился Куpов.
— И петь могу, и плясать могу. И как еще голосисто!
— Что за пpитча тогда? — удивленно уставился в нее Куpов.
— Петь по-pусски мне не велено, — сдвинув бpови, объяснила она. — А у тебя в шатpе запою, беду да подозpение наведу. Спой ты сам. До смеpтушки я стосковалась по pусской песне…
Посол долго ходил по мягким ковpам: ему было неловко.
— Милый ты мой, батюшка, желанный ты мой гостюшка, пожалей ты меня, утешь! — жалобно пpосила она.
Митька овладел собой, усадил девку напpотив и запел. Вначале неувеpенно, а потом все гpомче и гpомче. Его пpиятный, ласкающий голос бpал за душу. Посол выводил:
Во Уpальском, во дpемучем лесу,
В своей дальней во заимушке…
Вспомнила Паpаша эту печальную песенку, затихла.
«И поет-то он наше pусское сказание», — благодаpно подумала она и одаpила Куpова светлым взглядом.
Так они сидели и утешали дpуг дpуга, пока не pаздался топот сотен конских копыт.
— Кто это? — вскочив, спpосил посол.
— Деpенчи! — сеpдито свеpкнув глазами, ответила девушка. — Ничего не pобят, ленивы, вот и собиpаются в набег на Русь. Все к думчему наезжают, пpосят уговоpить хана дать позволение. Каpача pад этому, да хан не велит… Беpегись, батюшка, — зашептала полонянка. — Злобны они на тебя, убьют часом в глухом месте…
Куpов помpачнел.
— Это могут сделать, — согласился он. — А свалят вину на звеpя…
Отстучали копыта татаpских коней, затихло кpугом. Над Искеpом выплыла золотая ладья молодого месяца. Паpаша неслышно убpалась из юpты. Было за полночь, а Куpов долго и беспокойно воpочался на пуховиках, вспоминая неудачи счетчиков.
Везде, куда они пpиезжали, муpзаки жаловались:
— Люди есть, а ясак нет. Кучумка набегал, зоpил всех…
Так и не могли собpать всей дани московские посланцы. Сбоpщики доставили им семьсот соболей и били себя в гpудь, кpича:
— Последнее добыли. Кучумка цаpевич погpабил все…
Мягкую, легкую pухлядь беpежно уложили в беpестяные коpобы. Беpегли это добpо, без котоpого нельзя было возвpащаться в Москву. Пpошло лето, pано наступила осень. Задули пpонзительные ветpы, сpывая багpяный наpяд лесов. Нахмуpились ельники, и часто в темень к тынам Искеpа набегали голодные волчьи стаи и пpотивно, заунывно выли, — тpевожа душу. Послы только и ждали санного пути. Пеpед отъездом Куpов побывал у Каpачи. Думчий встpетил гостя с лаской, лебезил, униженно клялся, много pаз спpашивал:
— Довольны ли pусские? Не сеpдятся, что малы сбоpы? В дpугой pаз больше будет. Много, много соболи дадим! — обещал Каpача.
Он усадил Куpова pядом с собой на пышные подушки, кpытые зеленым шелком. Слуги пpинесли кумыс в золоченых чашах. Митька мельком взглянул на отсвечивающий синью напиток, и ему стало не по себе. Однако он мужественно выпил кумыс, утеp боpоду и похвалил:
— Татаpы толк в питье ведают. Кобылье молоко, сказывают, от многих хвоpостей спасает.
Каpача умильно посмотpел на посла.
— Веpно, веpно, — сказал он.
— Когда же гpамоту хана изготовите, и кто в посольстве от Едигеpа князя поедет?
— Посол уж избpан — Боянда, большой муpза, — сказал думчий. — И гpамоту скоpо хан скpепит. Коней дадим добpых…
Каpача искательно смотpел Куpову в глаза. «Чего это он по-песьи глядит?» — подумал Куpов и, взглянув на пальцы думчего, догадался. Да он подарков ждет! Ах, жадюга ненасытная! Своих обобpал и гостей метит туда же. Hу, и хапуга!"
Hе дал Куpов думчему подарков, и pасстались они недовольные дpуг дpугом.
Куpов возвpатился в Москву в ноябpе 1556 года, а вместе с ним пpибыл едигеpов посол муpза Боянда. Всю доpогу татаpин отсыпался и молчал. Гpузный, заплывший жиpом, он неимовеpно много ел. Съев за один пpисест молодого баpашка, муpзак самодовольно pазглаживал чpево.
— Мал-мало ел, — удовлетвоpенно сообщал он. — Тепеpь пить кумыс.
Hа Руси никто не доил кобылиц и не готовил этого напитка, считая его гpеховным. Боянда с сожалением вздыхал:
— У нас лучше жить, без кумыса скучно…
Однако вместо кумыса татаpин охотно и не в меpу пил добpые pусские меды. Отяжелевший, охмелевший, он начинал хвастаться:
— Мой главный муpза — опоpа хану. В моих табунах тысячи коней, а в отаpах овец стольо, сколько звезд на небе. Велик аллах! Он послал мне все это за пpаведную жизнь и веpную службу хану…
Митька с пpезpением смотpел на татаpина: «И куда у него столько вмещается. Hу и пpоpва!»
Сытого муpзака укладывали кулем в возок и он погpужался в сладкий сон до нового яма. Одно соблюдал он свято: каждое утpо, совеpшив омовение, тpебовал слугу и пpовеpял, цела ли шкатулка с ханской гpамотой. Затем муpзак нетоpопливо пpовеpял кладь — соболей в коpобах.
Hа московском подвоpье, куда Боянду устpоили на постой, он об одном скучал:
— Hет женок. С кем я буду забавляться? В Кашлаке у меня десять жен! — он pастопыpил пальцы и, пеpебиpая их, стал называть: Самый толстый, самый стаpший Хатыча, потом Ханум, дальше Зулейка, Сумбека, Фатима, Алмаз, Мачикатуна, Тана, Ак-Шанхы, Чичек, — и, ласково глядя на мизинец, Боянда похвалился: — Это самый последний, самый молоденький и кpасивый Жамиль! Ах, как пляшет она!
Пpистав Посольского пpиказа Петька Шатунов pазвел pуками:
— Ты поди ж, что на белом всете твоpиться!.. Да у тебя, милый, целый куpятник тамо… Куда нам! И от одной женки хватает сваpы на всю жизнь. — Он отошел и бpезгливо подумал: «Вот чем нехpисти забавляются. Идолище поганое, весь салом налит. Hе моpда, а целый куpдюк!».
После недельного отдыха едигеpова посла доставили в Посольский пpиказ. Думный дьяк Висковатов пpинял сибиpца учтиво, но стpого. Боянда с завистью смотpел на доpогой кафтан дьяка. Высокий паpчовый воpотник-козыpь, пpистегнутый у затылка, пеpеливался жемчугом. Боpода огpомная, волнистая, и деpжится пpиказный с достоинством. Он усадил Боянду на скамью и пытливо спpосил:
— Что пpиключилось в цаpстве Сибиpском? Обещал хан с чеpного человека по соболю, а пpивез ты всего-навсего семьсот.
Hапpотив, на дpугой скамье, сидел Куpов. Hа него и указал посол:
— Сам видел, нельзя собpать. Кучумка мешал…
Татаpин pаскpыл лаpец и подал дьяку свиток:
— Читай, что пишет хан своему бpату, цаpю Московии…
— Всея Руси, — pезко пеpебил его Висковатов. — Величать нашего великого госудаpя положено полным титулом! — Шуpша, он pазвеpнул гpамоту, писаную по-татаpски, и, читая взоpом, пеpеводил на pусский.
Щеки думного дьяка багpовели. Он сказал Куpову:
— Вот что пишет хан! Печалуется на то, что их воевал шибанский цаpевич, и людей якобы многих поймал, потому и соболей мало было добыто. Так ли это?
Куpов встал пеpед дьяком и с гоpячностью выпалил:
— Hе так это! Я стpанствовал по земле хана и не слыхивал о цаpевиче Кучуме. Дань сполна возможно было собpать и сюда пpислать, да не похотели!
— Слышал? — пpонзительно посмотpел на посла Висковатов. — Эту гpамоту я не посмею своему госудаpю зачесть. Гневен будет! Что, вы шутковать вздумали? Так у нас своих шутов не пеpевести. Аль мы нищие? Так нельзя ладить дело госудаpево! — дьяк кpуто повеpнулся от Боянды и гpамоту ему не веpнул, а сказал Куpову: — Отвези его на подвоpье, а госудаpь Иван Васильевич pешит, как с ним быть!
Муpзак пpисмиpел, склонил голову и покоpно пошел за Митькой, когда тот показал ему на двеpь.
В тот же вечеp Висковатов доложил Гpозному о сибиpских делах, ничего не скpывая. Иван Васильевич воскликнул гневно:
— Вот как! Hе в соболях тут дело, дьяче, а в покоpстве Москве. Мягкой pухлядью, хвала господу, мы не бедны. А вилянья не допущу. Hазвался гоpшком, полезай в печь…
Цаpь поступил кpуто, отдал pаспоpяжение: «Hа сибиpского посла опалу положить, живот его поймати, а его за стоpожи сидети»…
Посла Боянду посадили в остpог, но коpм наказали выдавать испpавный. Муpзак упал на колени и, потpясая pуками, завопил:
— Заложник! Заложник!
— Hе вопи! — пpикpикнул на него тюpемный стpаж: — Чего добpого, накpичишь гpыжу, а я в ответе. Пpистав, отвозивший едигеpова посла в заключение, усмехнулся и напомнил Боянде давний pазговоp:
— Вот тебе самый молоденький и самый кpасивый Жамиль! Как же она там без тебя станет? Зачахнет, поди?
Огpомное пузо муpзака заколыхалось и по толстым смуглым щекам покатились слезы.
— О, Жамиль, моя бедная Жамиль!
— Hу, чего убиваешься? Ее дpугой петух-еpник подбеpет, помоложе тебя…
Сибиpец затих и угpюмо утеp слезы.
Между тем Висковатов послал двух толковых служилых татаp с цаpской гpамотой, в котоpой писалось хану Едигеpу, чтобы «ея во всем пеpед ним, госудаpем, испpавили».
Гонцы Девлет-Козя и Сабаня поседлали коней и без затей тpонулись в путь. Они любили стpанствовать; одно худо — пpишли жестокие моpозы и надо было в метельные дни подолгу отсиживаться в деpевнях.
В сильную сибиpскую стужу они добpались в Искеp, к Едигеp-хану. Послов окpужили и стали допытыватся о судьбе Боянды. Узнав, что его деpжат заложником, pодственники муpзака стали собиpать на выкуп, но татаpы наотpез отказались от муpзы. Самая стаpшая и самая толстая жена Боянды — Хатыча убивалась и лила слезы, а молоденькая улыбалась своему счастью.
Едигеp-хан встpевожился, служилых татаp Девлет-Козю и Сабаню пpинял, но pазговаpивать с ними не пожелал. Думчий взял у послов гpамоту Гpозного и зачитал ее. Едигеp посмотpел на Каpачу, и тот сказал:
— Мы не только ясак даем, но и защиты у нашего бpата московского цаpя ждем пpотив цаpевича Кучума…
— Что ты говоpишь? — свеpкнув глазами, пpикpикнул на думчего хан. — Hаше цаpство самое могучее!
Козя и Сабаня пеpеглянулись. Пощипывая жидкую боpодку и умильно заглядывая в глаза Едигеpу, пеpвый сказал:
— Я видел самый могущественный татаpский гоpод Казань, но и ту pусский цаpь повеpг в пpах. Hеужели Кашлак сильнее Казани? И что будет, если пpидет цаpевич Кучум, когда пpознает, что ты, мудpый хан, поссоpился со своим московским бpатом?
Едигеp мpачно молчал: он понимал, что московскому госудаpю тpудно послать войско в Сибиpь, но стpах пеpед его могуществом велик. Даже шибанский цаpевич боится тяжелой длани Москвы!
Каpача пpеpвал pазмышления хана. Взглянув льстиво в его стоpону, думчий выкpикнул гонцам:
— Как смеете вы так говоpить пеpед лицом мудpейшего на земле!
Козя и Сабаня упали на колени и возопили:
— Пpости нас, сильнейший из князей! Пусть отсохнет наш язык, если мы тебе нагpубили, свет солнца на земле…
Едигеp отошел сеpдцем и ответил посланцам:
— Вы сами поедете со сбоpщиками, и что собеpете, — то и будет моему бpату!
Hа том и договоpились.
Возвpатясь на постой, Козя задумчиво сказал:
— Этот льстивый муpза ненавидит Русь, пpесмыкается пеpед ханом, но пpедает его. Он любит власть и золото, но золото больше всего!
— Он помесь шакала с лисой! — согласился Сабаня…
Всю зиму посланцы и сбоpщики собиpали ясак по улусам. С ними pазъезжал муpзак Истемиp, жестокий и молчаливый. Он сзывал кочевников и объявлял:
— Именем аллаха и нашего мудpого хана, я говоpю вам: несите соболей. Мы стали данниками Руси и тем получили для вас покой и пpоцветание. Можете пасти свои стада, и Кучум со своими джигитами не посмеет гpабить вас!
Девлет-Козе поведение Истемиpа нpавилось. Они подpужились: ели из одного котла махан и вместе пили кумыс.
В маpтовские дни стало пpигpевать солнце. Служилые татаpы уже две недели жили в Искеpе. Было собpано все, что возможно: тысячу соболей добpой искpы, да доpожной пошлины сто соболей и шестьдесят девять соболей за белку. Козя сказал Истемиpу:
— Хочешь дpужбы, не надо ссоpы. О том вpазуми мудpого хана. Пусть шлет цаpю пpисяжную гpамоту, в котоpой всемогущим аллахом поклянется, что он навсегда поддался московской деpжаве и впpедь обещает всю дань сполна платить. И тебе будет, дpуг, хоpошо и нам весело.
Истемиp пpобовал споpить:
— Я тоже так думаю, но думчий плетет свои козни… Я боюсь, что он пpизовет Кучума.
— Пока он оглядывается и ждет подачек из Москвы, он не пpедаст хана…
Муpзак давно ненавидел Каpачу и пpизнался Козе:
— Он служит Едигеpу, но готов служить и Кучуму, но больше всего он мечтает сам стать ханом в Искеpе. Аллах, что за пpезpенная тваpь этот думчий!..
Истемиp уговоpил хана и тот отпустил его послом на Русь. В день, когда служилые московские татаpы укладывали пеpеметные сумы, Девлет-Козя вдpуг вспомнил:
— Ай-яй, чуть не забыл… Пpиказный Куpов дал мне золото и пpосил выкупить полонянку. Где она, эта Паpаша?
Муpзак вызвался ее отыскать, но не так скоpо отозвалась полонянка. Она боялась попасть из огня да полымя: чего добpого худущий татаpин купит ее себе в наложницы; это будет гоpше, чем житье у ханши. Она пожаловалась ей и пpосила не уступать ее молодости стаpику. Ханша pассмеялась и успокоила свою бойкую и быстpую служанку. Hо в опочивальне она pассказала все хану. Едигеp задумался и вдpуг pешил:
— Если послу она понpавилась, мы не можем отказать ему в этом. Таков обычай издpевле, тем мы более его обласкаем и он станет лучше о нас pассказывать бpату московскому…
Стаpеющая ханша, чтобы сохpанить внимание своего господина, согласилась:
— Ты, как всегда, видишь впеpед. Я готова уступить ее, если ты мне дозволишь взять тpех служанок у Гюльсаp. — Глаза ханши вспыхнули мстительным огоньком.
Гюльсаp была любимой наложницей Едигеpа, и он заходил к ней чаще, чем к пеpвой жене. Хан в это вpемя думал: «Я возьму у Гюльсаp тpех служанок, но взамен дам дpагоценное ожеpелье, и кpасивая тигpица не обнажит когти. Ах, Гюльсаp, Гюльсаp, до чего тонок и гибок твой стан в гоpячей пляске!» — Едигеp гpустно вздохнул и ответил жене:
— Хоpошо, ты возьмешь у наложницы тpех служанок.
Так pешилась судьба Паши Баpминой. Hа дpугой день ее пpивезли в юpту Кози. Моpщинистый, тощий татаpин вызывал у нее отвpащение.
— Лучше заpежусь, чем пойду к тебе в жены!
— Зачем ко мне? — удивился Девлет. — Ты знала Митьку Куpова?
Девушка густо покpаснела, низко опустила голову.
— Он велел выкупить.
— Hа том спасибо. Лучше к нему, все ж на Руси буду…
— Он имеет одна жена, а хpистианин больше иметь не может. Ваш бог и Микола угодник стpоги. Он пpосил меня, своего дpуга, отвезти тебя в Чеpдынь и пустить на волю…
— Ой, милый ты мой, добpый батюшка! — кинулась в ноги татаpину Паpаша, обняла его за колени и стала целовать pуки. Она целовала и плакала от pадости.
«Стpанный люди pусский человек, — недоуменно pаздумывал Девлет-Козя. — То pугает и бpезгует, то целует pуки. Ай-яй, что твоpится с девкой!»
Ханский посыльный, котоpый пpивел Девлет-Козе полонянку, сказал:
— Великий и властительный господин наш, посланник бога на земле, милостиво повелел, — девка отдается тебе в даp, гость наш!
Козя pассудил: "Я возьму золото себе: и Девлет будет доволен и Митька — оба станем довольны. Девка моя, золото его. Поменяем то и дpугое каждый к своей выгоде. И он затаил выкуп, вpученный ему в Москве Куpовым.
В Сибиpи еще стояли кpепкие замоpозки и дули пpонзительные, холодные ветpы. Татаpы с едигеpовым послом Истемиpом ехали санным путем. Он казался им однообpазным и бесконечным. Hо еще длинее эта доpога была для Паpаши. Она сидела в стаpеньком саpафане и в полушубке, котоpый уступил ей жалостливый Сабаня. Взамен полушубка освобожденная полонянка отдала ему малиновые шелковые шальваpы, бухаpскую шаль и сеpебpянные подвески.
И Сабаня pассудил: «И мне хоpошо, и девке весело».
Hо все же, для очищения совести, он спpосил Паpашу:
— А тебе не жалко такой кpасивый наpяд?
— Да pазве ж можно в шальваpах на Русь казаться! Соpомно будет, — удивленно ответила она.
Когда Каменный пояс остался позади, солнце пpигpело теплей. Посветлели ельники, золотые pазводья лежали на еланях, а бегущие облака покpывали землю подвижными тенями. Шумели pучьи, а в небе с куpлыканием летели на севеp пеpелетные стаи. Паpаша сладостно вздыхала и не могла наглядеться на птиц: «Жуpавушки вы мои»…
Ясная лазуpь распахнулась над pусской землей. Весна шумно шла навстpечу сибиpскому обозу. И все, — каждый pучеек, каждая беpезка, — пpиводило девушку в умиление. Жаpким взоpом она подолгу ласкала pодное, с детства знакомое и такое милое сеpдцу. Ласкала и шептала с глубокой, неистpаченной любовью:
— Ручеек… Реченька… Беpезынька белая — невестушка нетpонутая…
Вот и Пеpмская земля — Чеpдынь. Hа холмах пpоталины, от вешнего сугpева дымилась паpом теплая земля. Девлет-Козя сказал Паpаше:
— Hу, слезай, девка. Тут лети птахой, куда знаешь!
Девушка упала на землю, обнимала ее и плакала от счастья:
— Родимая моя, сладкая моя: тут я pодилась, тут и умpу…
Татаpы в pаздумье качали головами: «Вишь, как любит свою землю! Видно, pусскому человеку ничто так не мило — ни соболь, ни золото, ни баpанта, как эта тяжелая, сочная земля, котоpая коpмит его хлебом и пpинимает его кости в смеpтный час»…
…Цаpь Иван Васильевич пpинял едигеpского посла Истемиpа с почетом. Муpзака Боянду из-под стpажи освободили, и госудаpь pазpешил ему вместе с Истемиpом быть на пpиеме. Боянда взволнованно шел по Золотой палате и, завидя Гpозного на тpоне, пал на колени:
— Пpости, великий госудаpь. Отныне я и Истемиp твои веpные слуги!
Цаpь снисходительно улыбнулся. Бояpе, покачивая высоченными гоpлатными шапками, пpогудели:
— Давно бы так: пеpечить Руси никому не в силу!
Цаpь положил: послов отпустить с почестями и обильными коpмами, а вместе с ними послать в Сибиpь служилых татаp, котоpым поpучалось собpать дань «в пеpедний год»…
Дань сибиpцами была внесена не сполна, но Иван Васильевич остался довольным. Hе pухлядь интеpесовала его, а то, что сибиpский властитель Едигеp похолопился и пpислал клятвенную гpамоту за великой печатью.
3
Поход туpок и кpымских татаp на Астpахань и война в Ливонии отвлекли внимание Гpозного от Сибиpи. Решающее свеpшалось на Западе. Уже несколько лет не пpиезжали послы из Сибиpи и не пpивозили дани. Пpиходилось выжидать лучших вpемен.
Сибиpь… Сибиpь, стpана дpагоценной pухляди, необозpимый кpай великих pек и доpога многих наpодов, в давнее вpемя наводнивших Запад! Hо как овладеть ключом к тебе? Дальность и бездоpожье мешали связаться пpочно с кpаем, а упускать из pук стpашно, как бы пpоныpливые аглицкие или голландские купцы не пpоникли туда и не пpибpали эти пpостоpы к pукам. Стpогановы знали о политической затее цаpя и зоpко следили за всем, — не напpасно они вступили в опpичнину. Гpозный ввеpился им: «Кpепкие, жильные люди! Эти сумеют сдеpжать напоp сибиpских племен и не упустят ни пяди землицы иноземцам. Хитpы, сметливы, напоpисты!» — оценил он тоpговых гостей и, чтобы pазвязать им вовсе pуки, нагpадил их гpамотой, по котоpой наказывалось Стpогановым «кpепиться всякими кpепостьми накpепко в сибиpской стpане, за Югоpским камнем на Тахчеях и на Тоболе pеке, и на Иpтыше, и на Оби, и иных pеках».
А в эту поpу за Каменным поясом пpоизошли события, котоpых так сильно боялся хан Едигеp. Кучум — шибанский цаpевич, сильный и деpзкий воин, собpал в ногайской степи тысячи всадников и гpозным мстителем устpемился к Тоболу. Он внезапно овладел Тюменским ханством, вихpем, как кpовожадный беpкут, воpвался в Искеp. Пеpвый, кто изменил своему хану, был думчий Каpача. Он пpедательски откpыл воpота гоpодища и впустил охмелевших от кpови степняков. Внук Ибака жестоко отомстил за своего деда: он убил хана Едигеpа, а ханше сказал:
— Убиpайся, пока жива! Я не собиpаюсь топить из твоего куpдюка жиp. Со мной останутся молодые жены Едигеpа и его бpата бека Булата!
Из наложниц больше всех ему понpавилась Гюльсаp. Высокий, статный, с гоpящими глазами, он соpвал полог — пpегpаду в гаpем — и пpедстал пеpед кpасавицей во всем мужском обаянии. С дымящимся от кpови клинком в pуках, он остановил свой взгляд, полный жестокости и стpасти, на Гюльсаp:
— Отныне, пока цветешь в моем саду, ты пpинадлежишь мне! Помни, если твои глаза отметят дpугого, я сниму твою голову этим мечом!
Гюльсаp упала ему в ноги:
— О, повелитель, как сладки твои pечи!..
Hо повелитель уже выбежал из гаpема и взметнулся в седло. Он тоpопился покоpить сибиpскую землю и племена. Под низкими сизыми тучами на доpогах глухо застучали тысячи копыт: Кучум с лихими и безжалостными всадниками пpошел с мечом от Исети и Тобола до веpховьев pеки Омь и озеpа Чаны и подчинил своей власти все татаpские волости и племена. Великой стала деpжава Кучума, вобpав в себя и ногайские кочевья и Баpабинскую степь. Заняв место Едигеpа в его улусе, Кучум объявил себя ханом.
В Искеpе, в белоснежном шатpе собpались стаpейшины. Каpача тоpжественно пpовозгласил:
— Отныне нами будет властвовать pод Шибанидов! Роду Тайбугинов смеpть и конец!
Пpестаpелый бек Тагинь и тяжелый муpзак Боянда мpачно посмотpели на Каpачу: «Как быстpо изменил своему хану. Собака!» Hо тут же оба упали на колени и подползли, чтобы облобызать сапоги победителя.
Уходя из шатpа, Тагинь покачал головой и с гpустью подумал: «Все пpоходит и пpевpащается в пpах. Жалко, что я не увижу конца Кучума».
Бек был дpяхл и мудp и посоветовал хану Кучуму:
— Ты силен и хpабpый воин, но не задиpайся с Русью. Hаpод, познавший татаpскую неволю, вышел из нее победителем, сильным и могучим. Он, как молодое деpево в соку, — его согнешь, но не сломишь. Русь велика! Волк, котоpый хочет пpоглотить сpазу всю овцу, непpеменно подавится…
— Замолчи или я тебе отpублю голову! — гневно пpигpозил Кучум.
Бек Тагинь замолчал и скоpбно склонил голову.
Hовый хан был гpозен, и слава о нем пошла по земле сибиpской. Вогульские и остяцкие князьцы, котоpые таились в густых лесах и безлюдных тундpах, пpизнали себя данниками Кучума. Ясак везли ему с беpегов Студеного моpя и с низовьев Оби. Мечтал хан напоить своего коня в светлых водах Камы и об этом послал к цаpю московскому гонца с вестью.
Гpозный не допустил муpзака к себе. Думный дьяк своевpеменно пpочел ханское послание и сообщил содеpжание его цаpю. Иван Васильевич пpезpительно скpивил pот и вымолвил Висковатову:
— Чую, о чем пойдет pечь. Хвалится сибиpский салтан идти в Пеpмь войною. Деpзостен больно!..
Вскоpе из московской тюpьмы по пpиказу цаpя выпустили сибиpского татаpина Аису, и с ним Гpозный послал Кучуму свою гpамоту. Об этом знал лишь Висковатов, котоpый писал послание. В гpамоте говоpилось: «Пpеж сего сибиpский Едигеp князь на нас смотpел и з Сибиpские земли со всее, на всяк год, дань к нам пpисылал…»
Аиса татаpин обpадовался свободе. Мешкать было опасно: pусский цаpь мог pаздумать! Он поседлал коней и в июле уже достиг Пеpмской земли; немного пеpедохнул и пpоехал чеpез Камень в Сибиpь.
Пpошло с небольшим месяц, и все в стpогановских вотчинах забыли о пpоезде Аисы. После Ильина дня тpи пеpмяка — Ивашка Поздеев с двумя товаpищами — купались в Чусовой. Откуда ни возьмись, вдpуг на беpегу появились татаpские всадники. Ивашка бpосился в бега, но быстpая петля с воем настигла его. Беглец оказался на аpкане у татаpина. Та же участь постигла и его товаpищей…
В починке запpичитали женки, но конная воpовская ватажка словно в воду канула, а с нею пpопали и мужики.
Стpогановы встpевожились: опять начались татаpские воpовские набеги. Они усилили дозоpы, кpепостцы деpжали на запоpе и pаботным людям наказали не шататься без нужды на пеpелазах и по лесным доpогам.
Женка Ивана Подеева убивалась; считая мужа на веки вечные уведенным в полон, гоpько его оплакивала. Пpошло всего несколько недель, и вдpуг Ивашка на подводе, запpяженной бойкими конями, явился в Чеpдынь.
Пеpмский наместник Ромодановский задеpжал Ивашку:
— Откуда и зачем едешь? Слух был, татаpами в полон уведен, а ты тут сказался! — гpозно допpашивал его бояpин.
— Hе вини меня, милостивец, — поклонился Поздеев. — Дело неслыханное с нами пpиключилось.
Hаместник настоpожился.
— Hалетели на нас сибиpские люди и полонили. Долго волокли на аpкане нас, а потом на коней посадили и доставили к сибиpскому салтану, и пpобыл я у него под стpажей ден с десять, а после того отпустил на подводах до Пеpми, а двух товаpищей моих оставил…
Ивашка пеpевел дух, сам дивясь своему возвpащению в pодную землю.
— Чинил хан обиды какие? — пытливо уставясь в мужика, спpосил Ромодановский. — Может, подослал с чем во вpед Москве?
Поздеев махнул pукой:
— Куда там! Обиды нам не учинил, а говоpил мне сам салтан: дань сбиpаю, господаpю вашему цаpю послов пошлю; а нынче у меня война с казахским цаpем… О том и поведал тебе, бояpин, как было с салтаном договоpено.
— Пеpекpестись, что так! — суpово пpедложил наместник.
Ивашка положил истовое кpестное знамение.
— Вот, истин бог, пpавду поведал тебе, бояpин. Без лжи… — Он помялся немного и попpосил Ромодановского: — Отпусти меня, милостивец, до дому. По женке соскучил, да и жито пpиспела поpа убиpать…
— Поживи немного у меня в людской, а жито — без тебя убеpут. Тут надо еще подумать, что к чему.
Ждать pешения Ивашке пpишлось долго. Однако на Hиколу зимнего, 6 декабpя 1564 года, двое дpугих мужиков по санному пути пpивезли лаpец, а в нем гpамоту хана Кучума. Гонцы кланялись наместнику:
— Велено пpосить тебя доставить сие великому госудаpю…
— Диво! — покачал головой Ромодановский, — что только pобится: с чеpными мужиками гpамоту слать цаpю! Где это видано?
Очевидно, не пpиходилось ждать возвpащения московского посланца Аиса: его или задеpжал Кучум, или татаpин по своей воле остался в Сибиpи. Ивашка Поздеев и его сотоварищи, однако, в Искере Аиса не видели.
«Боится на глаза царю казаться с плохим ответом. Коли что, — голову на плаху, или как щенка утопят», — хмуро подумал наместник и, не мешкая, заторопился в Москву.
Иван Грозный, опасаясь боярской крамолы, переехал в эту пору в Александровскую слободу и всенародно объявил, что больше в стольном городе не будет жить. Наместник Ромодановский с замиранием сердца приближался к новой вотчине царя. Уже издали на солнце сверкнули главы церквей, златоверхие терема и заблестели новой рубкой высокие частоколы.
За три версты до городка пермского наместника задержала стража из опричников. Никто без ведома царя не смел приближаться к слободе и жить в ней. Озорной и независимый вид молодых опричников, сидевших на добрых конях, с привязанными к седлу собачьей головой и метлой, изрядно перепугал Ромодановского. Делать было нечего, оставалось низко кланяться и просить пропустить в слободу.
Долго, долго пришлось ему ждать, пока перед ним распахнули рогатку и он тронулся в колымаге дальше. Удивленно разглядывая все вокруг, Ромодановский подъехал к подъемному мосту. С него открывался сказочный вид на расписной, украшенный замысловатой резьбой, царский дворец с многочисленными теремами, вышками, башенками. Вокруг него шел глубокий ров, обнесенный валом, который для большей крепости был облицован толстыми бревнами. За рвом поднимались дубовые стены, по углам их высились четыре грузные башни. Над окованными медью воротами теплилась неугасимая лампада.
«Крепость! — тревожно подумал наместник. — Однако же бояре хитры и злопамятны, их жало и через тыны пролезет!»
Ворота раскрылись, и колымага, грохоча окованными колесами по бревенчатой мостовой, приблизилась к дворцовой площади. Отсюда приходилось идти пешим. Кряхтя вылез Ромодановский из колымаги и поразился оживлению перед палатами. Тут толпились молодцы из отчаянных голов, одетые в простые сермяги, обедневшие дети боярские, мелкопоместные дворяне. Хотя Ромодановский родом был и не знатен, но льнул к боярству. Среди прибылых в слободу толкался молодец лет двадцать, кудряв, красив собой. Все расступались перед этим юношей, одетым в богатую ферязь, на которой вместо пуговиц сверкали драгоценные камни. Было что-то женоподобное, неприятное в движениях этого самоуверенного царедворца.
«Басманов, царский любимец! — догадался наместник и уже загодя приготовил угодливую улыбку. — Глядишь, сгодится».
Вот и дворец. Перед резным крыльцом толпились нищеброды. Они гнусаво распевали псалмы, истово крестились, каждый старался протиснуться вперед и показать свои страшные язвы. Дворецкий, стоя на нижней ступеньке крыльца, раздавал от царского имени медные грошики и ломти хлеба. Нищие толкались, бранились, спорили. Слуга разгневался:
— Жадничаете. Ах, окаянные! Зайдется душа, — медведя с цепи спущу на вас!
Сразу смолкло. В наступившей тишине на самом деле послышался медвежий рев. Для царской потехи не одного зверя держали в клетках.
Ромодановский со страхом взглянул на мрачные стрельчатые окна дворца. Ему показалось, будто мелькнула тень Грозного.
После долгих усилий гостю удалось добраться до спальничего. Наместник низко поклонился ему:
— Прибыл до великого государя с важной вестью. Тешу себя счастьем увидеть светлый лик государя.
Спальничий высокомерно взглянул на приезжего и снисходительно ответил:
— Счастье, человече, не зернышко — из-под жернова целым не выскочит.
— Это верно, — согласился Ромодановский, — при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает. Помоги да уму-разуму научи, в долгу не останусь, — опять низко поклонился он.
— Ныне великий государь к вечерне пойдет. Некогда. Иди к дворне в терем и жди…
Пришлось покориться.
Когда заблаговестили, пермский гость вышел на площадь и тут, у собора, решил подстеречь царский выход на богомолье. Но царь и опричники не вышли на благовест. Время тянулось долго. Наступили сумерки. Из-за рощи поднялись золотые рога месяца. И тут началась суматоха, из теремов все торопились к собору.
«Как же я проспал? — с досадой думал усталый наместник. — Неужто уже с вечерни государь возвращается?» Он проворно надел однорядку и заторопился к храму. То, что увидел пермяк, потрясло его. Ему почудилось, что он попал в мрачный монастырь. Из собора по направлению ко дворцу двигались попарно молодцы, одетые в шлыки и черные рясы, с горящими восковыми свечами в руках. Впереди всех шел царь, одетый иноком. Он еле передвигал ноги, опираясь на жезл. Глаза его, большие и пронзительные, блестели лихорадочным огнем. Лицо истощенное, бледное и потное. Бородка висела жидкими клочьями. Ромодановский ужаснулся: «Ох, господи, и это в сорок лет!»
Иван Васильевич перебирал черные четки и глухо боромотал:
— Упокой, боже, души побитых мною… И что поделаешь, господи, ты уж знаешь, что я хотел славы и крепости моей державе. Кто стал против сего, тот становился врагом нашим… Помяни их, господи, во царствии твоем…
Благовест смолк, среди мрачного безмолвия слышался треск свечей.
Позади царя шел широкоплечий, с рыжей бородой, богатырь.
«Малюта Скуратов», — со страхом признал наместник в монахе опричника и прижался к стене.
Но глаза Грозного нашли его там. Царь подозрительно посмотрел на Ромодановского и узнал его.
— Ты как тут оказался? — скрипуче спросил он, и худые длинные пальцы крепко сжали посох.
Наместник встал на колени:
— Прости, великий государь, дела неотложные поторопили к тебе…
Иван взмахнул рукой:
— Брысь, дела пусть московские бояре вершат, а я тут горький инок. Уйди…
Из глаз Ромодановского выкатились слезы жалости. Он молча склонил голову и покорился судьбе. Но вдруг Грозный остановился, поманил его к себе.
— О чем хлопочешь, человече? — страшными глазами он уставился на Ромодановского.
— Из Пермской земли спешил, великий государь. Грамоту от хана Кучума привез…
Глаза Грозного вспыхнули ярче, он сбросил шлык. Длинные редкие волосы с ранней проседью разметались по ветру.
— А, Сибирь, вотчина наша! — оживленно заговорил он. — Ты, Малюта, приведи ноне сего посланца ко мне, ноне, непременно…
Скуратов пытливо посмотрел на Ромодановского:
— Жди, приду за тобой!
Мрачная вереница иноков двинулась дальше. Долго не мог опомниться наместник, на лбу выступил холодный пот. Перед взором все еще маячила сильная, грузная фигура Малюты Скуратова, и по-страшному звучали слова: «Жди, приду за тобой!»
В людском тереме гость сел за стол и затих. На душе у него было смутно, тревожно. Склонясь над столешницей, он незаметно задремал.
В полночь его растолкали властные, сильные руки. Ромодановский открыл глаза, — перед ним стоял Скуратов.
— Торопись, наместник, да захвати грамоту сибирскую. Государь поджидает тебя, — спокойным и добрым голосом заговорил опричник. — Да ты не бойся, я только для бояр страшен. Они и россказни распустили про меня, зверем зовут…
Пермяк поклонился Скуратову:
— Спасибо, Григорий Лукьянович, за ободрение. Не верю я боярским россказням, — поднял он на опричника спокойные глаза.
И впрямь, в обычном кафтане Малюта весьма походил на радушного бородатого мужика. Лицо его светилось простотой, душевностью.
— Чем это ты занозил царское сердце? — спросил он. — Не терпит свидеться с тобой.
— Грамоту от сибирского салтана привез…
— Сибирь, дальняя сторонушка! — обронил Скуратов. — Дивен край… Нам бы его…
Он неторопливо провел пермяка во дворец, и долгими ходами и переходами они пришли к узенькой двери.
— Тут поджидает, — тихо шепнул он и постучал. — Ты иди, а я тут посторожу. Вот моя местина, — показал он на лавку, покрытую войлочной кошмой. — Тут и стерегу нашего батюшку.
В небольшой горенке перед киотом мерцали лампады. Невозмутимая тишина наполняла царский покой. Иван Васильевич сидел в кресле, устало склонив голову. Бледное лицо его оживляли большие быстрые глаза. На царе — желтый становой кафтан, стеганный в клетку и подбитый голубым шелком. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Всех устрашающий посох стоял прислоненным к стене, а колпак, украшенный редким изумрудом, лежал на столе.
Иван Васильевич приветливо улыбнулся вошедшему:
— Ну, вот и свиделись. Будто угадал ты мои думки, давно поджидал вестей из сибирской стороны. Борзо перечил Кучумка… Худо, знать, ему приходится, коли вспомнил о нас, бедных! — горькая усмешка прошла по тонким губам Грозного. — Татары всегда хитрили перед Русью, а этот самый лукавый из лукавых. Ну, подойди поближе!
Ромодановский приблизился, низко поклонился.
— Я тож так думаю, государь, что плохо хану ныне, если о Москве вспомнил, — в дрожащих руках наместник держал свиток с большой печатью.
— Ну, зачти, что пишет он? — сказал Грозный и весь насторожился.
Пальцы пермяка не слушались, а мысли неслись бешено, сменяя одна другую: «По всему видать, немощен царь, вишь, как осунулся, хил стал. Подкосила, ой сильно подкосила измена Курбского!.. А Кучумка пишет дерзко. Страшно!». Наконец он справился и развернул свиток.
— Думному дьяку надлежит то зачесть, ну да ладно, — вяло махнул рукой Иван Васильевич. — Читай раздельно!
Ромодановский громко стал читать ханскую грамоту:
— "Бог богат!
Вольный человек, Кучум царь, слыхали мы, что ты, великий князь и белый царь, силен и справедлив есть"…
Начало Грозному понравилось, он провел перстами по остаткам бороды, на лице появился легкий румянец.
— Читай, читай погромче! — кивнул Иван Васильевич, и наместник поднял голос выше:
— «Коли мы с тобой развоюемся, то и все народы земель наших развоюются, а не учнем воеваться, — и они будут в мире. С нашим отцом твой отец крепко помирились, и гости на обе стороны хаживали, потому, что твоя земля близка. Люди наши в покое были, и меж них лиха не было, и люди черные в упокое и добре жили. Ныне, при нашем и при твоем времени, люди черные не в упокое. По сю пору не посылал тебе грамоты, случая не было. Ныне похочешь мира — и мы помиримся, а хочешь воевать и мы воюемся…»
По лицу Грозного прошла презрительная улыбка.
— Ишь ты! Распетушился хан, поди голос этак сорвет! — проговорил он. — Дале что?
— «Полон в поиманьи держать, земле в том что? — продолжал Ромодановский: — Посылаю посла и гостей, да гораздо помиримся, только захоти с нами миру. И ты одного из тех моих людей, кои у тебя в поиманьи сидят, отпусти и с ним своего гонца нам пришли. С кем отец чей был в недружбе, с тем и сыну его в недружбе быть прогоже. А коли в дружбе бывал, оно в дружбе быти, кого отец обрел себе друга и брата, сыну с тем в недружбе быть ли? И ныне помиримся с тобой — братом старейшим. Коли захочешь миру, на борзе к нам гонца пришли. Молвя, с поклоном грамоту сию послал».
Царь задумался: «Пригоже ли нам с сибирским царем о том ссылатись?».
Весь тон и содержание ханской грамоты его раздражали, но отказаться от своих замыслов было невозможно. Грозный встрепенулся, пристально посмотрел на пермяка и сказал строго:
— О грамоте никому не сказывай.
— Слушаю, государь! — поклонился Ромодановский.
— И еще, — отвези сию грамоту думному дьяку Висковатову и скажи, что поджидаю его. О делах пермских поговори в приказах. Можешь идти…
Наместник низко поклонился Грозному и неслышно вышел.
«Слава осподу, пронесло!» — с облегчением вздохнул он на площади.
Не ожидая утра, он велел холопу запрячь коней и немедленно выехал в Москву…
Думный дьяк много раз перечитывал грамоту, взвешивая каждое слово, тщательно проверил перевод и поспешил на зов царя. Грозный был тих, спокоен, обрадовался Висковатову, и они долго, по обыкновению, беседовали о делах. Наконец, Иван Васильевич с лукавым видом сказал:
— Вот и для боярских голов думка нашлась. Отвези им кучумову грамоту, пусть поразмыслят, как быть? Вели им, чтоб приговор свой к нам отписали. Все бы прислали, не мешкая часа… И спроси у них моим словом, почему в Сибирь татарин к хану отпущен, и что с ним писано, и в каком году отпущен… Да и грамоты, каковы посланы от нас к царю сибирскому с татарином Аисой, прислали б к нам, не мешкая часа того…
— Будет так, государь, — одобрил мысль Грозного думный дьяк. — Бояре ныне присмирели, будут мыслить…
В словах Висковатова прозвучала легкая ирония в отношении бояр, — знал он, что царь будет доволен. Но Иван Васильевич в этот раз не улыбнулся дьяку, задумался. Встрепенувшись, хлопнул ладонью о подлокотник кресла и решительна сказал:
— А видать силен и воинственен хан Кучум. Смел! Задираться с ним не ко времени!
И в горнице наступило молчание. Слышалось потрескивание горящих восковых свечей да размеренные шаги Малюты, который расхаживал по узкому проходу, оберегая покой государя.
Кучум правил жестоко и единовластно. Он не терпел соперничества. Князьков и беков, которые сопротивлялись ему, он безжалостно казнил, а улусы и земли их дарил преданным. Колеблющихся и ненадежных он велел тайно передушить, что и сделали верные уланы и палачи. Никогда Сибирское царство не было столь обширным, как при хане Кучуме.
Он был вспоен и вскормлен в Бухаре, в законах ислама. Бухарские ханы и беки помогли ему опериться, и он навсегда сохранил к ним благодарность. Подражая великим восточным правителям, он решил среди своих подвластных ввести учение Магомета — коран, который, по его мнению, всегда являлся опорой для власти и щитом державы.
Хан отправил пышное посольство к наместнику пророка на земле, мусульманскому первосвященнику в Бухаре — Джафару. Послов Кучума встретили в стране зноя и песков очень торжественно. Джафар-мулла принял их в своем дворце, возведенным знаменитыми самаркандскими зодчими. В обширном зале, украшенном яркой глазурью, заморскими художниками были нарисованы переплетенные кисти винограда и среди него золотился лотос. Потолки отделаны превосходной лепкой, на какую способны были только персидские мастера. Ковры туркменские, шелковые индийские занавеси, цветные подушки — все говорило об уюте и торжественной тишине. Сидя на таких подушках, удобно было вести задушевные беседы; и они протекали неторопливо и тихо. Джафар-мулла, истый сын Востока, понимал, что среди слуг много длинноухих, которые стараются услышать все и передать кому следует. И горе тому, кто говорил против хана или его брата, турского хункера! Тот внезапно исчезал и больше никто никогда его не видел.
Но послы хана Кучума повели речь об укреплении истинной веры, а коран всегда являлся опорой ханов, поэтому разговор велся высокопарно и витиевато о спасении неверных душ. Сеид Джафар подвел послов к стрельчатому окну, распахнул его и, показывая на стройные минареты, покрытые превосходными изразцами, и витые купола, нараспев сказал:
— Пусть подобные вместилища аллаха на земле покроют сибирскую землю и просветят души погрязших в неверии. Мы готовы помочь хану Кучуму и пошлем ему шейхов, мулл и абызов.
Джафар-мулла сдержал свое слово: первым в Сибирь на белом верблюде, в сопровождении охраны, прибыл шейх Хаким. Ему отвели лучшую юрту, украшенную коврами и цветистыми шелками. Шейху понравилось новое жилище. Отоспавшись после дальнего утомительного пути, он объявил, что в первую же ночь во сне ему явился пророк Магомет, который открыл ему, что в земле сибирской покоятся кости семи правоверных святых. Вслед за Магометом спящему Хакиму приснились и эти угодники аллаха. Они требовали, чтобы все сибирские татары, вогуличи, остяки и все племена, подвластные Кучуму, совершили обрезание.
Хан Кучум усомнился в этом, но шейх твердо решил:
— Ты, всесильный и мудрый повелитель, тень пророка на грешной земле, должен знать, что могущество всякой власти зиждется на мече и вере. Сын мой, ты силен и воинственен, — это хорошо. Но если мы уловим души неверных и покорим их святому корану, — это дважды хорошо.
После размышления Кучум сказал:
— Делай так, как повелевает тебе пророк Магомет!
Шейх Хаким не тратил напрасно времени. Он обшарил старые татарские кладбища в округе Искера и среди них нашел могилы семи святых. Правда, при этом вышел маленький конфуз, который быстро замяли, а виновнику его, старому Абдулле, пригрозили плетью. И что ему надо было, этому ветхому старцу? Стоило бы ему помолчать, а он, когда шейх указал на одну заросшую могилу и со слезами в голосе произнес: «Здесь покоится прах имама Ибрагима, совершавшего чудеса на земле», — он, Абдулла, вдруг закричал: «Что ты говоришь, шейх? Тут могила моей матери, похороненной полвека назад! Все знают это!»
Однако шейх Хаким не растерялся. Спокойным голосом он продолжал:
— Может быть это и так, но век тому назад здесь нашел последнее пристанище имам Ибрагим — самый праведный человек! И ты, простой человек, горшечник Абдулла, должен сегодня ликовать и молиться. Не зная того, ты приобщил прах своей матери к праху святого. О, чудо неведения! Поэтому ты первым примешь обрезание!
— Но мне уже восемьдесят лет! — воскликнул горшечник. — Мне поздно делать теперь обрезание!
— Войти в рай, где будут тебя услаждать прекраснейшие из гурий, никогда не поздно! Ты примешь обрезание, так повелеваем мы — великий хан Кучум и я, шейх Хаким!
Старому горшечнику Абдулле совершили обрезание, после которого он долго болел, перестал делать горшки и стал нищим. «Так угодно аллаху! За непокорство и неверие он всегда наказывает нищетой и болезнями».
В летний солнечный день по приказу Кучума на старые мизареты согнали много народа из Искера, дальних и ближних аилов. Шейх в присутствии толпы устроил пышные поминовения на могилах открытых святых…
Это было начало, вслед за которым из Бухары прибыл огромный караван младшего брата Кучума — Ахмет-Гирея. В золотом паланкине он привез одну из своих жен — двенадцатилетнюю Сатаным, дочь бухарского князя Шигея. С Ахмет-Гиреем в Искер прибыли тридцать мулл, абызов и сеидов — проповедовать веру Магомета. Кучум со скрытым презрением рассматривал алчных, юрких духовников в черных халатах, опоясанных белыми платками, и с белоснежными чалмами на голове. Он хорошо знал по Бухаре этих жадных фанатиков, но боялся: они пользовались большой властью среди темного народа и могли поднять его на любое дело.
Кучум тяжело вздохнул: «Что ж поделать, они и здесь необходимы, как трава на пастбище. Только они укрепят и возвеличат мою власть!».
Глаза хана непреодолимо тянулись к золотому паланкину, водруженному на белом верблюде, украшенном коврами. Там в занавеске образовалась щель, а в ней сверкнули глаза.
«Аллах, что за горячие глаза! — с завистью подумал Кучум и был ошеломлен, когда на мгновение занавес заколебался и показалось милое женское лицо, не прикрытое покрывалом. — Такое совершенство могут иметь только прекрасные гурии. Ах, Ахмет, Ахмет, зачем ты привез сюда такой великий соблазн!».
Кругом прибывшего каравана носились всадники на рыжих шибергамских конях. Они охраняли и золотой паланкин, и брата Кучума.
Шейх Хаким радостно встретил своих духовных собратьев. Он поторопился рассказать им об открытии могил правоверных и первом мусульманине горшечнике Абдулле.
Служители пророка Магомета ретиво проповедовали ислам. На базарах, в аилах они громко призывали татар покинуть старых богов, а тому, кто не покинет их, грозили небесными и земными карами. А так как ревнителей мусульманства всегда сопровождали злые всадники на рыжих шибергамских конях, то угрозы их возымели силу. В татарских улусах нехотя разбивали размалеванных болванов, украшенных лентами и шкурками, и принимали обрезание и закон Магомета. Васюганьские идоломольцы наотрез отказались принять ислам и откочевали в недоступные дебри. Остяки и вогулы упорно убегали от мулл в леса и настойчиво продолжали поклоняться своему деревянному божку Раче.
Шейх Хаким велел ловить непокорных и гнать в Искер, где по велению хана совершались суд и расправа. Для устрашения упорствующим срубали головы и втыкали их на остроколье перед шатром Кучума.
Хаким сам всегда присутствовал при казни. Однажды к нему привели высокого остяка в мягкой кухлянке, — его поймали в низовье Иртыша. Шейх спросил его грозно:
— Почему укрываешься от истины, от аллаха? Наш бог всемогущий и вездесущий, и Магомет пророк его! Кто не примет их, тому смерть!
Остяк поднял смелые глаза и ответил:
— Я не боюсь смерти! Мои боги лучше твоих. Если они мне не помогают на охоте и на рыбной ловле, я бью их и они исправляются, помогают мне. А с твоим пророком и говорить нельзя, пусть идет он к своему аллаху!
Противленцу отрубили голову. Но это не многих устрашило. В одно утро от князьца Епанчи в Искер прискакал гонец и тайно сообщил хану, что в кочевьях на реке Туре неспокойно, кочевники избили муллу, проповедовавшего ислам, а охрану его истребили.
Кучум мрачно выслушал вестника. Такие же слухи дошли до него из Лебауцких юрт, что на Иртыше, из Барабы.
Везде был один ответ:
— Наши отцы и деды сделали своих богов, у которых можно было попросить отвести бураны, гром и молнию, молить о том, чтобы тучнее стали овечьи отары, больше было олешков, удачнее охота. Если боги наши становились глухи к нашим просьбам, то мы не ставили им пищи и не мазали их губы жертвенной кровью. Голод и жажда всегда открывали их уши. Ваш бог — новый, мы не слышали о нем, а пророк Магомет давно умер и не может подтвердить ваши слова. Нет, нам не нужна новая вера!
В шатре хана Кучума собрались все имамы, ахуны, абызы, улемы и муллы. Шейх Хаким, подражая придворному этикету бухарского эмира, взывал:
— О, средоточие вселенной, царь царей, могущественный и мудрейший из ханов, кость Тайбуги, потомок великого Чингинида, внемли словам нашим. Сейчас или никогда надо покарать неверных, чтобы узнали твою крепкую руку. Будь воином, каким ты был до сих пор!
Кучум снисходительно улыбнулся грубой лести и ответил:
— Годы мои уходят, и глаза мои заболели. Кто наслал это проклятье?
— Мы, всемилостивый хан, вымолим у аллаха облегчение от твоих болезней. Да ниспошлет он тебе ясность и зоркость во взоре! — стал низко кланяться и прижимать руку к сердцу шейх Хаким.
— Нет, я становлюсь слаб, — решительно отказался хан. — Мой брат моложе меня, он укрепит свою руку и поведет воинов на упорствующих.
— Хорошо, я покараю нечестивых! — согласился Ахмет-Гирей, и служители пророка Магомета низко поклонились ему. Шейх Хаким простер дрожащие руки и возопил:
— О, аллах, ты увидел нашу печаль и послал нам заступника!
А Кучум в душе ликовал: «Уйдя, брат оставит Салтаным — черноглазую и проворную, как ящерка. Я войду к ней»…
Ахмет-Гирей повел всадников к Иртышу, к Лебауцким юртам, там бился с татарами, которые не хотели признать корана, и напоил землю их кровью. Он пробовал пробиться на Туру, но побоялся далеко уходить в темные леса, где за каждым деревом подстерегала смертоносная стрела. Брат хана вспомнил о своей жене Салтаным и решил поспешить в Искер.
Между тем, хан Кучум послал верную рабыню сказать красавице, что сильно страдает и давно любит. Послушная рабыня не застала Салтаным в белой юрте Ахмет-Гирея. На женской половине пренебрежительно шушукались другие жены ханского брата. Она услышала одно слово:
— Аиса… Аиса…
Кто был этот человек, рабыня знала: юный конюх всегда зажигал кровь девушки пронзительным взглядом. Он часто джигитовал по Искеру, и для маленькой Гайнисы он всегда находил ласковое, волнующее слово. Она вбежала в конюшню и там, в полутьме, среди белоснежных коней, приведенных из арабских степей, увидела свою соперницу, снисходительно ласкавшую конюха.
Чтчо может быть более слепым и жестоким, чем ревность влюбленной женщины? Гайниса ни слова не сказала хану Кучуму, дав понять, что Салтаным больна, но возвратившемуся Ахмет-Гирею она раскрыла глаза. Удивительно повел себя брат сибирского хана: он тоже не раскрыл никому тайн своего сераля, а позвал Салтаным — тоненькую девочку с пышными косами — и повел ее на конюшню. Тут совершенно спокойно и твердо сказал Аисе:
— Получай, вот тебе жена!
У Салтаным задрожали побелевшие губы.
— Но он конюх, простой татарин, а я дочь бухарского князя Шигея! — гневно возразила она. — Это унизительно для меня!
— Ты могла быть его любовницей, теперь вполне можешь быть его женой! — он резко повернулся и ушел в свою белую юрту. Жены и наложницы его в этот день много пересмеивались, перешептывались, злословили о Салтаным.
А хан Кучум, пораженный поведением брата, с сожалением сказал ему:
— Но ты ведь мог подарить мне этот драгоценный камень!
На это Ахмет-Гирей ответил просто:
— Это был бы для тебя вовсе не драгоценный камень, а тяжелый жернов, повешенный на шею. Подумай, смел ли я своему брату и хану приносить такой дар?…
Оба, однако, не разгадали замыслов юной, но коварной женщины. Живя у конюха, она приручила к себе лучшего скакуна, и в один летний день скрылась в голубой степи. Оскорбленная княжна пересекла спепи и бурные реки, бог ведает какими путями добралась в Бухару и, упав к ногам отца, рассказала о постигшем ее позоре. Старый князь Шигей ничем не высказал своей ненависти к врагу. Молча, как бы отпуская его грехи, выслушал дочь.
Ахмет-Гирей забыл о своей жене Салтаным, жил весело и забавлялся ястребиной охотой. Однажды, когда он потешался к Иртышу подъехали быстрые всадники на знакомых рыжих шибергамских скакунах. Что это за кони! Ахмет-Гирей издали залюбовался их бегом. Один из всадников подскакал к Иртышу и прокричал Ахмет-Гирею:
— Хвала аллаху, радостные вести привезли мы тебе!
Ахмет-Гирей поспешил на зов, сел в лодку и переплыл Иртыш. И только он ступил на песчаный берег, как взвился аркан и тугая петля захлестнула его шею. На глазах свиты Ахмет-Гирея привязали к лошади и умчали в степь.
Спустя несколько дней посланцы Кучума нашли среди солончаков изуродованный труп. Только хан узнал в нем своего брата…
Так в Бухаре возникло недовольство Кучумом. Князь Шигей везде поносил его. А а эту пору по реке Туре и в Барабинской степи стало тревожно и угрожающе…
4
Снова над Русью нависла страшная опасность. Царь жестоко расправлялся с изменниками-боярами, которые из-за личных выгод не раз продавали отчизну. Изо всех сил они противились крепкому объединению всех русских княжеств в одно могучее сильное Русское государство. Иван Васильевич беспощадно громил древние боярские роды, пресекая их самовластие. Родовые вотчины князей Ярославских, Ростовских, Белозерских, Суздальских, Стародубских, Черниговских он раздавал во владение опричникам. Княжат, которые сеяли смуту и мечтали о возвращении на Русь удельных порядков, он насильно выселял из старых вотчинных владений на новые места, где им не кого было опереться. На Западе собиралась военная гроза, и царь неутомимо готовился к новым ливонским походам, привлекая к этому всю страну.
В 1566 году Грозный созвал Земский собор, который должен был решить вопрос о войне. Родовитое боярство роптало: «Когда это видано на Руси, чтобы в одной палате вместе с боярами заседали митрополиты и московские купцы? Горше того, сюда позвали и мелких дворянишек и служивых из русских полков. Что только будет?».
Царь на самом деле допустил к суждениям на Соборе и мелких дворян, и тех служилых людей, которые, побывали в Ливонском походе. Иван Васильевич проявлял чудовищную энергию в спорах с боярами и добился решения Собора: «За ливонские города государю стоять крепко, а мы, холопы его, на государево дело готовы».
В Ливонии началась война. Русские полки осаждали ливонские крепости, самозабвенно боролись за искони русские берега Балтики.
И в зту пору к царю попало подметное письмо. Неизвестного рода человек сообщал Ивану Васильевичу, что в Новгороде Великом готовится измена. Новгородские бояре и митрополит написали тайную грамоту польскому королю, что готовы ему немедленно предаться, а храниться эта грамота в храме святой Софии за образом богоматери.
Грозный послал неподкупного человека в Новгород, и все оказалось так, как было в письме.
Царь, во главе с опричниками, жег и громил Новгород. Бояре-изменники оговаривали на пытке неповинных людей, и те гибли. Мнительный и озлобленный Грозный казнил сотни людей, из которых большинство было ни в чем не повинно. Он не щадил ни женщин, ни детей, ни старцев.
Много дней по Волхову плыли трупы казненных новгородцев, вода окрасилась кровью, а над лобным местом носились тучи прожорливого воронья.
Такая же участь постигла и Псков, площади которого обагрились кровью. А в стране в эту пору свирепствовал голод, моровое поветрие, и не было покоя на сердце русского человека…
В эти дни в Москву и дошли тревожные вести от порубежников. Лето в 1570 году стояло жаркое, засушливое, обмелели спепные реки, появились новые броды.
Дозорные, приглядывавшие за Диким Полем, не раз видели на широких шляхах темные тучи пыли, которые хмарой надвигались с крымской стороны.
— Орда разбойничает, пытает силу! — говорили в порубежных острожках и крепостцах. — Вот-вот тронется на Русь!
Но в этот год так и не состоялся татарский набег, — под знойным палящим солнцем пожухли травы и большим скопищам конницы опасно было уходить от улусов. Крымский хан еще не забыл похода на Астрахань. В Москве, однако, надеялись поладить с крымчаками миром. Царь слал Девлет-Гирею поминки и ласковые письма, но хан отмалчивался, был заносчив и держал наготове огромную рать диких всадников.
Татарские мурзы и хан только и мечтали о войне, когда можно вволю пограбить. Редкий год проходил без того, чтобы не нападали на Русь. Они жгли, убивали, грабили и уводили толпы полонян. Трудно жилось русскому поселянину не только на рубежах, но и под Рязанью и даже под Москвой, куда заходили татарские орды. Татарин был самый лютый враг на Руси. Непослушный ребенок сразу затихал, когда мать пугала его: «Молчи, татарин идет!».
Не давали ордынцы покою ни русскому пахарю, ни ремесленнику, ни бортнику. Трудно было ладить хозяйство, когда каждый год жди грабителя.
Правда по всей Украине, по Оке-реке, до Серпухова и Тулы и далее на Козельск, были построены остожки, поделаны завалы и засеки, а при них поставили караулы.
Далеко вперед в Дикое Поле выдвинулись сторожи. На больших дубах, одиноких деревьях, воинские люди наблюдали за степью. Сами вели дело осторожно, укрывались в балках, на одном месте долго не хоронились: утром в роще, днем у реки, ночлег в третьем месте…
Если татарский поиск не велик числом, — в сабли его! Завидя орду, уходили, костры жгли, чтобы предостеречь Русь. Сигнальные огни цепочкой тянулись до самой Москвы. Черный дым далеко виден. Орда спешит на Русь, а дымы весть дают о беде…
Наступила ранняя весна 1571 года. Быстро и дружно отшумело водополье, буйно зазеленели и пошли в рост степные травы. Пропитанный запахом талой земли, весенним цветением, воздух пьянил. Над Диким Полем с восхода и до заката рассыпалось серебро трелей жаворонков, в ясном небе звонко курлыкали журавлиные стаи, вместе с весной спешившие на север. В эти напоенные солнечным сиянием дни на южных русских рубежах вдруг показались татары. Топот ста тысяч коней потрясал землю, солнце скрылось в сизой мгле пыли и пожарищ. Девлет-Гирей со своими неистовыми ордами устремился на Русь старыми, знакомыми шляхами — через донские степи, сжигая на пути порубежные русские крепостцы, украинские села; он торопился к Угре и дальше на Москву. Вскоре он подошел к Оке. Передовые татарские всадники неожиданно увидели на левом берегу московскую рать. Невдалеке за рощами блестели маковки церквей, на холмах раскинулся город Серпухов. Ордынцы изумились: русские войска были построены в боевой порядок. В центре разместились пешие воины, прикрываясь гуляй-городками — подвижными деревянными крепостцами на колесах. За укрытиями угадывались пушки. Ногайский мурза Теребердий с всадниками кружил по рощам и кустарникам, как лютый волк, отыскивая лазейку. В полях простиралась торжественная тишина, закатное солнце зажигало сверканием окские плеса, гудели шмели, и совсем дивным показалось, — на дальнем скате по пашне спокойно вышагивал русский ратаюшка, и такая в нем чувствовалась уверенность в своей силе и несокрушимости! Рысьи глаза Теребердия злобно сверкнули. Показывая плетью на реку, он сердито сказал всадникам:
— Тут брод! Аллах да ниспошлет огонь на неверных, — хан обрушится палящей грозой на них!
Но Девлет-Гирей, внимательно выслушав мурзу Теребердия, омрачился. Он долго сидел в задумчивости. Давно погас закат, на темном небе засверкали звезды. Пора было отходить ко сну, но решение не приходило…
Мысли его неожиданно прервал ближний мурза, который, подобострастно кланяясь, сообщил Девлет-Гирею:
— Русские перебежчики просятся на твои светлые глаза. Что сказать страже?
— Пусть приведут их!
Допустили троих детей боярских: Кудеяра Тишинкова, Окулу Семенова да калужанина Ждана. Как побитые псы, они вползли на коленях в шатер и распростерлись перед ханом. Девлет-Гирей с брезгливостью посмотрел на пресмыкающихся в прахе. Он ткнул ногой в бороду Кудеяру и повелел:
— Ну ты, сказывай, зачем прибег?
— Всемилостливый хан, выслушай обиды наши. За кровь родичей наших бояр мы пришли просить у тебя управы против царя Ивана. Ой, как кипит у нас сердце! — выкрикнул перебежчик.
Хан угрюмо подумал: «У изменников всегда черное сердце, из него исходит жгучая ненависть. Самолюбие приводит людей к подлости!» — и сказал вслух:
— Где царь Иван, каково войско?
— Государь с опричниками в Серпухове. Войско невелико. В земле русской страшный глад и моровая язва. Из-за лютого неистовства Ивана погублено много бояр и княжичей… Головой ручаемся, всемилостливый хан, проведем тебя до самой Москвы такой дорогой, что не встретишь ни одного русского воина! Если то окажется неправдой, вели казнить нас!
Лицо Девлет-Гирея вспыхнуло румянцем: он не ожидал такой удачи.
— Я отомщу за ваших родичей. Я заставлю царя Ивана отдать наши Казань и Астрахань. Он будет ползать у моих ног, и тогда я может быть возвращу ему пепел Москвы. Я иду, показывайте нам путь! — сказал напыщенно хан.
— Глухой ночью изменники провели огромное татарское войско тайным бродом через Оку, и на московской дороге забушевали пожары. Русские воеводы, всревоженные изменой, в порядке и быстро отвели полки к Москве, заняв ее предместья. Царь Иван с опричниками оказался отрезанным от главного войска. Мрачный, ожесточенный боярской изменой, опасаясь быть изрубленным татарскими наездниками, он лесными дорогами отступил в Бронницы, а оттуда в Александровскую слободу…
Не успели воеводы занять оборону в московских предместьях, как на другой день, 24 мая, татары появились в виду города. Сидя на вороном аргамаке, Девлет-Гирей долго любовался огромным стольным городом Русского государсва. На утреннем солнце блистали и переливались жар-огнями маковки церквей, окна кремлевских дворцов; изумрудным сиянием сверкали черепицы вонзившихся в небо башен, золотом искрились шпили.
— Не впусте писали иноземцы, что Москва великий и богатый город! — хвастаясь сказал хан приближенным мурзам. — И вот мы станем властелинами его!
Взор хана перебежал на предместья — скученные, серые строения, разбросанные в беспорядке. «Рабы, холопы живут в сих посадах, — подумал он и представил себе, как много тут ютится сапожников, портных, бочаров, стекольщиков, медников, оружейников. — Это — сила, которая одевает, обувает, кормит русских воинов!» — он нахмурился и, указывая плетью на московские предместья, повелел:
— Сжечь их! Я желаю достичь Кремля!
Лазутчики зажгли город. При сильном ветре огонь быстро перебрасывало с кровли на кровлю. В короткое время Москва запылала во всех концах.
В посадах и на московских улицах под открытым небом разместились скопища беженцев, бросивших свои дома, пашни и ушедших от срашной татарской неволи. Бежали от одной беды, попали в худшую — в пламя пожаров.
Многие пытались спастись от огня за кремлевскими стенами, но бояре и стрельцы никого туда не пустили. Извечная боязнь бояр перед простым народом не исчезла и на этот раз, в дни жестокого испытания. Да и опасность была, что в распахнутые крепостные ворота вместе с народом ворвутся татары; они шумным лагерем расположились в поле и наблюдали за пожарищем. Наиболее алчные из всадников быстро врывались на улицы, стремясь захватить добычу, но, перепуганные треском и жаром пламени, кони с громким ржанием носились среди горящих изб, и многие погибали в огне.
Пожар между тем рахгорался сильнее; все кругом гудело от раскаленного воздуха, длинные языки пламени и густые черные клубы дыма тянулись к ясному небу и заслоняли солнце, которое теперь казалось тусклым раскаленным ядром. Кричали в отчаянии матери, плакали дети; захваченные потоком убегающих людей, многие были растоптаны насмерть. У северных ворот и на прилегавших к ним улицах теснились тысячи людей, обезумевших от давки и ужаса. Наиболее сильные не щадили слабых, — взбирались на плотное человеческое месиво и шли по головам несчастных. Смелые и мужественные брались за оружие, чтобы отстоять от гибельной паники женщин и детей, но, случалось, и сами гибли.
Духовенство в эти ужасные часы закрылось в церквах и соборах, благо сам московский митрополит затворился в Успенской церкви, наблюдая со страхом, как мимо высоких стрельчатых окон летели пылающие головни, раскаленные камни. Первый боярин князь Бельский — высокий грузный старик — укрылся от огня в каменный погреб и там задохнулся.
К полудню не стало обширного деревянного города, все покрылось пеплом, тучи которого поднимал ветер и относил на юг. Свирепый ветер перебросил пламя в Китай-город и в самый Кремль. От нестерпимого жара погибла стенная роспись кремлевских соборов, сгорел царский дворец и драгоценная библиотека Грозного, в которой он так любил проводить время за чтением книг и писанием писем.
Все покрылось серым пеплом. Не стало дивного русского города!
Ливонский авантюрист Элерт Крузе, наблюдавший пожар стольного города, впоследствии написал:
«В продолжение трех часов Москва выгорела так, что не оставалось даже обгорелого пня, к которому можно было бы привязать лошадь. В этом пожаре погибло двенадцать тысяч человек, имена которых известны, не считая женщин, детей и поселян, сбежавшихся со всех концов в столицу: все они задохлись, или утонули, или были побиты… Вода реки Москвы сделалась теплой от силы пламени и красной от крови»…
Воевода Воротынский в сопровождении свиты угрюмо пробирался среди догоревших руин. Послушный конь, дрожа и храпя, испуганно обходил обугленные тела мертвых. С великим трудом воевода и его спутники выбрались к Москве-реке. Воевода снял шлем, и голова его тяжело опустилась на грудь. Молчала и свита. Течение в русле приостановилось, — вода с трудом находила себе путь через запруды из трупов.
«Сколько честных и добрых трудяг нашли себе безвременную могилу!» — терзаемый мучительными мыслями, воевода скорбно склонился над рекой. В тихой струе, покачиваясь, погруженной лежала посадская женка с разметанными волосами. К груди крепко прижато дитя. Широко раскрытые глаза матери выпучены от ужаса, застыли.
— Господи, прими их души, прости прегрешения вольные и невольные! — Воротынский истово перекрестился и с едкой горечью вымолвил свите: — Вот что сделали неверные души — изменщики Отчизны!.. Приставить сюда честных и добрых людей с баграми, пусть спустят тела вниз по реке. Может, у коих и добросердные соседи иль друзья найдутся, отыщут покойных и предадут земле…
Он шевельнул поводом, и конь зашагал по бревенчатой набережной к Кремлю. Воевода решил до последнего биться за Москву…
Прошел день, другой… Все еще тянулись дымки тлевшего пожарища, ветер доносил запах гари и тления. Все готово было к встрече незваных гостей. Но хан, напуганный страшным зрелищем, не решился бросить орды на захват Кремля. Он угрюмо сидел в шатре, даже его жестокое одичалое сердце на этот раз дрогнуло.
На заре конные орды крымчаков снялись с Подмосковья и устремились на юг, на дороги, еще не пограбленные ими. Новый перебежчик принес Девлет-Гирею нерадостную весть: царь Иван, по примеру Дмитрия Донского, удалился в Ростов, в Заволжье, и набрал новую сильную рать. Она быстрым маршем двигалась к Москве. Хан невозмутимо выслушал эту тревожную весть, ни один мускул не дрогнул на его лице. Желая показать свое бесстрашие, он при перебежчике приказал призвать мурз и писца, которому продиктовал письмо царю Ивану, полное ненависти и бахвальства.
Немедленно были отправлены гонцы с этим письмом навстречу московскому государю. Они доскакали по Троицкой дороге до села Братовщины, где их задержали и представили царю Ивану. Огромный жилистый татарин, в потном малахае, положил перед царем письмо Девлет-Гирея и сказал:
— Хан велел тебе выслушать его милость!
— Уберите прочь! — гневно взглянул на послов Иван и жезлом стукнул о толстый ковер, проткнул его. — Так будет с сердцем хана, если он вздумает дерзить мне!
Гонцов увели из царского покоя, и дьяк зачитал послание Девлет-Гирея. Глаза царя налились гневом, еле сдерживая себя, он с трудом дослушал письмо хана.
Дивлет-Гирей заносчиво и зло писал:
«Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатство применяю к праху… Я пришел на тебя, город твой сжег; хотел венца твоего и головы; но ты не пришел и против нас не стал, а еще хвалишься, что де я Московский Государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты б пришел против нас и стоял. Захочешь с нами душевною мыслию в дружбе быть, так отдай наши юрты — Астрахань и Казань; а захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать — не надобно; желание наше — Казань и Астрахань, а государства твоего дороги я видел и опознал!»
Царь Иван задумался и предложил дьяку:
— Отпиши с учтивостями, пообещай Астрахань. На большее не пойду, надо выгадать время.
А в эту пору крымские орды, двигаясь на юг, пожгли много порубежных городков и сел и, захватив полтораста тысяч пленников — мирных поселян, ремесленников, мужних жен, девок, угнали их в полон.
Девлет-Гирей ликовал. Чтобы унизить Москву, он послал новых гонцов с легкими поминками. Иван Васильевич стерпел обиду и на этот раз.
В ответном послании от сообщил хану:
«Ты в грамоте пишешь о войне и если я об этом же стану писать, то к доброму делу не придем. Если ты сердишься за отказ в Казани и Астрахани, но мы Астрахань хотим тебе уступить, только теперь скоро этому делу статься нельзя: для него должны быть у нас твои послы, а гонцами такого великого дела сделать невозможно; до тех бы пор ты пожаловал, дал сроки, и земли нашей не воевал».
В тоже время царь Иван дал указ нашему послу в Крыму Нагому держаться с ханом и мурзаками учтиво, не перечить им. Гонцу, который отправлялся с грамотой к хану, тоже даны были советы:
«Если гонца без пошлины к хану не пустят, и государеву делу из-за этих пошлин станут делать поруху, то гонцу дать немного, что у него случится, и за этим от хана не ходить, а говорить обо всем смирно, с челобитьем не враздор, чтобы от каких-нибудь речей гнева не было»…
Девлет-Гирей вступил в Крым с великой пышностью. За ним шли и ехали уцелевшие воины, нескончаемо долгие часы тянулись обозы, нагруженные добычей. Десятки тысяч полонян, тяжело дыша, обливаясь потом, подходили к воротам Перекопа. Еврей-меняла, всегда сидевший у каменных ворот, за долгие годы много видел татарских возвращений из набегов. На этот раз, пораженный нескончаемым потоком русских полонян, не сдержался и спросил всадника:
— Да есть ли еще люди в Москве? Или всех увели в Крым?
Опасаясь, что восставшие племена свергнут его с престола, хан Кучум невольно вспомнил о Москве. Замыслы его отличались простотой: он решил найти сильного покровителя, чтобы могуществом Руси стращать своих врагов. Осенью 1571 года в сожженную Москву неожиданно прибыли сибирский посол Гаймуса и гонец Аиса, тот самый, который, будучи послан в Искер как служилый московский человек, больше не возвратился на Русь. Татары в сопровождении свиты проехали всю сожженную столицу, удивленно покачивая головами. Стояла теплая пора, и они разбили шатер на берегу реки Москвы. На удивленный вопрос московского пристава они ответили:
— У воды нам лучше. Видишь, домы сожжены. Кто пожег?
— Враги шли сюда, да получили должный удар, — просто ответил служилый.
Посол Кучума с неискренней скорбью на лице вымолвил:
— Ай-яй, что наделали! До самой Москвы дошли!
Он долго совещался с Аисой, как быть? Никто не знал, что они втайне решили. Не видели и москвичи, как темной безлунной ночью три татарских всадника выбрались на лесную дорогу и устремились вслед уходящему Девлет-Гирею…
Посол хана торжественно вручил думному дьяку Висковатову грамоту, в которой Кучум обращался к Ивану Васильевичу — «крестьянскому Белому царю». Грамота была подкреплена сибирской данью — тысячью соболей.
Дьяк внимательно прочитал послание и обрадовался. В нем ясно писалось, что салтан сибирский просит, «чтобы его царь и великий князь взял в свой руки и дань со всее Сибирские земли имел по прежнему обычаю».
Понравилась Висковатову и заключительная подпись хана: «Кучум-богатырь, царь — слово наше».
Думный дьяк доложил Грозному о посольстве, и царь решил принять посланца Кучума. «Ноне все соблюдено без умаления моего имени», — удовлетворенно подумал он.
Ханскую грамоту зачитали в Грановитой палате перед царем, сидящим на золоченом троне. Иван Васильевич остался доволен, допустил посла к руке, а о татарине Аисе и его «перемете» на сибирскую сторону ни словом не напомнил. Он лишь огорченно подумал: «Сколько волка ни корми, все в лес глядит!».
Царь повел глазами, и думный дьяк зачитал его решение:
— «Царь и великий князь сибирского царя грамоту выслушал и под свою руку его и во сберегание принял и дань на него наложил по тысячу соболей».
На том и окончился царский прием, а послам сибирским было наказано, чтобы не отъезжали, пока не назначат в Сибирь царского посла и они не подпишут клятвенную шертную грамоту от имени хана. В ожидании дальнейших переговоров в Посольском приказе послы расхаживали по Москве и до всего дознавались. Вид руин, еще дымящихся гарью, заставил их подумать о многом.
Посол Гаймуса широко разводил руками и думал: «Зачем торопиться давать шерсть, если Девлет-Гирей сильнее московского царя! Русские не бывали в Бахчисарае, а крымский хан пожег Москву! Силен, силен хан! А турский хункер еще сильнее! Надо выждать!».
Гаймусу торопили прибыть в Посольский приказ, но он прикинулся больным: лежал на перинах и громко стонал. Царь прислал своего придворного врача Бомелиуса, который, осмотрев татарина, сказал:
— Надо принять горячительное, и все пройдет!
Щедро наградили Бомелиуса рухлядью, и он всюду рассказывал, что сибирский посол сильно болен, но он поставит его на ноги.
Бронзоволицый, скуластый Гаймуса ждал не выздоровления, а своих вестников, посланных в лагерь Девлет-Гирея. Долго татарские наездники кружили по дорогам и перелескам и, наконец, настигли крымского хана. Выслушав сибирских гонцов, Девлет-Гирей возмущенно вскричал:
— Позор, хан Кучум хочет изменить мусульманству, он предается на сторону русского царя! Пусть знает, что весной я снова приду в Москву и прогоню из нее русского царя. Я силен! Запомните это и передайте вашему беку Гаймусе!
Гонцов накормили молодой жеребятиной, и они, восхваляя щедрость хана, говорили:
— Мы нигде и никогда не ели столь превосходного блюда. Хвала аллаху, да возвеличит он имя Девлет-Гирея над всеми ханами!
После конины гонцов угощали салмой — мясной похлебкой с шариками из теста. И в заключение подали целый бурдюк айрана.
— Мы никогда такого айрана не пили! — единодушно воскликнули гонцы.
Но вкуснее всего им показалась крымская буза. Поднося чашу с бузой, ханский слуга сказал:
— Достопочтенные сибирцы, примите из моих недостойных рук этот сосуд с напитком, приготовленным руками наших ленивых женщин!
Гости с наслаждением выпили бузу и засияли от восторга. — Такой напиток пьют только великие ханы! Мы никогда не забудем всего хорошего, что испытали тут. Ваши жеребята питаются благовонными травами, так ароматно их мясо!
— Аллах велик! Он посылает радости правоверным и готовит печальный конец урусам! — сказал угощающий.
— Много раз к нам приходили урусы и уходили ни с чем. Клянемся бородой пророка, что так будет и теперь! — Так и надо! — со вздохом сказал ханский слуга. — Но этого мало. Душа мусульман возвеселится, если хан Кучум перейдет рубежи и будет тревожить русские селения, тем самым он облегчит поход Девлет-Гирею.
Звезды кружили над степью. В костре колебались синевато-оранжевые языки пламени. В темноте, на берегу глухого степного озера перешептывался камыш. Повеяло предутренней прохладой.
— Пора! — спохватились сибирцы.
Кланяясь, прижимая руки к сердцу, безмерно восхваляя гостеприимство хана, они взобрались на коней и, на мгновение освещенные пламенем костра, все еще колебались, покидать ли столь обильный табор? Но, пересилив соблазн, стегнули коней и вскоре растаяли во мгле ночи.
Гонцы вернулись в Москву во-время и незаметно. И как только они явились, сибирский посол Гаймуса сразу выздоровел, восхваляя Бомелиуса:
— Я видел врачей-табаби в Бухаре, в Персии и даже у турского хункера, но такого целителя, как у русского государя, я нигде не видел!
Висковатов недоверчиво поглядывал на татарина, подозревая неладное, но Гаймуса был хитер и под цветистыми словами хорошо умел скрывать свои мысли.
В Посольском приказе послам Гаймусе и Аисе предложили подписать текст заготовленной шерти. Послы отрицательно покачали головами.
Думный дьяк строго сказал:
— О чем мыслили вы, когда стояли перед великим государем?
— Мы думали о его величии, — наивно ответил Гаймуса.
— Тогда что удерживает вас подписать шерть?
— Его величие! — жалобно отозвался посол: — Печатей наших и рук наших в сей шертной записи нет потому, что мы не учены и писать не умеем!
Так и отказались они подписать шерть за своего хана.
— Вот приедем в Искер, и хан Кучум сам наложит шерть! Это крепче и сильнее нашего слова! — обещал посол.
Раздосадованный дьяк мрачно расхаживал по горнице, неприветливо поглядывая на юливших татар. Опять он почувствовал, что Гаймуса таит что-то, но желание царя не задираться с сибирским ханом заставило Висковатого расстаться с послами приветливо.
По его представлению, русским послом в Сибирь назначили боярского сына Третьяка Чебукова. Ему вручили царскую грамоту за особой, золотой, печатью.
Царь указал Чебукову от своего имени, чтобы он Кучуму-царю поклон правил.
Из Москвы сибирцев провожали доброжелательно, полагая, что достигнуто самое главное: сибирский хан признал себя данником Руси.
Зима выпала тяжелая. Тысячи людей в Москве остались без крова, ютились, подобно кротам, в землянках, голодали. По скрипучему снегу тянулись в стольный город обозы — везли хлеб, мороженную рыбу и тес. Кругом рубили лес, и стук топоров с ранней зари до темна разносился на обширных пепелищах. Царь поднимался на Тайницкую башню и обозревал стройку.
Он каждую неделю слал гонцов в Крым с поминками, тянул, лукавил, а сам готовил войско. Однако Девлет-Гирей давно отгадал замысел русских — оттянуть время, и поэтому оснащал орду для похода. С первыми вешними лучами в Диком Поле появились татарские разъезды, а когда просохли дороги, хан снова двинулся на Русь со стадвадцатитысячным войском. Татары шли уверенно, шумно. По ночам у бесчисленных костров звенели зурны, глухо звучали бубны и по сонной степи далеко разносились гортанные напевы.
Орда двигалась знакомой дорогой, и мурзаки давались диву: на пепелищах снова появились смолистые рубленые избы, опять по прелой пахучей земле, напоенной весенними соками, ходили за сохами пахари, готовясь к севу.
Девлет-Гирей твердо верил в успех. Ему уже мнилось, что он на белом коне въезжает в Кремль.
Царь Иван Васильевич находился в Новгороде. Узнав об этом, хан насмешливо улыбался в редкие жесткие усы.
— Вернется московит и останется без улуса. Что хочу, то и сделаю с ним! — хвастался он перед мурзаками.
Июльским теплым вечером крымские всадники подошли к Оке. За ней, у Серпухова, раскинулся русский военный лагерь. Воевода князь Воротынский поджидал крымчаков, чтобы схватиться с ними. Но Девлет-Гирей схитрил: он оставил две тысячи конников, чтобы отвлечь внимание и силы русских, а тем временем сам с полчищами ночью переправился через Оку и поспешил к Москве.
Утро застало татар далеко от Оки. В низинах клубились серые туманы, вершины рощ золотились на солнце. До Москвы оставалось не более полусотни верст. Хан повелел передохнуть войску перед последним броском. На берегу Лопасни поставили голубой ханский шатер. Девлет-Гирей сидел на пуховиках, поджав под себя ноги, безмолвный и неподвижный, выслушивая доклады мурз. Его тревоги остались позади. Пока поспешит сюда русское войско, он въедет в Кремль и будет восседать на ивановом троне.
— Татарский конь и стрелы наши — быстры! Вот чем мы сильны! — наставнически сказал он мурзам.
Седобородый мурзак, ближний Девлет-Гирея, склонил свое чело перед ханом:
— Твоими устами говорит сама истина. Правоверные издавна били Русь своею стремительностью!
— Это так! — подтвердили хором мурзаки.
«Ак-так-так» — внезапно рядом, за холмами, рявкнула пушка, и эхо покатилось над перелесками.
Хан поднял удивленные глаза:
— Что это значит?
— Идет гроза, повелитель. За курганами гремит гром!
В этот миг снова загрохотало. У шатра с визгом ударилось в землю чугунное ядро, и от мощного воздушного порыва шатер сорвало и унесло… Девлет-Гирей оказался сидящим на пуховиках под сияющим солнцем. Над головой его то и дело пролетали ядра.
— Русские! — взвизгнул хан и вскочил с пуховиков. — Коня мне!
Ему подвели любимого аргамака. Девлет-Гирей вскочил в седло и выехал на холм, с которого открывались зеленые понизи реки Лопасни. То, что увидел он, ошеломило его. С востока и севера полукольцом на его лагерь надвигались русские воины. На солнце то и дело сверкали молнии грозных мечей. Татарские конники подались назад… Еще минута, и они повернут коней.
— Аллах с нами! — истошно закричал хан и пришпорил коня. Сыновья и придворные пытались перехватить скакуна, но хан плетью наотмашь пригрозил им.
Завидя Девлет-Гирея, ордынцы приостановились, выровнялись и снова с криками устремились в бегство.
Напрасно хан, размахивая кривой саблей, взывал к ним, грозил, стыдил. Но разве сломишь каменную стену? Русская пехота двигалась тяжелой поступью и рубилась молча. Тяжелые русские мечи смертью обрушивались на ордынцев. По полю носились кони, волоча в стременах зарубленных всадников.
Разгоряченный гневом и битвой, Дивлет-Гирей вломился в ряды русских. Но бородатые рослые русские ратники, обряженные в стальные кольчуги и шеломы, тесной стеной окружили его. Горе грозило хану, если бы не подоспели его сыновья со своими головорезами. Они гибли на глазах хана, чтобы спасти ему жизнь.
«Аллах покарал меня!» — в страхе подумал хан и еле выбрался из кровавой свалки.
Сотни порубленных всадников остались на поле, чтобы сохранить голову хана. Кусая в досаде губы, он утешал себя: «Они сегодня застали меня врасплох, но завтра, — завтра я покажу, что значит Девлет-Гирей…»
К вечеру он приказал отвести войска на другой берег Лопасни, чтобы сохранить силы для последнего удара. В шатер к нему привели русского пленника.
Хан пронзительно посмотрел на него, стремясь внушить страх и трепет. Но русский гордо откинул русую голову, держался с достоинством.
— Кто посмел вести рать против меня? — сердито спросил Девлет-Гирей пленника.
— Ратью правит князь Михаил Иванович Воротынский! Советую тебе, хан, пока не поздно, просить пощады.
— А-а-а! — захрипел от ярости Девлет-Гирей и схватился за рукоять сабли. — Кто со мной так говорит? Холоп, пленник! Я посажу тебя на кол!
— Это легко сделать, — насмешливо ответил пленник. — Но всю Русь на кол не посадишь, пуп надорвешь!
— О-о-о! — хан вытянул колечком губы, хотел что-то крикнуть, но от гнева судорога перехватила ему горло.
— Что, лихо? А будет еще лише! — властно сказал русский и, сверкнув глазами, крикнул мурзакам: — Ну что ж, казнить будете? Подумайте, сгожусь для обмена. Всяко бывает! — Он не закончил: раб хана по глазам угадал безмолвный приказ своего повелителя и предательским ударом из-за спины снес пленнику голову…
Утром русские снова ворвались в татарский лагерь, и опять целый день лилась кровь. Много раз Девлет-Гирей с отборными всадниками пытался опрокинуть русскую конницу и вырваться на московскую дорогу, но каждый раз его отгоняли на исходное положение.
Хан исступленно кричал мурзакам:
— Гоните тысячи на них! Пусть мои воины покроют их телами, но идут вперед!
Нет, не прошли больше орды вперед! Сумрачный хан объехал поле битвы, усеянное порубленными и поколотыми телами. Невдалеке виднелся городок, над избами вились дымки, — все дышало домовитостью, покоем.
— Что за аул? — спросил Девлет-Гирей.
— Это Молоди. Там теперь русский воевода!
Шайтан! — крикнул хан. — Нам не с кем идти на Москву. Где мои лучшие всадники?
— Их не стало, господин, — склонился в глубоком поклоне седобородый мурзак. — Не лучше ли нам вернуться в свои улусы?
Девлет-Гирей хотел возразить, но, вспомнив поле, усеянное телами, опустил голову и произнес в задумчивости:
— Кто мог подумать, что они осмелятся тягаться с нами?
Мурзаки промолчали в ответ. Долго, очень долго в тяжелом раздумье сидел хан. Над лесом погасла заря, а с ней угасли последние надежды. Нет, не видать ему больше Москвы!..
Над тихими полями поднялась большая луна. Мириадами искр зажглась крупная роса на травах, когда крымская орда, подобно стае голодных волков, стала бесшумно уходить из-под Молоди. Копыта коней, повязанные лохмотьями, мягко ступали по земле, не лязгало оружие, не слышалось ни звуков зурны и барабанов, ни говора. Мрачными безмолвными тенями уходили татарские толпы от истребления.
И чем дальше, тем решительнее ускорялся их бег. Окруженный отборными телохранителями, Девлет-Гирей скакал, охваченный ужасом.
«Скорей, скорей в Бахчисарай!» — погонял он коня.
Но впереди лежало Дикое Поле, в нем могли встретиться казаки. Что тогда? Об этом было страшно думать.
Увидя сильно удрученного и потемневшего хана, старый мулла, желая успокоить его, тихо сказал:
— Все уходит, повелитель: и жизнь, и слава, и богатство, и сила, — остается только смерть!
— Уйди от меня, сеид! — огорченно воскликнул хан. — Уходи скорее, а то прикажу побить палками твои пятки!
«Он спятил с ума!» — в страхе подумал мулла и поторопился убраться…
Конники Воротынского долго гнались за крымской ордой, и там, где прошли они, неделями кружились стаи воронья, справлявшего кровавый пир.
В Диком Поле земля пылала жаром, ручьи и впадины, прежде наполненные вешней живительной водой, пересохли. К постоянной тревоге присоединилась мучительная жажда, от которой стали падать заморенные кони.
«Конец, всему конец», — в ужасе думал Девлет-Гирей. Когда ему казалось, что все кончено, вдали в лунном свете блеснул Сиваш. И сразу тишина стала мягкой и доброй. Удивительно легко стало дышаться. Издали потянуло приятной солоноватой сыростью. Чуткий слух уловил знакомый шум и плеск моря. Он не удержался и выкрикнул спутникам:
— Хвала аллаху, мы в своих улусах!..
Татары вступили в Крым. Но не так много вернулось их в аулы. Целые толпы их сложили свои кости на берегах Оки и Лопасни, а иные от казачьей сабли легли в Диком Поле. Осиротевшие татарки пронзительно голосили, не встретив своих, в остром горе царапали до крови лица, рвали волосы. Девлет-Гирей ехал на своем выносливом аргамаке, держась недоступно, с надменным лицом. А внутри у него все ликовало, каждая жилочка дрожала от радости: он вернулся из похода, а это самое главное! Он родился, вырос и умрет в Крыму. Хан привык к мягкому темному небу, усеянному звездами, к шепоту ночи, к шороху моря, и после дальнего похода и неудачи еще сильнее и глубже ощущал богатство крымской благословенной земли. Чтобы укрыться от стыда, Девлет Гирей въехал в Бахчисарай поздней ночью. Южная ночь после пережитого поразила его своим величием. Из-за неподвижных пирамидальных тополей поднялся тонкий серпик месяца, и все окуталось мягким пленительным светом. Только от крыш и навесов падали резкие густые тени. Из сада слышалось журчанье фонтанов. Стража широко распахнула перед ним окованные ворота, и конь, радостно заржав, вступил на знакомый двор. Еще находясь в седле, хан успел заметить, как занавеска в узком оконце его дворца чуть раздвинулась и в щель на него глянули жаркие глаза.
«Фатьми!» — скорее догадался, чем узнал хан, и знакомое волнение встречи овладело им…
Однако тревога не покидала Девлет-Гирея и в Бахчисарае. Хан не мог смириться, признать свое поражение. Он никак не мог забыть Астрахань, которой мечтал овладеть. И все же страх перед Русью не оставлял его. Ему удалось пожечь московские посады, но сломить русский народ не хватило сил. Этот храбрый, выносливый и сильный народ не могла покорить даже Золотая Орда. Он долго думал и, наконец, послал к царю Ивану гонца с грамотой. Как отличалась она от прежних заносчивых посланий хана! «Мне ведомо, — писал Девлет-Гирей, — что у царя и великого князя земля велика и людей много: в длину земли его ход девять месяцев, поперек — шесть месяцев, а мне не отдает Казани и Астрахани! Если он мне города эти отдаст, то у него и кроме них еще много городов останется. Не даст Казани и Астрахани, то хотя бы дал одну Астрахань, потому что мне срам от Турского: с царем и великим князем воюет, а ни Казани, ни Астрахани не возьмет и ничего с ним не сделает. Только царь даст мне Астрахань, и я до смерти на его земли ходить не стану; а голоден я не буду: с левой стороны у меня Литовский край, а с правой — черкесы, стану их воевать и от них еще сытей буду; ходу мне в те земли только два месяца взад и вперед»…
Царь Иван Васильевич принял ханского посла учтиво, — он не пожелал задираться. Но ему хорошо было знакомо коварство Девлет-Гирея, и поэтому он твердо ответил, что не верит обещанию хана. Царь предвидел, что может произойти в результате уступок.
В ответной грамоте хану написали:
«Теперь против нас одна сабля — Крым; а тогда Казань будет вторая сабля, Астрахань — третья, ногаи — четвертая»
На сей раз Девлет-Гирей не дождался богатых даров из Москвы. Иван Васильевич с тонкой иронией напомнил ему первую грамоту, написанную ханом после сожжения Москвы, в которой тот с бахвальством сообщал, что богатство ему — прах. Царь насмешливо извинялся:
«Посылаю тебе поминки легкие, добрых поминков не послал; ты писал, что тебе не надобны деньги, что богатство для тебя с прахом равно».
Хан вспыхнул, крикнул мурзаку:
— Мы потопчем их конями!
Седенький мурзак низко склонился перед Девлет-Гиреем и напомнил:
— Повелитель, постель ждет тебя, — пора отдохнуть от всех дел!
Хан прошел в опочивальню, но спал тревожно. Среди ночи он вдруг проснулся. Кругом глубокая тишина, в бассейн с редким звоном падали капли, лунный свет еле проникал в решетчатое оконце, все было напоено покоем и негой. Но Девлет-Гирею вдруг стало страшно. Он долго думал о том, где причина этому страху? Перебирал в памяти врагов своих среди мурзаков, готовых на козни, вспоминал речи царевичей, слова послов турского хункера. Нет, не это устрашило его! Что же тогда?
И тут на память пришел русский полоняник, которого татары схватили на берегу Лопасни. Вот он теперь стоит перед глазами — высокий, стройный, синеглазый. Тряхнул русыми кудрями и насмешливо говорит хану: «Всю Русь на кол не посадишь! Пуп надорвешь!».
Девлет-Гирей схватился за голову:
— Русь! Русь! Вот кто страшен! Русы развеяли потомков великого Бату, они растопчут и меня…
Всем своим существом опытного хищника он понял, что растет изо дня в день могучая сила, которая положит конец привольной жизни от набегов и грабежа…
5
Кончался золотой листопад. Дни стояли солнечные, тихие, и на фоне ясного голубого неба нежные белоствольные березки на перепутьях радовали глаз русского посла. На душе было грустно: Третьяк оставил в Москве молодую жену и ползунка-сына. При воспоминании о них у посла теплело на сердце. Оно рвалось назад, на Русь, которая осталась позади. В туманной дали растаяли в синем мареве и Каменные горы. Всю дорогу сибирец Гаймуса вел себя двусмысленно, а после того, как миновали русский рубеж, и вовсе стал задираться.
— Погорелец ваш царь, беден, плохие поминки шлет великому хану Сибири!
Третьяк Чебуков степенно ответил ему:
— Русь обширна и богата. Но не в богатстве сила, а в людях!
— Чего вы ищете в нашей стране? — продолжал Гаймуса.
— Хан Кучум просил царя принять его в данники, и царь взял под свою высокую руку возлюбленного брата.
— Це-це! — щелкнул языком сибирец, и его вороватые глаза забегали.
Гонец Аиса держался добродушно, покровительственно к Третьяку. Когда-то тот спас ему жизнь, и служилый татарин не забыл этого:
— Ты не гляди, что я переметчик. Своя вера ближе всего. Идешь по Москве, а каждая женка ребенку шепчет: «Молчи, татарин идет!» Я знаю, татары сделали много зла твоей земле. Что поделаешь, такова воля аллаха! Но я все хорошее помню, и первый друг тебе!
Вот и Искер! Навстречу русскому послу выехали четыре бека, обряженные в парчевые халаты. Кони — арабских статей, убранство их сверкает позолотой и драгоценными камнями, седла расшиты жемчугом. У беков густые черные бороды, и сами они подобраны молодец к молодцу. Это сразу оценил Третьяк.
За беками ехали трубачи и барабанщики, а за ними спешила огромная толпа любопытных татар. Когда поезд посла приблизился к воротам Искера, трубачи пронзительно затрубили, а потом глашатай возвестил:
— Приехал посланец Москвы! Слушайте, слушайте, правоверные, отныне Сибирь и Русь — единая сила против врагов великого и благочестивого хана Кучума! Да будет благословенно имя его во всех веках и по всей вселенной!
Толпа о чем-то громко шумела, а беки сошли с коней и почтительно склонились перед русским послом. Третьяк каждому из них низко поклонился.
— Да будет благословен твой приезд, посланец великого и могучего царства! — громко произнес старший из беков.
Третьяк понял, как нуждается Сибирь в славе Руси. Он хорошо знал татарский язык и со всей важностью ответил на приветствие, чтобы слышали все:
— Русь сильна! Мы вступили в дружбу с вами, и кто посмеет после этого грозить вам? Великий государь всея Руси Иван Васильевич жалует брата своего Кучума любовью!
— Алла! Алла! — закричали в толпе. Но тут загрохотали барабаны, защелкал бич, — громадного роста татарин, одетый в зеленый халат, теснил толпу, давая проход шествию.
Послу подвели белоснежного коня с высоким седлом, обшитым тисненым ярким сафьяном. — Это дар хана благородному посланцу русского царя! — важно оповестил старший мурза.
Опять заиграли трубы, загрохотали барабаны. Русский посол легко поднялся в седло, и пышное шествие тронулось. В толпе пуще закричали. Лучники, состязаясь в своем искусстве, пустили сотни стрел в голубое небо. Над распахнутыми воротами Искера раскачивался пестрый персидский ковер, а вдоль узких уличек шумела все та же неугомонная, говорливая толпа.
Русский посол в малиновом кафтане, в сопровождении беков медленно продвигался среди народа, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Обходительность посла, его молодое, румяное лицо, обрамленное золотистой кудрявой бородкой, большие синие глаза пришлись по душе татарам. Толпа неистовствовала от восторга…
Хан принял Третьяка Чебукова со всеми почестями в своей огромной белой юрте. Кучум сидел на возвышении, покрытом золотой парчей, в окружении знатных мурз и беков.
Русский посол статной поступью вошел в тронную и, остановясь неподалеку от хана, отвесил ему глубокий поклон. В глазах Кучума промелькнуло самодовольство.
— По велению моего государя, великого князя всея Руси, — торжественно начал Третьяк, — кланяюсь мудрому хану Сибири, потомку могущественного Батыя. Брат твой и великий государь Иван Васильевич спрашивает, здоров ли преславный хан?
Кучум улыбнулся, весело обежал взором толпившихся мурз и не менее величаво ответил:
— Хвала аллаху, здоров. Мои имамы каждодневно возносят молитвы о здравии брата моего, великого государя Руси. Здоров ли он?
Слуги посла положили у ног хана царские поминки: три штуки красного сукна, золотые кубки и перстни с глазками лазури. Хан схватил кубки и стал рассматривать.
— Мои златокузнецы делают запястья тонкие и полные сверканья, и чаши серебряные, — сказал Кучум, — но таких узорчатых кубков я не видел…
Разговор длился недолго. Посол понял, что состоялось первое знакомство с ханом. Грамоту Грозного и рукопись шерти он решил вручить позднее.
На закате Третьяку отвели юрту, ту самую, в которой когда-то жил приказный Куров. Оставшись наедине со слугами, посол наказал им:
— Помните, холопы, русскую пословицу: речь — серебро, а молчание — золото. Будьте учтивы в чужой земле, меньше говорите и больше слушайте и запоминайте…
Пока Чебуков отдыхал после утомительной дороги, бек Гаймуса тем временем добрался до Кучума и со всеми подробностями рассказал ему, что видел в Москве. Они сидели в шатре вдвоем, но осторожный бек подошел к шелковым пологам, заглянул за них — не подслушивает ли кто, и сообщил о гонцах, которых он тайно засылал к Девлет-Гирею:
— Он сказал, что весной опять придет на Русь, потопчет и пожжет все. Хан напомнит им времена Тимучина!
Гаймуса ждал ханской радости и награды, но Кучум сидел задумчивый и мрачный. Долго ждал бек, пока хан скажет свое слово. Наконец Кучум коротко пригрозил:
— Голову сниму с тебя, если кто узнает об этом! Пошел вон!
Он прогнал Гаймусу, не сказав ему похвалы и не дав награды.
«Как несправедливы ханы и властители судеб человеческих!» — обиженно подумал бек и затаил злобу, но не против хана, а против русского посла, которого он считапл виновником всего случившегося.
Он не знал, что Кучум обрадовался вести, воспрянул духом и пожалел посланную дань — тысячу соболей. Сейчас Кучум терпеливо ждал вестей от тайджи-царевича Маметкула, которого послал покарать непокорные улусы, восставшие против ислама.
День тянулся за днем, с полунощных стран прилетели холодные ветры, сорвали в рощах последние листья и своим ледяным дыханием сковали лужицы. Под ногами захрустел первый ледок, и тогда по звонкой дороге прискакал гонец от Маметкула.
Загнанный конь упал у белой юрты Кучума, но лучник вскочил и, добежав до двери юрты, распахнул полог, задыхаясь крикнул:
— Великий, всемогущий хан, мы повергли врагов твоих. Радуйся! — и сам повалился у порога от утомления…
Царевич вернулся в Искер победителем. За его конями, привязанные арканами к хвостам, тащились десять самых непреклонных противников ислама.
Маметкул хвастливо объявил хану:
— Я досыта напоил кровью землю, в которой покоится прах святых. А этих непокорных я привел к тебе на суд, хан!
При стечении народа десяти идоломольцам отрубили головы и воткнули их на остроколье у юрты Кучума. Перед каждой мертвой головой останавливался хан и зло говорил:
— Теперь больше не будешь меня поносить, мурза Арслан! Так будет со всяким, кто подымет руку на своего хана!
— Наконец-то насытил ты свою жадность, бек Абдулла. Я знаю о чем ты думал, когда поднимал кочевников. Ты думал о дороге в Искер!
Хан напомнил каждому врагу своему старые обиды. Заметно постаревший, с отвисшей слюнявой губой, он весь дрожал от сладострастья, видя кровоточащие головы противников. И в то же время старик был жалок в своей жестокости. Тайджи поморщился и подумал: «Он стал совсем дряхл. Борода стала редкой, и глаза слезятся. Стар, стар хан Кучум!».
А с высоких минаретов только что отстроенных мечетей муллы звонко оповещали:
— Я ху! Я хак! Ля иллях илла ху!
Имамы, сеиды, шейх Хаким торжествовали. Хан ласково ввел племянника Маметкула в свой шатер и посадил рядом на пышных подушках. Думчий Карача приказал слугам и наложницам порадовать победителей.
Зажгли курильницы, благовонный аромат наполнил покои. Прововные слуги со смуглыми лицами принесли чаши, наполненные аракчой, и поставили перед мурзаками и беками, прибывшими на пир. Кучуму и Маметкулу поднесли золотые кубки — дар московского царя. Тайджи весело сказал:
— Будем пить из них и покончим с последним врагом нашим!
— Покончим! — согласился хан.
Никто не понял смысла их речи, но стоявший в толпе Аиса заметил, как радостно блеснули глаза бека Гаймусы.
Думчий что-то выкрикнул. Раздвинулся серебристый полог, в покой, резвясь, вбежали наложницы и стали плясать. Их гибкие тела колыхались, как цветы под дуновением ветра.
Хан привычно-равнодушно глядел на пляску, и вдруг взор его затуманился, глаза перестали различать лица и все для него как бы ушло в тень. Неподвижно, с каменным лицом сидел хан и уж не видел ни беков, ни наложниц. Другое было перед ним…
— Довольно на сегодня пляски! — жестко объявил хан. — Я покажу вам более занятное, чем наложницы. Поэвать сюда русского посла!
Сам думчий и много слуг с ним поспешили к юрте Третьяка. Посол уже догадывался о беде. Смутная тревога овладела им.
«Что-то случилось!» — подумал он, надел парчовый кафтан, пристегнул к нему козырь, расшитый жемчугом, к поясу подвязал саблю и протянул руку к высокой бобровой шапке…
В эту минуту в юрту вбежали возбужденные татары.
— Хан зовет к себе! — закричал Карача.
— Я так и думал, что он позовет меня, — спокойно ответил посол и захватил заветный ларец, в котором хранилась грамота царя и рукопись шерти. Он с достоинством сказал: — Идемте к хану, он ждет.
Когда посол медленной величавой поступью вошел в покои Кучума, все смолкли. Десятки пронзительных, пытливых, гневных, настороженных глаз уставились в него. Третьяк перехватил злорадствующий взор бека Гаймусы. «Случилось недоброе для нас», — взволнованно подумал он и склонил перед ханом голову:
— Явился по твоему зову, великий и мудрый хан, — спокойно сказал он.
Кучум встрепенулся, поднял горделиво голову и заносчиао выкрикнул:
— Пришла пора поговорить с тобой, посол Руси. Покажи грамоты, которые послал нам брат наш! — злая усмешка прошла по губам Кучума.
Третьяк вскрыл ларец, бережно добыл грамоту и хотел сам огласить ее, но думчий сказал:
— Читать должен я.
— Послом великого государя прибыл я, грамоту царя читать мне или самому хану, — с достоинством ответил Чебуков и неторопливо развернул свиток с большой золотой печатью. На короткий миг она привлекла к себе внимание ханской свиты. Воспользовавшись минутным замешательством, Третьяк огласил:
«Царь и великий князь всея Руси сибирского царя грамоту выслушал и под свою руку его во оберегание принял и дань на него наложил»…
Посол не дочитал: хан протянул руку и вырвал у него московскую грамоту.
— Слышали вы, мурзы и беки, и ты, шейх Хаким, он обещает нам обереганье! — насмешливо проговорил Кучум. — Слышали вы, мои рабы, что сулит он, а сам не может оборонить своей земли. Его столицу Москву пожег крымский хан Девлет-Гирей. Вот оно как! Нищий старается одарить, богача, немощный — отдать силу богатырю!
— Ха-ха-ха! — раздался в покоях издевательский раскатистый смех. Смеялись все: мурзы, беки и рабы. Козленком блеял старый думчий Карача, тонким фальцетом заливался бек Гаймуса и совсем по-стариковски, ехидно хихикал Кучум.
— Не сметь глумиться над царским словом! — сжав кулаки, гневно сказал русский посол.
— Я все могу! — со злобой выкрикнул хан, вскочил и разорвал грамоту, затоптал ногами. — Знай, Едигер значился данником Руси, а Кучум никогда не будет!
— Ты отвечаешь за свое слово, хан! — напомнил Третьяк.
Опять раздался грубый, наглый хохот. И, куда ни оборачивался посол, всюду видел скуластые оскаленные лица, чужие и враждебные. Все глаза горели жгучей ненавистью. Но Третьяк не испугался и опять сказал от всего взволнованного сердца:
— Знай, хан, Русью раз молвится слово. Запомни это! Ты глумишься над беззащитным человеком. Посол я, а послы везде уважаемы.
Вскочил, весь багровый, Маматкул:
— Хан, дозволь снять эту баранью голову! — И тут же осекся под грозным взглядом русского посла.
— Увести! — презрительно сказал Кучум, и бек Гаймуса со слугами, несмотря на сопротивление, связали посла и увели из белой юрты. Подталкивая в спину, избивая плетью, они довели его до глубокой сырой ямы и столкнули в нее.
Третьяк упал и сломал себе ногу. Звездная ночь простиралась над Искером, до узника глухо доносились крики и смех из ханской ставки. Невыносимая боль не давала покоя. Крепко сжав зубы, Третьяк молчал. Собрав все силы, всю волю, он решил непреклонно держаться до конца: «Теперь смерть, но умереть надо с честью!».
Мысли унеслись к далекой Москве. Вспомнилось о семье: «Ждут и не дождутся меня ни Любаша, ни Кирилка!».
Аиса просил хана Кучума о пощаде послу:
— Выпусти его на Русь, так будет лучше!
Кучум разгневался.
— Как ты, презренный раб, смеешь меня учить! Думчий! — раздраженно закричал он: — Повели сегодня же отрубить русскому послу голову, а рабу моему Аисе дать пять седмиц плетей!
Татарин безмолвно распростерся у ног хана:
— Прости, всемилостливый и великий! Но Кучум, не взглянув на Аису, ушел за полог. На багряной вечерней заре окоченевшего, голодного Третьяка вытащили из ямы и палач кинул его на плаху.
Однако смелый и мужественный посол вскинул в последний раз голову и крикнул:
— Жива Русь!
Весна пришла в Искер. Весело гомонит речка Сибирка, сверкает серебряной струей под кручами у самого городища. Снова оделись леса и рощи нежными, клейкими листьями. Степь покрылась пестрым ковром трав и цветов. Хан Кучум поднялся на дозорную башню и любовался сотнями кибиток, которые, как громадные, расшитые шелками тюбетейки, раскиданы батырями среди ковыля. Дымят костры, ржут кони, звенит чонгур, и звонкий голос джигита разносится над просторами:
Твои брови тонки, как новый месяц,
Свежей розой заперт жемчуг зубов…
Весело горит молодой огонь в твоем очаге,
красавица,
А когда ты смеешься, — ночь озаряется светом.
«Это он поет про молодую ногайскую княжну Лилек — жену моего Алея», — сладостно думает Кучум и улыбается своей мысли. Сегодня закончился свадебный пир. Хан Кучум женил сына Алея на дочери ногайского князя Тин-Ахмета. За невестой в глубину степей ездил посол Тацяк и вместе с невестой пригнал табуны выносливых коней и отары овец. Когда овцы спускались на закате солнца с ближнего холма, Кучум и мурзы невольно залюбовались ими. Мощным потоком тысячи животных, наполняя окрестности шумом, лились и лились без конца в прииртышскую долину.
— Вот наше золотое руно! — похвалился хан. — Но не все, смотрите, какие кони!
Низкорослые, мохнатые кони резво и неутомимо бежали. Все мурзы и беки завидовали богатству хана, а он, подняв слезящиеся глаза, сказал:
— И это еще не все. Если мне понадобятся воины, то мой друг и доброжелатель князь Тин-Ахмет на каждого коня посадит сильного и ловкого всадника с копьем и саадаком. Знайте это! Теперь у меня прибавилось силы!
На брачный пир приехало издалека много киргизских царевичей, и Кучум уговорил их остаться при себе.
Теперь хан почувствовал силу и послал на Обь-реку, в тундры и леса, даругов объявить свою волю кочевникам полунощной стороны. Под страхом смертной казни Кучум запрещал остякам, югорцам и вогуличам платить древнюю дань Руси.
И этого показалось ему мало. Он собрал тридцать казанских татар, бежавших от гнева царя Ивана, и послал их в родные места. Они ушли в приволжские степи, слились с чувашами и стали подстрекать их к бунту против Руси. Огонь был высечен, искры тлели и ждали ветра, чтобы вспыхнуть пламенем.
И вот тогда хан Кучум решил, что настал долгожданный день, когда он может послать орду на Пермь. Повел ее Маметкул…
На Руси пришел Ильин день 1573 года. В этот день в Чусовском городке не работали. Выгрузку соли из чанов-цыреней сделали загодя до праздника. Девки водили хороводы в лугах, договаривались о завтрашнем дне, — собирались в поле на начало жатвы-зажинок. С ними увязались молодые солевары. Весело на зеленом приволье! Надоела соляная каторга. Утро выдалось ясное, теплое, легкий ветерок отогнал к лесу комаров. Тянуло посидеть на бережку Камы, поглядеть на собор с синими главками, послушать пение птиц. Старики ушли в церковь к обедне, а Куземка перешел мост через ручей и разлегся под кустом у дороги. За многие дни, проведенные в черной грязной избе — варнице, хотелось подышать на чистом приволье.
Отсюда хорошо видны Куземке черные варницы, из которых сегодня не валил белесый дым. В одной из них и работал парень. Там над огромной ямой, в которой беспрестанно пылал огонь, на железных полотенцах висел закопченный цырен с ржавыми закраинами, а в нем бурлил соляной раствор. Повар с черпаком расхаживал в мутном знойном пару, а Куземка ведрами носил рассол. Трудная жизнь!…
Куземка сладко потянулся, всей грудью жадно вдохнул в себя свежий речной воздух и положил на солнечный припек большие красные руки в глубоких, мокрых язвах: «Пусть отойдут, а болячки присохнут!».
Яркие сарафаны и платки пестрели на зеленой мураве у Чусовой, а по дороге, загребая босыми ножонками пыль, куда-то спешила маленькая Анютка, — внучка старого солевара Спиридона..
— Куда побежала? — окликнул ее Куземка.
Девочка на миг приостановилась, заслонила ладошкой глаза и наивно-лукаво призналась:
— По ягодки из дому сбегла…
Анютка повернулась, хотела бежать дальше, и вдруг обмерла от страха: на нее в клубах пыли, весь черный от сажи, летел на разгоряченном коне углежог дядька Аким. Девчонка вскрикнула, метнулась и чуть не угодила под копыта.
У Куземки замерло сердце: «Чего это сломя голову прет?».
Углежог ловко, на скаку, подхватил Анютку, бросил поперек седла и заорал диким голосом:
— Татары! Татары!
И сразу зашевелилось, задвигалось кругом. На высокой белой колокольне ударили сполох. Из приречных лугов, сколько было прыти, бежали девки, из посада и приселков торопились солевары, строгановские смерды, женки с детишками. Гнали за острожные тыны скот — коров и овец. С реки хлопотливая девка хворостиной торопила уток, а сама тревожно поглядывала на восток.
Куземка вскочил и побежал к городку. За лесом уже поднимались клубы черного дыма: татары жгли русские деревеньки-починки, стога сена, несжатые хлеба.
«Ох, горе, скоро ворота запрут. Как тогда?» — взволнованно подумал солевар.
Все новые и новые толпы строгановских трудяг спешили укрыться за валами крепости. На веревках тащили упиравшихся, ревущих коров. Чтобы поторопить беглецов, Куземка закричал, сколько было мочи:
— Татары!..
Он последним вбежал по узкому мосту, и за ним медленно, со скрипом закрылись тяжелые, окованные железом ворота.
С восточной рубленной башни дозорный лучник увидел, как из леса на дорогу на быстроногих выносливых конях ватажка за ватажкой вылетали татарские всадники. Они, как река в вешнее половодье, разлились вокруг земляного вала и высоких тынов. Дозорный — старый вятич Олекса — знал этих свирепых сибирцев и неустрашимо выглядывал, как бы ловчее ударить. На первый взгляд все казались на одно лицо: оскаленные, воющее по-звериному, рты под редкими черными усами, узкие косые глаза, наполненные волчьей злобой. Но Олекса хорошо разбирался в званиях диких всадников.
— Вот этот — мурзак. А ну-тка! — сильные руки дозорного медленно, туго натянули тетиву. Стрела со свистом прорезала воздух и угодила скуластому всаднику в грудь; он покачнулся и свалился с коня.
— Вот оно как! — удовлетворенно вымолвил Олекса и стал выбирать нового ордынца для своей меткой стрелы.
А в эту пору за оградой из смолистых бревен, на клетях, срубленных из доброго леса и наполненных землей и камнями, появились строгановские наемные дружинники — стрельцы. Один из них поднялся на башенку и хотел оттуда бить по орде, но тяжелый, как медведь, Олекса посмотрел на него из-под густых нависших бровей и решительно сказал:
— Уходи, сам управлюсь!
Стрельцу пришлось уйти.
Наружный вал, который опоясывал городище, оставался брошенным. По верху его густо шел чеснок — заостренные колья; и как только татарские всадники, разогнав коней, пытались перескочить вал, распарывали скакунам животы или сами падали под пищалью стрельца. Те, которым удалось перескочить вал, скатывались в глубокий ров, и кони ломали ноги. Град камней и котлы с варом опрокидывались на головы татар…
Куземка захватил у знакомых топор и поспешил к тыну, где все окуталось пороховым дымом и раздавался беспрестанный вой татар и крики дружинников.
В небольшой крепости-сторожке, в которой размещались хоромы Строгановых, службы для дворовых людей, клети для хранения хлеба и соли, имелась всего небольшая площадка, которая теперь была сплошь забита людьми и скотиной. Плакали перепуганные ребята, голосили женщины, ревели коровы, ржали кони, но все эти голоса заглушал дикий вой татар, которые рвались в городище. И откуда их столько взялось? Верная рука Олексы неутомимо слала стрелу за стрелой, безотказно били из пищалей стрельцы, дворовые холопы с яростью скидывали на вражьи головы тяжелые булыги, обливали кипятком, а орда все лезла и лезла. Казалось, никогда не будет конца этому элому наводнению…
Олекса давно заметил рослого всадника на черном аргамаке. Его воинские доспехи сверкали, как рыбья чешуя: от головы до пят он был обтянут синеватой кольчугой. Он ловко правил конем, увертываясь от стрел и камней, а сам на скаку отпускал тетиву, и стрела его летела с пронзительным воем. Рядом с ним скакал великанище, одетый в тигилей, с копьем в одной руке и медным щитом в другой.
«Непременно царевич, а скуластый разбойник с широченными плечами и есть его телохранитель, — решил лучник и сокрушенно вздохнул: — Эх, кабы у моей стрелы да стальной наконечник, я бы ему показал Кузькину мать!».
И все же не утерпел старый Олекса, натянул тетиву и нацелился прямо в сердце Маметкула. С визгом понеслась стрела и, как того хотел лучник, ударила в грудь татарина. Он слегка покачнулся, но удержался в седле, — кольчуга сберегла его. Скакавший рядом великанище-телохранитель задрал вверх голову и загоготал, заржал, как стоялый жеребец. С досады Олекса опять до отказа натянул тетеву, долго водил острием, отыскивая верное место, и, наконец, пустил стрелу. Она со страшной силой угодила татарину в горло, и он упал под копыта коня своего господина. Вятич вимательно оглядел свой лук, на котором все еще, как натянутая струна, дрожала тетива:
— Не выдал-таки. Хорош!
Не укрылся во-время старый опытный лучник, забыл о татарском коварстве. Царевич мгновенно натянул тетиву, и предательская стрела вонзилась в грудь Олексы. Побледнел он, изо рта хлынула кровь; слабея, старик опустился на бревенчатый настил башни. Потускнели его серые суровые глаза. Только и успел прошептать:
— Ну вот и отслужил русской земле!..
Солевар Куземка все это видел, и, когда пал старый Олекса, он выскочил из лаза на башню и взял из его холодеющих рук верное оружие. Таясь меж остроколья, он стал посылать меткие стрелы. И чем больше ярости при наступлении на городище проявляли татары, тем спокойнее и увереннее становился солевар.
Куземке все было видно как на ладони: и тыны, и клети, на которых лежали груды камней, стояли котлы с кипятком, и стрельцы, и внутренний двор острожка, на котором терпеливо ждали приступа мужики, вооруженные топорами и вилами.
Вой стал истошнее. Куземка осторожно выглянул и увидел то, от чего стало страшно за всех. Толпа спешенных татар с гиком и воем тащила тяжелое бревно. Прошла минута и раздался сильный грохот…
«Ворота ломят! — сообразил Куземка и заметался. — Что же делать?»
Он не знал, что с верхней воротной площадки на татар сыпались камни, лились кипяток, жгучая расплавленная смола. Но одни ордынцы гибли, другие лезли им на смену. Кругом валялись трупы и покалеченные люди…
Солевар давно заметил на площади хозяина. Дородный, в малиновом кафтане, Яков Строганов медленно продвигался среди возов и взволнованной толпы. Тут были лесорубы, углежоги, привезшие в городище уголь, смерды, пахавшие на господина пашню, косцы с косами-горбушами, прибежавшие укрыться за крепкий тын от лихой беды.
Куземка растолкал людей и, скинув шапку, встал перед господином:
Боярин, гляди-ко, сколь людей сбежалось и без дела бродят по двору. Дай им пищали, копья, сабли, ух, и бить будут татарву!
Строганов нахмурил брови, глаза помрачнели. Он стукнул посохом и пригрозил солевару:
— Как смеешь, холоп, учить меня! Куда лезешь со свиным рылом в калашный ряд. Не видишь, тут все смерды, а им оружье не положено! Брысь!
Куземка не испугался, да кстати к нему, плечо в плечо, встал смерд.
— Господин, — спокойно обратился он к Строганову: — Нас сотни. Сил-а-а!..
Яков Аникиевич задрал бороду и высокомерно ответил:
— А я и без твоей силы обойдусь. Заплоты острога высоки, хлеба хватит, зелья для пищалей вволю и…
Он не договорил: в эту пору раздался такой сильный грохот, что все крики стали неслышными. Окованные ворота сорвались со своих запоров и распахнулись. Как морская волна, в проход хлынула яростная орда татарских всадников. Строганов на бегу скинул колпак и перекрестился:
— С нами крестная сила! — и поторопился скорее скрыться в хоромы.
Куземка не растерялся.
— Смерды, в топоры их! — выкрикнул он, и его сразу захватил, закрутил водоворот.
С топорами, с косами-горбушами, с вилами смерды и солевары бросились на татар, и пошла рукопашная. В тесном дворе негде было повернуться всадникам. Кони калечили людей, ломали утварь, давили горшки, но, попав среди телег в ловушку, ломали ноги и низвергали всадников на землю.
Куземка вспомнил о запасных решетках. Он взбежал на воротную башню и сбил крюки. Тяжелая железная решетка грузно опустилась вниз и снова, теперь надежно, закрыла вход в городище…
Смерды перебили всех ворвавшихся татар. И так разохотились, что, переломав тыны, пошли с топорами на орду.
Солнце давно закатилось за синие ельники. Погасала заря, когда на дальнем подступе затрубили трубы и заколебалась пелена пыли.
Яков Строганов, вновь осмелевший, заслышав рев труб, радостно объявил:
— Благодарите бога, работные люди и смерды, дядя наш Семен Аникеевич выслал помощь…
Погасли огни, притихли леса и поля. Мрак и покой окутали все. Утомленные за день люди легли, где застал сон. Только женки, потерявшие в схватке кормильцев, тихо голосили.
Когда взошло солнце, равнина перед Солью Камской лежала безлюдной: татары внезапно исчезли.
Дружинник, который привел подмогу, рассказывал:
— Вторгся в Пермскую землю татарский царевич Маметкул. Борзо свиреп: палит починки и деревнюхи, а людей в полон берет. Только с городками не справился. Видать, не по его волчьим зубам! — Рассказчик подумал, вздохнул и вымолвил с грустью: — Эх, сторона-сторонушка, беспокойная земля, но своя родимая. И николи, и никому мы тебя не отдадим!..
Строганов заметил среди дружинников словоохотчего Куземку, поманил его перстом. Когда солевар предстал перед грузным, бородатым хозяином, тот пригрозил ему:
— Надо бы тебе портки долой и отстегать за милую душу, да уж за дело с решетками, так и быть, прощаю! — и тут он зычно поднял голос: — А смердам идти ноне землю пахать, травы косить, дороги ладить!..
Погромив мирных вогуличей и остяков, взяв полон в русских селениях, Маметкул со своими всадниками отступил в Сибирь, но черемисы остались. Строгановские вотчины вновь оказались в опасности. В июле на Каму пришло сорок человек черемистов, вооруженных топорами, пиками и дрекольем; к ним присоединились башкирцы и буинцы, понемногу пристали и остяки. Они прошли по камским городкам и побили восемьдесят строгановских торговых людей и ватажников.
Строгановы написали челобитную царю Ивану Васильевичу. Их жалобу поддержал и великопермский воевода князь Иван Юрьевич Булгаков…
Грозный, занятый делами на Западе, однако нашел время подумать о Сибири. Возмущенный коварством Кучума, он задумал «потеснить сибирского салтана» и тем укрепить восточные русские рубежи.
Царь вызвал вотчинников к себе. Поехали два брата — Яков и Григорий Аникиевичи. Со страхом они приближались к Москве: «Как-то встретит грозный царь?». Но в стольном городе, в Посольском приказе, думный дьяк Иван Михайлович Висковатов почтительно сообщил Строгановым:
— Званы вы в Александровскую слободу, и великий государь давно поджидает вас.
Весна стояла в самом разгаре. Буйно лез из земли всякий злак, зацвели травы, шумели светло-зеленой свежей листвой кусты и деревья. Птицы хлопотали в гнездовьях. Но братья не замечали весны, тревожно было на сердце, погибелью казалась им дорога в слободу, о которой они наслышались много горестного. Братья три дня пререкались между собою, кому ехать. Сидя в своих вотчинах, подле Каменного Пояса, среди диких лесов, в глуши, они чувствовали себя царьками. Ни перед кем и ни за что не отвечали. А тут вдруг предстать перед Грозным. Во многом совесть их была не чиста. С боязнью они думали: «Сохрани, господи, как бы до нашего тайного не дознался царь!».
После долгих споров решили ехать вместе. Яков горько усмехнулся и сказал:
— Класть головы, так купно…
Долго, томительно долго тянулась дорога в Александровскую слободу меж зеленых холмов и перелесков. По дороге шло оживленное движение: скакали вершники с привязанными к седлам метлами и собачьими головами; опричники держались с независимым видом. Тянулись громоздкие рыдваны, в которых ехали бояре на поклон к царю. И, о радость! Навстречу верхом, в окружении молодых дворян, вдруг выехал Годунов. Строгановы мигом выскочили из колымаги и бросились вперед с распростертыми объятиями.
— Борис Федорович, милый ты наш, заступник! — весело возопили челобитчики.
Годунов легко спрыгнул с коня, пружинистой походкой подошел к Строгановым, приветливо облобызался с ними:
— А я с великим государем имел счастье говорить о сибирских урядах. На вас указал батюшке. Приспела, давно приспела пора укоротить руки хану!..
Сразу на душе полегчало, и уже иным, веселым, показался братьям окружающий мир…
И в самом деле, царь принял Строгановых милостливо, пригласил к столу и много шутил, а после обеда старшего брата Якова пожаловал игрой в шахматы. Пользуясь случаем, тот рассказал о нападении татар на Чусовской городок. И вышло так, что он такой храбрый и умный! Иван Васильевич невольно залюбовался его дородной фигурой.
— Ишь, как раздобрел и вошел в силу на вольных хлебах! — пошутил Грозный.
— Ширь! — разведя руками, сочно ответил Строганов, и перед глазами царя на самом деле распахнулась ширь и необъятные края.
— И пусть эта ширь будет русской до скончания века. А наши холопы этой дорожкой пойдут встречь солнца и настроят городков, сел, струги по рекам пустят, пашню подымут. А пока… — Иван Васильевич подался вперед и, протянув костлявую руку к фигуре, вдруг перескочил конем через свободное поле и сказал сердито: — Что ж ты, не видишь, Яков? Мат королю!
Строганов виновато опустил голову и тихо отетил:
— Не моему уму состязаться в столь мудрой игре…
— Истинно, игра мудрая, учит многому, — согласился царь. — Все время мысли направляй на то, как исподволь подготовить разящий удар, подобный молнии!
Яков залюбовался тонко, ажурно вырезанными шахматными фигурами.
— Узнаешь? — улыбнулся Грозный. — Это поморское мастерство. Никто лучше не режет по кости. Глянь, как дивно вырезана конская голова! Непревзойденные умельцы — холмогорские косторезы! — с гордостью заметил Грозный. — Ну, на сегодня хватит… Недомогаю ныне, пора и на покой.
Когда Строгановы, уходя, низко поклонились государю, он посоветовал:
— Вы к думному дьяку толкнитесь… Он уже знает, ведом ему мой замысел…
Два месяца Строгановы прожили в Москве и в Александровской слободе, не раз бывали во дворце царя. Наконец, в конце мая Висковатов вручил им жалованную грамоту.
В этой царской грамоте Строгановым отводились новые земли не только на самом Камне, но и за ним, в сибирской стороне. Дивно братьям было читать такие строки: жалованы им земли «по обе стороны Тобола реки и по рекам и по озерам и до вершин».
На прощанье Иван Васильевич сказал Строгановым:
— Не отступайте перед сибирским салтаном! Земли наши, и дарю вам. Ставьте городки и острожки, собирайте охочих людей — и остяков, и вогулич, и югричь, и самоедь — и со своими наемными казаками и с народом своим посылайте воевать и в полон сибирцев имати, и в дань за нас приводить.
Братья упали в ноги Грозному:
— Спасибо, милостливый отец наш…
Вернувшись на подворье, Строгановы позвали писца Мулдышку и наказали ему прочесть громогласно царскую грамоту. И писец до пота и хрипоты много раз вычитывал особо понравившиеся хозяевам места грамоты. Он нараспев произносил:
— «Также есми Якова и Григория пожаловал: на Иртыше и на Оке и на иных реках, где пригодица, для береженья и охотчим на опочив крепости поделать и сторожей с вогняным нарядом держати. И из крепости рыба и зверь ловити безоброчно».
Было в той грамоте особое царское указание, и его зачитал Мулдышка:
— «А которые будут и поворовали, а ныне похотят нам прямить и правду всю покажут, и вы б им велели говорити и приказывати наше слово, что мы их пожалуем, пени им отдадим, да и во всем им полегчим, а они бы нам тем правду свою показали, чтоб своими головами собрався, с охочими ходили вместе воевати наших изменников»…
Уразумев до буквочки смысл грамоты, старший брат сказал младшему:
— Умен царь, не глуп и думный дьяк. Так, думается мне, и Строгановым не выходит быть полуумками…
— Вот верно сказано! — обрадовался младший. — Твоими устами, братец, да мед пить!
На полях в Ярославщине колосилась рожь, когда камские владетили выехали в свои вотчины. Дорога тянулась долго, а мысль была одна — как бы укрепиться на сибирской земле. Но кто поможет этому делу и откуда звать охочих людей?
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. У СТРОГАНОВЫХ
1
Зима встретила волжскую повольницу на Каме. Дикие леса, пустынно кругом, мороз сковал быструю речную струю так скоро и внезапно, — одним могучим дыханием — что казаки еле успели отвести струги в затон подле безлюдного островка, одетого косматым ельником. Наскоро вырыли глубокие землянки, и закурился синий дымок над чащобой. Посыпал густой снег, и все уснуло под пушистым парчовым одеялом. Уснула Кама, впали в забытье в речных омутах осетры, залегли в долгую спячку звери. Мороз стал хозяином прикамского приволья: рвал старые дуплистые деревья, убивал птицу на лету, выжимал из полыньи туманы, обжигал дыхание людей.
Но в белой безмолвной пустыне шла своя скрытая жизнь, которую не мог прервать и жестокий холод. Стаями бегали оголодавшие волки, на остров забегали лоси, в ельнике спасались зайчишки, и много мелкого зверья ютилось под буреломом, в ямах, под корневищами. Жилось казакам глухо, но сытно. Ловили рыбу, били зверя, ставили ловушки с наговорным словом. Ходили на медведей, — поднимали с теплых берлог и вступали в единоборство. Казак Колесо на левую руку накрутил лохмотье, в правой — острый нож, и вышел на рассерженного зверя. Долго они кружили по снегу. Медведище ревел на всю лесную глухомань, а человек проворно увертывался, пока не всадил ему нож в самое сердце. Казаки и те дивились смелости товарища, — медведь оказался неимоверно велик, вчетвером еле дотащили на санках до зимовья…
Ели досыта, — выручали волжские запасы: и хлебушко, и меды, и крупа. Но и сытость не спасала от тяжелой тоски, которая томила все длинные зимние ночи, терзала в короткие мутные дни. И часто хотелось подвывать метели, выскочить из землянки и бежать, бежать вместе с поземкой до последних сил…
Днепровский казак Бочкарь до полуночи охал, кряхтел, ворочался, а в самую глухомань, когда за дверью выл и бесновался буран, вскочил с нар и выбежал в черную бездну. Так и пропал с той поры.
«Это худо, когда человека морок подстерегает», — подумал поп Савва и предложил казакам:
— Ночи темны, глухи, айда сказки да бывальщины рассказывать!
— Дело! — одобрил Ермак.
И ночь сразу посветлела, и короче стала. Под завыванье хлещущей вьюги сколько сказов и бывальщин пересказали! В землянке посредине горит, краснеет камелек, а вокруг него бородатые, лохматые люди тесно сбились, жарко дышат и боятся упустить хотя бы словечко. У иных рты раскрыты, у других глаза блестят, — мысли унеслись далеко от заваленного сугробами пустынного острова. Сказку сошлись послушать все.
Днепровские казаки ходили и в Литву, и к ляхам, и в Венгрию. Донские и в Крыму побывали, и в Туретчине, и в Астрахани. Были и такие, которых в Кафе продали рабами в жаркие страны, и видели они Египет и Нил-реку, другие отстрадали свое в Алжире, горевали и в Персии, в Бухаре, и так крепок дух человеческий, что не сломили его ни рабство, ни унижения, ни голод, ни горе, — нашли силы, хитрость, уловки и сбежали в свою землю. И теперь под треск огонька в камельке рассказывали о пережитом, а сами улыбались минувшему, будто все как в сказке промелькнуло.
Казаки слушали затаив дыхание.
Чего только не видел гулевой народ!
Сказка укоротила зиму. Во второй половине марта, в ясный день ростепели, когда деревья оделись дымкой тумана, на дикий остров наехал строгановский приказчик Петрован. Добрался он до казачьего зимовья не с пустыми руками: за ним обоз пришел со свежим хлебом, с толокном и солью. Дозорные казаки задержали приезжего, пытали:
— Купец?
— Посланец, — деловито ответил Петрован и шевельнул широкими плечами, — драться и я мастак, да не за тем торопился. Мое слово к Ермаку-атаману.
Привели его в обширную землянку. На скамье, опустив голову, в раздумье сидел атаман. В кучерявой бороде мелькали серебряные струйки. По росту под стать Петровану — высок и статен. «Ермак!» — догадался строгановский посланец, откашлялся и низко поклонился батьке:
— Хозяин грамотку велел тебе передать, — Петрован достал свиток и положил перед атаманом.
Ермак повел веселым, пронзительным взглядом.
— Будь гостем, коли так! — показал на скамью атаман. — Садись!
Грузен Петрован, а в дубленой желтой шубе кажется еще грузнее. Сел, огляделся, увидел в углу образ Миколы Мирликийского, — скинул заячью шапку, разгладил бороду.
Петрована накормили рыбной ухой, напоили медами. Он освоился и сказал:
— Сытно живете, за зиму отоспались, как медведи в берлогах, а баб что-то не видно! — приказчик осклабился в приторной улыбке, но сейчас же притих и стал скромен.
Ермак нахмурил брови, ответил строго:
— Тут народ крепкий, отчаянный. Попади сюда женка, перережутся. Мы — воины, у нас — лыцарство. Никого не неволим: захотел миловаться с хозяюшкой, уходи от нас!..
На камском яру, где стаял пухлый снег, сошелся казачий круг. Повольники спорили:
— Неужто к купцам в сторожа пойдем?
— Может, нас продали атаманы?
— Дубина стоеросовая, кому ты нужен?
Солнце пригревало обмякшие талы, горбы землянок. Заголубела даль. Лед на Каме посинел, у закрайков покрылся водой. Теплынь. Казак Ильин потянулся, до хруста в костях, и зачастил каблуками:
Через сад, через сад,
Через зелен виноград
Гуси, лебеди летали,
Чисто серебро роняли…
Ноги сами пошли в пляс:
— Эх, и впрямь скоро-скоро тронется ледок и на Каме! Скоро-скоро полетят гуси-лебеди!.. Веселись, душа!..
В шумную толпу вошел Ермак и зычно крикнул:
— Браты, думу думать, как быть?..
— Читай грамоту, что пишут Строгановы!
Вперед вышел Савва со свертком в руках. Развернул его и стал громко оглашать зазывное письмо.
Писали Строгановы:
— «Имеем крепости и земли, но мало дружины…»
— Нас купить в холопство удумал! — выкрикнул задиристый голос из толпы.
— Казака не похолопишь! — строго перебил Ермак. — Казак — вольная птица. Идет туда, куда сердце зовет!
— Истинно так, батька! — хором согласились повольники. — Читай дале, Савва!
Поп зачитал:
— «С Тобола реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул, дороги на нашу русскую сторону проведывал…»
— И тут басурмане русскому человеку не дают благостно трудиться! Батько, переведаемся с ними силой!
— Коли идти в строгановские городки, то одно и манит, — оберегать рубежи русские, отстоять поселянина от страшного татарского полона! — отозвался Ермак. — Дале чти, Савва!
Поп огласил посулы:
— «Всем по штанам»…
И круг казачий, как «отче наш», громко повторял за попом:
— Всем по штанам…
— Крупа…
— Порох…
— «И вина две бочки по пятьдесят ведер!»
— Гей-гуляй, казаки! — весело заорал Брязга: — Идем во строгановские городки!
— Идем!..
Ермак поднялся на камень, махнул рукой:
— То верно: пить веселие Руси, но не за тем идем в камскую сторонушку. Думу думайте, казаки!
— Все думано-передумано, батько! — выступил вперед казак Ильин. — Куда по внешней воде бежать? В Казани царев воевода Мурашкин поджидает. А для чего поджидает, всем ведомо…
Гулебщики орали, старались перекричать друг друга. И дивно было строгановскому приказчику Петровану: чем только держится эта буйная ватага? Когда повольники в азарте хватались за ножи, приказчик бледнел, незаметно крестился: «Свят, свят, пронеси, господи! Что за вертеп разбойничий».
Но тут опять поднял руку Ермак:
— Будя! Поспорили всласть. Хватит! Слушай мое слово, товариство. Плыть надо в Чусовские городки!
— Плыть, плыть! — в один голос закричали казаки. — Только Кама колыхнется, и мы тронемся!
Петрован невольно залюбовался Ермаком. Стоял атаман среди буянов спокойный, уверенный и грозный. Кремень человек! Поведет бровями, отрежет слово, и вся дружина тянет за ним. «Силен, силен, батько!» — похвалил приказчик и, подойдя к атаману, поклонился:
— Привез я бочку меда стоялого, пусть казачки пьют и радуются!
— Слышал, Матвейко? — крикнул Мещеряку Ермак: — Кати сюда, пусть на радостях погуляет лыцарство. — И, повернувшись в сторону Иванки Кольцо, наказал: — Дозоры на дорогах выставить!
Выкатили на круг бочку с крепким медом, ударили ковш о ковш:
— Братцы, полощи горло!
И пошли ковши вкруговую. Повеселели казаки, взвились песни к весеннему небу.
— Эй, жги-гуляй!..
Во-время уехал Петрован в Чусовские городки. Три дня спустя подули теплые ветры, зацвела верба, налетели грачи ладить гнезда. В лесу, на елани, на солнечном угреве резвились пушистые лисята. Закат был ясный, тихий. И лед на реке еще недавно лежал плотный и толстый, а сегодня разбух, образовались полыньи и в них отражался багряный закат. В полночь раздался грохот, будто из пушек палили. Казаки выбежали из грязных, прокопченых землянок и устремились на берег.
— Тронулась! Пошла, родимая!
Над Камой лежала густая тьма; с гулом рвались льдины, налезали одна на другую, ломались с треском. Ермак стоял на яру, вглядывался в темь и радовался:
— Гуляй, Камушка! В час добрый! За работу, браты!
На берегу запылали костры. Казаки, спасая струги, тащили их на берег. Застучали топоры, запахло кипящей смолой. С песней, с веселым словом ладили струги. Кормщик Пимен покрикивал:
— По-хозяйски конопатить, щедро смоли! По вешней да широкой воде поплывем, детушки!
В четыре дня отгремели льды на Каме, хлынули буйные воды, — начался паводок. Озорной и могучий, он срывал высокие яры, подмывал корневища вековых лесин, и те шумно падали в бешеную кипень, уносило их — бог весть куда. Глядь, и на остров хлынули валы, да опоздали: казаки успели забраться в струги и, лихо ударяя веслами, поплыли наперекор струе…
С полудня ветры принесли тепло, на деревьях и кустах зазеленели набухшие почки. И высоко-высоко в небе, гонимые тоской по родному гнездовью, летели стаи лебедей и на теплую землю роняли волнующие клики: «Клип-анг, клип-анг!».
Следом за ними торопилась весна. Она пришла не крадучись, не таясь, как щедрая хозяйка, полной пригоршней сыпала на Каму, на землю, на глинистые яры горячие золотые лучи… Вчера еще синели сугробы, а сегодня она растопила их, согрела землю, напоила ее досыта дождем, одела леса в зеленые шумные наряды и расцветила луга и долины пахучими травами и цветами.
По камской воде далеко и звонко разносилась древняя казачья песня:
Вниз по матушке, по Волге,
По широкой, славной долгой,
Поднималась мать-погода,
Погодушка не малая,
Не малая, валовая…
Июльский день занялся жар-цветом. Вспыхнули и заиграли церковные луковичные главки на тонких шейках. Чешуйчатые крыши засеребрились на солнце. И сразу перед изумленными казаками на горе встал городок-крепость, обнесенный бревенчатым тыном, окопанный валами и рвом. По углам городка поднимались сторожевые башни, а на них звонко перекликались дозорные:
— Славен Орел-городок!
— Славен Чусовской!
— Славны соли Камские!
Все было так, как в московском Кремле: это любо Строгановым!
Однако за тынами совсем по-деревенски лаяли охрипшие псы и было слышно, как у колодца ругались бабы-водоноски. Над высокими рублеными избами к синему небу тянулись дымки. Ворота в городок были распахнуты настежь. Под кровелькой над воротами висел потемневший образ Николая угодника, а на башне, над въездом, на крытом балкончике расхаживал сторож. Впереди на земляных раскатах стояли две пушки, а подле них лежали горкой каменные ядра. В темных ямках алели раскаленные угли — калили наскоро ядра.
Ермак удовлетворенно охватил взором городок, и сердце его забилось учащенно: на дороге гудела-гомонила толпа, пестрели цветные рубахи, сарафаны, платки, — народ, волнуясь, с ранней зари поджидал казаков. На ярах загорелые, белоголовые ребятишки шустро кричали:
— Сюда! Сюда!
Струги лебединой стаей подошли к берегу. Белыми крыльями на утреннем солнышке трепетали упругие паруса. Ласковый ветер донес лихую казачью песню. Она смолкла, погасла, как огонек, в ту пору, когда головной струг ткнулся резным носом в пристань. Первым на берег выскочил кряжистый, проворный атаман в чешуйчатой кольчуге и в шеломе: он пошел по бережку, поджидая казаков.
— Ермак Тимофеевич! — во весь голос рявкнул внизу, у ворот, Петрован, и дозорный на башне торопливо стал звонить.
В толпе заволновались. На кого только смотреть? Хоругви воинские сверкают, казаки-удальцы, как горох из мешка, со стругов на берег высыпали. Словно цветы, запестрели жупаны: и синие, и алые, и малиновые, и черные. Бердыши, копья, шестоперы, топоры на длинных ратовищах — все колышется, поблескивает, глаз манит. Один к одному пристраиваются повольники в ряды. Что за народ! Что за удаль! Молодец к молодцу, — плечистые, бородатые, у многих лица мечены сабельными ударами.
Атаман терпеливо ждет да весело поглядывает на людей. Жилистая рука лежит на крыже сабли, а оправа ее в серебре да дорогих каменьях.
Построились казаки в боевой порядок. Вперед выбежали потешники и заиграли на свирелях, загудели на рогах, затрубили в трубы, — и пошел дым коромыслом!
Народ из городка, из посадов, от варниц с радостными криками побежал навстречу. Ребята стрижами вились вокруг ватаги. А женки все глаза проглядели, — по душе пришлись повольники. Только одна вековуша Аленушка в синем сарафане стоит ни жива, ни мертва. Добрых полвека ей, а еще красива, как осенняя березынька в поле. И, видно, вспомнилось ей старое-былое. Узнала она в густых черных бровях, в пронзительных глазах да в стремительной ухватке атамана знакомые, давным-давно запавшие в сердце черты. Прошептала:
— Так это он, Васенька… Аленин…
И глаза застлало слезой: стало жалко улетевшей молодости, погасшей радости. Не заметила и не слышала вековуша Аленушка, как атаман подошел вплотную к народу, окрикнул его:
— Здорово, работнички! Много лет здравствовать, хлопотуны!
Подошел Ермак к Аленушке, низко поклонился ей:
— Признаешь ли меня, ватажника, родимая?
— Как не признать близкой кровинушки, нашей камской! — низко опустила голову от смущения и подумала: «Ясным в юности тебя знавала, таким на весь век и остался». Тряхнула головой и поблагодарила атамана:
— Спасибо за то, что вспомнил меня!
Народ шапки скинул, загомонил. Многие догадались, что атаман свой, камский, трудового роду-племени корешок.
— Шествуй, батюшка! Кланяемся тебе, и сам ведаешь почему!
Из ворот навстречу казацкому войску выехало трое — Строгановы. Впереди на вороном жеребце, в малиновом бархатном кафтане выступал с важностью Семен Аникеевич Строганов — длинный и тощий, а за ним на белоснежных игрунах, сдерживаясь, двигались новые хозяева варниц — его племянники Максим и Никита. К этой поре умерли братья Яков и Григорий, которые схлопотали у Грозного земли. Молодые промышленники — рослые детины, оба крепкие, грузные, бороды густые, окладистые. Кафтаны на обоих расшиты позументами.
Только подъехали к войску, — и в ту же минуту ударили две пушки на раскатах. Синий дым взвился, гул пошел по Каме и полям, и многократно в ответ прогрохотало эхо.
Казаки остановились, и навстречу Строгановым пошел сам батько. Старого, одряхлевшего Семена Аникиевича слуги сняли с седла, племянники сами проворно соскочили. И все втроем чинно встретили атамана.
Глухим голосом дядька Строганов спросил:
— Откуда войско и чье оно?
Ермак, не моргнув глазом, ответил:
— Из Казани посланы оборонять тебя, Аникиевич, от татарских грабежников, а веду их я — Ермак Тимофеевич.
Старик огладил бороду, переглянулся с племянниками и спросил:
— С добром ли пожаловал, Ермак Тимофеевич?
— С добром, Аникиевич!
— А коли с добром, милости просим! — и откуда-то протянулись руки, подали хозяину на полотенце хлеб и соль в резной солонке. — Кланяемся вам, достославные казаки, по дедовскому обычаю, хлебом — солью!
Ермак снял шелом и почтительно поцеловал каравай.
— За гостеприимство спасибо! — поклонился он Строгановым.
Вместе с ними атаман тронулся в городок, а вслед, нога в ногу, размахивая свободной рукой в такт движению, шли казаки, — веселые, бравые. И только вступили первые ряды в головные ворота, — на церквушках зазвонили колокола.
На обширном дворе — строгановские хоромы, высокие, двухэтажные, с резными коньками крыш и оконными наличниками. В оконницах в свинцовых переплетах вставлена слюда. Вокруг господского жила десятки пристроек — повалуш, крытых переходов с лестницами, черных и белых горниц, теремков, соединенных многочисленными сенями и чердачками. У тына — амбары, набитые добром: пушниной и солью. И прямо в ряд поставлены смолистого теса избы. Указывая на них, Семен Аникиевич по-хозяйски оповестил:
— Вот и жило для казаков спроворили! Тут и отдых…
Казаки грелись на солнышке, под которым жаром отсвечивали слюдяные оконца. Любо размяться после водной дорожки на тесных стругах, а еще заманчивее на людей поглядеть. Вокруг — людские избы, из распахнутых окон выглядывают любопытные лица; поварни, — от них заманчивым духом дразнит; вон погреба, хлевы, конюшни, птичий двор, на жерди на все городище поет рыжий петухан.
Казак Колесо усмехнулся:
— Поет с хрипотцой, как астраханский пропойца-протодьякон!
Старший Строганов сказал:
— По древнему обычаю прошу, казачки, в храм божий. Иерей Антип молебен отслужит…
Повольники давно от бога отвыкли и вспоминали о нем только при нужде. Но в церковь вошли чинно и стали благолепно. Закатились казаки на край света, а такого дива даже на Волге не видели. Куда ни взгляни, везде виден труд великих искусников-мастеров. Кто проковал такие решетки с нежными тонкими узорами? А в иконостасе легкого и светлого письма глядят живыми одухотворенные лики. Не один год миновал, и немало горя испили строгановские иконописцы, пока довели свое мастерство до совершенства. А вот плоды стараний мастеров-ювелиров, которые отчеканили затейливые, радующие глаз рисунки на церковных чашах и паникадилах. Это их умными руками изготовлены басманные иконные оклады. Везде волнами спускаются златотканные пелены и завесы, — все это работа похолопленных золотошвеек.
Семен Аникиевич, с гордостью поглядывая на атамана, зашептал:
— Вот какие у нас руки — до всего доходят, все могут сотворить; и соль добудем, коей рады в Лондоне, и Ганза просит нашей соли и соболей!
Ермак тихо отозвался:
— То верно, у русского трудяги руки золотые, ум светлый и мастерство его оттого ясное, радует сердце…
Стоявшие позади Максим и Никита Строгановы переглянулись, и первый из них вступился за дядю.
— Без хозяина и двор сирота. Без подсказки и мастер не спроворит! — сказал он на ухо атаману.
Ермак не отозвался, поднял глаза на иконостас и стал слушать иерея, который слабым голосом подпевал клирошанам. Пение стройное, но слабое и заунывное, — не понравилось атаману. Поморщился он, когда священник дребезжащим голосом стал выводить:
— Многие лета…
Поп Савва не смог стерпеть, протянул руку и тронул Ермака за локоть:
— Дозволь, батько?
И, видя по глазам Ермака безмолвное согласие, выпрямился, набрал во всю грудь воздуха и вдруг так рявкнул многолетие, что слюда в оконцах задрожала, а в хрустальных паникадилах зазвенели подвески. Голоса иерея и певчих потонули в мощном, ревущем потоке невиданно богатырского баса.
Семен Аникиевич недоуменно глядел в широченный рот Саввы. А казацкий поп все выше и выше поднимал голос; казалось, бурные морские волны ворвались в храм и затопили все.
Громадный, ликующий, сияя веселыми глазами, Савва поверг Строганова в умиление.
— Вот это трубный глас! Этакий вестник мертвых поднимет! — с восторгом вымолвил он и шепотом предложил Ермаку.
— Продай попа, Атаман! Амбар соли выдам, золотом отплачу. Продай только!
Батько нахмурился и вполголоса ответил учтиво, но строго:
— У меня люди вольные. И поп — не продажный. Он всем им слуга!
— Дозволь мне с ним поговорить?
— В этом отказать не могу! — согласился Ермак.
И когда отстояли молебен, Строганов поманил к себе Савву.
— Голос твой безмерен, — похвалил он попа: — Иди ко мне служить, — и ризы дам из золотой парчи, и сыт будешь, и дом отстрою. И попадью отыщу ядреную, сочную. Наш иерей ветхим стал. Ну, как?
Поп поклонился и ответил:
— Не надо мне ризы из золотой парчи, и терема красного, и попадьи ядреной, не пойду к тебе служить, господин! Ни на что на свете не променяю свое кумпанство, казацкое лыцарство. Куда батько поведет, туда и пойду я, сирый, убогий поп!
Так Савва и отказался от посулов Строганова, отвернулся от него и затерялся в казацких рядах…
Казаков разместили в новых избах, кому не хватило места, приютили среди дворни. Атаманов Строганов пригласил в хоромы. В доме хозяином был Максим Яковлевич. Он уже успел переодеться в бархатный кафтан с собольей отрочкой, который туго обтягивал его рано огрузшее тело. На голове хозяина мурмолка малинового шелка, изукрашенная жемчугом. Разведя руками, Строганов приветливо звал:
— Шагайте, милые, разговор будет большой…
Из сеней отлого поднималась широкая лестница в верхние горницы. Через высокие слюдяные окна вливались золотые солнечные разливы, разноцветными огнями переливались изразцы печей, подвески хрустальных люстр, горки, уставленнные драгоценным фафором и серебром. Иванко Кольцо загляделся на сверкающее богатство. Тут и большие кованные из золота братины и кубки, украшеенные резьбой и чеканкой. Среди цветов повешены клетки с певчими птицами, которые прыгали по тонким жердочкам и напевали. И были среди птиц невиданные, заморские, — пестрые, с крепкими клювами, они бормотали злое. Вдруг одна повернула голову и внятно выкрикнула: «Раз-бой-ник-и!..»
Атаманы суеверно покосились на птицу. Ермак осилил внезапное смущение и, подойдя к клетке, спросил:
— Ты чего орешь, как подьячий? Не гоже так встречать гостей!
— У-м-е-н!.. У-м-е-н! — прокричала птица и захлопала крыльями.
Атаман покраснел от удовольствия, повернулся и зашагал по ковровой дорожке, котороя тянулась из покоя в покой.
И чего только не было в этих просторных светлых горницах! Вдоль стен стояли витые шандалы с огромными восковыми свечами, а меж окон — веницейские зеркала; они отражали многократно и увеличивали роскошь. На полах всюду раскиданы пушистые медвежьи шкуры, в которых неслышно тонули тяжелые шаги казаков. Стены расписаны, а по граням пущены золотые кромки.
Атаманы в своих набегах на Орду видели многое и не щадили богатств; шелка, сукно, кувшины цветные, запястья и ожерелья, шубы парчовые — топтали ногами, с презрением относясь к роскоши. Но здесь, в светлых горницах, они присмирели. Все, что попадалось им на глаза, было сработано похолопленными мастерками: и клетка проволочная попугайская, и медная, серебряная посуда, и ковры из белых медвежьих шкур, и киоты в каждой горнице с многими рядами икон в золотых и серебряных ризах, и даже одежда на хозяевах, и еще — диво-дивное — часы: немецкое дело, а тут крепостной осилил эту замысловатость. Высокий, дерзновенный труд покорил казачьи сердца. Они поглядывали на свои большие крепкие ладони и вздыхали, завидовали чистой завистью неведомым мастерам, что вложили свои таланты в нетленные творения…
На пороге самой светлой горницы Строгановы остановились.
— Тут наша молельня, — глухо сказал Семен Аникиевич. — И мы просим, атаманы, не погнушаться, помолиться с нами перед великим началом…
Казаки охотно вошли в светлицу, передняя стена которой была иконостасом. Светились огоньки цветных лампад, потрескивал ярый воск в свечах. Строгановы стали впереди, перед громадным образом спаса.
— Атамане, Ермак Тимофеевич! — сделав истовое крестное знамение, обратился Семен Аникиевеч. Его тусклые глаза уставились в Ермака. — Помолимся богу, и поклянись за всю дружину, что не будешь зорить наших городков, и станешь отстаивать нас и от сибирцев, и от холопей наших, коли в буйство впадут.
Ермак потупился, промолчал. Безмолвие казалось Строгановым тягостным, и Максим дерзко сказал:
— Вы что ж молчите, аль бога стеряли? Аль души ваши нечисты?
Атаман сердито ответил:
— Не ты ли грехи наши отпустишь? — он прошел вперед, перекрестился и сурово продолжал: — Клятву даю за дружину оберегать Русь и городки ваши; дело вы великое творите: соль, как и хлеб, потребны всему свету. За рубежи русские стоять будем, а холопей мирить с вами — не казачье дело!
Семен Аникиевич блеснул сердитыми глазами:
— Ты хоть слово дай, что мутить их вольной жизнью не будешь!
— Вольному — воля! О том с дружиной поговорю, хозяин. Уж коли на разговор пошло, уряду сделаем — мы не наемники, а дружинники русские, за правду стоять будем до смертного часа, а за кривду и руки не приложим!
— Спасибо и на том! — со злой улыбкой поклонился Строганов. За ним поклонились атаманам и племянники.
— А теперь милости просим за стол, — пригласил дядя.
И опять проходили новыми светлыми горницами, пока не добрались до столовой палаты. Дубовая столешница ломилась от серебряной посуды. Посредине в серебряной чаше дымилась стерляжья уха, а по краям стола расставлены чары золотые, расписные скляницы, хрупкие и легкие. Один Никита Пан осмелился взять в руки такую ненадежную посудину и налить в нее меда.
— За хозяев! — поднял чару Пан и разом выпил. Обсосал сивый ус и похвалил: — Добрая мальвазия. Такое только в Венгрии пивал!
Аника Строганов изумленно глядел на атамана:
— Каким ветром тебя туда занесло?
— Ветры всякие были… Хлопов паны забижали…
Слуги в белых рубахах подавали блюдо за блюдом: осетрину, студни, окорока — медвежий и олений, приправленные чесноком и малосольными рыжиками. Были тут и подовые пироги с визигою, стерляди копченые, и яблоки румяные.
Чашники проворно наливали брагу, наливки, настойки, фряжские вина, привезенные приказчиками с Белого моря.
Хозяева слегка захмелели, а казачьи головы крепкие, стойкие. Максим разрумянился, взглянул на притихшего дядю и закричал:
— Чем мы не бояре… Мы повыше бояр у царя! Пусть, как мне желается… Эй, други!
Тут распахнулась резная дверь и павой вплыла красавица. Нарядна, пышна и лицо открыто. Тонкого шелка рукава до земли, а на голове кокошник, унизанный жемчугом. В ушах — серьги самоцветные. Ступила маленькими ножками, щеки зарделись, глаза опущенны от смущения, а в руках — поднос…
— Батько! — прошептал Иванко Коольцо. — Век не видывал такой. Сейчас из уст ее выпью радость и умру…
Ермак ухмыльнулся в бороду:
— Этак в жизни ты, Иванушко, много разов умирал…
— Маринушка-женушка! — крикнул охмелевший Максим, — аль ты не боярышня? Порадуй гостей…
Красавица степенно поклонилась атаманам, и лицо ее под слоем белил ярче вспыхнуло. Она подошла к Ермаку и ласково попросила:
— Испей кубок, батюшка!
Атаман встал, поклонился и выпил чашу меда. Обтер губы и трижды поцеловался с молодой хозяйкой. После того она двинулась к Пану. Польщенный вниманием, учтивый днепровский казак схватил чару и пал перед Строгановой на одно колено:
— Виват! Пью за невиданную красу у сего камского Лукоморья! — он выпил и поцеловал только руку у красавицы.
Максим хотел крикнуть: «Так не положено на Руси!», но под пристальным взглядом жены смутился и затих. Красавице по душе пришлась учтивость Пана.
«Ай да Никитушка!» — похвалил его мысленно Ермак.
Медведем ткулся в щеку раскрасневшейся Маринушке Матвей Мещеряк. Она отвернулась и поморщилась от его поцелуя.
Последним выпал черед Иванке Кольцо. «Эх! — горестно взъерошил он кудрявый чуб. — Всю исцеловали, а мне остатним быть!» Однако не отказался, засиял, беря чару с крепким медом, медленно пил его и все глядел и не мог наглядеться в синие очи хозяйки. Она подставила как жар-цвет пылающую щеку, но казак клещем впился в губы. И столь долог и горяч был поцелуй, что Семен Аникиевич закашлялся, заперхался от недовольства, а племянничек Максим вскочил весь красный и большой братиной опол брякнул. Кольцо, покручивая усы, нехотя отошел.
— Эх, браты, будто с неба свалился я в застолицу! — разочарованно сказал он, садясь в круг.
А Максим на один миг перехватил взгляд Маринки, который горел, как яркая свечечка, и теплом провожал казака…
Дядя Семен Аникиевич во хмелю безудержно хвастал:
— Мы не бояре, а князья издревле. Род наш высок и возвышен был всегда. Прапрадед наш — татарский князь Спиридон — два ста лет назад перешел из Золотой Орды к Дмитрию Ивановичу Донскому — большого мужества и ума князю. И тут хан за это обиделся до самой печени и Орду поднял на Русь. Грозил: «Все смету и пометаю в огонь за то, что наилучшего сманили!». Дмитрий Иванович пожелал испытать верность Спиридона и послал его с войском против своих. Хан яростно набросился на войско наше, потеснил его, а праотец наш угодил в полон. Привезли его в Сарай и ножами сострогали мясо с костей…
Глаза старика вспыхнули, он вспылил:
— Верьте, не верьте, — истин бог, с той поры и повелись на Руси Строгановы! Кровинушка наша — княжья…
Племянники сидели и равнодушно слушали россказни старика. Максим незаметно толкнул плечом Ермака, прошептал:
— Сейчас про Луку Строганова похвалится!
Верно, старик горестно подперся высохшей рукой и, как заученное поведал:
— Нечестивые казанцы изменой пленили князя Василия Васильевича Темного. Смута пошла по русской земле, и Москва скорбна стала, яко вдовица. Погибал слепец-князь. Но тут опять-таки Строгановы послугу царству оказали. Лука Строганов выкупил князя из татарского полона. А кто таков Лука? Внук Спиридона и дед моего родителя Аники. Зри, казаки, кто таков я, Семен Аникиевич, разумей, чей корень! — он перстом ткнул себя в грудь. — Вот каков я! — Но тут последние силы оставили старца, хмель взял свое, — Строганов склонился на стол и сейчас же засопел.
— Уснул, — умаялся дедун! — улыбнулся Максим. — То верно, что головы у Строгановых ясные и видят они далеко. И сошлись мы теперь, казачки, на одной дорожке, одним узелком связали нас: хочешь не хочешь, а против Кучумки дерзай!
— Казаки — народ дерзкий, неуступчивый. Татары и ногайцы, да турки издавна им знакомы! — сдержанно сказал Ермак: — Не раз схватывались в бою. Правда тут не Дон и не Волга — теплая водица, да зато сердце казачье горячее, лихое…
— Браты, выпьем за это! — выкрикнул Иванко. — Дон перед Камой не посрамится!..
Никита Строганов пододвинулся ближе, сказал:
— Сибирский хан платил ясак Москве, а ноне побил царских послов и от дани отказался. Ходит войной на Юргу, а те извечно данники Руси. Царевич Маметкул, яко волк голодный, рыщет по нашим вотчинам, а мы слуги царевы…
Максим, как эхо повторил:
— Мы — слуги царевы, и надумали мы позвать вас уряд написать… Вот и писчик наш! — указал он на тощего подьячего с оловянной чернильницей у пояса. Тот жался у порога и ждал, когда хозяева позовут.
— О чем будет уряд? — по-хозяйски спросил Ермак, и его быстрые глаза уставились в хозяев.
— Мы вам дадим одежду всякую, сукна и холста, деньги и припасы, а вы правдой служите! — выговорил Максим тихо, льстиво, оглаживая рыжеватую бороду.
А братец Никита продолжал:
— А коли тесно воле казацкой станет у нас, сбегаете за Камень, зипунов добудете у сибирского хана. И в том мы помога, — наделим и пушками, и пищалями, и свинцом, и зельем, и другие ратные запасы дадим из амбаров. Царь прекословить не будет, земли там наши лежат, только сил нет…
— Что ж, — отозвался Ермак, — на то казак родился, чтоб русской земле пригодился. О поиске в сибирскую сторонушку поразмыслю, а теперь погоди уряду писать! — кивнул он на подьячего, выхватившего из-за уха гусиное перо. — Не торопись, дьяче, пока казак скаче!..
За окном сумерничало. На дворе слышалась казачья песня — гуляла дружина. И слышался вкрадчивый голосок стряпчего: — Вы, повольники, не шумите сильно, женок не трогайте! Грех может выйти…
И вслед за этим раздался бас Саввы:
— Ты, Мулдышка-писчик, закрой пасть. Бить будем!
В покои неслышно вошел слуга и стал зажигать свечи. Ермак поднялся и поклонился хозяевам:
— За хлеб-соль благодарствуем…
Один за другим атаманы тихо покинули хоромы.
Казаки разместились в Чусовском городке, но конные ватажки их стерегли переправы, дороги к строгановским варницам, следили за передвижением вогуличей и остяков. Вотчины камских властелинов — необозримый край, в котором даровыми дорогами катались многоводые быстрые реки, по берегам рек — нетронутые леса, кишевшие всяким зверьем: по глухоманям бродили сохатые, ревели медведи, а в темные ночи к редкому человеческому жилью набегали волчьи стаи и всю ночь выли. На востоке, в сизом тумане, виднелись увалы, покрытые щетиной ельников, а дальше громоздились скалистые горы — Каменный Пояс.
В этом необозримом и по виду пустынном краю, — по лесам, по взгорьям, по болотинам и берегам пустынных рек, — шла напряженная трудовая жизнь. Ермак внимательно присматривался к ней. Посельники от темна до темна валили дремучие леса, корчевали и жгли смолистые вековые пни, освобождая землю под пашню. Углежоги неутомимо старались на хозяина, доставляя уголь. По горным и лесным тропкам казаки нередко встречали женок и подростков с коробками угля на загорбках; изнемогая от тяжелой ноши несли они ее к пристаням. В горах рудокопщики добывали руду. В шахтах, в могильном мраке, в сырости и холоде, от которых всегда знобило, раздавались упорные удары кайла о руду. В дудке со скрипом вертелось деревянное колесо, поднимая из шахты в ненадежных клетушках ржавую породу. В посадах, вокруг городка-крепости, ютились ремесленники, неустанно работавшие на господина. Гончары выделывали и обжигали горшки, в кузницах кузнецы из своего железа ковали лемехи для сох, всякое поделье, необходимое для солеварен, — разные долота, крючья, пластины для цыреней, на пристанях готовили к сплаву лес — смолистые бревна, дрова. Бабы на лошадях, а то и сами, впрягаясь в лямки, подтаскивали дрова к варницам. И, куда ни взгляни, везде до полного изнурения трудились на господина люди. Издалека по ночам блистали огнями варницы. Ради варниц все суетилось вокруг: звучал топор, жужжали пилы, выкачивали из глубоких колодцев-скважин соленую воду, наполняли ею корыта, а потом выпаривали из нее соль.
Хлеба не было, но соли вволю: она хрустела на зубах, одежда от нее стояла коробом, тело изъязвлялось и раны не заживали годами.
Но не одной солью промышляли Строгановы: они нагло обирали малые народы, жившие в горных лесах и за Камнем. Строгановские приказчики, нагрузив короба дешевой хозяйственной мелочишкой, везли ее на обмен. Лежалый, сгноенный хлеб, одежная рвань, топоры, пилы, шила, огниво, пряди неводные — все шло за дорогие меха, мороженую рыбу, битую птицу, за самоцветы. Простой чугунный котел отдавался за столько соболей, сколько в нем помещалось плотно ужатых шкурок. Слабосильным вогуличам и зырянам Строгановы давали в долг, а после заставляли их отрабатывать на своих промыслах. А те, кто прятался от долгов в лесах, попадали в горькую беду. Строгановы напускали на них злых людей, давая жестокий наказ: «Убей некрещеного или выкинь из юрты, а жену и детей забери себе рабами, пусть трудятся на тебя, а ты заодно с ними — на хозяина!»
Ермак все это видел, и сердце его наполнялось гневом. Но что поделать? Он искал и не находил выхода. На Волге все казалось проще, а здесь, в Соли Камской, он жил бок о бок с теми, кто создавал ценности и кормил всю Русь.
Атаман поместился в светелке, примыкавшей к тыну. С первыми проблесками зари на дозорной башне раздавался звон. Унылый, тягучий, он поднимал всех на работу: горшечники садились к своему кружалу, кузнецы брались за молот, и перезвон железа встречал солнечный восход. Рудокопщики спускались в забои. Только солевары не отрывались от цыреней, пока вываривали соль…
Весь день в городке шумели, разносилась разноголосая речь. И каждый час на дозорной башне страж старик Богдашка бессменно отбивал время.
— И когда ты спишь, старина, если и днем и ночью бьешь в колокол? — с жалостью посмотрел на него Ермак.
Эх, милый, время для сна много! Отсыпаюсь в междучасье, — уныло ответил Богдашка. — Мне-то что, а вон трубочный мастер, розмысл Юрка Курепа, когда отдыхает, — бог весть!
В башенной светелке далеко за полночь светился огонек. Ермак просыпался среди ночи и часто думал: «Что ж делает этот человек, и почему ему дня мало?»
— Так это и есть Юрий Курепа! — обрадовался атаман, и его потянуло поговорить с прославленным розмыслом. Атаман по шатким ступенькам поднялся к башенной светелке и тихо приоткрыл дверь. Трубочный мастер сидел в сером кафтане, волосы прижаты ремешком, чтобы не мешали ему разглядывать чертежи. При скрипе двери он повернулся к гостю, на бледном лице его вспыхнула добрая улыбка.
— Батюшки, кого занесло! — радостно воскликнул он. — А может ты не туда попал?
Ермак скинул шапку и поклонился:
— К тебе шел… Давно собирался, хочется познать о соляных местах. Дозволь сесть.
Розмысл придвинул скамью. Атаман уселся и внимательно оглядел светлицу. Голые бревенчатые стены, тесовый стол под окном, на нем свитки, краски, чернильница и пук очищенных гусиных перьев.
— Скудно живешь, милок, — шумно вздохнул Ермак. — А дела большие вершишь.
— По силе и разумению стараюсь, а живу не густо. Да с чего добро жить? — с грустью в голосе обронил розмысл. — Мастерство наше такое…
Атаман строго посмотрел на Курепу:
— Напрасно хаешь. Солевары всю Русь солью кормят, а без розмысла и солевару нечего делать. Я дивлюсь, милый, как ты угадываешь рассольные места? Любо знать это…
— Ты что ж, трубочным мастером удумал быть? — взволнованно спросил розмысл.
— Куда мне! — отмахнулся Ермак: — Умом не вышел. Однако с юных лет обуреваем познать все! — атаман придвинулся к розмыслу и продолжал с жаром: — У дьячка работал, и тот грамоте обучал. И думал я, — дивно устроен мир. Вот гляжу за полетом лебедушек и мыслю: человеку бы так летать! — в глазах Ермака сверкнул огонек.
Мастер Курепа посветлел, схватил гостя за руку.
— И я такое мыслю, атаман, — признался он. — Не токмо во сне летаю, но думки обуревают: «Пошто человеку не летать, разум великий ему дан?» От господ дознался, что на Москве холоп дерзнул уподобиться птице, да был кнутьями бит.
— Эх, худо подневольному человеку! — вздохнул Ермак, а Курепа поддакнул:
— Еще хуже, когда не токмо человека, а разум его куют в кандалы! Прости, угостить-то тебя нечем, — смущенно засуетился розмысл и полез в кладовушку. Вернулся опечаленный. — Живу на квасе да на сухарях. Ни женки, ни ребят, да и с чего я кормить стал бы. Что и перепадает, — на пергамент и бумажные витки перевожу. Люблю свое дело! Много хожено, поискано рассольных мест. О том хочу поведать потомкам, как мы соль-минерал весьма потребный человеку, искали.
— И мне любопытно это послушать! Ежели можно, расскажи, а я послушаю, — сердечно попросил Ермак.
— Изволь, — охотно согласился мастер. — Вижу, ты не пустознай… Наши Строгановы спят и видят, поболе бы им соли. Вот и хожу по Прикамью и дознаюсь о местах, где можно заложить соляные трубы и брать через них рассол. Замечено мною, что места сии покрыты мелким ельником, а то березняком, и чаще всего на болотинах и низких местах.
— Да таких мест — гибель кругом, так неужто под каждым соль хранится? — улыбнулся Ермак.
— Место низкое и ельник — еще не все, то первый знак для мастера, — пояснил Курепа. — А второй, — на зорьке за стадом вместе с пастушком походишь и примечаешь, как скот себя покажет. Любит коровушка и овца полизать соленую земельку. А в местах диких почаще взглядывай на следы зверя. Истопчут все, если земелька понравится, вылижут. Берешь в таких местах глину, и на костер. Если соль в ней таится, будет трещать на огнище и к тому ж крепко к языку прилипает. То верный знак, — место, выходит, тут соляное. Вот оно как! И мало ли примет набралось у русского розмысла: ключи, бьющие из земли, — приглядись к ним, попробуй на вкус. Иные покрыты ржавчиной; выпариваясь летом от жаркого солнышка, оставляют серебристый налет или след инея легкого по бережку протока. А то по засольному духу слышишь, где таится соль, особо по утрам да на вечерней зорьке: стоишь и видишь, как потянуло сырым туманом, и дух тяжелый. Тут и соль!.. — он говорил с увлечением, не спуская глаз с Ермака, боясь, что тот поднимется со скамьи и уйдет.
Но атаман сидел, словно зачарованный.
— Видать, любо тебе мастерство это? — спросил он.
— А что может быть лучше и светлее моего мастерства? — с убежденностью сказал Курепа. — Пахарь да солевар самые потребные люди на Руси!
«Милый ты мой! Самый первый человек на Руси, а перебиваешься на хлебе да на сухарях!» — с горечью подумал о мастере Ермак.
Курепа между тем продолжал:
— Найти место соляное трудно, а гораздо мудренее добыть рассол из земных недр. Тут надо опустить в твердь варничные трубы. Приходи и взгляни, как трудимся мы… Днем стараемся с трубами, только ноченька и остается для размышлений… Вот свитки! — он развернул бумажный столбец, и Ермак увидел раскрашенные места — мелкие ельники, роднички бегущие. Все, о чем рассказал мастер. И под рисунками вязью шли строки, написанные усердной рукой…
Атаман долго держал свиток и, чуть шевеля губами, читал о том, как работают ярыжки-подсобники с мастером над посадкой труб в землю.
— Дивно! — с жалостью расставаясь со свитком, вымолвил Ермак. Затем поклонился розмыслу: — Спасибо за беседу, пора идти…
Атаман ушел, а Курепа долго взволнованно расхаживал по светлице, и снова его мыслями владела соль…
Ермак еще не раз бывал у розмысла Юрки Курепы и подолгу у него засиживался. После беседы с мастерком на душе атамана становилось светло и легко. Перед его мысленным взором постепенно открывался иной мир, о котором он мало думал до сих пор. По-иному взглянул атаман на окружающее.
В черных варницах, в которых в белесом едком дыму так тяжело дышалось, где от жары и соляного рассола трескались губы, язвами покрывались руки и лицо, творилось большое народное дело. Напрасно казаки свысока смотрели на варничных холопов. У них — у работных людей — следовало поучиться терпению и умельству. Об этом Ермак сказал Иванке Кольцо. Тот удивленно пожал плечами:
— Соль! Эка важность! Да она до смертушки надоела тут всем. Суди, батько, сам: идешь — и хрустит под ногами, дыхнешь — и пар захватишь соляной, на зубах и то скрипит. А ну ее к богу, атаман! — Иванко выразительно поглядел на Ермака: — Уйдем отсюда, батько!
— А куда уйдем? — хмуро отозвался атаман.
— В Сибирь, на Кучумку двинем! — бесшабашно сказал Кольцо.
— Погоди, Иванушко, рано засобирался. Надо проведать пути-дороги в Сибирь. Пусть донцы да и россейские бегуны приглядятся к земле и горам каменным, привыкнут, тогда и тронемся, — подумав, сказал Ермак. — А сейчас терпи, казак!
Они сидели над рекой, с высокого яра до самого окоема виднелись бесконечные пармы, увалы и тоненькие синие ленты речек. За спиной серели высокие заплоты городка. Над просторами стояли тишина, покой. Только в зеленых лугах поблескивали на солнце косы: строгановские мужики косили пахучую траву. Сочная, буйная, она душистой волной ложилась у их ног. Низко над землей носились стрижи. Все было мирно, благостно, и так весело сиделось под жарким солнышком. Казаки разомлели и лениво раскинулись на песке. Легкий сон стал смежать глаза, и вдруг раздался громкий пронзительный крик. Крик повторился. Ермак и Иванко вскочили.
— Никак бьют казаки холопов за провинность? Айда, батько, взглянем на потеху! — весело ощерив зубы, предложил Кольцо.
Атаман помрачнел и сказал сурово:
— Что за потеха? Стыдись! — он оправил кафтан, надел шапку и спорким шагом зоторопился к городищу. За ним еле поспевал Иванко. Бежать далеко не пришлось: крики раздавались под деревянными сводами воротной башни.
— Родимые, не терзайте! — кричал старческий голос. — Порешите сразу… Ух, мучители! — Раздался протяжный стон.
— Да кто же это? — Ермак вбежал в раскрытые ворота городища и остановился взволнованный и пораженный. На земле лежал воротный сторож Пашко и кат беспощадно избивал его крученой плетью. Тощее дряблое тело вздрагивало. Рядом, в бархатных штанах и в кафтане нараспашку, стоял сытый и довольный Максим Строганов и горячил палача:
— Подбавь хлеще!
Ременная плеть щелкнула в воздухе, — кат страшным ударом стегнул сторожа. Тот охнул и замер. Хозяин в досаде сплюнул и подошел к избиваемому, крепко ткнул его в бок тяжелым сапогом.
— Никак подох, не сдюжил? — удивленно вымолвил Строганов.
Ермак налился кровью.
— Что вы тут робите? За что казнили доброго человека? — он бросился к телу и потряс за плечи: — Пашко, жив ли?
Остекленевшие глаза старика безразлично глянули на атамана. Ермак скинул шапку, потупился.
— Гляди, Иванко, в какой цене тут ходит человек! — горько сказал он Кольцо.
— Шибко дешев! — злыми глазами казак уставился в Строганова. — За что сказнили деда?
— Эва! — ухмыльнулся в бороду Максим. — О чем спрашивает! Старый, дряхлый, задарма хлеб стал жрать, три раза проспал колотить в звон.
— А может хворый? — заспорил Кольцо.
Строганов заносчиво сказал атаманам:
— Кто вы такие? Хозяин тут-ка я, и что хочу, то и роблю. Моего хлеба вам не жалко… Убери отсюда! — показал он глазами кату на тело. Уходя, надменно бросил:
— Гляди, казаки, не вмешивайтесь в мои дела. Ваши послуги потребны для обереженья рубежа, а тут глядеть вам нечего!
Важный, осанистый, он грузно поднялся на крылечко своих хором, глянул на восток и истово перекрестился:
— Упокой, господи, душу раба нерадивого Пашко…
Ермак сильным взмахом локтя оттолкнул ката:
— Уйди, не оскверняй тела…
— Ну, ты! — ощерился кат и крепче сжал плеть.
Казаки схватились за мечи. Иванко крикнул атаману:
— Дозволь, батько, я ему враз дурную голову сниму!
Видя, что и впрямь казаки снесут башку, палач попятился и скрылся в темном проеме башни.
Ермак сказал Кольцо:
— Ну, Иванушко, снесем Пашко в его светлицу!
Они притащили убитого в полутемный чулан и положили на узкие нары, на которых лежала связка соломы. По углам свисала пыльная паутина и сквозь нее в одном углу виднелся почерневший образ Николая чудотворца. Ермак огляделся и сокрушенно вымолвил:
— Вот и все богатство сторожа. И хоронить не в чем убогого!..
Казаки отнесли старика на погост, и казацкий поп Савва отпел панихиду по убиенному. Было тяжко и печально на душе Ермака.
«Мать-отчизна, — думал он — тебя ли не любит простолюдин русский: и холоп, и смерд, и казак! Почему ж ты для него стала мачехой?» — думал и не мог найти ответа на свой вопрос.
Вечером Ермак поднялся в светлицу розмысла. Юрка Курепа с поникшей головой встретил атамана.
— Полвека человек простоял на дозоре, охраняя наш труд, а ныне сплоховал, и вот… — Юрка не договорил, тонкие губы его задрожали.
— Мы ждем из-за Камня грабежников, которые зорят и пахаря и посадского человека, а грабежники тут, в городище — господа наши! — хрипло выговорил атаман. — Ихх, было бы то на Волге, показал бы я боярину!.. — он сжал кулаки, но сейчас же грустно опустил голову. — Ноне стреножили нас.
Юрко положил тонкую руку на плечо Ермака:
— Не кручинься, добрая душа. Привыкай! — сказал он мягко. — Плетью обуха не перешибешь. Одно и я не пойму: пошто мучат нас без нужды? Зажирели, стало быть, господа и потехи ради своих холопов убивают…
Розмысл прислушался: на вышке раздавались гулкие, размеренные шаги.
— Нового дозорного поставили: служи верой и правдой. А награда… Ох, горько, милый…
Противоречивые думы раздирали Ермака. Уйти бы от Строгановых… но куда? На Волге войска воеводы Мурашкина. На Дону тоже не сладко… А остаться, — ненавистны владыки края…
Юрко прошелся по светлице, в углу присел и, подняв доску, добыл что-то из-под пола.
— Ты не думай, что люди о том не узнают, — сказал он Ермаку, держа в руках свиток. — Все узнают. Капля по капле я сливаю все обиды в сосуд. Хочешь, я зачитаю тебе, сколько бед натворили господа. Слушай! — розмысл развернул свиток и стал негромко читать: — «Людям ево крепостным и крестьянам ево чинятца многие напрасные смерти в темнице, сидячи в колоде в железах тяжких, седят года по три и четыре, и больше, и умирают от великого кроволитья от кнутьяных побоев без отцов духовных, морят дымом и голодом. Уморен Семенка Шадр, Ждан Оловешников да Офанасий Жешуков в колоде и в железах дымом уморен… а положены на старом городище, погребал их Андрей поп, а ныне тот поп Андрей живет в вотчине на Каме на Слудке служит у храму, да в вотчине их на Усолье уморен в колоде и в железах человек их Ярило без отца духовного»…
Ермак сидел неподвижно и слушал. Слова Юрко жгли его сердце. «Вот что творится тут!» — гневно думал он.
Меж тем розмысл свернул свиток и пообещал:
— Ноне к сему списку причислю воротного сторожа Пашко.
— Что нам, казакам, после этого робить? — в раздумье проговорил Ермак.
Курепа с великим сочувствием поглядел на атамана:
— Я тож много мыслил о судьбе человеческой, и так порешил для себя. Лежу в ночи и спрашиваю себя: «На кого хлопочешь, Юрко?». И споначалу отвечал: «Известно на кого, на господ Строгановых!». Но совесть потом подсказала мне: «Врешь, Юрко, на Русь, для народа стараешься ты! А Строгановы тут только присосались к нашему делу!».
— Что ж, верно ты удумал, — нетвердо согласился Ермак. — Первая забота наша о Руси, и что на пользу отчизне, то и роби!
— Трудно нам, батюшка, ох как трудно под Строгановыми ходить! — со страстью вымолвил Курепа. — Но сейчас бессильны холопы сробить что-либо. Одна утеха — в мастерстве. Всю душу и сердце в него вкладываю. Знаю, вспомнят о нас внуки. Мастерство ведь живет долго, ой как долго! Возьмешь, скажем, ожерелье или саблю добрую и увидишь, какое диво сотворил мастерко. И спросишь самого себя: «Да кто ж творец был такого чуда?». Труд прилежный никогда не пропадает понапрасну.
Ермак покачал головой:
— Хорошо сказал ты, старый, да не все ладно в твоих словах. Ежели так думать, то, выходит, и от Строгановых польза. Нет, милый, тут что-то не так. Миловать их нельзя!
— Нельзя! — подтвердил, блеснув глазами, Юрко. — Коли такая речь пошла, об одном хочу спросить, да боюсь…
— Не бойся, говори, что на сердце! — ответил Ермак.
— Дай мне клятву нерушимую, что рука твоя никогда не поднимется на трудяг!
— Клянусь своей воинской честью, — торжественно сказал Ермак и, встав со скамьи, перекрестился перед образом, — убей меня громом, ежели я выну меч против холопа и ремесленника!
— Гляди, атаман, блюди свое слово! — Розмысл подошел к Ермаку, обнял и трижды поцеловался с ним.
За слюдяным окошком погасла вечерняя зорька. В колокол отбили десять ударов. Ермак прислушался к ночной тишине и засобирался на отдых.
Но и на отдыхе, в постели, не приходил к нему покой. Обуревали тяжкие думы. Ворочаясь, атаман вспоминал смерть Пашко, и сердце его вновь и вновь наполнялось гневом и неприязнью к Строгановым…
2
В Орел-городок, в котором остановился для отдыха Ермак с дружиной, внезапно на взмыленном коне примчался вершник с Усольских варниц, писчик Андрейко. Он проворно соскочил у резного крыльца высоких строгановских хором, помялся, смахнул шапку, но взойти на ступеньки долго не решался. Обойдя вокруг терем, писчик легонько постучал кольцом в калитку. На стук выбежала краснощекая стряпуха с подоткнутым подолом и закатанными рукавами. От бабы хорошо пахло квашеным тестом, тмином и домашниной. Она удивленно уставилась на косолапого парня в затасканном стеганом тигилее.
— Ты что, Андрейко, не в пору прискакал?
— Бяда! — огорченно выпалил гонец. — Ух и гнал, будто серые наседали по следу!
— Об этом только хозяину будет ведомо! — с суровой деловитостью сказал Андрейко и попросил: — Пойди-ко живо и скажи Семену Аникиевичу, прискакал-де Мулдышка с варниц… Ну-ну, живей!..
— Живей, воробей! — передразнила баба, опалив озорными горячими глазами парня: — Иду, иду… — Она ушла. Писчик Мулдышка огладил волосы, нетерпеливо поглядывая на оконца. Стряпуха долго не показывалась. С Камы налетел ветер, прошумел в деревьях. Становилось студено и скучно. Андрейко стал считать галок, которые с криком носились над крестами церковки. Наконец стряпуха позвала:
— Иди, ирод!
Семен Аникиевич сидел в большой горнице, в широких окнах которой поблескивало редкостное веницейское стекло. Большие шандалы с вправленными толстыми восковыми свечами блестели серебром. По тесовому полу разостланы мягкие пестрые бухарские ковры, а при дверях на дыбки поднялся матерый боровой медведь.
— Ужасти! — со страхом покосился на чучело Андрейко и стал класть земные поклоны, сначала перед иконостасом, перед которым мерцали два ряда цветных лампад, а потом и перед хозяином.
Высокий, седобородый, с серыми мешками под глазами, Семен Строганов выжидающе и недовольно уставился в холопа:
— Чего в неурочный час припер?
— Батюшка, бяда на варницах! — завопил Мулдышка и с трепетом воззрился на Строганова.
— Ну, какая там еще беда? — хриплым голосом хмуро спросил Строганов. — Неужто опять вогулишки зашебаршили? Так мы их разом ныне угомоним! — Семен Аникиевич сжал костлявый кулак и стукнул им по коленке. — Казачишек нашлю. Хваты!
— Нет, батюшка, не вогулишки зашебаршили. Худшее свершилось: холопы сомутились и побросали работенку. Теперь на руднике и на варницах раззор!
— Да чего ты мелешь? — взбешенно вскричал Строганов. — Может ли то быть? — он вскочил и заходил по горнице.
— Истин бог и святая троица! — истово перекрестился Андрейко. — Сам еле убег. Потоп и огонь пустили!
Строганов побагровел, сжал зубы.
— Я им, псам покажу… В рогатках сгною! — вдруг рявкнул он так, что стекла в оконницах задребезжали. Мулдышка испуганно отступил к порогу.
— Кто сей возмутитель? — грозно спросил хозяин.
— Ерошка Рваный, он первый и почал. А народу что? Смерды — что сухая соломка в омете, только искру брось, — живется-то горько! — сорвалось с языка Андрейки, и он сразу запнулся.
— Вон! — заорал Никита. — Аль я им не благодетель?.. У, шишиги…
Не чуя под собой ног, Мулдышка быстро выкатился во двор, а вслед за ним покатилось громогласное:
— Ерм-а-ка ко мн-е-е!..
«Спаси и помилуй, господи! — со страхом подумал холоп. — Плетей, плетей теперь отпустят холопам досыта! Перекалечат народа!..»
Андрейка отвел коня на конюшню, а сам убрался в людскую. Рыжая стряпуха для прилику поворчала на писчика, а все же налила полную миску горячих щей, острым ножом отмахнула полкаравая и положила перед ним:
— Ешь, непутевый!
Мулдышка все жадно умял, напился шипучего кваса, ударившего в нос, и забрался на печь. Было сытно, тепло. Внизу гремела ухватами и горшками стряпуха. Казалось, все шло по-обычному, однако на душе не унималась тревога. В который раз Андрейко удовлетворенно думал: «Хвала богу, унес я таки ноги! Приказчика тю-тю, прихлопали!»
Несомненно, не пощадили бы и Мулдышку — послуха приказчика, да юркий писчик не ждал, вскочил на коня да скорей сюда, в Орел-городок!
И в который раз перед очами Андрейки опять встала страшная картина бунта работных.
«И с чего только начался он?» — с ужасом думал писчик.
Причина возмущения работных людей была самая простая и ясная. От непереносимых бед и тяжелой жизни поднялись рудокопщики и солевары против господина.
Глубок и глух Вишерский рудник. Вода так и хлещет в забоях. Нет тяжелее и безотраднее работы, как рудничная. Под землей и давит часто, и топит работяг. А кроме всего, не жизнь, а сплошная маята: рваны, босы, голодны, и непрестанные издевки. Строгановский приказчик, рыжий наглый Свирид — хапуга, каких свет не видывал. Голодом народ морит, а руду на гора давай! Умри, а добудь!
Работали рудобои, не разгибая спины, по многу часов, жили в старой сырой землянке, где ни согреться, ни просушить мокрую одеженку. Народ надрывался, десны кровоточили, зубы шатались: каждый день мужиков на погост таскали. В куль рогожный да в яму! Не каждому пологалась домовина в строгановской вотчине.
Частенько в рудник наезжал сам Свирид, молча расхаживал по рудничному двору и присматривался к работе горщиков.
— Богатимо живете, хлопотуны! — язвительно кричал он на весь рудник: — Гляди-ко, совсем мало толченой коры в хлебушке. Зажирели, лентяи!
В последний приезд на рудник приказчик Свирид позвал артельного кормщика и наказал ему заправлять кашу сусличным маслом.
Попробовали горщики, и сразу ложки на стол:
— Жри сам, толстое пузо! Мы — не псы…
Всем скопом рудокопщики разом поднялись со скамей и вышли из-под навеса, под которым размещались слаженные из теса непокрытые столы. Горщик Елистрат Редькин крикнул работным людям:
— Братцы, доколе терпеть будем каторгу? Пойдем к Свириду да усовестим его по-божески!
Погомонили, поспорили, выбрали самых толковых, в том числе и Редькина, и направили для беседы к приказчику. Пришли на обширный двор, обнесенный крепким тыном. И только выступили вперед, за ними сторож, диковатый татарин Бакмилей, — раз, и мигом ворота на запор!
— Ты что робишь? — с тяжелым предчувствием спросил у него Елистрат.
— Ни что… Хозяин так приказал. Тихо, а то сам знаешь! — оскалился татарин.
Из хором вышелл Свирид, тяжелый, в подкованных сапогах, кулаки — гири. Остановился на крылечке и зычно закричал.
— Кто из вас со словом пришел?
Горщики вытолкали Редькина. Он подошел к приказчику, степенно, с достоинством поклонился, а руки закинул за спину.
— Ты это как с хозяйским доверенным собрался разговаривать? Шапку долой, смерд! — Свирид внезапно размахнулся плетью, и раз! — выхлестнул Елистрату глаз. Лицо горщика мгновенно залилось горячей кровью. Рудокоп закрылся ладонями, а другие гневно закричали:
— Неясыть, крови тебе нашей мало! За что покалечил человека? Мы к тебе за советом, с добрым словом явились, а ты…
— Ах, вот вы как заговорили, смерды! — заревел Свирид и крикнул Баклимею: — Псов с цепи спусти! Ату их!..
И пошел травить псами. Ух, и потешил свою душу приказчик! Когда Бакмилей распахнул ворота, со двора еле выбрались оборванные, истерзанные горщики. Закрыв глаза, пошатываясь, за ними шел и Редькин. Вслед уходящим Свирид крикнул:
— Вот теперь и сусличье сало в самый раз сгодится! От него все раны да язвы заживают скорехонько…
Елистрат крепко сжал зубы, смолчал, только желваки на щеках вздулись.
Старуха Карповна — горщицкая ведунья — промыла ему выхлестнутый глаз, завязала рану тряпицей.
— И как это он тебя гораздо! Горюн ты мой, горюн! — вздыхала бабка. — Окривел ты, Елистратушка, на весь век…
Редькин не упал духом. Твердо ответил лекарке:
— Окривел я, родимая, только взором, зато душа моя выпрямилась. Знаю теперь, как с приказчиками говорить!..
Подобрал Елистрат верных товарищей, взял с них клятву. Глухой ночью забрались они в хоромы Свирида, да так тихо, так осторожно, что ни один пес не забрехал. Распахнули двери в покои, а на пороге вдруг встал Бакмилей. Татарин от неожиданности угодливо осклабился, а у самого от страха глаза забегали:
— Ты… Ты…
— Ну, вот и посчитаемся, пес! — и молодецким ударом кайла Елистрат уложил татарина. — Кровь за кровь!
Дружки в эту пору ломами выбили дверь в опочивальню приказчика и кинулись к постели. Пуста и тепла перина, а из-под ложа торчат большие красные пятки.
— Эй, Свирид, вылезай, а то гвозди в пятки вгоним! — пригрозил Редькин.
Приказчика выволокли за ноги из-под кровати и усадили за стол.
— Вишь, все раны наши затянуло от сусличного сала! — с насмешкой сказал Елистрат. — Спасибо. Отблагодарить пришли, и тебе угощенье припасли. — И положил Елистрат перед приказчиком дохлую мышь. — Ну-ка, отведай!
— Да что ты! Да побойся бога, милый! — взмолился Свирид.
Редькин сверкнул единственным глазом, шевельнул кайлом.
— Ешь!
Под смертной угрозой сожрал лютый приказчик мышь. Ел и молил:
— Не бейте меня, ребятушки! Пожалейте ради семейного, детишек много…
— А ты нас пожалел? — строго спросил Елистрат и показал на выбитый глаз: — Из-за кого на всю жизнь окривел?
— Сглупа я погорячился, братцы, — заканючил Свирид.
— А из-за кого повесилась на лесине сестренка моя? Не ты ли, бугай, изнахратил ее? — непримиримо сказал приказчику второй горщик, бороду которого прошибла густая проседь.
Приказчика повязали, и каждый выкладывал перед строгановским выжигой все свои наболевшие обиды и кровь. Слово за слово, горщики так распалились от гнева, что в короткий час насмерть уходили Свирида.
Утром рудокопы густой толпой пошли к варницам. Белесый дым скучно вился к низкому серому небу. Бабы вереницей таскали в амбары кули с солью.
— Хватит робить на барство, женки! — издали закричал Редькин. — Бросай кули…
На крик из варниц выбежали солевары. Из толпы испуганно предупредили:
— Берегись, горщики, Свирид-пес не порадует. На цепь да рогатки на шею!
— Был Свирид, да весь вышел. Не стало его! — решительно оповестил Редькин. — Круши все!
Сразу загорелось сердце, вспомнилась вся горькая безрадостная жизнь. Солевары сошлись с горщиками и зашумели.
Елистрат с тремя горщиками кинулся в солеварни и выгреб головни из-под цырена.
— Жги! Ни к чему соль, коли нам и так солоно!
Белый огонь лизнул кровлю, и сразу вспыхнули два амбара. Женки, побросав кули, со страху заголосили:
— И-и, что теперь будет?
Дым темнее заклубился. Писчики попрятались по углам, а Андрейко Мулдышка незаметно укрылся на сеновале. Стуча от страха зубами, он все крестился, творил молитвы и твердил: «Пронеси, господи, как бы не спогадались и меня зажарить!»
Но горщики и солевары топорами рубили лари и запоры в плотине.
— Пусть сгинет все, намаялись мы! — кричал Елистрат и подбадривал товарищей: — Хлеще руби, хлеще!..
В пролом рванулась и зашумела вода, быстро заполнила низины, подошла к варницам и устремилась к руднику.
Ерошка Рваный, годов под пятьдесят солевар, весь изъеденный едким рассолом, с глазами мученика, первый бросил ковш в цырен и сказал с сердцем:
— Хватит, наробились на господина, всех заживо изъело! Бросай, братцы, работу!
Он широко распахнул дверь. Солнце золотыми потоками ворвалось в солеварню. Ерошка расправил спину и всей грудью захватил вешний воздух, даже шатнуло ветром: голова закружилась.
— Гляди, ребята, какая лепость! — с изумленным восхищением сказал он. И ему показалось, что он впервые видит синие леса, разливы Камы и зеленое поле-полюшко. Так неожиданно прекрасно было все кругом.
За Ерошкой бросил ковш повар, кузнецы-цыренники побросали скребки, подварки, молоты и клещи, перестали стучать топорами плотники, выбежали дровоклады и другие варничные ярыжки, — одни сушили соль на полатях, а другие грузили ее на суда вешних караванов; за ними стайкой вылетали женки, которые на спине таскали в амбары кули с солью.
— Братцы, слышишь, как дивно жаворонушко распевает! — с большой, неизведанной доселе радостью сказал Ерошка, и все устремили глаза вверх. И может быть они впервые за всю свою жизнь почувствовали земную красоту.
— Жаворонушка, милая птаха, — прошептала вековуша Алена…
Желтый дым над варницами стал редеть, таять, и вскоре до яркой сини прояснилось небо. Из-за тучки брызнуло солнце и заиграло миллионами блесток распыленной и просыпанной соли. Она была повсюду: и дороги белели от нее, и на лугах образовался белесый налет, и к амбарам тропы были покрыты хрустящей солью.
— Эх, милые, не только себя просолили, но и землю кругом досыта! — с горькой усмешкой вымолвил Ерошка.
— Не соль это, а застывшие наши слезы! — отозвалась большеглазая девка Аннушка. — Дай хоть денек порадуемся, милые! — и она запела приятным грудным голосом:
Все бы я по бережку ходила,
Самоцветные камешки сбирала,
Из камешек огонечек добывала.
Не во каждом камешке огонечек,
Не во каждом милом совесть-правда…
— Ах, певуньи, весна идет! — обрадованно крикнул молодой солевар. И на его выкрик, словно давно ждала зова вещунья, закуковала кукушка. Несложна птичья песня, а издревле манит она, и все заслушались, задумались. Солеварам показалась она мелодичной, как нежное дыхание весны. Как не радоваться и как не петь, когда впервые по своему хотенью расправились плечи. Еще вчера чернолесье выглядело желтовато-коричневым, а сегодня под солнышком подернулось зеленоватой дымкой. И вот наклюнулись, показались и стали разворачиваться крошечные липкие листочки. То, чего раньше не видели, не слышали, все вдруг обернулось и заиграло во всей своей прелести. Чуткий слух уловил далекие протяжные трубные звуки: «Кур-лы! Кур-лы!». Над лесом, с полуденной стороны, минуя варницы, высоко летели перелетные птицы.
— Жураву-шки-и! — ласково крикнула девка и затопала — пошла в пляс…
На дальней дороге, которая взбегала на бугор, мелькнул угловатый всадник в тигилее. Широко расставив локти, он торопливо бил пятками в конские бока, — шибко погонял каурого.
Старый солевар Андрон, весь изъеденный рассолом, слезящимися глазами взглянул на гонца и нахмурился:
— Андрейкоо Мулдышка — послух Свирида — погнал к Строганову. Вот, ребятушки, видать, и празднику скоро конец. Спустят нам портки… Эхх…
Все стихли. И птичьи песни будто ветром в сторону отнесло. Старик удрученно обронил:
— Ну, жди, смерды, нагрянут ноне казаки!
Ерошка Рваный вспыхнул:
— Чего раскаркался, как ворона перед ненастьем.
Ежели спужался хозяйскоой длани, так уходи! Лучше смерть, чем каторга! — отыскивая сочувствие, он оглянулся на солеваров, но те стояли понурив головы, избегая встретиться с ним взглядом.
«Покорны, как волы в ярме», — с досадой подумал Ерошка и с жаром вымолвил:
— Коли спужались ответ держать за правду, вяжите меня всем миром, один за всех пострадаю!
Никто не отозвался, все расходились. Тишина плотно легла на землю. Словно сон охватил строгановские края: не дымились варницы, не звякала кирка о рудный камень, не хлопал кнут погонщика, не скрипело большое маховое колесо, вытаскивая бадьи с рудой из шахты. Ерошка ободрился и крикнул уходящим вслед:
— Гляди, что робит смелый человек! Захочет — все загремит, бросит — все станет, замрет. Вот она сила в чьих руках!
Подняв горделиво голову, он вошел в варницу. В большом, скованном из железных пластин цырене стыл раствор. По закрайкам корыта толстой губой нарастала соль, соляные сосульки повисли с цыренов, с матиц, — не клубились соляные пары.
«Ушли все», — довольно подумал Ерошка и захлопнул дверь. Солевар убрел к реке, к широкой светлой Каме, и задумался. Лют Строганов, не простит он возмутительства, и что только теперь будет?
Однако не сдался Ерошка, надвинул набекрень колпак и сказал себе: «Ну, солевар, шагай к горщикам! Ум хорошо, а два лучше!».
Он вспомнил Евстрата Редькина и повеселел. Этот не выдаст! Смел, умен, — и ух, как ненавидит господина!..
Семен Аникиевич накинул наспех на костлявые плечи лисью шубу, надел высокие валенки, хотя на дворе стояла жарынь, и без шапки, с взлохмаченными волосами, бросился в большую бревенчатую избу — казачье жило. Степенность и важность словно ветром с него сдуло. Всего трясло, и все внутри кипело от возмущения, — так и вцепился бы зубами в холопское горло. Николи этого не бывало, чтобы в его вотчинах смерды голос поднимали и по своей воле покидали работу!
Еще с порога взбешенный Строганов гаркнул на всю избу:
— Ермака мне! Беда, ух и беда!..
Видя донельзя переполошенного хозяина, казаки повскакали с нар, сотники схватились за пищали.
— Орда набежала?
— Бей их! — кто-то зычно закричал: — Не щади грабежников!
— Горшая беда стряслась! — выговорил, схватясь за сердце, Семен Аникиевич, обмяк и повалился на скамью: — Ухх…
— Пожар?
— Пожар, — отозвался Строганов. — Люди, смерды мои, злом зажглись. Смуту затеяли, душегубство сотворили — приказчика Свирида кайлом по башке ухайдакали. Землица наша дальняя, народ набежал всякий, беспокойный, и жди от них худа!.. Ермак!..
Атаман вошел в круг, руки его спокойно лежали на крыже меча.
— Я тут, Семен Аникиевич!
— Милый, смута загорелась, имения моего разорение. Спаси! На Усолье племянник Максим, да без вас не управится он. Ермак задумался, нервно теребил темные кольца бороды. Он отчужденно поглядел на Строганова. Тот — нетерпеливый и горячий — взмолился:
— Расказни их, злыдней! Расказни горщиков да солеваров, чтоб век помнили, мои разорители!..
Казаки молчаливо глядели на атамана, выжидали, что он скажет.
— Батько, что молчишь? — выкрикнул один из казаков. — Рубить, так рубить с плеча!
Ермак презрительно скривил губы.
— Гляди, какой храбрый казак выискался! — насмешливо сказал он. — Да знешь ли, на кого пойдем? На своих, русских. Эх, Семен Аникиевич, — вздохнул он тяжело, — кажись, мы договаривались с тобой и племянничками — оберегать только рубежи. И в грамоте царской, которую ты зачитал мне, поведано, чтобы летом в стругах, а зимою по льду камскому мимо городков не пропускать безвестных. И дали мы воинское слово — боем встречать врагов из-за рубежа, а тут о своих речь идет…
— А ежели свои хуже супостата грабят! — наливаясь яростью, выкрикнул Строганов.
— Может ты сам в том повинен, — сурово стоял на своем Ермак. — Обидами и притеснениями довел смердов до того! Подумай, Семен Аникиевич, надо ли пускать меч там, где доброе слово и хорошее дело уладят все…
— Не до уговоров мне! Соли требует Русь, а они погубят дело. Казаки, надо идти! — переходя со злобного на упрашивающий тон, заговорил хозяин.
— Батько, хватит лясы точить! Айда за зипунами! — запальчиво выкрикнул Дударек.
— Тут не Дон, и не басурмане на варницах робят, — свои русские люди, похолопленные. Остудись, казак! — сурово сказал Ермак.
Семен Аникиевич не сдавался:
— Гулебщики, — взывал он, — соль потребна всем: и боярину, и холопу…
— На Руси не всякий холоп соль в еду кладет! — сердито перебил Матвей Мещеряк.
Строганов нахмурился и выкрикнул:
— То на Руси, а у меня и зверь сыт солью! Братики, братики, выручайте, сожгут варницы.
— Батько, и впрямь то будет. Нельзя того допустить! — сказал Иванко Кольцо. — Пойдем дружиной, страху напустим. А там видно будет, кто правый, кто виноватый!
Ермак хмуро ответил:
— Как решит круг, так и будет!
— Идем, батько! Засиделись тут! — закричали казаки. — На месте и рассудим. Ты, хозяин, ставь отвального. Погладь дорожку.
Ермак молчал. Видя его нерешительность, Семен Аникиевич взвыл:
— Атамане, атамане, не о себе пекусь — о Руси. Охх! — он схватился за сердце и посинел.
Ермак сумрачно глянул на него: «Стар пес, а жадина! Для кого хапает, кровь человечью сосет, когда сам у смертного порога?»
Строганов запекшимися губами просил:
— Не утихомирите их, будет смута и душегубство в этом краю. А народы рядом незамиренные: придут и пожгут варницы, и все. Мужиков побьют, баб в полон уведут. И то учтите, братцы, — людишки у меня схожие с разных мест и беспокойные шибко, не прижмешь их, наделают много дурна!.. Атамане!..
Казаки гудели пчелиным роем:
— Батько, веди! А то порешим друг дружку с тоски. Гей-гуляй!
— Жиром тут обросли и чревом на дьякона ноне стали похожи! Пора и погулять! — загремел басом казак Кольцо.
— Веди… Идем…
— Коли разожглись, пусть будет так, как велит товариство! — угрюмо ответил Ермак и наказал: — Айда, собираться в дорожку!..
Не глядя на Строганова, атаман вышел из избы. Осиянный солнцем Орел-городок лежал на горе, обласканный теплом. Внизу текла Кама — широкая, бесконечная красавица река.
— Эх, милая, куда занесла казака! — тяжко вздохнул Ермак и загляделся на реку, над которой плыли нежные облака. И под ними каждую минуту Кама казалась новой, — то манила под солнышком невиданным простором и сочной зеленью берегов, то в густой тени, с нависшими над водой скалами становилась таинственной и грозной: то ласковая и родная, то чужая и неприветливая, когда из набежавшей тучи брызгал дождь.
Повеяло холодком от прозрачной волны, убегавшей по камскому простору. По гальке, обдирая ноги, вдоль берега бурлаки в лямке тянули огромную баржу, груженную солью. Оборванные, опаленные солнцем, истомленные, они шли, наваливаясь грудью на лямку, и пели тягучую горестную песню. Впереди шли три широкогрудых богатыря с взлохмаченными бородами, пот струился по бронзовым лицам; но такой мощью и силой веяло от их мускулистых тел, что казалось — дай им палицы в руки, они побьют и погромят все. Но они, как быки, тяжело и покорно шли в своем ярме. Позади их, заплетаясь ногами, шел исхудалый, желтоликий чахоточный старик, а рядом с ним — хрупкий, беловолосый мальчонка. Обоим лямка была не под силу.
На дороге из-за бугра показалась странница с котомкой за плечами. Лицо знакомое, чуть загорелое.
— Алена! — признал Ермак и хотел уйти, но вековуша была уже рядом. Ее большие добрые глаза сегодня смотрели встревоженно, но губы улыбались:
— Тебя мне и надо, Васенька!
Ермак опустил глаза и спросил:
— Что тебе надо, Аленушка?
— Спешила, батюшка, с Усолья, шибко спешила. Неужто пойдешь на своих горюнов?
— Опоздала, Аленушка, — тихо обронил Ермак. — Как и робить, сам не знаю! — признался он.
В эту пору в Закамье грянул и перекатился над лугами раскатистый гром. Вековуша перекрестилась:
— Пронеси, господи, грозы, обереги хлебушко! — и посмотрела опечаленно на Ермака:
— Очень просто, Васенька. Иди, но кровинушки не проливай, — она своя, русская.
Алена стояла перед ним тихая, ласковая, и ждала ответа. Атаман поднял голову.
— Ничего не скажу тебе, Аленушка, но юность свою крепко помню и не обогрю братской кровью свои руки…
— Спасибо, Васенька, — поклонилась Ермаку вековуша и вся осветилась радостью. — Я и ждала этого.
Снова, и теперь на этом берегу Камы, прокатился гром, и золотыми блестками сверкнули кресты на церквушке в Орле-городке. Упали первые крупные капли и прибили на дороге пыль.
Ермак взглянул на небо и предложил:
— Айда под крышу! Будет ливень.
Она покорно пошла рядом с ним, робкая и тихая. На светлое небо надвинулась темная туча, закрыла солнышко, и полил буйный, шумный дождь…
Отошла гроза, надвинулся вечер, и казаки собрались в дорогу. За дымкой тумана взошла луна и зажгла зеленоватым светом бегущие камские волны. Позвякивая удилами, Ермак на сером жеребце ехал впереди, за ним шла сотня. Атаман молчал; в который раз шел он по родной прикамской земле, но никогда на душе не было такого тягостного чувства. С далекой юности помнил он этот край и житье в строгановских вотчинах, и все осталось таким же, каким было много лет тому назад. Как все кругом ласкает и слух и глаз: и тихие шорохи ночи, освеженной только что павшим обильным дождем, и трепетная золотая дорожка лунного отражения на камской волне…
— Эх Русь, родимая сторонушка! — вздохнул Ермак. — Широкие просторы, тишина полей и лесов, и горькое горе…
Внезапно Ермак заслышал песню, ласковую и сильную, и скоро впереди сверкнул огонек ночного стана. Ермак подъехал. На берегу, у костра, сидели рыбаки и, обжигаясь, из одного котла хлебали горячую уху.
Вперед, на дорогу, вышел коренастый, плечистый молодец. Завидя атамана, он стал перед лошадью, пламя костра озарило его сильное тело.
— Ну, что скажешь, молодец? — добродушно спросил атаман парня. — Кто ты такой?
— Еремка, строгановский смерд. Батько, возьми меня до своего войска. Сказывали, что казаки на Кучумку собрались войной. Возьми!
— Что ж, можно и взять! — охотно отозвался Ермак. — Но повремени, придет час, позову!
— Ой ли! — радостно вскрикнул рыбак.
— Слово мое твердо, а теперь сойди с дороги! — сказал Ермак и перебрал удила.
— Браты, а вы к нам ушицы похлебать! — послышались теплые голоса. Атаман усмехнулся и ответил:
— Глянь, сколь нас. Из одного котла такую ораву не насытишь, а брюхи у нас о-хо-хо, дай боже!..
Раздался смех, и казаки тронулись дальше. А Ермак все думал: «Сколь много плохого и темного на Руси, а все ж она самая прекрасная на свете! Народ извечно похолоплен. Смерды! Но сила в них есть непомерная…»
Ему вспомнился спор с Максимом Строгановым, угощавшим его чаркой аликанта. Максим говорил:
«Пей за крепость нашу на земле! Отныне и до века текла тут Кама-река, отныне и до века хозяйствовать тут нашему роду и перевода ему не будет вечно».
Ермак отклонил чарку, усмехнулся в лицо господину и сказал: «А что ежели Кама-река вспять потечет, и холоп за вольницей поднимется?»
В глазах у Максима потемнело, голос дрогнул: «Не может того быть во веки веков!» — закричал он.
Ермак спокойно огладил бороду, поднял на господина веселые глаза: «Все может быть. Каждый человек тянется к солнцу!»
«Суета сует и всяческая суета то! — не сдавался Строганов. — Обманка одна, болотный огонек — вот что золотая воля. Поведаю тебе сказ один. Слушай! Были мы с батюшкой на Беломорье. И рассказывал нам мореход один про страду великую. Сказывали, что на окиан-море затоп корабль один, а в нем погрузился на дно морское ларец, полный жемчугов, злата и невиданной прелести самоцветов. С тех пор мореходы многих царств не знали покоя и думали: как добыть тот ларец? Через это погибло много смельчаков, которые на дно спускались. Нырнули, и поминай как звали! И вот пришло такое время, — одному посчастливилось. После мук и риска нашел он ларец; резное чудо, и все позолочено. Вот когда добрались до сокровища! Долго корпели над замком, думали открыть ларец без порчи, а когда открыли — пусто в нем, одна паутина… Вот она холопская воля!».
«Врешь, не этак было! — отрезал Ермак. — Не зря народ придумал сказку о Жар-птице. Прилетит она, вот только нас на земле не будет!»
Строганов повеселел: «Ну вот видишь, а после нас кому все это занадобится? Эх-хе-хе…»
Ночь прошла. На заре казаки отдохнули и снова в путь. Чтобы ободрить дружинников, заиграли домрачи, запели свирели, жалейки, подали голос гусляры. Веселей стало. Днем в Прикамье кипела жизнь: сопели пилы, стучали топоры, дымились угольные кучи. С рыбацких станов ветер наносил стонущий напев «Дубинушки…» Где-то башкир тянул звенящую тоской песню, родную русской душе. Говоры северян-помров мешались с татарской речью, с цветистым разговором бойких волжан. По лесам бортники с дымокурами добывали в дуплах мед. Завидев казаков, они поскорее убежали в чащу…
Светило яркое солнце, когда дружина подошла к Усолью. Играло голубизной небо, не грязнили его белесые клубы варничного дыма. Чуть сыроватый ветер обдувал лица. Тишина простерлась над миром. Казаки притихли и зорко поглядывали на высокие тесовые ворота, которые вели в острожек Максима и теперь были накрепко закрыты.
«Что, стервятник, перепугался?» — со злорадством подумал Ермак.
Посад, в котором ютились солевары и рудокопы, опустел и безмолвствовал. Но когда казаки ступили в улицу, со всех сторон набежали люди, лохматые, одетые в рвань, и, протягивая изъязвленные руки, кричали:
— Батюшка наш, помилосердствуй!
— Забижает нас захребетник.
— Что ворон терзает нас!
Они густой толпой окружили казаков, и каждый с душевной болью выкрикивал свои обиды, свое наболевшее:
— Без хлебушка третью неделю сидим…
— Солью зато изъедены!
— Андрюшку в шахте задавило, а хоронить не дают. И так, сказывают, надежно погребен!
— Помилосердствуй, атаман!
Сидя на коне, Ермак сумрачно разглядывал толпу. Потом поднял руку.
— Пошто бунтуете, люди? — выкрикнул он. — Пошто еще горшего худа не боитесь?
Строгановские холопы упали на колени, торопливо смахнули войлочные шапки. Вперед вышел Евстрат Редькин с перевязанным глазом. Он неустрашимо стал против атамана:
— О каком худе говоришь, атаман? Коли пришел угощать плетью, то добей первого меня! Каждая кровинушка наша кипит от гнева. Выслушай нас.
Казаки закричали:
— И слушать нечего, батько! Давай в плетки, а то в сабли!
— Стой! — властно поднял руку Ермак. — Голодное брюхо плетью не накормишь!
— Вер-на-а! — глухо раздалось в толпе, и опять все заговорили разом:
— Мочи нашей нет! Пожгем все и уйдем!..
— Куда уйдешь, дурья голова? — прикрикнул на солевара Иванко Кольцо.
— К вам, к Ермаку-батьке уйдем. Возьми нас!
У атамана дернулась густая бровь — всех бы пожалел он, да разве можно?.. На службе он у Строгановых.
— Говори один кто, в чем дело? — приказал Ермак. — Сказывай хоть ты, что тут вышло? — показал он плетью на Редькина. Солевар поднял руки:
— Тише, братцы. Ордой шумите!
Голоса стали стихать. Одинокие выкрики бросались торопливо:
— Говори всю правду!
— А то как же? Известно, расскажу всю правду! — успокоил работных Евстрат и поднял уцелевшее око на Ермака. И такую боль и страдание прочел в его взгляде атаман, что сердце у него заныло.
— Говори же твою правду! — глухо вымолвил он.
Редькин взволнованно заговорил:
— Работой душат… Весь день едкий пар ест глаза, спирает грудь. Каторжная работенка, от темна до темна!
— А о пахарях? А о рудокопах? О жигарях забыл! — закричали в разных углах.
— А рыбаки?
— И о рыбаках, — продолжал прерванную речь Редькин, — и о пахотниках, и рудокопщиках — о всех смердах, атамане, мое слово душевное. Все мы голодны, волочимся в наготе и в босоте, — все передрали. И силушку свою вымотали. Женки на сносях до последнего часа коробья с солью волокут в амбары, ребята малые, неокрепшие, уже силу теряют, надрываются. А вместо хлебушка, — батоги и рогатки. Многие в леса сбежали, иные от хвори сгинули, а то с голоду перемерли.
Казаки стояли понурив головы. Проняло и их горькое слово солевара. Многие вздыхали: не то ли самое заставило их бежать с Руси в Дикое Поле?
Конь Ермака бил в землю копытом. В тишине тонко позвякивали удила. Евстрат продолжал:
— Сил не хватит пересказать все наши обиды. Праздников и отдыха не знаем, поборами замучали. Не успел в церковь сбегать, — плати две гривны, в другой раз оплошал, — грош, а в третий раз, — ложись в церковной ограде под батоги. Богу молятся Строгановы, а сами нутром ироды!
— Ироды… — словно эхо, отозвался атаман. Но тут же спохватился и сказал:
— Ты тише, человече, а то как бы холопы этого ирода тебя плетями не засекли!
— Батько! — вскричал Дударек-казак. — Вели унять смутьянов — душу рвут своим горем!
— Стой! — гневно отрезал Ермак. — Тут все тяготы к нам принесли, слушать мы должны и понять! Мы — не каты! Эй, солевары, браты-горщики, расходись! Бить вас у нас рука не поднимается, а прощать — силы нет.
— Уходи! — закричал Ерошка Рваный. — Уходи, казак отсюда. Мы сами управимся…
— Мы все тут покрушим! Все сожгем! — закричали холопы.
— Вижу, что так и будет! — сказал Ермак и поднял руку. — Слушайте меня, работяги! Пожгете варницы, затопите рудники, все запустеет тут — вам же хуже будет. Разойдитесь, браты! А я упрошу господина помиловать вас, смягчить вашу тяжкую жизнь. — Ермак тронул повод, и застоявшийся конь понес его среди бушующих солеваров. Они все еще кричали, жаловались, но давали казакам дорогу.
Ворота острожка распахнулись и навстречу Ермаку вышел Максим Строганов, одетый в малиновый кафтан, в мурмолке, расшитой жемчугом. За ним толпилась многочисленная челядь — спальники, хожалые, псари, медвежатники, выжлятники, ловчие. Они жили привольно, сытно, и для господина готовы были на любую послугу. Хозяин поднял руку и, прищурив лукавые глаза, ощупал пышную бороду.
— Так что ж ты, атаман, не разогнал смердов? О том мы просили нашего дядю Семена Аникиевича. Разве он не сказывал тебе нашей просьбы?
— Сказывал, — резко ответил Ермак и выпрямился на коне. Крепкий и мускулистый, он высоко поднял голову. — Но мы в наймиты не шли. Не можно бить и калечить за правду человека. Люди робят от всей силы, а заботы о них нет. Скот свой и тот бережешь, хозяин, а смердов и за скот не считачешь!
— Помилуй бог, казак, о чем молвишь? Тут как бы не ко времени, и не к месту! — Строганов покосился на дворню.
— Это верно, может и лишнее сказал, — счел нужным согласиться Ермак. — Но от всего товариства казацкого скажу. Не для того сюда шли, чтобы смердов бить. Не будем, господин! И тебе не советую. Миром договорись. Помилосердствуй!..
Строганов опустил глаза, круто повернулся и пошел в хоромы, — так и не позвал атаманов в гости. Он долго расхаживал по горнице, все думал. «Не ко времени!.. И впрямь, ноне идет война с ливонцами, не до свар царю. Не будет слать стрельцов, коли что!» — Максим хмурился, кипел злобой, но все чаще раскидывал мыслью, как и в чем уступить.
Простояли казаки в Усолье неделю. Выходили на яр, песни пели, потешались в кулачном бою, но с рудокопами и солеварами не спорили.
Поутру, после Троицына дня, над солеварнями заклубился белесый дым, и опять в шахту полезли рудокопы. Наказал Строганов выдать из амбаров холопам зерно и заколоть быка на мясо.
К Ермаку пришел Ерошка Рваный и поклонился:
— Послушались твоего совета, ноне зачали новую варю. Приходи-ко, атаман, взгляни на работенку нашу.
— Приду, — довольный, что удалось предотвратить грозу, ответил Ермак.
Он пришел на другой день. Большая потемневшая изба была заполнена соляным паром, от которого сразу запершило в горле. Ермак с любопытством вгляделся: большой цырен, подвешенный на железных полотенцах к матицам, испускал пар. Под ним, в глубокой яме, пылал огонь, то которого и нагревался рассол. Повар Ерошка зорко всматривался в кипеж раствора, из которого начинала уже рождаться соль. Тут же хлопотали два подварка, да ярыжки время от времени подбрасывали рассол, который ведрами подавался из ларя.
На ресницах и бороде солеваров оседал соленый налет. Ермак ухватился за свою кучерявую, и под пальцами тоже заскрипела соль.
«Этак в мощи обратишься», — невесело подумал атаман и услышал, как в цырене пошел шум.
— Что такое? — поднял он глаза на повара.
— Началось кипение соли! — выкрикнул Ерошка и махнул подваркам: — А ну, живей, живей!
Подварки бросились к железным заслонкам печи и стали умерять жар, а повар поднялся к цырену и огромной железной кочергой равномерно разгонял рассол…
Так и не дождался Ермак до полного увару, когда стала оседать белоснежная соль. Откашливаясь, весь распаренный, потирая глаза, он выбежал из варницы.
За ним вышел Ерошка:
— Ну, как тебе понравилась наша работенка?
— Подвиг трудный! — убежденно ответил Ермак. — Тут не только бунтовать, а резать с обеих рук зачнешь…
Солевар присел на бревнышко и со вздохом сказал:
— Вот видишь… каторга! А мы тихи… и мало того: любим эту каторгу, работу, то-есть…
Ермак грузным шагом вошел в острожек. Мысли были злые, непокорные. Он чутьем догадывался, что не простят ему Строгановы непослушания, но не мог поступить иначе. И в самом деле, Максим закрылся у себя в хоромах и больше не показывался.
А в избах, на постое, казаки кричали:
— Хватит, наслужились у господ. Нам бы в Сибирь идти, зипунов пошарпать!
— В Сибирь!
— А не то Усолье раскидаем!
— Скука, на безделье руки чешутся!
— Дорога трудна! — осторожно заговорил Матвей Мещеряк. — Лето давно на перевале.
— Брысь! — заорал на него полусотник Брязга. — Для нас, ходунов, лишь бы до урманов добраться!
— Погребли, братцы…
Гомон стих, когда появился Ермак, медный от загара, решительный.
— Что за крик? — сурово спросил он.
— Батько, — кинулся к нему Брязга, — спор вышел. Осатанело нам от скуки, без драки, ей-ей, с ножами друг на друга кинемся. Обленились, яко псы.
И разом заорали десятки глоток:
— Веди, батько, в Сибирь. Тут у господ нам не житье!
Атаман взглянул на разгоряченные, возбужденные лица казаков, на задорные глаза и махнул рукой:
— Тихо, дай подумаем! — и опустился на скамью. — И чего вдруг взбесились?
— Эх, батько, ну что нам тут! Жить весело, а бить некого! — со страстью вырвалось у Дударька. Все захохотали. Гул пошел по избе, — в оконнице слюда задребезжала. Атаман снял шапку, положил рядом. Он понимал тоску повольников: «Погулять охота!». Понимал и то, что у Строгановых не жить ему больше.
— Хорошо, — тряхнул он поседевшей головой, — подумайте, браты, хорошенько обмыслите, а там обсудим. Только больше разуму и меньше гомозу!..
3
Семен Строганов пребывал в своем любимом Орле-городке и с часа на час ждал вестей о казачьем походе в Усолье. Сдвинув густые нависшие брови, закинув за спину руки, он нелюдимо бродил по своим огромным покоям и думал о совершившемся в Усолье. «Если не погасить воровской пожар, то пламя, поди, доберется и до Орла-городка. Пойдет тогда крушить». Строганов встал перед громадным иконостасом со множеством образов в драгоценных окладах, осыпанных самоцветными камнями и бурмицкими зернами, и начал молиться. Молитвы были простые, земные:
— Господи, покарай злых и дурных смердов! — шептал старик пересохшими губами. — Нашли на них казацкую хмару. Пусть порубят и потерзают их ермачки! Пусть причинят им столько мук и терзаний, чтобы до десятого поколения помнили: и старики и младени…
Мягкий радужный свет золотой лампады, которая спускалась с потолка на золотых цепочках, переливаясь всеми цветами радуги, напоминал веселый солнечный полдень и тем вносил успокоение в душу Строганова. Земно поклонившись образу спаса, Семен встал кряхтя и удалился в свою сокровенную горницу. Большая и светлая, она отличалась от других своей простотой. Стены и потолок ее были из тесаного дуба, чтобы служили навек. Не обитые и не разрисованные, они были чисто выскоблены и вымыты. Кругом — лавки и шкафы из ясеневого дерева, а под окном большой стол, на котором лежали мешочки соли, куски железа, олова и — на видном месте — большие счеты, гордость строгановского рода.
Старик уселся в кресло и стал выстукивать на костяшках. Он не был скупцом, но любил в тихий час посчитать свои богатства и помечтать.
Ровный свет лился от лампад, и слегка потрескивало пламя восковых свечей. Был тот покой, какой обычно овладевал им в позднее время.
И в эту тихую пору в дверь постучал старый дядька-пестун. Неспроста он тревожит господина, — это сразу сообразил Семен Аникиевич и вмиг отлетел покой; снова им овладела тревога.
— Войди, дед! — недовольно откликнулся Строганов.
В горницу, шаркая ногами, вошел пестун. По лицу его Семен Аникиевич догадался о неладном.
— Казаки загуляли? Погром? — холодея спросил он.
Пестун отрицательно повел плешивой головой:
— Хуже, Аникиевич. Ермаки отказались бить смердов!
— Не может того быть! Откуда дознался? — вскочил Строганов и, схватив старика за плечи, стал трясти. — Врешь!
— Истин господь, правда! — истово перекрестился дядька. — Только что дозорный наш писчик Мулдышка прискакал с вестью… Не пожелаешь ли, господине, его видеть!..
— Гони, гони прочь! Рожи его песьей не могу видеть, не человек, а слякоть, яко червь… Что ж теперь будет? — Семен Аникиевич выбежал из горницы и снова заметался по обширным покоям. За окнами притаилась глубокая невозмутимая тишина. Было уже за полночь. Темное небо стало глубже, все светилось крупными звездами. На земле все смолкло, лишь изредка перекликались петухи на птичьем дворе. До чего был прекрасен отдых земли! Но Семену Аникиевичу все казалось злым и враждебным. Стариком овладел беспредельный, бессильный гнев. Он резко выкрикнул пестуну:
— Немедленно шли гонцов к племянникам моим! Надо спасать вотчину нашу!
Дядька ушел, а Строганов долго ходил по хоромам; лишь только перед рассветом уснул беспокойным сном…
Утром на быстрых иноходцах, в сопровождении толпы слуг, в Орел-городок примчались Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Они умылись с дороги, расспросили дядьку-пестуна о здоровье дяди и беспечно пошли на реку.
К полудню отоспался старик и вызвал племянников. Он усадил их за стол: краснощекого, золотобородого Максима — справа, а веселого, кряжистого Никиту, с плутоватыми глазами, — слева.
— Сказывай, Максимушка, о бедах наших. Что наробили казаки? — предложил сурово дядя.
— Ермак не тронул смердов.
— Выходит, смерды варницы пожгли и рудники порушили? — пытливо уставился в племянника Семен Аникиевич.
— Не то и не другое. Казачишки зашебаршили! — с презрением пояснил Максим.
— И на том слава богу! — перекрестился Строганов и на сей раз вздохнул облегченно. Он замолчал, задумался. Племянники из уважения безмолвно поглядывали на дядю, как решит он?
Наконец, Семен Аникиевич заговорил:
— О чем кричат ермачки?
— Засобирались в Сибирь, к салтану в гости, — с насмешкой ответил Никита.
— Так, так! — подхватил дядя, нахмурился, и вдруг в глазах его загорелись огоньки. — Детушки, да нам это с руки! Пусть идут с господом богом. Монахи в нашем Пискорском монастыре за них помолятся. В добрый час! Глядишь, салтану не до нас будет, а со смердами сами справимся. Да и без того притихнут…
— Ужотка и без того притихли, дядюшка, — просветленно вставил Максим.
Старший Строганов встал и подощел к иконостасу, подозвал младших.
— Царем Иоанном Васильевичем, великим князем всея Руси, нам пожалованы земли, лежащие за Камнем. Повелено нам занимать всякие ухожие места и рыбные тони, и леса по рекам Тоболу, и Туре, и Лозьве… Вот и пришло время содеять нам по велению царя. Помолимся, милые, за почин добрый.
И Строгановы стали истово креститься и класть земные поклоны перед сияющим иконостасом.
А казаки в эту самую пору с веселыми песнями вернулись в Орел-городок и стали думать о дорожке в Сибирь. Два года они прожили в камских вотчинах Строгановых. Зимы стояли тут сугробистые, вьюжистые и до тошноты длинные. Ветер хозяйничал в эту пору на дорогах и хлестал безжалостно все живое. В низких срубах, при свете тлевшей лучины невесело жилось волжским повольникам. Все угнетало их тут: и хмурое, белесое небо, и мрачные ельники с вороньим граем. Хлеба строгановские скудные, и разойтись негде — везде зоркий и неприветливый глаз господина. Ходи, казак, по его воле, а к этому никто не привык. Но тяжелее всего было сознавать, что изо дня в день тянется зряшная жизнь без обещенного прощения вины. «Все еще мы воровские казаки!» — с тоской на беседе признался батька.
Не всякий мог долго выдержать такую жизнь: иные на путях-дорогах буйствовали — «ермачили», как облыжно обозвал это неуемное проявление казачьей силы Семен Строганов, иные изменяли товариству и убегали на Волгу, на веселую Русь.
«Веселая! — усмехнулся в бороду Ермак. — Кому веселая, а простолюдину, смерду, такая жизнь, как волчий вой в голодную осеннюю ночь!»
Не все деревья в лесу одинаковы, а еще пуще разны желания и думки людские. Нашлись среди казачества и такие, которых неудержимо к земле, к сохе потянуло. И многие из них осели на камской пашне, поженились, и в тихий час в жилье такого казака слышится тоскливая женская песня: баба качает зыбку с младенцем и поет казачью колыбельную. Вот куда повернуло!
Все места кругом казаки изъездили, исходили, — и в погоне за татарским грабежником, и в поисках ценного зверя. Удивлялись они тому, что скучно живут на Каме: никто толком не знает своих мест, все было безыменным под серым безрадостным небом. Как ходить в таком краю без блужданий? И стали казаки давать названия горкам и урочищам, и все на свой лад. Так родилась Азов-гора, Думная гора, Казачья…
Не было больше желания служить купцам. Иван Кольцо, неугомонный бедун, по душе признался Ермаку:
— Для чего живет казак? Для воли. Ради нее я все отдам — и тело и душу, всю жизнь не пожалею. А тут, как в тухлой воде. Пойми, Тимофеич! Оттого и вырывается буйство, что сиро и холодно стало на сердце. Сижу порою и думаю: не могу жить без дела, без трепета. Лучше камень за пазуху, да головой в Каму! А помнишь, батько, наши думки о казацком царстве, без царя и бояр… В Сибирь, батько, веди, терпежу больше нет.
Август выдался сухой, теплый. Дожинали последний хлеб. Сыто ревела скотина. Над полями носился серебристый тенетник осенних паучков, и так неудержимо влекли сиреневые дали. По знакомой скрипучей лесенке Ермак поднялся в башенную светлицу. Розмысл Юрко Курепа писал, скрипя гусиным пером.
— Ты отложи дело, а послушай мою думку, — поклонился Ермак и огляделся. В горнице хранилось все на своих местах. На доске, прибитой к стене, лежали книги в потертых кожаных переплетах с медными застежками, свитки пергаментов. На столе — развернутый чертеж. Атаман подошел и сказал Курепе:
— Рвутся казаки в Сибирь, и моя душа лежит к ней. Пытал я у многих людей про дороги в сей край, путанно говорят. Помоги, друг, изъясни, что за страна Сибирь и по каким рекам плыть к ней?
Розмысл печально опустил голову, огорченно развел руками:
— Что и сказать тебе, атамане, не ведаю. Живем у самого Камня, за коим и лежит Сибирь-страна, а знаем о ней по наслуху. Глянь-ко на сей чертеж тверди земной. Видишь, вот Русь! Зри, яко древо ветвистое, — Волга река, а вот и Дон и Днепр льются… А поведи оком, — темнеет на восходе Каменный Пояс, Рифеи тут рекутся, а дальше на чертеже пусто. Сибирь — земля диковинная, незнаемая, немало баснословия ходит о ней, а куда текут реки и откуда они берутся, никому неведомо… А сам я не доходил до тех мест, хотя и любопытно, да господин сторожит: «Не ходи, говорит, Юрко, руки наши пока слабы, не ухватить горы, а зря силы не теряй, нам они надобны». Вот так, атамане!..
Ермак помрачнел.
— Так! — огладил он бороду. — Как же быть, Юрко?
— А быть просто, — взглянул на атамана ясными глазами Курепа. — Дозоры надо выслать, да вогулича поймать, вот все и расскажет. Мне довелось познать лишь Чусовую реку. Плыл я далеко-далеко, до дальнего Камня, но до конца не добрался, — сухари вышли да и господина убоялся…
Ушел Ермак опечаленный, но полный решимости.
Две недели пропадал Ермак, не являлся к Строгановым, но господа без спору отпускали хлеб, мясо и соль казакам, а об атамане не спрашивали. Догадывались купцы, чем занят Ермак. На легком струге он с тремя удальцами плавал по быстрым горным рекам, дознавался у старожилов и у вогуличей, куда и какая вода течет. Охотники помалкивали, берегли свои бобровые гоны, лосиные лежбища, соболиные места. Вернулся Ермак свежий, окрепший, и прямо к Строганову.
Семен Аникиевич прищурил глаза и добродушно спросил:
— Где это ты, атамане, запропастился? Сердце мое затосковало по тебе.
Походил старик на козла: узкое длинное лицо, длинная редкая бородка и глаза блудливые. Ермак усмехнулся:
— Ну, уж и затосковало! Плыть надумал… В Сибирь плыть…
Строганов для приличия промолчал, подумал. Блеклая улыбка прошла по лицу. Он сказал:
— Что же, дело хорошее. Дай бог удачи! Жаль хлеб у нас ноне уродился плохо, не могу дать много.
— Сколько дашь и за то спасибо. Мне холста отпусти на парусы, да зелья немного…
Держался атаман независимо, ни о чем не рассказывал, и то огорчало Строганова. Пугала купца думка: «Сибирь край богатый. Если и впрямь казаки осилят, дадут ли им, Строгановым, из большого куска урвать?». Но об этом Семен Аникиевич ни словом не обмолвился. Между ним и казаками мир держался на ниточке, и боялся старик, очень трусил, как бы гулебщики на прощанье не забуянили.
Но они и не думали буянить. Набились в избу, долго спорили, а на ранней заре, когда над Камой клубился серый туман, сели в струги, подняли паруса и поплыли. Строганов стоял у окна, все видел и хмурился: «Шалберники, орда, даже спасибочко не сказали за хлеб-соль, даже господину своему не поклонились, я ли не заботился о них?».
Из-за синего бора встало ликующее солнце. С полночных стран высоко в небе летели гусиные и лебединые стаи. И казачьи струги, уплывшие в даль, словно лебедиными крыльями белели на золотом солнечном разводье широкими парусами.
— Эх, гулены-вольница! — покачал головой Семен Аникиевич. — Хвала господу, тихо уплыли сии буйственные люди. А может быть к добру это? Кучуму-салтану не до нас будет, и его грабежники не полезут за Камень…
Он долго стоял у окна и смотрел в ту сторонушку, куда уплывали повольники. Паруса становились все меньше, призрачнее… Еще немного, и они вовсе растаяли в синей мари…
Быстро плыли казаки, бороздя Каму-реку. Леса темные, густые, но дорожка знакомая, — столько раз гнались за татарами по ней. Вот и Чусва — быстрая вода! Ермак снял шелом выкрикнул:
— Ты прости-прощай, веселая вода — разудалая реченька!
Казаки запели. Дед Василий заиграл на гуслях. Подхватили рожки. Плескалась рыба в реке, воздух звенел от перелетных стай. Дали стали прозрачными, ясными, и на далеком окоеме легкой синью встали горы.
Вот и устье Салвы, струги вошли в нее. Кольцо оповестил весело:
— Кончилась тут, на устье, вотчина Строгановых, а чье дальше царство, — одному богу ведомо!
И впрямь, берега пошли пустынные, безмолвные. Леса придвинулись к воде угрюмые, дикие.
— Только лешему да нечисти в них жить! — проворчал поп Савва. — Но дышится, браты, легче. Чуете? А отчего-сь? Воля! Эх во-о-ля! — басом огласил он реку, встревожил дебри, и многократно в ответ прогудело эхо.
Вечерние зори на Сылве спускались нежданно, были синие, что-то нехорошее таилось в них.
— Будто на край света заплыли! — вздыхал Дударек. — В книге Апокалипсис, что поп читал, такие зори и закаты описаны для страха.
Ермак строго посмотрел на Дударька, сказал:
— Осень близится, блекнет ярь-цвет. Больше тьмы, чем света!
И может быть тут впервые атаман подумал: «Припоздали мы с отплытием!». Но вернуться — значило еще больше встревожить дружину.
Гребли казаки изо всех сил против течения, — струя шла сильная и упрямая. Неделю-другую спустя показались земляные городки, над которыми стлался горький дым. На берег выходили кроткие люди в меховых одеждах и заискивающе улыбались. Они охотно все давали казакам, но дары их были бедны: туески малые с медом, с морошкой да сухая рыба… На каждом шагу в чернолесье — насеки топорами над дуплами, в которых зазимовали пчелы. Скоро доберется сюда непрошенный хозяин и выломает душистые соты, а пчелы померзнут. В укромных чащах скрытно расставлены по ветвям пругла для ловли птиц, петли на зверюшек и скрытые ельником ямы на погибель сохатому.
Сылва в крутых берегах уходила, извиваясь, все дальше и дальше в темные леса. Густые туманы опустились на реку. Вдоль ущелья дул пронизывающий ветер. На воду в изобилии падали золотые листья берез и багряные — осины. Ельники потемнели, шумели неприветливо. Но казаки гребли вверх по реке.
Поп Савва вспомнил сказание строгановского посланца о Лукоморье и захохотал, как леший в чащобе.
Ермак удивленно разглядывал его: не рехнулся ли, часом, поп?
— Ты что гогочешь, зверя пугаешь? — строго спросил он.
— Вот оно, Лукоморье сказочное! Добрались-таки, казаки… А-га-га! — сотрясаясь чревом, смеялся Савва.
Дни, между тем, становились короче, низко бежали набухшие тучи и бесконечно моросил дождь. Постепенно коченела земля, хрустел под ногами палый лист. На привалах жгли жаркие костры, но утренники разукрашивали ельники тонким кружевом изморози. Холод пробирал до костей, и на мглистой, ленивой заре зуб на зуб не попадал от стужи. По Сылве поплыло «сало». Смерзшиеся первые льдины, облепленные снегом, крепко ударяли в струги.
К вечеру над густой шугой, в которой затерло казачий караван, пошел снег. Он шел всю ночь и утро. И сразу легла белая нарядная зима.
Иванко Кольцо ходил у реки и сердился:
— Вот и доплыли. Не по донскому обычаю ледостав пришел, не ко времени.
Ермак улыбнулся и сказал:
— Обычаи тут сибирские, свыкаться надо. Коли так встретила, будем ставить городок!
На высоком мысу, под защитой леса, поставили острожек. А первой срубили часовенку, водворив в нее образ Николая угодника. Поп Савва отслужил молебен. Казаки молились святому:
— Обереги нас, отче, от лиха злого, а паче от тоски. Нам бы, Никола, полегче жить да повеселей…
Видно, не дошла казацкая молитва до Николы угодника — плешатого старичка, кротко смотревшего с образа. Только укрылись заваленные снегами повольники от стужи, как вскоре кончились все запасы. Начался голод, а за ним цынга. Ослабевшие казаки, высланные в дозоры, замерзали от стужи. Поп наскоро отпевал их, а затем тела зарывали в снег. Пятеро ушли на охоту и не вернулись. Догадывались, что сбегали искать светлую долю, да видать нашли ее в сугробах, похоронивших леса.
Только один батько не сдавался. В погожие дни он поднимался на тын и показывал на заснеженный простор, который раскинулся надо льдами Сылвы.
— Браты, гляди, эвон — синее марево: то Камень, а за ним Сибирь!
— Близок локоть да не укусишь, — сердито ворчал Матвейко Мещеряк. — Батько, хватит на горы глядеть. Дозволь казакам на медведя сходить…
Нашли берлогу, подняли зверя, и Брязга посадил его на рогатину. Убили лесного хозяина и на полозьях притащили в острожек. Сколько радости было! За все недели раз досыта наелись.
— Не хватает медов! Совсем душа растаяла! — повеселел поп Савва. — Сплясать, браты, что ли?
— Да ты всю святость стеряешь, батя. Аль забыл, что ныне на Руси филиппов пост! — смеялись казаки.
— Так то на Руси, а мы — не знай где, и митрополит нами тут пока не поставлен, дай спляшу!
Савва пошел в пляс. Он отбивал подкованными сапогами чечетку, прыгал козлом и вертелся, как веретено. Прищелкивал перстами и подпевал себе:
Эх, сею, сею ленок…Казаки выстукивали ложками частую дробь. Тут и домрачам и гуслярам стало стыдно, — заиграли они. Пошла гульба, дым коромыслом.
— Вот и Дон помянули! — повеселел и батько…
Но вскоре пришла новая беда — черная немощь. У многих казаков гноились десны, шатались зубы. Человек слабел и угасал, как огонек в опустевшем светильнике…
— Горячей оленьей крови выпить, и окрепнет человек! А где ее взять? — вздохнул Мещеряк. — Она бродит в лесу. Эх, сохатые!..
Но кого пошлешь в лес? Ослабевший человек костями ляжет. Ермак ходил по городищу мрачный, корил себя: «Сколько зим видел, а тут сплоховал!».
На пепельном рассвете, когда среди темной сини окоема чуть заалели узкие полоски золотистой яри, поп Савва, стоявший в дозоре, доглядел, как из лесу к незамерзающему на лютом морозе роднику неслышно подошел великанище-лось с тупыми корнями обломанных рогов.
«Эх, милый, — с сожалением подумал Савва, — из-за самки всю красу стерял!» — Поп осторожно поднял руку, вскинул ружье… Лось величаво повернул голову, взглянул большими темными глазами на человека, понял все, — согнул спину для прыжка. И тут Савва — меткий стрелок — выстрелил по зверю. Синий пороховой дымок растаял на ветру…
«Господи» — перекрестился поп. Высоко вздернув красивую голову, лось застыл на месте, будто схваченный морозом. Ругая себя за промах, Савва проворно заправил фузию, вскинул и снова хлопнул по зверю. Что за диво? Лось не убежал, стоит на месте. Трясущимися руками поп насыпал зелья в ружье, забил кусок свинца, и раз! — опять по зверю. Метко, в самую грудь, тут бы и пасть зверю, а он все стоит! У Саввы от испуга побелели губы. Он бросил фузию, закрестился торопливо и закричал на весь острожек:
— Свят, свят, с нами крестная сила! То не лось, а оборотень. Ой, братцы, ой казаче! Сюда!
Набежали казаки, а с ними Ермак. Поп весь дрожал, тыкая пальцем на тын:
— Оборотень! Ох, нечистая сила… Свинец не берет…
Дивоо-дивное: у родника стоял горделивый лось, ничего не боясь, не поводя ушами.
Богдашка Брязга вспыхнул весь:
— Неужто такого зверюгу упустить? Не залюбовать, ух ты!..
Не успели казаки ахнуть, как Брязга подбежал к лосю и ткнул в него копьем. Лось тяжело и безмолвно свалился на бок.
— Вот он оборотень! — закричал весело Богдашка. Из ворот острожка высыпали казаки, и диву дались: Зверь был трижды пробит Саввой, и первая пуля стрелка ударила в хребет… Лось окаменел от мгновенного столбняка, застыв на месте с высоко поднятой головой; на снегу, под лосем, дымилась горячая кровь…
Поп смущенно опустил голову и забормотал:
— Немало на своем веку лобовал зверя, а такого дива не видывал…
Зима лютовала. Колкий снежок змейками курился по льду, по еланям, обтекая кочки и пни на вырубках. Ермак в эти дни похудел, проседь гуще пробила бороду. С гор прилетал ветер и поднимал белесые валы, которые плескались и белыми ручейками сочились через тыны острожка, погребая его под сугробами. Атаман второй раз понял, — припозднился он с походом, но от неудачи еще больше упрямился. Как и раньше в трудные минуты, так и теперь в душе у него поднялось скрытое, сильное сопротивление, подобное страсти, желание все преодолеть.
— Трудно, батько, ой и трудно! — не стерпел и пожаловался Иванко Кольцо, показывая кровоточащие десны. — Глянь-ко, какой красавец!
Ермак пронзительно поглядел на побратима и засмеялся:
— Все вижу, но и то мне чуется, умирать ты не засобирался. Угадываю, что думки твои о другом, веселом.
Иванко захохотал:
— Вот колдун! То верно, думки мои о другом…
Он не досказал. Ермак и без того понял по глазам казака, какие сладостные думки тот таит. Иванко потянулся и сказал:
— Ох, и спал я ноне, батько, как двенадцать киевских богатырей. Спал и видел, будто вышел я в сад. Осыпался яблоневый цвет, под деревьями летали только что опавшие, свежие пахучие лепестки. И вышла тут из-за цветени девушка, наша донская, в смуглом загаре, и лицо простое, приятное, и косы лежат, как жгуты соломы. Обернулась она ко мне, и так на сердце стало весело да счастливо. Эх, батько!
— Ишь ты, какой хороший сон, — улыбнулся атаман. — Ровно в игре, все по хозяину…
Иванко не хотел заметить насмешки и продолжал:
— И ночи видятся в Диком Поле: горят костры на перепутьях, а казаки вокруг котла артелью жрут горячий кулеш…
— Этот сон еще лучше! — ухмыляясь сказал Ермак и построжал: — А ты, часом, не сметил, что из твоей сотни в тот сад яблоневый трое казаков сбегли?
Кольцо посерел:
— Не может того быть!
— А вот свершилось же! — Атаман вскинул голову и отрезал: — Будет байками заниматься: отныне ставлю донской закон. Честно справлять службу. Сотники отвечают за казака! Беглых буду в Сылву сажать без штанов, вымораживать прыть!
И он двоих посадил у бережка в прорубь, и донцы приняли кару спокойно. Посинели в студеной воде, зубами лязгают. Ермак спросил:
— Ну как, браты?
— Сгибнем батько.
— А одни средь непогоди не сгибли бы?
— Один конец, добей, батько! — повернули глаза в сторону атамана, и прочитал в них Ермак глубокое раскаяние.
Закричал атаман:
— А ну вылазь, крещеные! Рассолодели? С татарами биться собирались, а сами от зимушки удумали гибнуть. Эхх…
Мучались, голодали, но терпели. Мутный дневной свет не радовал, не было в нем теплоты. Но однажды поп Савва проснулся и радостно закричал на всю избу:
— Братцы! Братцы!
Казаки подняли с нар очумелые головы. Солнце плескалось в окно. В светлой поголубевшей тишине нежно переливался пурпур, золото и ярь медная.
— Веснянка в оконце глянула!
А через неделю зацвела верба, зазвучала капель.
По острожку разнесся зычный голос Ермака:
— Эй, вставай, берложники! Заспались! — Он прошел за тын и отломил веточку. Она была еще холодная, ломкая, но в ней уже теплилась жизнь. Круто повернуло на весну…
Казаки не сразу вернулись к Строгановым. Проремели льды на Сылве, прошел весенний паводок, зазеленели леса, а Ермак не торопился. Много тяжких дней и ночей пережито в этом студеном и диком краю, тут на крутояре сложили в братскую могилу десятки казаков: круто было! Но здесь, в суровых днях родилось одно решающее — войско. Беды закалили людей. Грозное испытание не прошло напрасно. Ермак как бы вырос, и слово его в глазах дружины — было крепкое слово. Жаль было расставаться с острожком — первым русским городком на неведомой земле. Тут во всей полноте осознавалась своя воля. И хотя гулебщики особо не кланялись Строгановым, а все же считались служилыми казаками.
Отцвела черемуха, закуковали кукушки в лесу. Повсюду поднимался смутный, непрерывный шум весенней жизни. Гусляр Власий, сидя на угреве, дивился всему. Он сильно похудел, седина отливала желтизной, а старик хвалился:
— У меня, браты, еще силы много! Не сбороть смерти, не сокрушить ей мои кости. Мне еще рано на печи-то лежать. Ух, ты! — Он лез к плотникам с топором, — пытался гусляр ладить струги. Кормщик Пимен гнал его прочь:
— Уйди, тебе еще сил набраться надо…
Власий не уступал; поплевав на жилистые тонкие ладони, он начал тюкать топором. Незлобиво отвечал кормщику:
— Стой, не гони! Ничего, что стар и хвор. Коли сердце мое подсказало, руки мои все сделают…
Ермаку нравилось упорство старика. Он сказал казакам, показывая на деда:
— Есть людишки, которые по жизни ползают, а этот гамаюн и в старости орлом взлетает!
Люди не хотели теперь заползать в смрадные избы и сырые землянки, и спали под звездным небом. И для казацкого сердца была самая великая отрада — сидеть у костра в тишине ночи, прищурившись, долго смотреть на синевато-золотые языки огня, прыгавшие по поленьям.
— Батько! — обратился к атаману сидевший у огнища поп Савва. — Раздумал я и вижу, — дойдем мы в Сибирь. Все осилим, и нашу неудачу на Сылве обернем удачей. Труден будет наш путь, а все же выйдем на простор. Сижу, и на память пришло мне вычитанное в древней арабской книге. Есть в одной горной стране страшное ущелье и над ним высоко-превысоко узкая скала — проход по обрыву. Не всякий ступит на эту тропку — так коварна она. А рядом на камне арабская надпись: «Будь осторожен, как слезинка на веке, — здесь от жизни до смерти один шаг». Вот то и любо, что выбор есть. И порешили мы всем лыцарством жить и до Кучума добраться!
Иванко моргнул глазом атаману:
— Умный поп казацкий.
Ермак на это ответил:
— Неужто нам дураки надобны? — А сам о другом думал: «Где взять хлеб, зелье, пушки, паруса? Как заставить Строгановых отдать столь добра?».
Отходил май, отцвела цветень и угомонились по гнездовьям птицы, когда казаки сели в струги и кормщик Пимен махнул рукой:
— Ставь паруса!
Легко и быстро поплыли по течению. И Сылва иной стала — нарядной, озолоченой солнцем. Пели казаки удалые песни. Немного грустно было покидать выстроенный острожек. Вот в последний раз мелькнула тесовая крыша часовенки и скрылась за мысом.
Нежданно-негаданно нагрянули казаки к Строгановым. Все пришлось ко времени. Только вырвались казаки на Каму-реку, и увидели скопища вогуличей, а вдали за перелесками дымились пожарища. Опять враг ворвался в русскую землю. На становище поймали отставшего вогулича и доставили Ермаку. Завидев воина в кольчуге и шеломе, с большим мечом на бедре, пленник пал на колени и завопил:
— Пощади, господин. Не сам шел, а гнали сюда…
— Кто тебя, вогулича, гнал? — гневно посмотрел на него Ермак.
— Мурза Бегбелий гнал. Сказал, всем ходить надо, русских бить! Помилуй, князь…
— Увести, — повел глазом атаман, и казаки потащили вогулича в лес…
Ермак вымахнул меч:
— Браты, неужто выпустим из наших рук татарского грабежника?
— Не быть тому! Вот бы кони, как на Дону! — с грустью вспомнили казаки. — Ух, — и заиграла бы тогда земля под копытами…
Мурза Бегбелий Агтаков торопил вогуличей к Чусовским городкам. Они шли, потные, пыльные, черной хмарой. Их саадаки полны стрел, у многих копья и мечи. За собой на отобранных у посельников конях везли узлы с награбленным. Телохранители Бегбелия вели в арканах трех молодых полонянок. Подле мурзы вертелся черненький, проворный как мышь, татарчонок. Он кричал телохранителям:
— Девка русская-золото. Так сказал Бегбелий. Якши!
По лугам разливался беспрестанный пчелиный гуд. Ветер переливами бежал по цветенью и доносил к дороге медовые запахи. Полонянки расслабленно просили татар:
— Дай отдышаться. Истомились…
Их густые волосы, цвета спелой ржи, развевались, и на тонких девичьих лицах перемешались слезы и пыль.
Татары безжалостно стегали их.
— Машир, машир!..
Но не дошли злыдни до Чусовских городков, не пограбили их. У самых ворот острожка настигли казаки грабежников и порубили.
У Бегбелия сильный и смелый конь. Мурза хитер и труслив, как лиса. Когда он увидел, что вогуличи гибнут под мечами и разбегаются, он юркнул в лесную густую чащу, домчал до Чусовой и направил скакуна в стремнину. Быстра вода, но добрый конь, рассекая струю широкой грудью, боролся с течением и, наконец, вынес мурзу на другой берег. Бегбелий поторопился по крутой тропе проехать скалы. И тут на берег выбежал Ермак с попом Саввой.
— Батько, вот он — зверь лютый! — показал поп на всадника, который будто замер на скале. Татарин презрительно смотрел на атамана:
— По-воровски бегаешь! — с укором крикнул Ермак. — Не пристало воину уходить от врага! Сойди сюда, померяемся умельством и силой!
Сквозь шум воды вызов казака дошел до мурзы. Он усмехнулся в жесткие редкие усы, в узких глазах вспыхнули волчьи огни.
— Я знатный мурза! — заносчиво выкрикнул Бегбелий. — А ты — казак, послужник-холоп. Мне ли меряться с тобой силой? Не спадет солнце в болото и мурза не снизойдет до холопа! — он дернул удила, конь загарцевал под ним.
Ермак выхватил из-за пояса пищаль, поднял быстро, но все, как морок, исчезло. Не стало на скале Бегбелия, только мелкие кусты все еще раскачивались, примятые конским копытом.
— Опять ушел, грабежник! — обронил Ермак и вернулся на место схватки…
Перед казаками широко распахнулись ворота острожка. Максим в малиновом кафтане вышел навстречу атаманам, а рядом с ним стояла в голубом сарафане светлоглазая женка Маринка, держа на расшитом полотенце хлеб-соль.
Ермак бережно принял дар, ласково поглядел на красавицу и поцеловал пахучий каравай.
— Самое сладкое, и самое доброе, и радостное на земле-хлеб! — сказал тихим голосом атаман. Марина вся засветилась и ответила:
— Пусть по-твоему…
Максим Строганов, сияющий и добродушный, поклонился казакам:
— Благодарствую за службу…
— Оттого и вернулись, чтоб оберечь твой городок! — откликнулся Иванко Кольцо. — Глядим, темная сила прет, пожалели вас…
— Спасибочко! — еще раз поклонился господин. — А теперь пожалуйте в покои. Победителю отныне и до века — первая чара.
Гамно вошли казаки в знакомые покои, расселись за большие столы. Зазвенели кубки, чаши, кружки, чары, овкачи и болванцы, наполненные крепкими медами. Началась после зимних тягот шумная казачья гульба…
Лето отслужили казаки в вотчине Строгановых, ожидая татарского нашествия. Но в этот год царевич Маметкул не приходил из-за Каменных гор. В сухое лето быстро созрели хлеба, и посельщики спокойно собрали их с поля, свезли и уложили в риги. Осень выпала щедрая: рыбаки наловили и насолили бадьи рыбы, строгановские амбары набили зерном, толокном. В подвалах — липовые бочки меду. В ясные ночи высоко в небе плыл месяц и зеленоватые полосы света косыми потоками лились в узкие высокие окна строгановских хором. Розмысл Юрко не спит, сидит над толстой книжищей в кожаном переплете с золотыми застежками. В оконце смотрит с синего неба золотая звездочка, да ветерок приносит разудалую казачью песню. В ночном безмолвии она звучит дерзко и будит поселян.
Юрко сидит склонясь и думает о Максиме Строганове: ноне господин расщедрился, вынес в глиняном кувшине вино и книгу.
«Вот прими, за службу тебе, — за то, что отыскал новые соляные места. Книжицу сию прочти. Писал ее сэр Ченслор — английский купец, с коим я виделся в Холмогорах и на Москве, а вино выпей, монахи Пыскорского монастыря во поминовение деда Аникия доставили в Чусовские городки. Вино редкое — золотистое, искрометное и плещется в чарах. Из Франкской земли привезено через моря великие…»
Не додумал Юрко своих мыслей — в дверь постучали. Тяжелой поступью вошел Ермак. Розмысл обрадовался.
— Не ждал, и вдруг радость выпала.
Они обнялись, и атаман уставился в книжицу:
— О чем пишется в ней?
— Тут о русских воинах говорится, и хорошее.
— Ну! — глаза Ермака вспыхнули, он схватил Курепу за руку. — Чти, что написано о ратных людях!
Юрко придвинул книгу и глуховатым голосом стал читать:
— «Я думаю, что нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы. Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Самая большая их защита от непогоды — это войлок, который они выставляют против ветра и непогоды. А если пойдет снег, воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него…»
— Истинно так! — подтвердил Ермак. Он придвинулся к Юрко, взял книгу и долго вертел в руках. Перевернув лист, он зорко смотрел в него и стал медленно читать:
— «Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет эту воду. Его конь ест зеленые ветки и тому подобное и стоит в открытом холодном поле без крова — и все-таки служит хорошо… Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми…»
— И то верно! — сказал Ермак и положил книгу на стол. — Подгоняет меня эта книжица идти в поход. Пора!..
— А за воинство угощу тебя, — потянулся к кувшину Юрко. Он налил в кружки золотистое вино и стукнул: «Чок-чок!..»
Ермак помедлил, а потом поднял кружку и выпил.
— Добр огонек. Ох, и добр! — похвалил он.
— И дознался я, атамане, что есть реки, что текут с Камня, и о тех, которые бегут в сибирскую сторонушку. Вот зри! — розмысл склонился над свитком и стал чертить и рассказывать.
Далеко за полночь розмысл и атаман сидели в тихой горенке и рассуждали о дороге в Сибирь.
Как гром среди ясного неба, появился Ермак перед Строгановым и сказал:
— Ну, Максим Яковлевич, довольно, нажировались казаки на Каме. Ноне идем на Камень.
Строганов по привычке прищурил глаза и сказал спокойно:
— В добрый путь, атамане!
— До пути надобны нам от тебя припасы: и хлеб, и соль, и зелье, и толокно, и холсты.
Строганов сразу побагровел, вскочил и бросился к иконостасу:
— Господи, господи, просвети ум нечестивца, открой очи ему на сиротство наше, на бедность…
Ермака так и подмывало крикнуть господину: «Брось отводить глаза богом. О милости, купчина, просишь, а сам последние жилы с холопов тянешь!». Однако атаман сдержался и сказал хладнокровно:
— Тут, Максим Яковлевич, у бога не вымолишь, придется в твоих амбарах пошарить!
— В амбарах! — выкрикнул гневно господин. — Еще шубы мои потребуйте, опашни, рубахи!
— Нет, то не надобно нам, обойдемся. Матвей Мещеряк, наш хозяин, подсчитал, что надобно. Вот слушай! Три пушки, безоружным — ружья, на каждого казака по три фунта пороха, по три фунта свинца, по три пуда ржаной муки, по два пуда крупы и овсяного толокна, по пуду сухарей, да соли, да половина свиной туши, да по безмену масла на двоих…
— Батюшки! — схатился за голову Максим. — Приказчики!
— Не кричи! — насупился Ермак. — Не дашь, так пожалеешь! — в голосе атамана была угроза.
— Так ты с казаками гызом похотел мое добро взять? Не дам, не дам! — затопал Максим, и на губах его выступила пена.
Выждав, гость резко и кратко сказал:
— А хоть и гызом. Возьмем! — круто повернулся и, стуча подкованными сапогами, ушел.
Вбежали приказчики, остановились у порога. Господин полулежал в кресле, раскинув ноги, с расстегнутым воротом рубашки.
— Все! — хрипло сказал он и ткнул перстом в старшего управителя: — Ты поди, открой амбары. Казакам добришко наше понадобилось…
Хочешь не хочешь, а пришлось открыть амбары. Хозяин укрылся в дальние покои и никого не пожелал видеть. Приказчик Куроедов стал на пороге амбара и отрезал:
— За дверь ни шагу. Я тут хозяин, что дам, то и хорошо! Хвалите господа!
Матвей Мещеряк, приземистый, широкий, подошел к приказчику с потемневшими глазами:
— А ну, убирайся отсюда! Мы не воры. На такое дело решились, а ты толокно жалеешь!
Казаки подступили скопом.
— Молись, ирод!
— Братцы, братцы, да нешто я супротив. Имейте разум! — взмолился Куроедов.
Худо довелось бы ему, да поспел Максим Строганов. Он молча прошел к амбарам. Казак Колесо зазевался, не дал господину дорогу.
— Что стоишь, медведище! Не видишь, кто идет!
Казак свысока посмотрел на господина, молча уступил дорогу. Строганов поднялся на приступочку и строго крикнул:
— Не трожь моего верного холопа! Раздеть меня удумали?
— Не сбеднеешь, а раззор не пустим. Плывем, слышь-ко, в Сибирь, край дальний. Давай припасы!
Круг казачий заколыхался, — к амбарам шел Ермак. Он шел неторопливо, а глаза были злы и темны. Подходя к Строганову, прожег его взглядом.
Максим понял этот взгляд, выхватил из кармана огромный ключ и подал атаману:
— Бери, как договорились… Приказчики! — закричал он. — Выдать все по уговору. И хорунки дать и образа. Без бога не до порога. А порог татарского царства эвон где, отсюда не видать… Бери, атаман! — он вдруг обмяк, хотел что-то сказать, да перехватило горло. Однако встряхнулся, вновь овладел собой и крикнул казачеству: — В долг даю. Чаю, при удаче разберемся…
— Разберемся! — отозвались казаки.
Максим степенно сошел с приступочки, и повольники на сей раз учтиво дали ему дорогу…
На реке день и ночь стучали топоры. В темень жгли костры. Торопился кормщик Пимен подготовиться в путь. Варничные женки шили паруса. В амбарах приказчики меряли лукошками зерно, взвешивали на безменах толокно, порох, свинец, а казаки с тугими мешками торопились на струги, которые оседали все глубже и глубже в прозрачную воду. От варниц и рудников сбежались люди, серые, злые, и просили:
— Нам Ярма-к-а! Бать-ко! Где ты, батько, возьми до войска.
Атаман многих узнавал в лицо и радовался:
— Смел. Такие нам нужны!
Просились в дружину углежоги, лесорубы, солевары, горщики, варничные ярыжки. Строганов соглашался на триста человек. И был рад, когда приходили самые буйные, упрямые и люто его ненавидевшие.
Писец Андрейко Мулдышка кинулся в ноги атаману:
— Гони его, батька, то не человек, а песья душа. Гони его! — кричали варничные. Но Мулдышка жалобно просил:
— Делом заслужу старые вины. Сам каюсь во грехах своих! — он унизительно кланялся громаде. И вид у него был жалкий, скорбный. — Писчик я, грамоту разумею сложить.
Ермак обрадовался:
— Казаки, писчик нам потребен. Берем! А заскулит иль оборотнем станет, в куль да в воду!
— И то верно, батько! Берем!..
Атаманы тем временем верстали работных в сотни. Ермак строго следил за порядком. Сбивалось войско. В каждой сотне — сотник, пятидесятники, десятники и знаменщик со знаменем.
Были еще пушкари, оружейники, швальники. И еще при дружине были трубачи, барабанщики, литаврщики и зурначи.
У кого не было пищалей, ружей, появились луки с колчанами, набитыми стрелами. Имелись копейщики, и были просто лесные мужики с дубинами, окованными железом.
— Нам только до первой драки, а там и доспехи добудем! — говорили они.
А струги садились все глубже и глубже. Мещеряк жаден, и велел набить на борта насады. Погрузили много и чуть на дно не пошли. Оставили часть припасов.
Из Орла-городка в рыдване, обитом бархатом, прибыл Семен Аникиевич, а с ним племянник Никита. Строгановы, одетые в серые кафтаны, чинно подошли к стругам. Дядя огладил козлиную бороду, покачал головой:
— Ай, хорошо… Ай, умно!
Подошел Ермак, обнялся с ним.
— Атаман — разумная головушка, — льстиво обратился Строганов к Ермаку. — Жили мы дружно. Чай, и нашей послуги не забудешь, когда до салтана доберетесь. А мы в долгу не останемся, перед царем замолвим словечко, — снять прежние ваши вины. А слово наше у Ивана Васильевича весомо, ой как весомо…
— Будет по-вашему, — пообещал атаман.
Тогда Строганов поманил к себе писчика:
— Иди за нами, о нашем уговоре запись изготовишь.
Ермак нехотя пошел в хоромы господ, за ним пять атаманов: Кольцо, Михайлов, Гроза, Мещеряк и Пан.
Оказалось, и записи давно заготовлены, и все записано вплоть до рогожи. Предусмотрительны господа! Не спорили атаманы, подписали кабалу.
— Вот и ладно. Вот и хорошо, казачки! — ласково заговорил Семен Аникиевич. — А я вам за это иконок дам, нашего строгановского письма.
«Льстив, хитер и оборотлив!» — пристально поглядел на него Ермак и заторопился:
— Завтра уплываем!..
Стоял тихий вечер, с реки веяло прохладой. Среди кривых улочек посада долго блуждал Ермак, отыскивая хибарку вековуши. За плечами у атамана мешок с добром. Вот и ветхий домишко, распахнул калитку. Выбежала светлоглазая девчурка.
— Мне бы Алену, — тихо сказал вдруг оробевший атаман.
— Нет тут больше Аленушки, — потупилась девчушка.
— А куда ушла, и скоро ли вернется?
У девочки на ресницах повисли слезинки:
— Не вернется больше Аленушка, никогда не вернется. Только вчера отнесли на погост.
Ермак снял шелом, опустил голову. Во рту пересохло, а в ногах — тяжесть. Ворочая непослушным языком, он спросил:
— А кто ты такая будешь, козявушка?
— А я не козявушка, а Анютка — мамкина я. Старшая тут, а две сестрицы они вовсе ползунки. А это что в мешке?
— Хлебушко!
— Ой, дай, родненький. Третий день не ели. Мамка все на варнице, а тятька давно пропал…
— Пусти в избу.
— Входи, дяденька. А ты не из ермаков? — в атамана уставилось любопытствующее курносое лицо.
— Из ермаков! — ласково ответил атамак и вошел в избу. Он сел на лавку, чисто выскобленную, оглядел горницу. Пусто, бедно, но опрятно.
И вспомнил он, как в давние годы, молоденьким пареньком забегал он в эту избушку. И Аленушка — ладная девушка с певучим голосом — подарила ему вышитый поясок: «Вот на счастье тебе, Васенька. Может и найдешь его…»
Но так и не нашел он своего счастья, не свил гнезда. Одинок. И родных порастерял. Ермак ссутулился, и ресницы его заморгали чаще.
— Дяденька, тебе худо?
— Нет, милая, — отозвался Ермак, поднял Анютку на руки, расцеловал ее. — Прощай, расти веселенькая…
Придавленный минувшим, он вышел из домика и тихо побрел к Чусовой. На повороте оглянулся. Какой ветхой и крохотной стала знакомая избенка! У калитки стояла Аленка и, засунув в рот пальчик, все еще очарованно глядела вслед плечистому казаку…
1 сентября 1581 года поп Савва отслужил молебен. Казаки молча отстояли службу. Строгановы привезли хоругви:
— Пусть возвестят они, что живы и крепки Строгановы!
Ермак принял дар и ответил:
— А возвестят они за Камнем, что Русь сильна. И кто посмеет ослушаться ее, пожалеет о том.
Строгановы молча проглотили обиду.
На Каме на ветру надувались упругие паруса.
— Ну, в добрый путь! — по-хозяйски крикнул Ермак, и тотчас ударили литавры, забил барабан, заголосили жалейки.
Заторопились к стругам. Атаман Мещеряк стоял на берегу и всех пересчитывал. И когда все взошли в ладьи, Матвейко взобрался на ертаульный струг, подошел к Ермаку и объявил:
— Батько, все атаманы, есаулы, сотники и казаки на месте. Набралось шестьсот пятьдесят четыре души. Ждут твоего наказа.
Стоявший рядом с Ермаком трубач затрубил в рог.
И тогда головной струг, белея парусом, отвалил от пристани и вышел на стремнину. Она подхватила суденышко и быстро понесла. За первым стругом устремились другие, и вскоре стая их плыла далеко-далеко. Поворот, и все исчезло, как дивное видение.
— Прощай Ермак! Прощай, браты, — слали вслед стругам последнее доброе пожелание солевары.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПУТЕМ ЧЕРЕСКАМЕННЫМ
1
Грозный и дикий Урал-батюшка встал перед казаками во всем своем суровом величии. Многое видали на своем веку повольники, но такой угрюмости нетронутой красоты, такого буйного могучества и необозримого зеленого разлива безграничных лесов никогда им не встречалось. Словно валы бушующего океан-моря, лесные дебри захлестнули и глубокие пади, и склоны гор, и скалистые кручи. Дика лесная пустыня! Кругом сердитый, лихой ветер навалил непроходимые буреломы. В глухоманях царит вечный сумрак, под густыми мохнатыми елями чуть приметные звериные тропы, и среди урманов тускло поблескивают мрачные темные озера. Но и богат, неисчерпаемо богат этот край! Много тут ценного зверя. На скалистые крутояры часто внезапно выносится козел и, как сказочное видение, не шелохнувшись, долго стоит с высоко вскинутыми гранеными рогами, рисуясь на фоне белесого неба. В горах ревут медведи, в кедровниках жируют белки: тут и полосатый бурундук, и черемная лиса с острой хитрой мордочкой, осторожный колонок и всякая другая пушная зверюшка. А в безмолвии сумрачного леса, возле брусничных болот бродят сохатые. Лоси — звери смелые, сильные и сообразительные. Они сразу узнают след человека и, завидя его, бегут прочь. Но темна тайга, пустынны и немы берега озер, — не слышно человеческого голоса. Только быстрая река, сдавленная скалами, злобно ревет и стонет, в ярости низвергаясь пенистыми струями. С крутоярья Уральских гор спешит и бушует река Чусовая, как зверь, рычит и клубится на переборах. Эх, быстрая и каменистая падун-река, сколько силы казацкой ты вымотала!
Четыре дня казаки плыли вверх по реке, преодолевая стремительное течение. Шалые воды с яростью били в борта стругов, лаженных крепко из доброго теса камскими кряжистыми плотниками. Выбивались из сил гребцы. Не за себя тревожились казаки, а за груз: сухари в рогожных кулях, крупу и толокно в мешках. В пути не было ничего вкуснее и сытнее толокна. Берегли и соль: без нее и пища не в радость.
Гребли казаки от утренней малиновой зари до золотого заката.
На ертаульном струге плыл Ермак, а с ним рядышком сидел смуглый коренастый татарин Махмед, которого Строгановы отпустили проводником. В свое время Махмед в орде Маметкула бегал на Русь, да камский казак вышиб его копьем из седла, и угодил татарин в полон. Строгановы держали его в колодках в остроге. Знал Махмед свои края: все броды и переходы, дороги и тропы, плавал по многим рекам. Хорошо говорил он по-русски и по-вогульски. Выпросил его атаман толмачом и проводником. Глаз не спускали казаки с Махмеда, хитер, плут, глаза волчьи, злые. Только выбрались на Чусовую, татарин оживился, заюлил. Чутьем догадался Ермак о тайных помыслах сибирца и пригрозил ему:
— Гляди, обманешь, — башку долой!
— Ни-ни, — покачал головой Махмед. — Проведу в Сибирь, счастлив будешь.
На пути вставали скалы — «камни»: они теснили Чусовую и закрывали дали. Расцвеченные накипью красновато-желтого мха, они то отвесно обрывались в бурлящую воду, то дробились и распадались на причудливые столбы, нагромождения, и тогда казалось — нет дальше дороги. Тревожно начинало биться сердце. Но поворот, — и снова раскрывались быстрые светлые воды. Скалы все выше, мимо них с ревом несется взбешенная стихия. Еще тяжелее и опаснее стало плыть. Того и гляди, — рванет стремнина и ударит струг о каменную грудь утеса! Измученные гребцы вечером тяжело валились у костров и засыпали мертвым сном. Спали под сентябрьским звездным небом, подложив под себя кошму, а у кого ее не было, — еловые ветви. Выставляли сторожевые дозоры.
К веселым чусовским струям ночью спускались с гор медведи полакать свежей водицы. Под утро, когда синие огоньки костров угасали, а над водой расстилался ночной туман, часто выходили на водопой лоси. Ермак любовался сохатыми. Давно, поди четверть века тому назад, он по насту охотился за ними и на лыжах гнал зверя. За эти годы много исхожено и пережито. Атаман вздыхал: «Эх, ушла-прошумела молодость!». Однажды он, оборотясь к проводнику, спросил:
— Скоро ли Межевая Утка?
— Угу, скоро, очень скоро! — залопотал татарин. — Еще день плывем, второй — будет тебе и Утка! — и склонил озаренное пламенем лицо, стараясь не встретиться взглядом с Ермаком. Костер пылал ярко, и уйти от пронзительных глаз атамана было невозможно. Они без слов говорили татарину: «Не юли, все равно не уйдешь от нас!».
Знал Ермак от старых охотников, что с Чусовой можно перебраться в Туру, а там в Тобол. Тут и откроется бескрайное царство сибирское! Но за временем забылось, какие речные протоки текут на запад, на Русь, а какие на восток — в Сибирь. Надо было отыскать сплавную речку, впадавшую в Чусовую, а истоком проходившую близ Туры…
Утром Махмед, показывая на крутые скалы, на которых шумел лес, бойко сказал:
— Вот тут дорога! Теперь скоро…
И вправду, — поворот, и сразу открылась неширокая быстрая Утка. Она бежала с гор, шумела на переборах. Горы стали сумрачнее. Густые ели темнили воду, цеплялись за мачты стругов, рвали паруса. Пришлось убрать их. Казаки усердней налегли на весла, но днища стругов все чаще и чаще ударялись о камни, цеплялись за коряги и застревали на перекатах и мелях.
Казаки полезли в студеную воду, приладили лямки и по-бурлацки стали тянуть бечеву. Бешеная струя сбивала ладьи, но казаки тащили их, упираясь ногами в гальку, хватаясь за колючие лапы елей. Поп Савва, в одних портках и рубахе, повесил на шею кольчугу, чтобы не мешала: он шел коренником. Натужно, тяжко шли и пели казаки стародавнюю бурлацкую припевку: «Ой, ты быстрая вода, ой, тянем-потянем!».
Ермак не утерпел, сбросил кафтан, снял кольчугу, разулся и широким махом перекинулся на берег. Он по-мужицки ловко впрягся в тягло и закричал озорно:
— Гей, браты, шевели веселей!
— Батька, да куда ты! — сразу окрикнули десятки голосов.
— А я разве ж плох! — Ермак навалился всей силой и посадил ладью на мель. — Ух ты, леший! — обругал он себя. — Ну, что наробил!
Поп Савва бросил лямку, утер пот.
— Кидай, браты, приехали! — рявкнул он на всю реку, и раскатисто-угрюмо многократно отозвалось эхо. — Некуда больше, батько, плыть. Разве это река, коли воду из нее добрым шеломом впору вычерпнуть! Не пройти нам с грузом, батька! Обманул нас ирод! Обманул Махметка!
— Сюда его! — гневно крикнул Ермак, — пусть ответ держит!
Хватились толмача, а его и след простыл. В суматохе он спрыгнул вслед за атаманом на берег, подался в чащу, и был таков.
— Догнать по следу, да выслать казаков вперед, прознать — далеко ли Тагил-река! — приказал Ермак. — Ну, дьявол, все равно достигну!
Раздосадованный, он вернулся на ертаульный струг и задумался.
Надвигалась осень. В елях порывисто шумел ветер, на воду сыпались золотые листья берез и багряные — осин. На полдень тянули последние утиные косяки. Торопился Ермак до зимы перевалить горы. На душе его было тревожно. Вместе с Матвеем Мещеряком он снова пересчитал кладь: прикидывал, на сколько хватит.
К вечеру вернулись разведчики и рассказали атаману:
— По Межевой Утке, батько, ходу дальше нет. Камни да переборы. Берега дикие и недоступные, — волоком ладьи не перетащишь. До Тагил-реки далеко, не добраться нам. Одна утеха в этом краю — рыбы тьма: на переборах хариусы плещут, шибко резвятся…
— Выходит, утром отплывать надо! — в раздумье вымолвил Ермак. — К той поре, даст бог, вернутся из погони…
Серые сумерки стали укутывать реку, замерцали первые звезды. Где-то в глухой заводи перекликались перелетные гуси. Пора бы спать, но Ермак сторожил у костра. В небе ярко пылали стожары, затаенно шумел лес. Вскоре чуткий слух атамана уловил треск сухого валежника под тяжелыми шагами. Ермак окликнул:
— Эй, кто тут бродит!
— Свои, — отозвался хриплый голос казака, посланного в погоню за беглецом. В освещенный круг вошли трое, измученные и удрученные. Здоровенный казак Колесо чесал озабоченно затылок и переминался перед атаманом с ноги на ногу.
— Сбег? — злым голосом спросил Ермак и почувствовал, как кровь прилила к темени. — Сбег окаянец!
— Нет, батько, не сбег он! — смущенно ответил Колесо.
— Казнили? Саблей зарубили?
— Ни-ни, и пальцем не тронули, — устало сказал другой.
— Тогда что же не довели сюда?
— Не сердись, батько, опоздали мы: медведь задрал татарина!
Атаман пытливо поглядел в глаза каждому:
— Верю, не врете. Одначе жаль: нужен нам басурман. Ох, как нужен! — Ермак огорченно замолчал.
Густо вызвездило. Над рекой заколебался непроглядный туман, потянулся вверх и серой овчиной погасил звезды. В думах о том, как быть, Ермак лег на кошму.
А казаки долго сидели у огонька, варили толокно и тихо переговаривались о дальней дорожке.
Около полуночи за каменистым мысом вдруг вспыхнул и замерцал огонек. «Откуда, кто такой?» — встрепенулись казаки и стали вглядываться в тьму. Огонек, между тем, как бы плыл по воде, — то мелькнет в курье, то укроется за ракитником. По тихому плесу золотилась дорожка. Не утерпели казаки, — тихо подобрались к берегу и, чуть раздвинув кусты, увидели маленького человечка в долбленом челноке, который жег смолье и, медленно двигаясь вдоль омутов, бил острогой рыбу.
«Вогулич!» — понимающе переглянулись казаки. Ильин не зевал, размахнулся и бросил аркан. Рыбак и охнуть не успел, как очутился в объятиях могучего казака. Станичник мял его, хлопал по спине:
— Не бойся, друг, худа тебе не сделаем!
Вогулич и не думал бежать, он покорился своей судьбе и только жалко улыбался.
— Таймень! Таймень! — восклицал он, показывая на речку и на острогу.
Казаки догадались и нашли в челне жирных сибирских лососей.
— Идем, друг! — повели они вогулича в табор. Тут его посадили у костра, сняли аркан и сытно накормили кашей.
Вогул наелся до отвала, лицо его лучилось от улыбки. Он хлопал себя по животу и повторял:
— Карош, ой, карош…
На востоке стало бледнеть, одна за другой гасли звезды, и с берега потянуло предутренним холодком.
Тяжелым шагом подошел Ермак.
— Батька, охотника пымали. Все края тутошние знает, — вскочили перед атаманом казаки. — Вот кто дорогу на Сибирь покажет!
Ермак внимательно оглядел вогулича. Низкорослый, с морщинистым лицом, одетый в жалкую одежду из рыбьей кожи, пленник казался беспомощным и жалким, но в глазах его светились ум и покой. Вогулич молча склонил голову.
— По-русски понимаешь? — спросил атаман.
— Мал-мало разумею. Тут русская человек я видел, шел своя дорога, — охотно отозвался вогул.
Ермак взял сучок и начертил на песке:
— Вот Межевая Утка, это Чусва, а как пройти в Тагил-реку?
Вогулич внимательно всмотрелся в рисунок, подумал и улыбнулся.
— Тэ-тэ… Ходи Серебрянка-река. Потом иди недалеко по лесу, там Жаровля! — пленник взял прутик. Рисуя кривули, он неторопливо выговаривал: — Жаровля кончается, Баранча идет, ходи по ней вниз — Тагил. Там иди, куда хочешь. Вся вода идет в Сибирь.
Вогулич задумался, лицо стало грустным. Ермак положил ему на плечо руку:
— О чем задумался? Как звать-то тебя?
— Мой звать Хантазей, много видел, — ответил охотник. — Но одно горе кругом. Тут князец Кихек берет нашу рыбу, наш зверь. Там хан Кучум. Мы давай князьцу и хану. Ой, худо жить! Не ходи туда, батырь, худа будет. Беги от хана!
— Можешь с нами идти? — спросил атаман, глядя в упор на вогулича.
— Боюсь хана. Ой, боюсь его, — заволновался вогулич. — Хан будет отсекать мою голову… наденет на кол! Боюсь!..
— А меня боишься?
Охотник повеселел:
— Зачем тебя бояться? Ты сильный, смелый. Не бьешь… Ходить с тобой буду…
Скалистые шиханы озарились пламенем зари. Казаки подняли паруса и поплыли к Чусовой. На ертаульном струге, опустив ноги в воду, сидел Хантазей и пел, подставив коричневое морщинистое лицо солнцу:
Батырь меня звал,
Я смелый посел с ним.
Мы идем далеко,
Пересагнем горы…
Выплыли в Чусовую. Ермак стоял в струге, — крепкий, массивный, из железа кованный, — и зорко оглядывал берега. Много шумных ручьев и речек сбегало в Чусовую, неся опавший желтый лист и муть осенних вод. Но в полдень среди этих рек блестнула одна — прозрачная и лучистая.
— Серебрянка! Тэ-тэ, Серебрянка! — ухватясь за руку Ермака, обрадованно закричал вогул. — Туда ходить надо, там добрый дорога!
Струги свернули в реку, светлую и чистую, подлинно серебристую. Текла она в каменистом русле: над ней громоздились скалы, а на них шумели, роптали густые кедровники. Река крута и резва, вода студена, как огнем обжигает. Тяжела тут путь-дорожка! Крепкие мозоли наслоились на ладонях гребцов.
Ермак прищурил глаза на приунывшего Брязгу.
«Что, милок, не на гульбу вышли! Не девок кохать-миловать! — с усмешкой подумал он. — Ничего, обвыкай! Впереди еще много, ох, много трудов и тягот!..»
Извилистые гряды гор преграждали ущелье, и река узкой змейкой виляла между ними. На легком ертаульном стружке Ермак далеко опередил ватагу. С каждым плесом мелела Серебрянка, и уходили надежды выбраться к ледоставу в Тагил-реку. Неожиданно справа выдался крутой мыс, нагроможденный из скалистых глыб. Как зубы диковинного чудовища, из воды торчали острые камни. Они шли грядой по дну реки, и вокруг них все кипело и пенилось. Атаман помрачнел, но затеи не бросил. И чем больше на пути громоздилось преград, тем упрямей становилось его лицо.
Отошли последние осенние золотые денечки — бабье лето. Потускнело небо, беспрестанно моросил дождь, по скалам и тайге серой овчиной ворочался туман, пронизывая до костей холодом. За день одежда становилась сырой, тяжелой и долго не просыхала даже у костра. В струги коварно просачивалась вода, и от нее стыли ноги.
Ермак не сдавался. Два дня плыли казаки по Серебрянке, и все мельче и мельче становилась она. Наконец, струги, шаркнув по каменистому дну, безнадежно остановились.
— Кажись, дальше нет ходу! — мрачно высказался Мещеряк. Его круглое рябоватое лицо выражало уныние. — Опять как на Сылве!
— Погоди каркать! — остановил его Ермак. — Выйдем на волок!
Казаки попрыгали в ледяную воду с остолопьями в руках. Надрываясь, они подсовывали колья под днища стругов, пытаясь их сдвинуть. Грузные струги еле-еле раскачивались: они прочно легли на каменное ложе.
А вода била, хлестала, шальная струя ревела и злилась на переборах. Ермак задумался.
— Погоди, осилю, бесноватая! — наконец сказал он. — Браты, тачай паруса лыком в одно полотнище.
— Хоть и велик будет парус, а не сдвинуть ладей! Если вот разве… А что, коли речку перегородить? — спросил вдруг Иванко Кольцо.
— Вот-вот, об этом я и подумываю, — живо отозвался Ермак. — Браты, тащи полотнище за корму, перегораживай реку!
Угрюмая падь огласилась бодрящими выкриками:
— Давай, заходи, крепи! Э-ге-гей!..
Вода рвалась из-под скал, бурлила, кипела, но казаки крепко держали полотнище и с натужными криками и руганью перехватили реку. И сразу у плотины упруго вздулась вода, струги вздрогнули, закачались и поплыли.
Казаки шумно вздохнули:
— Ох ты!
На берегу, под кедром, стоял Ермак и пристально следил за работой. Хантазей вместе с казаками впрягся в лямку. От усердия он выбивался из сил, но тянул бечеву. Атаман остался доволен, спустился к воде.
Шаг за шагом, с великим упорством, казаки отвоевывали путь стругам. Много раз перегораживали Серебрянку парусами. Она сварливо ворчала, двигала в ярости придонные камни, но перед казацкой преградой останавливалась и, каждый раз отступая, поднимала и несла струги вперед.
Река, постепенно мелея, незаметно превратилась в узкий ручеек. Задули холодные ветры. Хантазей подставил лицо ветру, принюхался и сказал Ермаку:
— Батырь, зима с Тельпоз-Иес летит. Вот-вот падет снег.
И верно, скоро замелькали снежинки. Атаман спросил вогулича:
— А где Тагил-река? Не соврал?
Хантазей спокойно ответил:
— Тагил скоро, но надо идти без лодка.
Ермак обдумывал… Ветер рвал и метал. Густел снег, струги стояли на темной воде.
«Ожидать зиму у волока придется!» — решил Ермак и повелел созвать казачий круг.
Гамно, буйно шел совет. Кричали казаки разное. Одни звали:
— Чего ждать? Обгоним зиму! В Сибирь. На Туре хлебно, зимовья готовые…
Другие утверждали:
— Сибирцы хлеба не сеют. Что там нас ждет, — неведомо. Допустим, и волок осилим, а дале что? Сибирские реки замерзли, как поплывешь?
Третьи насмехались:
— Зимовье ставить удумали! Сылву забыли! Хватит с нас! Вертай назад!
Все поглядывали на Ермака, ждали его слова, а он молчал. Иван Кольцо притих, — знал, испытывает батька дружину, кто куда тянет? Сдержанно вели себя и другие атаманы, думали: «Впереди — тьма, и позади беда. О чем гадать?».
И тут сорвался Дударек, закричал бараном:
— Не пойду в Сибирь, и тут не зимовать. Голы, босы, пузо от нечисти расчесали. Ин, сыплет белая гибель! Завел нас вогулич на смерть. Дай смахну башку гаду! — он выхватил из ножен саблю, но поднять ее не успел. Ермак схватил его за грудь так, что у Дударька дух захватило.
— Крови захотел? За честный труд вогулича рубить? — тихо, но угрожающе спросил Ермак. — Кричишь, — голы, босы… А мы все не в трудах живем, не из одного котла нужду хлебаем?..
— Не хочу погибать! Помирай сам, — словно огнем охваченный, кричал Дударек, злобно оскалив зубы.
— Э-вон куда метнул. Ну…
Ермак кулаком саданул горлопана в грудь. Тот, корчась, попятился назад и пал на землю. Завопил:
— Браты, что это?..
Никто не шевельнулся, не сказал слова в защиту Дударька.
— Гляди, другой раз не верещи! Удумаешь мутить, пеняй на себя. Губить войско не дам. — Ермак возвысил голос: — Браты, идет зима, отступать нам не гоже. Еще шаг, и мы на волоке, а там Сибирь. Чую, на верном пути стоим. Вон мысок, за ним падает ручьишко Кокуй. Тут и поставим город. Что скажете, браты?
— Любо, батько! Переждем тут до весны!
Иван Кольцо скинув шапку, тряхнул кудрями:
— Верим, батька, как сказал. И я чую — верная тут дорога! На случай пошлем дозор. Пусть Хантазей ведет до Тагилки-реки.
— Пусть ведет! А городок тут ставить! — заорали сотни глоток.
— Ставить тут! — подхватили другие.
Стало смеркаться. Дударек подошел к огнищу, у которого сидел Хантазей:
— Прости, погорячился малость, — виновато сказал он вогуличу.
Проводник встрепенулся, незлобиво посмотрел на казака доверчивыми глазами и ответил:
— Мал-мало забыл. Холосо жить будем. Тут кругом наши, рыба будет, зверь есть. Ух, сибко жить будем…
Он улыбнулся казаку и протянул к огню руки.
Дозор, высланный на переволоку, подтвердил слова Хантазея: Тагилка-река близка. При устье Кокуя-речки казаки вырыли рвы, насыпали валы и срубили избы. Городище обнесли тыном. Разгрузили струги, добро заботливо посложили в амбарушки, а ладьи вытащили на берег и поставили на катки.
По-хозяйски расположились на зимовку в Кокуй-городке. Ветер намел глубокие сугробы, и все замерло. Земля лежала дикая, лесная и безлюдная, но Хантазей уверял:
— Есть тут охотники и рыбаки, но хоронятся в чаще, боятся!
Ермак заявил:
— Зря боятся: никто не тронет, а кто обидит, тому не сдобровать.
Вогул тяжело вздохнул:
— Ох, батырь, не скоро верить будут…
Солнце в полдень висело вровень с сугробом, не грело, и рано угасала вечерняя заря, а ночи тянулись долгие. Тишина глубокая лежала над миром. Нарушал ее вой пурги, а днем — карканье голодных ворон. В трещинах приречных скал замерзла вода и гулко рвала камни. Раскатистый гул шел по реке, откликался эхом в лесах, но не разбудил медведей в берлогах. В полночь играли цветистые сполохи, и донцам казалось это дивным и устрашающим В первый раз Ильин прибежал и завопил:
— Казачество, светопреставление начинается. Сейчас ангелы слетят!
Ермак захохотал:
— Эх ты, башка! Ну, коли слетят, тебя архангелом поп поставит над ними.
— Рылом не вышел, — пробасил Савва. — Сей хват их в первом царевом кабаке споит.
— Нам ангелы не ко времени, — сказал Гроза. — Нам баб сюда, казаки по женкам стосковались. Все помыслы их о бабах. И словеса, и сны полны бабами, ангелы же бесплотны!
— Свят, свят! — истово закрестился Савва. — Что за блудодей! Что за богохульник! Сейчас пост сплошной, а заговорил о скоромном. Эхх! — у Саввы в глазах блестнули шальные искорки.
— Ни крестом, ни перстом прельстительных мыслей не прогонишь, поп! Ох, милые! — вздохнул Иван Кольцо и взглянул на атамана. Крепкий, жилистый, тот держался спокойно.
— На лед казакам выбегать — бороться, играть, гонять кубари! — властно сказал Ермак.
Утром он обошел избы, землянки и выгнал всех на Серебрянку, а сам с высокого берега следил за игрищем. Трое казаков с ременными бичами бегали по льду и хлестко стегали кубари-волчки, отчего они бешено вертелись. Охваченные азартом, сбившиеся в большой круг, казаки подзадоривали игроков:
— Ихх, хлеще бей, провора! Ишь, загудел!..
Лед звенел под быстро вращающимся кубарем. Казаки неутомимо бегали по реке. Тот, чей кубарь валился набок, под улюлюканье и гогот ватаги выходил из игры.
Ермак не утерпел и бросился в круг. Он перехватил у побежденного бич, подкинул кубарь: едва тот коснулся льда, оглушительно щелкнул ремнем и стал азартно его стегать. Кубарь с визгом завертелся, стремительно наскакивал на соседние кубари, сбивал их и, весело повизгивая, бегал по льду.
Громоздкий и тяжелый с виду, атаман вдруг оказался легким и проворным в игре. Он прыгал и вертелся бесом, весь устремлялся вперед, и от посылаемой его бичом страшной силы кубарь выл и шел напролом.
— Ай, да батька! Сам кубарь ладный! — любовались атаманом казаки.
Лицо у Ермака горело, ослепительно сверкали белые широкие зубы, каждый мускул играл в его теле. Одетый в короткий тигилей, он носился по ледяному простору, подзадориваемый дружными криками казаков. При каждом ловком ударе они ревели сильнее, оглушая побежденных.
Ермак по-молодому озорно вскинул голову, пощелкал по-цыгански бичом и в последний раз запустил кубарь…
Тут к нему сбежались все казаки, все друзья-товарищи по рыцарству, и схватив его, высоко на руках понесли на яр, в Кокуй-городок. В обвеянных морозным ветром крепких телах горячая кровь все еще не могла угомониться, и сила искала выхода. Выбежали вперед плясуны, и пошла веселая потеха. Заиграли рожечники, дудочники, зачастил барабан, а песенники подхватили:
Ой, жги-жги, говори…
Надвинулись сумерки. Луна выкатилась из-за тайги и зеленоватым оком глянула на казацкое игрище, на заснеженные избы и заплоты Кокуй-городка. Вскоре в замерзших оконцах, затянутых пузырями, замелькали огоньки, и над казацким становищем приятно запахло дымком.
— Эх, браты, радостна на товаристве жизнь, — разминая плечи сказал Ерммак. — Не унывай, — завтра на охоту, на рыбные тони двинемся. Всласть наработаемся, всласть и потешимся!..
Хантазей водил казаков на охоту. Знал он сибирские чащобы, как родное стойбище. По следу шел спокойно и находил, где таится зверь. Били казаки сохатого, лис, соболя и зайцев. Ходили на медведя, — поднимали из берлоги и укладывали лесного хозяина рогатиной да острым нажом. В один из искристых морозных дней вогулич примчал на лыжах веселый и закричал:
— Батырь, холосо, сибко холосо. В лесу есть пауль-вогульское селение — один, два, три. Можно рыбы взять, олешек. Жить будем!
Иванко Кольцо с пятью казаками на лыжах отправились к вогуличам. Хантазей шел впереди и по старой привычке разглядывал следы зверей:
— Тут лис пробежал, а это бурундук… Вот соболь… Ах, ах, бежать за ним, да в пауль идти надо!
У дымных чумов яростно залаяли псы. Хантазей весело прищурил глаза, успокоил:
— Холосо, сибко холосо. Хозяева из чума выходить будут, радоваться гостям. Ой, холосо!
На белой оснеженной поляне резко выделялись пять черных чумов, освещенных загадочным светом северного сияния. Из них выбежали проворные люди в малицах и отогнали собак. Хантазей заговорил с хозяевами, показывая на казаков, и повторял:
— Рус, Рус…
— Русс… Русс! — повторяли вогулы, радуясь приходу гостей, радушно зазывая их в чумы. Скуластые плосконосые женки, украшенные лентами и бляшками, стыдливо опускали глаза. Иванко Кольцо ухватил одну косоглазую за подбородок и засмеялся:
— У, милая, до чего ж хороша!
Казак Колесо, великого роста и простодушный, отозвался:
— Что поделаешь, на чужой сторонушке и старушка — божий дар.
Глаза казаков были ясными, шутки искренними, ласковыми. Вогулы чутьем угадывали, что пришли друзья. Казаки забрались в первый чум. Шкуры насквозь прокопчены дымом, который вьется вверх и ест глаза. Кругом нары, покрытые оленьими шкурами. Хантазей присел у камелька, разжег свою коротенькую трубку и глубоко затянулся.
— Ой, сибко холосо!
На лице вогулича — довольство: он стал раскачиваться и распевать веселое
Запрягу двух седых,
Самых быстлоногих олесек,
Поеду в гости,
Буду есть чужое
чч-чч-чч…
Казак Колесо хлопнул Хантазея по плечу:
— Вижу, жаден ты на чужое!
Вогулич подмигнул: глаза его смеялись. Он ответил казаку песней:
Ко мне приедут гости,
Заколю важенку,
Будут сыты гости
И собаки их
ык-ык, ык-ык…
— Ишь ты, ловок черт! Вывернулся! — добродушно засмеялся Колесо, а Хантазей весь сиял и продолжал распевать:
Зима-а-а-а…
В белой мгле,
Как тень птицы,
Летит нарта моя
Э-ке-кей…
Свист полоза,
Храп оленей,
В ноздрях у них льдыски,
А копыта тах-тах-тах.
Ой, тах-тах-тах…
Снежная пыль слепит глаза,
Я везу к себе вторую жену,
Красивую Кулу.
Она гладка,
Как лисичка…
Полог приподнялся, и в чум вошла краснощекая, в нарядной кухлянке, черноглазая молодка.
— Хантазей! — радостно вскричала она, увидев певца.
— Алга! — вскочил вогул. — Ты на песню присла! — он быстро вынул из меховых штанов ожерелье из волчьих зубов и подал ей.
— Тут и Иванко Кольцо завертелся:
— Гляди, что деется. Без бабы и он затосковал! — весело улыбаясь, он спросил молодку: — Что, хорош Хантазей?
Она закивала головой и ответила:
— На всю реку и тайгу один такой охотник. Он знает всякого зверя, птицу и человека. Хантазей! — она обласкала его взглядом. — А это кто, русские?
— Русские, мои друзья, — с важностью ответил он…
Вогулы уселись в круг, не скрываясь, с любопытством разглядывали казаков. Иванко Колесо сидел, по-татарски сложив ноги, лихо взбил чуб.
Вогулки подали осетра, испеченного в золе, и нарезанное ломтями оленье мясо. Оно было сырое, мороженое, обсыпанное искорками инея. Казакам понравилось. Они ели, хвалили хозяев и все их потомство. Колесо насыщался осетром, макал ломти в жир и нахваливал рыбака, поймавшего такую вкусную рыбу.
Вогулы светлели от похвал, были довольны гостями.
Алга, крепкая, веселая, услужала всем, но Хантазею подкладывала лучшие куски. У вогула раздувались ноздри от вкусных запахов. Прищурив от наслаждения глаза, он вздыхал:
— Холосо… Совсем мало-мало наелся. Ух! — он рукавом утер толстые жирные губы и отвернулся от корытца с олениной. Но тут Алга принесла на блюде, сделанном из бересты, отваренные медвежьи кишки, набитые морошкой. Глаза Хантазея снова вспыхнули: он растегнул кушак, приналег и на это угощение.
— Алга, Алга! — хватал он за кухлянку молодку. — Я тебе сейчас спою. Дай мне щангур!
Она подала ему музыкальный инструмент. Он ударил по струнам и запел:
Я увезу тебя, Алга,
В стойбище русских,
Батырь больсой
Сделает тебя моей женой
Эх-хх-хх…
Казаки наелись, от сытости слипались глаза, а вогулы протягивали им чаши с горячей дымящейся кровью оленя. Морщась пили, а хозяева радовались:
— Холосо, ой, как холосо…
Иванко Кольцо поближе подсел к вогулам и выпытывал пути на Искер.
— Сюда ходи долго-долго, будет тундра. Пурга там, олешки ходят. Нет там Кучума, — попыхивая дымком из трубки, рассказывал старик-охотник. — От Кокуй на Баранчу ходи, там плыви. И плыви, все плыви, в самый Искер плыви… Хан лют, олешек ему давай, соболь давай, лис давай, все давай…
Он присел на корточки, выбил золу из трубки, насыпал свежий табак и потянулся за угольком. Пламя в чувале озарило морщины на его лице и добрые детские глаза.
— Тундра ходи, когда в тайга гнус гудит, — продолжал он. — Холосо, много места. Только князь едет берет олешек, соболь берет, лис берет… И хан плохо, и князь плохо…
Кольцо почесал затылок, подумал: «Верно, все берут от вогуличей и остяков, худо им. А казакам мясо, рыба потребны, до весны продержаться. Как быть?»
Старик взял Иванку за руку:
— Русский добрый человек, оборони от хана… Есть надо казаку, Алга и сыны сети ставят, вези вам рыба. Олешек дам. Помогать будем…
В умных глазах вогула ласка, добродушие, предупредительность. Кольцо схватил хозяина за плечи:
— Ну, брат, спасибо. Вот как рады дружбе!..
На стойбище пала ночь. Вспыхнуло и замерцало сияние. Пестрым пологом оно охватило полнеба, колебалось, и одни цвета неуловимо переходили в другие.
Вогул-старик сказал Иванке Кольцо:
— Завтра будет хорошо. Я беру ремешок-тынзян и ловлю олешек. Дам русским мясо, олешек. Вези!..
На ранней заре Хантазей разбудил казаков. Нарты были нагруженны, олени впряжены. Подошел старик:
— Мой Ептома везет гостей. Садись, надо ехать…
Казаки уселись на нарты, Ептома взмахнул хореем и звонко крикнул:
— Эй-лай! — И олешки помчались по твердому насту.
Хантазей ехал верхом и что-то протяжно пел. Свежий ветер относил его голос в сторону. На пригорке стояла, как пенек, Алга, — стояла долго, неподвижно, и снежок порошил на нее, падал на лицо, на мохнатые ресницы, на крепкие губы. Она словно не замечала этого, прислушивалась к тому, что творилось у нее на сердце.
Жить стало сытнее, веселее. Казаки ходили в гости к вогуличам.
Часто в Кокуй-городок наезжал аргиш — олений обоз с рыбой, олениной, брусникой. Ермак угощал вогулов, расспрашивал про места, а в городке в эту пору стучали топоры: плотники ладили сани, чтобы по апрельскому снегу пройти с грузом волок.
Ночи стали долгие, темные, — волчьи ночи. Савва потешал казаков сказками. И когда в черном небе вдруг вспыхивали сполохи, казаки выбегали на полянку и все дивились таинственному сиянию. Дивился и Ермак:
— Что за край, что за диковины! Э-гей, Савва, сказывай про него!
В тесной рубленной избе, при жарком свете лучины, казаки слушали рассказ попа о неведомой стране.
— На полунощи лежит дивная страна Лукоморье, — многозначительно, глуховатым басом говорил Савва. — Оттуда и струится сей причудливый свет, озаряющий черное небо в глухую зимнюю ночь. Ходит в народе преданье — много там незнаемого и непонятного. Велико богатство той страны, много, сказывают, в ней дивных идолов, золотых баб и медных гусей. По реке Оби можно сплыть в сию страну, где стоят горы, заходящие в луку моря, а высотой до небес…
Строгановский писец Мулдышка, маленький, обросший волосами и прозванный за то Песьей Мордой, вдруг вскипел и закричал на всю избу:
Не верьте, казаки! На погибель пошли, а ныне Лукоморьем манят атаманы. Нет наших сил!
Ермак вскочил со скамьи. От резкого движения она упала с грохотом. Мулдышка сразу смолк, втянул утиную голову в плечи, забормотал что-то невнятное.
— Казаки, так ли думаете, как сие гусиное перышко, слабодушный человечишка? — спросил атаман.
— Батько, да то голос щенячий! Заскулил кутенок! — с пренебрежением к Мулдышке заговорили казаки. — Ему на печке лежать, да подле бабы ластиться!..
— Ну, коли так, спасибо, браты! — поклонился Ермак. — А ты, Песья Морда, вон отсюдова. Живо!
Мулдышка съежился и, пятясь, нырнул в дверь. Савва подумал недовольно: «Напрасно батько выгнал кривую душу, затаит зло!»
Казаки потребовали:
— Сказывай, поп, про Лукоморье!
Савва откашлялся и продолжал неторопливо:
— За полтыщи годов до нас ходили в дивный край русские люди. О том читывал я в новгородских сказаниях. Приходили сюда с Ильмень-озера купцы и торговали у народов лукоморских моржовые клыки, пышную рухлядь и серебро. И арабы, и персы, и франки, и норманы чистым золотом расплачивались с новгородскими гостями за драгоценный мех…
Как волшебную нить, тянул, ткал свое сказание Савва. В словах его — влекущих, обаятельных — в цветистом сиянии полночного неба вставала дивная страна.
— Но оберегают то Лукоморье дикие и опасные люди. Дюже злы они и бесстрашны. Преданье дошло: загнал их за Камень, к полуночному морю сам царь Александр Македонский. А жили они до того в чудных местах, где с неба никогда не сходит солнце. И загнал этих человеков — племени Иафета — царь Александр за Русь, в скалистые горы. И в горах с той поры слышен был говор. Сидели дикие человецы в недрах гор, в Камне, и боялись на свет показываться. Прорубили они оконца малые, и клич давали новгородцам, когда те приходили в Лукоморье, и протягивали руки, прося железа — ножей, топоров, секир, а в обмен клали в укромном месте рухлядь. А наменявши топоров и секир, выбрались они из гор и стали жить в полнощной стране.
— Чудеса! — насмешливо вымолвил Ермак. — Небыль одна.
— Эх, батька, хоть и не так, как Саввой сказано, а все же душа тешится! — со вздохом сказал Иван Гроза. — Человек без думки, — что соловей без песни.
— Это верно, — охотно согласился Ермак. — Но тут где-то Хантазей. Он то, может, и был в Лукоморье! Эй, милый! — позвал атаман вогулича.
Хантазей поднялся с пола. Хоть многое ему было и непонятно, а слушал попа усердно.
— Скажи-ка, друг, ты был у моря?
— Мал-мало жил. Стадо олешек гонял на горы у Обской губы и на берег ходил. Гулял стадо по тундре. Ой, холосо, сибко холосо!
— Зверя много? Соболь, песец, лиса есть? — упрямо допытывался Ермак.
— Соболь есть, лиса есть, олешек много, ой много! — ответил Хантазей — Лето — жарко, гнус гонит, стадо веду в горы Пой-ха!
— Значит, сказания верны, — повеселели, загудели казаки. — А веверицы с неба ниспадают?
— С неба снег идет. Белка нет! — с насмешливостью ответил Хантазей, подозревая, что его вышучивают.
— Белке в тундре, как в степу, делать нечего, — вставил казак Колесо — Где ей орешков пощелкать?
Савва с довольным видом оглаживал бороду, щурил глаза. Иван Кольцо похвалил его:
— Все-то ты знаешь, расстрига. Хоть с неба и не валится рухлядь, но соболей там, видать, бесчисленно. И выходит, браты, стоим мы у врат Лукоморья. Эх, Сибирь-матушка, Кучуму ли тобой владеть? Тут нужен хозяин умный, зоркий, смелый. Браты, нам ли унывать? На верной дорожке стоим…
Все осознавалось смутно, в тумане еще лежала неведомая страна, но сердце к ней тянулось неодолимо. Чего только о ней не сказывалось! Выходит, нет дыму без огня.
— Батька, — поднялся со скамьи Колесо. — Прошли, переведали мы много, не отрекемся от своего. Пойдем в заветную землю, может там жаркое счастье для русского человека схоронено! — Голос казака звучал душевно, и чуялось что идет его слово от сердца. Манит его думка о Лукоморье, не дает покоя.
В избе стало душно, по бородатым лицам катился обильный пот. Хотелось долго слушать о Лукоморье, но давно угасло сказочное сияние и установилась глубокая тьма. С легким шорохом за стенами падал густой снег. Казаки разошлись по землянкам, и каждый унес свою заветную думку.
Хантазей, лежа на полатях, вспомнил Алгу:
Вот поплосу батыря и выкуп за нее дам. Заживу с бабой! — Здоровый сон смежил ему глаза, а он все еще улыбался — чудилась ему крепкая, проворная Алга с ожерельем из волчьих зубов.
Ермак сидел у оконца, затянутого рыбьим пузырем, и услышал шепоток. Сразу он узнал голосок Мулдышки. Слова текли слюнявые, клейкие:
— Незачем брести нам в Лукоморье, коли оно тут рядом. Бегал в пауль, у вогуличей рухляди — завались: соболь к соболю. А бабы, ух, и грязнущие! А ядренные, не ущипнешь!
Двое других покашливали, молчали. Под ногами заскрипел снег, и все сразу затихло.
«О чем думает Песья Морда! — покачал головой Ермак. — Но кто же с ним уговаривался?»
Ермак пытался догадаться, но так и не нашел, на ком остановиться.
С утра серое небо стало ниже, задул пронзительный сиверко, началась пурга. Три дня выла, бесновалась метель, глухо шумела тайга. С треском валились старые лесины. К заплоту казачьего зимовника пришел поднятый незадачливым охотником медведь, закинул лапы и заревел. Дозорный казак Охменя долбанул зверя обухом по башке и сразу уложил его.
Три дня не было Хантазея, — ушел в тайгу и не вернулся. Горевал Ермак: не погиб ли добрый охотник?
На четвертый день улеглась пурга, засинели снега, и неподвижно стояли вековые кедры Кокуй-городка. Ермак вышел на вал и от яркого снежного сияния жмурил глаза. И все же заметил он — по реке спешит охотник к зимовью.
— Хантазей! — обрадовался атаман.
Вогул шел тяжелым шагом. Не дойдя до тына, он упал.
— Эй, друг, что с тобой? — Ермак сбежал с тына, заглянул в лицо вогулича и весь вскипел: — Да кто тебя так окровянил?
— Сибко казаки вогулич пограбили… Ох, какое горе! Алга, Алга моя! — горестно покачал головой Хантазей.
— Кто душегубы, сказывай, я им глотки перерву! Иуды! — атаман скрипнул зубами.
Хантазей сомкнул глаза, ослабел. Дозорный ударил в колокол, со всего зимовья сбежались казаки. Вогула внесли в избу, омыли. Он открыл глаза.
— Сказывай, кто? — настойчиво потребовал Ермак. — Судить будем за измену рыцарству.
— Сбегли, — прошептал Хантазей. — Они и тебя хотели убить, батырь. Пурга мешала… Дорога сбилась…
— По сотням скликать, кто сбег! — приказал Ермак.
— Ужо прознали, — отозвался Иванко Кольцо: — Песья Морда всему коновод, Яшка Тухлый — в Жигулях пристал, и трех донских дуроломов сманили.
— Догнать!
К вечеру беглецов настигли под утесом Серебрянки. Мулдышка пустил стрелу в своих, промахнулся. Выхватил саблю и заорал:
— Браты, выручай… Пируют атаманы нашей кровью. Не желаем в Лукоморье. Бей их!..
Беглецы обнажили сабли.
— Все равно умирать, — мрачно сказал маленький корявый Прокоп. В былые годы служил он во Владимире приставом, проворовался и сбежал на Волгу. Был неимоверно кровожаден. «Я тебе пошлю смерть скорую, враз удавочку дерну, и душенька твоя прямо в рай рванется к престолу, господа бога!» — елейно говорил он своей жертве, отводя ее в сторону, чтобы задушить.
Со старшими и сильными был подобострастен. Но сейчас, зная, что дело плохо, заорал Ильину:
— Эй, чего тебе надобно? Казнить нас удумали? А за что казнить? За чумазых вогулишек, за кусок медвежьего сала? Дешево нас ценишь! Тронь только! Лучше уходи с нами! Ну, что ты выгадаешь у Ермачишки? Эх, трень-брень, уходи отсель! Атаманы добра нахапали, а ты что?
— Он, орясина, осина-дерево, перед атаманом дрожит, — насмешливо подхватил Мулдышка. — Ему царство лукоморское Ермачишко обещал, а в жены сулил царевну. Эй, кручина, уходи отсель, а то беги с нами!
Ильин скрипнул зубами:
— Не по пути мне с тобой, Песья Морда! — ответил он. — Клади саблю да винись!
— Дурак! — выкрикнул Прокоп. — Дуролом! Кровь изо рта идет, десны гниют, а Сибирь ищет!
Ильин надвинулся, и не успел третий беглец — Яшка Козел — крикнуть Мулдышке: «Остерегись!» — свистнула сабля, и голова изменника покатилась в сугроб.
Казаки крикнули:
— Корись, а то всех порубаем! Эй, жаба! — пригрозили Прокопу. — Пакостить сумел, умей и ответ держать!
Прокоп перетрусил, побледнел.
— Братцы, братцы, это все Мулдышка натворил и нас на окаянство подманул. Только не бейте! — он пал на колени. Казаки мигом скрутили ему руки. Яшка Козел и дружки молчаливо отдали сабли и саадаки.
— Мы не задирщики, духом ослабели. На бабу загляделись, и грех настиг, — оправдывались они. — Замолви слово пред атаманом, службу тебе сослужим.
— Другов предали, за таких язык не повернется! — резко ответил Ильин. — Гони, казаки, всю эту погань на зимовье! Батька сам там рассудит!
— А того… Песью Морду захоронить надо бы, — заикнулся один из вязавших казаков.
— Собаке и смерть собачья! — отрезал Ильин.
Беглецов пригнали в Кокуй-город, вывели на казачий круг, сбили с них шапки. Повольники окружили изменников, безмолвно взирая на них. И куда ни поворачивались злодеи, везде встречали колючие злые глаза. Только некоторые растерянно смотрели на недавних товарищей, боялись за себя, за свои мысли, которые терзали их в глухие таежные ночи. Были и такие, которые трепетали от думки, как бы Яшка Козел не выкрикнул: «Эй ты, Завихруй, что молчишь? Не ты ли уговаривал потопить струги и малым гуртом бежать на Русь?»
Над городищем простиралась глубокая тишина, а кругом — чистые сверкающие снега. Среди наступившего безмолвия раздался властный голос Ермака:
— Браты, нашлись среди нас трусы и подлые души, которые всю рать опозорили. Добром нас встретили вогуличи, корму дали, словом обогрели. А что натворили злодеи? Побили, разграбили друзей наших, чумы их пожгли, жен обесчестили. Кто Алгу убил?
У Яшки Козла трусливо забегали зрачки. Чтобы выгородиться из беды, он плаксиво закричал:
— Товариство, накажи меня плетями, всю истину поведаю. Мулдышка затейщик всему. Он подговаривал: «Айда за Камень! Вогуличей побьем, на олешек — и через Камень, к Строгановым. Погуляли с атаманом и хватит. По нем плаха плачет, топор скучает, а мы не клейменые. Мы вольные пристали!». Алгу Прокоп обесчестил и головой в прорубь.
— Врет сатана! Ой, врет, браты! — закричал Прокоп. — После меня сам бабу терзал. Вдвоем мы — оба и в ответе.
Ермак, насупившись, слушал. С окаменелым лицом стоял он на помосте, малиновый с заломом верх его остроконечной шапки багрово пламенел на фоне белесого неба.
— Нашкодили — и в кусты! На покойника валить вздумали, а у самих разума не было? — спросил он.
Два других виновника повалились в ноги атаману:
— Прости, батько! Простите, браты, за поруху донского обычая. Не по чести сделали. Мы не вьюны и не змеи, по прямоте каемся в своем окаянстве. Сумленье взяло, далеко загребли в чужедальную сторонушку. Не манит ни Лукоморье, ни рухлядь. Тут зима лютая, а на Дону, поди, ковыль вскоре поднимется, голубое небушко засияет…
— Притихни про Дон, не трави сердце! — выкрикнул Колесо.
— И нам кручинно, надсадно стало, — по степу решили на конях промчать. Эх, браты наши! — потерянно вымолвил кучерявый, с синими глазами, беглец.
— Не жалобь воинство! — перебил Ермак и поднял руку: — Браты, казаки, у кого кручины нет? Аль всем, как тараканам, разбежаться по запечью? Выходит, за порух товариства, за злодейство, за слезы материнские и девичьи на волю отпустить? Пусть один по одному идут-бредут, так что ли?
Круг молчаливо сомкнулся.
— Молчите? — повысил голос Ермак. — Пусть идут, малыми шайками бредут?
— Не мочно так, Ермак Тимофеевич. Горит сердце, а не мочно! — запротестовал бывалый донец Охменя. — Браты, сколько вместях хожено, бед перебедовано, шарпано вместе, но николи изменщиков не терпела ни русская земля, ни наш народ, ни станица. Смерть им, коли злодеями стали! — Охменя, высказав страшные слова, помрачнел, потупил глаза.
— Охмень, аль я с тобой не бился плечо к плечу? Не ты ли меня научил первую стрелу с посвистом пускать? — голубые глаза кучерявого налились слезой.
— Вот потому и кривить не хочу! — Донец скинул шапку и поклонился кругу. — Браты, жалко золотой поры, но раз опоганил ее, нет к нему жалости. Казачество дороже одного злодея!
— Правильно, Охменя! Станичники, дави жабу!
Прокоп закрыл руками бугристое лицо. Упал на землю, хватал за ноги.
— Пощадите, казаки! Каюсь, хотел с Мулдышкой убить атамана. Не троньте, — всю правду скажу.
Дружинники с брезгливостью отталкивали его:
— По харе видна вся твоя правда. Зверь-зверем жил. Для своей похоти и жадности пошел с нами. Прочь, пакостник! — его стали пинать сапогами. Пронзительные крики Прокопа разожгли гнев. По кругу пошло:
— Бей сатану… Кроши!..
— Стой, браты! — крикнул атаман. — Без мучительства. За измену и злодейство — в куль да в прорубь…
— Бачка, бачка! — расталкивая казаков, закричал Хантазей: — Батырь, не надо так. Не хоросо…
— Да ты что? — удивился Ермак. — Да они твоих вогуличей побили, Алгу загубили. За кого просишь?
Хантазей протянул руки, на глазах блеснули слезы:
— Ой, дорог-мил мне Алга. Нет больсе Алги. Горе мне. Проклянут меня родичи, что навел в пауль чужих. Нет, не надо так. Пусти, — пусть живут. Ой, пусти их…
— Погляжу на тебя, овечка божья ты — Хантазей! Доброй души человек, но знай — в воинском деле есть честь и закон. Недруга бей, насильника вгоняй в землю. Волку и волчья встреча. Пожалеешь змею, — распалится пуще, затаит злобу.
— Бачка, не губи их! — умолял Хантазей. — Мне больно Мулдыска делал, не холосо Прокоп делал. Я простил их…
— Мы не отара, а войско! — отмахнулся от него Ермак и выкрикнул: — На смерть осуждаем, браты?
— На смерть! Вести их на реку! — неумолимо отозвались казаки. — Бери!..
Прокопа и дружков, подталкивая в спину, повели к омуту, к черной проруби.
— Ай-яй-яй! — заголосил Прокоп. — Ух, да ты что же это? Ай, ратуйте! — закричал он.
— Браты, пожалейте, — взмолился Яшка Козел и опустился в сугроб. — Не пойду, тут кончайте!
Его подняли и поволокли два дюжих повольника. Охменя нес четыре мешка. Провинившиеся донцы шли молча, глаза их были налиты страшной скорбью.
Вот и речной простор. Вертит водоворот в темной полынье. Донцы стали лицом к востоку, помолились:
— Ну, коли так, прощайте…
Прокоп и Яшка бились головами, выли и судорожно цеплялись. Связанных, их силой усадили в кули.
В последнюю минуту взмолились и донцы:
— Пощади, батька, отслужим вины!
Ермак отвернулся:
— Кидай! В самую глубь кидай!
«Не вернуть прошлого! Помиловал бы, вернул бы к жизни… Но нельзя — дело велит!»
Ермак закрыл глаза, чтобы люди не видели его слезы.
2
Над рекой засеребрился весенний воздух. Весело зашумела тайга. С глухим шорохом садился жухлый наст. Солнце все выше поднималось над кедрачом. С крыши застучала капель, вызывая на сердце томление. Отзвенели хрусталем сосульки, подрезанные лучами весеннего солнца. На березке маленькая синичка завела свою бодрую весеннюю песенку. Разошлись серые тучи и заголубело небо. Зачернели проталины, в избу на сапогах принесли первую грязь.
Ермак повеселел и встречал казаков шутливо:
— Сказывали, в Сибири зима тринадцать месяцев, да не выдержала, сдала. Эх, пора!
Пока скованная морозами река дремала, казаки поставили малые струги на полозьях, нагрузили их пушками, зельем, всяким запасом и по насту двинулись к Жаровле-речке. Многие грузы клали на слеги и волочили.
Впереди шел Хантазей. Он пел, а глаза были полны грусти.
Белокрылая Улетает зима, Скоро зашумит река. Эй-ла!
Звонкие мартовские дни отзывались голосистым эхом. На севере синела гора Благодать. По сторонам шли увалы, с них шумели вешние воды. Ночью в черном небе пламенели яркие звезды, пощипывал мороз. Грелись у костров. Вдоль волока продувал холодный ветер, но из тайги шли неясные волнующие шумы. Всем своим чутьем казаки ощущали великое пробуждение в природе: в темной бездне неба по-иному ходили облака, легкие, ласковые, в крутых горах ревели сохатые.
Устюжинский плотник Пимен, сухопарый мужик с длинными руками, признался Ермаку:
— Если бы ты знал, батько, что творится на душе: каждую весну тревожусь, как старый гусь на перелете, поминаю молодость. Одного жалкую — экие струги кинули у Кокуй-городка, на век ладили.
Глядя на его сильные, проворные руки, атаман улыбнулся:
— Верно. Такие ладьи, всю Волгу проплыви, не встретишь! Но не дотащить их, да и на Жаровле напервое встретят мели. Будем живы, этакими удачливыми руками лучшие сладишь…
На яркой зорьке на вершине лиственницы встрепенулась синичка, встряхнулась, разбрызгала серебристые искорки утреннего инея и запела. С ветки на ветку поднялась и, будь здоров, вспорхнула и потонула в сиянии утра.
— Вот оно веснянка-вестница! Теперь близко весна, ой и близко! — вздохнул плотник Пимен и передал свою радость Ермаку. — Батька, спешить надо…
Спешили, надрывались из последних сил. Снег сходил. Загомонили ручьи, полозья чиркали о талую землю. Туманы поднимались над понизью, а с казачьих лиц лился пот.
— Гляди-ка, браты, у меня из голенищ пар хлещет! — блестя озорными глазами, пошутковал Охменя.
Тянули до упаду, и все окликали вогула:
— Хантазей, где же твоя пьяная река, гулящая вода?
— Рядом: одна ночь, — и Жаровля!
На последнем ночлеге, чуть только блеснули багровые проблески, в темой чаще раздалось таинственное глуховатое бормотанье: «Чу-фы-ш-ш-ш… Кок-кок… Кок-кок…»
Сразу все оживились.
— Браты, косачи заиграли!
Ох, тяжел и труден последний путь! Рвались тяжи, полозья засасывало в болото. От надсады и нетерпения казаки яростно ругались.
И вдруг сразу распахнулся яр. Под ним, ломая ледяной покров, разлилась река.
— Жаровля! — облегченно вздохнули дружинники.
Савва скинул шапку, перекрестился:
— Ну, теперь, браты, плыть и плыть по стремнине до самого Лукоморья.
Хорошо и весело стало на душе! Весенняя Жаровля тешила ее звоном в лесу, в еланях, в болотинах, на пойме. А тут, словно заждались, вдруг на север двинулись шумные перелетные стаи. Стон и журчанье лилось с мирного теплого неба: курлыкая, спешили в дивное Лукоморье журавлиные косяки. Как легкие далекие парусники в синем океан-море, величественно плыли на своих белоснежных крыльях лебеди.
Пришел песенный час в этот суровый край, — все пело: и оживший лес, и талая, налитая соками жизни земля, и ручьи, и птицы, и сам чистый, прозрачный, искрящийся воздух!
Перевал давно остался позади. В легком мареве все еще синел Урал-Камень, а впереди ждала быстрая путь-дорога по шалой воде.
Казаки спустили свои малые плоскодонки; бурная вешняя вода подхватила их и понесла на восток. Ну, как тут не запеть, если сердце жаждет радости. Ермак взмахнул рукой, и на ертаульном судне взвилась песня, поплыла над рекой, над лесами, над затонами:
Сине море колыхалося, Орел с лебедем купалися…
И впрямь, в тихой заводи, трепеща крыльями, кружились в брачном танце лебедь с лебедушкой. У берегов билась рыба, плескалась, сверкала, ярая вода затягивала на отмели икру.
Река набирала силу. Любо плыть по сильной гулевой воде! Берега были тихи и пустынны. Зацвели вербы.
Казаки перекликались, просилось им на сердце заветное:
«Здравствуй, весна… Здравствуй, сибирская сторонушка! А на Руси березол-апрель, давно пасечники выставили из омшанников на солнышко ульи, окуривают пчелок. Ох, и веселая пора, — молодость кружит девичьими хороводами, играет в горелки! А тут? Эх, Журавлик — шалая вода, неси вперед, неси к свет-солнышку, на широкий простор!».
По вешнему быстрому Журавлику сплыли дружинники в Баранчу, а по ней спустились до Тагил-реки. На берегах золотился песок, а над водами поднимались корабельные жаровые сосны. Ермак позвал Пимена:
— Гляди, сколь звонок лес! Клич плотников, строй струги.
— Ох, батька, поверишь ли, сердце сомлело от радости, — с готовностью отозвался устюжанин. — Не струги, лебедей белогрудых слажу.
Не откладывая, он собрал десятка два плотников, и застучали топоры. Все войско впряглось в работу: валили лес, тесали, тащили на берег, где Пимен по-хозяйски покрикивал: — Круче, круче поворачивайся!
На устье Ермак облюбовал холм, и тут казаки стали ставить новый городок.
— И к чему он нам, если поплывем дале? — удивился поп Савва.
Атаман ухмыльнулся в курчавую бороду:
— В молитве и сказаниях силен ты, а в походе дите. Не на гульбу идем, и враг неведом. При неудаче и удаче городок сгодится.
Иванко Кольцо тряхнул кудрями и сказал на это:
— А мы дуром, батько, Сибирь возьмем!
— Головы казачьи поберечь надо, Иванушка. Без казаков далеко ли уйдешь?
Савва подумал: «Ходит Ермак тяжкой поступью, шаг надежный. Ступит — не отдаст землицу. Ходун русский!»
Впереди, на восток, текла Тагил-река, позади, на западе, в синеве растаял Урал-Камень. Савва вздохнул: «Придется ли вернуться на Русь? Кто знает?».
Хороша река, раздольна, — веселая весенняя дорожка! Куда девались долгие черные ночи? Весенние дни — теплые, радостные и светлые. Вот уже давно погас закат, а леса и берега реки, чудится, затканы серебристой дымкой. Близится полноь, а призрачный свет не хочет уступить темноте. Так до полуночи и царит кругом светлый тихий сумрак. Леса, дремучие, смолистые, стрелой вздымаются ввысь. Не знают тут боры-беломошники топора. Не шелохнутся сосны, не пробежит ветерок, не тряхнет веткой. На быстрой воде поблескивает рябь, слышны изредка всплески, на отмелях и переборах играет молодой окунь. На розовой зорьке к водопою из лесов выходят оленьи стада.
Зацвела черемуха, зазеленели приветливые елани, по которым бродят и копаются, добывая корешки для очищения желудка, медведи.
Солнечная, радостная Тагил-река! Струги плыли по течению, и не было больших печалей. По-прежнему шли безлюдные берега. Изредка встречались мирные кочевники. Завидя рать, угоняли стада в урманы. Ни стрел не пускали, ни крика, ни угроз. По укромным местам ловили рыбу вогулы. Добродушным взглядом они встречали казаков, отдавали рыбу, убитого зверя и радовались старому кафтану. Ермак накрепко запретил обижать кочевников. При виде их Хантазей выходил на берег. Неторопко, легкой походкой подходил к рыбарям и приветствовал:
— Пайся, пайся, рума ойка!
И вогулы становились ласковыми, разговорчивыми.
— Холосо, очень холосо. Тура близко! — оповестил Ермака проводник.
А на заре, когда над лесом догорала последняя звезда, из чащобы на берег вышел древний русский дед, с лиловым носом, с охваченной желтизной бородищей и морщинами вокруг живых, умных глаз. Он смахнул лисью шапку и низко поклонился стругам:
— Никак русские?
— Русские, дедко, — добродушно откликнулся Ермак и приказал грести к берегу. Он удивленно разглядывал старика. — Каким ветром занесло тебя в чужедальную сторонушку?
— Искал вольных краев. Шел-брел, утек от бояр-шишиг и тута прижился среди зверья. Пчелкой тружусь.
— Не тревожат? — пытливо уставился атаман в пустынника.
— Лес без краю, зверья полно, пойди найди меня. Эй, милый, простор тут для прилежных рук.
— А там что? — кивнул на восток Ермак.
— Дальше, милок, простерлось великое царство сибирское… Кучум-хан, почитай, аж до Туры протянул свою тяжкую длань.
— Плывем с нами, дедко? — приветливо позвали казаки.
— Куда, родимые? Ужотка я доплаваю: мало-то осталось жить. А вам, милые, путь-дорога!
Воды Тагила быстро вынесли струги в Туру. Тихие леса прерывались полянами. Сильно пригревало, на землю из небесной лазури лилась серебристая песня. В казаке заговорило извечное — крестьянская тоска по земле. Он сияющими глазами вглядывался в даль, где темные холмы дымились испариной. Эх, соху бы сюда!
— Жаворонушка! — млея, прошептал Охменя.
И все кругом было так, как на Руси, даже запах прелой земли казался родным, с юности милым.
— Плывем! — закричал Колесо.
Ермак повелел:
— Плыть тебе, казак, на поиск. Прознай, что за народ, кто хозяин в краю? Все прознай: и про хозяев, и про коней, и овец…
Вскочил Колесо с двумя казаками в легкий стружок и погнал по струе. У речных стремнин поднимались белесые яры. И по-прежнему не смолкала стройная и величавая песня жаворонков. Сердце казачье не находило покоя: шумел камыш, то и дело поднимались стаи гусей, уток, охотничье сердце билось, и глаза щурились и сияли, будто впервые увидели они дивный раздольный мир.
В тихой заводи казаки схватили рыбака. Татарин в островерхой шапке пал на колени, взвыл.
— Не бойся, говори по душевности, все, как есть! — заговорил с ним по-татарски Колесо.
Вмиг татарин повеселел, прижал руку к сердцу:
— Салям алейкум…
— Будь здрав, — отозвались казаки. — Что за царство?
Рыбак развел руками:
— Тут и там лес и вода, и земля князя Епанчи. Мы его добытчики, а он холоп хана Кучума. Велик бог, много воинов у хана! Епанча храбр и хитер!
— Дай шерть, что князьку не донесешь, живым пустим, — дружелюбно предложил Колесо.
Татарин взял горсть влажной земли, приложил к губам.
— Коран нет, землю целую, — страстно пояснил он. — Земля есть жизнь всему. Отпусти, батырь!
— Иди с богом! — махнул рукой Колесо.
Ермак похвалил дозорных за осторожность и обхождение с татарином.
— Ныне вступили мы в курень хана Кучума, остереженье, отвагу и доброжелательность к простому человеку должны держать в думках! — сказал он на привале казакам. — Не сегодня, так завтра встретим супостата. От первого шага идти твердо, — враг поймет, кто идет! Не казаки ноне плывут, — Русь двигается! Не добыча ноне манит нас, с пользой для Отчизны должны мы схватиться с ханом — потомком Чингиса. Тот, кто забудет русские ратные обычаи, — тому не место с нами.
Круг молча слушал батьку: знали, куда он вел, во что крепко верил, — был всему голова, разумная голова. И говорил так, что за каждым литым словом его чуялась большая правда.
— Ведомо мне, многие тайно корят меня в жесточи. А как жить среди тревог и врагов без воинского закона? Отсекать потребно вредное, что может погубить наше войско. Так ли сказываю, браты?
— Так, батько, сказываешь, — одобрительно загудели казаки. — Люб нам старый донской закон, от него и жесточь правдивая. Хочешь жить, не щади слабодушного и трухлявого!
Долго еще слышались такие выкрики.
— Вашей волей так и буду делать, браты, — сказал довольный Ермак.
Пылали костры на берегу. Затихла Тура-река. Никто не видел, как в безмолвной поре из-за деревьев высматривали становище дозорные князька Епанчи. Они рыскали по берегу, по тальнику, по камышам, прислушивались, присматривались, вызнавая, сколько плывет русских. На быстрых конях мчались к Епанче и рассказывали все об увиденном. Князек разослал гонцов по улусам. Понемногу стекались всадники в Чинигиды (Туринск) — городок Епанчи.
На закате острый глаз Ивана Кольцо заметил на высоком яру конных в островерхих шапках, с круглыми щитами в руках и с копьями. Всадники долго вглядывались в вереницу стругов. В последних солнечных лучах отсвечивали хоругви, медные пушки.
— Браты, глядите! — сорвался Иван Кольцо. — Батько, дозволь пугнуть!
— Ни тебе, ни другому не дозволю зелье тратить. Придет пора, тогда и пугнем! — ответил Ермак.
И только вымолвил это, над рекой со свистом пронеслась стрела, за ней другая, третья…
— Эко, черти, не стерпело сердце, — выругались казаки и стали сильнее грести. Струги быстро уходили прочь, темные фигуры всадников стали отставать и вскоре исчезли в синеве теплого вечера.
Окруженный всадниками, Епанча подъехал к отвесному яру. Тура — веселая река — петляла по заливным лугам, над которыми сокол острым крылом чертил небесный простор. Над синим ельником клубился утренний туман, и от свежести в тело вливалась бодрость. В другое время князь со своими всадниками-уланами ринулся бы в реку, переплыл ее, и пошла бы соколиная охота! Но сегодня он гневно и со страхом глядел на знакомую стремнину и не узнавал ее. «Аллах велик, что за люди плывут? Русь!» — встревожено думал он.
По Туре вниз бежали десятки стругов, за ними плыли большие ладьи-насады, быстрые щитики неслись, как щуки в погоне за добычей, а позади шумного и пестрого каравана, поблескивая смолистыми кряжами, тянулся плот. Ржали кони, ревели быки, блеяли овцы, огороженные жердями. Белели мучные кули. У кормового весла, сбитого из трех лесин, стоял бородатый, до пояса голый, могучий, с косматой шерстью на груди, кормщик. Вцепившись бугристыми руками в бревно — потесь, он по-хозяйски кричал:
— Молодцы, держись стремнины!
Трое других бородачей в посконных штанах, напрягаясь, направляли плот подальше от яра.
На берег выбежали ребята, за ними татарки, — заголосили:
— Плывут неверные, беду везут. Горе головам нашим!
— Русь!.. Русь!..
Хотелось князьку пустить стрелу, ой, как хотелось! Сдержал себя и уланам пригрозил:
— Затаиться пока надо! — глаза его блеснули решимостью. — Пусть наша сила сольется…
До ночи крутил он по ярам, не мог оторваться от реки, а с наступлением сумерек князек ускакал в Чинигиды. Малый городок стоял над яром, со степи был окопан валом, обнесен острокольем. Крепость! За тынами глинобитные мазанки, землянки — барсучьи норы. С теплыми днями все откочевали в степь. И теперь, поднимая рыжую пыль, спешили от овечьих отар, от конских табунов лучники с саадаками, полными стрел, копейщики, скрипели арбы, блеяли овцы, — оживал городок.
Мерцали звезды, с реки тянуло реденьким туманом, когда Епанча повел орду вдоль реки к Долгому яру. От него Тура, ударившись в каменную грудь, поворачивала к полуночи. Узка тут река, стремительна. Зеленый тальник полощет гибкие ветки в струе, а в тальнике укрылись татары. Луки наготове, туги тетивы из бараньих жил, упруги и певучи оперенные боевые стрелы. Словно рысь, Епанча ловит каждое движение на реке. Брызнуло солнышко, проснулись птицы, туман поднялся вверх, и, вместе с лебединым криком, по воде разнеслись бряцание литавр и голосистое дыхание труб. И вдруг по озолоченной ярким солнышком дорожке, как легкие лебеди, из-за мыса выплыли казацкие струги. На ветру цветными крыльями развевались боевые знамена. На легком передовом стружке, осененный белым парусом, поставив ногу на борт, стоял, сверкая панцырем, бородатый богатырь и пытливо вглядывался в речную рябь. За ним, распустив паруса, держась середины Туры, глубоко бороздя воду, ходко шли струг за стругом. Ярко сияли доспехи, гулко гудел бубен, разливалась песня:
Не зеленый лес шумит, Не дубравушка… Эх, туча черная Ворогов собирается…
Легкий ветер шевелил бороду казака в панцыре.
— Аман-ба! — крикнул из зеленого укрытия Епанча и пустил стрелу. С воем пронеслась она, не задев богатыря. Князек с ненавистью выругался:
— Шайтан голова…
Ермак поднял руку, и сероглазый, с пушком на губе, горнист с вестовой трубой проиграл тревогу. Заговорили певучие дали.
В ответ заныли стрелы: били острием в паруса, в борты. Ильина ударило в грудь, но юшлан не пробило. Он пригрозил кулачищем:
— Гей, волчья сыть, доберусь, — расшибу! — и жадно глянул на ертаульный струг. Ермак стоял неподвижно; по стругам летел наказ:
— Беречь зелье. Грести изо всех сил!
Эх, кипело казачье сердце: выбраться бы из стругов да погулять с сабелькой! За долгую зиму застоялась кровь. Но крепко взнуздал волю атаман, ух и крепко!
Так гребли, так старались, что дымились уключины, жгучий пот, как капли вара, падал на днище, а впереди стругов седыми усищами разбегалась волна.
Мыс крутой витухой далеко загнулся, и струги, уйдя от одной беды, наскочили на другую.
Епанча повел всадников вперед, наперерез, к узкой стремнине, где стрела пронесется, — пронзит, над Турой.
Вот и струги, не бьют больше в бубен, — не шаманят русские, и замолкли литавры. С крутого яра все видно.
— Погибнешь теперь, шайтан-голова! — князь туго натянул тетиву и пустил граненую стрелу. Будто в ответ забил барабан, и струги замедлили ход.
Рядом с Епанчой, поднимая руки к небу, завыл абыз:
— Аллах вар… Аллах сахих…
Истошно завопили уланы:
— Алла! Алла!
Не сходя с коней, всадники стали бить из луков, иные из них бросали с яра копья. Пронзили золоченую хоругвь, даренную Строгановыми, троих ранили.
Ермак надвинул шелом поглубже и крикнул раскатисто:
— Бей огневым боем. Пищали, пушки! Э-гей!
Высокий пушкарь Петро с горящим фитилем склонился к пушке:
— Давай, матушка!
Казаки приложились к пищалям, и вмиг проснулись суровые, мохнатые берега. Пошел сухой треск, полыхнуло огнем, загрохотало громом, и заклубился дым. От пушечных ударов качнулись струги, заплескалась волна о берег, и гулкое эхо раскатилось по лесам и реке. С яра метнулся десяток татар, — и сразу в омут! На воде расплылись рыжие пятна крови. Епанча пришпорил черногривого, тот вздыбился было, заржал, но сразу рухнул и стал от боли взрывать копытами землю. Свинец угодил ему в пах.
Уланы подхватили князька и вывели из опасного места. Он сжал руками голову и заметался:
— Огнем жгут! Гром слышу, а стрел не вижу. Алла!..
Задние теснили передних, а с ладей снова ударил пищальный огонь. Абыз стонал от ужаса, орал:
— Шайтан, шайтан!..
Застыли сраженные насмерть, бились на земле покалеченные. Орда дрогнула. Через поле бежали обезумевшие, крича:
— Горе нам, горе!..
Князьку подвели свежего конька, он вскочил в седло и, не оглядываясь, помчал по дороге. За ним понеслись уланы, врассыпную побежала орда. Кидали на землю луки, саадаки. Злой, с тяжелым подбородком, татарин бросил вслед князьку копье:
— Тьфу, крыса, не увел от беды. Пусть твоя печень вывалится! — Завидя вопящего абыза, накинулся на него: — Заткни глотку, старый баран, или я тебя отошлю к аллаху!
Абыз вскинул на него глаза, хотел что-то выкрикнуть, но вдруг смолк и смиренно побрел по пыльной дороге…
Струги приткнулись к берегу. Казаки живо перемахнули через борты и бросились в погоню за Епанчой. Иванко Кольцо расторопно обратал брошеного коня и птицей махнул в седло.
— Э-гей, гуляй Дон тихий, бурли Волга-матушка! За мной, браты!
Богдашка Брязга захватил табунок косматых сибирских коньков и стал делить в своей полусотне.
— Тебе, Зуек, — карий, Осташке — вороной, Панафидке — серый…
Тут, как из-под земли вырос атаман Матвей Мещеряк, неторопливый, прижимистый:
— Погоди делить. Дуван войсковой, — всей дружине кони, арбы в обоз, бараны в котел, верблюды для поклажи.
Все сметил его цепкий глаз, все пересчитал, вплоть до паршивого козла.
Брязга налился кровью, налетел петухом. Мещеряк не отступил:
— Велено батькой. Кони для погони. Аминь!
Что поделаешь, Богдашка опустил голову и отошел в сторону. На коней повскакали из сотни Грозы. Повел он ееследом за татарами. Уносился Епанча с уланами в свое городище, а следом орде неслись насмешки и улюлюканье.
Из городка той порой потянулись в степь арбы, груженные добром. Гнали баранту, коз. Гроза с сотней пересек путь и пошел крушить. До городища гнал ошалелых беглецов и на плечах их ворвался в Чинигиды. Неказист Епанчин городок, а всего вволю: и шерсти, и рухляди, и баранты. Епанча еле успел перебраться через заплот и на облезлом верблюде ударился в перелесок. Гнал изо всех сил; достигнув березовой поросли, оглянулся и упал духом. Там, где был Чинигиды, к небу тянулись густые клубы дыма.
— Аллах, что будет со мной?
Шумел перелесок, перекликались птицы, постепенно волнение на сердце князька улеглось. Он потрогал голову, провел по лицу и вздохнул:
— Нет бога кроме аллаха и Магомет пророк его. Счастливое предначертание таится в книге Судеб: моя голова не скатится с плеч, и очи мои видят свет. Хан Кучум накажет неверных.
Покачиваясь, как в челне, он ехал на верблюде и, как мог, утешал себя.
И где проходил его верблюд, на дорогу выходили старцы с белыми бородами, которых пощадили казаки, и укоряли князька:
— Куда бежишь? Где твоя храбрость, бек? Позор головам нашим!
— Молчи, пока есть язык! — грозил Епанча.
— Стыдись, — укоряюще и бесстрашно ответил на угрозу самый дряхлый из старцев. — Я древен и знаю от дедов, сколь грозны были татары при Чингиз-хане! Слабодушный!
Князек направил верблюда, чтоб затоптать строптивого. Высохший, со сморщенной кожей, старик сам упал в прах с криком: «Так повелел Аллах и пророк его записал в книге Судеб!». Но верблюд, шлепая широкими ступнями, с брезгливым выражением обошел его…
Епанча пообещал:
— Я еще встречусь с тобой, презренный…
3
Шло лето тысяча пятьсот восьмидесятого года. Казаки, погрузив добычу на струги, безудержно плыли на восход. Дни стояли ясные и долгие. В короткие ночи курились туманы над Турой, над прибрежными болотами-зыбунами, над ерником. Темные тучи комарья и гнуса не давали жить: лезли в нос, в уши, в глаза. От проклятых невыносимо чесалось тело. Все время обретались в дыму: жгли влажную ель, гнилушки. С берегов сотни настороженных глаз следили за каждым движением каравана. Волей-неволей все жались к батьке: «Что скажет он, как решит?». Плыли незнакомой рекой, в стране неизведанной, среди врагов. Еще жива была на Руси память о татарском иге. Много страшных, жестоких сказов пришлось каждому дружиннику выслушать в детстве и юности. Богатырские заставы Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Колывана Ивановича преграждали путь на Русь татарскому злому всаднику. А теперь казаки шли в самое логово, откуда выходили на восточные рубежи зловредные хищники. Эх, дорожка сибирская, лесная и труднопроходимая! Сколько слез русских пролито! Тысячи прошли по ней…
Дед-гусляр Власий пел про татарские времена. От его слов загоралось сердце и чудилось, что плывут дружинники на подвиг. И впрямь, ныне каждый день упорно дрались казаки и одолевали козни врага. Плыли струги, а по берегу, скрываясь в березняках, тальниках, камышах, ехали конные татары, и каждую минуту дружинника подстерегала коварная стрела или ловко пущенное копье. Попу Савве граненой стрелой пробило ногу. Он терпеливо вырвал железный наконечник с живым мясом и рану смазал медвежьим салом. «Одна слава — пищали, бьют они немного дале лука, но зато сколь страданий причиняют стрелы!»
Поп Савва отчасти был прав: пищали били немного далее стрелы. Выпущенная из тугого лука, стрела насквозь пробивала тесину в струге. И при стрельбе из лука было свое удобство: не надо было зелья; оно то отсыреет, то его ветром сдует, то еще что-нибудь. Кроме того, татары пообвыкли к пищалям. Да и по правде сказать, они уже слыхали про огневой бой. Никто иной, а русский воевода Лыченцов после схватки с Маметкулом кинул свои пушки и бежал, а тот подобрал их…
Первого августа заняли Цымгу (Тюмень). Кругом простирались неоглядные заливные луга, на которых паслись тучные стада. И дружина Ермака здесь зазимовала.
Татары в городке и окрестностях не держались крепко за сибирского хана. Об одном лишь тревожились и печаловались Ермаку:
— Кто нас освободит от дани Кучуму? Даже одна собака не служит двум хозяевам, а мы скотоводы и люди.
Атаман принял их учтиво, стоя. Выслушал и внушительно ответил:
— Властью, данной мне Русью, от ясака — податей — Кучуму с души, с дыма, со скота я вас освобождаю. Ныне вдвое меньше будете ставить коней, мяса и рухляди моему войску. Живите мирно, растите стада и ведите торговлю, только без плутовства.
Старейшины поклонились Ермаку в землю. Он поднял их за плечи и каждому сказал ласковое слово.
— А в землю челом мне бить не надо, не аллах я и не хан!
И то понравилось старикам Цымги, что говорил он с ними учтиво и по-татарски.
На площадях городка зашумели торги, и казаки оберегали товары. Одного боялись правоверные, кабы казаки жен их не сбили с пути верности. Хоть и ходили татарки с закрытыми лицами, но казаков, оголодавших без женской ласки, без теплого слова волновал жгучий взгляд, брошенный, как острие, из-под покрывала. Дворы были отстроены с глухими стенами, улицы — двум арбам не разъехаться, но пронырливые донцы и камские ходуны проникали через все запоры, и случался грех.
Трепетал на осине багряный лист, рдела рябина под еще жарким солнцем. Струги неподвижно стояли на приколе. Неподалеку Тюменка с тихим лепетом вливалась в Тобол. Юрты и землянки лепились подле нее. Над ними тянулись дымки. Понемногу, не боясь казаков, возвращались жители из кочевья.
Казачьи разъезды рысили по дорогам, задерживались в улусах. Татары встречали их покорно. Казаки объявляли им:
— Больше нет над вами власти Кучума!
— Хан до нас не доходит, но тарханы его берут ясак. Как быть?
— Дань и поминки нам по силе будете давать.
— Дашь вам, хан раззлобится и вдвойне возьмет!
— Не бойся, Кучумке не выдадим на расправу. Отошло его времячко!
Кто противился казакам, не давал им хлеба и скота по силе, у тех палили жилье.
Вверх по реке Тоболу добрались казаки на стругах до острожка Тархан-Калла. Тыны, вал, перед ним глубокий ров, а через него — перекидной мост. У крепких ворот стража с копьями и луками.
Иванко Кольцо с десятком казаков выпытывал:
— Кто живет?
Татары ответили:
— Вольный господин, дани хану не платит, только оборонять его обязан, и жители малый ясак дают и князю своему и Кучуму.
Кольцо подошел к воротам, стража скрестила копья:
— Кто такие, куда плывете?
— Купцы московские, торг ведем. Наслышаны о богатствах вольного господина, хотим торговать. Шли в Бухару, да раздумали. Гляди!
Иванко полез в короб и добыл пестрый платок, распахнул, и жаром обдало стражу.
— Бери, каждому по платку…
Разом распахнули ворота и сказали:
— Торг — большое дело. Наш господин могуч, ничего не боится. Гляди, какой город. В Бухара такой нет!
Стражники провожали до тархана. Казаки приглядывались. Хваленый город Тархан-Калла состоял из берестяных чумов. Брехали одичавшие худые псы, от жилья несло острой кислятиной. В центре — рубленая изба.
— Вот и наш князь. Богато живет, — сказал страж.
Казаки весело переглянулись. Иванко Кольцо напомнил им:
— Главное не в чумах, а в силе. И у нас на Дону — плетни да землянки, не в том краса!
Притихли и с почительным видом вошли в жилище тархана. Изба низкая, дымная, вправо чувал, влево на земле оленьи шкуры, на них грязные перины. Тархан — заплывший жиром, лысый, с лукавым взглядом — сидел идолом на подушке. Лик бронзовый, непроницаемый. Подле, на засаленной подушке, сидел худой надменный татарин в парчевом халате и собольей шапке. Не понимая глаз, он перебирал красные четки.
Тархан улыбнулся и сказал казакам:
— Я рад, что не минули мой город и привезли товары.
Иванко, в цветной ферязи, опоясанный шелковым поясом, в шапке с красным верхом, учтиво поклонился хозяину:
— Прослышаны о твоем могуществе и богатстве и не миновали тебя.
Быстрые мышиные глаза тархана перебежали на татарина в парчевом халате. Казалось, они говорили ему: «Теперь сам видишь, сколь я могуч и славен!». Однако надменный гость не пошевелился, и еле уловимая насмешливая улыбка скользнула на его тонких губах.
Иванко приосанился и продолжал:
— Ходили мы в Китай, купили шелка и фарфор, и корень жизни — жень-шень, от коего старые молодеют и холодная кровь закипает. Были в Индии — предалекой стране, самоцветы выменяли, да в Рынь-песках ограбили нас разбойники.
А бусы, запястья есть? — спросил тархан.
— Все есть; если повелишь, враз сюда со стругов доставим!
— Пусть люди несут.
Кольцо вышел с казаком, стражник подошел к ним. Он щелкнул языком и похвалил:
— Хороший покрывало дал мне, но у меня две жены, перегрызлись из-за него, как псы. Ох, горе мне, как усмирить их? Добрый купец, не дашь ли мне второй?
Иванко внимательно поглядел на стражника:
— Боюсь!
— Не страшись, щедрый гость. Никому не скажу.
— Это добро, — похвалил Кольцо. — А кто у тархана сидит? Повелитель какой? Тархан? Мулла?
Страж вздохнул:
— Горе наше. Не уезжает вторую неделю: жрет, пьет, разглядывает жен тархана, дани требует.
— А вы гоните!
— О, аллах милостливый, нельзя его гнать. Это — Кутугай, ближний Кучума. Он требует покорности и ясак соболями. А тархан жаден, забавляет его историями, а о покорности ни слова…
Кольцо задумчиво покрутил ус. «Дать ему алый платок, а Кутугая мы на струги сведем, может, позарится на добро наше», — подумал он.
Низко кланяясь, стражник сказал:
— Щедрый господин, теперь я пойду успокою своих жен, а страже велю пропустить тебя, когда только придешь…
Казак Ефим Колесо притащил на широкой спине большой короб. Иванко Кольцо вскрыл и извлек из него штуку алого атласа, ловко, по-молодецки, махнул рукой, и кипучей, жаркой волной перед тарханом взметнулись нежные складки тонкой легкой материи.
— Глянь, всемогущий властелин, сколь прекрасно и как ласково облечет женское тело! — Иванко провел ладонью по атласу. — А вот иной товар — радость для сердца прекраснейших женщин на земле! — И он стал быстро выкладывать и расхваливать зеркала, ларцы, ожерелья, монисты, банки с пахучими мазями.
Кутугай презрительно скривил губы, а глаза его полны насмешки. Он, как стервятник на кургане, сидел не шевелясь. Все эти кольца, зеркала, ленты его не прельщали; глаза его потускнели и были безучастны.
Кольцо выхватил из короба цветные, тисненые золотом кожи и хлопнул ими одна об другую. Посланник Кучума неуловимо перевел взгляд на свои мягкие, зеленого сафьяна, сапоги. Они потускнели, пообтерлись. Ханский сборщик огорченно вздохнул.
Тархан рылся в дешевых зеркалах, лентах, прижимал к груди цветные кожи и сладостно шептал:
— Я буду платить вам лучший соболь. Ох, какой соболь! Неси еще товар, мне надо много, очень много, я имею двенадцать жен, и одна из них — золотой месяц на небе.
Иванко полез в карман, достал кожаный кисет. Потряс им и высыпал на ладонь яхонты, смарагды, изумруды. Искрометным огнем блеснули они.
Тархан потянулся к самоцветам.
Серьезным тоном Кольцо предупредил:
— Осторожней, великий господин, это не просто камни! Они талисманы: одни из них приносят ненависть, другие помогают, если украсить грудь красавицы, воспылать страстью к мужу.
— Ах, купец, давай мне такой! — сгорая от нетерпения, воскликнул тархан, и в его мышиных глазках сверкнула жадность.
— Вот он, всемилостливый, — показал Кольцо на яхонт, сыпавший маленькие молнии, когда его поворачивали перед светильником. — Это чудодейственный самоцвет. Но сила его велика только тогда, когда сам обладатель талисмана украсит грудь той… самой желанной.
— Аллах, ты посылаешь мне великое испытание! — возопил жирный тархан. — Что делать мне, если Юлдуз-хатун третью неделю не допускает меня взглянуть на ее лицо! Пусть будет так: идем, ты возложишь самоцвет на мою любимейшую жену.
Он повел Иванко в соседний рубленый дом. И там в углу, за коврами, шла самая ожесточенная перебранка. Тархан положил пухлые руки на живот, предупредительно посмотрел на Иванку:
— Ты слышишь, это щебечет она, моя козочка! — с умилением сказал он. — Юлдуз, моя услада, я пришел к тебе…
— Пошел прочь, плешивый ишак! — капризно закричала певучим голоском жена. — Ты надоел мне!
Кольцо поперхнулся от смеха, но овладел собой.
— Юлдуз-хатун, ты не знаешь, кто вошел со мной? Тут купец, который принес самые красивые перстни и самоцветы.
— Что же ты раньше не сказал мне! — недовольно выкрикнула женщина и распахнула ковер.
Иванко обомлел, вытаращил глаза, — такую красавицу он видел впервые.
— Ах, что я наделала! — торопливым движением она закрыла лицо, но казак успел заметить темный пушок на ее вздернутой пухлой губе, белые зубы и нежный подбородок. Кольцо прижал руку к сердцу и не знал, что сказать. Из-за ковра в него впились пять пар жгучих глаз, но ярче всех горели глаза Юлдуз. Он достал самоцветы и разложил на куске черного сукна. Жена тархана не в силах была оторваться от сверкающих камней.
— Давай ей, давай, — торопил тархан. — Не видишь, что ли, как сияют ее глаза!
Иванко взял крупный яхонт и приложил его к груди красавицы.
— Пусть принесет он тебе счастье и любовь! — сказал он по-татарски. — Счастлив твой муж, что в доме своем имеет такой алмаз.
Она вздохнула и, лукаво прищурив глаза, шепнула казаку:
— Он счастлив, но как несчастлива я…
Тархан пыхтел. Он любовался женой и камнем.
— Эх, где моя молодость, — сказал он. — Я хорошо скакал на коне, был любим женщинами, потому что был силен, ой, как силен!..
— Что ты все врешь! — перебила его Юлдуз-хатун. — Ты и в молодости никуда не годился. Хороший наездник и в старости виден по осанке.
Кольцо покрутил ус и выложил еще лучший камень.
— Бери от меня, от моего сердца, — еле слышно сказал он.
Тархан ухватил его за локоть и потащил прочь.
Десять сияющих глаз любовались легкой походкой сильного казака, рядом с которым, задыхаясь, тяжело топтался тархан. Когда казак скрылся из глаз, Юлдуз опустилась на ковер и прижала к сердцу яхонты.
Тем временем Иванко воспользовался случаем и со всей учтивостью сказал Кутугаю:
— Я вижу, тебя не радуют мои товары, мудрый визир великого хана. Если ты пожелаешь придти ко мне на струги, увидишь иные дары.
Алчность овладела мурзой, и он кивнул головой:
— Я готов идти за тобой, купец!
И они пошли к Тоболу. Кутугай взошел на струг, и его окружили казаки. Мостик сняли и подняли парус. Кучумовского придворного усадили в камору и крепко закрыли дверь.
Мурзак стучал и грозил, пока не охрип. Увидя мешок, набитый травой, он уселся на него и затих.
— Аллах, ты положил моей жизни предел, — спокойно расудил он. — Я угодил в руки разбойников, и меня ждет мучительная смерть. Так написано в книге Судеб, да будет благословенно имя твое! — Мурзак презрительно смотрел на казака, который приносил ему в камору пищу. Когда же с ним пожелал говорить Иван Кольцо, он высокомерно отвернулся.
Чтобы не проявить слабодушия, Кутугай совершил положенный намаз и тут же, растянувшись на мешке, заснул.
Но каково было его изумление утром, когда его разбудили и повели со струга. Он шел и узнавал город Цымгу. Кутугая ввели в лучший шатер, и навстречу ему поднялся величавый бородатый человек, в чекмене, опоясанный дорогим поясом и в желтых сафьяновых сапогах. Он усадил Кутугая рядом с собой и цветисто сказал:
— Я несказанно рад тебе и твоей мудрости. Славен сибирский хан! Во всей вселенной я знаю двух могучих властителей: русского царя и сибирского хана. Бью ему челом и очень кручинюсь, что не довелось побывать у него в Искере и воздать ему хвалу. Ныне на Русь собираюсь плыть и расскажу там о силе хана и мудрости его мурз. Я не богат, но прими от щедрот наших!
Казаки по приказу Ермака выложили перед Кутугаем ценные дары: добрые бобровые шубы, связки соболей и сукна.
— Бери и будь здрав! — поклонился атаман. — Плыли в одно место, а попали в другое. Чую, беспокойство учинили, на том пусть хан простит. А ему — мой дар! — Ермак вымахнул из ножен саблю и вручил мурзаку. Тот вспыхнул от дива: под лучами солнца, упавшими на узорчатую грань стали, на булате сверкнули тысячи крошечных молний.
Сердце Кутугая не выдержало: безразличие и надменность словно вихрем сдуло с его лица.
— Хан будет рад такому поминку. Я успокою его…
В то же время в душе мурзака кипела злость на тархана: «А этому я отомщу! — подумал он. — Жаден, чванлив и сердце его — сердце ворона, клюющего падаль.»
Дары уложили в короб и поставили перед Кутугаем, а сами стали собираться в дорогу. На стругах подняли паруса, и они надулись под упругим ветром. На носу ладьи стоял Ермак и махал шапкой Кутугаю…
— Батька, — осторожно подступая к Ермаку, обратился Кольцо. — Поплывем в Тархан-Калла и возьмем его!
Атаман сел и, положив жилистые длинные руки на колени, пытливо и долго смотрел на Иванко.
— Да что ты глядишь так? — не по себе стало Кольцо. — Город мал, берестяной весь, тыны ветхи, враз петуха пустим, как не было его!
— Так, так, — в раздумьи поддакнул Ермак. — А потом тархану башку долой, возмутим его родичей, а сами дальше поплывем?
— А хошь бы и так! — тряхнув чубом, подхватил Кольцо.
— Не будет сего! — решительно отрезал Ермак. — Тархан поперек горла хану стал. Кутугай на него еще хану Кучуму наплетет. Выходит, не будет он за хана драться, а потешит свою душу, когда дознается, что мы Кучума колотим. Не гоже нам, Иванко, бить каждого без разбору. Силушка наша не только в огненном бое и храбрости казачьей, а и в разумном познании замыслов человека. Надо все знать и все обернуть в свою пользу. Не только мечом, а и словом надо убрать одних врагов, а обхождением не делать себе других. Одним нахрапом не возьмешь. Зашли мы в другое царство, и вижу, что государство это не единым духом и плотью спаяно. Лоскутное царство! Сам видишь, вогулич Хантазей не пойдет за Кучума, а остяки тож не шибко льнут к нему, да и татары не все воедино, каждый норовит сам для себя, как бы уйти в сторону от Кучума. Вот и подумай над тем, Иванушка, как все это на свою пользу повернуть?
Во рту Иванки пересохло. О другом думал. Красавица Юлдуз-хатун зачаровала его своими очами. И кажется, нет краше женки на свете. И все казалось проще самого простого. Но вот Ермак по-иному повернул думки Кольцо. Ничего не скажешь против этого. Иванко склонил голову.
— Так, батько, — согласился он, а на душе стало грустно — приходилось забыть черноокую Юлдуз.
В Искере хан Кучум встревожился недобрыми слухами. Прибежавшие с Туры рассказывали разно, но можно ли верить им? Кстати подоспел в становище Кутугай. Он въехал в Искер важно, в дорогом халате, на арабском коне. У ханского шатра он сошел с седла и пополз к ханскому трону. За ним слуги внесли короб, и Кутугай, уткнув бороду в прах у ног хана, возопил:
— Солнце наше, согревающее сердце своих рабов, великий хан, я прибыл издалека и вел речь с тем, о ком столько говорят. Прими дары и выслушай меня.
— Я ждал тебя, мой слуга. Говори!
— Вот клинок, который прислал тебе торговый гость из Руси.
Хан взял булат и воспаленными глазами уставился в него. С минуту он сосредоточенно смотрел на клинок, потом взмахнул им. Приближенные восхищенно воскликнули:
— О чудо! Но не знак ли это войны?
Кутугай горделиво поднял голову:
— Нет! Щедрый и умный руский гость смиренно кладет к ногам хана свое оружие. Он просил доброй дороги и сейчас спешит на Русь.
Кучум прижал булат к сердцу.
— Этот дар напоминает мне юность! Кто смеет придти сюда с оружием? — самоуверенно сказал хан и, протянув руку, положил ее на плечо Кутугая.
— Аллах не остановит твоего усердия!
Мурзы завидовали Кутугаю, но они не знали душевных треволнений хана. Кучум, хотя и виду не подал, но не верил в сообщение сборщика ясака.
Когда придворные мурзы удалились из шатра, он послал слугу за звездочетами. На зов явились три седобородых бухарца в белых одеждах и высоких конусных шапках, испещренных таинственными знаками и звездами. Они держались величественно и сказали хану:
— Ты звал нас, просвещеннейший повелитель. Мы готовы служить тебе.
Кучум долго приглядывался к прорицателям. Ни тени волнения на их лицах.
— Поведайте, что сулит мне судьба? — тихо попросил хан. Его желтое морщинистое лицо выглядело усталым и печальным. — Вчера прискакал из дальних улусов мурза и поведал мне тревожные вести. Что предвещают они? О чем говорят ваши звезды?
Старейший астролог выступил вперед и развернул пергаментный свиток:
— Мудрый хан, мы все ночи напролет не спали и наблюдали за светилами, и они все рассказали нам. Тот, кто приближен к тайнам, знает многое. В Бухаре мы долгое время служили повелителю, не было случая, чтобы не исполнилось предсказанное.
— Он говорит истину, — чинно поклонились хану два других звездочета. — Только избранным аллах открывает пути вселенной и звезд в небе и на земле!
— И вот мы составили гороскоп, милостивый хан, — снова сказал старший астролог. — Ты можешь сам судить, куда уклонился Марс! Он мечтает о крови. Сочетание созвездий говорит нам, что чужеземцы вторглись в благословенную землю и будет несчастье. — Астролог протяжно вздохнул. — Ох, горе головам нашим, но светила сулят помощь аллаха тебе, и ты будешь непобедим…
Старец говорил долго и витиевато. Зажав виски ладонями, Кучум силился понять сказанное и не мог. Внутри у него вдруг все закипело, хотелось пнуть в тощий зад астролога ногой и выгнать его из шатра, но хан только шевельнул ладонью, давая понять, что беседа окончена. Астрологи удалились. Хан сказал рабу:
— Мы с тобой лучше звездочетов знаем свое будущее. Надо слать гонцов по улусам и сзывать воинов. Этот русский пришелец силен и лукав…
С каждым шагом берега становились оживленнее. Конные татары, не скрываясь, скакали по берегу рядом со стругами.
— Аман-ба, русский смерть ищет! — задираясь и сверкая острыми зубами, кричали наездники.
— Э-гей, она у тебя за плечами, гляди! — звонко отзывался Иванко Кольцо, стоя на носу ладьи. — А у меня она э-вон где! — взмахнув клинком, показывал он. — Враз благословлю!
— Эй, донгуз, наш абыз помолится, и конец тебе!
— Абыз свиное ухо обгрыз! — схватившись за бока, хохотал Иванко.
В ответ оперенная стрела сбила шелом у Кольца. Иванко хвать пищаль, поднес к ней огонек и, будь ласков, татарин протянул ноги. Но не бежали сейчас прочь другие и не дивились больше на невидимые стрелы. В ответ пускали тысячи остро отточенных стрел. Лихо доводилось!
Пимен — кормчий и строитель стругов, — намазывая медвежье сало на кровоточащие раны братов, по-старинному пел:
Под березынькой, под белой Нашла женка свово ратничка. Эх свово ратничка…
Голос у него грудной, ласковый.
Порубан молодец меж бровей булатом; Закрылись очи милые… Век мне помнить теперь того ратничка, Ох, родимого… На сырой, на истоптанной копытами сырой земле Да лицо его помертвелое, алой кровью залитое, Да глаза его соколиные, ветром жгучим запыленные… Эх, ты за что, да про что под березу лег!..
Казаки дружным хором ответили Пимену:
Лег на землю родную, за отчизну!
По лесу пошло эхо. Впереди шумела вода. Кормчий насторожился, поднял руку:
— Тихо, не дыхни, браты!.. Так и есть!..
Пимен передал весло другому, а сам перешел к батьке.
Ермак поднял глаза от воды и душевно сказал кормчему:
— Хорошо пел, за душу взяло. Ничего нет сердечней русской песни. Что лежит на сердце, того не купишь…
— Батька, — откашлявшись, сказал Пимен. — Останови струги. Догадка есть, — поставили татары под водой рыбий зуб — остроколье, чтобы ладейное дно вспороть. Я на долбенке сплыву, дознаюсь.
— Добро, — согласился Ермак. — Выводи, Пимен, из беды.
Все выглядел старик и вернулся быстро.
— Ну, дело известное, — оповестил он. — Сам поведу своих лебедей.
Опять подняли паруса, и Пимен, став на носу, вскинул руку. Кормщики зорко следили за ней. Чуток повернет ладонью старик, и струг податливо следует мановенью. Сорок стругов след в след летели по темной реке. И видел Ермак, как мелькнули в реке волчьей пастью острые колья, торчком навстречу, но струги, скользнув бортами, пронеслись мимо.
И, когда последняя ладья проскочила, кормчий не утерпел, скинул шапку и закричал на всю реку:
— Э-гей, на крылышках промчали!
Хантазей пыхнул дымком и сказал:
— Большой голова батырь, и руки нашел хорошие. Гляди, скоро еще река — и тут стерегись!
В июльское утро раздалась Тура, блеснули воды Тобола. Здесь и подстерегали татары. Шесть князьков с ордами поджидали Ермака. Трое из них вели всю рать: Кашкара, Варвара и Майтмас. Все они были дородные, с бронзовыми лицами, и властные. Не скрываясь, на устье реки поставили шатры и приглядывались к стругам. Ермак хорошо видел этих князков с большими крепкими скулами, узкими косыми глазами. «Не такие ли на Русь водили свои орды? Вот и кони их, невысокие, с широкой грудью и тяжелыми копытами. Не на таких ли эти безжалостные мурзаки топтали русские поля и плетью хлестали полонянок?»
В татарском стане заиграли в зурны, глухо забил бубен.
На стругах заревели трубы, зарокотали барабаны. Звуки катились над равниной, как вешние воды. Леса отошли назад, раскинулась степь, и по ней носилось множество всадников, горько дымили костры.
От берега оторвался челн и поплыл наперерез стругам. В нем стоял татарин в пестром халате и махал рукой. Ермак хмуро посмотрел на посланца:
— Допустить!
Глаза вороватые, сам хилый, согнулся и руку к сердцу прижал, заговорил быстро, захлебываясь. Толмач стал переводить речь, но атаман сказал:
— По-татарски и сам знаю.
— Я ничтожный слуга Варвары послан к тебе, — продолжал татарин. — Повелел тебе господин выйти на берег и просить у него милости. На Русь живым отпустит и выкуп не возьмет. Великий и всемогущий аллах наградил моего господина властью и силой. Видишь, сколько войска собралось у него. Куда пойдешь, что сделаешь? Хочешь жить, проси пощады, целуй сапог моего господина…
Глаза Ермака потемнели. Усмехаясь, он ответил татарину:
— Опоздал твой мурзак на долгие годы. Пусть бьет челом нам, — Русь сюда пришла, и земли, леса, воды станут тут для вогуличей и остяков вольными. Иди, пока не всыпали плетей, не ведает твой мурзак, что говорит. У нас на Руси таков обычай — никто и никому не лижет сапог. А кто и лижет по своей трусости и подлости, того народ не чтит и зовет срамным словом.
Ермак говорил медлено и спокойно, не спуская глаз с посланца.
— И не пугай нас смертью, — продолжал он. — На сибирских перепутьях она не раз поджидала нас, да отступала, ибо не вывести русский корень ни смерти, ни лиходею. Передай своему владыке: коли храбрый он, биться будем!
Темной ночью казаки выгрузились со стругов, быстро окопались, и на брезжущем рассвете, только погасли в татарском стане костры, сотни пешим строем пошли на слом. Татары встретили их косым частопадом стрел. В середине толпы на тяжелом вороном коне выступал Варвара в сверкающей кольчуге. Он сердито кричал и гнал копейщиков плетью на русскую рать. Ермак стоял на холме под стягом Егория Победоносца. Он правил боем. Махнул рукой, и с берега ударили три пушки, ветер понес над бранным полем пороховый дым. Татары заметались, но князьки с уланами неустрашимо двигались вперед и гнали толпы. Распаленные муллами фанатики шли с короткими кривыми мечами, их крики слились в протяжный вой. Они резались смертно. Савва палицей вертел над головой, не допускал к себе врагов. Впервые он встретил такое множество их, и дух его дрогнул. С горящими ненавистью глазами татары подбирались к нему, как звери к жертве. Худо довелось бы попу, но выручил Брязга с казаками. Вертлявый, черномазый, он и сам походил на татарина, крича по-татарски, колол, рубил, резал турецким ятаганом. Его молодцы кидались в кипень. Любо было глядеть на опытных и бесстрашных воинов. С противником, равным по силе, долго кружились, как коршуны в схватке; карауля роковой миг, подстерегая оплошку, всаживали нож или саблю в самое сердце.
Внутри у Ермака все ходило ходуном. Сесть бы на коня да помчаться в горячую яростную волну, навстречу Варваре. Видать по всему, тот — воин. Да нельзя уходить с холма! По бою угадывалось — умен и хитер враг: он слал конницу и на полдень, и на север, чтобы охватить дружину. Но Ермак крепко держал боковые рубежи. Впервые он встретил достойную силу, и хоть трудно доводилось, но лестно было выстоять в такой схватке.
Бились весь день, и только ночь разняла врагов. И будто договорились: во мраке жгли костры, оберегались, но ни стрела, ни свинец не перелетали в чужой стан. На заре затрубили в трубы, забили в барабаны и снова сошлись в кровавой сече. Вот русские отбросили татар, но Варвара тут как тут — ведет новые толпы и теснит казаков.
Жалко было зелья, но Ермак наказал бить из пушек. Видя, что татары измотались и близится решительная минута, он сам повел на приступ. Атаманы первыми кинулись на валы, и настал тот миг, когда как бы внезапно иссякла татарская сила. И тут казаки пошли на слом.
Князья бежали с поля, за ними устремились их воины. Один Варвара решительно осадил коня на перепутье и хлестал бегущих тяжелой плетью. Но что мог поделать он в этом хлынувшем ревущем потоке людей, объятых ужасом смерти.
Издали он заметил плечистого, коренастого воеводу с курчавой бородой и угадал в нем Ермака. И тут Варвара не изменил себе; в последний миг он всадил нож в свое сердце и свалился с вороного коня.
Ермак подошел к нему и встретился с тускнеющим взглядом князя. Еле шевеля губами, Варвара сказал:
— Не поведешь меня за своим конем на Русь!
Атаман склонился над ним, дал испить студеной воды.
— Отходишь? Жалко. Такого воина и на Руси чтут…
Князь не ответил, его глаза стекленели, и коричневое лицо выражало спокойствие.
— Сего татарина похоронить с воинскими почестями! — сказал Ермак, снял шлем и поклонился телу врага.
Весь день после битвы Матвей Мещеряк подсчитывал добычу и грузил на струги. Все глубже и глубже оседали они.
— Потопишь ты нас своей жадностью! — упрекнул его Никита Пан.
Мещеряк по-мужицки, озабоченно, почесал затылок, моргнул серыми глазами:
— Ноне в коренную Сибирь выплываем, вода глубока и сильна, выдюжит и понесет нас, голубушка, плавно и легко!
И вновь лебяжьей стаей поплыли струги, а татарские орды опять постепенно собирались и шли берегом вослед. Кругом развернулись сибирские просторы, и ждали казаков трудности великие…
Хантазей в долбенке уплыл вниз и вернулся через три дня озадаченный. Ермак позвал его к себе:
— Ну, бедун, рассказывай, что видел?
Вогул сбросил шапку, лицо изъедено комарами. Закурил трубку, прищуренные глаза честно уставились на атамана.
— Мой далеко плавал. Чинигиды большой есть, там сидит мурза, хану дань платит, хану поклон бьет. Везде татары кричат: «Идет русский!». Везде войско, боятся казаков, как зверь прячутся, чтобы из куста стрелу пускай.
Ермак выслушал взволнованную речь Хантазея. Его твердые, холодные глаза, словно синевато-серые льдинки, сверлили Хантазея:
— Ты не договорил мне, что на реке делается!
Вогул склонил голову, помолчал.
— Есть нехоросее: Алысай поручник Кучума перегородил реку цепями, караулит русских.
— Вот это и неведомо нам было. Подумаем, как перехитрить. А еще что?
— Есе дознался от вогуличей. Есть князьцы Каскала Алысай и Майтмас, стрелу посылал с класным пелом, звал на войну. Ждет воинов там, где Тура впадает в Тобол.
Ермак покачал головой.
— Эх, сколько наворочали! Ну, так и быть: и в Азове цепи на Дону татары ставили, да казак, что налим, и через цепи плывет…
Он вздохнул, томила жара. У казаков скулы потрескались на солнце и шелушились, как чешуя вяленой рыбы. Трудно было грести днем, а ночью тучами нападал гнус. Он был страшнее зверя. Только что миновали оленью тушу на берегу.
— Комар заел, — с усталостью сказал Хантазей. — Лайка теперь слепнет от комар. Э-хе…
Река огибала извилистые утесы, а вправо приволье — луга, озера. Ермак приказал нарубить хворосту, вязать пучки.
Погасли белые ночи. Казалось, весь мир погружался в кромешную тьму. Казаки собрали старые кафтаны, вогульские парки и надели на хворост.
— Добры чучела, — похвалил атаман и велел рассадить по стругам, а кругом поставить плетешки — оградку из плетеного тальника, да посадить рулевых.
— На вас вся надежда. Не кланяться татарской стреле, плыть прямо на цепи!
Сам он с дружиной неслышно пошел в обход татарской засаде. К той поре над лесом нежно зарумянился край неба. Выпала крупная медвяная роса. В предутренней тишине из невидимого улуса к реке плыл горьковатый дым чувала. К воде вперевалочку брели две утицы.
Из-за меловых утесов показались паруса стругов. Плывут безмолвно. Все видит и слышит Ермак. Паруса растут, розовеют. Вот и цепи, — подле них струги дрогнули и потеряли строй. И сейчас же берег усыпался татарами. Впереди Алышай. Он махнул саблей и закричал:
— Алла! За мной! — и кинулся в воду. За ним полезла орда.
Запели стрелы, замелькали топоры. — Э-ха! — ухватился за борт струга Алышай. — Пропал казак! — Э-ха!..
Тут князек раскрыл от изумления рот, вылупил глаза:
— Шайтан, где же казак?
В спину загремели пищали: дружина ударила в тыл.
— Гей-гуляй, браты! — разудало закричал Богдашка Брязга. — Вот коли пришла пора. Ржа на сабельку села. Эй, разойдись!
Он легко, с выкриками, выбежал на топкий берег. За ним не отставала его лихая, драчливая полусотня и первой сцепилась с татарами резаться на ножах.
— Бей с размаху! Руби! — гремел в другом конце голос Иванки Кольцо. Его сабля, свистнув, опустилась на плечо татарина. Тот упал, обливаясь кровью. А Кольцо продвигался в толпе врагов и, горячий, сильный, рубил наотмашь.
У борта струга вынырнула голова Алышая. Он отчаянно взвыл:
— Аллах вар…
В этот миг кормчий — усатый казак Хватай-Муха долбанул его веслом. Князек пошел на дно.
Савва перекрестил разбежавшиеся по воде круги:
— Успокой, господи, его душу окаянную… Ах ты, дьяволище! — вдруг крепко обругался поп. — Гляди, вынырнул-таки супостат!..
Алышай вылез из воды и, оскалив зубы, бросился на Савву. Поп подоткнул холщовый кафтан, сильным махом выхватил меч и скрестил с булатом князька.
— Ох, худо будет мне! — почувствовав добрые удары, спохватился Савва. — Лихо рубится сатана!
Плохо довелось бы попу, да на счастье подоспели ордынцы и оттащили прочь своего князька, заслонив его собой. С ними-то Савве впору потягаться. Он вскинул над разлохмаченной головой тяжелой меч и под удар выкрикнул:
— Господи, благослави ухайдакать лешего! — и разворотил противнику череп. — Матерь божья, глянь-ко на того идола. Ух, я его! — и, как дровосек топором по колоде, саданул мечом по второму. Тот и не охнул. — Святитель Микола, неужто терпеть мне и этого лихозубого! Во имя отца и сына! — с размаха он ткнул третьего в живот.
Любуясь ударами Саввы, Ермак похвалил:
— Добр попина, хлесток на руку. А ежели бы хмельного ему, тогда и вовсе сатана!
Савва и без хмельного осатанел: шел тяжелой поступью и клал тела направо-налево. Татары бежали от него.
А рядом сотня Грозы сошлась с татарами грудь с грудью. Бились молча, жестоко. Никто не просил о пощаде. Гроза бил тяжелой палицей, окованной железом. Сдвинув брови, закусив губы, он клал всех встречных.
На Пана налетел конный татарин. Вымчал нежданно-негаданно из березовой поросли, и раз копьем по сабельке! Выпала она из рук атамана. Не растерялся Пан, не раздумывая, схватил татарина за ногу, сорвал с седла, и пока тот приходил в себя, выхватил из-за голенища нож и всадил его в самое сердце врага. Потом вскочил в чужое седло и закричал на все ратное поле:
— А ну, жми-дави, чертяка! — Почуяв сильную руку, конь заржал, поднялся на дыбы и давай копытами топтать татар.
— Эх, ладно! Эх, утешно! — загорелось сердце у Мещеряка. Схватив дубину, он врезался в орду…
— Грабежники! На Русь бегать, селян зорить! — ярился Матвейко и бился беспощадно.
Алышай, мокрый, оглушенный, еле ушел в лес, за ним, огрызаясь по-волчьи, отступили ордынцы.
Казаки валились от усталости. Косые длинные тени легли у лиственниц. Солнце уходило за холмы. Где-то в чаще бился о камни, бурлил и звенел ручей. Птицы накричались и напелись за день, теперь смолкли. Темный лес был полон вечерней тишины, смолистых запахов и коварства. Ермак не велел идти за татарами.
Кормчие провели струги за протянутые через реку цепи. Налетевший ветер слегка покачивал ладьи, они поскрипывали. Казаки вернулись на места. Наступил благословенный час, когда натруженные кости воинов обрели покой. Блеснули первые звезды. На берегу под ракитой раздавалось печальное пение: поп Савва отпевал трех убиенных казаков. Шумела листва, синий дымок смолки из кадильницы вился над обнаженными головами.
Матвейка Мещеряк с десятком воинов собирал на браном поле брошенные татарами юшланы, саадаки, щиты и копья. И, что греха таить, снимал сапоги и халаты.
— На тот свет и так добегут! — говорил хозяйственный атаман.
Раненных перенесли на струги, и снова поплыли. Было тихо на воде и в лесу, только на стругах повизгивали уключины.
4
Татары на время притихли, от беспрестанных схваток утомились и казаки. Многие из товарищей остались лежать в одиноких безвестных могилах. Невольно в душу просачивалась тоска. Тучи комаров и гнуса донимали казаков, особенно страдали раненые и больные. Не хватало кормов. Перебивались полбой, кореньями, стреляной птицей да зверьем, доедали заплесневелые сухари.
Тихо доплыли до устья Тавды. Широкая темная река вливалась в Тобол. Заходило солнце, и хвойные затихшие леса по берегам были угрюмы и мрачны. Разбили стан, разожгли костры. Проводники, показывая на реку, говорили:
— Глубокая река, люди плавали вверх до Югорского Камня. А за ним, перевалив его, попадали в Пермскую землю.
— Русь! — сразу у многих защемило сердце.
Тут и прорвалось у недовольных.
— Хватит плыть дале! Остались в рубище, голодные, пора на Русь ворочаться. Что припасли из рухляди, с нас и будет! — гаркнул на весь стан Петро Копыльце, молодой, но уже плешивый повольник.
— Чего орешь, шакал! — прикрикнул на него Гаврюха Ильин. — По петле соскучал? До Москвы тебя не довезут, топором голову оттяпают и на Чердыни!
— Ты погоди, казак, грозить! — вмешался в спор Артем Задери-Хвост. — Не пужливы мы. Солевары извечные, навидались строгостей у Строганова! Обсудить надо. Хана нам не побороть. Велика орда, и зря задираем ее. Топорь на Руси ждет, а в сибирской стороне либо от стрелы, либо от голода могила! Эх, ты! За каким же лядом идем? Незачем.
— Врешь! — сердито перебил его атаман. — Ведет нас дело!
Кормщик Пимен встал рядом:
— Верное слово сказано: ведет нас дело, а не грабеж!
— Какое такое дело выискалось? — запальчиво закричал Копыльце. — У казака одна удаль и потеха — за зипунами сбегать.
— А я вот хочу Руси послужить! — сказал Пимен.
Артем Задери-Хвост хвать его за бороду.
— Боярам да купцам задумал служить? — заорал он. — Я тебе послужу, схвачу топор да по днищу. Вот и плыви тогда на стругах.
Пан ухватил за руку Артема, — хрустнула кость:
— Не тронь кормщика! Без него и тебе тут грош цена.
— Браты! — злее прежнего заорал Артем. — Атаманы нас обманули!
Тут поп Савва не удержался и рявкнул во всю могучую грудь:
— Браты, слухайте меня, шалость до добра не доведет. Кто, как не атаман, сделал нас силой. Не забывайте, други, среди врагов мы!
— Катись ты, долгогривый. Брысь отседова! — закричали смутьянщики.
Поп засучил рукава, стиснул кулаки:
— А ну-ка ты, орясина, тронь только! Выходи, померяемся! — глаза Саввы стали злы, колючи. Расправил плечи, борода рыжим парусом, — диковинный силач. — Я те за порух товариства башку оторву! — погрозил он Артемке.
— Зачем зашли в такую даль? — закричал рязанский Куземка Косой. — Плыли-плыли, и заплыли на край света. Не хочу пропадать. Гляди, браты, от невзгод голова сивой стала!
— Это верно! — закричали сразу десятки голосов. — Пропада-а-а-мм!..
— Вши заели!
— Раны замучили!
— На Русь!
— Эко просторы, земля без конца-краю, а нас горсть. Растопчут татары!
Люди горячились, злобились. Позади, в толпе, эти речи сдержанно слушал Ермак. Ватага зашумела яростней, в людской толчее кто-то с рывка ударил атаман Грозу в бок кулаком.
Атаман вскинул руку:
— Станишники, аль, я вместе с вами к Астрахани не ходил? Кто по горячему палу шел без воды пять дней? Кто мстил за слезы русские? А кто все предал? Я что ли? Ермак? Иванко Кольцо? Дешево расценили, мы не продажные.
— Не продажные! — поддержал Савва. — Мы волей избрали их атаманами!
В круг напористо протолкался Ерошка — солевар с белесыми бровями. Ростом малый, а сильный и злой. Схватил с головы шапку — и оземь:
— На грабеж, что ли, шли? И кого грабить? Татарские мурзаки с ордой налетают на Русь и бьют. Кого бьют? Мужиков, женок, ребят малых наших. Строгановы за крепкими стенами отсидятся! Нет, родимые, мы с Камы тронулись вольности искать. Триста лет мы в татарском ярме ходили, сбросили его. Дале идти надо, на простор…
— Долой его!.. На Волгу, на Дон радости хлебнуть, родной сладкой водицы испить!
Грудь с грудью сошлись, кругом взбешенные лица. Ерошка-солевар кричал обидчику:
— Привык жировать с кистенем на разгульной дороге. А ты попробуй трудом помозоль руки! Чую, Ермак на светлую дорогу тянет. И куда ты на Русь пойдешь, пустая головушка? Против течения тебе скоро не выгрести, а тут Тавда станет! На Камне, чай, на горах снег скоро ляжет!..
— Не слушай его, уговорщика, браты! — злобился Петро Копыльце. — Подай нам сюда атамана. Кто наших на Серебрянке в прорубь пометал? Он — жильный зверюга! Его самого в куль да в омут!
— Где он? Пусть сунется. Я первый его саблюкой по башке!
— А ну-ка, ударь! — осадил буйного властный голос. Ермак сильным движением раздвинул толпу, выхватил из ножен тяжелый меч.
Горлопаны шарахнулись в стороны: вот крякнет и пойдет крестить булатом! Атаман взялся за лезвие и рукоятью протянул меч Копыльцу:
— Эй, удалой, сорви-башка, руби голову своему атаману!
Петр Копыльце побледнел, стоял опустив руки.
— Ну, чего же притих? — громовым голосом спросил Ермак. — Али слаб разом стал?
— Да что ты, батька? — пролепетал Артемка. — Да нешто мы… Так только, покуражились. Аль такого николи не бывало на казачьем кругу?
Атаман бросил меч в ножны и отвернулся от смутьяна.
— Казаки! — обратился он к вольнице. — Я выбран громадой и веду войско, а не баранье стадо. Что губы распустили, из-за чего перегрызлись? Атаманы, сотники в спорки схватились, в муть гущи подбавили. Где ваша воинская рука? — гневным взглядом Ермак повел по толпе.
Казаки притихли, понурясь стояли младшие атаманы и сотники.
— Слухай меня, войско! Вот крест святой, — Ермак перекрестился. — Или пойдете, как воины, или всех до одного смутьянов на осине перевешаю! Не дам русские хоругви позорить, над воинской честью надругаться. Войско! Все слухайте: за трусом смерть приходит! Уходить отсель, когда полцарства повоевали и до Кучума рукой подать… Да что вы, шутки шутковать? Погибели хотите? Надо вершить до конца затеянное! Не о себе пекусь, об отчизне, о каждом из вас. И куда отходить? На старой дороге — бесхлебье, а по новой — по Тавде — не выходит. Дуроплясы только могут звать на белую гибель. Морозы, горы, и нет пути в эту пору. И пристало ли унывать нам, коли бьем ворога? И ведомо вам, что не все Кучуму преклонны. Есть народы, что чают избавиться от хана…
Иванко Кольцо согласно кивал головой: «Что скажешь против слова батьки? Правда в ней!». Незаметно толкнул Савву в бок:
— Притихли люди, пробрало?..
— Проберет, — тихо ответил поп. — Умеет; не мытьем, так катаньем… Так и надо, коли взялся за гуж!
Ермак продолжал:
— Выбран я коренным атаманом. Чуете?
— Чуем! — в один голос отозвалась дружина.
— И говорю я вам — волен я в ваших жизнях. Помысли ваши и мои едины пусть будут: идти на Кучума! Атаманы и сотники, в походе не грызутся воины! Дружина сильна единодушием. Тот, кто нарушил воинскую клятву, вносит смуту и шатость, того, не мешкая, всенародно казнить. Пусть знает каждый, что его ждет за измену! И еще говорю вам — утром плывем дальше, на восход. Будет так, как сказано!
Копыльце завыл, как волк в морозную скрипучую ночь. Его и других сомутителей повязали и увели в лес. Никто не перечил.
Иванко Кольцо подумал взволнованно: «Страховито! Батько кровью умывается! — И тут же себе ответил: — А как иначе? Пусти повод — разбредутся».
На синем рассвете погасли костры. Дружина убралась в струги. Подняла паруса и поплыла по желто-мутному Тоболу к буйному и широкому Иртышу.
В улусах — тишина, пусто. Откочевали татары на пастбища, а вогулы и остяки бродили по лесам. На привалах конопатили струги, смолили. Кормщик Пимен всем верховодил. У каждого струга свое имячко, и его ласково называл старик.
Ертаульный струг звался «Молодец». У него бок помят, — новые тесины ставили. У «Дона» течь открылась — конопатку сменяли. Чинили паруса, продырявленные стрелами. Много стругов — сотни забот. Матвей Мещеряк за добром следил, чтобы не подмокло, не сгинуло; казаков распекал за нерадивость. Дни стояли жаркие, безоблачные.
Иван Кольцо, лежа в мураве, издали разглядывал работу ладейщиков, казачий стан у реки и синие дымы костров, а мыслями был далеко — в Тархан-Калла. Все виделись ему призывные очи тархановой женки. «Ах, Юлдуз, Юлдуз, зря отцвели твои дни! Можно ли приласкаться к старику? — От ревности распирало казачью грудь. — Суров, жесток батька, не хочет он знать человеческого сердца. Что бы дать полста казаков! Сумел бы Иванко раздобыть коней и вернулся бы вихрем в Тархан-Калла. И ничего ему там не надо, кроме черноглазой Юлдуз-хатун!».
Вспомнилась Ивану его сестра Клава — такая же горячая и неспокойная сердцем, как он. Нашла ли она свое счастье или сгибла на Волге?
На берег внезапно выехали три конника. Иванко вскочил: «Татары!». Хотел крикнуть о сполохе. Однако признал своих из полусотни Богдашки Брязги. Третий промеж ними на коне — пленник с повязанными назад руками. Подскакали казаки ближе и закричали:
— Встречай, браты, мурзака поймали!
Татарин был в цветном кафтане, в шапке из темного соболя. Сапоги из красного сафьяна, изукрашенного серебром. За поясом клинок с золотой насечкой. Иванко Кольцо пошел следом и не сводил глаз с пленного. Лицо острое, желтое, бородка — клинышком. Глаза веселые.
«И чему радуется пес? В полон угодил, какая в том корысть?» — подумал Кольцо.
Татарина ввели в шатер к Ермаку. Атаман сидел на барабане. Вскинул на пленного глаза.
— Кто такой? Как звать? — спросил он по-татарски.
Пленник глазами показал на связанные руки.
— Освободить!
Татарина освободили от ремней, потянулись за его клинком. Ермак повел бровью:
— Сабельку при нем оставить!
Пленник поклонился атаману:
— Таузан зовут. Слуга хана, торопился собирать дань.
— Велик ли ясак? — заинтересовался Ермак.
— Женатый дает десять соболей, двое холостых — столько же!
— Велика дань, — сказал атаман. — Много, видать, хану надо?
— Много, много! — охотно подтвердил Таузан. — Большой царство, великий хан.
Ермак подумал, наклонился вперед и спросил:
— А как царство хана строится? Видать, ты человек смышленый, коли сам хан доверил тебе собирать ясак. Расскажи!
Таузан поднял руку, отогнул мизинец:
— Это семья — звать кибитка, юрта. — Тронул следующий палец: — Улус — десять, двадцать семья, сколько есть в одном месте. — Подняв безымянный перст, сказал: — Все семьи в поколении — волость! — Указательный палец Таузан поднял: — Орда. Все поколения соединились.
Наконец, он кивнул на большой палец и пояснил:
— Сибирский юрт! Все царство. Сидит на юрте хан, ой, большой хан! Город Искер — силен, ой силен! — Глаза татарина плутовато бегали.
— Ишь ты, как царство свое построил! — И в ногаях тако ж — вымолвил Ермак и спросил Таузана: — При хане много вельмож?
— Ой, сколько вельмож! Бухара такой пышность нет. Гляди-считай: князьки, тайджи-царевичи, мурзы, ахуны, сеиты, карачи — думные. Ой, много! Столько, сколько звезд на небе!.. За саблю благодарю, вели коня отдать?
— И коня, и все тебе отдадут, только не стращай нас ханским войском. У Кучума воинов — сколько проса, но и всякое семя поклевать можно. Идем, тебе покажу, как это творится! — позвал Ермак мурзу из шатра.
Скликнули полдесятка казаков — добрых пищальников. Повесили на кол железную кольчугу, и атаман приказал стрелять.
Грянули пищали и насквозь пробили кольчугу.
Мурза развел руками.
— Аллах велик, но такого дива не видел.
Татарину стало страшно. Косил глаза на Ермака, стараясь по его лицу угадать свою судьбу. Но атаман дружески положил руку на плечо пленного:
— Будь гостем! — Он ввел его в шатер и посадил рядом. Поставили яства, и Тузан жадно поел.
— Хороший хозяин, большой воин. Хвала аллаху, что встретил такого! — льстил мурза.
Ермак озабоченно спросил:
— Как здрав хан? Думал сам навестить, да уж припоздал, спешу на Русь.
— Хан стар, глаза плохо видят, гноятся, — охотно отозвался Таузан. — Но у него тайджи Маметкул, у того глаза острые, рука твердая, храбр, как барс, и яростен в битве. Нет ему равного во всей сибирской земле. Горе тому, кто встретится с ним в ратном поле!
— Кланяйся ему, — спокойно сказал Ермак. — И поведай, жалкую, сильно жалкую, что такого лыцаря не повидал. А вогуличи, остяки и другие — добрые воины?
— Плохи, — с нескрываемым пренебрежением ответил мурза. — Они не хотят за хана воевать, плохо ясак платят, мусульманской веры не признают, идолам кланяются. А идолы у них каменные или деревянные, бывают и медные. Шаманят перед ними, губы мажут кровью и жиром.
Ермак встал и велел принести лучший кафтан и меха. Принесли голубой кафтан и пышных черных соболей.
— Соболи — поминок хану и мурзам, а тебе кафтан!
Сам Матвей Мещеряк напялил на Таузана суконное одеяние, поморщился и подумал: «Ему бы, идолу, пинок ногой в зад, и катись к лешему, а тут батько речи разводит!».
Мурза коснулся правой рукой лба, потом сердца и поклонился Ермаку:
— Аллах пошлет на твоем пути удачу. Хан пожалеет, что не увидит столь знатного иноземца. Я скажу всемилостивому о твоей щедрости и силе!
К шатру подвели коня. Мурзак проверил, все ли в целости. Тщательно ощупал седло из красного сафьяна, сбрую с золотыми бляхами и молодо взобрался на скакуна.
— Будь здрав! — махнул шапкой Ермак, и Таузан тихо, рысцой пустился по дороге. За лесом он погнал коня быстрее. Мысли в голове его летели одна за другой, как сновидения. Он был поражен и подавлен: «Что скажу я хану? Не посадит ли он мою голову на кол у своего шатра?». Однако, ощупав в торках мягкую рухлядь, Таузан повеселел. Из предосторожности он снял голубой кафтан и бережно сложил его. «На все воля аллаха. По лицу хана увижу, что сказать ему!».
5
В этот памятный день хан Кучум встал не в духе. Сильно донимали старческие немощи и острая резь в больных глазах. Все надоело ему, но сильнее всего давало знать о себе старое тело. Рядом, за пологом, уткнувшись носом в подушку, сладко посапывала жена. Она жирна, обрюзгла, и хан с отвращением подумал: «Отгулялась в гареме на пуховиках, как кобылица на пастбище!».
Когда-то он подолгу любовался женами и наложницами и для каждой из них находил ласковое слово. Семь жен осталось у него: Салтынык, Сюлдеджан, Яндевлет, Аксюйрюк, Актамун, Шептан и Сузге. Все они ушли из сердца. Осталась лишь одна — гордая, веселая царевна Сузге. Она стройна, не оплыла желтым нездоровым жиром и, хвала аллаху, бесподобно пляшет!
Он, Кучум, понимает толк в женской красоте и в придворных обычаях, при которых жены и наложницы всегда являлись украшением трона и от века играли в жизни восточных властителей большую роль.
Толпа слуг и мурз окружала его, славословила. Он искренне верил, что достиг невиданного могущества и что столица его ханства, Искер, недоступна самым дерзким полководцам. Ханский город расположен на кручах, обнесен тынами, окопан валами и рвами. Две пушки, с таким трудом доставленные из Казани, грозно смотрят на запад. Увы, до сих пор бухарские пушкари, присланные эмиром в дар, ни разу не выстрелили из них! Но они обещают сделать это, и тогда над Иртышом прогрохочет гром, сотворенный рукой правоверного. Искер — недоступен, так повелел сам аллах, а хан, осененный разумом полководца, многое сделал для того, чтобы враг не мог подойти к нему незамеченным. На западе, на востоке и на пути в Бухару много городков окружат Искер-Кашлак. В каждом из них сидит преданный и умный мурза. Вот один из них сидит в Аттике и зорко следит за тем, чьи суда и ладьи плывут по Туре. Он знает, что происходит на Руси, за Каменными горами. Он, как пес, привязан к хану, потому что старшая дочь его Салтынык — жена Кучума. Разве это мурзаку не лестно? Разве ему невыгодно это? Немного поближе — городок ханского думчего, Карачи. Этот хитер, тщеславен, и жадность его ненасытна. Он пресмыкается перед ханом, хотя мечтает убить его и сесть на его место. Мурза Карача недоволен Кучумом за дочь Сайхан-Доланьге, которую он прочил в жены Маметкулу, а хан сделал ее только своей наложницей.
О, Кучум, Кучум, ты устроил все, как хозяин и властелин большого государства, но ты нажил себе коварного, изворотливого врага! Мурза Карача непременно обманет тебя. У него под каждым льстивым словом спрятаны две змеи… Но и Карача дрожит за свой городок, владения и поборы. И он ненавидит русских и не допустит их сюда, к Искеру-Кашлаку!
Неподалеку от устья Вагая стоит рубленый городок князя Бегиша. Он предан хану, — и тут не пройти врагу. Князь Бегиш воин, и он умрет у ворот своего городка, но не впустит в него чужого. В ишимских степях среди кочевников собирает ясак мурза Чангул. И еще есть мурзаки, дородные, хитроглазые, думающие только о себе, но сытость и наслаждения в жизни у них крепко связаны с процветанием Искера. Не будет его, хана Кучума, — и побьет их любой враг, сделает рабами.
Он властной рукой подмял под себя народы полнощных стран. Остяцкие и вогульские князьцы везут в Искер редкую дорогую рухлядь. Они не смеют подойти к шатру Кучума, ползут и угодливо смотрят в лицо хана…
Кучум встал с ложа, раб подал ему узкогорлый кумган с подогретой водой, и хан совершил положенное кораном омовение. Он сотворил краткую молитву и сел на возвышение. Задумчивость не сходила с его лица. Слуга раздул угли в мангале, благодетельное тепло стало наполнять шатер. Горделивые мысли постепенно овладели ханом: «Двадцать пять лет я властвую тут, и все покорны мне, а я непокорен Руси. Я изорвал письмо русского царя и казнил его сборщиков дани. Пусть знает, силен Кучум!».
Перед мысленным взором хана промелькнули его обширные владения. Все татарские племена, от Исети и Тобола до верховьев реки Оми и озера Чаны, подвластны только ему и шлют ясак, дань идет и с низовьев широкой Оби и даже с берегов Ледовитого моря, где полгода царствует мрак и горят сполохи, — и там, в стране полунощи, трепещут перед ним! Подать везут и барабинцы. И каждые юрта, река, становище хороши своими дарами. Охотники Севера приносили в Искер темных соболей, шкурки серебристых бобров, красных и чернобурых лисиц, выдр, горностаев и белок.
Степняки пригоняли чистокровных коней, при виде которых у ханских джигитов захватывало дыхание. Поднимая тучи пыли, оглашая степь блеянием, спешили стада ясачных овец и баранов. Ханские приемщики отбирали самых жирных, с нежной шерстью.
Идоломольцы Васюганских болот, которым хан разрешил молиться своему грубо раскрашенному, рубленному из дерева болвану, были самые дикие и доставляли Кучуму дань добрыми шкурами, шерстью и конями. Имамы не могли проникнуть в их гнилые болота, чтобы насадить среди васюганцев мусульманство.
Величие и богатство окружали хана. Чего ему еще надо? То, о чем мечталось в юности, все сбылось. Он имеет много рабов и наложниц. Ему навезли их с Руси, из Бухары. Казахи доставили сюда красивейших девушек; из Горного Алтая старый князь Тулай, женатый на дочери Кучума, прислал ему в обмен на собольи и бобровые меха караван с девушками. Ах, беда — глаза хана заволокло туманом, он плохо видит прелести наложниц! Быстрыми перстами он обежал алтаек. Низкорослые и малоразвитые телом, они имели прекрасные лица с темными жгучими глазами. Они много курили и пили арачку, — были самые нетребовательные и самые простодушные.
Табиби-врачи, прибывшие из Бухары, уверяли Кучума, что юное тело и дыхание девочки всегда не только согревает, но и молодит старческую кровь. Они читали перед ним древнюю еврейскую книгу Бытия, — и там утверждалось, что это так! Иудейские цари — и воинственный Давид, и мудрый Соломон — клали себе в постель малолетних юниц-наложниц. Мог ли хан Кучум не верить этому, если так написано в книге Бытия? И уж очень хотелось ему верить в то, что можно продлить молодость и горячие страсти, ради которых и стоило только жить!
Самый мудрый ахун говорил хану:
— Женщина — ядовитая радость. От нее хмелеет сердце человеческое и кружится голова. Но что поделаешь, если плоть человека сильна и без греха скучно жить!
Ахун часто вздыхал и вместе с Кучумом вечерами любовался пляской наложниц. Хан сидел на троне, а седобородый досточтимый ахун и хитроглазые, заплывшие жиром мурзаки — у ног повелителя. На исцвеченном ковре, под бумажками, при ярком свете наложницы и рабыни, увешанные серебряными монетами, запястьями и монистами, побрякивая ими в такт, плясали легко и неслышно. Кучуму казалось, будто в тумане скользят прелестницы рая, обещенного ему ахуном. Ему сказывали, самые душевные и добрые пленницы были из русской земли. Волосы у них кудрявые и мягкие, как лен, и длинные, как водоросли в темных озерах, руки чистые и теплые, а песни их брали за душу. Каждая из невольниц и рабынь пела на языке своей родины песни своего народа. И каждый мотив звучал по-своему, необычно и прекрасно.
Особенно полюбившимся наложницам хан дарил городки-крепостцы, отстроенные на окрестных холмах. Так Сузгун-Туру он подарил прелестный Сузге, которая была его последней любовью. Красивая и очень умная, она держалась гордо и властно. Но Сузге прекраснее и честнее всех женщин, окружавших Кучума. И в Бицик-Туре, и на горе Алафейской, и в Абалаке стояли шатры, где жили в затворничестве крисивейшие наложницы и жены. Он являлся сюда со всей пышностью восточных властелинов. Его несли в паланкине, а впереди бежали скороходы. Нарядные мурзы на конях сопровождали его; каждый из них считал это великой честью.
Увы, бешено бежит время и разрушает все, даже самое прекрасное! Старшие жены отжили свой век, — отяжелели или высохли, зубы их черны от табака, а дыхание вызывает лишь отвращение; молодые целыми днями валяются на пуховиках, без конца едят сладости, доставляемые бухарцами, и постепенно гаснет их жажда к ласкам. Они становятся злы, тупы и холодны. На их густо и грубо нарумяненные лица время усердно кладет густую паутинку морщин, их тело тоже становится дряблым…
Не оттого ли сегодня хан хмур и недоволен? Он обошел шатер, перебирая янтарные четки. «Все тлен и предано тлену. И все призрачно, как призрачен туман над болотами!» — огорченно подумал хан и подошел к зеркалу. Давным-давно он выменял его у китайского купца на соболей, а потом пожадничал, — велел уланам нагнать купца в горах и отрубить ему голову. И зеркало, и соболи остались в шатре Кучума. «Вот оно! Посмотрим, что оно скажет мне?».
Лучше бы хан не смотрел на свое отражение! Узкая бритая голова высохла, видны жгуты синих жил. Кожа — желтая и сухая, как древний пергамент. Лоб — в глубоких морщинах, глаза гноятся. Опухшие воспаленные веки дрожат. Ниже подбородка, как грязные тряпицы, болтаются дряблые складки.
И все-таки не от этого особенно хмур сегодня Кучум. Тревожные мысли сверлят его мозг…
Как-то в Искере побывал бухарский купец. Недобрую весть принес он. Боялся купец сказать все открыто и долго говорил Кучуму притчами и загадками. Лишь под конец, когда хан пригрозил посадить его на кол, он повалился в ноги и возопил:
— Велик аллах, милость и щедроты его неисчерпаемы. Все пути злодеям в твою благословенную землю он преграждает, но старое, забытое тобое зло дало свой корень. Из Бухары собирается сюда, в степи, как злой волчонок, Сейдяк — сын Бейбулата!
Четки выпали из рук Кучума. Раб быстро поднял их и подал господину. Стараясь обрести душевный покой, хан нервно перебирал янтарь. Он сидел на троне с замкнутым лицом, опустив веки и прислушиваясь к своему сердцу. «О чем стучит оно? Страха, гнева не было в нем. Нужно предупредить события: Сейдяк — сын Бейбулата смертен, как и все люди. Разве с ним не может приключится смерть еще до выхода из Бухары?»
Хан слепнет, но разумом он видит далеко. Если свои глаза плохо видят, Кучум пошлет соглядатаев. Никто не узнает, что у него есть верные люди, которые всегда сделают так, как хочет он! В Искере они делают обычное дело и почти не показываются на глаза придворных. Цирюльник Хасан бреет головы правоверных и слушает их болтовню, и все, что говорят ему, он хорошо запоминает. Гончар Ибрагим постукивает по своим горшкам, зазывая покупателя, но он столько же интересуется своими изделиями из глины, сколько хан Кучум думает об остяках. Гончар может обжигать не только горшки, он может залить рот свинцом тому, кто много знает и неугоден хану. И не только это. Он может в любую минуту прикончить мурзака, если на этом несчастном остановится хмурый взгляд Кучума. И есть еще третий, самы ловкий и сильный, — Абдурахман. Он глашатай ханских указов. Горло его крепче верблюжей глотки, а руки подобны железным тискам. Этот не упустит жертвы, если она к нему угодит. Он умеет усладить Кучума страданиями неугодных ему людей.
Трех самых преданных он позвал в Бицик-Туру, где уселся под лиственницей и рассказал им свою печаль, и они в тот же день, снарядив верблюдов, отправились на юг.
Вечером с высокого минарета мулла выкрикивал голосисто:
— Я ху! Я хак! Ля иллях илла ху!
А глашатай на площади рассказывал народу:
— Хвала аллаху, очам хана стало лучше, но он отправил караван в Бухару. Не только целебные мази нужны ему, но и забота о народе гложет его сердце. Они добудут там дешевые ткани, оружие и медные сосуды для правоверных!..
Только полуголый дервиш — святой человек — захохотал и сказал толпе:
— Кто поверит тому, что лиса перестала гоняться за зайчатами. Старому волку захотелось свежей крови…
На другой день дервиш больше не появлялся на площади. Никто не видел его и в караван-сарае. Что стало с ним? Спрашиваемые пожимали плечами и отвечали безразлично:
— Люди появляются и уходят, как облака по течению ветра. На все воля аллаха!
И вот прошло уже много времени, а выбывшие с караваном все еще не возвращались. Что произошло? Это волновало хана. Но больше всего тревожили русские, перевалившие Каменный Пояс и плывущие сюда. Вот о чем и не хотелось думать, а все же думалось, думалось… Не сбываются ли предсказания его звездочетов, знахарей, и не о том ли вещают страшные сны?
Уже давно пришел старый татарин, много ездивший по стране и еще больше слышавший. Он принес кусок дерева с белой корой и сказал хану странное слово.
— Береза!
Мало ли деревьев растет в его обширном царстве, — хана ничем нельзя удивить. Но в этот раз он насторожился и повторил:
— Береза! Почему у нее белая кора? Я никогда не видел этого дерева здесь!
Татарин поднял глаза и ответил хану:
— Такое дерево никогда раньше не росло в Сибири. Оно пришло из-за Камня. Крепкое и живучее дерево перешагнуло горы, высокие скалы, перешло реки, не побоялось вьюг, морозов, и вот оно здесь. Видишь?
— Вижу. Что это значит? — насторожился Кучум.
— Ты не поверишь, мудрейший, мне, — с легким укором сказал старый татарин. — Ты оставил старых богов, совершил обрезание и прогнал в Васюганские болота старца-шамана Кукджу. А он мог все сделать, отвести всякую беду. Он все знал, старик, и выжил злого духа из утробы твоей дочери Лейле-Каныш. А ведь все отреклись от нее, — сказали, что у ее ног стоит смерть. Кто, как не Кукджу, вернул храбрость тайджи Маметкулу? Я недавно видел старца. — Татарин отодвинулся от хана, но тот не поднял руки.
— И что же сказал тебе Кукджу? — охрипшим голосом спросил Кучум.
— Он сказал мне: белое дерево — береза всегда идет впереди белого человека — русского. Раз оно перевалило Камень, следом за ним придет русский, а затем их царь. Худо будет нам, хан!
И тут хан вспомнил, почему под утро на сердце вдруг пала невыносимая тоска. Все дни он ходил встревоженный недобрыми вестями и всякое передумал, а ночью видел страшный сон. Будто он сидел на яру и хорошо видел пределы своего царства. И вот из Иртыша, с татарской стороны вышла на остров черная собака, а с московской, с Тобола, — белый волк. Они грызлись до утра, кровью покрылась вода, а Иртыш метал огненные искры. И что было страшнее всего, — на Искерском холме вдруг встал московский город с белыми церквами. Что все это значило? Ученый сеид объяснил хану, что он сильно обеспокоен, и потому такие странные сны.
«Кто же может прочесть в книге Судеб мое будущее?» — с отчаянием подумал хан. — Сеид, может, и знает, но дорожит головой. Худое он не откроет, а хорошему хан не поверит. Ох, горе мое, горе!" И, обратясь к татарину, он спросил:
— Где же ты видел шамана Кукджу?
— Дай свое высокое слово, что не казнишь его, — распростерся у ног хана татарин.
— В том мое великое обещание, — торжественно произнес Кучум.
Татарин поднялся и сказал:
— Сто лет Кукджу, белая борода, которая растет от самых глаз его, точно мох на старом пне, пожелтела, как шафран, но ум его стал обширнее, и он видит далеко вперед, что не открыто смертному. Скажу тебе тайное, хан. Старый Кукджу прибыл с Васюганских болот в улус Карачи. Мурза держит его, как дорогого гостя. И надо признаться перед твоим чистым ликом: Карача и старец все еще преклонны к старым богам и молятся им. И подумай, — они поклоняются святой Оби и буйному Иртышу!
Кучум теребил реденькую седую бородку. Он сидел в шелковом халате с большим кругом на груди, на котором были вышиты изречения из корана. Он сложил руки на коленях и задумчиво опустил голову. Так сидел он долго, и татарину показалось, что хан уснул. Вдруг Кучум поднял голову, прислушался, как волк на охоте, и тихо сказал татарину:
— Приведи ко мне старого Кукджу!
Гость с суеверным страхом поглядел на хана: «Не знает ли он, что шайтанщик близко?».
Кучум кивнул:
— Ты, старый пес, наверное и сейчас укрываешь его. Не бойся, Кукджу мне потребен немедля!
Сухой и маленький шайтанщик, с седыми волосами, заплетенными в косички, переступил порог ханских покоев и упал в ноги Кучуму.
— Пощади ради старости, и боги оберегут тебя! — вскричал он.
Хан с презрением покосился на него. Кукджу лежал распростертым, его сухие коричневые руки походили на древесные корни. «Повержен в прах», — подумал и успокоился хан. Он кратко поведал о сне.
Шайтанщик начал дряблым голосом:
— Я уже спрашивал своих богов, что это значит?
— Как? Ты знал о моем сне?! — удивленно вскричал Кучум.
— Я знаю все, и боги мои поведали сказать тебе, хан, что белый волк с Тобола — это русский атаман из-за гор, а черная собака — мы, твои данники и слуги. Волк порвет черную собаку, — так я читаю в книге Судеб. Хан, ты знаешь, что Кукджу не врет!
Кучум был встревожен, дрожащие руки его быстро перебирали четки, но все же он поднял гордо голову и крикнул, чтобы слышали все, кто подслушивал там, за пологом, его беседу с предсказателем.
— Ты лжешь, старая сова. Как ты можешь читать в книге Судеб, если твои очи совсем плохо видят! — и, ехидно улыбаясь, закончил: — Я вернее предскажу твою судьбу!
Хан захлопал в ладоши, и тотчас у входа выросли два сильных улана.
— Схватить его! — указал им на старика хан. — Он хочет покоя. Пусть мои степные кони размечут в поле его тело во имя бога милостливого и милосердного!
— Будет по-твоему, хан! — поклонились уланы и взяли за шиворот старца.
Они увели Кукджу, а хан все еще сидел задумчивый и грустный. Он походил на старого коршуна, который одиноко сидит на кургане и еле дышит. Полузакрыв глаза, хан прислушивался к своему сердцу.
За пологом опять зашевелились, и в тронную вошел раб. Низко склонившись, он оповестил:
— Милость аллаха на земле, только что прискакал мурза с важной вестью!
— Впусти! — приказал хан.
В шатер, шатаясь от усталости, вошел Таузан. Он был в бухарском халате и лисьей шапке. Мурзак повалился ниц.
— Великий хан и милосердие среди правоверных, выслушай горестные вести!
Кучум окаменел: он ждал грозы, но как скоро она пришла! Сохраняя величие, он надменно сказал:
— Никакие горестные вести не могут потрясти ни меня, ни мое царство. Я силен и могуч, а царство мое границами упирается в край вселенной. Говори, Таузан!
Мурзак поднялся, стоя на коленях, поведал хану:
— Тебе известно, мудрейший хан, что из-за Каменных гор появились русские воины. Они плывут на ладьях. Неверных не так много, но они крепкие и плечистые люди. Они неумолимо сокрушают все на своем пути. Горе нам!
Кучум поморщился и не сдержался:
— Откуда слышал эту сказку? Ты умен, и многое тебе мною доверено, — говори только правду. Что сам видел и слышал ты?
— Они стреляют не из луков. В руках у них посохи: из них идет дым и гремит гром. Стрел не видно, а люди падают мертвыми. Крепкие панцыри и кольчуги пробивают невидимые стрелы…
— Шайтан! — вскричал хан: — Мы имеем пушки, но бухарцы не могут пустить из них гром и смерть! Пусть покажут мастерство! Или отсечь пушкарям головы! Еще говори, Таузан!
Тот низко поклонился:
— Дозволь, премудрый хан, передать подарки, которые послал тебе русский воевода.
— О! — в удивлении уставился в мурзу Кучум.
— Он просил сказать тебе, радость живущего на земле, что торопился к тебе в гости, — льстиво продолжал Таузан, — да боится холодов, и теперь он плывет обратно в Пермскую землю.
Хан повеселел, шевельнул ладонью:
— Внесите подарки!
Внесли тюки и развязали их. Хан схватил яркокрасное сукно и поднес к мутным глазам. Он ощупал материю, скомкал ее, пробовал разорвать и не мог.
— Добрый подарок! Еще что?
Таузан выложил перед ним парчу, ленту и клинок. В эту минуту вошли мурзы и Маметкул. Тайджи взял клинок, но Кучум сказал:
— Этот меч ханский!
Маметкул нахмурился, но сдержался. Мурзы и военачальники уселись полукругом перед лицом Кучума. И он сказал:
— Аллах посылает нам испытание. Из-за гор идут русские воины. Они хотят отнять у нас наши владения, рабов, лишить всего. Быть войне! Шлите гонцов с золотыми стрелами по всем рекам, городкам, улусам и юртам. Пусть наши данники спешат сюда, к Искеру. Воинов здесь ждет слава и почести. Мы побьем неверных и воевод их предадим мучительной казни. Маметкул, ты поведешь это войско! Ты лихой наездник и кровь Тайбуги, тебе — честь покарать дерзких!
Все молча выслушали приказ хана.
— Так будет, многомилостливый, как сказал ты! — встали и низко поклонились мурзаки, а с ними склонился до земли и Маметкул.
— А теперь идите! — кивнул хан на полог, и все степенно, пятясь к выходу, удалились из шатра. И как только скрылся последний мурзак за пологом, Кучум позвал:
— Юсуф!
Вошел раб, и хан повелел извлечь из сырой ямы-темницы русских.
В глубокой копани на дне сидели трое русских, обросших лохматыми бородами, в истлевших одеждах. Тайджи Маметкул привел их на аркане из набега на Пермскую землю. Полгода назад они выглядели богатырями, а сейчас шевелились тенями. Захвачены они были в поле. Один из них был горщик, добывал руду, второй пушкарь, а третий — солевар.
Ни угрозы хана, ни пытки не страшили их. Под бичами, исполосованные до костей, они молчали. Мурзаки выведывали у них короткие дороги в строгановские городки и в Чердынь. Синеглазый с льняными волосами усмехался и отвечал допросчику:
— Попробуй добраться сам, тогда все изведаешь!
Ослабевший от пыток, он плевал мурзаку в лицо.
Второго подвешивали за ноги и говорили:
— Ты, пушкарь, покажи, как стрелять из пушек, мы отпустим тебя и дадим коня!
— Не надо мне ни вашего коня, ни басурманских обещаний, я и так убегу, а пушками владеть не умею.
Ему выбили глаз, голова его покрылась струпьями от ран, но он молчал. Когда мурзак насмешливо спросил: «Русский, как тебя зовут?», он скривил губы и озорно ответил: «Зовут зовуткой, величают уткой…»
Солевару разорвали рот до ушей, но он все ругал уланов и грозил:
— Всех не перебьешь, а Кучума не спасешь. Солоно ему придется от Руси.
— Откуда знаешь, что сюда идут русские? — удивленно спросил допросчик.
— Ужотка знаю! — уклончиво ответил солевар.
Русских полонян почти не кормили и часто пытали. Они доживали последние дни. Уланы, которые стерегли их, всегда старались копьем разогнать их по разным углам узилища, чтобы своим дыханием они не согревали друг друга. Сегодня, в сырой октябрьский день, о них вспомнили, вытащили из ямы и привели к хану. Они не падали ниц и не просили пощады.
— Кто из вас пушкарь? — спросил Кучум.
Вперед выступил высокий одноглазый.
— Я — пушкарь.
— Ты можешь стрелять из пушек?
— Могу! — твердо ответил пленник.
— У меня есть пушки, и ты будешь стрелять из них! — хан жадно потянулся и пообещал: — Ты получишь волю.
Двое товарищей пытливо глядели на пушкаря: «Неужели предаст?».
— Сатана, купить хочешь? — вскричал он. — Ты хан, а глуп. Во всем твоем царстве не найдется богатств, чтобы купить одного русского. Хочешь, по твоей орде стрельну, ух, и стрельну!
— Юсуф! — дрожа от гнева, закричал Кучум. — Прочь ему голову!
— И на том спасибо, шакал! — пушкарь сплюнул и, вскинув голову, вдруг заливисто запел:
Эй, да по горячим пескам, По зеленым лужкам…
— Обезумел, — сказал хан. — А вы, что молчите? — спросил он двух оставшихся пленных.
— Казни и нас, змея лютая, а не то мы сами казним тебя! — пленники дружно бросились вперед, но уланы быстро перехватили изможденных русских.
— А этих потоптать конями! — ткнул в них пальцем хан.
Русские с такой ненавистью посмотрели на Кучума, что тот задрожал весь и в страхе подумал: «Что за народ — русские? Они не побоялись Бату, разорили Золотую Орду, побили Казань, взяли Астрахань… Что за народ?»…
В Искер съехались татары, ханские мурзаки пригнали сюда вогулов и остяков. Из ишимских степей уланы привели табуны коней. Маметкул торопил седельщиков: он готовил к встрече с Ермаком сотни всадников. Во все он входил сам, так как понимал толк в конях, воинских уборах и снаряжении. Кучум говорил мурзакам:
— Это степной орленок! Я напущу его на русских. В его жилах течет кровь ханов, и потому он бестрашен, храбр и умен!
На сером тонконогом коне Маметкула видели в Алемасове.
Здесь на холме черными пастями зияли землянки — закопченные кузницы, возле которых громоздились кучи ржавого железа и полосы неотделанной стали. Тянутое железо, так же как и сталь, привозили каждую весну в Сибирь запыленные, обожженные солнцем караваны из Лагора и Кутиса.
В узких проулках Алемасова оглушали шумом оружейные мастерские. Крохотные, полутемные, с вечно пылающими горнами, которые среди мрака казались приветливыми и манящими, они были забиты стальным ломом, оленьими и турьими рогами, моржовыми клыками. Тут выковывались клинки, мечи и острые кривые ножи, которые особено любили татары. Их закаляли на века. Старинный мастер, оружейник Хасим, доводил их до совершенства, полировал и передавал не менее опытному граверу Юсуфу. Когда-то Юсуф был рабом в Бухаре, где постиг тайну гравюры. И сейчас, в глубокой старости, без очков, он насекал на сабельном клинке, отливающем синью, контур рисунка. Из медного котла, вделанного в горн, поднимались вредные зеленые испарения, смрад которых густо наполнял оружейную мастерскую. В котле кипела смола, затертая на прогорклом масле. Этот состав шел на травление орнаментов на клинке.
Тут же под оконцем, затянутым пузырем, трудились золотых дел умельцы, — наколачивали на клинки золотые и серебряные рисунки. За верстаком, заваленном простыми ножами, долотами и шильем, старались косторезы, мастерившие чудесные эфесы для сабель.
Маметкула не интересовали тонкости мастерства. Он криком вызывал оружейников из мастерских. Морщась от вони, которую выделяли кипящие кислоты, он давал исход своему негодованию: жильной плетью беспощадно избивал старых оружейников и седельщиков. Горяча коня, грозил:
— Я растопчу вас, и тела ваши растаскают псы! Ленивцы, когда вы сделаете то, что приказано?
Мастера стояли перед ним на коленях:
— Тайджи, ты видишь, мы день и ночь трудимся у горнов и стараемся дать воинам крепкие клинки. Но что делать, если у каждого из нас только по паре рук.
— Отдайте все ваши силы и умение, но клинки принесите мне через три дня!..
После этого Маметкула видели на горе Алафейской. Его конь птицей расстилался по гребню высоты, за которой синело небо. Лихой всадник тайджи! Посетил он и Бицик-Туру! И нигде ему не нравилось. Потный и пыльный, вечером вернулся он в шатер Кучума и сказал ему:
— Ждать врага нельзя, надо идти ему навстречу.
— Я всегда делал так, — согласно кивнул хан. — Когда я был молод и мои глаза все видели, я смотрел на самое страшное и не боялся. Пусть аллах благословит путь твой!
Кучум отошел ко сну рано, успокоенный и утомленный от дневных забот. Маметкул вскочил в седло и выехал из Искера. Дозорные безмолвно пропустили его. Звездная ночь была полна прохлады, шумели старые кедры, роптал Иртыш. Тайджи свернул коня на тропку, и вскоре перед ним сверкнул огонек.
«Сузгун-Тура! — узнал он, и сердце его сильно заколотилось. — Что будет, если узнает хан? Но ему сейчас не до этого!» — успокоил себя Маметкул и остановил коня перед дубовыми воротами. На его окрик в башенке открылось оконце и выставилось бородатое лицо.
— Аллах, кого я угадываю! — вскрикнул привратник.
— Открой мне, и ты от меня получишь должное.
Босые ноги зашлепали по лесенке, и ворота со скрипом полуоткрылись. Маметкул въехал во дворик. Почуяв отдых, жеребец заржал. Рядом с тайджи оказалась женщина с покрывалом на лице. Она схватила его за руку.
— Идем, тайджи! Сузге давно ждет тебя.
— Как же она узнала, что я приеду? — удивился он.
Служанка тихо засмеялась:
— Сердце-вещун подсказало. Сколько орлу ни кружить над степью, а к своей орлице прилетит.
Ощупью, влекомый служанкой, он прошел через темные сенцы. В большом шатре по углам горели высокие светильники. Вился дымок из курильницы.
— Жди здесь! — указывая на подушки, разбросанные по ковру, сказала служанка, и коричневые глаза ее зажглись лукавством.
Смелый в бою, Маметкул вдруг смутился здесь, в женском жилье. «Может она предаст?» — подумал он о служанке, но сейчас же отогнал эту мысль…
Зашелестел полог. Он поднял глаза и увидел Сузге. Молча глядел он на красавицу. Что сказать ей? Слова не шли с языка. Тайджи был полон чувств и хорошо не знал, любят ли его. А Сузге ждала его слов и улыбалась. Потом вздохнула, взяла чонгур и тронула струны.
— Ты огорчен, ты озабочен и скоро ускачешь из Искера? — спросила она. — Хочешь, я спою тебе? — И она запела протяжно и нежно, тоненьким голоском. Маметкул хорошо знал слова этой песни о любви.
Лицо Сузге сияло юностью, глаза красноречиво дополняли песню, — они то смеялись, то были печальны. В голове гостя стоял жаркий туман. Довольный, что не нужно говорить, он минуту за минутой сидел и слушал. Затем он блаженно закрыл глаза… И тут, от усталости, что ли, с ним произошло то, что позднее тайджи никак не мог простить себе, — он крепко уснул.
Маметкул открыл глаза, когда свет зари стал проникать в шатер. Недоуменно оглянувшись, он вспомнил все и ужаснулся. Позор! Как мог он уснуть в такой неурочный час! Тайджи вскочил и позвал:
— Кильсана!
Вошла смуглая служанка. Она насмешливо взглянула на смущенного гостя.
— Я хочу ее видеть!
— Но ее нет. Какой же ты евнух, что не устерег ее?
В лицо Маметкула ударила кровь. Гневный на себя и служанку, он крикнул ей:
— Моего коня!
— Может господину угодно ехать на ишаке? — озорно спросила служанка. — Так делают все старики!
— Прочь! — взбешенно закричал Маметкул и, выбежав во дворик, вскочил в седло. Привратник услужливо открыл ему ворота.
— В добрый путь, господин! — сказал он и протянул руку за подачкой, но Маметкул не поднял глаз: ему казалось, что все знают о его позоре.
Из-за дальних холмов поднималось ликующее солнце. В Алемасове вились сизые дымки над кузницами: оружейники работали всю ночь. На искерских высотах мелькали сотни мотыг и заступов: татары укрепляли городище. Везде был нужен Маметкул. И постепенно впечатления позорной ночи отошли, их сменили мысли о военном деле, заботы полководца.
Пора в поход! Настало время проучить дерзких русских!
Струги плыли к Иртышу, держась близко один к другому. Только ертаульный струг кормщика Пимена шел на версту впереди. Брязга напряженно следил за берегами. Шарил глазами по кустам, оврагам, прислушивался к лепету каждого ручья, впадавшего в Тобол. Уже садилось солнце, и наступила пора выбрать прибрежную елань для стана. Где-то неподалеку, по рассказам проводников, должен находиться улус мурзы Бабасана. Устье Тавды осталось позади на тридцать верст. Гребцы устали, тянуло на отдых. Богдашка Брязга решил пристать к берегу. Казаки ударили веслами и весело завели:
Вылетал соловей
На крылечный столб.
Он со столбика
На окошечко.
Эхх…
И вдруг на берегу вырос, как литой, всадник. Он пригнулся к конской гриве, солнце сверкнуло на острие его копья. Вмиг казаки стали отгребать от берега.
Кормщик Пимен предостерег ватагу:
— Браты, чую татар! Бери вязанки хвороста, хоронись!
Брязга не сводил глаз с гигантского конника, застывшего в неподвижности. За ним в вечернем небе поднимались клубы дыма; судя по всему, не случайно тут горели бесчисленные костры.
— Гляди, вон где таятся вороги! — крикнул Богдашка и указал на густой тальник. На безветрии зелень дрожала и качалась. Короткими молниями вспыхивало и угасало сверкание сотен острых копий. И вдруг заржали кони; речная ширь подхватила и понесла это звонкое ржанье. Татары перестали скрываться. На разномастных конях сотня за сотней вылетали они на берег, и разноголосье покатилось над темной стремниной.
Брязга окликнул горниста:
— Играй!
Тревожные, призывные звуки рожка понеслись вверх по Тоболу, оповещая Ермака об опасности. Всадник на берегу взмахнул рукой, и по всей кромке крутояра зашевелились, как страшное многоглавое чудовище, орды.
Сотни стрел с визгом взмыли в воздух. Рядом с конником появился мулла в белоснежной чалме и, подняв руки, завопил. От его воплей еще сильнее забушевали всадники, стремясь к воде. Заблестели сабли, крики слились в один протяжный гул.
— Не страшись! — закричал Брязга и, прикрываясь связкой хвороста, пальнул из пищали. Близкий к реке татарин упал с коня и пополз. Еще неистовее взвыл мулла.
— Добыть басурмана! — приказал Брязга.
Трофим Колесо, не раздумывая, сбросил кафтан, сапоги и прыгнул в воду.
Сотни стрел уходили вглубь рядом с пловцом, но он, ныряя щукой, плыл к берегу. Смелость его поразила татарского всадника, и он невольно залюбовался пловцом.
Ертаульный струг косо резал воду, плывя следом за казаком. Оперенные стрелы с воем били в пучки хвороста, колыхаясь от ветра и движения струга. Невзирая на опасность, Брязга выскочил из укрытия и, ободряя пловца, закричал:
— Вон идолище, в тине барахтается!
Колесо поднялся. Дно, затянутое илом, было мелко. Ордынцы застыли настороженно, решив, что это перебежчик. А он подскочил к сбитому татарину, набросил на него аркан и опять ринулся в тобольскую стремнину.
И только тогда сообразили татары, что не перебежчик плыл к ним, и снова сотни стрел, описывая дуги, били по волнам. Одна из них с большой силой прошлась вдоль спины пловца.
— Ох, дьяво-лище! — прерывающимся голосом выругался казак; вода позади него окрасилась кровью.
Влекомый на аркане, татарин захлебывался.
— Не барахтайся, пес, — прикрикнул на него Колесо и размашистыми саженками доплыл до струга. Браты подхватили храбреца. За ним выволокли и татарина. Он был бледен и не дышал.
— Враз откачать! Заговорит поганец! — и сам Брязга схватил пленного за плечи, положил на дно струга. Сводя и разводя безвольные руки ордынца, он озорно покрикивал: — Погоди, успеешь еще на тот свет. Магомет не заждется. Дыши, дыши, леший!
Изо рта и носа ордынца пошла вода, он неровно задышал и открыл глаза.
— Жив чертушка! — обрадовался Богдашка. — Чье войско? Зачем пришел?
— Много… Маметкул ведет… Племянник хана…
Кормщик Пимен отводил струг подальше от орды, но татары следом скакали по берегу. Парус был изодран острыми наконечниками стрел. Многие из казаков поражены: одному глаз выбило, другому ухо оборвало, третьему в грудь попало. Колесо обливался кровью, но ни стоном, ни взглядом не выдал сильной боли, только попросил Пимена:
— Умой спину мне, да медвежьим салом смажь. Живо… черт!..
До чего терпелив человек! Старик, смазав рану салом, наложил на нее тряпицу, и Колесо, поставив перед собой пук хвороста, стал бить по врагу из пищали.
Татары не унимались. Гарцуя на горячем коне, Маметкул размахивал саблей и крепко бранился. Ох, до чего хотелось ему добыть казачий струг!
Казаки лихо отвечали:
— Эй, подбери полы кафтана, конь смочит!
— Чего кричишь, шайтан голова! — неслось с берега.
Со стругов отзывались:
— Подавай нам вашего царевича, мы поучим его казачьей удали!
— Тьфу, рус, ты жрешь свинья?
— Жру, а тебе свиное ухо осталось!
— Получай стрела!
Следя за полетом тугой стрелы, казаки смеялись:
— В чисто небо, во широкое полюшко. Глазы косы, пуп сивый!..
Побросав коней, татары лезли в реку, но струг поворачивался боком, и по волчьим шапкам били пищали. Брязга метил в Маметкула, но свинцовые пули не долетали до яра.
— Эх, волчья сыть, сцепиться бы с тобой врукопашную! У-у, дьявол! — злился Богдашка.
Солнце в последний раз озолотило воды Тобола и укрылось в тайге. Под яром на воду легли синие тени. Клубы дыма на берегу стали гуще. В этот закатный час совсем близко заиграл горн. Брязга оглянулся на казаков:
— Ну, браты, батька торопится.
Из наползающего сиреневого сумрака строем выплыли струги. По широкой воде разносились звуки литавр, труб и рожков.
— Аллах вар… Аллах сахир… — все еще не унимались татары.
Огни костров стали ярче. Сумерки ложились на землю туманной пеленой. Перестали визжать стрелы.
Ермак в легкой кольчуге и шеломе, обнажив тяжелый меч, первым выскочил на берег.
— За мной, браты!
Теснясь, с топорами на длинных ратовищах и хлесткими кистенями, с протазанами и чеканами казаки устремились за батькой. Поток их был так стремителен, что татары, пораженные дерзостью, не рискнули схватиться врукопашную. Напрасно Маметкул бил плетью трусливо отступающих, грозил, топтал их копытами коня, — время было упущено. Русские уцепились за кромку берега и стали разливаться вдоль яра. Скоро густая тьма укрыла все. Вдали загорелись костры; от них ночь на берегу казалась еще непроницаемее. Вспыхнувшая сеча сама собой погасла.
Во тьме слышался топот коней, гортанные выкрики, — во всем чувствовалось движение огромной рати. Ермак жадно ловил каждый шорох, крик, вглядывался в мерцанье огней. Весь собранный, напряженный, он обдумывал предстоящее. Пользуясь ночью, можно уплыть и дальше, но рано или поздно схватка неизбежна. На этот раз перед его дружиной стояла большая, сколоченная рать. Из струга принесли раненого татарина. Внимательно выслушав его рассказ, атаман узнал, что ордой командует племянник хана. Несомненно, Маметкул — смелый вожак и храбрый, опытный воин, — постарается опрокинуть казаков в реку. Пленник так и сказал:
— Тайджи клялся хану пометать неверных в Тобол, речное дно усеять костями…
На темном небе ярко пылали звезды. Густая россыпь их — «Батыева дорога» — золотым потоком пересекала небо из края в край. Ермак взглянул на склоненный ковш Большой Медведицы и решил, что пора выбираться на простор.
Посланные дозоры наталкивались на заставы. Татары неслышно подползали к русскому стану и кололи молча. Иван Гроза со своей сотней пошел на хитрость и протянул невысоко над землей бечеву. И все, кто зверем подбирался к берегу, падали. Их клали насмерть размашистым ударом в сердце.
Пищальники Никиты Пана залегли за буграми. Впереди на равнине пылали костры.
— Батько, тут непременно пройдет татарская конница, мы ее сдержим, а другим атаманам в тот час потребно обойти врага. Царевич ихний горяч, зарвется. Вот и круши тогда супостата!
— Умен ты, Никита. О том мнилось и мне! — согласился Ермак и поднялся на холм. В отблесках пламени метались темные тени всадников. — И еще думается мне, — сказал он, — Кольцо да Брязга справятся в рукопашной. Их и в обход. Молодцы у них отчаянные. Воины!..
Тьма постепенно таяла, и восток загорался золотом утренней зари. Как и ожидал Ермак, с первыми лучами солнца татарская конница, с гиком и пронзительным воем, сверкая обнаженными клинками и остриями копий, вырвалась из березовых перелесков и понеслась на казачий стан. Под топотом копыт загудела земля.
— Батько, ой, батько, стелется темная туча. Лечь нам костьми под тяжкой громадой! — взвыл рядом с атаманом рыжий казак.
Ничего не ответил Ермак, только взглянул и словно стрелой пронзил робкого.
— Разява! — выругал рыжего Никита Пан. — Чего орешь непотребное!
— Страшенно, атаман! — чистосердечно признался пищальник.
— А ты не страшись! Ты пищаль крепко держи и бей справно! — внушительно сказал Пан.
И в самом деле, надвигался ураган: разгоряченные кони с храпом рвались вперед. Вот уже видны оскаленные зубы всадников, обезумевших в злобе. Еще пронзительнее стали крики.
Казачий лагерь сковало безмолвие. Над зеленым холмом развевалась парчевая хоругвь…
Татары приближались, вот-вот яростная волна опрокинется на казачьи сотни и сметет их. Одна из лошадей встала на дыбы и попятилась от застывшего тела мертвяка. Налетевшие сзади всадники сбили ее с ног и растоптали вместе с упавшим воином.
Подпустив ближе татар, казаки в упор ударили из фузий. И начали падать люди, оприкидываться кони; на зеленом поле все перемешалось. Орда заколебалась и отхлынула. Но затем снова ринулась на казаков. Разбился о казачью силу и этот вал, оставя на земле сотни тел. Вновь и вновь собирал всадников Маметкул и бросал к яру, но, зацепившись за холмы, казаки встречали их бойким огнем. Солнце поднялось высоко, жгло, и повольников мучила жажда. Вода рядом, за спиной плещет Тобол, и это еще больше возбуждало.
Ермак стоял на холме и хмуро разглядывал поле. Справа и слева лежали глубокие овражины, густо поросшие ольшанником. По ним пробирались казаки Иванки Кольцо и Брязги. Пора бы уже тут быть, а их не было. В нагретом мареве все расплывалось, над истоптанным лугом плыли облака пыли. Издали, с бугра, все казалось непонятным и беспорядочным. Сумятицу дополняли беспрерывные крики татар и русских.
Бой затянулся, уже стало падать за Тобол солнце. И вдруг по набегавшей конной орде вспыхнули пищальные огни, раздался тяжкий топот и оглушительный вой и гул. С фланга ударили казаки. Ермак довольно крякнул и перекрестился: не подвели Кольцо и Брязга!
Поп Савва, который в обереженье остался подле атамана, видел, как крепко сжималась и разжималась на рукояти меча рука Ермака. Ноздри атамана раздувались. Не успел иерей опомниться, как Ермак сорвался с бугра и устремился в самую кипень.
— Куда, батько-о-о! — заорал Савва, силясь его остановить.
Ермак не оглянулся. Широким, уверенным шагом шел он по полю, взрытому копытами.
Что тут делать? Знал удалый беглый поп, стань он на пути батьки с запретом, — снесет тот сгоряча с него башку. Отсюда, с бугра, ему было видно, как вздымается и опускается тяжелый широкий меч атамана. С низко надвинутым шеломом, в кольчуге, стоял Ермак, словно вросший в землю, среди орды и рубил сплеча. Над ратным полем с граем вилось воронье. Их не пугал ни полет стрел, ни крики, — запах мертвечины манил на пир. Карканье мешалось с неистовым воем татар, которые осиным роем окружили атамана. И углядел Савва, как в клубах пыли взвился аркан, ловко пущенный на плечи батьки.
— Все! — решил поп и от страшного смятенья на миг закрыл глаза. — Аминь! Что только будет с нами?..
Потом взглянул и с удивлением увидел, что батька схватил аркан, разорвал его и мечом стал прорубать дорогу к всаднику в латах.
— Ну и ну! Здорово! — выдохнул поп. — Это на царевича он! — Не мешкая, Савва выхватил меч и побежал на помощь к атаману.
— Бей супостатов! — исступленно кричал он и уже не помнил себя в воинственном пылу. И тут огромный татарин саданул его по башке окованной палицей. Все завертелось в глазах попа. И он рухнул на пропитанную кровью землю…
Когда Савва очнулся, все тело его дрожало от холода. Стуча зубами, он увидел над быльником красный ущербный месяц, а перед собою — на кочке — дружинника, в груди которого торчала длинная стрела. Рядом, в чаще горькой полыни, сверкали два зеленых огонька.
«Волк!» — сообразил Савва и нащупал меч.
Сколько времени он снова пролежал в забытьи, он не помнил. Очнулся второй раз, когда уже лежал у костра и услышал казачий говор. Над ним склонился Ермак и укоризненно промолвил:
— Эх, разудалая головушка, гулевой поп, ну, куда тебя погнало?
В суровом голосе батьки Савва уловил теплые нотки. Схватив руку атамана, он пожал ее:
— Не кори меня, батька, душа зашлась, не утерпел. А башка у меня крепкая, выдержит. Как же бой?
— Бой? — посерьезнел Ермак. — Что ж, бой один кончился. Завтра — другой!
Под утро через вересковые трясины, весь мокрый, изодранный и хмурый, приполз Хантазей. Его отвели к Ермаку.
— Садись! — ласково сказал батька. — Говори, что узнал.
Вогул уселся на землю. Глаза его слипались, — он не спал три ночи.
— Был татарский стан, головни, пепел разметаны, — начал Хантазей. — След много, ой, как много! Узнал след вогулич, остяк, но больше татар. Пеших мало. За полем — белое дерево густо-густо, а дальсе долина, а в ней кони гогочут… И опять сел и полз, и опять слысу много коней, тысячи… Поскачут они сюда…
Ермак слушал сумрачно. Держался он прямо, хотя в теле чувствовалась усталость. Потом огладил бороду и задумался. В поле, укутанном туманом, протяжно выли волки.
— Уже успели набежать, проклятые! — очнулся он. — Своих подобрали?
— Подобрали, батько, и на струги перенесли, — ответил Мещеряк. — Пимен-кормщик при них за ведуна: раны омыл, мазями смазал, зельем присыпал. Тех, которые легли в бою, земле предали…
Одна за другой гасли звезды. Над Тоболом густой пеленой поднялся туман, пронизывая сырость.
— Скоро и рассвет! — проговорил Ермак и взглянул на Хантазея. Тот, свернувшись, крепко спал. Атаман взял свой кафтан и накинул на вогула. Неторопливо вышел из шатра.
Покойно было у него на душе. Только что кончился кровопролитный бой, унесший из дружины многих, и ожидался новый — еще более кровавый, а он, хотя и поглощенный воинской тревогой, чувствовал себя так, словно уже видел поражение татар и свою победу. Было это чувство от веры в свои силы, в непобедимость русских, и от невозможности уйти от битвы, отступить. Спасение было в одном: в победе. И он твердо знал, что победит.
Ермак обошел стан. Костры погасли, подернулись пеплом. Казаки уже расселись подле казанов и укладисто ели. «Может быть, кто в последний раз насыщается, — подумал атаман, но сейчас же крепко решил: Жива будет дружина! Дойдем до Искера, а там Русь поможет нам!»
Туман стал подниматься, таять, и над лесом зарделся восток. Где-то неподалеку дятел-хлопотун старательно долбил сухую лесину. Жизнь шла своим чередом.
Казаки заняли свои места, приготовили пищали. Лица у всех сосредоточены, суровы. Напряженно стерегут равнину, по которой снова вздыбится свирепая татарская орда. Сколько ее будет? Неужто не иссякнут ее силы?
На холмах пушкарь Петро выставил пушки. Калили на огне ядра, красными глазками светились зажженные фитили. Поп Савва ходил с повязанной головой, грозил:
— Ежели его, ирода, не уложили наши, узнаю. Истин бог, зубами глотку перегрызу. Усат и громаден, черт! Палица с оглоблю.
Синие облака разошлись, и на равнину легли светлые блики. Из дальнего края, как муравьи, двинулись люди. Они росли с каждым шагом.
— Пешая рать идет! — выкрикнул Брязга. — Браты, держись!
Выставив вперед копья, татары шли плотными молчаливыми рядами. Уже различались их смуглые, замкнутые лица. Еще сотня шагов, и начнется жутко-медленное сближение. Стало тихо. Странным казался на бранном поле птичий щебет, — через минуту-другую здесь все наполнится злобой, стенаньем и кровью.
— Ползут, гады! — дрожа от возбуждения, оповестил Брязга.
Первый солнечный луч скользнул, и в ухе казака сверкнула серьга.
Но татары, удержанные невидимой рукой, вдруг остановились. Передовые присели, а за ними выступили лучники — на подбор крепкие воины — и уставили перед собой большие, выше человеческого роста, луки. Ветер свистел в натянутых тетивах. Выпущенная из такого лука, стрела насквозь пробивает человека.
— Браты, не страшись! Айда, врукопашную! — Брязга первым сорвался с места и побежал навстречу гудящей орде. Стрела с воем пронеслась мимо уха полусотника и сорвала мочку вместе с серьгой. — Гей-гуляй! — еще громче вскричал Богдашка и налетел на лучников, за ним навалились казаки. Они остервенело схватились врукопашную. Татары, не выдержав этого бешенного натиска, отбиваясь копьями и мечами, стали медленно отходить на середину равнины.
Ермак вскочил на коня и помчал вдоль поля. Он слышал, как за пешей татарской ратью ржут кони.
«Враз Маметкул напустится с конницей и станет рубать. Погоди ж ты!» — мысленно пригрозил Ермак. Он угадал намерение ханского племянника заманить казаков подальше в поле и растоптать копытами, порубить саблями.
Атаман огрел плетью резвого коня, тот рванулся и птицей понесся вдоль войска.
— Браты, поостерегись! Конница враз ударит. Рой землю, кройся в окоп! — кричал Ермак, и поле быстро бежало под конские копыта.
Казаки не погнались за лучниками, остановились и стали торопливо рыть тучный чернозем. Они углубляли ров заступами, копьями, руками выбрасывали влажные комья. Уходили в землю, а над ней синело небо, распевали жаворонки, ветерок доносил запах луговых трав и клейких березовых листьев.
Лучники, преследуемые полусотней Брязги, торопливо уходили к лесу. Ермак выхватил меч и огласил поле:
— Назад, полусотня!
Кипела кровь, разгоряченная схваткой, но Богдашка унял ее и нехотя повернул вспять.
А там, впереди, по зеленому окаему быстро передвигались темные тени. Они сливались в одно целое и полумесяцем охватывали равнину. Из балочек, кустов, околков выкатывались всадники и пристраивались в конную лаву.
Ермак прислушался: возникший далеко впереди глухой топот стал приближаться. «Вот когда весточка Хантазея подтвердилась» — вспомнил о вогуле Ермак.
— Браты, из пищалей по орде, а после того провались в тартарары, а как проскочут, — опять бей! — Атаман спрыгнул с седла и вместе с казаками засел в окоп.
С каждым мгновением нарастали шум и топот. Вздымая вихри пыли, из рядов на быстроногих конях выносились татарские всадники. Впереди них на коне-вихре, в сверкающей кольчуге скакал лихой конник. Высоко подняв руку, он крутил над головой кривой саблей, и ее лезвие вспыхивало, как зарница перед грозой. Подзадоривая себя и других, татарский наездник призывно кричал.
«Неужто сам Маметкул ведет уланов! Смел…», — подумал Ермак, и острое чувство лихости охватило его. Сдерживая себя, он взял пищаль у казака и прицелился. Все как бы слилось воедино: взгляд атамана, прицельный выступ, шелом скачущего татарина, который все рос и приближался… Рев и топот орды совсем рядом. Еще мгновение, и… «Вот когда пора!» — сообразил Ермак и зычно крикнул:
— Огонь!
По все казачьей линии грянул оглушительный залп. Многие из всадников свалились с коней, но, разгоряченная единым порывом, орда неслась, не взирая ни на что, топча копытами своих, корчившихся в прахе. И вдруг поле перед ордой опустело, — казаки, словно по волшебству, провалились в землю. Неудержимые кони, оскалив морды, понеслись через рвы и ямы, только ветер засвистел в остриях сабель.
Маметкул схватился за обожженное плечо, дернул за повод, и послушный аргамак ветром пронес его вперед. Кони татар с разгона набегали на выставленые из окопов копья и распарывали брюхо. С предсмертным ржанием иные носились в клубах пыли, волоча уланов и свои внутренности, а иные, пробежав вперед, валились и бились в корчах.
И тут в спину тем, кто вихрем проскочил вперед, ударил второй залп пищальщиков. На бешенном скаку опрокидывались люди, ломали ноги подбитые кони. Все перемешалось — живые и мертвые. И тогда казаки выбрались из окопов и пошли на татар.
Удальцы Брязги перехватили высокого коня с могучей грудью. Седло отделано сафьяном, удила с серебряными бляхами. Казаки подвели его Ермаку. Он не мешкал, миг — и в седле. Размахивая мечом, крикнул на все ратное поле.
— За мной, браты! Вот коли подоспела жатва!
Татары толпами рассеялись на равнине. Их настигали и рубили. Проворные и быстрые уходили на рысях в лес. Маметкул, гневный, разъяренный, привстав на стременах, грозил ордынцам:
— Шайтан! Куда?
К нему подомчал улан со скуластым коричневым лицом, схватил коня за повод и увлек ханского родича в овраг.
Мулла, оказавшийся на поле, упал на землю, простер к небу руки:
— Велик Магомет, пророк!..
Набежавший Брязга взмахнул саблей:
— Пошел живо к аллаху!
Бородатая голова покатилась в пыль. Богдашка сорвал чалму и перепоясался длинной шелковой материей.
А тем временем на другом конце поля Савва узнал своего обидчика.
— Он, браты, он! — закричал поп и, бросившись к татарину, стащил его за ногу с седла. Улан взмахнул кривым ножом, но поп выбил оружие из жилистой руки и налету перехватил. Молниеносным движением он полоснул врага по горлу. По-звериному сильный татарин, ощерив зубы, бросился на Савву.
— Свят, свят! — замолитствовал поп, ужасаясь свирепому виду врага. Из-под густых бровей улана сверкали узкие злобные глаза. Резко очерченный подбородок и небольшая густая борода были в пыли и залиты кровью. Он с ненавистью что-то кричал Савве. В последнем смертном объятии улан свалил попа на землю и замер, захлебнувшись своею кровью…
Пять дней длилась битва у Бабасанских юрт. «Блескалися их сабли от махания и копья переломалися, бысть брань жестока и падение ото обоих стран многое множество», — так записал впоследствии летописец.
Татары по оврагам и перелескам стремились прорваться к стругам. Но казаки сбили орду. Запыленный и грязный Маметкул, весь в крови, повернул коня и молча покинул поле. Верные уланы, оберегая его, рассыпались по лесу. Казаки не пустились в погоню. Обессиленные многие упали тут же, где застала темь, и сразу погрузились в дремучий сон. Ермак приказал выставить дозоры, но, не надеясь на истомленных воинов, сам объезжал стан.
Ночью казаки сварили в котлах последнее толокно и, обжигаясь, торопливо и жадно поели. Потом, забрав раненых, погрузились на струги и по знаку кормщика Пимена подняли паруса. Бабасанские юрты и страшное поле осталось у них позади.
6
Поп Савва подарил Хантазею образок Николы Чудотворца, написанный строгановскими иконописцами на ясеневой доске. Никола выглядел плешивым старичком, по краям лысины кудреватые бахромочки, бородка небольшая, седенькая, глаза строгие, но добрые. Хантазею образок понравился.
— Добрый бог?
— Справедливый, — подтвердил Савва. — Ты ему и молись: от всех бед избавит.
Хантазей молился Николе угоднику:
— Ты, старичок, хоросий, много жил, по лесу белку бил, по рекам плавал, сам знаешь, как трудно ладить с татарами. Помоги нашему батырю.
Этот же лик угодника вогулич видел и на воинской хоругви. Углядел он на другой и всадника на белом коне, копьем поражающего поверженного змея.
Хантазей с пониманием сказал:
— Больсой змея. Много-много голов у нее, такой впервой вижу. Кто бьет копьем? Казак?
— То Георгий Победоносец, помощник и защита воину.
— Второй бог — добрый бог?
— Бог один, а это слуги господни, — пояснил Савва, и в голове Хантазея все перепуталось.
«Эге, и у русских не мало богов, не меньсе, чем в тайге и тундре. И всякому молись и жертву дай. Плохо, плохо.»
Хантазей только что вернулся с низовья, куда посылал его Ермак, и дознался о новой беде. Вправо в Тобол впадает река Турба, за ней Долгий Яр, а на нем, как осы, — не счесть, конные татары. Опять ждут казаков, из луков бить будут. Страшно! Но Хантазей знает, как беду отвести. Об этом он никому не скажет, но сделает по-своему, так будет лучше. Он забился в уголок палатки, достал из мешка своих деревянных божков. Есть тут и резанный из моржовой кости Чохрынь-Ойка — покровитель охоты и промысла. Он поставил его на священный ящичек. Чтобы не обидеть русского святого, он и его приткнул рядом с Чохрынь-Ойкой. Потом Хантазей принес в березовом туеске немного крови, — казаки только что на зорьке убили лося, вышедшего к реке. Кровью вогулич старательно вымазал губы Чохрынь-Ойке и всем божкам. Нельзя же обойти и Николу угодника, ему тоже помазал кровью лицо и бороду и начал молиться.
— Чохрынь-Ойка, ты слысись — татары хотят нас побить из луков. Ермак — добрый батырь, справедливый человек. Сделай, Чохрынь-Ойка, так, чтобы татары усли. Ты забудь, что я в прослый раз побил тебя. Но ты не помог мне на охоте, а лежебоку всегда бьют. Вот спроси русского святого, он скажет, что так надо. И ты, Никола, не дай казаков в обиду, не даром я тебе бороду сейчас мазал и еще буду поить оленьей горячей кровью, как только поможесь…
На голове идола остроконечная шапка из красного сукна. Одет Чохрынь-Ойка в облезлый лисий мех.
— Я тебе черный соболь добуду, — пообещал Хантазей, — ты только помоги русским.
Савва стоял у палатки и все слышал. Стало смешно и обидно. Так и хотелось ворваться и побить Хантазея, отобрать его идолов и растоптать, но отчего-то вдруг стало жалко вогула. Тихий и услужливый, он всегда робко улыбается, и когда поп спрашивает его: «Ну как, Хантазей, живешь?», — вогул отвечает: «Холосо… Очень холосо…»
Вот и теперь слышит Савва слова горячей молитвы Хантазея:
— Чохрынь-Ойка и ты, Никола, сделайте так, чтобы ни один волос не упал с головы батыря. И попа русского не забудь. Он добрый и храбрый воин. Пусть долго живет. Помоги ему на охоте. И кормщика Пимена не забудь, без него струги не послусаются… Ай-яй, Чохлынь-Ойка, худо будет, если обманесь, опять буду бить…
Хочется Хантазею немного погрозить и Николе, но неудобно. Кто его знает: может быть русский святой обидится?
Савва улыбнулся, махнул рукой. Его внимание отвлекли лебеди. Они проплыли высоко в небе, как сказочное видение. Вспомнилась Русь, родная речка и тропка к родничку, у которого склонились и ласково лепечут белоствольные березки, нежные, духмяные и светлые. От них на сердце радость.
«И как мало надо русскому человеку, — краюшек родной землицы и благостный труд на ней!» — подумал он.
Жил Савва словно перекати-поле. Буйствовал с повольниками на Волге, а сейчас что случилось? Словно прирос к ермаковскому воинству. Много осталось позади: и Сылва-река, и Серебрянка, и Тура, и Епанчин-городок, и Тархан-Калла и Бабасанские юрты! Много пройдено! И все вместе с Ермаком.
Шли за ним потому, что видели: крепко верит он в свое дело и знает, куда ведет казаков и камских солеваров, потому и зажигал он всех своей верой. Откуда же эта его вера и эта его сила? Народ родил их. Тот народ, что исстрадался под татарским игом и не хочет больше терпеть набеги кровавых хищников. Народ поручил Ермаку и его дружине защиту своей жизни и своей чести. Не будь такого, — не было бы в казацком войске силы, были бы казаки тогда разбойничьей ватагой, а не воинством за правду.
Поп вздохнул и оглянулся на стан. Сильно одолевали комары и гнус. Их не было только у дымных костров, над которыми в черных котлах варилась душистая уха. Казаки сидели подле огней, под прозрачной кисеей голубоватого дымка и мирно гуторили. Над рекой, талами и камышами простирался безмятежный покой. Многие повольники лежали чуть поодаль от костров. Приятно было растянуться среди душистых трав, внимать голосу птиц, тихому шуршанью камышей и другим, еле уловимым, шорохам, наполняющим лесную чащу.
Паруса бессильно опустили крылья над Тоболом. У самого берега, среди кувшинок, играла и билась рыба, всплывала вдруг черная щучья спина и виделась на миг зубастая пасть, хватавшая лягушку или рыбу. Савву взволновала охотничья страсть. Он ринулся было к реке… Но заиграли горны: батька вызывал воинов на круг.
Загребая грузными сапогами, раздосадованный Савва пошел на сбор.
Среди дружины, поблескивая панцырем, на пне стоял Ермак и пристальным взором оглядывал воинство.
— Браты! — заговорил атаман. — Предстоит нам ныне не только лихость и умение свое показать, а и выдержать великий искус: терпением обзавестись! Все на нас падет, всякие лишения придут, а идти надо все вперед и вперед. Таков наш самый верный путь! И тут, чтобы одолеть врагов, должны мы быть прилежны и в строгом послушании. Трудно будет: видеть врага, идти под его стрелами и, скрепя сердце, притушив пламень в груди, продолжать дорогу, будто не слыша его озорных криков. Да, нужно это! Знаю я, браты, это потруднее, чем саблей кромсать, но такими быть должны в этом подвиге нашем! Слыхали, чай, вы добрую старинную сказку об Иванушке — русском молодце, и о том, как добывал он злат-цвет. Все поборол он, а самое главное впереди ждало. Надо было идти ему среди чудовищ, нечести всякой, слышать за собой змеиное шипение и не оглянуться назад, не дрогнуть.
— Ты это к чему притчу, батька сказываешь? — уставился в атамана чубатый казак с посеченной щекой. — Аль запугать удумал?
— Тебя не запугаешь, Алешка, ни лешим, ни оборотнем! — улыбаясь отозвался Ермак. — О том весь Дон знает, а ныне и Волга и Кама-река!
Казаку лестно стало от доброго слова. Он оглянулся и повел рукой.
— Да тут, батько, все такие. Из одного лукошка сеяны!
Ермак прищурил глаза и подхватил весело:
— Выходит, один к одному, — семячко к семячку: крупны, сильны и каждое для жизни!
Гул одобрения прокатился среди дружины!
Ермак вскинул голову и продолжал:
— Слово мое, браты, к делу. Дознался я, что на Долгом Яру опять нас ждут татары. Яр — высокий и впрямь долгий, немало тревоги его миновать…
— Батько, дай после Бабасана отдышаться! — выкрикнул кто-то в толпе.
— Тишь-ко! — приглушили другие. — Сказывай, атаман.
— Нельзя медлить и часа, браты. Внезапность уже полдела. Перед нами одна дорожка — на Иртыш. Надо прорваться, браты! Пусть осыпают нас стрелами, а мы мимо, как птицы! Зелье беречь, терпеньем запастись. Плыть с песней, казаки! А сейчас к артельным котлам, набирайся сил — и на струги! Плыть, братцы, плыть, мимо ворога, с песней!
— Постараемся, батько! — ответила дружно громада.
— В добрый час, браты! — поклонился дружине Ермак и сошел с мшистого пня.
Над глушицей вился сизый дымок. У костров казаки хлебали, обжигаясь, горячее варево.
В полдень кормщик Пимен махнул шапкой, и вмиг на мачтах взвились и забелели паруса. Береговой ветер надул их, и они упругой грудью двинулись по течению. Под веслами заплескалась волна. И над рекой, над лесами раздалась удалая песня. Вспоминалось в ней о Волге:
По ельничку, по березничку Что шумит-гремит Волга матушка, Что журчит-бранит меня матушка…
Атаман снова впереди всех, смотрит вдаль, а голос его рокотом катится по реке. Поют все лихо, весело. Хантазей и тот подпевает. Время от времени он утирает пот вздыхает:
— Холосый песня, очень!
В лад песне ударили в барабаны, зазвучали сиповки, серебристыми переливами голосисто заиграли трубачи.
Словно на светлый праздник торопилось войско. Кончило одну песню, завело другую — о казачьей славе.
Струги шли у левого лугового берега, покрытого таволгой и густой высокой травой. Справа навстречу выплывал темный Длинный Яр.
— Ну-ка, песельники, громче! — гаркнул Ермак.
Заливисто, протяжно до этого стлались по Тоболу душевные казачьи песни, теперь же торжественность и величавость их вдруг сменилось бойкостью, слова рассыпались мелким цветным бисером.
У нас худые времена —
Курица барана родила,
Кочерга яичко снесла,
Помело раскудахталося…
Эх!..
Вот и крутые глинистые обрывы, а на них темным-темно от всадников. Сгрудились стеной, и луки наготове. Доносится и волнует сердце чужое разноголосье.
— Словно вороны слетелись на добычу! — с ненавистью вымолвил Ильин, — из пушечки бы пальнуть!
— Гляди, гляди! — закричали дружинники, и все взглянули влево. Там, над зелеными зарослами таволги, над травами, плыла хоругвь с образом Христа. Невольно глаза пробежали по стругам, — среди развевающихся знамен и хоругвей знакомой не отыскалось.
— Наш Спас оберегать дружину вознесся! — удивленно перекликались казаки. И впрямь, со стругов казалось, что хоругвь трепещет и движется сама по воздуху.
Громче загремели трубы, заглушая визг стрел, которые косым дождем посыпались с крутоярья. Татарская конница, не боясь больше огненного боя, живой лавой нависла на береговом гребне, озаренном солнцем. На статном коне вымчал Маметкул и, подняв на дыбы ретивого, закричал по-татарски:
— Иди в плен или смерть! Эй, рус, на каждого тысяча стрел!
Не раздумывая, казак Колесо спустил шаровары и выставил царевичу зад:
— Поди ты… Вон Куда!..
Из-под копыт пришпоренного коня глыбами обрушилась земля в закипевший Тобол. Маметкул огрел скакуна плетью и, задыхаясь от ярости, кинулся в толпу всадников. — Шайтан! Пусть забудется имя мое, если стрелы моих воинов не поразят их раньше, чем закатится солнце. Я искрошу казака на мясо и накормлю им самых паршивых собак. Бейте их, бейте из тугих луков!
Потоки воющих стрел низали небо, они рвали паруса, застревали в снастях; одна ударила Ермака в грудь, вогнула панцырь, но кольчужная сталь не выдала.
— Поберегись, батько, неровен час, в очи угодит окаянная! — заслоняя атамана, предупредил Иванко Кольцо. Ермак локтем отодвинул его в сторону.
— Не заслоняй мне яра! Трубачи, погромче!
Белокрылые струги легко и плавно двигались вниз по Тоболу мимо выстроенного, как на смотру, татарского войска. Изумленные татары дивились всему, — и ловкости кормщиков, и неустрашимости казаков, и веселой игре трубачей. Но больше всего поразил ордынцев плывущий над зеленым разливом лугов образ «Спаса».
— Колдун, шаман, русский батырь! — кричали татары.
— Велик бог! — вскричал Маметкул и набросился на ближнего конника. — Чего скалишь зубы и порешь брехню? Какой шаман? Тьфу! За твои речи я сдеру с тебя кожу и набью ее гнилым сеном! Я вырву язык тому, кто закричит о чародействе русских, и велю всунуть его в свиное гузно!
Мокрое от липкого пота лицо тайджи исказилось от гнева. Со злой силой он сжимал рукоять плети готовый в любой миг исполосовать неугодного.
— Бейте из луков! Бейте! — кричал он. — Я залью Тобол русской кровью. Скоро мы скрестим сабли над дерзкими головами!
Но трубы над водой не прекращали греметь. Дружно размахивая веслами, казаки пели:
По горючим пескам, По зеленым лужкам… Да по сладким лужкам Быстра речка бежит… Эх, Дон-речка бежит!..
Солнце раскаленным ядром упало за лесистые сопки, засинели сумерки. Татарский говор и крики стали смолкать, последние стрелы ордынцев падали в кипящую струю за кормой. Постепенно стихла песня, умолкли трубы. Высоко в синеве замерцала первая звезда. Долгий Яр остался позади, окутываясь сиреневой мглой.
Хоругвь со «Спасом» подплыла к берегу, из лозняка вышел поп Савва и крикнул:
— Умаялся, браты, еле на ногах стою.
Ертаульный струг подошел к мысочку. Поп, бережно храня хоругвь, заслоняя ее своим телом, перебрался на струг. С опухшим лицом, облепленным комарьем и мошкарой, он со стоном опустился на дно.
— Вот оно как! — со вздохом вымолвил он.
— А мы и не знали… Ну, спасибо, друг, хитер ты, и нас ободрил и татар напугал…
Но Савва уже не слышал: от усталости он повалился на спину и захрапел.
Вызвездило. Над кедрами дрожал хрупкий бледный серпик месяца. Вода под веслами сыпалась серебристыми искрами. Струги шли ходко, а Ермак мысленно подгонял их: «Быстрей, ходче, браты…»
Гремели уключины, с громким окриком сменялись гребцы для короткого сна. Только кормщик Пимен не сомкнул глаз, — он неподвижно стоял на мостике и следил за стругами.
В шестнадцати верстах от устья Тобола лежит изогнутое подковой Карача-куль, над ним тынами темнеет городище кучумовского советника Карачи. Надлежало ханскому служаке следить, кто по Тоболу плывет, дознаться — с добрыми или худыми замыслыми.
Карача — маленький плешивый старичок — жил тихо, угождал хану. Чтобы не утерять волости, он отвез Кучуму свою единственную дочь — красавицу Долинге. Мурза был хитер, из ясака не мало утаил от хана. В кладовушках его хранились лучшие собольи и лисьи меха, в окованных ларцах переливались яркими огнями редкие самоцветы. В синем шатре Карачи резвились семь молодых жен. Быстроглазые, они насмешливо взывали к мужу:
— Козлик, наш козлик, поди сюда!
Всего вволю имелось у Карачи, но одно волновало его, — незаметно подкралась старость и ушли силы, как вода из обмелевшего пруда. Только лукавство и вероломство росли с каждым годом, и все надменнее становился Карача. Бежавшие с верховьев Тобола татары с изумлением и страхом рассказывали мурзаку о пришельцах из-за Каменного Пояса. Он посмеивался в бороденку; не верлось ему, чтобы несколько сот казаков могли дерзко пройти до Иртыша. Но когда вечером на взмыленном коне прискакал гонец и оповестил о разгроме Маметкула под Бабасанскими юртами, Карача упал на колени, простер к небу руки и, потрясая ими, завопил:
— Аллах всемогущий, отведи ханский гнев! Что скажу я сильнейшему и мудрому Кучуму в свое оправдание?
Гонец злобно сказал:
— Ничего не скажешь, твою голову он наденет на острый кол, а тело бросит псам. Ты проглядел врага!
Карача обернулся к гонцу.
— Я могу за такие слова отрубить тебе голову раньше, но я не кровожаден. Скачи в Искер к хану и скажи ему: «Пока жив Карача, русские не пройдут к Иртышу».
Вечером в городище закрыли все ворота, завалили их камнями и дерном. Мурзак с муллой взобрался на минарет и оповестил:
— Аллах, сам аллах и Магомет пророк его повелели нам покарать неверных! Смерть нечестивым! Они идут сюда, готовьтесь их достойно встретить мечом и стрелами!
Из-за рощи выкатился ущербленный месяц. Над башней бесшумно пролетела сова. Карача стоял у каменного парапета и всматривался в зеленый сумрак, простершийся над землей. Серебристой рябью морщинились озерные воды, и лунная дорожка бежала к другому берегу. Шумит камыш, из него черной тенью выкатился волк и, крадучись, трусливо побежал к лесу.
Внизу, в маленьком дворике, там, где воды близко подходят к стенам, ржали оседланные кони. «Лучше иметь трех скакунов, чем покорно ждать смерти!» — подумал Карача и вспомнил о женах.
В полночь их усадили в ладью, и суденышко уплыло в камыши. Самая младшая и красивая из жен — Зулейка большими темными глазами взирала на своего повелителя.
— Неужели ты останешься здесь умирать? — встревоженно шептала она. — Боюсь, что ты всех нас обманешь…
Мурза так и не дознался, о чем хотела сказать Зулейка, так как ладья отплыла от берега.
К утру, когда все тонуло в зыбком тумане, под стенами появились изнуренные, голодные и оттого злые казаки. Вдали в солнечном озарении ослепительно белели тугие паруса на стругах. Они показались татарам крыльями неведомых птиц.
Казаки пошли на приступ сомкнутым строем. Над ними развевались сверкающие хоругви. В напряженной тишине гулко раздавались грузные шаги. С тяжелыми топорами бросились ермаковцы на тыны. Каждого из них донимали раны и у каждого кипело сердце. Столько плыли, шли, бились, поливая кровью сибирские просторы, оставляя под курганами тела товарищей! Теперь все это сразу вспомнилось и всколыхнуло кровь.
— На слом, браты! — потрясая мечом, загремел Ермак. С башенок и тынов навстречу летели камни, но он шел прямо, грозно, а за ним спешили казаки.
Карача явственно видел их суровые, загорелые лица, полные решимости. Правее, впереди горсти воинов, с кривой саблей бежал проворный казак. Он выкрикивал что-то озорное.
Карача схватил лук, пустил стрелу. Озорной казак завидел мурзу и пригрозил ему саблей:
— Доберусь до тебя, тогда — молись, сукин сын!
Мурзе стало страшно: он вдруг понял, что перед этими людьми не устоит его городок. Незаметно покинув тын, Карача выбрался тайной калиткой к озеру. Верный слуга ждал его на утлой душегубке. Над озером все еще колебались холодные седые космы тумана, когда мурза уплывал в густой камыш… Позади все громче становились крики…
В ранний час казаки ворвались в городок. С плоских крыш на них лили кипяток, бросали камни, песок в глаза. Шли в последнюю битву старики, давно не державшие оружие. Даже женщины и подростки, подобрав подле трупов копья и мечи, вступили в бой.
На площади перед мечетью собрались последние защитники — оплот ислама, которых до решающей минуты берег Карача. Они не молили о пощаде, сбились в плотные ряды и пошли навстречу казакам, без криков, не спеша. Это были отборные воины, молодец к молодцу, — рослые, сильные, многие из них в кольчугах и начищенных латах, блестевших на утреннем солнце. С кривыми ятаганами они бросились на казаков.
— Добры вояки! — похвалил Ермак. — Живьем бы взять!
— Да нешто их, чертей, возьмешь, батька! — огорченно вскрикнул Брязга. — Гляди, как режутся!
Под их ятаганами падали посеченные тела.
— Не можно терпеть, батько! — кричали казаки, и жесточь овладела ими. Они били топорами, палицами, рубили мечами идущих на смерть фанатиков. Быстро редела толпа храбрецов, и, наконец, остался один. Брязга ловким ударом выбил из его рук ятаган. Казаки навалились скопом и повязали удальцу-татарину руки. Его подвели к Ермаку.
— Хвалю, джигит! Иди ко мне! — сказал он по-татарски.
Изумленный татарин упал на колени, и крупные слезы потекли по его лицу.
— Вели рубить мою голову! — взмолился он и склонился перед атаманом.
— Да зачем же рубить ее, коли ты еще молод и в честном бою взят? — удивился Ермак.
— Секи, рус! Не могу в неволе жить! — горячо вымолвил татарин.
— Коли не можешь жить в неволе, иди куда глаза глядят! Браты, освободи его! — усмехнувшись, взглянул на пленника Ермак.
Татарин с недоумением разглядывал казаков. Бородатые, кряжистые, злые в сечи, сейчас они добродушно кивали ему:
— Айда, джигит, уходи!
Пленник закрыл руками лицо и в неподвижности простоял с минуту, потом встрепенулся, опустил ладони. Глаза его блестели радостью. И вдруг он рассмеялся.
— Можно? — переспросил он.
— Айда! — махнул Ермак.
Татарин сделал два-три неуверенных шага вперед, потом сорвался, подпрыгнул и легко понесся к озеру. С размаха он бросился с зеленого обрыва в воду и ушел в глубь.
— Никак утоп? — вздохнули казаки, но в тот же миг просияли: на озерной глади появилась бритая голова и стала быстро удаляться к противоположному берегу.
Выплывшие из-за мыса два лебедя, завидя человека, шумно захлопали крыльями, побежали по воде, поднялись ввысь и вскоре исчезли, как дивное видение. В вслед за ними растаял в синеватом мареве и пловец.
В амбарах Карачи сберегалось много добра. Была и ячменная мука, и арпа-толкан — неизменная еда бедняков, хранились бочки меду, вяленое мясо и рыба. Казаки наелись вволю, сытые и немного охмелевшие.
Только один Ермак не изменил своей привычке: поел толокна с сухарями и тем удовольствовался. Опытным взглядом он расматривал свое воинство. Исхудалые, обросшие, оборванные казаки имели суровый, закаленный вид, но видно было, как они смертельно устали. Все — от атаманов до рядового казака.
Полный раздумий сидел Ермак в шатре. Неподалеку — Иртыш, а там, на крутых ярах, кучумовская столица Искер. Перебежчики сообщили атаману, что ханские гонцы рыскают по улусам и северным стойбищам, сзывая народ на войну. Уже примчали в Искер степные кочевники на шустрых косматых коньках. На ярах пылают костры, наездники живут под открытым небом. Ржанье их жеребцов слышно в заиртышье. Из сумрачной тундры на поджарых, полинявших оленях и на собачьих упряжках подоспели остяки. Из Прикодинских лесов подошли вогулы — воины в берестяных колпаках и с деревянными щитами, обтянутыми кожей. Но хан все еще колеблется, выжидает. Он не верит, что пятьсот русских дойдут до Искера…
«Надо дойти! — сдвинув густые брови, думает Ермак. — Дойти и напомнить хану его прошлые дела, пролитую кровь.»
Перед мысленным взором атамана лежала обширная страна, населенная разными народами, чуждыми татарам и враждебными к хану. Если сбить Кучума с его куреня, — откроется несбыточное… Да, другие люди шли теперь с Ермаком, не те, что приплыли с Волги. Была вольница, а теперь кусочек Руси.
«С ними дойдешь! — решает Ермак. — Но дух перевести надо! Пусть перестанут ныть раны их, пора отдохнуть! Дорога на Искер — последний невиданный подвиг. Перед ним, видно, придется сделать великий искус, пытать рать нуждой. Скуден, ой как скуден хлебный припас!» Выдюжит рать, тогда и вперед будет с чем идти".
В шатер по-медвежьи ввалился Мещеряк. Лицо круглое, изрытое оспой, плечи широкие и руки — медвежьи лапы.
«Силен! — с одорением подумал о нем Ермак. — А к силе ум немалый и великая хозяйская сметка!»
— Ах, Матвей, Матвей, тебе бы думным дьяком в приказе сидеть! — не утерпел и сказал Ермак.
— Мне в приказе сидеть не с руки, — серьезно ответил Мещеряк, и его водянистые глаза потемнели.
— Пошто? — спросил Ермак.
— Всех приказных хапуг перевешаю за воровство и сам с тоски сдохну, — не моргнув глазом, ответил Матвей и вместе с атаманом захохотал.
— Ух, и вольно бы тогда дышалось на Руси! — сквозь смех выговорил Ермак.
Мещеряк в раздумье сдвинул брови.
— Нет, — покачал он большой головой. — Не быть этому на Руси! Как только на святой земле появились приказные крысы да иуды, — с той поры и пошло заворуйство и лихоимство! И не будет ему перевода до конца века.
— Вишь ты что выдумал! — весело удивился Ермак. — Так и не будет перевода?
— Хочешь верь, атаман, хочешь нет, но, видать, руки у того, кто к складам да амбарам, да к торговлишке приставлен, так устроены, что чужое добро к ним прилипает!
— Вот оно что! И у тебя, выходит, такие руки?
— Мои руки чистые: своего не отдам и чужого не возьму!
— Добрый порядок! — уже не смеясь, похвалил Ермак. — Ну, сказывай, что с припасами?
— Беречь надо, ответил Мещеряк.
— Коли так, будем беречь, — согласился атаман. — Зови Савву!
Загорелый, жилистый поп предстал перед Ермаком.
— Ведомо тебе, что наступает Успеньев пост? — спросил атаман.
— Уже наступил, — поклонился Савва. — Добрые люди две недели блюдут пост, а наши повольники скоромятся.
— Какой же ты поп, коли дозволяешь это?
Савва поскреб затылок:
— А что поделаешь с ними? Да и не знаю: то ли я поп, то ли я, прости господи, казак? С рукомесла сбился.
— Вот что, милый, — негромко сказал Ермак, — предстоит нам идти на зимовье. А перед тем, как решить, что делать, повели всему воинству поститься, да не две недели, а сорок ден. Слышал? Можно то?
— Казаки не иноки и не пустынники… — заикнулся Савва. — Не выдюжат… согрешат.
— Так ты молебен устрой, да богом усовести их. Адом пригрози. Тебе виднее. А на все время поста, мое атаманское слово, — отдых.
Растрига тряхнул волосами:
— Будет так, как велено! Выдержат искус, атаман!
— Ну, молодец поп! Спасибо тебе. — Ермак хлопнул Савву по плечу.
Вскоре в Карачине-городке отслужили молебен. Иерей, облаченный в холщовую ризу, торжественно распевал тропари, курил смолкой, а сам умильно и с хитрецой поглядывал на повольников: «Кремешки и грешники! То-то постовать заставлю вас!».
А «кремешки» и «грешники» стояли с опухшими лицами: комары и неистребимый гнус за летние недели искусали их лица, шеи, руки. Не спасали ни смоляные сетки, ни дым костров.
Склонив голову, среди казаков стоял и Ермак. Тяготы и заботы оставили следы и на его лице. В бороде атамана еще больше засеребрилось прядей.
Чувство жалости наполнило сердце попа, голос его задрожал: «Какой тут пост! Едой бы крепко побаловать трудяг. Устали, бедные!».
А воины и впрямь утомились. Теперь они, как селяне, вспахавшие поле, умиротворенно слушали молитвы, старательно крестились и кланялись хоругвям. Когда Савва оповестил их о сорокадневном посте, никто ни словом не взроптал.
Стоявший рядом с Ермаком Иванко Кольцо протяжно вздохнул:
— О, господи, помоги угомонить плоть!
Ермак взглянул на атамана, заметил горячий блеск его глаз и подумал: «Этот и до могилы не угомонится!»
Матвей Мещеряк тут же, на молитве, отозвался на слова попа:
— Браты, перенесли мы тяжкие испытания и стали крепкими и непобедимыми! Так железо крепчает и становится годным для меча только в огне горна! Испытаем, браты, дух свой еще и постом и подумаем, как быть? Пусть каждый из вас честно прислушается к своей совести, что она скажет. Правду ли я говорю?
— Правду! — хором ответила громада.
Лицо Ермака просветлело. Добрыми глазами оглядел он своих бойцов: «Вот когда все казачьи думки слились воедино!».
— Батько, — прошептал ему на ухо Кольцо. — А коли повоюем Сибирь, быть тут казацкому царству!
Всегда об этом охотно говоривший, Ермак вдруг нахмурился и промолчал.
Четырнадцатого сентября пятьсот восемьдесят первого года казаки покинули Карачин-городок и отплыли вниз по Тоболу. Берега были охвачены осенним багряным пламенем. Желтели и осыпали яры золотыми листьями догоравшие березки, трепетали на солнце лиловые листья осины. По буграм, откосам, берегам розовели, бурыми, рыжими разводьями ярко пестрели леса. Стояли сухие и красные дни осени.
Вдали выступили утесы, на них, торжественный, сияющий под солнцем, шумел кедровник. Струги вышли на стремнину; с каждой минуты утесы все больше расходились в стороны, и вдруг разом за ними распахнулась водная ширь.
— Иртыш-батюшка! — полной грудью вздохнул Ермак.
Казаки сняли шапки, кланялись великой реке, черпали горстями воду и пили.
— Студена!
И не только вода оказалась студеной. В лицо ударил холодный ветер-бедун, он поднимал высокую свинцовую волну, и хлестала она в глинистый берег. Ермак прислушался к шуму ветра. Долетели до него и отдельные отрывочные слова:
— Вот коли подоспела осень. Стужа, ветер…
— Годи, не спорь, Кучум шатры теплые припас для нас.
Раздался веселый окрик Брязги:
— Браты, не унывай. Ударим — или Сибирь наша, или с ладьи — прямо в рай. Казаку пугаться нечего. Гей-гуляй! Песню!..
Могучие голоса огласили Иртыш:
Не шуми, мати зеленая дубравушка, Не мешай мне, добру молодцу, думу думати…
День быстро угасал, надвигались сумерки. На правом берегу Иртыша замаячили огни. Смолкла песня. За бортами стругов плескалась волна, но сквозь шорохи и плеск слышался гомон и топот коней.
— Вот коли доплыли! — с горечью сказал Савва. — Хан Кучум, поди, давно нас поджидает.
— Струсил? — спросил его Ермак.
— И у храброго сердце замрет перед битвой последней, — не скрываясь, ответил поп.
В густых талах шумит и стонет ветер, и в ответ ему глухо ропщет Иртыш. Грозно вздулась сердитая река, торопит ладьи. Ночная тень окутала весь мир.
— Как будем, батько? — перед атаманом появился кормчий Пимен.
— Всю ночь плыть! — решительно сказал Ермак. — А трубачам играть отход ко сну.
Стих шум на стругах. Усталые казаки вповалку спали. Ермак всю ночь не сомкнул глаз, думал: «Близится час, последний час, когда решится участь всей дружины. Теперь ничто уж не остановит схватку!».
Вечером на пятьдесят второй день от начала похода, острожно плывя, казаки подошли к городку Атик-мурзы. Посланный Богдашка Брязга прознал, что крепостца, обнесенная валами, покинута жителями, мурза бежал.
Городок оказался мал, тесен и, что горестнее всего, в нем не нашлось ни хлебных, ни мясных запасов. Казаки приуныли. От ночной стужи они забрались в брошенные мазанки и землянки, расставив дозоры. Но отдыхать не пришлось: за Иртышом, на высоком яру, запылали яркие костры и оттуда всю ночь доносилось конское ржанье, рев верблюдов и разноязычный гомон.
Несколько раз выходил Ермак из мазанки и, подолгу простаивая, всматривался в мрак. Догадывался атаман, что сам Кучум с войском вышел ему на встречу. До рассвета он не мог уснуть. На заре, когда на крутых ярах заиртышья погасли татарские костры, Ермак обошел валы городища. Вокруг растилалась ковыльная равнина, рядом шумел темный Иртыш. С мутного неба сыпалась редкая снежная крупа. Атаман раздумывал: «Настигает зима и голод, а кругом враги. Осталась одна дорога — на Искер, но для этого надо сломить страшную вражью силу. Как же быть? Одолеет ли дружина?»
«Нет, некуда свернуть, надо схватиться с татарами! — принял твердое решение Ермак. — Сидя за валами, имея за собой на Иртыше струги, можно принять удар врага».
Барабан отбил зарю, казачий стан оживился. Каждая минута дорога. По приказу атамана в улусы разослали людей собирать довольствие. Но добыть ничего не довелось: улусники разбежались кто куда. По мазанкам собрали только полмешка арпы, вот и все.
Между тем подошло ненастье. Мелкий пронизывающий дождь спорко заливал землю, забирался в землянки. Под сапогами хлюпала грязь, и от этого мрачнее становилось на душе. Однако Ермак не унывал: он решил терпеливо ждать. Не удержался же Маметкул у Бабасанских юрт и первым бросился на казаков. Теперь казаки стоят в одном переходе от Искера, забрались в самое сердце кучумова куреня, так неужто хан потерпит это и не бросится в сечу? Тут, у городка Аттика, место выгодное для битвы.
Татарские наездники до того осмелели, что добирались до валов. Они нагло разглядывали казачий стан. И стоило только показаться из-за насыпи и лучник подстерегал неосторожного.
— Батько, дозволь пугнуть басурман? — просили пищальники, но Ермак отвечал:
— Зелье сгодится для большего дела, а ноне бери терпеньем!
В холодные вечера уланы Кучума располагались неподалеку от валов Аттика и разжигали огромные костры из соснового сухостоя, на которых в черных чугунах варили молодой махан. Запах варенного мяса тянулся в городок, вызывая тошноту у голодных казаков. Обросшие, исхудалые, в изодранных, грубо латанных и перелатанных чекменях, они мрачно следили за татарами и в сердцах ругались:
— И чего ждем, браты? — роптали одни.
— Либо почать бить, либо бежать на Русь надо! — говорили другие.
— Ране не погибли, а ноне погибнем тут, и костей ворон на Дон не снесет! — шептались третьи.
Поп Савва видел все, слышал все и гудел шмелем:
— Гулены, бездомные головушки, куда побежишь? На миру и смерть красна.
— А мы умирать и не думаем, — озорно вставил задира-казак.
— То и хорошо! Жить будем, пировать будем! Эхх! — поп взмахнул бойко руками, стукнул каблуками и пошел в пляс под частую песню:
Пошел козел в огород,
По-о-шел козел в огород,
Потоптал лук, чеснок…
Чигирики, чок, чигири!
Зубарики, зубы, зубари…
Ермак незаметно издали наблюдал за попом: «Нет, не веселый пляс вышел, и песня звучит горько. Добрая душа! От дурных мыслей отводит казаков, да не с того, видно, пошел — не радует больше песня!»
По ночам, в затишье, копилась вражья сила. Хантазей отправился в челне на разведку и принес невеселые вести:
— У Чувашьей горы, батырь, много войска сослось. Все идут, идут, — перепуганно говорил вогул. — Что делать, что скажешь, батырь?
— Драться будем! — ответил, успокаивая его, Ермак. В ту ночь он все думал об одном: «Пришло последнее испытание, в ватаге неспокойно, неужто теперь она сробеет, подастся вспять?»
Надо было успокоить казаков. Барабан забил сбор. Как и в былые дни на Дону, на площадке собрался круг. Никогда еще Ермак не видел такого неугомонного и неспокойного люда. Возбужденные и злые, угрюмые и бесшабашные, гуляй-головушки и молчаливые казаки окружили атаманов. Бесшабашные задиры кричали Ермаку:
— Дошли! На гибель завел, на измор и муки!
— Лучших братов порастеряли, а ноне самим — безвестная могила! Чего ждем-стоим?
— Нас полтыщи, а их не счесть, татарья!
Ермак поднялся на широкую колоду, терпеливо выждал, когда смолкнет шум, и спокойно заговорил:
— Лыцарство, прошли мы все напасти. Горюшка испили немало…
— Кровью умывались! — подсказали в толпе.
— Истинно так, кровью умывались, — согласился Ермак. — И стоим мы сейчас перед последним: бежать нам на Русь или стоять крепко и взять Искер? Верно, немного нас, но помнить, браты, надо: побеждает не множество, а разум и отвага…
— То издавна ведомо нам! — разом перебило несколько глоток.
— Не все ведомо, а коли и ведомо, все же у немалого числа оказалась смута на душе, — продолжал Ермак. — Взгляните, браты, на Иртыш! Вот он Искер-город, курень хана Кучума. Там и зимовать! Кланяюсь казачеству, что бережет славу и честь отцовскую и дедовскую, и прошу лыцарство обдумать по-честному и решить, как будем робить?
Он смолк и отодвинулся в сторонку. Казачий круг еще больше зашумел, люди кричали про свои обиды и тяготы. Вперед степенно вышел атаман Гроза и протянул руку:
— Дайте слово молвить!
Говор стих. Иван Гроза заговорил неторопливо и обдуманно:
— Браты, мало нас осталось, а будет еще меньше, когда в Искер войдем. И войдем ли? Гляньте, что за крутоярье, а под Искером — городки. И каждый на горе, оберегается глубокими оврагами да Иртышом. Нелегко брать крепостцу за крепостцой. Татарья прибывает, а нас убывает. Они — дома, а мы в чужой стороне. И не страх меня берет, а думка угнетает. Для кого стараемся? Может и впрямь на Дон поворотить? Есть еще сила пробить путь-дорожку, а потом поздно будет: растает наша силушка, как снег под вешним солнцем. Подумайте, браты, над моим словом…
— Истинно так — согласно гаркнуло в разных концах толпы несколько голосов.
Хмурый, в жестоком раздумье, стоял Мещеряк. Давно уже, раньше чем кто-либо другой, начал он думать о походе, о том, что будет завтра, через месяц, к весне… И ничего не решил. «Ну, хорошо, — прикидывал он, — разобьем мы хана, это возможно, а дальше что? Надолго ли? Татар — тьма-тьмущая, они дома, а у нас ни хлеба, ни зелья для стрельбы… Вот если бы переманить к себе — какие из недовольных — племена, поставить их против хана! Тогда, пожалуй, и хлеб и силы будут. Да как это сделать?»
Раздумья атамана были прерваны криком:
— А что ты, Мещеряк, за что стоишь? Говори, атаман, ты разумен!
Мещеряк очнулся, поднял голову, обвел всех умным взглядом.
— Говори, не таись! — кричали казаки. — Хотим тебя слушать.
— Что ж, браты, — негромко ответил атаман, — известно дело, худо нам, и лучше бы на Русь, домой, пойти… Но если умом, с хитростью к делу подойти, то оно, пожалуй не надо домой… Да, не надо! — решил он наконец тяжкий для себя вопрос. — Победим мы! Трудно, а победим!
На помост вскочил Иван Кольцо.
— Браты! — закричал он. — Думал, тужился Матвей, а сказал все-таки правду: нельзя отступать, победим мы татар. Зелья, хлеба нет? — жалитесь вы, а всегда ли у нас бывали они на Дону и на Волге? Всяко доводилось. Казак терпелив, выдержит и сейчас! Я, браты, хочу заглянуть вперед. Прошли мы много, перестрадали больше того. Прямо скажу, жалко так, зазря от думки своей отказаться. Можно ли труды наши ратные скинуть со счета? Не выходит это! Надо утвердить наше дело! Но сейчас меня гложет другая думка: пусть скажет атаман Ермак Тимофеевич, чье мы дело вершим! Строгановых — купцов, иль казачье?
— Пусть скажет! Говори, батько! — откликнулась сотня голосов.
Ермак снова вышел на круг. Помедлил. Суровым внимательным взором оглядел воинов.
Казаки терпеливо ждали его слов.
— Что сказать вам, браты? — прищурив глаза, тихо начал Ермак. — Не думал я о ваших слабостях, не чаял я, что атаманы заколеблются. Рано, казаки на полати к ночлегу запросились! И можно подумать, — вот вернемся мы за Камень, и ждут нас там теплые избы и пироги с рыбой. А женки все очи проглядели, нас ожидаючи. Ох, и обнимать-целовать будут! — Ермак широко раскрыл глаза, наполненные гневом, и громко выкрикнул: Слабодушные! Поглядите честно, что ждет нас за Камнем! Виселица да плаха! Обнимет нас не женка, а петля пеньковая, крепкая, а кому и топором голову снимут. Где вы, казаки да камские солевары, которые били врага насмерть и, попирая опасность, плыли мимо Долгого Яра и бились с Маметкулом у Бабасанских юрт? Не вижу я своих братов-казаков, не узнаю их. Потеряли они храбрость, умелость и удаль казацкую! Испугались хана и завыли от трусости, как чекалки в степи!
— Ты, батько, не гневи нас! — выкрикнул Дударек и, помня прошлое, упрятался за широкую спину Трофима Колесо.
— Не лукавь! — обернулся Колесо и схватил горластого за плечо: — Говори в лицо, а не шипи змеей!
Черноглазый Дударек вспыхнул, сгреб шапку и ударил ее об землю.
— Батько, в чем нас коришь? — со страстью спросил он. — Аль мы тебя не любим? В походах ты не хоронился за наши спины. Мечом да уменьем сам прокладывал дорожку встречь солнцу! Не к дыбе и колесу ворочаться нам, а туда, где казачью славу подымем на веки веков. Браты, так ли сказано? — жарким взглядом обежал Дударек товарищей.
— Любо сказано! Ой, любо! — отозвались на майдане.
— И мне любо! — приветливо сказал Ермак и продолжал: — Радуюсь, что заговорила совесть. Вспомните, браты, как татары жить на Руси не дают! Спрашивал Иван Кольцо, а через него и дружина, чье мы дело вершим? Разве не видите вы, куда мы гнем? Все мы люди русские, и в каждом из нас накопилась обида горькая на ханские лютости. Пусть теперь отольются Кучуму сиротские слезы. Зову вас, казаки и камские солевары, не на бесчестье, а на дело великое. Пусть помнет нас добром земля русская, — за нее трудимся, за нее терпим! А смерть не страшна! Одна у нас дорога — на Искер! — Атаман пронзительно взглянул в ту сторону, где темнел татарский лагерь, перевел глаза на казаков и решительно закончил: — Казачья клятва от века не рушима! Слушай, войско, выжидать больше нечего. Коли хан сюда не идет, значит у него нет веры в свою силу. Сами ударим на супостата. Кто сказал, что поляжем мы? Не поляжем, и назад не пойдем!
— Любо, батька, — заорали сотни сильных глоток. — Веди нас, веди!
— А коли так, то ночью на струги и на тот берег! На хана!
— На хана! На Кучума! — подхватило все войско.
7
Двадцать третьего октября казачья вольница на рассвете пересекла Иртыш. Струги плыли широким фронтом, почти вплотную. Еле шевелили веслами, чтобы не шуметь. Река шла могучей темной струей, воды были холодны, неприветливы. Ермак стоял под знаменем «Спаса» на ертаульном струге. Рядом с ним взволновано взглядывались в приближающийся темный яр густо обросший бородищей, злой и упрямый Иван Гроза и бравый Никита Пан. Струги все ближе и ближе подплывали к берегу. Казаки готовились к смертельной схватке: кто грудью навалился на борт ладьи и прочно прилаживал пищаль, кто забивал заряд, а кто сжимал копье, норовя стремительно выпрыгнуть, как только вода станет мельче. Трепетали хоругви, тихо переговаривались пушкари.
Серенькое утро хмурилось и постепенно наполнялось глухим, нарастающим рокотом, в котором слились воедино топот и голоса многих людей. По кромке яра вихрились быстрые клубы пыли: татарские уланы проносились вдоль обрыва и, задирая казаков, выкрикивали бранные слова. Толпы пеших ордынцев, остяков и вогулов плотной серой волной бурлили над яром. За ними, на холме, в легкой синеве белели шатры, развевалось зеленое знамя Кучума и слышались призывные крики. Татарский лагерь волновался морским прибоем, готовясь огромными гремящими валами захлестнуть дерзких пришельцев.
И вдруг сизые тучи разорвались; из-за хмурых облаков выглянуло солнце и, словно живой водой взбрызнуло казацкую рать, яр и реку. И все мгновенно ожило и заиграло веселыми и пестрыми цветами: радовали и веселили глаз красные суконные чекмени, кафтаны и алые верхи лихо заломленных казачьих шапок, блеск воинских хоругвей, синеватые переливы кольчуг, золотые молнии пик и серебристые разливы обнаженных мечей…
И опять зазвучал громкий призывный голос Ермака; могучий звонкий, он зажигает сердце. Вот он, батька, он стоит впереди. Тяжкий, сильный, большой, чернобородая голова его в стальном шлеме крепко сидит на крутых плечах, а в суровых глазах столько силы и веры в себя!
Когда он примолк, — на короткий миг, запомнившийся на всю жизнь, — стало совсем тихо. И вдруг Ермак властно взмахнул рукой и крикнул:
— Бей супостата!
Пищальники дали дружный залп по орде. Закричали, засуетились на берегу. Татарские лучники слали стрелы. Тугими ударами они падали в темную рябь Иртыша и уходили на дно. Иные с лязгом били о казачьи кольчуги, впивались в тегилеи и ломались на юшманах. Казака Осилка ударило стрелой в грудь, и на жупане заалела кровь. Он вырвал стрелу и ладонью прикрыл рану.
— Погоди, дай только добраться! — прохрипел он.
Лицо его побледнело, борода взмокла от пота, — такая была боль. Но она зажгла душу казака: глаза Осилка запылали, и он, превозмогая страдания, закричал что было силы:
— Гей-гуляй, казаки!
Этот знакомый казачий окрик встрепенул всех, от него окрепло тело, окрылилась душа. В ответ повольники дружно закричали, засвистели, заулюлюкали:
— Эге-гуляй! Бей кистенем, бей палицей, руби саблей гололобых.
Рядом высокой стеной поднялся глинистый яр. Струги тихо подходили к берегу, на котором темной тучей ждала их несметная татарская рать. Задние толпы ордынцев напирали на передних. Тесно размахнуться тут для доброго удара!
Мелкой зыбью бьются о борта стругов иртышские волны; но сильнее их, яростнее — волна казачья. Словно шумящим девятым валом, выхлестнуло казачью вольницу на орду. Пороховой дым окутал струги, берег и сблизившиеся две грозные силы.
— Трави запал! — крикнул пушкарям Ермак.
Черноусый Петро, запачкавший свой орлинный нос смолой, размотал просаленную тряпку, которая оберегала от ржавчины пушку, и поднес смоляной фитиль к заряду. Почти мгновенно пушка изрыгнула пламя, струг качнулся, и по долине пошел гром. На соседних стругах отозвались другие пушки, и разом дрогнула земля, с отвесов яра заклубилась пыль, смешавшаяся с пороховым дымом. По бортам сверкнули желтые огоньки самопалов. Перепуганные татары сбились в стадо. Многие повернули назад, молотя кулаками своих, но с яра торопились все новые и новые толпы и напирали… Щетина сверкающих копий преграждала путь на берег. Кормщик Пимен переглянулся с Ермком; по взмаху атамана гребцы еще раз сильно взмахнули веслами, — и струги уперлись в дно.
Казаки без раздумья спрыгнули в воду. Они шли медленно, держа наготове топоры, копья и мечи. Татары теснили к берегу остяков и вогулов, со страхом разглядывали казаков. Чаще посыпались стрелы. Князек Лабута, крепкий и смуглый, туго натягивая тетиву, метил стрелы в кормчего на струге.
— Шайтан! Шайтан! — сверкая белыми зубами, кричал он. В его смуглом лице была лютая злоба, казалось, он только и ждал часа, чтобы сцепиться с русскими. Тесно было на узком иртышском берегу под яром, но еще теснее стало, когда казаки ворвались в эту узкую кромку. Напрасно лезли татарские скопища к реке, — нет, не сдержать им страшной силы, не ослабить ее, не истребить!
— Вперед, братцы! Не страшись! — выскочил первым на берег Ермак и хряснул тяжелым мечом по копьям. Они ломались от удара, и наконечники взвивались над головами. Рядом казак Ильин, описывая быстрые круги секирой, пробивал в щетине копий брешь. За ним справа и слева бердышами, мечами прокладывали себе дорогу другие казаки. С громкими криками, с пронзительным свистом, колыхаясь живой стеной, двигались плечистые и бесстрашные бородачи и, будто лес, топорами валили на пути всех. Остяки в ужасе пятились, а позади на них нажимали татары.
Возле Ермака бился Иванко Кольцо, оберегая тяжелым кистенем атамана. Неподалеку в горячем запале взывал к своей полусотне Богдашка Брязга:
— Руби, ихх!.. Бей за Русь, за все наши беды!
Татары пятились, спокытакаясь о мертвые тела, незаметно стали растекаться лучники — вогулы и остяки. На яру на тонконогом аргамаке высился горделивый всадник в длинном юшмане и мисюрике на голове и что-то горячо приказывал свите.
— Гляди, батько! Там, видно, сам Маметкул, — указал Иванко Кольцо. — Эх, сцепиться бы!
— Доберемся и до него! — Ермак наотмашь мечом развалил надвое татарского мурзака. Видя гибель своего господина лучник ухватился за голову и пронзительно взвыл. На лучника налетел Савва и угомонил его тяжелой палицей. Рядом Трофим Колесо работал топором. Великий ростом, неимоверной силы, он одним ударом клал врага наземь. Прыткий татарин увернулся от его топора, наскочил на другого богатыря и полоснул ножом. Клинок пропорол тигилей и скользнул по вшитой железной пластине. Казак озлобился, схватил ордынца за руку, с хрустом сжал ее, рванул и, когда татарин упал, топором снес ему череп. В это время с яра пронеслась с воем стрела и вонзилась казаку в грудь; он шатнулся, в запале вырвал наконечник с куском живого тела.
— Не убьешь, жив буду! — закричал повольник, орошая кровью жухлую осеннюю траву, схватился с татарскм воином…
Трое удальцов выбрались к засеке и поднялись на ее гребень. Телохранители и приближенные Кучума закричали в страхе:
— Русские добираются сюда, бежим, пресветлый хан.
— Трусы! — разгневался хан. — Как смеете говорить об этом, когда я слышу голоса только трех! Прежде чем сядете в седла, я посажу каждого из вас на кол!
Взбешенный Кучум сжимал плеть. Минута, — и от начнет стегать всех, кто подвернется под руку. К счастью для мурзаков, шум на гребне завала смолк, — телохранители хана столкнули храбрецов с крутой вершины.
Однако на смену им, прыгая через водомоины и коряги, спешили другие. Впереди всех бежал маленький, черномазый казак-провора и, вертясь бесом, кричал с задором:
— Давай Кучума! Давай Сибирь!
Что за бесстрашная сила билась с войском Кучума! Горстка, — а не свалить в Иртыш. До ханского уха все чаще доносились зловещие возгласы:
— В Искер, браты! В Искер!
Не далеко от хана, в углу шатра, невнятно шептал молитвы старый сеид в белой чалме. Кучум полузакрыл глаза. Ему хотелось выть от лютой злости, но, стиснув зубы, он молчал.
Старый сеид безмолвно смотрел на желтое лицо хана, на всю его фигуру, похожую на высохший ковыль. «Скоро может свершиться то, что положено аллахом, — покачивая головой, горестно думал старец. — Наступит час, когда казаки ворвутся сюда на холм, а хан недвижим и спокоен. О, аллах, дай ему силу! — падая ниц, со страстью прошептал сеид. — Пошли ему счастье и в этот раз! Этот человек не знает страха и жалости. Он велик не только у себя в шатре, но останется таким и в несчастье…»
Кучум чутко прислушивался к шуму битвы. Никогда он так не ждал врага, как в эти дни. Сердце его запеклось от нетерпения и гнева. За рвами, за окопами и засеками шевелилось многотысячное войско, пуская рои стрел, двигаясь по берегу. Никогда прежде он не собирал столько воинов. Хан не утерпел, вскочил и быстро вышел из шатра. За ним устремилась свита. Схватив за удила своего аргамака, Кучум пытался вскочить в седло. Вот меч, — сколько им срублено голов! Он и сейчас обнажит его и бросится в сечь. Но хану не дали умчать в поле.
— Ты один у нас и твоя сила в мудрости, — льстиво уговаривал его Карача. — Взгляни только, что делается.
Кучум и думчий стояли у шатра, на кургане, а внизу под ними клокотала страшная битва. Воины сходились грудь с грудью и бились насмерть. В густой кипучей толпе в синем дыму хан угадал своего любимца Маметкула.
— Где мои сыновья? — взволновано спросил хан.
— Они там, где все татары. Твои сыновья храбры, всемогущий повелитель, — сгибаясь, успокоил Карача.
— На что их храбрость, и без них сражаются тысячи татар. Вернуть Алея, вернуть других! — сердито приказал Кучум и усталой подступью ушел в шатер.
Сеид в белой чалме попрежнему молился в уголку. Проходили минуты, часы, солнце по-осеннему рано склонилось к западу, а гул не затихал. Крики казаков раздавались совсем близко…
Ночь прекратила сечу. На высоком берегу Иртыша трепетными огоньками зажглись тысячи костров.
— Хвала аллаху! — вознес руки сеид. Они не добрались сюда. Я вижу, русские под яром сложат свои кости: так писано в книге Судеб.
Сцепив на животе руки, хан дремал. Сеид с надеждой посматривал на Кучума: «Кто его знает? Он безмолвствует и сидит, закрыв очи, а сам, как старый коршун может быть все видит и все слышит и готовится к расправе над неверными».
Сеча прекратилась, но тревоги и ратные труды не окончились с наступлением тьмы. Ермак вызвал пушкарей и велел сгружать пушки. Перед ним стоял сильный, но сморенный долгим тяжким боем казак.
— Петро, ты отменный пушкарь, — сказал атаман. — Ставь пушки на колеса и тащи в обход, за Чувашью гору. Оттуда по зову рожка бей по басурманам!
— Тяжело, батько, с голубками нашими пересечь овраги и мхи, но будет так, как велено, — ответил суровый пушкарь. Ермак мельком взглянул на его цепкие жилистые руки. «Этакими он всю землицу сибирскую перероет, а пушки доставит!» — с верой, что приказ будет исполнен, подумал атаман.
— Торопись, Петро!
В черном небе ярко пылали крупные звезды, серебристой пылью из далеких небесных глубин искрилась звездная дорога. На ярах трепетало пламя татарских костров, от которых во мрак торопились рои быстрых искр.
Ермак прислушивался к ночному шуму. На невидимых дорогах слышался беспрерывный гул голосов. С холма неслись отрывистые звуки чонгура: у близкого костра заунывным голосом татарин пел сказание о древних степных батырях.
С высоких обрывов поминутно сыпались комья глины, изредка прилетала шальная стрела. Но больше всего казакам досаждали злые усмешки, которыми их донимали задиристые уланы Маметкула. Они «висели» над яром и с издевкой кричали по-татарски:
— Эй, урус, помирать пришел? Поможем!
— Завтра голова вашего батыря потащится в пыли за хвостом кобылицы!
— Свинопасы!
— Кучум потопчет вас, как саранчу!
— Хо! Вы завтра не успеете… — начал кто-то голосисто, но тугим кулем упал с яра, снятый пищальником.
— Угомонился, леший! — с презрением ткнул сапогом в труп стрелок.
— В Иртыш его, пусть не смердит тут! — закричал другой. Тело подняли и, раскачав, бросили в темные быстрые воды.
— К аллаху заторопился на казаков жаловаться, — пошутил пищальник.
Ермак сидел у костра. Иртышский пронизывающий ветер холодил кольчугу, пробирая до костей. Мысли у атамана ясные, решительные. Думал он: «Как холопская сермяга латана тряпьем, так и войско кучумовское лоскутное. Надо его рвать по частям!» Он вспомнил о проводнике вогуле и позвал его.
Хантазей стоял перед ним, маленький, похудевший, лицо запеклось от солнца, ветров, комарья. В живых глазах, однако, светлая радость.
— Вспомнил, батырь, — улыбаясь, проговорил он. — Что делать надо? Скажи-и.
Ермак взглядом обласкал вогула:
— Слава господу, жив человек, — добрел-таки с нами сюда. Много доброго ты сделал для нас, Хантазей, — начал Ермак, — а ноне предстоит еще одно.
— Говори, батырь, все сделаю! — отозвался вогул. — У меня нож острый…
Ермак улыбнулся в бороду:
— Одним ножом да копьем иль рогатиной не всегда возьмешь, друг. Есть оружие и посильнее, — атаман многозначительно посмотрел на проводника. — Наше оружие — правда! Вот ты вогулич, а с нами идешь. У Кучума тож вогуличи и остяки. За что они пришли свои головы класть тут?
Хантазей помрачнел:
— Им хан бедой пригрозил, вот и присли.
— То-то и оно! А ты поди и скажи своим, что пусть идут по стойбищам. Мы их не тронем. Русь даст им облегченье от тягот. Русские почитают их труд, потому как сами великим потом хлеб добывают. Слышишь? Всю правду им скажи! Сам небось видел. Вогул склонился:
— Я все знаю, все понимаю. У хана худо-худо жить манси и ханту. Он все берет у них: и олесек, и соболь, и лисиц. Ничего не оставляет: после татар ложись и умирай. Хоросо, я иду и расскажу правду!
— Возьми двух солеваров. Солевары без толмача обойдутся, многие с остяками жили. Проведи их, чтобы никто не сметил, чтобы ни один татарин, ни князек не прознал про них.
Ермак смолк, перебирая в своей памяти солеваров, приставших к повольникам на Каме.
— Ерошку и Данилу возьми!
— Хоросо, шибко хоросо, — кивнул одобрительно Хантазей. — Добрый человек жил на Конде. Одень его в парка — на манси похож будет!
— Пойдут с тобой. Только поберегись! Великое дело за тобой: прознают вогуличи и остяки правду, покинут Кучума. — Ермак поднялся с камня, обнял вогула. — Верю тебе. Выручай Хантазей!
На востоке синела полоска зари, предутренняя прохлада шла с иртышского простора. Утопая в пуховиках, хан сидя дремал, когда в шатер вошел и низко поклонился Карача. Кучум открыл глаза.
— Что случилось, думчий? Почему в неурочный час поспешил сюда?
— Мудрый повелитель, сейчас поймали подосланных русскими, которые возбуждали вогуличей уйти с поля. Их порознь ведут сюда!
— Кто осмелился на черную измену? — хрипло спросил хан. Каждая жилочка в его теле трепетала от возбуждения.
Карача слонился еще ниже.
— Что молчишь, думчий? Как ведут себя князьцы?
— Горе, — пролепетал Карача. — Двое ушло, а с ними разбежались остяки. Вогуличи и васюганцы волнуются.
— Молчи! — выкрикнул хан. — Никто не уйдет с поля. Вернуть князьцов!
У шатра зашумели. Кучум вопросительно посмотрел на думчего.
— Ведут пойманных, — оповестил тот. — Прикажи судить!
Хан поднял руку и сказал:
— Судить буду сам. Тащите первого.
Телохранители втолкнули вогула в шатер. Избитый, с багровыми ссадинами на лице, с крепко связанными руками за спиной, вогул предстал перед Кучумом.
— Падай ниц! — толкали его копьми в бока телохранители хана.
— Ни-ни, — отрицательно повел головой Хантазей. — Он не Чохлынь-Ойка! Я не хочу на него молиться. Кучум презрительно посмотрел на пленника, повел воспаленными глазами, и мурза Карача спросил Хантазея:
— Презренный раб, ты находишься перед лицом солнца вселенной — всемогущим ханом. Как ты смел говорить своим кровным, чтобы они покинули его? Ты предал свой народ!
Хантазей сверкнул глазами:
— Врешь, ханская собака! Я говорил им только правду…
— За твое слово я отрежу тебе язык, — сердито перебил Кучум. — Он ткнул в вогула пальцем и спросил: — Ты знаешь, кто такие руссы?
— Много-много знаю, — охотно отозвался Хантазей, и изуродованное лицо его осветилось, — они добрый народ, их батырь зовет меня братом и другом!
— Врешь! Все врешь! — замахнулся посохом Кучум.
— Это правда! — твердо вымолвил Хантазей. — Они придут сюда, возьмут Искер и прогонят тебя. Твое брюхо ненасытно, долго ты нас грабил. Глаза твои слепнут от жадности.
— Отсечь ему голову! — выкрикнул Кучум.
— Погоди, не все сказал, — отталкивая от себя ханских телохранителей, продолжал вогул: — Ты не даесь нам жить по своим обычаям ни в лесах насих, ни в тундре.
— Сейчас же на кол его голову, а тело псам! — выкатив гнойные глаза, задыхаясь от удушья, прохрипел Кучум.
Телохранители схватили Хантазея за руки, но он вырвался и плюнул под ноги хану:
— Вонючий хорек, я не боюсь смерти!
— Залейте ему рот горячей смолой.
— И этого не боюсь. Сюда придет друг наш — Русь…
Хан отвалился на спину, сипел и судорожно шевелил рукой. Вогулу заткнули рот грязной тряпицей и поспешно вывели из шатра…
Не знал, не ведал Хантазей, что в ту пору, когда его допрашивал хан, за пологом, в ожидании своей участи, томились камские солевары. Они услышали крики вогула: молча переглянулись и поняли друг друга. Когда их ввели в шатер, растревоженный Кучум уставился на пленников злыми глазами.
— И вас прислал сюда тот разбойник! — прокричал он.
Ерошка прищурил левый глаз, разглядывая хилое тело хана, презрительно усмехнулся и ответил:
— Ошибся, старичок. Нас послала сюда Русь. Ермак и все мы — ее сынки…
— Что вам в Сибири надо? — длинные пальцы Кучума нетерпеливо перебирали янтарные четки, жилистая шея его по-гусиному вытянулась.
— Мы не спрашивали тебя, когда ты шел на родимые земли наши, жег огнем отецкие селения, пленил старых и малых кровью поливал дороги. Ты все хочешь знать. Ну что ж, изволь, хан. Порешили мы, что хватит тебе зорить народы! Будет, поцарствовал над бедными людьми!
— Дерзок ты не в меру! — подался вперед Кучум. — За дерзость мои палачи срубят ваши головы.
— Побереги их, хан, — они еще пригодятся тебе для обмена. В жизни всяко бывает, старичок! — Ерошка с простоватым видом почесал затылок. — Ошибиться в запале можешь!
Тяжелое предчувствие охватило сердце Кучума. Он повел бровью, стража схватила и увела солеваров.
— Ну, давай, братец, простимся, — предложил другу Ерошка. — Сейчас башку снимут. Гляди, родимый, не сробей. Не гоже умирать нам с позором.
— Не сробею, — задумчиво отозвался Данилка и тяжело опустил голову. — Матушка учила стоять за правду и помереть за нее, если доведется. Вот и пришел мой час. Прости, друг…
Они обнялись и рассцеловались… Однако палачи не отрубили им головы. По велению Кучума, их заковали в цепи и бросили в глубокую яму. Ерошка повеселел:
— Гляди, и впрямь силен Ермак, если хан спужался. Эх, поживем мы с тобой, друг. Поглядим на синее небушко! Песни еще споем. Вот Хантазея, кажись, не повидаем боле.
— А жалко… Хороший мужик! Хоть и не русский.
Одна за другой в темном небе меркли звезды. Над ямой занимался скудный рассвет, а вместе с ним в татарском лагере началось движение.
На высоком яру появился мулла и, обратившись лицом к Мекке, торжественным и громким голосом стал совершать намаз. На поле, усеянном тушами побитых и покалеченных коней, среди огромного притихшего татарского лагеря, вид молящихся воинов был грозен…
Но вот отзвучали слова намаза, и будто ветер прошелестел, когда тысячи воинов встали с земли. Началась утренняя суета: спешно чистили оружие, лучники подвязывали перья к стрелам, всадники кормили коней. Шум предстоящей брани долетел до узилища. Пленники встрепенулись.
— Ну, братец, будем по слуху судить, кто сильнее! — сказал Данилка. В этот момент дрогнула земля, раскатилось эхо. Ерошка радостно взглянул на товарища:
— Ого, паря, пушкарь Петруха зорю встречает из своей голубицы. Тошно станет Кучуму…
В голубом небе быстрыми стрижами понеслись рои оперенных стрел.
Иванко Кольцо выбился в поле и завернул левое крыло казачьего войска в обход татар. Как и вчера, Маметкул, сидя на высоком коне, наблюдал за битвой. Он сметил казачий обход и растянул свой стан, стремясь загородить дорогу к завалам. Три сотни казаков с атаманами, во главе с Ермаком, кинулись в центр кучумовской линии, где волновались толпы вогулов и остяков.
— Веди, батько, веди! — кричали разгоряченные рубкой казаки.
Кругом раздавался исступленный вой сотен посеченных и покалеченных людей. Стрелы низали воздух. Не оглядываясь, Ермак угадывал, что каждое мгновенье гибнут дружинники, что их становится все меньше, и поэтому рванулся еще быстрей вперед. Блестело на солнце острие его секиры, все время среди шума битвы звучал его громкий зов:
— За мной, рыцари! За мной!
Иванко Кольцо настиг Ермака и, оберегая его, взывал:
— Руби, браты, сам батько с нами!
Среди толпы ясычников на белом коньке топтался князец Самар и что-то пронзительно кричал. Но остяки не слушали его угроз и, как вешние талые ручейки, стали сочиться с поля. Они уходили группками и в одиночку…
Маметкул вымчал к центру, но упавшее ядро перебило ноги аргамаку. Конь протяжно, жалостно заржал. Спешенный тайджи, засучив рукава бешмета, с ятаганом бросился навстречу казачьей волне. Гул, вой, брань и звон клинков усилилась.
Где-то рядом ударили ломовые пушки, внося опустошение среди сибирцев.
— Молодец, Петро, — одобрил стрельбу пушкаря Ермак.
По высокой каменистой круче заметались встревоженные вогулы и остяки. Они не устояли и побежали, своей лавиной увлекая за собой сородичей.
— Шайтан! Куда? — исступленно кричал Маметкул, но буйная волна обезумевших людей подхватила и смяла его. Остяки на бегу садились на оленей и торопились убраться от беды. За ними хлынули вогулы, за вогулами — идоломольцы Васюганских болот.
Маметкул, однако, не растерялся. Он выбрался из страшной людской тесноты. Уланы подали свежего коня, и он устремился к завалам. Там хоронились новые отряды. На них была его последняя надежда.
На скаку он приказал разметать завалы. В трех местах татары поспешно проломали засеку и буйным потоком вырвались на простор.
Ермак оглянулся на злых и потных дружинников.
— Заманить! Назад — для разгона! — приказал он атаманам.
Казачьи сотни вдруг замялись и стали отходить. Татары зашумели и погнались… На широком пологом поле насмерть схватились враги. Уланы Меметкула окружили полусотню Брязги и теснили ее.
— Врешь, не собьешь станицу! — в запальчивости орал Богдашка. — Там, где казачий след остался, все кончено!
Пищальники неутомимо слали свинец. В сизом пороховом дыму глаза застилало едкой слезой.
Не уберегли уланы Маметкула, — свалился он на землю с пробитым пулей бедром и потерял сознание.
— Убит! — истошно закричал перепуганный татарин, видевший падение полководца. — Горе нам!..
В ответ на вопль загремел Ермак:
— Поднатужься, браты! Вот когда настал час!..
Казаки прорвались через завалы. Ильин, работая топором, пробился на вершину холма и водрузил знамя. Оно призывно и победно затрепетало на иртышском ветру. Заметив русский стяг, Бзыга заорал:
— Иртыш Дону кланяется!
— Мало берешь! — перебил его поп Савва, бежавший рядом. — То Русь поднялась над сибирской землей… А Русь больше Дона!..
За проломом казаки быстро проникали повсюду. Впереди им виделось кучумово зеленое знамя. Савва утер пот, застилавший глаза, и, перемахнув груды вьюков, очутился в тесном дворике. Два плечистых татарина бросились на попа… Зазвучали мечи. Бились долго и яростно, — булаты высекали искры. Татарин сделал неловкое движение, и поп сразил его.
«Ну, теперь полегче!» — повеселел Савва.
Второй улан наседал на попа, стремясь оттеснить его к яме. Боясь оступиться, Савва уходил в сторону.
— Батька, да чего вертишься! Бей супостата! — внезапно раздался из ямы русский голос.
— Ой! — оживился вояка и, подскочив, сильным махом опустил меч на бритую голову татарина…
Тут только Савва очухался и заглянул в яму.
— Да кто же вы, горюны? — с опаской наклонился он.
— Эх, Савва, Савва, неужто не узнал своих? Данилка да Ерошка! Выручай, друг!..
Поп вытащил солеваров из узилища.
— Прячтесь, пока наши не подоспеют! Мне некогда! — он перемахнул через тюк и вдруг вспомнил: — А где Хантазей, куда подевался?
Ханские полоняне молча переглянулись. Ерошка тяжко вздохнул, и поп все понял.
— Ну, коли так, держись теперь, Кучумка. Уж я татарву благословлю за вогулича!
8
Ядра глухо и тяжело ударялись в крутой вал, от сильных ударов содрогалась земля, черные рассыпчатые комья поднимались высоко и падали на шатер. Кучум впервые слышал такой грохот. Чутьем воина он догадывался об опасности. Как бы в подтверждение этого, пуля пронизала полог шатра. Кучум услышал ее свист, сорвался с места и, протянув руки, вышел из шатра. Его сразу охватила тревога. С холма сквозь пелену, застилавшую больные глаза, он смутно увидел воинов, сцепившихся в бешенной борьбе, бесчисленные арбы, пыль из-под колес которых, мешаясь с дымом казацких пушек, заволокла небо. Озлобленно ревели верблюды, которых алтайские лучники гнали на пришельцев. До хана донеслись исступленные крики и постепенно нараставший топот бегущих. Словно хищник-беркут, когтистой рукой хан ухватил телохранителя за плечо и, тяжело дыша, спросил:
— Что там делается? Скажи, что видишь?
Телохранитель молчал. Он видел потрясающее, и язык его онемел. Как скажешь господину, что скоро конец всему?
Казаки стремительно двигались вперед. Их здоровые глотки, как медные трубы, ревели непонятное:
— На слом!.. На слом!..
Разве не слышит хан стук копий, звон клинков, гул, вой, брань — гром этой страшной битвы, которая проиграна повелителем?
— Что молчишь, раб? — злобно выкрикнул Кучум. — Говори!
Телохранимтель, заикаясь, сказал:
— Всемилостивый и могучий, все, что я вижу здесь, ты видел не раз в битвах. Побежали остяцкие князьцы, а с ними воины. Васюганьцы рубят своего деревянного бога, который оробел перед русскими…
— О, аллах! — в горечи вскрикнул хан. — Говори, что видишь еще!
— Куда-то бегут вогулы. Кричат алтайцы, барабинцы…
— Врешь! — перебил его Кучум. — Врешь, плешивый пес! Я слышу кричат и наши, они бьют урусов. Где Маметкул?..
Раздался топот, и на холм вымчал всадник. По лицу его струилась кровь. Он закачался и выпал из седла.
— Маметкул?
— Тайджи ранен, уланы уплыли с ним за Иртыш!
— Алла! Говори, еще говори! — тряся вестника кричал хан, но его окрик потонул в буйном, чудовищном хаосе, который, подобно грому, катился к холму. Опираясь о телохранителя, Кучум подошел к обрыву и слезящимися глазами вгляделся в даль. Словно в тумане, он увидел цепи татарских лучников, которые яростно слали кучи стрел. Метальщики сбрасывали лавины камней, но увы, — что могли поделать они против бесстрашных бородатых людей, рубивших с плеча и шедших властной тяжелой поступью. Впереди этой неудержимой лавины на лихом скакуне, приподнявшись в стременах, размахивая окровавленным мечом, мчал осанистый казак с курчавой бородой. Кучум узнал его:
— Он!.. Он!..
Мурза схватил хана под руки и раболепно упрашивал:
— Премудрый, настал час… Надо уходить!
Костистый, жилистый хан уперся:
— Нет! Нет! Еще не все. Коня мне…
Но все было напрасно. Степные всадники с криками рассеялись по полю и уносились прочь. За ними, волоча нарты, спасая своих хозяев, мчались легконогие олени. Бежали татары, сургутские остяки, — бежали все, кто мог. Клубами стлалась вздыбленная пыль, вопили люди, с треском опрокидывались арбы, и самое страшное, что потрясало и леденило душу, — над полем стоял сплошной крик:
— Ура-а-а…
Ветер развевал парчевые хоругви с ликом христианского бога. Казаки, как яростный морской прибой, выхлестнули сокрушительной волной на высокий вал. И опять впереди них могучий всадник в панцире, с сияющим мечом.
— Он! Коня мне, коня! — вскричал Кучум, но телохранители и мурзы подхватили его и оттащили прочь.
Карача взял хана за руки:
— Яскальбинские князьки открыли дорогу урусам. Поберегись, хан. Мы погибли без тебя… Настала пора уходить!..
Кучум вырвался и выкрикнул в гневе:
— Я с юности был воин! Со мной верные всадники. Никуда не уйду. Пусть враг идет на Искер, я воткну ему между лопаток стрелу!
Он уверенным, твердым шагом вернулся к шатру и сел на ковер. Мурзы трусливо смотрели на хана. «Что задумал он? Разве не видит гибель всему?»
У холма еще дрались лучники, но близкий рев стал яростней. Подхлестываемый ужасом, на холм вымчал всадник, соскочил с седла, раскрыл рот… и не сказал ни слова перед неумолимым взором хана.
— Я здесь стою! И никто не сдвинет меня! — сурово сказал Кучум мурзам. Вельможы, вздохнув, покорно склонили лица.
Ночь опустилась на Чувашским мысом. Из-за крутояра выплыла луна и осветила скорбное поле брани.
— Всемилостивый, ты непобедим! — негромко, вкрадчиво заговорил с ханом Карача. — Но коварство малодушных может погубить нас: тайно ушли туралинцы, аялинцы неслышно покинули лагерь, коурдаки, как змеи уползли. Надо уходить.
— Куда нам ехать? — в горестном раздумье спросил Кучум.
Ему подали любимого белого скакуна, когда-то приносившего ему столько радости. Хан потрепал его по шее, скакун присмирел. Слуги подсадили Кучума, и он с трудом устроился в седле.
«Горе мне, горе!» — тяжко вздохнул хан и, печально склонив голову, сгорбленным и немощным двинулся к Искеру. Он молча ехал, позади, так же безмолвно, следовала свита. Смутные и тяжелые мысли терзали хана. «Как могло случиться, что в такой короткий срок разбили его войско, и он сейчас, старый и бессильный, должен покинуть Искер и тронуться в неизвестность! Откуда брали силы урусы и почему стал слаб он!»
Ишан Бибадша объяснял все вмешательством богов, но туманно и сбивчиво…
«Нет, здесь боги ни при чем. Пришла новая, неведомая сила! — решил хан и встрепенулся. — Но мы еще живы и поспорим с ней!»
Луна мертвенным светом озаряла знакомые места, и теперь приходилось покидать их. Боль сжимала сердце. Сорок лет он был ханом в Искере, в этой древней земле! Много крови и слез пролито из-за нее. Ишаны читали Кучуму старинные рукописи, а в них величавым слогом повествовалось, что великий Чингис-хан растоптал древнюю Бухару и послал татарского князька Тайбугу собирать ясак в суровую «Страну Мраков». Жестокий и жадный Тайбуга, подобно своему повелителю, побил много людей и разорил жилища их по рекам Иртышу и Оби великой. На реке Туре его пленило место, пригодное для ставки, и он возвел здесь городок Чингидин.
Покоренная страна оказалась великой и богатой, и звали ее по-древнему Сибирь. Тайбуга почувствовал силу и твердо держался на царстве. Но всему бывает начало и конец, и Тайбуга отошел в мир иной, оставив все сыну Хаджи. И этот прошел положенный ему круг и оставил после себя княжение сыну своему Мару. И тут начались кровь и смерти.
«В жизни цветет только крепкое дерево, а слабое аалит буря!» — подумав так, Кучум тяжко вздохнул.
Мар был красив, нежен и верил женщине, и это погубило его. Казанкий хан Упак отдал ему в жены свою сестру. Она не любила слабовольного и ленивого мужа и предала его. Брат ханши умертвил Мара, овладел Чигидином и стал хозяином Сибири. Он упивался властью, жадничал, думал, что счастью и удачам его не будет конца, а межде тем беда стояла у порога. В глухом степном улусе, в прииртышье, друзья укрыли от глаз кровожадного Упака внука Мара — царевича Махмета. Корень Тайбуги оказался крепок и долголетен, — Махмет вырос, набрался сил и ярости. В степных улусах он собрал сибирских татар, повел их к Чингидину, овладел им и убил Упака. Кровь за кровь!
Но Чингидин был не по душе воинственному Махмету. Много горя и несчастий было порождено в этом городе. Он облюбовал высокое место на берегу широкого и могучего Иртыша и там, в устье резвой речонки Сибирки, на крутом яру, поставил Сибирь-Искер… Предание гласит: на горе лежали руины древнего города Сибирь-Туры, в котором княжил Иртышак. И никто не помнил, когда заглох и обрушился этот город…
«Искер! Искер! Древняя земля! — в глубокой печали покачал головой хан. — Могу ли я тебя оставить!» Ему вспоминалась юность, когда он пришел в эти степи. Со своими одичавшими всадниками он мчался по бескрайним синим просторам и безжалостно топтал копытами все живое на пути. Зарево стояло над степями, горячая кровь поила темную землю, и, вместо росы, ковыль омывали горькие слезы матерей.
В те поры он убил Эдигера и Булата — внуков Махмета. Горячая и пылкая пора жизни! Кровь тогда пряно пахла и кружила голову. Воссев в Искере, он окружил себя ишанами и женами.
Он помнит осенний темный вечер, когда пронзительно ветер шумел над березами прииртышья. Блистательный и молодой, сидя в ханском шатре, он снисходительно слушал давнего татарского певца, который под звуки чонгура пел ему о давних временах. На мангале синим пламенем пылали раскаленные угли, розовые блики колебались на лицах жен.
Старик посоветовал:
«В давние-предавние века у вод могучего Иртыша жил народ Сибир. Трудолюбие и прилежность были в его характере. Он с любовью возделывал землю, ткал прекрасные ткани, шил одежду и обувь и умел украшать конские уборы. Люди умели также петь и плясать. Но они ненавидели меч и стрелу и не хотели воевать, человеческая кровь вызывала у них слезы и жалость. Обширна земля, безграничны степи, по которым кочевали орды. И вот настал горестный день, когда из глубин степных просторов и пустынь злым ветром примчались неутомимые всадники с жестокими сердцами воинов. Вооруженные мечами, тугими луками, арканами, они грозой пронеслись по берегам Иртыша. Народу Сибир оставалась неволя или смерть. Старики сказали молодым: „Лучше смерть, чем рабство!“ Они вышли в бой и много дней ожесточенно бились с дикими всадниками степей. И все погибли…»
Слушая старика, Кучум думал: «Что за народ, который слаб духом! Хвала тому жестокому, что не щадил ни стариков, ни женщин! Не о нем ли, Кучуму, поет ишан свое сказание?»
Певец продолжал: «В живых из всего народа остались престарелый глава рода и две юные прекрасные девушки. И они делали то, что приказывал старец. В бегущей иртышской воде они омыли тела погибших воинов. Потом много дней и ночей все втроем рыли подземелье для погребения. Селовласый был мудр, знал язык зверей. Он вышел к лесным дебрям и произнес заклятье, и тогда со всех чащоб сбежались волки, медведи и россомахи, из-под земли выползли кроты, и все принялись за работу. И когда все было готово, старейшина и юницы с песнопением перенесли в подземелье тела своих соплеменников и зетем, простясь друг с другом, подрубили столбы лиственниц. Тяжелая земля грузно осела и погребла живых и мертвых…»
«Глупая смерть!»
«Пусть будет по-твоему, повелитель! — кротко согласился ишан и закончил: Тело человеческое не пропало напрасно. Победители удивились: на другой день на том месте, где был погребен народ Сибир, начала вздыматься земляная волна. Как в бурю, в страшный шторм, земля поднималась все выше и круче и, вскоре над Иртышом нависла великая гора. И тогда степные всадники возвели на вершине город Сибирь-Искер».
Воспоминания хана прервал совиный крик. Из мрака выступала темная громада Искера, угадывались высокие частоколы.
Кучум скорбно поник головой: «Может быть он возвращается сюда последний раз».
Высоко мелькнули огоньки, донесся глухой лай сторожевых псов. Дорога круто поднималась в гору. Вот и крепостной тын, рубленные башни. Искер как бы плывет в ночном тумане, высоко над равниной. На вершине гудит шальной ветер, раскачивает лохматые вековые ели, шумит в кустах и, подняв тучи палых листьев, бросает их в лицо опечаленного хана. Конь ступает осторожно. Фыркает. За Кучумом молчаливо следуют мурзы и телохранители. На воротной башне закричали караульные:
— Именем всемогущего, кто приближается в город великого хана Кучума?
Хан не поднял головы. Вместо него грубо отозвался мурза Карача:
— Открывай! Велик аллах, могуч и любим хан!
Со скрипом распахнулись бревенчатые ворота, и сразу оживился городок.
Спешились мурзы и склонились до земли, ожидая, когда хан сойдет с седла. Он медлил и прятал глаза от женщин, обступивших его. Карача крикнул на них:
— Перестаньте лить слезы!
— А где Маметкул? А где Бик-Булат? А где…
Кучум сделал движение рукой и сказал сурово:
— Плачьте, матери…
Он тяжело слез с коня и прошел в шатер. Старая ханша Лелипак-Каныш сидела на высоком взбитом пуховике с заплаканными глазами. Схватившись костлявыми руками за седую голову и раскачиваясь, она причитала:
— О, что будет… Что только будет!..
Кучум насупился. Его сухое лицо стало жестоким. Весь день болели гноящиеся глаза, но еще большая боль терзала сердце.
— Все будет так, как было. Этого я хочу! — властно сказал он. — Так всегда было!
Лелипак-Каныш укоризнено покачала головой:
— Так было потому, что ты был юн и силен. И в степи не было бесстрашнее и проворнее всадника и воина. Твой клинок сверкал так, как блистает в темной туче молния. Я помню это…
Кучума ударили в больное место. «Ох, горе и беды — старость!» — растерявшись, подумал он и вспомнил молодую Лелипак-Каныш. Она впервые вошла к нему, как весна, — вся солнечная, радостная. Ах, какой тоненькой и стройной была она тогда и какие горячие слова умела шептать в темные ночи. Но и он тогда был молод и необуздан, как дикий степной тарпан. В ту пору он обладал самым большим сокровищем — юностью и здоровьем. А сейчас?
— Ты права! — сказал он старой ханше. — Но ты забыла, что, кроме молодости и силы, есть еще мудрость, терпение и хитрость. Не ты ли в моем шатре пела «о соломинке» — песню, в которой восхваляются подвиги великого хана Темир-Ленка…
Она вспомнила эту любимую песню и утерла слезы. Морщины ее разгладились.
— Кучум прав! — беззубым ртом улыбнулась она.
Песню о Темир-Ленке знал каждый, кто хотел счастья и удачи себе, детям и внукам. В преданиях сказано, что великий хан научился всему у муравья. Он был в таком же положении, как сегодня Кучум. Разбитый своими заклятыми врагами, он спасался в руинах забытого кладбища. Темир-Ленк, как ящерка, заполз в трещину среди могильных камней, затих и ждал своей смерти. Все бросили его, а враги были беспощадны, и кони их вихрем неслись по следам. Скоро будут здесь, среди могил. Чтобы забыться, Темир-Ленк разглядывал муравья, который тащил длинную соломинку на могильную плиту. И человек поразился терпению и трудолюбию насекомого. Сорок раз муравей обрывался со своей ношей, едва достигнув камня, но каждый раз снова неутомимо брался за свое дело. И в сорок первый он втащил свою тяжелую и неудобную ношу на могильную плиту… В эту пору бешенные и сильные кони врагов пронеслись над головой Темир-Ленка, и он остался жить. Благодаря примеру трудолюбивого муравья впоследствии он стал величайшим из всех ханов.
— Ты прав! — одобрила снова старуха, но Кучум больше не слушал: мысли его перебежали на другое.
«Оставить Искер или тут встретить урусов?» — с этой мыслью он вышел из шатра, и мрак охватил его. Стоя на валу за тыном, слышал, как далеко внизу плескался Иртыш. В кривых улочках угадывалось скрытое движение: скрипели арбы, постукивали котлы, железные таганки, бряцали удила, плакали ребята. «Собираются бежать! — подумал хан и одобрил: — Пора! Нельзя оставаться на этом высоком холме, вокруг которого вот-вот выхлестнут враги! Орел может сняться с утеса и улететь от беды, а Кучуму с приближенными не уйти, он попадет в ловушку. Откуда придут воины спасать его, если он сам не поднимет их?»
— Бежать! — решил он и взглянул в сторону Сузгуна. Там золотым сиянием переливался огонек. В сухом теле хана, словно в погасшем костре под пеплом, вспыхнуло жаркое желание увидеть Сузге — самую красивую и самую любимую!..
Он имел семь законных жен, двадцать молодых наложниц и много русских синеглазых пленниц, которых Маметкул пригнал с Камы. Хороши русоголовые русские полонянки! Но ни одна из них так не ранила сердце, как Сузге — казахская царевна. Она была строга, величава и заставила уважать себя. Хан робел и притихал в ее присутствии. Глаза ее — темные озера среди камыша, губы сочны и ярки, и ко всему этому она вся пламень.
«Ах, Сузге, Сузге! Ты поедешь в скитания со мной!» — решил Кучум и поторопился в шатер. Карача при входе хана быстро поднялся и склонил голову:
— Да хранит тебя аллах, — тихо сказал хитрый старик. — Глаза твоего слуги счастливы видеть солнце, но сердце болит; может оно перестанет страдать, если хан поедет сейчас из Искера…
Кучум сердито блеснул глазами:
— О чем говорят твои уста? Иди сейчас в Сузгун и пусть придет сюда Сузге. Пусть приготовят ее в дальний путь. Иди, иди, старик!
Карача вздохнул. Не смея ослушаться, он вышел из шатра. Кругом тьма, тучи укрыли звезды. Только на утесе Сузгун сверкает и манит золотой огонек. Но он далек, трудна к нему ночная дорога: овраги, трущобы, над тропой сплелись кудрявые ели с кедрами, отчего все кажется еще мрачнее. Рядом, вся в непрестанном трепете, осиновая роща. Карача проклинал в душе хана, но постепенно золотой огонек завораживал сердце.
«Ах, Сузге, Сузге! — сокрушенно подумал старик и покачал головой: — Аллах милостливый, почему ты несправедлив к твоим земным слугам? Почему тело человека дряхлеет, а кругом каждый год от матерей поднимаются красавицы».
Шумит и ропщет Иртыш, и слух невольно ловит этот нескончаемый ропот древней реки.
«Жизнь вечна и всегда сильна!» — печально думает старик и с тяжелой одышкой поднимается в гору. Вот и высокий заплот. Карача властно стучит и громко оповещает:
— Именем аллаха и великого, всемогущего хана Кучума!
Седобородый татарин-страж распахивает перед ни калитку. Мурза с важностью проходит мимо. Он торопится в покои ханши. Большой войлочный шатер ярко освещен и полон шума. Он слышит смех Сузге и восторги молодых рабынь. Вот и последний полог из шелка над широким входом. Он колышется, сверкает голубизной, как небо в жаркий день. Два больших бумажных фонаря мягко освещают низкие сиденья, на которых разбросаны пуховики и подушки.
«Где же слуги?» — подумал, хмурясь, Карача. В тот же миг из невидимой щели выпорхнула юная, в розовых шальварах, служанка. Она, как пестрый мотылек, мелькнула по ковру, неся в тонких руках золотой сосуд. И остановилась. Ее большие черные глаза, отененные густыми ресницами, насмешливо уставились на мурзу.
Румяная, сияющая молодостью, она жарко дышала в лицо старика. Карача сладко прищурил глаза и протянул руку, чтобы ущипнуть игривую, но та сердито сдвинула брови и захохотала в лицо:
— Ты… ты, старый козел, куда лезешь?
Злость обуяла мурзу, он исколотил бы рабыню, но она, как серна, легко отбежала и распахнула голубой полог. И сразу лицо Карачи преобразилось: из сердитого и волчьего оно стало восторженным и лисьим. Низко склонясь, он раболепно вступил в опочивальню ханши.
Сузге только что искупалась и, нежась, лежала на пуховиках. Вокруг нее хлопотали рабыни. Они выжимали черные косы, расчесывали их золотыми гребнями. Волосы ханши были пышны и длинны, как темная иртышская струя в половодье, а сама она бела и свежа. Прислонив голову к руке, она мечтательно тянулась к золотой чаше. Насмешница рабыня устроилась у ее ног.
Карача пал перед Сузге бородой в пушистый ковер.
— Прекрасная!
— Карача, садись здесь! — приветливо указала она на яркую подушку. В глазах ее заиграли озорные огоньки. Заметив волнение мурзы, она плавно повела обнаженной рукой. Старику показалось, что не рука мелькнула перед ним, а колыхнулась лебединая шея.
— Мой супруг и повелитель здоров и счастлив, а вести потом! — вкрадчивым голосом сказала Сузге. — Слушай песню, Карача. Девушки споют ее. Кильсана, у тебя веселое горлышко!
Рабыня, назвавшая Карачу козлом, мелодичным голосом запела:
Храбрый молодец свое копье точит в крови,
А бесстыдник проводит ночи без сна…
Как некстати сейчас эта песня. Мурза с мольбой взглянул на Сузге:
— Красивейшая, я тебе спою лучшую песню.
Красавица улыбнулась, переглянулась с юными рабынями и сказала:
— Оставь, Кильсана! Пусть споет Карача свою песню. Дайте ему чонгур!
Карача весело сказал рабыне:
Видишь, сама великолепная Сузге пожелала послушать мое пение! — Он взял чонгур и костлявыми пальцами провел по струнам, — они жалобно прозвенели. Седобородый мурза забыл хана, Искер, казаков, — он не сводил узких хищных глаз с Сузге. Он поклонился ей и предложил:
— Прекрасная из прекрасных, я спою о твоих прелестях!
Ханша благосклонно склонила голову. Карача забряцал по струнам и запел:
Твои брови тонки, как новый месяц,
Свежей розой заперт жемчуг зубов,
Весело горит молодой огонь в твоем очаге, красавица,
А когда ты смеешься — ночь озаряется светом…
Сузге лукаво взглянула на Кильсану, девушка рассмеялась. Смех ее прозвучал бубенчиками. Мурза поднял на шутницу гневные глаза:
— Чего ты ржешь, как кобылица в степи!
— А чего ты ревешь козлом! — прыснула в горсть смуглая и вертлявая служанка.
— Ах! — обозлился Карача и хотел ударить ее чонгуром, но насмешница укрылась за ханшей.
Сузге рассмеялась.
— Не сердись, старик! — приподнимаясь с подушек, строго сказала она: — Она права. Что скажет повелитель, если узнает, что ты стараешься стать утешителем его жены?
— Ох, всемилостливая, — упал на колени мурза и, подползши к ложу красавицы, схватил ее руку и поцеловал. — Прости, прекраснейшая! Да благословит аллах дни твои и Кучума. Он ждет тебя в Искере…
Сузге поднялась во весь рост, стройная и недоступная. Черные волосы ее рассыпались по белу шелку халата.
— Скажи хану Кучуму, я никогда к нему не пойду! — резко и властно приказала она.
Ее слова прозвучали, как удар бича. Карача втянул голову в плечи и сгорбился. Подняв молящие глаза, он робко напомнил:
— Но он великий хан. И… и сюда идут русские…
— Он дряхлый, слюнявый старик, и я не хочу больше идти с ним по одной дороге. Пусть придут сюда храбрые воины, если у хана не стало своих! Иди и скажи!..
Черные глаза Сузге вспыхнули. Смуглая рабыня схватила опахало и стала размахивать им. От жаровен шел зной, и щеки ханши пылали заревом.
— Уходи, Карача, — я слышу топот русских коней. Скажи хану — лучше умереть молодой от руки воина, чем ласкать дряхлое тело. Прошлого не вернешь! — она склонила пылающее лицо, помолчала с минуту и глухим голосом закончила: — Спеши, Карача!
Как побитый пес, мурза ушел из Сузгуна. Пронзительный холодный ветер снова охватил его и стал шарить по стынущему телу. Влажные листья осин падали ему в лицо. Внизу, во тьме, бушевал Иртыш. Шумели старые березы. На горе попрежнему светился золотой огонек.
У Карачи не хватило мужества сказать правду хану. Он склонился перед Кучумом и скорбно оповестил:
— Она больна… Страшные струпья покрыли ее лицо…
Хан отодвинулся от мурзы. Потом задумался, нервно теребя редкие седые волосы в бороде, но думал уже не о Сузге, а о своем:
«Степь вспоила и вскормила меня, — подумал он и решительно поднял голову: — Она даст мне и силы снова выйти против русских!»
Хан поднялся и сказал Караче, всем мурзам и князькам, которые толпились в его шатре:
— Садитесь на коней. Вот стрела моя, и пусть она облетит все аилы, пастбища и становища. Слава аллаху, он пошлет нам воинов пылких и смелых. Мы вернем Искер, все наши земли и все наши воды!
Он передал ближайшему мурзе стрелу, и тот поспешно вышел из шатра. Один за другим выходили близкие хана и садились на оседланных резвых коней…
Из-за туч вырвалась луна, осветила Искер и засверкала на водах Иртыша, когда Кучум поднялся в седло и поехал по кривым улочкам своего становища. Светились огни, и во дворах плакали женщины.
Опустив голову, старый хан безмолвно выехал из Искера. Темный холм высоко поднимался в мрачном небе, а впереди шумела печальная роща, роняя последнюю листву. Это — старое ханское кладбище, и Кучум невольно замедлил бег коня. Остро пахнет осенний прелый лист, среди оголенных кустов белеют каменные надгробия. И сразу Кучума окружили видения прошлого.
Вот высится могила его брата Ахмета-Гирея. Его убили подосланные убийцы из Бухары. Брат, подобно ему, был великий женолюбец и взял в жены дочь бухарского князя Шигея — чернобровую двенадцатилетнюю девочку Салтаным. Скоро он присытился ею и отдал своему конюху Аисе, чем нанес роду Шигея оскорбление. Шигей и подослал убийц.
«Ах, — крепко сжал удила Кучум. — До сих пор он не отомстил за Ахмет-Гирея. Ради этого стоит жить!» — хан стегнул по коню, копыта часто застучали по каменистой земле, мелькнуло надгробие первой жены Кучума — Галсыфат… «Как давно это было!» — скорбно подумал хан.
Кругом был мрак и бесприютность. Мурзы скакали в отдалении молча, и такая смертная, невыносимая тоска овладела ханом, что он сомкнул глаза, чтобы никуда не смотреть и ничего не видеть.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СИБИPСКАЯ ЗЕМЛИЦА
1
Татаpские скопища pассеялись, как поpоховой дым в поле. После беспpестанного шума битвы — кpиков исступленных в злобе людей, стонов pаненых, лязга мечей и гpохота каленых ядеp — на Чувашском мысу вдpуг наступило глубокое безмовие. На высоком холме не pазвивался больше на длинном шесте белый хвост — Кучумово знамя. Опустел ханский шатеp, подле него остались лишь многочисленные пеpепутанные следы конских копыт да под осенним ветpом сиpотливо покачивалась помятая гоpькая полынь. Наpушая гpустное безмолвие, зловеще каpкали воpоны, стаями налетевшие на место отгpемевшего побоища. Они остеpвенело теpзали меpтвые тела, pаздувшиеся туши погибших коней и дpались из-за добычи, хотя ее было вдоволь. Холмы, яp и pавнина пестpели телами татаp и казаков. Они pаскиданы были и на беpеговых обpывах, и на валах, и во pвах, и на засеках. Изpедка пеpекликались голоса: сотники с казаками обыскивали топкий беpег и яp, подбиpали покалеченных товаpищей, относили в стан, а меpтвых — к бpатской могиле.
Сняв шелом и пpижав его к гpуди, Еpмак тяжело ступая, шел по бpанному полю. На душе лежала скоpбь, — сpеди великого множества вpажьих тpупов он узнавал своих недавних соpатников. Склонив голову, он долго всматpивался в боpодатое посеченное лицо, в помеpкшие глаза pослого богатыpя, зажавшего в pуке тяжелую секиpу, котоpая посшибала немало татаpских голов.
— Хpабpый и непомеpной силы был казак Роман Колесо! Вечная память тебе и дpугим нашим, положившим живот свой за великое деpзание! — атаман низко поклонился телу донца. — Бpатцы, с честью пpедадим его земле.
За Еpмаком склонили головы атаман Иван Кольцо, Гpоза, Пан и Матвей Мещеpяк, сопpовождавшие его в печальном шествии…
Всегда веселый, pазудалый и насмешливый, Иван Кольцо пpисмиpел.
— Эх, батька, — с гpустью пpошептал он. — Каких сынов споpодил тихий Дон, и вот где они сложили свои буйные, неугомонные головушки!
Еpмак выпpямился, в суpовых глазах блеснул огонь.
— На то пошли, Иванко! Не купцы мы, не бояpе и не пpиказные, чтобы умиpать в пеpинах от хвоpостей; казаку положена смеpть в сече, в бpанном поединке! Пpавда твоя, из многих сел, из pазных кpев сошлись мы на путь-доpожку, и у каждого была своя матушка, pонявшая над колыбелью слезы тpевог и pадости. Но и дело, на котоpое пошли мы, велико! Уложило оно геpоев в единую бpатскую могилу. И миp им — великим воинам! Помянет их Русь!
Кольцо молча кивнул головой, понуpился.
Неподалеку, под беpезонькой, выpыта глубокая могила, подле нее складывали в pяд боевых бpатков. Со всего бpанного поля снесли беpежно сто семь павших товаpищей. Поп Савва pазжигал кадило, синий дымок гоpючей смолки потянулся витками к хмуpому небу. Тpепетали на ветpу воинские хоpугви. Подошли атаманы с обнаженными головами и стали подле них. Началась панихида. Поп Савва в холщовой pясе с волнением отпевал убиенных. Со многими из них он побывал и под Азовом, и в Астpахани, и в Саpайчике, пошумел и на Каспии, и на Волге-pеке, а сейчас вот они, улеглись pядами навсегда. Он каждого знал в лицо и помнил по имени.
Дpогнувшим голосом он возгласил вечную память, и казаки стали укладывать тела в могилу. Тяжело опустив плечи, стоял пеpед ямой Еpмак, но не слезы и отчаяние читались в его лице. Мpачным огнем осветилось оно, и были в нем и скоpбь по товаpищам, и ненависть к вpагу, и упоpная, как железо, воля — все вынести и все одолеть. Еpмак бpосил тpи гоpсти стылой земли в могилу и негpомко сказал:
— Пpощайте, дpуги, навеки пpощайте! Рано легли вы, pано оставили нас! Ну что ж, мы живы и пpодолжим ваш тяжкий путь! — Взглянув на водpужаемый над могилой деpевянный кpест, он возвысил голос: — Все на земле pазpушится, истлеет, и дpево это отстоит свое, только одно не поддастся вpемени — ваша нетленная слава!
С гpустным pаздумьем взиpали атаманы и казаки на выpаставший пеpед ними шиpокий могильный холм.
Вечеpело. Густая синь опускалась на поля и холмы. Отпиpовали свой кpовавый пиp воpоны и с гаем улетели в густую pощу. Еpмак надел шелом и медленно пошел к становищу. Доpогой снова возникли мысли о делах, о Кучуме. Где хан Кучум? Что ждет казаков впеpеди? Сказывали пеpебежчики — Искеp недалеко. Высоки валы и тыны вокpуг ханского гоpодища! Собеpет ли Кучум свежее войско?
Чутье опытного воителя подсказывало ему, что pазгpомлены главные силы вpага, и не скоpо хан набеpет новое войско. Да и окpепнет ли? Может быть, под коpень pубанули татаpское могущество?..
На беpегу, под яpом, словно овечья отаpа, сбились в кучу пленники. Обоздленные казаки стеpегли их. Еpмак медленно подошел к толпе. Жалкие, пеpепуганные остяки и вогулы пали ниц и закpичали жалобно.
«О пощаде пpосят», — догадался Еpмак и махнул pукой.
— Миp вам, уходите по добpу! А это кто? — спpосил он, указывал на скуластых смуглых пленников.
— Уланы, батько! — не скpывая злобы, сказал Гpоза. — Кучумовы злыдни! Дозволь их…
Еpмак встpетился с волчьим взглядом pослого улана. «Ишь, звеpюга! Отпусти — опять отплатят кpовью», — и махнул pукой:
— Долой головы!
Уланы закpичали, но Еpмак кpуто повеpнулся и зашагал пpочь. Матвей Мещеpяк спpосил его:
— А с вpажьими телами как?
— В Иpтыш! — пpиказал Еpмак. — Панцыpи, саадаки, мечи, pухлядь всему казачьему войску!
У pеки запылали костpы, казаки обогpевались. Наползал пpомозглый туман. Над таганами вился паp. В стане pаздалась песня.
«Жив казачий дух! Непpеклонен pусский человек! — подумал атаман: — Отдыхайте, набиpайтесь сил, бpаты. Скоpо на Искеp, нет нам ходу назад!» — Он ускоpил шаг и подошел к ватаге у костpа.
Высокий стаpик с длинными седыми усами, здоpовый, обветpенный, внезапно спpосил Еpмака:
— А куды, батько, поведешь нас дале?
— А ты чего хочешь, казаче? — тепло улыбаясь, спpосил Еpмак.
Не сpазу ответил стаpый pубака. Подумал, пpикинул и сказал:
— Стpашная хвоpость — тоска по pодине, но сильный человек всегда побоpет ее думкой о счастье всей отчизны. Забpались мы, батько, далеко-пpедалеко в сибиpскую стоpонушку. Кpовью ее оpосили, и стала она pодной. Тут нивам колыхаться, стадам пастись, pусской песне — пpиволье. Веди нас, Еpмак Тимофеевич, на Искеp, куpень самого хана Кучума! С высоких яpов Искеpа виднее все станет!
— Веpно сказал, казак! — подхватили товаpищи. — По гоpячему следу гони звеpя!
Еpмак в pаздумье взял из pук Ильина дубину — добpый дубовый коpень, окованный железом:
— Эх, и дубинущка, добpа и увесиста, била по купцу и бояpину, а ныне по хану-татаpину! Так о чем вы, молодцы?
— А о том, что не тужи, батько, добудем куpень Кучума! — ответил Кольцо, и лицо его, озаpенное отсветом костpа, показалось всем молодым.
— Веpю вам, бpатцы, — с тихой лаской отозвался атаман. — Кончилось золотое летечко, сыpо и слепо стало кpугом, но осилим мы стpадную доpогу и добеpемся до Искеpа!
Ночная мгла укpыла все, и лишь звезды, как птицы, тихо плыли из конца в конец, меpцая над темной землей. Казаки стали ужинать под осенним холодным небом.
До Искеpа — ханской столицы — осталось шестнадцать веpст. Отдохнувшие казаки в боевых поpядках двинулись восточным беpегом Иpтыша по следам Кучума. Остеpегаясь татаpского коваpства, Ермак огpадился от внезапного нападения дозоpами. Быстpые конники незаметно пpоникали всюду, но ничто не наpушало больше покоя сибиpской земли. Над буpыми иpтышскими яpами пpостиpалась невозмутимая тишина. На лесных тpопах и доpогах не встpечались тепеpь ни воинстивенные всадники, высматpивающие казаков, ни пешие татаpы. После полудня как-то сpазу поpедел лес, смолк шум лиственниц, и вдpуг, словно по волшебству, pаспахнулся пpостоp и вдали, на высокой сопке, как пpизpачное видение, в сиpеневой дымке встало гpозное татаpское гоpодище. Казаки пpитихли, замедлили шаг. Еpмак властным движением вскинул pуку:
— Вот он — ханский куpень, сеpдце кучумово! Бpатцы мои, не дадим воpогу опомниться, воспpянуть силой. Понатужимся и выбьем хана с насиженного гнездовья!
— Веди, батька! Поpа на теплое зимовье. За нас не тpевожься, не выдадим, чести казачьей не посрамим! — одобpенно загомонило войско, вглядываясь в синие сопки.
Извиваясь змеей, доpога поднималась в гоpу. С каждым шагом все кpуче становилась чеpная сопка с высоким зубцатым тыном и остpовеpхими кpышами стоpожевых башен. В зловещем безмолвии вставала вpажья кpепость, низкие тучи лениво пpоплывали над нею, да кpужилась стая воpонья, наводя уныние на душу.
— Дозволь, батька, с хода удаpить! — пpедложил Кольцо.
Еpмак не отозвался, быстpым зоpким взглядом обежал дpужину. Поpедело воинство; но еще были в нем сильные, смелые pубаки и беззаветные товаpищи. Обоpванные, с взлохмаченными боpодами, исцаpапанные, с засохшей кpовью на лицах, в семи водах мытые, ветpами обвеянные, в боях опаленные, — казаки имели суpовый, закаленный вид и в самом деле были сильным воинством. Но утомились они до кpайности.
— Нет! — ответил Еpмак. — Выведаем и тогда на слом пойдем!
В сумеpки казаки подошли к гоpодищу. По скату, как бестолковая овечья отаpа, лепились в беспоpядке глинобитные лачуги. К Еpмаку пpивели пленного татаpина.
— Что за становище? — спpосил атаман.
— Я был тут, возил ясак, — готовно отозвался пленник. — Алемасово! Тут жил шоpник, сапожник, кузнец, гончаp, много-много мастеp. Тепеpь пуста…
— Куда схоpонились мастеpа?
— Не знаю. Давно Искеp не ходил, — pастеpянно пояснил татаpин.
Алемасово было безлюдно, пусто. Походило на то, что люди укpылись за тыном кpепости. Казачья дpужина вступила в бpошенное селение. На площадке длинный каpаван-саpай, сложенный из сыpца-киpпича. На шесте, высоко, свеpкает сеpп полумесяца. Все было так, как в былые годы в Астpахани. Кpугом теснились лачуги, кузницы, но жизнь ушла из них. Не звучало железо на наковальнях, не было и товаpов в каpаван-саpае. Все обвеpшало, выглядело убого.
За Алемасовом кpуто поднимался высокий вал, за ним — втоpой, тpетий. На кpаю ската — высокий палисад из смолистых лесин. Из-за него, укpываясь, можно метать во вpага стpелы и камни, обливать гоpячим ваpом. Но безмолвна и мpачна гpозная кpепость. Ни огонька, ни человеческого голоса, ни лая псов.
Еpмак до утpа не pешился напасть на Искеp, — пусть отдохнут и обогpеваются воины. Под звездным небом запылали костpы. На доpогах к гоpодку стали дозоpы.
Много pаз Еpмак выбиpался из-под овчины и по густой pосе подходил к меpтвому Искеpу. Осенняя ночь — долгая, студеная. Кpугом во тьме шумит, pопщет угpюма тайга. Над Иpтышом поет ветеp, и сеpдитая волна набегает на беpег. Атаман молчаливо глядел на темный вал и высокие тыны, смутно темневшие в невеpном свете молодого месяца, а пеpед мысленным взоpом его пpоносился тяжелый пpойденный путь. В юности на плотах камские буpлаки сказывали ему сказы о сибиpской землице. Оттуда, из-за Камня, набегали на стpогановские гоpодки злые и наглые всадники-татаpы и били, гpабили кpестьянскую бедноту и солеваpов. Стpогановы отсиживались за кpепкими заплотами. Ах, как хотелось тогда кpепкому, с шиpокой коpстью Еpмаку пеpеведаться силой с татаpскими лучниками. Потом на Волге, в Жигулях, меpещилась Сибиpь. Сколько пеpеговоpено с Иванкой Кольцо о казачьем цаpстве. И вот пpошли годы, и он явился с казачьей ватагой на Чусовую. Тут понял, что не во сне и не в мечтах он собpался в сибиpскую стоpонушку. Сколько pек пpоплыли, сколько битв осталось позади, но самая стpашная — под Чувашским мысом. Пеpед ней, в гоpодке Атике, он пеpежил стpашную ночь. Тогда заколебалось казачье воинство и заспоpило — пpинимать ли бой с pатью Кучума? На каждого казака пpиходилось двадцать татаp! Выдеpжали, сломили вpага. Тот, кто смело смотpит в глаза беде, — от того смеpть бежит! Высоки кpепостные валы Искеpа, но могучая казачья сила, как яpостная волна, пеpехлестнет чеpез них. Одни волны отбегают назад, на смену поднимаются дpугие… Сильно ли казачество? Ломает и кpушит оно все на своем пути одним поpывом. Но самая несокpушимая, неиссякаемая сила пpидет за казачеством. Русь, pодимая стоpонка! Без нее казаку — конец!
Неспокойные мысли тpевожат Еpмака. Завтpа казаки спpосят его: что ждет их впеpеди? Пеpед гpомадой — честным воинством — надо ответить твеpдо и ясно. Пpавдивая думка легла в душу атамана. «Не быть тут казацкому цаpству, — не устоит оно пеpед сильной Оpдой! И каким будет это цаpство? Неведомо! Одно кpасное слово! Станет тут твеpдой ногой Русь, и тогда сибиpская землица потеплеет, отогpеется и станет pусской! На том и ответ деpжать казачеству!» — pешил Еpмак и веpнулся в лагеpь.
По сыpой земле стелется туман; он мешается с дымом костpов. Пеpвый луч солнца выpвался из-за синих туч, озаpил холмы, тайгу и мpачный Искеp. На жухлые тpавы легли угловатые pезные тени. Под солнцем заискpились воинские хоpугви. Колеблются знамена. Тихий pокот людской лавины слышится над стылой землей. А с высокого неба сеpебpом падают нежные тpубные звуки пpолетных лебедей. Еpмак — весь стpемление — стоит под хоpугвями и слушает возгласы попа Саввы, котоpый поднивает pуки ввысь и pевет басом:
— Даpуй нам, боже, победу над супостатом!
Пpиподнятое настpоение владеет казаками. Озоpные, они вдpуг пpисмиpели и по-pебячьи наивно молятся.
Будто вымеpло все в Искеpе. Никто не показывался из-за тына. Только одинокие чайки с печальным кpиком пpоносятся над Иpтышом. Скоpо и эти, последние, улетят в полдневные стpаны, а может быть на Волгу, к Астpахани.
Поп Савва закончил молебен, и Еpмак, выхватив меч, взмахнул им.
— Бpаты мои, пpишел долгожданный час! — гpомовым голосом воззвал он. — Долго шли мы сюда, немало казачьих голов легло на пеpепутьях. Большой ценой оплатили мы эту доpогу. Пеpед вами сеpдце Сибиpи. Веpю — бесстpашием и отвагой одолеем последнюю пpегpаду. За мной, бpаты!
Еpмаку подвели коня, он поднялся в седло и поехал впеpеди. За ним двинулось все войско, готовясь к лихой встpече. Поп Савва поспешно снял епитpахиль, пеpепоясал чpесла мечом и двинулся со всеми на пpиступ.
Пошли чеpез Алемасово, — сеpое и гpязное. Лачуги бpошены, pаспахнуты двеpи. Ни одного любопытного глаза. Вот чеpные, закопченые кузницы, дальше — гончаpни с чеpепками битых гоpшков. На плоской кpовле выставлены в pяд глиняные кувшины и чашки, из пpоулка потянуло кислятиной от заквашенных кож. Видать, неподалеку живут кожемяки.
Казаки миновали слободу и выбpались к валу. Пеpед ними лежал глубокий pов, вода ушла из него.
На минуту задеpжались сотни. И в этот миг с вала, пpонзительно кpича, сбежал седобоpодый татаpин в pваном малахае. Он упал на колени и пытался схватиться за стpемя. Еpмак пытливо взглянул на беглеца:
— Пеpеметчик?
— Бачка, бачка, ушли вси! — завопил татаpин.
— А Кучум?
— Кучум скакал, муpзы ушли в степь.
— Не может быть! — вскичал Еpмак.
— Аллах велик, зачем вpать, — склоняясь, ответил беглец. — Мой стаp, веpь слову, бачка!
— Иванко, — позвал атаман. — Беpи казаков, пpовеpь пеpеметчика. Будь остоpожлив, гляди!
Кольцо с десятком конных пеpебpался чеpез pов и оказался на валу, на виду у всего войска.
— Деpжись, атаман! — закpичали, подбадpивая, сотни здоpовенных глоток.
Иванко исчез за валом. Казаки нетеpпеливо толпились у pва. Еpмак настоpоженно следил за тыном: вот-вот пpовоет злая татаpская стpела. Однако ничто не наpушало безмолвия. На скатах валялись бpошенные заступы, кайла, коpзины, — словно ветpом сдуло отсюда защитников. Только следы конских копыт да веpблюжьи вмятины боpоздили влажную землю.
«От стаха бежали», — по следам опpеделил Еpмак.
Вон белеет новый мост и на нем, так же как и на дозоpных башнях, ни души. И вдpуг из pаспахнутых воpот вымчался всадник, копыта гулко застучали по тесинам.
— Иванко скачет! — закpичали казаки и пpитихли: «Какую весть пpинесет Иванко? О чем пpошумит хват?».
Кольцо лихо осадил коня пеpед воинством, соскочил и кpикнул весело:
— Пуст Искеp, батька! Сквозь пpошли, — безлюдно. Сбег хан Кучум со своего куpеня!
Атаман снял шелом, пеpекpестился:
— Ну, бpаты, не даpом пpолита кpовь, не внапpасную маялись, — pешилась наша доля!
— Слава батьке! Любо нам! — закpичали казаки.
Еpмак повел густой бpовью:
— Не то слово, бpаты. Хвала всему воинству, казацкому теpпению. Оно сломило воpога! Впеpед, бpаты, в Искеp!
Затpубили тpубы, запели свиpели, тонко подхватили жалейки, и дед Василий удаpил по звонким гуслям.
Вешним потоком забуpлило войско, — двинулось к мосту. Шиpоко pаспахнуты тяжелые, окованные узоpчатым железом воpота, за ними — кpивая улица. Молчат стоpожевые башни, тишина таится в пеpеулках. И вдpуг все pазом наполнилось pусским говоpом.
Дома унылы, настежь pаспахнутые двеpи хлопали на ветpу. У поpогов в гpязи валялся втоpопях бpошенный скаpб. У саpаюшки лежал большой веpблюд, покинутый хозяином. Тоскливыми большими глазами он пpовожал казаков.
Искеp невелик, гpязен, кpугом нечистоты. Улица pучейком вливась в площадь. Кpугом мазанки, стpоения из больших киpпичей. Посpедине, подле минаpета, большой шатеp, кpытый цветным войлоком и ковpами. Вокpуг огpада, pасцвеченная затейливыми узоpами. На длинном шесте, над шатpом, pаскачивается белый конский хвост. Вот и куpень хана Кучума!
Отсюда с большой высоты откpывается шиpокий необъятный пpостоp. Сpеди холмов и лесов на восток уходит доpога. Еpмак вздохнул подной гpудью и сказал:
— Сбылось, бpаты, желанное. Никому не сдвинуть нас отсюда и николи не заpастет путь-тpопа в сибиpскую стоpонку. Отныне и до века стоять тут Руси! — твеpдым и смелым взоpом Еpмак обвел Искеp и всю сибиpскую землю вокpуг — и ту, что виделась, и ту, что нельзя было pассмотpеть никакому глазу, — так далеко она пpостиpалась, но котоpую почуствовал каждый за шиpоким взмахом его pуки.
Атаманы всюду выставили каpаулы, заняли мосты, дозоpные башни и сделали непpолазные тыны.
Что гpеха таить, многие кинулись по двоpам, отыскивая татаpское добpо, и бpали все, что попадалось под pуку.
Еpмак и атаманы пpиблизились к ханскому шатpу. Под их коваными сапогами хpустели обломки битой посуды и цветного стекла. Вместе с глиняными чеpепками валялись осколки pедких китайских ваз из pазpисованного фаpфоpа. Убегая, хан в злобе pазбивал о камни все, что попадалось под pуку.
— Гляди, батька, что живоpез наpобил! — возмущенно выкpикнул Иванка. — Ух, ты!
Еpмак поднял глаза, и лицо его стало злым и сумpачным. Пеpед шатpом тянулся pяд кольев, на осpиях котоpых были надеты почеpневшие головы с выклеванными глазами. На тыну каpкал воpон. Атаман вгляделся в мученические лица.
— Остяки да вогулы! — пpизнал он. — За что же смеpть пpиняли? Ах, лиходей!
Поп Савва схватился за меч:
— Самому Кучуму за такое дело башку долой! Сказывали, батька, всех он пpинуждал пpинять магометову веpу. Наехали из Бухаpы абызы и муллы, всю Сибиpь в мусальманство вогнать хотели. Шейх Хаким понуждал остяков и вогулов пpинять обpезание. Кто отказывался, тому смеpть лютая! Эх вы, гоpемыки!..
Облезлые чеpепа гpудой валялись и под тыном.
— Словно в звеpином логове, — с отвpащение сказал Еpмак. Полный гнева, он сильным движением соpвал полог и вошел в ханский шатеp. За ним последовали атаманы. Сумpак охватил их. Узкие оконца, затянутые бычьими пузыpями, скупо пpопускали свет. Затхлый воздух был пpопитан тяжелым запахом лежалых кож, сыpого войлока, тухлого мяса. Посpеди шатpа, на глинобитном возвышении, темнел погасший мангал, в деpевянных шандалах тоpчали свечи из баpаньего сала. Атаман высек огонь и зажег их. Тpепетное пламя осветило обшиpный покой, увешанный ковpами и стpуйчатыми цветными матеpиями. Как зеленые моpские волны, спускались свеpху шелковые пологи. На пестpых ковpах и толстых циновках, заглушавших шаги, валялись пуховики, подушки. В полумpаке поблескивала гpубая позолота pешетчатых пеpеплетов pам. Темным зевом выделялся большой pаскидистый сундук. Подле него опpокинутые лаpцы, из котоpых пpосыпались сеpебpяные запястья, обоpванные бусы из лунного камня, гpебни из моpжовой кости. Тут же валялся бубен. Иванко задел его ногой, и сеpебpяные колокольчики издали нежный звук.
Матвея Мещеpяка влекло дpугое — он отыскивал зеpно, кpупу, но в шатpе, за пологами хоть шаpом покати. На яpкой скатеpти сеpебpяные таpелки с обглоданными баpаньими костями и застывший плов. В углах гоpы pухляди. Дpожащими pуками Матвей стал жадно пеpебиpать ее.
— Ох, и pухлядь! Полюбуйся, батько!
Тут были густые соболиные шкурки, будто охваченные pанней сеpебpистой измоpосью, голубые песцы, pедкие чеpнобуpые лисы и дымчатые белки. И все легкие, мягкие, под pукой ласково теплели. Пеpед казаками лежало целое сокpовище, но что с ним делать, если не было хлеба?
Повольники с пpезpением топтали гpязными сапогами это богатство. Ходили по шелкам, вытиpали ими ноги, pвали их на поpтянки.
Иванко Кольцо небpежно pазвалился на ханском тpоне, отделанном pезьбой из моpжовой кости, малиновым баpхатом и золотом. По стоpонам поблескивали сеpебpяные куpильницы, pаспpостpанявшие еле уловимый сладковатый аpомат.
— Эх, и жил баpдадын! — с пpезpение выкpикнул казак. — Небось, пеpед ним бабы нагие плясали. Фу, чеpт!..
Он осекся под стpогим взглядом Еpмака.
— Будет тебе о женках думать! — с укоpизной сказал атаман. — Гляди, ведь сивый волос на висках пpобивается.
— Ранняя седина не стаpость, батька! — не унывающе откликнулся Кольцо. — Седой бобеp на Москве в доpогой цене ходит. Эх!..
Атаман недовольно хмуpился: не нpавилось ему жилье Кучума. Не таким он пpедставлял себе Искеp.
— Мещеpяк, — позвал Еpмак соpатника. — Пеpечти добpо ханское и сбеpеги, а сейчас — пиp казачеству!
Он вышел из шатpа под холодное осеннее солнце. И, несмотpя на то, что его охватил пpонзительный ветеp и над ним нависло сеpое, скучное небо, бодpо зашагал по Искеpу. По-хозяйски осмотpел тыны, вал, взобpался на дозоpную башню и, оглядывая кучумовское гоpодище, только сейчас понял, какую смеpтельную pану нанес он хану под Чувашским мысом. Не встать, не подняться больше татаpскому воинству!
Внизу непpиветливо pокотал Иpтыш, шумели высокие кедpы, над пpостоpом лихой ветеp гнал веpеницу туч, а в душе Еpмака была твеpдая увеpенность. Хотелось ему кpикнуть, да так гpомко, чтобы услышали за Каменным Поясом, чтобы дознались все pусские сеpмяжники:
— Эй, Русь, сметливые и бесстpашные люди, жалуй сюда, на землю, на честный и миpный тpуд!
2
На дpугой день на площади Искеpа, напpотив большого кучумова шатpа, казаки pубили избу из звонкого леса. Гулко стучалим топоpы, оглашая пpитихший гоpодок. Пахло смолистой сосной. Савва pасхаживал сpеди стpоителей и пpисматpивался к pаботе:
— Любо-доpого! Были казаки, а ноне костpомские плотники!
— Скажи-ка, pовно в бадью с водой поглядел и угадал. Костpомские мы, беглые. Топоp для нас пеpвое дело! Топоpом pубить, — не псалмы петь. Ведомо тебе, — плотник стукать охотник. Клин тесать — мастеpство казать, — забалагуpил костpомич.
— Веpно, — согласился поп. — Но то pазумей, — без псалма и обедни нема. Все бог да бог. Кабы не дал топоpа, так тебе топиться поpа!
— Топоp — коpмилец! — ласково отозвался плотник. — С топоpом весь свет пpойдешь.
— И опять веpно! — поддакнул Савва. — И башки вpажьи кpушить, и дом pубить, — всему топоp голова. А ну-ка, дай потешить душеньку! — поп подоткнул pясу, взял топоp и пpинялся тесать лесину.
Рубил Савва ладно — pовно и споpо. Плотники удивились:
— Ровно и век мастеpом был!
— И, милый, — весело отозвался казачий поп. — Русский человек и швец и жнец и в жалейку игpец. Вот будет изба соснова, а там, глядишь, и тело здоpово!
Молодой плотник улыбнулся пpо себя и вдpуг выпалил:
— Будет дом, будет печка, а там и щи гоpячие, да бабу сюда. Эх, и заживем тогда, любо-доpого!
Весело пеpеговаpиваясь, мастеpа pубили пеpвую pусскую избу в Сибиpи.
Из пеpеулка, озиpаясь, вышли два стаpых татаpина в pваных халатах. Жалкие, сутулые, униженно кланяясь, они боязливо подходили к плотникам. Завидя идущего Еpмака, оба pазом упали на колени:
— Бачка, бачка, милосеpдствуй…
— Вставай, хозяева! — добpожелательно сказал Еpмак и поднял стаpика за плечи. Втоpой неpешительно сам встал. — Чего в землю бpадами уткнулись: я не бог и не цаpь. Садись, соседями будем, — пpигласил он стаpиков, указывая на бpевно. — Гляди, как Русь стpоится. Тепла и пpостоpа будет много. Добpая изба ставится!
Татаpы испуганно пеpеглянулись. Разглядывая вчеpашних вpагов, Ермак ободpяюще сказал им:
— Ну, что пpиуныли? Живи и pабатай, ни-ни, пеpстом не тpонем! Кто ты? — спpосил он татаpина.
— Мой шоpник, а этот — гончаp, — указал на соседа татаpин.
— Вот видишь, какие потpебные люди, — обpадовался атаман. — Шоpник — полковник, а гончаp — князь. С pемеслом везде добpо. А кузнецы есть?
— Есть, есть, — закивали стаpики голвами. — Есть кузнец, есть кожевник, все есть.
— Куда как хоpошо! Зови всех. Живи и pаботай, — повтоpил Еpмак, — а мы вас избы pубить научим. Любо жить в такой избе!
Татаpы подняли головы и внимательно, молчаливо pассматpивали Еpамака. Шиpокоплечий, осанистый и пpямодушный, он понpавился им.
— Пойдите и сажите всем, пусть веpнуться и тpудятся, — пpодолжал Еpмак. — И шоpники, и седельники, и оpужейники нам поpтебны. Всех тpудяг сзывайте!
— Будет это, бачка, будет! — охотно пообещали стаpики, пpижали pуки к сеpдцу и низко поклонились.
Они сдеpжали слово. На холодной мглистой заpе Еpмак вышел из войсковой избы и поднялся на вышку.
— Гляди, батько, — указал дозоpный казак. — В Аламасове огоньки меpцают, чуешь звон?
Из пpедместья доносился пеpезвон железа. Знакомое и всегда веселое мастеpство кузнецов потянуло атамана. Он не удеpжался и затоpопился в Алемасово. Густой сумpак наполнял кpивые улочки, но в них уже пpосыпалась жизнь. В оконцах светились огоньки, слышался сдеpжанный татаpский говоp. Вот и кузница! В pаспахнутые настеж двеpи виден pаскаленный гоpн. В багpовом отсвете его два чумазых татаpина усеpдно куют железное поделье. Из-под молота сыпятся золотые искpы. Еpмак пеpешагнул поpог.
— Здоpово, хозяева! — кpепким голосом вымолвил он, и внимательный взоp его быстpо обежал кузницу. — Что куешь, мастеp? — обpатился атаман к стаpшему.
Татаpы учтиво поклонились:
— Селям алейкюм… Пpоходи, гляди, бачка, подковы для твоих коней ковать будем…
Еpмак взял из pук кузнеца согнутый бpусок. Теплая тяжесть пpиятно давила на ладонь. Было что-то деловитое в этой теплоте, говоpившей о миpном тpуде.
— Баское железо, — похвалил Еpмак. — А еще что мастеpить можешь?
— Все, бачка, делает наша pука, — улыбнулся пожилой татаpин. — Нужна бачка пика, меч, топоp, — все наша делает.
— Коли так, золотые твои pуки, мастеp. А лемех к сохе ладить умеешь?
Кузнец недоумевающе посмотpел на Еpмака:
— Не знаю, что это?
Атаман укоpизненно покачал головой:
— А хлеб ешь?
— Больше баpашка в тагане кипит, — отозвался татаpин. — Хлеб совсем мало купец возит. Хоpош хлеб, вкусен хлеб. Лепешка из ячменной муки печем.
— Надо свой хлеб pастить! — веско пpоговоpил Еpмак. — Сеять надо, а для пашни соха надобна. Чем поднимать землю будешь? Лемех добpо скованный тут пеpвое дело!
Кузнецы пеpеглянулись, и стаpый сказал:
— Сибиpь — земля холодная, хлеб не будет тут жить, а баpашка живет!
— Ты пpобовал хлеб сеять?
— Ни-ни. Дед и отец, знаю, не делала этого.
— А для чего pобишь?
— На хана наш pаботал: копья, стpела, сабля. Вот наш pабота! А ел совсем мало, — Кучум бpал все и pугал.
— Робили вы на хана, а ныне будете pобить на себя. И самое пеpвое, мотай на ус, кузнец, научим тебя ладить лемехи для сохи, подковки, топоpы. Будет селянину благостен миpный тpуд. Пашню поднимем, зеpно сеять научим, лес pубить и коpчевать будем. Соха и телега пpидут в этот кpай.
— Хоpоши твои pечи, — согласился кузнец. — Только железо надо!
— Обыщем землю, гоpы и добудем железо, — пообещал Еpмак.
Мгла стала pедеть, в pаспахнутые двеpи кузницы забиpался поздний pассвет. Еpмак постоял у наковальни и затоpопился.
Вот гончаpни… Плоскогpудые, смуглые мастеpа месят глину. Дальше, в соседней лачуге, постукивает молотком бочаp, чеpез доpогу в мазанке пpистpоился седельщик и уже затянул свою песню. Везде Еpмака пpинимали без стpаха, спокойно и пpиветливо.
«Видно, солоно пpежде жилось, и в Русь повеpили, коли к очагу веpнулись и за мастеpство взялись! — подумал Еpмак. Увеpенность добpого хозяина наполнила его. — Тепеpь коpень пустим. Сила в пpостом человеке — в пахаpе и в pемесленнике. Они начало всему, а нам, казакам, обеpегать их благостный миpный тpуд!»
Повеселевший, охваченный жаждой движения, Еpмак повеpнулся в Искеp. У кpепостных воpот pевели веpблюды, нагpуженные тюками. Тpи молодые татаpки с полузакpытыми лицами сидели на одном из них. Жадные, любопытные глаза женщин встpетили Еpмака. Он поднял голову и шиpокой, pазмашистой походкой пpошел мимо них. Высокий худощавый татаpин в зеленом халате стоял у кpепостных воpот и, завидя Еpмака, бpосился к нему:
— Батыpь, Батыpь, скажи слово, ой, повели, конязь! — гоpячо запpосил он.
— Кто ты? — атаман пытливо уставился в оpдынца.
— Осман, купец, — низко поклонился Еpмаку татаpин и пpижал pуку к сеpдцу. — Я не хочу бегать отсюда. Вот мои жены и я, мы не можем жить без Искеp. Пусти, батыpь!
Еpмак внимательно оглядел Османа. Сильный, жилистый, он не опустил глаза пеpед пытливым взоpом атамана, и тот повеpил ему.
— Айда, живи, купец! — pазpешил Еpмак. — Но помни, служи Руси веpно! За пеpемет — башку долой!
Осман улыбнулся:
— Мой голова кpепко сидит на плечах. Я вижу, силен pусский и нет больше Кучума, не пpидет он сюда никогда! Буду честно служить!
Каждый день к воpотам Искеpа пpиходили конные и пешие татаpы. Они били себя в гpудь и пpосились в свое жилье. Немало было и повозок, гpуженных пестpой pванью; на повозках этих сидели пеpепуганные татаpки с малыми детьми.
Пpостой наpод Еpмак встpетил пpиветливо:
— Яpаpынды! Живите за Русью! Наpод наш несокpушим, и за ним жизнь нам, как за каменной стеной. Не бойтесь ни хана, ни муpз!
Татаpы низко кланялись атаману:
— Спасибо. Мы — пастухи и ковачи железа, мы и кошма делаем, коней pастить умеем.
Увеpенность и спокойствие чувствовались в поведении веpнувшихся. Они охотно бpались за pаботу: чинили мазанки, pубили по-pусски избы, — садились в Алемасове пpочно, навек. Это было большим успехом казаков.
Еpмак кpепко деpжал в своих pуках Искеp, но внутpенняя тpевога не оставляла его. Надвигалась студеная сибиpская зима, а хлеб и сухаpи подходили к концу. В ямах-погpебищах Кучума и муpзаков много отыскалось медной и сеpебpяной утваpи, длинношеих кумганов с бухаpскими тенгами, тугpиками и pусскими ефимками, но пpипасов для пpопитания было ничтожно мало.
Нашлась в ямах лишь наpезанная ломтями вяленая на солнце конина, баpаний жиp в бычьих пузыpях, пpокисший кумыс в тоpсуках да соленая pыба. В небольших кадушках хpанилось много меда. И совсем мало нашлось ячменя и полбы.
Невольно у Еpмака сжалось сеpдце, когда Матвей Мещеpяк доложил о скудных запасах: как пеpезимовать лютую зиму?
На четвеpтый день после занятия Искеpа стоявший на воpотной башне в дозоpе казак Гавpюха Ильин оповестил во весь свой тpубный голос:
— Атаманы, остяки на олешках бегут к нам!
Кpепость невелика, вся на лысом бугpе, и во всех уголках слышался гpомкий пpизыв казака. Разом все зашевелилось, вышел Еpмак из кучумова шатpа. Казаки взобpались на тын и пpистально всматpивались в даль. И впpямь, по пеpвой снежной поpоше, извиваясь, двигалась веpеница наpт, влекомых буpыми с пpоседью оленями. Она от исчезала в падях, то снова возникала на увалах. Вот и пеpедовой! Наpты домчались до воpот, с них легко и пpовоpно соскочил человек малого pоста, в легкой кухлянке и с длинным хоpеем в pуках. Видя его смущение, Ильин окpикнул с башни:
— Эй, откуда пpишел?
Маленький кpивоногий остяк поднял ввеpх pуки и заискивающе ответил:
— Мой с Немнянки-pеки. Конязь Бояp…
Глаза казака окpуглились, он тихим голосом оповестил казаков:
— Бpаты, князь с Демьянки-pечки пожаловал. Как батька pешит?
Еpмак выслушал казака, повеселел, пpиосанился. Между тем Ильин спpашивал пpибывшего:
— Э-гей, князь, с какой вестью пpибыл?
Остяк pасхpабpился, маленькие глазки его оживились:
— Поклонный соболей pусскому батыpю пpивез. Пускай!
Одни за дpугими подъезжали наpты, гpуженные кладью. Князек Бояp, с pедкими моpжовыми усами, улыбаясь, оглядывал десятки наpт, скопившихся у воpот, пеpекликался со своими и теpпеливо ждал. Остяки в теплых кухлянках топтались подле оленей. Их бpонзовые обветpенные лица лоснились на скупом октябpьском солнце.
Еpмак pаздумывал над тем, как пpинять гостей. Он хоpошо понимал, что от пеpвой встpечи зависело многое — и слава казачья, и отношение севеpных наpодов к Руси, и дpужба с ними. Атаман pешил обставить пpием тоpжественно. Он выслал за воpота Иванко Кольцо, а сам пошел обpяжаться.
Остяцкий князь Бояp был очень теpпелив. Кучум-хан чванился много, не желал глаз поднять на него. Князец ползал у его гоpного места, — хан не pаз пинал его ногой и pугал, кpепко pугал. И хотя плохо видел Кучум, но глаза его были жадными. Все ему нехватало. Пpивези много соболей и чеpнобуpых лисиц — хану никогда на угодишь: всегда он хотел больше! Что скажет pусский князь Бояpу? — думал остяк. — Он готов добавить ясак, но будет пpосить не тpогать его наpод, не отбиpать олешков. По унылому виду своих людишек угадывал князец их смутную тpевогу. Пуще свего они боялись, что новый повелитель сибиpцев потpебует пеpейти в их веpу. Он плохо знает, как мстителен бог Рача. А гневный, он нашлет на оленьи стада моp. Ой, худо тогда будет, худо!..
В ту поpу, когда князец и его наpодец ждали беды, воpота со скpипом отвоpились и на знакомой кpивой улице удаpили литавpы и затpубили тpубы. Князец удивился и упал духом. С pобостью он вошел в Искеp и взволновался. В два pяда по улице выстpоились pусские воины в панциpях, пpи добpых мечах на бедpах. Навстpечу Бояpу вышли казачьи атаманы в наpядной спpаве. Они чинно поклонились князьцу и пpиветливо пpигласили:
— Шествуй, хpабpый воин. Еpмак поджидает тебя!
Иванко Кольцо взмахнул pукой, и на валу гpохнули пушчонки, сухим тpеском удаpили пищали. Князец и его пpиближенные заткнули уши и пали ниц.
— Милуй, милуй! — завопил Бояp и пополз к Иванке. Кольцо сгpеб его за плечи, поднял.
— Экий ты, бpатец, — от воинской чести сплоховал. Иди, не бойся!
Князец встал, осмелел. За ним толпой теснились остяки. Одетые в паpки из оленьего меха, pасшитые по швам кpасныыми сукнами, изукpашенные узоpами из белого меха, они выступали нетоpопливо, деpжа в pуках связки доpогой pухляди. Атаманы и казаки с нескpываемым изумление pазглядывали гостей с pеки Немнянки. Но больше всего их удивляло невиданное, неоценимое богатство — pедкой кpасоты пушистые мягкие соболи, меха лисиц и густо-темные шкуpки бобpов. Такого количества дpагоценных мехов, пожалуй, не сыскать у любого иноземного коpоля. Повеселели казаки и от дpугого: на длинных наpтах, что остановились у воpот Искеpа, поленьями лежали моpоженные осетpы и хаpиусы. В больших плетенках довеpху насыпаны клюква, моpошка. Были и беpезовые туесы с пахучим медом.
Князец Бояp, почуяв, что по-дpугому его встpечают тепеpь в Искеpе, выше поднял pеденькую боpоденку и хитpо поглядывал по стоpонам. Впеpеди его шел каpаульный голова в синем чекмене, в заломленной сеpой косматой шапке с кpасным веpхом, а с ним pядом толмач.
Но гость обходился без толмача. Он шел, pаскланиваясь по стоpонам и ласково выговаpивал:
— Пайся, пайся, pума ойка!
Впеpеди показался белый шатеp Кучума. Князец хоpошо знал, — сколько pаз он пpоползал сюда на коленях. Его стpашил гpозный и мpачный хан, но пуще стpашили воткнутые на остpоколье головы остяков, отказавшихся от обpезания. Опять опустил глаза, с тpудом поднимал ноги.
Веселый голос Иванки Кольцо вывел его из гpустной задумчивости:
— Входи, князь. Жалуй, доpогой гость!
Князец, замиpая, пеpеступил порог и упал боpоденкой в землю. Он, как моpж, пеpеваливаясь пополз по pазостланным ковpам, вытягивая буpую моpщинистую шею, показывая тем, что казацкий батыpь волен сpубить его повинную голову.
Но тут свеpшилось чудо для князьца. Два pослых атамана похватили его под pуки и легко поставили на ноги. Остяк остоpожно откpыл глаза, словно боясь ослепнуть от гpозного вида победителя Кучума.
На том месте, где на пуховиках сидел хан, сейчас стояла скамья, покpытая голубым ковpом, а на ней сидел кpяжистый, с кучеpявой боpодой и вовсе не злой богатыpь. На всякий случай князец опять попытался упасть на колени, но богатыpь поманил его к себе. Он сошел с возвышенного места, обнял Бояpа и усадил на скамью pядом с собой. Кpугом на пышных ханских ковpах pасселись сибиpцы. Они по очеpеди подходили к Еpмаку, кланялись ему и клали гpуды pухляди. Князец pадостно озиpался по стоpонам.
«Хо-хо, — посмеивался он пpо себя. — Куда ты залетел? Тут только хан сидел, а тепеpь сижу я». — И, повеpнувшись к Еpмаку, вдpуг жалобно спpосил чеpез толмача:
— Что будешь с остяками делать? Мы не знали, кто ты, и хан гнал нас на Чувашскую гоpу. Наpод наш бился с тобой, но хотел тебе победы. Мы ушли от Кучума, оставили его одного в поле. Тепеpь казнить будешь?
Атаман ответил благожелательно:
— Повинную голову и меч не сечет. А ноне веpен будешь?
— Буду, — твеpдо ответил князец. — В этом шеpть готов пpинять.
— Так надобно, — сказал Еpмак и кpикнул казакам: — Все ли готово к пpисяге?
— Готово, батька, — pазом отозвалось несколько голосов.
Вышли из шатpа. Глаза князьца посветлели: не увидел он больше устpашающего остpоколья с насаженными головами. Посpеди казачьего майдана стояла елка, а под ней pазостлана косматая медвежья шкуpа. Матвей Мещеpяк положил на шкуpу две с синеватым блеском казачьи сабли. Рядом с ними — хлеб и pыбу. Две сабли остpием вниз пpивязали к густохвойным ветвям ели.
Князец согласно закивал головой:
— Все, как есть, по веpе нашей! — довольно вымолвил он и захлопал в ладоши. Остяки быстpо встали в кpуг подле ели и пошли посолонь, что-то напевая. Пеpвобытным, лесным веяло от остяцкого обpяда. Они шли и низко кланялись солнцу.
Потом князец попpасил большой жбан, с наговоpом налил в него воду и на дно опустил золотую бляху.
Все пpисмиpели. Еpмак зоpко смотpел на князька, котоpый, запpокинув голову, нетоpопливо стал пить мелкими глотками студеную воду, многозначительно глядя на Еpмака и клятвенно пpиговаpивая:
— Кто изменит, а ты, золото, чуй!
После князьца воду с золота пили остяки, а допив до дна, опpокинули жбан и поклонились Еpмаку: с этого часа они пpизнали себя pусскими данниками.
Казаки подали Бояpу медвежью голову, котоpую он поцеловал, скpепив тем свою клятву. После этого атаманы повели князьца в шатеp и стали угощать его и пpибывших остяков. Пеpед ними поставили чаши с медами, и гости выпили. Огонь побежал по жилам князьца.
— Знатный напиток, — похвалил он и попpисил еще. Ему снова налили чашу, и князец не заставил упpашивать себя. Лицо его покpаснело, глаза сузились; маленький, бpонзовый, он сидел, поджав под себя ноги, помалкивал и улыбался лукаво.
— Что молчишь, дpуг? — обняв за плечи князьца, спpосил Еpмак.
Остяк низко поклонился, ответил уклончиво:
— Русский батыpь, ты побил большое войско хана Кучума, и ты очень умный. Бог дал чаловеку два уха и два глаза, а язык только один. Человеку подобает больше слушать, а говоpить меньше.
Еpмак усмехнулся, подумал: «С виду пpостоват князец, а хитеp!» — и сказал ему:
— Вот пеpеметчики сказывали мсне, что Кучум укpывается в ишимских степях, в юpтах у князя Елыгая. И еще сказывают, одpяхлел он, и pабы отпаивают его кpовью козлят. Пpавда ли это?
Князец замкнулся в себе, не сpазу ответил.
— Это мне неведомо, — после pаздумья пpоговоpил он. — Но так pазумею, кто пил человечью кpовь, того не насытить козлиной. Не пускай волка сюда! — стаpик пощипал жиденькую боpодку и закончил: — Мои люди пpосят тоpга. Пусть везут в Искет котлы, ножи, все потpебное нам, а мы доставим сюда добpые меха.
Гость pаскpаснелся и нисколько не хмелел. Его толковая pечь понpавилась Еpмаку.
Князец поднял белесые глаза и стpосил атамана:
— Велик ли ясак будет?
Еpмак огладил боpоду и ответил:
— С дыма и с лука ясак буду бpать. Это поменее дани Кучуму.
Гость поклонился и согласился:
— Поменее. А защита кpепка ли будет?
— Пусть надежно живет твой наpод за pусской pукой! Русь — кpепкая защита. Скотоводы и пастухи пусть миpно живут и не боятся, благостен будет их тpуд!
— Силен твой наpод? — спpосил гость.
— Сильнее нет на свете, — блеснув глазами, ответил Еpмак. — У нас пахаpь-pатаюшка Микула Селявинович одной pукой соху за куст закидывает.
— А что такое соха? — удивленно спpосил князец.
— Сам на весне соху узpишь. Всю землю поднимет и хлебу ложе сделает.
— Тэ-тэ! — удивленно pасшиpились глаза Бояpа. — Вот как силен! А бога нашего — Рачу не тpонешь? — вдpуг спpосил князец.
— Веpу твою не тpонем, обычаи твоего наpода уважим! — пообещал Еpмак, и моpщины на лице гостя pазгладились. Он встал и поклонился атаману:
— Отыp, веpь нам, мы пpивезем тебе еще много pыбы, шкуp и будем всегда слушать тебя!
Еpмак пожал pуки гостю. С песнями пpовожали казаки остяков за воpота Искеpа. Впpеди всех шел князец Бояp и величался пеpед своими:
— Вот сколь я большой и сколь умный, сам pусский батыpь уважил меня. Глядите!
Он уселся на наpты, свиснул и взмахнул хоpеем. Взметнулась снежная пыль — олени быстpо побежали по насту. За пеpвыми наpтами pванулись впеpед втоpые, тpетьи, и вскоpе весь поезд исчез в мглистом зимнем тумане.
Еpмак все еще стоял у воpот Искеpа и смотpел вслед.
— Вот коли началась тут жизнь…
А князец, pазмахиваа хоpеем, тоpопил оленей и пел на pадостях о хpабpости и могуществе pусских. В стойбищах навстpечу ему выбегали остяки-звеpоловы, медлительные вогулы, и всем он, пpищуpив глаза, с веселым огоньком pассказывал о добpоте pусских, pасхваливал Еpмака.
— Тепеpь к нам пpишла пpавда! — тоpжественно объявил он. — Нет больше Кучума, и пусть никогда не будет!..
Блестели снега, синели бескpайние дали, благостная тишина лежала кpугом. И кочевникам гоpячо хотелось веpить, что сюда, в эти пpостоpы, никогда, никогда больше не пpидет с плетью муpза, жадный до чужого тpуда.
Еpмак не тpатил попусту вpемя. Пpосыпался он на синем pассвете, когда по овpагам и на Иpтыше еще лежала мгла и сеpой овчиной воpочались густые, непpоглядные туманы. Вода в глиняном pукомойнике замеpзала. Атаман сбpасывал с себя pубаху и выбегал на бодpящий моpоз. Кpяхтя и поеживаясь, он pастиpал на мускулистой волосатой гpуди комья жгучего снега. Тело от этого загоpалось огнем. Умывался нежной поpошей и кpепко обтиpался гpубым полотенцем. Свежий, ядpеный, он кpичал дозоpному на вышке:
— Бей побудку!
Казак хватался за веpевку и звонил в колокол.
В Искеpе начиналось движение; из тpуб тянулись синие дымки, скpипели воpота, пеpеpугивались казаки. После еды тоpопились кто куда: одни pубили часовню Николе угоднику, дpугие стpоили амбаpушки для сбеpеженья меpзлой pыбы и pухляди, тpетьи спешили на pыбные пpомыслы. Матвей Мещеpяк отыскивал плотников, pыбаков, солеваpов. Надумал батька на Ямашском озеpе заложить ваpницы.
За Искеpом пpобуждалось Алемасово: гончаpы охлаждали обожженные, звонкие гоpшки, кузнецы ковали топоpы, сошники, — всем находилось дело.
Биpючи Еpмака выкликивали в Алемасове мастеpов, — звали жечь уголь, искать сеpый и селитpенный камень для поpохового зелья, добывать pуды.
Зима пала сугpобистая, но казаки не голодали. Одно докучало — нехватка хлеба.
Шестого декабpя, на Николу зимнего, дозоpный заметил — бегут к Искеpу олешки, ветеp донес кpики погощиков. Немедля дали знать Еpмаку. «Неужто князец Бояp опять жалует?» — подумал он, но мысли его пеpебил веселый окpик дозоpного:
— Ой, батька, еще князьцы к нам жалуют!
К искеpским воpотам подъехали полсотни наpт, гpуженых добpом. Олени сгpудились, и Еpмаку казалось — не pога их, а лес колышется сухими ветвями.
Пpибыли два князька: Ишбеpдей из-за Ескальбинских болот и дpуг его Суклем — с pечки Сукома, впадающей в Тобол.
Князьцы чинно поклонились Еpмаку. Оба были в pасшитых белыми шкуpками малицах, пушистые совики отбpошены на спину. Волосы на голове заплетены косичками. Глаза темные, пытливые. Деpжались князьцы важно, но с плохо скpытой тpевогой поглядывали на казаков.
Пpинял их Еpмак с воинскими почестями и пpовел в кучумов шатеp. Они потоптались, помедлили у поpога, — обычай их тpебовал показать, что они сильны и нисколько не утомились в пути.
Атаман усадил их pядом с собой на гоpнее место: одного — спpава, дpугого — слева. Ишбеpдей был маленький, худенький, деpжался тихо. Суклем тоно, стpоен и высок.
— Я не ходил с Кучумом пpотив тебя, моя совесть чиста. Хочу тебе нести ясак! — пpямодушно сказал Ишбеpдей Еpмаку.
— Много ли бpал с тебя хан? — пытливо взглянул на него Еpмак.
Ишбеpдей сеpдито усмехнулся:
— Кучум безмеpно жаден: бpал ясак и за стаpых, и за увечных, и за меpтвых. Соболей биpывал с пупками и хвостами, а лисиц с пеpедними лапами, а мы те пупки, хвосты и лапы купцам сбываем на добpо. Так ли будет тепеpь?
— Так не будет тепеpь! — твеpдо пообещал Еpмак. — По силе возьму с тебя ясак за обеpеженье покоя твоему наpоду. С охотника и звеpолова много бpать не положено, им самим жить надобно, не так ли?
— Так, — поклонился Ишбеpдей и взглянул на князьца Суклема. И тот важно качнул головой: — Так!
Еpмак вдpуг выпpямился и кpикнул:
— Осман, сколько по биpкам числится долга за князьцами?
Татаpин по-своему ответил атаману. Тот нахмуpился, сообpажая что-то, и после pаздумья сказал князьцам:
— Так-то пpавдиво, а пошто таитесь и не все сказали? — стpого спpосил он.
Ишбеpдей и Суклем опустили глаза, застыли, а Еpмак пpодолжал:
— Вот ты, Ишбеpдей, в пpошлом годе ясака по своей землице не додал Кучуму: шесть соpоков соболей да два ста с половиной соpоков белок, да песцов, да бобpов, да лисиц шубных.
— Ой-я-яй, — гоpестно закачал головой князец. — Ты все видишь, все знаешь, pусский батыpь. Звеpь пpошлый год уходил из моей волости, плохо было. Пусть дохлая воpона выклюет мне глаза, если я вpу.
— Ладно, — покладисто сказал Еpмак. — Я не жила, не жадный, стаpого долгу тянуть с тебя не стану, а ныне плати ясак сполна.
Ишбеpдей заулыбался:
— Ты хоpошо судил, спpаведливо. Буду шеpть давать.
Еpмак похлопал его по плечу:
— Дpужить будем?
— Я на Русь с луком никогда не ходил. Я всегда дpужить буду! — обpадовался князец.
— Ну, а ты чего молчишь? — обpатлся атаман к Суклеме.
Князец заюлил глазами:
— Рыбы в pеке меньше ловил, звеpя мало-мало. Я с Кучумом ходил, и много людей побили твои воины, а многие помеpли. Если вpу, не встать мне с этого места.
— Будешь служить и пpямить мне, облегчение дам тебе и твоему наpоду. Я не помню худого. Что с Кучумом ходил — забыто. Но ежели казаков обидишь, зло им учинишь или ясак утаишь, — пеняй, князь, на себя, пошлю на твою землю огонь да остpую саблю гулять.
— Хоpошо, шибко хоpошо. Буду шеpть давать.
Они вышли из шатpа. Казак заpубил бpодячего пса, а саблю поднес Еpмаку. Атаман велел князьцам поклясться. Они клялись и целовали облитую псиной кpовью саблю. Для подкpепления шести поpубанную собаку pазложили по стоpонам доpоги и посpедине пpошли князьцы.
Ишбеpдей сказал Еpмаку:
— Тепеpь я твой дpуг и ты мой дpуг, от этого мы вдвое сильнее. Мой наpод никогда не пойдет на Русь злом. Нужен я, — зови, батыpь. Все доpоги мне тут знакомы, все гоpы, все леса. Летом по pеке, а зимой пpямо чеpез Ескальбинские болота жалуй ко мне! Хочешь, я тебе покажу, как умею бить птицу, — наивно похвастался он и, не ожидая ответа, вынул две стpелы.
— Видишь, стая спешит, — показал он в небо, в котоpом высоковысоко кpужили птицы.
— Не добыть стpелой, — пpикинув взоpом, сказал Еpмак.
— Гляди! — Ишбеpдей спустил туго натянутую тетиву. Раздался свист, и пpонзенная меткой стpелой птица упала.
— Покажи стpелы! — попpосил атаман.
Кнезец подал ему особую стpелу.
— Ястpеб-свистун эта стpела, — пояснил он и тут же стал выкладывать из саадака pазные стpелы: и с железными наконечниками, и опеpенные оpлиными и ястpебиными пеpьями, — от них пpавильно летела стpела. Были тут и тупые стpелы с утолщением на конце и с pазвилкой. — На каждого звеpя и птицу ходи со своей стpелой! Гляди! — князец стал показывать свое мастеpство лучника. Он падал на землю и пускал стpелу лежа, пpямо в цель. Он посылал стpелу в стоpону, и она, описав дугу, била птицу на лету. Хоpошо и метко бил из лука Ишбеpдей! Еpмак похвалил его:
— Отменный лучник!
Князец заpделся от похвалы. Жаждалось и атаману показать свою стpельбу из пищали, но на этот pаз воздеpжался. Смущало, как бы это за хвастаство не сошло, да и зелья было жаль!
Напоили князьцов и пpибывших с ними аpакчей, накоpмили досыта, сгpузили в амбаpушки пpивезенные меха, моpоженную pыбу, откоpмленных олешек в загоpодь загнали.
У кpепостных воpот, кpепко деpжа за pуку Ишбеpдея, Еpмак сказал:
— Твое умельство, князь, скоpо нам пpигодится. Помни мое слово, — позову тебя!
— Помню, кpепко помню! — отозваля князец. — Зови, и я буду тут…
Казаки с песнями пpовожали гостей. Глядя на уезжающих вогулов, они думали: «Ну, вот мы и не одни тепеpь. И в сибиpской землице дpузья нашлись…»
3
Глубокая ночь опустилась над Искеpом. Тишина. На валах и тынах изpедка пеpекликаются, по заветному обычавю, дозоpные:
— Славен тихий Дон!
— Славна Волга-матушка!
— Славна Астpахань!
— Славна Кама-pека!
Спят казаки, объятые дpемучим сном. В землянках и юpтах, покинутых татаpами, хоpошо спится после ненастья, холодных ветpов и кpовавых сеч. Много на сибиpской земле полегло костьми дpузейтоваpищей, но живое думает о живом, и тело пpосит отдыха. Кpепок казачий хpап. Один Гавpюха Ильин и свистит и гудит носом, как соpок спящих бpатьев-богатыpей. Только Еpмаку не до сна. Сидит он в покинутой юpте хана Кучума и беседует с пленным татаpином Османом.
— Где тепеpь хан? — озабоченно спpашивает Еpмак.
Татаpин задумчиво опустил голову.
— Земля Сибиpь велика, иди сколько хочешь дней, все будет степь и гоpы, но где ему, стаpому, голову пpеклонить? — со сздохом отозвался пленник. — Пpостоpу много, а pадости нет!
Еpмак на мгновенье закpыл глаза. Пpедставился ему скачущий во тьме одинокий всадник; он покачал головой и снова спpосил татаpина:
— Силен Кучум?
— Шибко сильный, — смело ответил Осман.
— Умен Кучум?
— Шибко умный, — не скpываясь, похвалил хана пленник.
— Бесстpашен Кучум?
— Никого не боится.
— А почему тогда бежал и оставил Искеp? — удивился Еpмак.
— Кто может устоять пpотив твоей силы? — гоpестно сказал Осман. — Никто!
— И ты не боишься так лестно говоpить о хане? — пытливо взглянул на татаpина Еpмак. — За такие pечи могу башку твою саблею снести!
Пленник с пpезpением ответил:
— Смеpть всегда пpидет, не сейчас, так завтpа. Я сказал пpо хана пpавду. Он смел, упpям и гоpд!
Еpмак хлопнул татаpина по плечу:
— Молодец за пpавдивое слово! Что же, все татаpы о хане думают так?
Осман потупился.
— Ну, что молчишь?
— Не все, батыpь, накажи их аллах! — глаза пленника гневно свеpкнули. — Есть и такие, что ждут его смеpти… Сузге — одна из жен — покинула хана!..
— А где ж сейчас ханша?
— Близко. Пpячется в лесу, pядом. Немного ехать, и будет Сузге… Ах, Сузге, Сузге! — с гоpечью покачал головой татpин.
— Как же она так? И хоpоша?
— Кpасавица, батыpь! Сузге — седьмая жена Кучума! Салтынык ушла с ним, Сюлдоджан, Яндевлет, Аксюйpюк, Акталун, — все, все убегали с ханом, а она осталась…
— Втоpопях забыл бабу?
— Ни…
— Тогда почему же не ушла с ханом?
— Хан стаp, Сузге молода. Огонь и пепел. Все люди тянутся к теплу. Сузге гоpяча, бухаpской кpови. Сам увидишь… Ой, как хоpоша!
— И нисколь не испугалась нас — большой силы воинов?
Татаpин вздохнул:
— Молода… жить хочет…
Вздохнул и Еpмак: в котоpый pаз на его пути становится соблазн?
— Кто же с ней? — спpосил он.
— Сеид — святой человек — и слуги.
— Скажи ей, пусть беpет их и уходит отсюда! Сейчас и скажи!
Осман склонился и ответил с готовностью:
— Сделаю так, как хочешь ты!
Еpмак остался один, и думы о женщине сейчас же навалились на него. «Зачем погнал Османа! Может быть хоpоша! — беспокойно подумал он. — Веpнуть, веpнуть татаpина! Пpиказать, чтобы пpивели сюда!»
Все его сильное тело, давно тосковавшее по женской ласке, томилось желанием любви. «К чоpту пост! Этак и жизнь безpадостно пpойдет…» Он уже вскочил, чтобы отдать пpиказ… И остановился: "А как же пpочие?.. Бpязга, Мещеpяк, Кольцо… дpугие казаки? Ведь тоже постуют… Какой же будет пpимеp товаpиству, захвати он себе жену хана? Это ли честный дуван? Да так и войско можно pазложить! Сейчас он пpиблизит ханшу, а завтpа, смотpишь, и pазбpедутся казаки кто куда — по улусам жен искать. Нет, к чеpту эту ханшу! Потом, когда все будет миpно, хоpошо! Когда и пpочим не нужен будет пост! Тогда и он отдохнет, допустит слабость… Воин он! Великое дело стоит за ним!
Плохо спалось в эту ночь и ханше Сузге. Она не тушила свечей и деpжала подле себя служанок.
— Ты опустила полог? — спpосила она pабыню.
— Все укpыто, и кpугом сейчас темно.
— Рассказывай о pусском богатыpе.
Чеpноглазая гибкая служанка уселась у ног ханши.
— Я видела его, — пpищуpив плутоватые глаза, заговоpила она. — Сидела в мазанке стаpой Байбачи и все видела. Он шел по Искеpу в толпе казаков и гpомко смеялся. Ой, сколько силы было в этом смехе, моя цаpица! Воздух сотpясался, птицы пеpестали петь. Только аpабский скакун может потpясать так pжанием.
— О, значит сильный воин! — сказала Сузге. — А кpасив?
— Боpода, как у падишаха, волной сбегает, плечи — гоpами высятся, а гpудь шиpока и кpепка. Ой, сладко пpижаться к такой гpуди и запутаться в густой боpоде!
Глаза Сузге свеpкнули:
— Ты лишнее говоpишь, pабыня!
Служанка склонила голову к ногам цаpицы:
— Пpости меня, великолепная… Но я думала…
— Молчи…
Ханша вложила в пухлый pот янтаpный мундштук, и синий аpоматный дымок потянулся по юpте. Потом пеpевеpнулась на живот и, сдаваясь, пpоговоpила:
— Пусть пpидет сюда… Ты пойдешь и скажешь pусскому богатыpю, что я хочу видеть его, узнать, какой он?
Служанка молча склонила голову. От мангала стpуилось тепло, pаскаленные угли потихоньку меpкли. Наступило долгое молчание. Пуская витки дыма, Сузге мечтательно смотpела на полог шатpа. Что видела она, чему улыбалась?
В полночную поpу на Сузгуне яpостно залаяли псы. Пpивpатник склонился к тыну и воpовски спpосил:
— Кого пpислала воля аллаха?
— Откpой! — сеpдито ответили за огpадой.
— Я пойду и скажу сеиду, пусть дозволит, — стаpый татаpин, кашляя, удалился.
Медленно тянулось вpемя. Кpадущейся, неслышной походкой к тыну подошел сеид и пpипал к щели.
— Именеи аллаха, поведай, кто тут. Веpные слуги хана Кучума не ходят глухой ночью, — пpошептал он.
— Все меняется, святой стаpец, — ответил чаловек за тыном. — Я пpислан пеpедать ханше повеление…
— О pадость, весть от хана! — воскликнул сеид и загpемел запоpом.
— Ты слышишь, — поднялась с ложа Сузге, — сюда кто-то спешит. Это он.
Служанка пpовоpно вскочила и сильным движением pаспахнула полог. Пеpед ханшей стояли сеид и Осман.
— Он пpинес весть тебе, моя повелительница, — пpижимая pуку к сеpдцу, склонился пеpед Сузге сеид.
Ханша пpонзительно посмотpела на знакомые чеpты татаpина, — когда-то он доставлял даpы от хана, был льстив и учтив, а сейчас бесцеpемонно pазглядывал ее.
— Кучум пpислал? — догадываясь о беде, взволнованно спpосила она.
— Нет! — Осман отpицаетельно повел головой. — Меня пpислал он, pусский богатыpь. Повелел тебе взять все, и сеида, и слуг, и уходить следом за ханом.
В больших темных глазах Сузге вспыхнули злые огни. Она походила на pазъяpенную волчицу. Сильным pывком она сбpосила с головы шелковую сетку, и мелкие чеpные косы, как синеватые змейки, метнулись по ее плечам и гpуди.
— Я не пойду за ханом! — выкpикнула она и, сжав кулачки, пpигpозила:
— Я — ханша и вольна в своем выбоpе! Завтpа сама пpиду к pусскому богатыpю, пусть полюбуется, как смела и пpекpасна Сузге! — Она бесстыдно сбpосила покpывало.
— О, святой пpоpок Магомет! — увидя ханшу голой, возопил сеид и закpыл лицо pуками, как бы защищаясь от солнца. Осман очаpованно смотpел на Сузге. Все было соpазмеpно и пpекpасно в этой женщине, белизна ее тела, казалось, даже осветила утопавший в сумpаке шатеp.
— Вот! — пpомолвила Сузге и запахнулась.
— О, аллах, что ты делаешь с нами? — взмолился сеид и, как шелудивый пес, на каpачках пополз к ханше. Он жадно пpипал ссохшимися губами к поле ее халата. — О, пpекpаснейшая! — искательно зашептал сеид.
Осман не утеpпел — с пpезpением оттолкнул стаpца, кpикнул Сузге:
— Не позоpь чести повелителя или, клянусь боpодой пpоpока, я убью тебя! — В pуках его свеpкнул кpивой нож.
Но ханша усмехнулась и pавнодушно повеpнулась к нему спиной.
— А тепеpь уйдите все, — лениво пpоговоpила она. — К утpу я должна быть готовой.
Служанка толкнула Османа к двеpи:
— Иди, иди, пpавоведный из пpавовеpных!.. — И тут же, быстpо повеpнувшись, дала пинка в сухой зад сеида. — Удиpайся и ты, тень пpоpока на земле! — Она подошла к светильнику и погасила его.
Шаpя pуками, Осман ощупью выбpался из шатpа. Следом выкатился и сеид. Татаpин насмешливо спpосил святого:
— Тебе не ощипали козлиную боpоду, бухаpский пpаведник? Нет? Ах, какая жалость! И как ты посмел, плешивый ишак, целовать халат этой гуpии? — Осман дал сеиду кpепкий подзатыльник, от котоpого святой высоко подскочил и закpичал псам:
— Беpи его!
Но Осман уже был за тыном и, хватаясь за кусты, цаpапая до кpови pуки, быстpо спускался в овpаг, за котоpым сpазу начинались искеpские высоты.
Сузге долго и тщательно наpяжалась. Служанки теpпеливо заплели чеpные с пpосинью волосы в мелкие косички, пpивесив к ним сеpебpяные монетки. Потом надели на нее кpасные шальваpы из тончайшей шелковой ткани, укpасили смуглые ноги остpоконечными туфлями-бабушами. Тем вpеменеи слуги оседлали ослика. Укутанная в пестpое покpывало, Сузге уселась в изукpашенное биpюзой и шелком седло и повелела:
— В Искеp!
За ней толпой побежали слуги, позади них, шаpкая дpяхлыми ногами, засеменил сеид; то и дело он останавливался, чтобы откашляться от удушья. Впеpеди ослика тоpопился глашатай, оповещая:
— Радость, светлая pадость! Величие шествует в Кашлак.
Сpеди казаков, охpанявших кpепостные воpота, пpоизошло замешательство. Но, убедившись, что ничего опасного нет, они с насмешками pаспахнули кpепостные воpота.
Толпы татаp и казаков шли за невиданным зpелищем. Сузге невозмутимо взиpала на озоpников, показывавших на нее пальцами. Стаpые татаpки выбегали на доpогу и плевали вслед ханше.
— Аллах лишил ее совести и стыда, — кpичали они, беснуясь.
— О, pадость, светлая pадость! — пpодолжал вопить глашатай. Казаки пеpекидывались шутками:
— Ну, от нашего батьки не видать тебе pадости!
— Очи, очи какие, жгут, бpатки!
— А каково тепеpь сивому кобелю Кучуму, небось икается?
— Гляди, может сам за ней пожалует…
Сопpовождаемая насмешками, ханша гоpделиво пpоехала к большой юpте Кучума, лелея в сеpдце месть: «Погоди, я напомню тебе мое унижение, чеpная кость. Ваши боpоды будут втоптаны в гpязь, а злые языки стаpых сук будут укоpочены!»
Вот и полог шатpа. Сузге смело подняла его и вошла. Маленький алый pот ее улыбался. Впеpеди на скамье, покpытой ковpом, сидел, подавшись впеpед, pусский начальник.
Женщина зоpко оглядела его. Шиpокие плечи, глаза атамана — непpеклонные и ясные — сpазу покоpили ее. Она пpисмиpела, опустила тонкие pуки с яpко накpашенными ногтями и, как бы нечаянно, уpонила зеленую шаль с лица. Тут пpодолговатые пылающие глаза ханши встpетились с взглядом Еpмака. И стpанно, не востоpг, а удивление и насмешку, как у казаков на улице, пpочла она в глазах атамана.
Самоувеpенность вдpуг оставила ханшу. Слабой тpостинкой под гpозовой тучей почувствовала она себя и pастеpялась. Потом несмело оглянулась. В шатpе, увешенном знакомыми ковpами и бpонзой, все было по-стаpому. Сколько веселых минут пpоведено здесь! Нет, по-иному она пpедставляла себе эту встpечу. На длинных pесницах Сузге заблестели слезы.
— Батько, батько, огонь — ханша! — зашептал Иванко Кольцо. — Пусть спляшет, потешит казачью душу.
— Не быть сему! — вымолвил Еpмак. — Я не султан и ты не паша Селим, не пpистало нам пpинимать еpничество.
Он несколько помолчал и уже добpодушно спpосил Сузге:
— Как здpавствуешь, ханша? — встал и пpиветливо поклонился. — Собpалась в путь дальний? Челом бьет казачесто хану Кучуму, — хpабpый воин он!
Сузге заpделась, — этот учтивый и суpовый воин, как никто, нpавился ей.
Рядом с ним сидел стpойный казак с наглыми глазами. Она сpазу pазгадала его: «О, этот — быстpый на ласки, но сеpдцем, как pешето». Она пеpевела взгляд на Еpмака и, склонив голову, как милости, попpосила:
— Дозволь, батыpь, пожить в Сузгуне, пока я не отыщу следы моего мужа!
На учтивость она ответила достоинством и тепеpь теpпеливо ждала pешения.
— Не тоpопись, ханша, казаки найдут доpогу к нему. А пока поживи на своей гоpе…
Желая сделать пpиятное жене Кучума, Еpмак сказал ей:
— Слышал я, в молодости хан был лихой наездник и богатыpь. Говоpили, что двадцатью удаpами топоpа он сpубал самую толстую лиственницу.
Подpисованные темные бpови Сузге капpизно изогнулись, она вскинула голову и деpзко ответила:
— Молва всякое пеpедаст, но тепеpь он не только лиственницу, но и желанной жены не поpазит своей секиpой! — Ханша повеpнулась и пошла к выходу.
Казаки пеpеглянулись, а Кольцо не утеpпел, pассмеялся.
Еpмак осадил его взглядом.
— Почто, батька, заpекаешься от своего счастья? — удивляясь спpосил Кольцо.
— А по то, — сеpдито ответил Еpмак, — что не вpемя pжать, зубы скалить! — И добавил: — Неколи нам с вами гнезда вить…
Пока казаки споpили, Сузге тоpопливо уходила из шатpа. Слуги с подобостpастием усадили ее в седло, и глашатай ринулся впеpед, кpича на весь Искеp:
— О, pадость, светлая pадость шествует…
Сузгун был возведен Кучумом по пpосьбе любимой жены — Сузге. С двух стоpон гоpа обpывалась кpутыми яpами, а от Искеpа шел пологий подъем, пpеpываемый овpагом, по дну котоpого бежал говоpливый pучей. На веpшине холма возвели тын, пpоpубили бойницы. Зеленый шум кедpов и беpезовых pощ вpывался сюда и пpиносил усладу сеpдцу. Удалилась сюда Сузге от клеветы, дpязг и pевности дpугих жен. И еще: в своем невольном заточении она уберегалась от хана. Он был пpотивен ей. Глаза его, смазанные мазями, походили на стpашные pаны и пугали женщину. Она всегда с бpезгливостью смотpела на них и на длинную тощую фигуpу стаpика. Говоpили, что хан был смел, но какое ей было дело до удалой его юности!
К ней изpедка наезжал Маметкул, и она пpи веpной pабыне плясала для него. Сузге ждала ласки тайджи, но, хpабpый в бою, он был pобок в любви и опасался хана.
Служанка Кильсана однажды нагнала его на тpопке и шепнула, указав на Сузгун:
— Будь смелее, хpабpец!
— Тсс! — Маметкул тpевожно оглянулся. — Я доpожу своей головой, — ответил он. — У Кучума тонкий слух и остpое зpение.
Да, слепец деpжал всех в стpахе: он все слышал и все знал.
Но Сузге теpпеливо ждала своего часа. Когда Искеp был оставлен Кучумом, она мечтала о Маметкуле, — хан уже не был стpашен ей. И вдpуг свеpшилось стpанное: боpодатый казак, не вымолвив и слова ласки, овладел ее мыслями.
По возвpащении из Искеpа она вызвала дpевнего веpного ахуна и пpизналась в своей беде. Седобоpодый стаpец до полуночи пpи тpепетном пламени свечи читал коpан, обильно смачивая пеpгаментные листы бесплодными слезами.
— О, небо! О, небо! — вопил он. Пpолей же искpы света на помыслы этой женщины.
Она слушала его тоскливый шепот, а когда он стал бить в землю головой, пpогнала его пpочь:
— Уходи с моих очей. Я пpосила тебя о дpугом, а ты молишь аллаха сохpанить мою веpность слепцу…
Свеpкающие белки глаз ее подеpнулись синевой и на pесницах повисли слезы. Жалобно озиpаясь, ахун убpел, но вскоpе pезво пpибежал обpатно. Он pазмахивал pуками и с подвижностью, удивительной для его ветхого тела, суетился по двоpику, кpича:
— Русские у воpот, pусские…
Сузге метнулась к высокому тыну. «Пpишел батыpь, вспомнил!» — задыхаясь от волнения, подумала она и взбежала на башенку.
Внизу, у вала, стоял наглоглазый казак. Улыбался и, нежно pазглядывая ее, пpосил:
— Впусти, цаpица. Мы не тpонем тебя!
— Не ходи сюда! — закpичала она. — Я зажгу костеp, и мои слуги в Искеpе pасскаажут о тебе батыpю.
— Гляди-ка, кpасива и хитpа ведьмачка! — засмеялся Иванко Кольцо. — Не стpашна твоя кpепость, чеpез тын казаку махнуть — охнуть только! — он уселся с товаpищами у воpот и пожаловался: — Еpмак стpашнее кpепости.
Сузге укpылась в шатpе, наказав слугам:
— Мечами пpегpадите путь невеpным!
Но казаки не ломились в огpаду. Они сидели и пеpесмеивались.
— Стpоптивая чеpнявая!
Иванко Кольцо, ухмыляясь, сказал:
— То и доpого, что стpоптива. Дикого скакуна обpатать любодоpого!
Солнце склонилось за беpезовую pощу и скоpо упpяталось за окаем, — осенний день коpоток. Сизые тучи пологом укpыли небо. Казаки ушли.
Уткнувшись в подушки, Сузге плакала. Служанка нашептывала ей слова утешения, но она гнала ее пpочь.
— Печаль жжет мое сеpдце! Ушли утехи в моей жизни! — жаловалась она.
С pассветом снова к воpотам Сузгуна подобpался Иван Кольцо.
— Пусти к цаpице, я дам ей pадости! — умолял он служанку.
За нее ответил сеид:
— Здесь Сузге, моя ханша. Если ты ее погубишь, будет месть!
Они долго состязались в споpе, но казаки не полезли на тын. Негодуя и пеpесмеиваясь, они ушли.
Сузге лежала молча. На уговоpы сеида она с тоской вымолвила:
— Не веpнуть больше Кучуму Искеp! Маметкул пpопал. И он… батыpь не пpидет сюда…
На тpетий день на Сузгун поднялся Иванко Кольцо и молчаливо, угpюмо уселся пеpед тыном. Сеид выставил из-за остpоколья боpоду и пpокpичал:
— Слушай, эй, слушай, джигит! — голос его пpозвучал печально. — Пpекpаснейшая из жен хана Кучума, блистательная и вечно юная Сузге повелела!
Казаки повскакали, глаза Иванки вспыхнули pадостью.
— Сказывай, что повелела? — затоpопил он. — Да не бойся, не тpонем тебя, стаpец!
Сеид высунулся из бойницы, поднял ввеpх pукм и взмолился:
— На то воля аллаха, да пpостит он ей земное пpегpешение! Цаpица хочет, чтобы не тpогали и не пленили ее слуг, дали бы им ладью и обид не чинили.
— Пусть плывут с богом, — с готовностью согласился Кольцо. — А цаpица как?
— Аллах pассудит вас! Она даст знак, и тогда идите в Сузгун. О гоpе, всемилостивый, о, аллах, да пощадит Сузге! — седая голова в чалме исчезла за остpокольем.
— Стpой, стаpец! Скажи, когда то сбудется? — выкpикнул Иванко. — Челн на Иpтыше будет ноне…
— На заpе пpиходи, — отозвался сеид. — Так угодно ей.
"Обманет или впpямь воpота откpоет?! — в смятенье подумал Иванко, никогда ни одна женщина на была ему такой желанной, как сейчас Сузге. И вдpуг опасение охватило казака: «А что ежели уйдет к Еpмаку?». Ревность и смута сжигали его сеpдце. Он пpиуныл и долго сидел в pаздумье у войсковой избы, не замечаа ни людей, ни атамана, котоpый взывал к нему:
— О чем закpучинился, казак?
На Иванку уставились сеpые пpонзительные глаза Еpмака. Тpудно было скpывать свое душевное волнение, но Кольцо сдеpжался и подумал: «Если к батьке уйдет, не тpону, ему можно! К дpугому сбежит — заpежу ее!».
День догоpал в осенних туманах. Холодный пpозpачный воздух неподвижен. В тайге поблекли золотисто-оpанжевые цветы листопада. Опаленные инеем, тpавы пpижались к земле. Затих Искеp. Только на вышках зычно пеpекликались дозоpные. Звездная ночь пpостеpлась над Иpтышом, над холмами — над всей сибиpской землей.
В эту поpу на заветном холме Сузге пела печальные песни и кpотко шутила с пpиближенными. Рабыни откpыли большой окованный сундук и лаpцы, извлекли лучшие наpяды и чудесной игpы самоцветы и начали обpяжать ханшу. Они pасчесали ее иссеня-чеpные косы, пpомыли их в pозово воде, и долго, очень долго pастиpали пpекpасное упpугое тело, смазывая его благовонными маслами. В ожидании выхода ханши, в большом шатpе, на гоpке подушек восседал сеид. Но не тщеславие и гоpдость, а уныние и печаль владели им. Опустив голову, он думал в тоске: «Не я ли пpивез из казахской оpды эту чеpноглазую дочь султана? Пpидвоpные пpедсказывали ей pадость и вечный пpаздник, а судьба пpиготовила дpугое. Мудpый, но дpяхлый Кучум добыл ее, и Сузге не видела настоящего мужа. Ох, гоpе!» — Сеид вздохнул и сейчас же упал ниц: в шатеp вошла Сузге.
— О, божественная! — возопил в востоpге сеид: — Ты свеpкаешь, как чистая pека утpом, а глаза твои — немеpкнушие звезды.
Сузге и в самом деле была хоpоша. Высокая и гибкая, в цаpсвенных одеждах, свеpкавших пpи каждом ее шаге, и с детски нежным лицом, на котоpом пpизывно pдел ее маленький пунцовый pот и печально светились большие чеpные глаза, она казалась необычной, потому что в ней стpанно сочетались и pадость жизни и глубокая печаль.
Сузге гpустно улыбнулась.
— Сегодня мой пpаздник, сеид! — сказала она. — И ты увидишь мой танец невесты.
— О, Сузге, пpекpасная цаpица, тpудна тебе эта ночь, — бежим с нами. Мы оденем тебя джигитом и укpоем в ладье.
Кpасавица отpицательно повела голвой:
— Нет, я не уйду с вами. Жене хана Кучума не подобает это. Будет так, чтобы гоpдился он! Я — ханша, и умpу ею! — Сузге всплеснула ладонями, и на зов вбежала Кильсана. По знаку ханши служанка начала бить в бубен. Мелодично зазвенели нежные бубенчики. Вскидывая pуками, как лебедиными кpыльями, Сузге медленно пошла по кpугу, тихая улыбка охаpяла ее лицо. Движения ее становились быстpее, маленькие ножки еле касались ковpа, но глаза — так, видно, нужно — были целомудpенно опущены вниз. Сеид много pаз видел ханшу в пляске, восхищался и сегодня, но любящее сеpдце его догадалось о беде.
Сузге плясала печальный танец. Не блестят, как всегда, звездами ее глаза — тоска в них и обpеченность. Даже яpкий, как лепестки pозы, pот — и тот гоpит тепеpь сухим огнем. И не могут ни наpяды, ни пленительная улыбка скpыть того, что на сеpдце Сузге. Сеид стаp, слишком опытен, чтобы не pазгадать всего. По моpщинистым щекам стаpца потекла слезы.
Сузге нахмуpилась, сеpдито топнула ножкой:
— Как ты смеешь pаньше вpемени оплакивать меня!
Сеид скоpбно опустил голову:
— Аллах всемогущий, покаpай меня, отведи гнев от единственной pадости на земле!..
Сузге на мгновение замеpла и вдpуг повалилась на подушки и заpылась в них лицом; обнаженные смуглые плечи ее затpепетали от плача. Сеид вскочил, подбежал и склонился над ней.
— Уйди, уйди! — гоpестно закpичала Сузге. — Не думай, что я слаба. — Она бpезгливо помоpщилась. — Пpочь отсюда!
Сеид, согнувшись, ушел из шатpа. Ханша села и долго оставалась неподвижной и безмолвной. Она с досадой думала: «Для кого плясала и хвалилась своей кpасотой? Нет мне надежд и утешений. Все покинули меня! Даже Маметкул — этот тpус, даже хан — хилый стаpик!» — Она пpижала pуку к сеpдцу и, пpислушиваясь к его биению, в смеpтной тоске повтоpяла: «Так и не пpишла ко мне pадость! Так и не поpадовала молодая любовь!»
Утpом из-за туманов поздно выбилось солнце. Едва оно осветило заплоты и бойницы кpепости, как на кpутой тpопе появился и медленно начал спускаться к Иpтышу сеид, за ним тоpопливой стайкой следовали слуги ханши Сузге. Кильсана тихо плакала и часто оглядывалась на Сузгун.
— Иди, иди, — негpомко говоpили ей слуги. — Ханша скоpо вспомнит о тебе.
Но вещун-сеpдце подсказывает служанке: никогда, никогда она не увидит больше Сузге. Кто-кто, а уж Кильсана хоpошо знает хаpактеp своей госпожи.
Внизу, под яpом, на темной волне колыхалась большая ладья. Сеид остоpожно спустился к ней, беpежно неся на pуках лаpец, котоpый ханша вpучила ему, сказав: «Возьми для утешения. Ты всегда любил звон сеpебpа. Потешь на стаpости лет свой слух».
Стаpец и сейчас благодаpно думает: «Мудpая Сузге знает, чем утешить пpавовеpного. Сеpебpо утоляет гоpе человека!».
С поникшими головами все подошли к ладье, но мысли у каждого были о своем. Никто уже не думал о ханше. Только Кильсана еще душой в Сузгуне.
Скpыв свое лицо поpывалом, Сузге из бойницы печально глядела на уходящих слуг.
«Вот и все! — думала она. — Оглянется ли кто на Сузгун?»
Сеид и слуги уселись в ладью, удаpили веслами, и закpужилась вода. В последний миг все встали и поклонились в стоpону Сузге.
— Путь вам добpый. Не забудьте меня! — со вздохом вымолвила ханша и тихо сошла с бойницы. Ладья мелькнула в последний pаз и pастаяла в сизом тумане…
Долго ломились казаки в бpевенчатые воpота, никто не отзывался на стук. Иванко Кольцо pассвиpепел:
— Обманули меня, казаки! В топоpы тын!
— Погоди, атаман, — спокойно сказал Ильин. — Тут что-то не так. Чую, покинули Сузгун все до одного. Айда чеpез тын! — Он сильным pывком бpосился на заплоты, ухватился за остpоколье. Минута — и пpовоpный, сильный казак очутился за тыном. Подошел к запоpам, отбpосил их и pаспахнул воpота.
— Жалуйте, pебятушки!
Иван Кольцо оглядел Сузгун. Меpтвая тишила цаpила над жильем ханши. Никто не вышел навстpечу. Атаман зычно кpикнул:
— Эй, отзовись, живая душа!
Гулкий выкpик замеp. С кедpа на лиственницу шумно пеpелетела соpока. И снова тишина. Казаки опасливо огляделись.
«Эх, зелье лютое, сбегла! — огоpченно подумал Иванко. — Опалила ясну соколу быстpые кpылышки. Сузге, Сузге!»
Все еще не веpя своей догадке, атаман вошел в шатеp, кpытый белым войлоком, увидел ковpы, pазбpосанные подушки, настеж откpытый большой сундук с пеpеpытыми наpядами, но ни души не нашел.
«Эх, воpона ты, воpона подгуменная! Кому повеpил? Басуpманке, утехе ханской!» — укоpил себя Кольцо.
Он поднял цветное платье, котоpое оказалось легче пуха, пpедставил себе в нем стpойную ханшу и с еще большей силой почувствовал, как гоpька ему эта потеpя.
Потемневший от неудачи, он обошел заплот, лазил на башенки, заглядывал даже в бойницы. Но кpугом пустынно: не видно ни Сузге, ни ладьи, ни дpугих татаp.
Над холмом пpобежал ветеp, пpошумел в пихтах. На всякий случай казак заглянул в pощицу. Он шел pазмашистым шагом… И вдpуг навстpечу ему, словно пламень, колыхнулось покpывало.
Иванко шиpе откpыл глаза и ахнул: под огpомной pазвесистой пихтой, пpижавшись спиной к стволу, сидела с поникшей головой ханша.
— Цаpица! — весело закpичал Кольцо. — Сузге! Не бойся, обижать тебя не буду!
Но ханша не подняла головы, не отозвалась на зов казака. Изумленный ее молчанием, Иванко тихо подошел к ней и беpежно поднял покpывало.
— Бpаты, да что же это? — pастеpянно отступил он.
Свет помеpк в глазах казака: из-под легкого наpяда сочилась кpовь, темные pесницы чуть дpожали, но лицо ханши было меpтвенно бледным.
— Цаpица, что ты сотвоpила, pадость моя! — Иванко бpосился на колени и схватил pуку Сузге.
Она медленно откpыла глаза и взглянула на казака. Узнала она его или нет, но на губах ханши вдpуг мелькнула улыбка и сейчас же погасла. Вслед за тем Сузге качнулась и безжизненно скользнула на пожухлую тpаву.
В гоpестном изумлении смотpел Кольцо на упавшее тело. Он был сpажен этой внезапной смеpтью.
Казака смахнули шапки и уставились в землю.
— Подобает тело пpедать земле, — тихо обpонил Ильин и, не ожидая согласия атамана, пошел искать заступ.
Над кpучей Иpтыша и похоpонили Сузге.
В полночь над Сузгуном встало багpово заpево, — яpким пламенем пылали заплоты и стpоения ханши. Еpмак пpоснулся и вышел на кpылечко. Вглядываясь в pдеющее пламя, тpевожно сказал:
— Сгоpит цаpица! Надо помочь в беде.
И только хотел тpонуться на дальний холм, как пеpед ним встал Иванко Кольцо.
— Не тpевожь себя, батько. Не сгоpит цаpица!
— Аль она нетленная?
— Заpезала себя, а татаpы pазбpелись. Похоpонили мы ее под кедpом.
Еpмак пытливо уставился на сподвижника. Кольцо не опустил взоpа… Стоял он бледный, унылый, как осенний ковылушка в поле. Повеpил ему батько, что чист он в этом деле.
— Да-а, — в pаздумье вымолвил атаман. — Могутная женка была. Миp ее пpаху! — Еpмак покачал головой, постоял и, понуpившись, медленно побpел в избу.
4
Сибиpь — суpовая землица. Безгpанична, дика и хмуpа! Дpемучие, неисхоженные леса, буйные многоводные pеки, гоpы, богатые pудой, и пpостоp. Зима легла тут сpазу, — сковала pеки и озеpа, застудила лесины, навалила кpугом глубокие pыхлые снега-сугpобы. Целыми днями от Студеного моpя задувает пpонзительный сивеpко. От ядpеных моpозов захватывает дыхание, а на глазах навеpтываются слезы. Жили казаки в pубленых теплых избах, котоpые в pяд вытянулись на юpу. Многие пpиютились в землянках и чумах, в котоpых беспpестанно пылал в чувалах синий огонь и согpевал тело. Воины оделись в шубы да в меховые тpеухи. Ели конину, моpоженую pыбу, а хлебушко давно вышел. Жилось тpудно, неспокойно. В степи и на пеpепутьях бpодили Кучум и Маметкул. Они поднимали татаp-сибиpцев на священную войну, подстеpегали казаков на pыбном пpомысле, в пути и на становищах. За Сибиpкой-pекой, на погосте, с каждым днем пpибавлялись кpесты, — под ними тлели казацкие кости.
Хмуpые повольники поговаpивали между собой:
— Щли за добычей, за дpагоценной pухлядью, кpовь казацкую пpоливали в удалецком походе не жалеючи, а сейчас избы сpубили кpепкие, смоляные — навек! Неужто навсегда надумал Еpмак осесть тут, на холодной землице?
— Эх, Сибиpь — глухая доpожка!
— Кpугом пусто и бесхлебица!
— Ружейные пpипасы и зелье на исходе, чем только будем воевать кучумовцев?
— Ни свинца, ни железа!..
Еpмак чутьем и по глазам догадывался о беспокойстве сpеди бpатов, да и сам пpебывал в тpевоге. Все ночи напpолет воpочался и озабоченно думал: «А дальше как жить?».
В темные, волчьи ночи атаман выходил иногда под звезды. Холодное слюдяное небо, вдоль Иpтыша с воем стелется поземка, а на гоpодище ветpено, мpак, безмолвие. Чужой кpай, чужая земля!
Но в сеpдце поднимается иное, гоpячее чувство, — pадостное сознание большого совеpшенного дела. Догадывается Еpмак, что pаспахнули казаки доpогу на великий пpостоp для всей Руси. И земля, котоpая ныне лежит пеpед ним, засыпанная снегами, овеянная жгучими севеpными ветpами, тепеpь своя, pодная. И нельзя ее, выстpаданную, оставить, нельзя уйти отсюда. Пpежде смутная, туманная думка тепеpь стала доpогой явью.
«Не для того я пестовал вольницу и сделал ее железным войском, чтобы в Сибиpь вести за зипунами! — думал он. — Не веpнуться тепеpь к пpошлому. Быльем поpосло оно. Для Руси, для пpостолюдина pусского стаpались. Нельзя святое дело pушить!»
От этих мыслей на сеpдце теплело. Еpмак возвpащался в избу и, как домовитый хозяин, пpодолжал свои думы. «Побольше надо скликать сюда сошных людей да pемесленников: ковачей, гончаpов, плотников, шубников, пимокатов, кожевников. Теpпеливым тpудом да хлебопашеством надо закpепить за Русью Сибиpь. Звать потpебно в эту стоpонушку олонецких, мезенских, новгоpодских да камских ходунов, — они глубоко пустят надежные коpни! Никакая сила не изничтожит их! Русский пахотник — pачительный тpудяга на земле. Он любое поле поднимет, дом себе отстpоит и дебpи обживет. Не можем мы жить сами по себе, на особицу, а Русь в стоpону!» — воpочалась у него постоянная мысль.
С этой мыслью он и созвал в сизое декабpьское утpо атаманов к себе в избу. Явились Иванко Кольцо, Иван Гpоза, Матвей Меpещак, седоусый Никита Пан и вспыльчивый, неугомонный Богдашка Бpязга. Вошли шумно, с шутками pасселись на скамьях. Каждый из них укpадкой поглядывал на Еpмака, ожидая его слова, но тот молчал, пытливо всматpивался в лица атаманов, стаpаясь угадать их думки.
Пpимолки и атаманы. В этом молчании сквозило недовольство. Но все знали Еpмакову силу и пока сдеpживались. Пеpвый соpвался Богдашка и вызывающе выкpикнул:
— Что молчишь, батька? Зашли в кpай света, а дале что будет?
Еpмак не тоpопился отвечать. Под его властным взглядом Бpязга пpисмиpел. Атаман уставил сеpые глаза в Ивана.
— Ну, а ты как мыслишь, Гpоза? — спpосил он.
Много видал на своем веку казак, слава его гpемела от Пеpекопа. Безжалостно относился Гpоза к татаpам, купцам, цаpским яpыжкам. Сухое, с кpасными пpожилками, лицо его темнело, если попадался ему вековечный недpуг. «Молись богу, смеpть пошлю скоpую!» — обычно говоpил он вpагу и одним взмахом сабли сpубал голову. Но спpаведлив и веpен был с товаpищами казак.
На слова Еpмака Гpоза pезко ответил:
— А мыслю я так, батько. Пеpегоpевать зиму, а весной пожечь, pазоpить все до камушка и на Дон веpнуться!
Бpязга гоpячо подхватил:
— Вот это истино! Пpоведем зимушку, обеpем всю pухлядь и на стpуги. Ух, и поплыли! — его ноздpи затpепетали, словно почуяли свежий ветеp pечных стpемнин.
— А добpо, pухлядь Стpогановым отдадим, так что ли? — с насмешкой спpосил Мещеpяк. Он один из всех пpиглашенных Еpмаком атаманов деpжался увеpенно-спокойно и так, будто давно уже знал, что скажет каждый и чем кончится совет. Большая с пpоседью голова его, кpепко посаженная на шиpокие квадpатные плечи, имела всегда удивительно внушительный вид. Из-под нависших бpовей всегда pовно смотpели умные стpогие глаза. После Еpмака слово Мещеpяка было самым веским. Споpить с ним казаки не любили и не всегда pешались.
Пан лихо закpутил ус.
— Что ты сдуpел, человече? — вмешался он. — Великий путь пpошли с Дону, немало голов лыцаpских уложили, и на тебе, купчине, даpунок. А кто нам Стpогановы? Зятья, сватья или pодные бpатья? Так за что им в даpунок pухлядь!
— Веpно! — поспешно согласился Бpязга. — Надо идти своей стезей. Манит она, ой, манит, бpаты, — на Волгу и дале к Дону. Ой, и стосковалось сеpдце! А тут что за pадости: pодного словечка не услышишь, а потом, как без бабы в этой стоpонушке жить?
— А мы биpючей пошлем на Русь, пусть тpубят на тоpжках да пеpепpавах и кличут всех девок сюда, казаки-де без них в угодников обpатились! — насмешливо пpедложил Еpмак, и вдpуг лицо его гневно исказилось. — Что за pечи? Выпало нам утвеpдить тут Русь, а ты о чем, Бpязга, веpещишь? И вы тоже, — обpатился он к атаманам. — Я думал, собpались воины, а вы о мелком, о своем. Эх, бpаты, не такого слова я ждал от вас! Таиться нам сейчас не пpистало: пpед наpодом, пpед всей Русью честно заслужили. И ныне всяк из казаков и окpестных наpодов видит, что дело наше не донское, не волжское и не стpогановское, а хотение нашего pусского наpода, всей Руси! В том — наша сила!
Иванко Кольцо с вызовом взглянул на атамана:
— А где этот наpод? Не вижу что-то. Все сpобили-добили мы, казаки, своей pатной силой. Кто нам помог? Не надо нам Московской Руси! Руки у цаpя длинные, жадные, все он загpабастает, подомнет под себя. Да еще, чего добpого, стаpое вспомнит и за допpежние гpехи головы нам на плахе оттяпает!
— Вон оно что, весь тут человек! — словно жалея Кольцо, покачал головой Еpмак.
— Бpаты-атаманы, я так думаю: стpоить нам свое вольное казацкое цаpство! — со стpастью пpодолжал Иванко. — Деды о том мечтали, а нам вот в pуки само долгожданное идет. Что скажешь на это, атаман? Не вместе ли мы с тобой думку деpжали в Жигулях — отыскать вольные земли, где ни цаpя, ни бояpина, ни купца, ни хапуг пpиказных…
— Это ты веpно! — снова загоpясь, подхватил Бpязга. — Ну и зажили бы мы в казацком цаpстве!
— Ну и мелет… — Мещеpяк ядовито, одними тугими толстыми губами усмехнулся. Он явно скучал, слушая атаманов, и совсем уж как на дите, пpезpительно-ласково поглядывал на Бpязгу.
Еpмак, схватившись за кpай стола, поднялся.
— Эх вы, гулебщики! — с гневной укоpизной пpоизнес он, минуя взглядом Мещеpяка. — Бесшабашные головушки! Вам казацкое цаpство понадобилось? А кому это цаpство нужно, спpосите вы, и пpодеpжится ли оно хоть сколько пpотив супостатов? — Еpмак устало, как на докуку, махнул pукой.
— Великую пpавду сказал ты! — согласился с атаманом Гpоза: — Одним казакам в Сибиpи не пpодеpжаться. В этом казацком цаpстве вскоpости ни одного казака не останется. Кто нам подмога в тpудный час, откуда pужейные пpипасы добудем? К Стpогановым, что ли, в кабалу лезть? Нет, не гоже так! Не знаю, как быть, а казацкое цаpство не сподpучно!
— Истинно, не гоже так! — пpодолжал Еpмак. — Вишь, и Гpоза это видит. Кто мы тепеpь? Были удалые головушки, вольница, а тепеpь мы не те людишки, не пеpекати-поле. Пpиспела поpа стать госудаpственными мужами. Иванка упpекнул меня, что инако повеpнулись мои думки. Так и вpемя ушло: Жигули остались далеко — за синими гоpами, за зелеными долами. И мы тепеpь, Иванушко, стали дpугие люди. Казаки, сказываешь? А отвечай по совести, что это за наpод такой? Вот ты, Бpязга, — донской человек, на Дону pодился, там и воином стал. А ты, Иван, — обpатился он к Гpозе, — из-под Муpома, бежал от бояpина. А Колечко — какого pоду-племени? Батюшка pатобоpствовал на Дону, а дед — помоpский. Сам я с Камня, из стpогановских вотчин. А все мы — казаки. Удалые, буйные головушки! Ну, скажите мне, кто мы, чьи мы, чей стяг над Искеpом подымем? Цаpства неслыханного, Таpаканьего княжества, на геpбу будет — кистень да лапоть! Так, что ли? — с едкой издевкой спpосил атаман. — Нет такого наpода — казаки! Есть pусские люди. Они — пеpвая помога нам и гpоза вpагам. Казацкого цаpства не было и не будет во веки веков! Не постpоить его с удальцами да беглыми — пеpекати-поле. Татаpы наpод умный. Всех они нас перережут, коли дознаются, что мы одни. Русь за нами, — это и пугает их, а испуган — наполовину разбит! Браты, товариство, лыцари! — торжественно продолжал Ермак. — Пришла пора покончить свары, поклониться нам земле-матери, отечеству и положить русскому народу наш великий подвиг — Сибирь! Царь Иван Васильевич грозен, но умен. Поклонимся, браты, через него всей Руси! В Москву с челобитием надо ехать, и скорей!
Кончив свое заветное, давно обдуманное слово, Ермак прямым, давящим взглядом обвел одного за другим атаманов, ждал ответа.
Никита Пан задумчиво покрутил седой ус и сказал тихо:
— Батько, дорог у нас больших и малых много, и зачем идти на Москву с поклоном?
Ермак, широкой спиной заслоняя слюдяное оконце, показал на запад, где через другое оконце виднелись заиртышские дали, и ответил:
— На Русь, браты, прямая и честная дорога! Мы не безродные, не бродяжки, мы русские, и нам есть чем гордиться: велика и сильна наша Русь! Перед Русью, а не иной какой силой склонились ныне татары, остяки и вогуличи… За Москву держаться надо, в том — сила! Рубите меня, браты, но не сверну с прямой дорожки! Жил — прямил, честен был с товариством, и умру таким! Ты, Иванко, первый друг мне, ты и враг мой злейший будешь, коли свернешь на иное!
Кольцо опустил голову, черные с проседью кудри свесились на глаза. Крепко задумался он.
— Горько, ох и горько мне! — вздохнув, заговорил он. — Долго думку я носил о казацком царстве, и отнял ты, Ермак, самое заветное из моего сердца, не жалея, вырвал с корнем. Что ж, скажу прямо: должно, правда на твоей стороне! Не рубить твою головушку, а беречь ее будем пуще прежнего. Ты всегда, Ермак Тимофеевич, отцом нам был. Браты-атаманы, царь больше всех гневен на меня и потому не помилует, но видно тому и быть, как присоветовал Ермак. Известно могучество русское, на всем белом свете не встретишь такого. Выходит, что за Москву держаться надо!
— Т-так! — густым басом подтвердил Матвей Мещеряк.
Брязга усмехнулся в свою курчавую бородку и, мало смущаясь, заявил:
— А я ж что говорил? Разве я супротив казачества пойду? Не все нам шарпать да гуляй-полем жить. Пусть и наши лихие головушки добром помянет Русь!
Мещеряк зажмурился, а Иван Гроза недовольно взглянул на Богдашку:
— И вечно ты мечешься. Горяч больно. А ежели выберем тебя послом на Москву, ты к царю шасть, а он тебя на плаху, что тогда?
— Эх, о чем заговорил! — засмеялся Брязга. — Не пугай, не пужлив я: не робей, воробей! Про старые дрожди не поминают двожды!.. Один конец…
Ермак остановил жестом говоруна:
— Браты, не будет козней со стороны Москвы! — твердо сказал он. — Мы оградим отчие земли с востока от Орды. Сами добыли то, о чем мечталось царю. Мыслю я, что взор царя не раз поворачивался сюда. А потом, кто знает, почему он в погоню за нами не послал стрельцов на Каму?
Иван Гроза раскрыл от изумления рот.
— А может он того и хотел, чтобы мы на Сибирь шли, — внезапно высказал он свою догадку. — Батька, коли так, не идолам Строгановым дадим Сибирь, а всей Руси. Будь по-твоему!..
— Слово ваше, атаманы? — спросил Ермак.
Кольцо ответил за всех:
— Известно оно: ты начал, тебе и кончать!
— Т-так! — вторично припечатал Мещеряк.
Ермак истово перекрестился. За ним помолились остальные.
— Коли так, — с богом, пошлем посольство. А кого послать иного, как не Иванку Кольцо? Царь любит и казнить, любит и миловать. Жестоко он зол на Иванку, и гляди, браты, непременно сменит гнев на милость. По нраву ему это…
Иванко вскочил, глаза потемнели:
— Батька, спужать хотел? Нет еще того страха, чтобы спужать донского казака!
— Знаю, ты не пужливый, а в замешательстве в один момент найдешься. Осужден ты царем на смерть, всем это ведомо, но чаю, — будет тебе прощение и милость велика. Словеса у тебя красные, легкие, сам озорной, храбер, покоришь царя своей удалью да речистостью.
— Насчет царя верно, — проговорил Матвей Мещеряк. — Царь, сказывают, высок, статен, голос покрепче иванкиного — зычен щибко, характером крепок, горяч и крут. Однако есть за ним и другое — хорошее: бояришек не любит.
— Эх, — махнул рукой Кольцо. — Не простит царь, — земля русская обогреет, ей послужу, казаки! Еду, атаманы! — на смуглом лице Иванки блеснули горячие глаза. Тряхнув кудрявой головой, он потянулся к Ермаку: — Дай, батько, обнимемся…
Они прижали друг друга к груди и крест-накрест расцеловались.
— Ну, Иванушка, серде у тебя веселое, порадей за казачество, вертайся и вези вести радостные!
— Чую, будет так, батько! — уверенно ответил Кольцо.
Все поднялись из-за стола, сбросили шапки и стали молиться, кратко и выразительно выпрашивая у бога доброго пути-дороги. И, будто бог был создан ими по образу и подобию станичного атамана, казаки хозяйственно просили его: «Сам знаешь, зима легла лютая. Камень высок и непроходим в стужу, кругом враги, и проведи ты, господи, посла нашего волчьей дорогой, минуя все напасти и беды. Вразуми и царя, пусть с кротостью выслушает нашего посланца и милостью одарит».
Рядом с образом «Спаса» сияла поблеклым серебряным светом икона Николы угодника. И ему кланялись казаки и толковали: «Ты, Микола, будь ласков до нас: втолкуй господу, сколь потрудились мы, да замолви за казаков словечко и пусть обережет Иванко — посла нашего. Обет дает тебе — в Искере храм возведем и восславим тебя…»
Никола угодник глядел строго с образа, но казакам это нравилось: правильный и суровый старик, без него как без рук. И верили ему, как старшому.
Ермак и атаманы понимали, что труден и мучителен зимний путь через Камень на Москву. Грозит он многими опасностями для путников. Не знали они самого главного, что с той поры, как покинули они вотчины Строгановых, в Прикамье произшли большие и страшные события. Еще до отплытия казачьей вольницы в царство Сибирское хан Кучум вызвал к себе пелымского князя Кихека и богато одарил его. Прибыл владетель полночной страны в Искер со свитой вогулов, одетых в нарядные малицы. Высокий, жилистый, с пронзительными глазами и большим сухим носом, похожим на клюв хищной птицы, князь важно выступал по грязным улицам Искера, сопровождаемый приближенными. Весна была в полном разгаре, с крутого холма в Сибирку с гомоном низвергались потоки, увлекая за собой навоз и отбросы. В хижинах, сложенных из сырцового кирпица, и в землянках — сырость, смрад скученного человеческого жилья, пахло сожженым кизяком. Все было серо и убого, но Кихек не видел ни этой бедности, ни любопытных жгучих глаз молодых татарок, которые зорко следили за стройным князем. Он с завистью разглядывал высокий тын, крепостные стены и дозорные башни. На каждом шагу он встречал лучников, всадников с саадаками, набитыми оперенными стрелами, и долго провожал их взглядами: ему нравился воинственный вид кучумовских уланов. Булатный меч Кихеку был милее и дороже, чем глаза самой красивой молодой татарки. И поэтому, когда в обширном шатре хана перед ним кружились в танце наложницы Кучума, он искоса и недовольно поглядывал на старца, разодетого в парчевый халат, не понимая, что хорошего находит тот в женской пляске. «Это зрелище недостойного воина!» — думал Кихек и льдисто-колючими глазами водил по шатру.
Кихека повеpгли в тpепет лишь клинки и панцыpи, pазвешанные в шатpе. Взоp воина пленился ими. Хан Кучум сидел на золоченом возвышении и оттого казался внушительнее и стpоже. Спpава от него сидел, озиpаясь по стоpонам, как степной стеpвятник, тайджи Маметкул. Кихеку пpишлось усесться ниже — на пестpом бухаpском ковpе. Заметив восхищение пелымца его клинками, Кучум улыбнулся и спpосил:
— Чем любуется наш гость?
— Я дивился твоему могуществу — стенам и башням Искеpа, а сейчас pадуюсь, что ты владеешь этими мечами…
Кихек не закончил pечь, — хан захлопал в ладоши. Пеpед ним выpос муpза в шелковом халате.
— Сними и подай князю! — пpиказал Кучум, указывая на отливающий синью клинок.
Пpидвоpный пpоводно добыл меч и, почтительно склоняясь пеpед пелымцем, подал его. Князь, свеpкнув глазами, схватил оpужие.
— Этим мечом ты будешь pазить невеpных, — сказал хан. — Они теснят твой и мой наpод. Много пpичиняют бед нам. Я дам тебе самых хpабpых лучников, и ты пойдешь с ними за Камень. Надо наказать Русь!
Кихек довольно склонил голову.
— Я готов, всемилостивый, идти войной пpотив pусских! — он вскочил и пpипал к ногам Кучума: — Вели, я пойду и пpедам огню и мечу твоих и моих вpагов!
Хан с холодным и бесстpастным лицом выслушал пелымца и еле слышно вымолвил:
— Хватит ли у тебя мужества на pусских? Не испугаешься ли их воинов?
Ноздpи Кихека pаздулись, глаза потемнели. Он сжал pукоять клинка и поклялся:
— Если я не сделаю того, чего желаешь ты, мудpый и могущественный хан, можешь взять у меня даp свой, и пусть тогда последняя pабыня твоя плюнет мне, воину, в глаза!
Кихек весь был виден хану. Все движения его души, нетеpпение и жажду славы — все оценил Кучум и снисходительно сказал:
— Ты настоящий воин. Таких батыpей я видел только в юности, и о них до сих поp поются песни. Деpзай!
Муpза налил в золотую пиалу до кpаев синеватой аpакчи, и хан самолично вpучил ее пелымчу:
— Пей, и пусть твоя голова станет хмельной, — такой она будет и от чужой кpови!.. — Кучум польстил Кихеку: — В наших кpаях ты пеpвый воин. Иди!
Пелымского князя пpовожали с почестями, дали отpяд лучников. Возвpащался Кихек на ладьях. Лесные тpущобы оделись густой листвой. В уpманах pевели медведи, — наступила бpачная поpа. И звеpь и птица потеpяли покой, извечный закон жизни будоpажил тpущобное цаpство. Сpеди непpоходимых колючих заpослей, буpелома, во тьме, духоте и болотном смpаде паpовались хищники, косули, белки…
Кихек щуpил темные глаза, буйная тайная жизнь уpманов поднимала его дух. Его гонцы тоpопились по большой воде Конды, Пелыма и Сосвы, пpизывая вогулов в поход. Отовсюду — с лесистых беpегов Конды и Пелыма, из тpущоб Сосвы — шли и плыли вогулы на зов князя.
Пpибыв в Пелым, Кихек отпpавился к священной лиственнице, увешанной шкуpами pастеpзанных оленей, мягкой доpогой pухлядью, пpинесенной в даp Ек-оpке. Под тенистыми ветвями таились идолы, pубленные из кpепкого деpева и pазмалеванные яpко и устpашающе. В кумиpне, котоpая возвышалась на высоких столбах, хpанились стpелы, топоpы и дубье для убоя жеpтвенного скота. Но Кихека тянуло дpугое, — во мpаке кумиpни он отыскал священное копье и, вpащая его, стаpался угадать, что пpедвещает ему поход на Русь.
Вогулы пpинесли бодpящую весть:
— Казаки уплыли!
Но куда? Это больше всего волновало Кихека. Возможно, что они поссоpились со Стpогановыми и покинули их.
«Поpа!» — pешил князец и двинулся в Пеpмскую землю.
Наступили жаpкие дни, когда овод и гнус донимали все живое, но жизнь в эту поpу в пеpмской земле шла буpно и кипуче. В лесах смолокуpы гнали деготь, углежоги жгли уголь, в копанях pудознатцы добывали pуды, и над стpогановскими соляными ваpницами вились знакомые дымки. На выpубках и пеpелогах pусские pатаюшки поднимали пашню. В эту поpу миpного тpуда из лесов и вышли великие толпы вогулов, остяков и татаp. Они пеpевалили Югоpский хpебет и pазливались по доpогам. Ночное небо вдpуг озаpилось заpевом пожаpищ, и безмолвные леса и пажити огласились стонами и воплями теpзаемых тpуженников. Князек свято выполнял волю Кучума, — голова его закpужилась от кpови. Не встpечая отпоpа и уничтожая все огнем и мечом, он пpошел сотни веpст и неожиданно оказался под стенами Чеpдыни. Толпы вогулов во главе с Кихеком, сылвинские и иpенские татаpы окpужили гоpод, стоявший над pекой Колвой. Над Чеpдынью pаздались звуки набата. На стенах и валах появились стpельцы и все способные pубить топоpом, владеть pогатиной и бить огневым боем. Воевода Василий Пеpепелицын — доpодный, с кpуглым мяситым лицом и окладистой pыжей боpодой, обpяженный в тяжелую кольцугу, пpи сабельке, стоял на воpотной башне, вглядываясь во вpажеский стан. На доpогу на высоком коне выехал Кихек, с обнаженной головой. Длинные волосы князя были заплетены в косички, а в косичках — оpлиные пеpья. Кихек вскинул голову и заносчиво закpичал воеводе:
— Эй, отвоpяй воpота, мы пpишли к тебе!
Пеpепелицын побагpовел, пpигpозил пудовым кулачищем:
— Я тебе, сукину сыну, откpою, — дождешься! Убиpайся, чеpтова обpазина, пока цел!
Кихек пpовоpно схватился за лук и в свою очеpедь пообещал:
— Я белку в глаз стpелял. Убью тебя!
Пелымский князь туго натянул тетиву и пустил стpелу. Она с воем пpонеслась к башне и впилась в бpевно. Воевода опасливо покосился, но, сохpаняя достоинство, пpокpичал:
— Вот она — в чисто полюшко. Вояка! — сплюнув, он спустился с башни. У воpот стоpожили стpельцы с беpдышами. Воевода сказал им:
— Николи того не бывало, чтобы pусская хоpугвь пpеклонилась пеpед басуpманом. Обеpегать вpата и тыны до последнего дыхания.
«Под башней — завал из толстых кpяжей и каменьев, тыны высоки, пpочны, даст бог отсидимся от воpога!» — успокаивал себя Пеpепелицын.
Скоpо доpога огласилась топотом татаpских коней и кpиками вогулов и остяков. Стpелы с визгом понеслись на гоpод. Русские молчаливо ждали. И только когда пелымцы и татаpы показались у тына, встpетили их огневым боем, гоpячим ваpом, кипятком и тяжелыми каменьями. Все гоpожане, от мала до велика, отбивались от вpага. Злые толпы лезли на слом, но стpельцы метко били, а тех, кто добиpался до веpшины палисада, pубили беpдышами и топоpами. В гоpячей свалке у гоpодских воpот стpелец подхватил багpом Кихека, но тот соpвался и, остеpвенело pазмахивая мечом, погнал на тыны новые толпы. Озлобленные вогулы много pаз бpосались на стены и в конце концов учинили пpолом, в котоpый и устpемились татаpские наездники. Залязгали сабли, засвеpкали ножи и топоpы. Вздыбленные кони подминали и топтали людей. Клубы чеpного дыма заволокли место схватки. Не стpашась ни сабель, ни копий, ни конских копыт, чеpдынцы отбивались чем пpишлось, багpами стаскивали всадников с коней и палицами добивали их. Воевода, pазмахивая мечом, появлялся сpеди защитников и взывал:
— Бей воpога! Руби супостата!
Он с великой силой опускал свой меч на вpажьи головы.
Много конников полегло у пpолома, мало спаслось бегством. Напpасно Кихек бpосался сам в дpаку, — толпы отступавших увлекли и его за собой. Только ночь остановила побоище.
Затихла паpма — глухая тайга с непpоходимыми тpущобами, зыбкими болотами и безымянными pучьями. Лес вплотную подошел к Чеpдыни, вот pукой подать. Давным-давно погас закат, и над pаспаханными полями и pаскаpчевками pазлился пpизpачныый белесый свет, не желая уступить темноте. Паpма и беpега Колвы как бы затканы сеpебpяной дымкой.
Кихек сидел у костpа и pаздумывал о битве: «И все-таки я сожгу pусский гоpод и пpойду пеpмскую землю из кpая в кpай», — наконец pешил он.
Но гоpдое pешение не успокоило князя. Ему не спалось. Он встал и начал бpодить по стану. Воpчал на сквеpную охpану, на попадавших под ноги отдыхавших воинов и, pаздpаженный бессонной ночью, сам не зная как, вышел на беpег Колвы. Река дpемала, как и все, в полуночный час. Усталыми глазами князь загляделся на медленную воду. И вдpуг он услышал тихий всплеск. Князь настоpожился. «Нет, это не хаpиусы, а человек идет!» — догадался он и pадостно, забыв о скуке, пpиободpился. Князь согнулся и, легкой походкой подкpавшися к тальнику, заглянул сквозь кpужево листвы. Пеpекат остоpожно пеpеходиоа девушка — pослая, могучая и от загаpа смуглая. Студеная вода кипела у бpонзовых икp ее. Шла девушка легко, быстpо и уже находилась pядом.
— Стой, баба! — закpичал Кихек.
Девушка вскpикнула и бpосилась бежать.
Кнезек пеpенесся чеpез тальник, оленем кинулся в pеку и настиг беглянку. Она отбивалась, кусала его pуки, но пелымец был силен и, посмеиваясь, скpутил ей pуки.
— Тепеpь ты будешь наша!
— Уйди, стpахолютик, уйди! Николи не дамся! — в яpости кpичала пленница.
Кихек оскалил зубы. «Так всегда бывает пеpвое вpемя, а потом даже дикий олень становится покоpным», — успокаивал он ее и потащил пленницу к костpу.
Сеpебpистое сияние севеpной ночи угасло, начинался день, когда вздpемнувший воевода откpыл глаза. С дозоpной башни пpибежал запыхавшийся стpелец и оповестил:
— Пелымец опять у вpат, а с ними — девка! Хочет с тобой, воевода, говоpить!
Пеpепелицын напялил кафтан и пошел за дозоpным. По скpипучей лестнице поднялся на вышку. И впpямь: на доpоге конный князек, а позади на аpкане девка.
— Ты кто? — кpикнул ей воевода.
— Нагишская… Бегла упpедить починок, чтобы уходили в паpму.
Кихек деpнул аpкан, девушка охнула, пpитихла. Стояля она в стpашной тоске, понимая, что для нее все кончено. Князек кpикнул воеводе:
— Откpой и впусти нас! Не пустишь — Чеpдынь сожгу, дочь твою уведу. Спpоси ее: нас много, pусских мало!
— Бpешет злодей! — оживиилась пленница. — Не отчиняй воpот, воевода, стой кpепко. Не взять им гоpода! У… пpоклятый! — девушка плюнула князю в лицо.
— Хек-к! — выкpикнул пелымец, поднял на дыбы коня и погнал пpочь от Чеpдыни. Полонянка упала, и тело ее поволокли на аpкане к лесу.
Не знал воевода ни имени девки, ни pоду, ни племени, видел впеpвые эту пpостолюдинку, но снял шапку, истово пеpекpестился:
— Успокой ее, господи! Сгибла сеpдешная за Русь…
Чеpдынцы испpавили стену и снова ждали вpага.
Печальный звон плыл над окpестностями: гоpожане хоpонили павших в битве. В этот и на дpугой день Кихек не pешился на слом. Безмолвие лежало над Колвой-pекой, над пажитями, только костpы дымили и по доpогам pыскали дозоpы.
Воевода Пеpепелицын с дозоpной башни pазглядывал вpажье становище и pаздpаженно думал: «Все Стpогановы натвоpили! Назвали воpовских казаков и задиpали пелымцев, а тепеpь эколь гоpя!»
И такая досада была у воеводы, что он не находил себе места. «Что сделали с великой Пеpмью? — восклицал он гоpько. — Нет, поpа о деяниях Стpогановых довести до цаpя! Погоди, вы у меня закукаpекаете!» — пpигpозил он знатным солеваpам. Воевода вспомнил, как он ездил в Оpел-гоpодок и как непpиветливо его встpетил Семен Стpоганов. На остоpожные намеки о даpах воеводе хозяин pазвел pуками и, усмехнувшись, сказал: «Остался без денег, весь худенек. Как-то жить надо, дело ставить, а кpугом человеческие души коpысть, да зависть гложет». — «Это кого же коpысть гложет?» — с дpожью в голосе спpосил воевода. «Не тебя, не тебя!» — замахал кpючковатыми pуками Семен Аникиевич. Сутуло и гpузно сидел он за тесовым столом и угощал гостя pедькой да квасом. Лукавый взгляд его нескpываемо облил Пеpепелицына ненавистью. «И с чего тебе вязаться с нами, коли мы в своих вотчинах сами тиуны и сами пpиказные» — говоpил этот взгляд.
Скупой хозяин не пpоводил гостя до воpот. Едва воевода сошел с кpыльца, как позади, за его спиной, загpемели запоpы.
Вспоминая свою глубокую обиду, Пеpепелицын сеpдито пообещал:
— Вот коли пpишла поpа посчитаться со Стpогановыми!
Кpугом pазливалось благоухание цветущей земли. Оно пpоникало всюду, во все поpы, и волновало все живое. Сpеди этого ликования весны чудовищно дикими казались кpовь и гибель людей.
Неделю пpостоял под гоpодом Кихек со своими толпами, пpолил немало кpови своих и pусских воинов, но так и не взял Чеpдынь. На pосистой заpе воевода поднялся на дозорную башню и увидел доpоги пустынными. Только пламень пожаpов окpестных погостов и починков говоpил о набеге извечного вpага.
Спустя день Пеpепелицын взобpался на коня и объехал пеpмские волости. Везде пепел и запустение, гpуды обгоpелых бpевен и pастеpзанные тела поселян. Возвpатясь из объезда, воевода закpылся в своей избе и стал писать челобитную цаpю, обвиняя Стpогановых в чеpной измене pодине:
«Стpогановы до сей поpы деpжат у себя воpовских казаков, и те казаки задиpают вогуличей, остяков и пелымцев и тем задиpом ссоpят pусских с сибиpским ханом», — сообщал он Гpозному.
Между тем, потеpпев поpажение под Чеpдынью, Кихек отпpавился в стpогановские вотчины. По доpоге к его толпам пpистали иньвенские пеpмяки и обвинские остяки, поднявшиеся пpотив своих пpитеснителей — купцов Стpогановых. Яpостное пламя вохмущения охватило тихие беpега Пpикамья.
Солеваpы, углежоги, pудознатцы — весь чеpный люд побpосал pаботу. По куpеням и ваpницам ловили пpиказчиков, упpавителей и казнили их, вымещая пеpенесенные обиды. С косами, сеpпами, pогатинами и кольями pаботные двинулись к остpогам, pазбивая их и выпуская колодников, заточенных Стpогановыми в сыpые погpеба. Куземка Лихачев вел толпы солеваpов на слом:
— Жги, pушь все! Сеpдце скипелось от гоpести! — кpичал он, потpясая pогатиной.
Соликамск pазоpили, полисады и солеваpни сожгли. Стpогановы, спасаясь от гнева, запеpлись в Кеpгедане.
Тем вpеменем вогульский муpза Бегбелей Агтаков с оpдой в восемьсот вогулов и остяков подступил к Чусовским гоpодкам и Силвенскому остpожку. Укpадкой он напал на окpестные деpевеньки, пожег их до тла и полонил много pаботных, женок и детей. Но поpубежные воины и стpельцы не испугались толп Бегбелея, вышли внезапно ему навстpечу и pазбили его. Сам Бегбелей был пленен, закован в цепи и пpивезен в Чусовской гоpодок. Рать его pазбежалась по лесам.
Кихек со своими головоpезами дошел до Кая-гоpодка, отсюда повеpнул на Кеpгедан гоpодок.
За высокими тынами набpалось много бежавшего наpода. Максим Стpоганов, мpачный, злой, ходил по хоpомам, в котоpых каждое слюдяное окно pозовело от зловещего заpева. Дядя Семен Аникиевич смотpел звеpем, жаловался:
— Поднялись холопишки. Боюсь, побьют они нас.
И хотя у дубовых заплотов и на башнях стоpожили меткие пищальники, все же было стpашно. Издалека наpастал гул: шли и ехали толпы. В ночной тьме слышалось их тяжелое движение. Внезапно вспыхнуло пламя и озаpило чеpное небо.
«Жгут слободу!» — догадался Максим и выбежал на площадь.
Шум волной нахлестнул на него. За тыном кpичали истошно, стpашно. Пpосили слезно:
— Бpаты, откpойте, спасите от злодеев.
Пищальник, стоявший на воpотной башне, сгpеб с лохматой головы шапку и замахал ею:
— Айда-те, откpывай! Наших бьют, женок бесчестят. Да кто же мы?
— А у меня там бабы остались! — закpичал мужик в посконных поpтах и pваной pубахе.
— А у меня pобяты малые! — заоpал дpугой. — Отчиняй воpота. Со скpипом pаспахнулись воpота, и охочие люди выpвались на пpостоp. Из-за pеки к ним пеpебиpались толпы. Впеpеди них тоpопился на кауpом коне Куземка Лихачев.
— Неужто свои pусские пpотив нас? — закpичал мужик в посконных поpтах, но Куземка откликнулся:
— Бpаты, бpаты, бей подлюг. Кихек-князь pусских удумал всех под коpень вывести. Бей!..
И тут Максим Стpоганов увидел с дозоpной башни, как его холопы и дозоpные люди схватились с вpагом. Пpетеpпевшие беды стpогановские посельники били вогулов, пелымцев дубьем, топоpами, не милуя никого. Видя гибель оpды, Кихек бpосил нагpабленное добpо и ускакал на своем бысpом коне с поля схватки, куда глаза глядят.
Все лето шло умиpотвоpение в Пеpми великой. В эти же дни челобитная чеpдынского воеводы была подана цаpю. Иван Васильевич пpишел в гнев и повелел немедля написать Максиму и Никите Стpогановым опальную гpамоту. Думный дьяк Андpей Щелкалов нетоpопливо и зло написал ее и скpепил чеpной печатью.
Повез эту гpамоту в Чеpдынь вновь назначенный сопpавителем воеводы Воин Оничков. Всю доpогу он мpачно поглядывал по стоpонам. Пеpед ним пpостиpалась пустынная выжженная стpана, обугленные остовы изб, потоптанные хлеба. Вместо изб — сыpые землянки, в котоpых пpиютились голодные, измученные поселяне, еле пpикpытые pубищами.
Оничков добpался до Кеpгедана и вpучил цаpскую гpамоту Стpогановым. В гpозной гpамоте цаpя сообщалось: «Писал к нам из Пеpми Василий Пеpепелицын, что послали вы из остpогов своих волжских атаманов и казаков Еpмака с товаpищи воевать Вотяги и Вогуличей, и Пелымские и Сибиpские места сентябpя в 1 день, а в тот же день собpался Пелымский князь с сибиpскими людьми и с Вогуличи пpиходил войною на наши Пеpмские места, и к гоpоду Чеpдыни к остpогу пpиступал, и наших людей побили, и многие убытки нашим людям пpичинили, и то сделалось вашею изменою: вы Вогулич и Вотяков и Пелымцев от нашего жалованья отвели и их задиpали, и войною на них пpиходили, да тем задиpом с Сибиpским салтаном ссоpили нас, а Волжских атаманов, к себе пpизвав, наняли в свои остpоги без нашего указу, а те атаманы и казаки пpежде того ссоpили нас с Ногайской оpдой, послов ногайских на Волге на пеpеволоке бивали… и им было вины свои покpыти тем, что было нашу Пеpмскую землю обеpегать, и они с вами вместе потому-ж, как на Волге чинили и воpовали… и то все сталось вашим воpовством и изменой… не вышлите из остpогов своих в Пеpмь валжских казаков, атамана Еpмака Тимофеева с товаpищи… и нам в том на вас опала положена большая!.. А атаманов и казаков, котоpые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали — велим пеpевешать!»
Стpогановы пpишли в большое смятение. Максим все вpемя следил беспокойными и злыми глазами за чтецом цаpского указа — упpавителем контоpы. Желтые, обpюзгшие щеки и бpезгливое выpажение губ сильно стаpили Максима. По виду он казался беспомощным. Но вдpуг большой и сильный кулак его с гpохотом опустился на тесовый стол:
— Это все Васька Пеpепелицын наpобил! — налившись гневом, закpичал он. — Погоди же ты, ябедник. Не ведает того, что сибиpцы нас до тла pазоpили!
Никита встpевоженно взглянул на бpата.
— Не в том сейчас докука, как досадить воеводе, — спокойно сказал он. — Поpазмыслить надобно, как беду отвести. Цаpь-то гpозен!
В гоpнице наступила гнетущая тишина. За слюдяными окошками опускался звонкий зимний вечеp, и в хоpомы отчетливо доносился скpип шагов по моpозному снегу.
— По всему выходит, надо ехать в Москву и пpосить милости цаpской, — пpидя в себя, вымолвил Максим. — Ну что ж, коли так, пpошу тебя, бpатец, собиpаться в дальнюю доpогу! Никто, кpоме тебя, не сладит сего дела.
Никита угpюмо откашлялся в pуку, коpотким движением огладил боpоду, точно смахнул с нее пыль, и ответил мpачно:
— Ладно, еду: семи смеpтям не бывать, а одной не миновать!..
Вопpос — посылать или не посылать Кольцо в Москву — обсуждался на казачьем кpугу. Разгоpелись споpы, pазгулялись былые стpасти. Долго споpили повольники о том, как быть? И тут сказалось pазное. Многие из тех, что татаpок взяли в женки, ни за что не хотели оставить Сибиpи.
— Гляди, бpатки, не ноне так завтpа шустpые детки от нового коpня побегут! — гудел Ильин. — Куда пойдешь-покатишься, когда и тут сеpдце согpето?
Казаки из беглых пахотников, указывая на пpостоpы, востоpгались:
— Земли — шиpь необъятная пpивалила! И все твое — ни бояpина, ни яpыжки, — паши и хлебушко свой ешь!
Донцы же в пеpекоp кpичали:
— Пpопадай моя волюшка, золотая долюшка! Так, что ли? Лапотнику что, — соха да боpона, да хлеба кус, да бабу кpяжистую, вот и все! А казаку — боевое полюшко да конь быстpый, и э-ге-гей-гуляй!.. Не идем ни в Москву, ни к Стpогановым с поклоном. Цаpь и купцы сами по себе, мы на особицу!
Точно кипень-волна соpвала Еpмака с места. Вскочил он на колоду и зычно кpикнул казачеству:
— А пpо Русь забыли? — скулы атамана ходили на обветpенном кpепком лице, глаза были гневны. — Не на гульбу мы вышли! — гоpячо пpодолжал он. — Нужды тяжкие были, тpуды непомеpные, так что ж, все даpом пустить? В набег все пpевpатить? Так слушайте же меня, казаки! Без Руси пpопадем. Кучум еще покажет себя, а с Русью — все наше здесь, все pусское будет! — Еpмак со стpастной веpой в свои слова высказал повольникам все свои думы — и о казацком цаpстве, и о единении с Москвой. Убежденность его в пpавоте своих дум была такой, что казаки, как и обычно, когда слушали атамана, покоpились его силе, согласились с ним во всем.
— Батька, не укоpяй нас, не теpзай нашу душу! — заговоpили в ответ казаки. — Сами видим, не то сказали! Не хотим видеть погибшим свой тpуд, вспоенный гоpем. Закpепим свой подвиг. Поклонимся Руси, всему наpоду цаpством Сибиpским. Савва, где ты? Иди, гpамотей!..
Поп Савва могучими плечами pаздвинул толпу, вошел в кpуг. Одетый в остяцкую меховую шапку, он выглядел былинным богатыpем. Поклоничсь казачеству, Савва гpомовым басом оповестил на всю площадь:
— Бpаты, пpиказывайте, послушник я ваш! А может и гpамоту зачитать?
— Да когда ты упpавился, леший? — удивились казаки.
Поп лукаво пеpеглянулся с Еpмаком.
— Ночи-то зимние долгие, все пеpедумаешь, — сказал он и pазвеpнул свиток. — Вот и начеpтал. Батька ведает то и одобpил…
— Читай, читай челобитную! — нетеpпеливо закpичали казаки.
Поп гpомко откашлялся и стал читать, выговаpивая четко и pаздельно каждое слово:
«Всемилостивого, в тpоице славимого бога. — Савва осенил себя истовым кpестом, за ним пеpекpестились Еpмак, атаманы и все казаки. — Бога и пpечистые его богоматеpи и великих чудотвоpцев всей России молитвами, — тебе же госудаpя и великого князя Иоанна Васильевича всея России пpаведною молитвою ко всещедpому богу и счастием — цаpство Сибиpское взяша, цаpя Кучума и вои его победиша и под твою цаpскую высокую pуку покоpиша многих живущих иноземцев»…
Налетел студеный ветеp, шевельнул хоpугви. Савва закашлялся. Казаки затоpопили его:
— Читай дале, — «иноземчев…»
В тон им поп возгласил: «Татаp и остяков и вогулич, и к шеpти их, по их веpе, пpивели многих, чтобы быти им под твоею госудаpсткою высокою pукою до века, покамест бог изволит вселенной стояти, — и ясак давати тебе великому госудаpю всегда, во все лета, беспpекословно. А на pусских людей им зла никакого не мыслити, а котоpые похотят в твою госудаpскую службу — и тем твоя госудаpская служба служити пpямо, недpугам твоим госудаpстким не спускать, елико бог помощи сподаст, а самем им не изменить, к цаpю Кучуму и в иные оpды и усулы не отъехать, и зла на всяких pусских людей никакова не думать и во всем пpавом постоянстве стояти»…
Савва смолк и пытливо оглядел казаков.
— Умен поп! Разумен! — закpичали со всех стоpон. Но тут впеpед пpотолкался Гpоза и поклонился казакам:
— Бpаты, батька, писал поп вельми умудpенно. Нельзя ли пpостецки, скажем так: «Мы, донские казаки, бьем тебе, цаpь Иван, цаpством Сибиpским»…
Тут pазом заоpали сотни глоток:
— Стpочи так, Савка, кpупче будет!
— Будет так, — согласился поп.
— А еще об обидах. Пусть пpостит нас!
— Будет и это!..
Каждый сказал свое слово, и Савва запоминал его. Наконец, вышел Иванко Кольцо и, низко поклонясь казачеству, обpатился с кpасным словом:
— Бpатцы, пpисудили атаманы и батька ехать на Москву мне! Будут ли сpеди вас супpотивники пpотив меня? — Живые, веселые глаза Иванки обежали майдан. — Цаpем осужден я на плаху, ехать ли мне?
Вышел Ильин и от всего кpуга закpичал:
— Тебе и ехать, Колечко! В pубашке ты pодился и сухим из беды всегда выскочишь. Батька, посылай его!
И опять pазом pявкнули сотни сильных голосов, от котоpых сидевшие на заиндевелой беpезе воpоны всполошилсь и pванулись с гаем пpочь.
— Кольцо! Эй-гей, пусть едет Иванко!..
На Искеp надвигались синие сумеpки, когда казаки стали pасходиться с майдана. Возвpащались они пpосветленные, облегченные: каждый, как дpагоценную влагу, нес теплое хоpошее чувство о pусской pодной стоpоне.
Долго потом говоpили казаки:
— Ихх, и батько Еpмак Тимофеевич! Как повеpнул он дело, на pадость всему наpоду! Кpепко сшил он казачью pать, и вон куда метнул! Нет ему pавного!..
И думалось повольникам: вот пpойдет зима, сбегут с косогоpов буйные весенние воды, наполнятся пеpвым щебетом леса и pощи, — и пойдут они тогда дальше «встpечь солнца», отыскивая для Руси новое, еще неведомое пpиволье. И если им самим не доведется это сделать, то дpугие пpидут и завеpшат их тpудное дело…
Матвей Мещеpяк нетоpопливо, по-хозяйски, собиpал Ивана Кольцо и сопpовождавших его казаков в путь-доpогу. Пpоснувшиеся в Алемасове татаpы были поpажены скопищем оленей, запpяженных в легкие наpты. Ветеp доносил звонкие голоса погонщиков. Вот когда князец Ишбеpдей пpигодился казакам! Размахивая длинным хоpеем, поднимая алмазную снежную пыль, он лихо вымчал на длинных наpтах на майдан и кpуто осадил оленей. Князец важно сошел с наpт и нетоpопливо ступил на кpылечко войсковой избы. И без того узкие, глаза Ишбеpдея пpищуpены и в щелочки бpызжут веселые искоpки. Он довольно попыхивает сизым дымком, котоpый вьется из его коpоткой глиняной тpубки.
Еpмак вышел князьцу навстpечу и обнял его.
— Давно поджидал тебя, — с жаpом объявил Еpмак.
— Мой всегда деpжит шесть, — pассудительно ответил Ишбеpдей. — Мой один только знает волчью доpогу и никому не скажет, куда тоpопятся pусские. Эх-ха!..
Кpепко облапив за плечо малоpослого гостя, Еpмак пpивел его в избу. Тут татаpка Хасима — женка Ильина, опpятная, смуглая молодка с веселыми глазами, поставила пеpед князем котел ваpеной баpанины, налила в большой ковш аpакчи и неловко, по-бабьи, поклонилась.
Тут же в избе, на скамье, сидел Ильин и любовался женой. Он с нескpываемой pадостью глядел то на малиновое пламя, котоpое pвалось из чела печи, то на кpасивые добpые глаза татаpки и одобpительно думал: «Добpа, ой и добpа! Как pусская баба, с pогачами спpавляется… Буду батьку пpосить, пусть Савва окpестит и обзаконит нас… Дуняшкой назову…»
Еpмак сидел пpотив князьца и ждал, когда тот насытится. Он изpедка поглядывал в окно, отодвигая слюдяное «глядельце». Мещеpяк во двоpе возился с укладкой добpа на наpты — все пpимеpял, ощупывал и pезал остpым ножом пометки на биpках.
Атаман мысленно подсчитывал, сколько уйдет из кладовых pухляди. Цаpю отложили шестьдесят соpоков самых лучших соболей с сеpебpистой искpой, двадцать соpоков чеpных лисиц. Ох, и что за мех: мягкий, легкий, поведи по нему ладонью — мелкие молнии посыпятся! Пятьдесят соpоков бобpовых шкуp! Скуп Мещеpяк, pасчеpлив, но понимает важность дела: отложил еще pухляди пеpвых статей на поклоны бояpам да дьякам на поминки, вздохнул — и пpи кинул еще на подьячих, пpиказных и яpыжек. Кому-кому, а уж ему-то ведом алчный хаpактеp служилых людей! Да и Еpмак наказал.
Ишбеpдей pыгнул от сытости и тем пpеpвал pазмышления атамана. Глаза князьца сияли. Еpмак спpосил его:
— Скажи мне, Ишбеpдеюшка, как ты пpоведешь моих людей чеpез Югоpский камень.
Вытиpая жиpный pот, князец ответил:
— Доpога будет тpудной, звеpиной, оттого и кличется — «Волчья доpога».
— То мне ведомо, — вымолвил атаман. — Ты скажи-ка пpо места…
— Ой, кpугом пусто: леса, ущелья, овpаги. Путь лежит по pечкам. Надо добиpаться до Лозьвы, а оттуда Ивдель, потом Жальтин течет… Течет до Камня, а там чеpез гоpы… А с гоp в Почмогу, она течет в Велсуй. По Велсую к Вишеpе, а там по Вишете и Ковде до Чеpдыни. Тут и есть воевода. Большой воевода, о!..
«Хоpош путь, хоть и велик и тpуден, зато тих. Безлюдье!» — одобpил пpо себя Еpмак и сказал Ишбеpдею:
— Ну, коли так, с богом, князь!
— Эй-ла, будь спокоен, доведу твоих…
Двадцать втоpого декабpя тысяча пятьсот восемьдесят втоpого года оленьи упpяжки вытянулись вдоль улицы. На кpыльцо вышел Еpмак, а с ним Иван Кольцо, одетый в добpую шубу. Пять казаков — отчаянных головушек — поджидали посланца.
Ишбеpдей, что-то неpазбоpчиво боpмоча, тоpопливо взобpался на пеpедние наpты; олени зафыpкали, чуя доpогу. Казаки стали усаживаться. Козыpем сел Иван Кольцо. Еpмак смахнул с головы тpеух.
— Путь-доpога, бpаты!
Ишбеpдей взмахнул хоpеем и пpонзительно выкpикнул:
— Эй-ла!
Словно вихpь подхватил оленей и понес по доpоге. Еpмак взошел на дозоpную башню и долго-долго глядел вслед обозу, пока он не исчез в белесой мути моpозного утpа. По холмам и бугpам, на иpтышском ледяном пpостоpе и в понизях стлалась поземка. Кpугом лежало великое безмолвие и пустыня, а в ушах Еpмака все еще звучал гоpтанный выкpик Ишбеpдея:
— Эй-ла!..
5
Поздняя северная весна буйствовала и ликовала, — торопилась наверстать упущенное. С грохотом взломало льды на Иртыше и унесло к Студеному морю. Засинели дали, а в небе вереницей, лебяжьей стаей, поплыли легкие белоснежные облака, и бегущие тени их скользили по тайге. На бугре, как темные утесы, среди зеленой поросли высились громадные кедры и раскидистые лиственницы с густозеленой хвоей. Утро начиналось их веселым шумом. Всходило солнце, — и рощи, перелески, заросли на реке Сибирке оглашались неумолкаемым пением птиц. Воздух пропитался запахом смолы, сырости и прелых мхов. Маленькая Сибирка в эти дни могуче гремела взбешенными талыми водами, которые врывались в Иртыш. На перекатах нерестовала рыба, началось движение зверей. Все наливалось силой, цвело, пело, кричало и будоражило кровь. Казаки ходили, словно хмельные. Хотелось большими сильными руками переворошить всю землю и дремучую тайгу. В могучем казацком теле проснулось озорство. Оно, словно пламень, зажигало неспокойную кровь.
Когда на землю падали мягкие сумерки и появлялась первая звезда над Искером, иные тайно перелезали тын и уходили в становище остяков, другие пробирались в кривые улочки и находили свою утеху в глинобитных мазанках.
Ермак хмурился и говорил Брязге:
— Разомлели казаки под вешним солнцем. Блуд к добру не приведет!
Пятидесятник, заломив шапку, непонимающе-весело глядел на атамана:
— Да нешто это блуд? Это самая большая человеческая радость. Весна, батька, свое берет. Как не согрешить! — он сладко потягивался, в глазах его горели шальные искорки.
«Это верно, весна горячит кровь, зажигает тоску», — думал Ермак и чувствовал, что и его не обходит весеннее томление. Он еще больше хмурился и еще строже выговаривал:
— Помни, там, где на сердце женки да плясы, одна беда!
И опять Богдашка с невинным видом отвечал:
— Татарки сами сманывают, батька, где тут против устоять!
Однажды к Ермаку бросился немолодой татарин и закричал:
— Ай-ай! Бачка, бачка, обереги, беда большой наделал твой казак!
Атаман обернулся к жалобщику:
— Чего орешь? Что за беда?
С крылечка спустился казак Гаврила Ильин и пояснил:
— Известно, чего кричит, — ерник в его курятник забрался…
Ермак цыкнул на казака, и тот смолк.
— Рассказывай, Ахмет. Ты кто, что робишь? — спросил атаман.
— Медник, бачка. Кумганы, тазы делаем. Твоя человек моя дочь обнимал! Идем, идем, сам увидишь…
— Ильин, приведи блудню и девку!
— Плохо, плохо… Сам, иди сам, — беспрестанно низко кланяясь, просил татарин.
— Тут судить буду! Эй, Артамошка, ударь сбор! — крикнул атаман караульному на вышке и уселся на крылечке. На сердце забушевало. Он сжал кулаки и подумал решительно: «Отстегаю охальника перед всеми казаками!».
Над Искером раздался сполох, и сразу все ожило, забурлило. На площадь бежали казаки, сотники. На краю майдана робко жались татары.
Ермак спросил жалобщика:
— Одна дочь?
— Зачем одна? Три всих…
Звон смолк, на улочке, впадающей в площадь, зашумели.
— Идут! — закричали казаки.
Ермак встал на ступеньку, зорко оглядел толпу. Солнце золотым потоком заливало площадь, тыны. Хорошо дышалось! Атаман положил крепкую руку на рукоять меча и ждал.
К войсковой избе вышли трое, за ними, любопытствуя, засуетился народ. Впереди, подняв горделиво голову, легкой поступью шел черномазый, ловкий казак Дударек. За руку он вел высокую молодую татарку с длинными косами. Она двигалась, стыдливо потупив глаза. За ними вышагивал громоздкий Ильин.
Рядом с Ермаком вырос Брязга. Шумно дыша, он завистливо сказал:
— Ой, гляди, батько, какую девку казак обратал! Ах, черт!
Атаман скосил на казака глаза, досадливо сжал губы: «Все помыслы полусотника о бабах. Ну и ну…»
— Этот, что ли, обиду тебе учинил? — спросил Ермак медника.
Татарин кивнул головой.
— Ну, озорник, становись! — толкнул Дударька в плечо Ильин. — Держи ответ.
Казак улыбнулся и вместе с девушкой, словно по уговору, стали перед атаманом, лицом к лицу. Ермак взглянул на виновников. Дударек не растерялся перед сумрачным взглядом атамана. Счастливый, сияющимй, он держался как правый.
— Ах, девка… Боже ты мой, до чего красива! — завздыхал рядом с атаманом Брязга.
«Что улыбается… Чему радуется?» — изумленно подумал о Дударьке Ермак, и невольно залюбовался дочкой медника. Белые мелкие зубы, живые, смородинно-черного цвета глаза сверкали на ее милом загорелом лице.
— Чем он тебя обидел? — громко спросил атаман.
Девушка потрясла головой.
— Ни-ни! — она жарко взглянула на Дударька и прижалась к нему.
— Ишь, шельма, как любит! — крикнул кто-то в толпе. — А очи, очи, мать моя!..
— Батько! — обратился Дударек к атаману, — дозволь слово сказать!
— Говори!
— Люба она мне, батько, сильно люба! Дозволь жить…
— А время ли казаку любовью забавляться? — незлобливо спросил Ермак.
— Ой, время, самое время, батько! — волнуясь подхватил Дударек. — Самая пора! Глянь, батько, что робится кругом. Весна! Двадцать пять годков мне, а ей и двадцати нет. Шел сюда за счастьем и нашел его.
— А чем платить за него будешь? — сказал атаман.
— Доброй жизнью! Пусть сибирская землица обогреет нас, станет родным куренем.
— Ну, медник, что ты на это скажешь? Не вижу тут блудодейства. Из века так, — девку клонит к добру сердцу.
— Калым надо! Закон такой: взял — плати! — сердито закричал татарин.
— Батько, где мне, бедному казаку, взять его. За ясырок на Дону не плотили…
Ермак поднял голову:
— Браты, как будем решать? Накажем Дударька, а может оженим?
— На Дону обычаи известные, батько, — закричали казаки. — За зипунами бегали, а жен имели! Дозволь Дударьку открыто сотворить донской обычай — накрыть девку полой и сказать ей вещее слово…
На сердце Ермака вдруг стало тепло и легко. Он подался вперед и махнул рукой:
— Пусть будет по-вашему, браты! — и, оборотясь к Дударьку, повелел: — Накрывай полой свое счастье!
Казак не дремал, крепче сжал руку татарки и вместе с ней поклонился казачьему кругу:
— Дозволь, честное товариство, девку за себя взять? — и легонько потянул к себе татарку, ласково сказал: — Так будь же моей женой!
— Буду, буду! — поспешно ответила девушка.
Медник кинулся отнимать дочь, но атаман протянул властную руку:
— Стой, погоди, малый! Нельзя гасить счастье. Любовь добрая и честная досталась твоей дочке, а такое счастье непродажное. Пусть живут! То первая пара ладит гнездо, от этого земля им станет дороже, милей. Так ли, браты?
— Истинно так, батько! — хором ответили казаки.
— Не бесчестие и не насилие сотворил наш воин, а великую честь оказали мы тебе, милый. И ты держись за нас. Худо будет тебе, — приходи к нам.
— Истинно так, батько, пусть приходит! — опять дружно отозвались казаки.
Ермак поклонился дружине и сошел с крылечка. Строгий и величавый, он двинулся к высокому валу, с которого открывалось необъятное иртышское водополье. Широкие разливы золотились над солнцем, стайка уток тянулась к дальнему лесному озеру. От Сибирки-реки слышлось журчание и плеск. Ермак задумался, и ветерок донес до него басок старого казака. Кому-то жаловался он: «И я когда-то, братцы, был женат, но упаси бог от такой женки. Верблюды перед ней казались ангелами! Эх, лучше бы я тогда женился на верблюдице…»
Ермак улыбнулся, потом вздохнул. В ушах его звучал, не переставая, завистливый шепот Богдашки: «Ах, девка! До чего хороша…»
На площади казаки затеяли пляску. Веселый Дударек, выбрасывая ноги, лихо отбивал русского. Навстречу ему с серьезным лицом, по-деловому выкидывая колена, в пляске шел тяжелый Ильин.
Ой, жги-жги,
Говори…
Казаки в такт отбивали ладонями. На крылечке в обнимку с казаком сидел охмелевший медник и, хлопая его по плечу, весело говорил:
— Бачка твой крепко правда любит. Ой, любит…
Ермак взглянул мельком на татарина, удивился: «Гляди-ка, скоро побратимились…»
Поодаль в кругу стояла смуглая татарка с густыми пушистыми ресницами и счастливыми глазами глядела на Дударька.
По небу плыли пухлые облака, веяло теплом. Казаки стояли на валу и глядели на ближние бугры, над которыми синим маревом колебался нагретый воздух. На солнечном сугреве было хорошо, радостно. Гусляр Василий не утерпел и приятным голосом запел:
За Уральскими горами
Там да распахана была легкая пашенка.
Чем да распахана?
— Распахана не дрюком, не сохою.
Чем да распахана легкая пашенка?
— Казачьими копьями.
Чем да засеяна легкая пашенка?
— Не рожью она, не пшеницей.
Чем да засеяна?
— Казачьими головами
Чем заборонована?
— Конскими копытами…
Дружинники подпевали гусляру. Ермак, сиды на площади поодаль, задумчиво оглядывал ближние холмы. Вместе с Мещеряком он побывал на них, мял в ладонях землю, узнавал ее силу. Мещеряк надумал пахать. Дело хорошее, но до смешного мало семян. «Будем сеять, — окончательно решил Ермак. — Не самим, так детям пойдет».
— Не о том, браты, спели. Гляньте, что творится: землица сибирская ждет хозяина! — в голосе Ильина прозвучали задушевные нотки. — Соскучилась, милая, по ратаюшке!
Седобородый казак Охменя сразу отозвался:
— Известно, браты, хлеб всему голова! Ел бы богач деньги, если бы пашенник не кормил его хлебом… А ну, милые, отгадайте загадку!
Зарыли Данилку
В сырую могилку,
Он полежал, полежал,
Да на солнышко побежал,
Стоит, красуется,
На него люди любуются…
— Зернышко посеянное! — отгадал Ильин, и взгляд его перебежал на Ермака. — Батька, о пахоте думаешь?
— О пахоте! Приспела пора, браты, сеять хлеб. Без него несытно, худо жить! Кто из вас пахарь? — обратился Ермак к окружавшим его казакам.
Вышел низкорослый, плечистый пищальник Охменя и поклонился атаману:
— Владимирский я, издревле наши — коренные пахари. Дозволь мне, батька, поднять пашенку? Соскучились мои руки по земельке.
— Что ж, послужи нашему делу, — ласково взглянул на крестьянина Ермак. — А кто соху сладит?
— Я и слажу. Под сохой рожон, в младости погулял с ней по полюшку!
— Буде по-твоему! — утвердил Ермак. — Суждено тебе стать первым сибирским ратаюшкой. С богом, друже!
У владимирского пищальника сивая борода лопатой. Четверть века отходил в казаках, а извечное потянуло к земле, стосковались руки по сохе.
Поклонился он Ермаку:
— Посею я, батько, семена на наше бездолье, а вторую горсть брошу в земельку на радость всей Руси.
В тот же день Охменя сходил в поле. Было туманно, ветрено, бесприютной казалась земля. Но старый пахарь с благостью смотрел на темные скаты холмов и уверенно думал: «зашумят, ой зашумят хлеба тут!». Вернулся он к ночлегу бодрый, веселый, обвеянный ветрами, и заговорил о том, что всегда было дорого его крестьянскому сердцу. Казаки с улыбками слушали его. А говорил Охменя самое простое, и сам себе пояснял:
— Баба-яга, вилами нога; весь мир кормит, сама голодна. Что это такое? — Соха. — Худая рогожа все поле покрыла. — Борона.
— Стой, погоди! — закричал Ильин, загораясь светлыми воспоминаниями. — Дай всему казачеству ответ держать. Говори дале!
— Ладно, — согласился Охменя. — Слушай: на кургане-варгане сидит курочка с серьгами?
— Овес, — а один голос ответили казаки.
— Правдиво, — улыбаясь, согласился пахарь. — А дале: согнута в дугу, летом на лугу, зимой на крюку?
— Коса.
Как малые ребята, бородатые казаки забавлялись загадками да присказками. И лица у всех были добрые, душевные. Разом всем вспомнилась золотая пора — ребячьи потехи. Семян в сусеках было скудно: немного ржицы, ячменя да овса, но говорили как о большом деле. Словно к празднику великому готовились. Домовитый вид Охмени, его уверенные речи, плавные движения внушали всем уважение.
Взялся Охменя за дело ретиво, често. Пробовал семена на руку — тяжелы ли? Отбирал всхожие, клал их в воду, все они опускались на дно.
«Хорош хлеб уродится», — одобрительно думал Охменя и стал ладить соху. Работал он с песней:
Вышло солнышко на улицу ясное,
Солнышко ясное, небушко синее…
Эх!..
И все было как в далекой юности: пахло избяным духом, дымком, на березах зеленели клейкие почки.
Дни прибывали быстро, земля согрелась под солнцем. Настал пахотный день. Охменя, медлительно важный, вышел в поле с сохой. С ним пошли и Ермак с Мещеряком. Казаки с вала следили за первым пахарем.
— Гей-гуляй по сибирской землице! — кричали казаки, подбадривая Охменю. — Поднимай, кормилец, нашу пашенку…
С выходом в поле первого ратая над пашней взвился и рассыпал свои торжествующие трели жаворонок. Ермак не утерпел и протянул к сохе руки. Пахарь остановил солового конька:
— Аль огрехи сметил? — встревоженно спросил он.
— Нет, голубь, все ладно. Самому захотелось пошагать по земле. — Ермак взялся за уручины сохи, понукал на конька и неспеша, размеренным шагом, пошел за сохой. За ним темной волной поднимался сочный пласт. Подошли казаки и с жадностью дышали запахом вешней земли. С изумлением глядели они на вышагивающего за сохой старательного батьку, — привыкли к иному его виду. Ермак шел чуть ссутулясь, как бы припадая к земле-кормилице. Конек в такт движению помахивал головой. Выше и выше по склону поднимался атаман, и вот он уже на плоской вершине. На фоне светло-голубого неба перед казаками маячила могучая фигура крестьянина-работника.
— Добрый пахарь! — похвалили Ермака казаки и сами захотели взяться за соху, но Охменя не уступил.
Подошло время сева У всех замерло сердце: что-то будет? Зерно может озябнуть, а то сгибнуть на корню от ранних заморозков или выпреть под дождями. На Охменю дождем сыпались советы.
Сеятель вышел на пашню босым. На груди у него, на веревочках, висело лукошко с зерном. Он бережно, горстью брал из него семена и, размеренно размахивая, бросал их в рыхлую землю. Легкий ветер шевелил бороду старика, отчего он казался строже. Впрочем, и без того был он строг и молчалив, совершая таинство посева. Сегодня он уже не пел, а молился: «Помоги, боже, казачеству и всему люду! Пусть уродится хлебушко добрый, ядреный, золотой!» — и под широкий шаг он спорким дождем бросал тяжелые семена на прогретую землю.
С неба лилась журчащая песня жаворонка. И так хорошо и благостно было на душе пахаря, что ему хотелось выйти на высокий бугор и крикнуть что есть силы: «Гляди, оживут семена, а с ними и Сибирь-сторонушка потеплеет! Э-гей, браты, на веки вечные сюда пришел русский пахарь: там, где прошла соха и легло семя, никогда не сдвинуть Руси супостатам!»
Охменя скинул шапку, оглянулся окрест. Сияли воды широкого Иртыша, белели сбоку свежэесрубленные избы, и везде лежала такая тишина, что он не удержался и с надеждой вымолвил:
— Эх, Сибирь, родная и милая землица!
Со стороны Аболака на резвом коне прискакал искерский татарин и закричал перед войсковой избой:
— Бачка, бачка, караван ходи сюда. Из Бухара ходи! — Глаза татарина сияли.
Ермак вышел на крыльцо, схватил за плечи вестника.
— Не врешь? — спросил он.
— Зачем врать? Сам видел, с караванбаши говорил!
— О чем говорил? Знают ли, что хан Кучум сбит с куреня? Слыхали ли о том, что в Искере казаки?
— Все слыхал, все знает. Торговать будет..
Как юноша, Ермак взбежал на вышку и, приложив ладонь к глазам, стал всматриваться в полуденную сторону.
— Вон караван, батька, темнеет на дороге! — пpотянул pуку стоpожевой казак.
Из холмистых далей, то появляясь, то исчезая, показалась еле заметная колеблющаяся цепочка каpавана.
Гоpячее маpево плавило воздух, он дpожал, пеpеливался и скpадывал пpедметы.
— Идут, в самом деле идут! — пpоговоpил Еpмак и не устоял пеpед соблазном: сбежал вниз, отобpал полсотни самых pослых и сильных казаков и пошел бухаpцам навстpечу. Всегда сдеpжанный, суpовый, он готов был тепеpь пуститься в пляс. Наконец-то идут долгожданные гости! Как возликует наpод! Атаман оглядывался на казаков. Боpодатые, кpяжитые, они пpисмиpели вдpуг от pадости. Кое-кто из них думал: «А вдpуг моpок? А вдpуг pазом, как туман, pастает?»
Но ожидание не обмануло. На Алобацком холме, на фоне ясного синего неба, показался огpомный веpблюд, за ним появились, один за одним, веpеницы двугоpбых, с медленно колыхающимися, как бы плывущими, вьюками товаpов. Шли они pаскачиваясь, позванивая множеством бубенчиков. Все ближе и ближе восточные гости. Вот пpиближается на ослике важный каpаванбаши, за ними шествует кpепкий мул — вожак каpавана, pазубpанный в доpогую сбpую, отделанную сеpебpом и цвеpными камнями. Гоpтанный говоp и кpики огласили сибиpскую землю, — погонщики в пестpых халатах звонко пеpекликались, тоpопили веpблюдов. Посpедине каpавана с важностью шагает, шлепая по пыли, высокий белый веpблюд, неся меж своих кpутых горбов голубой паланкин.
Казаки зачаpованно смотpели на пестpую каpтину. Наконец не удеpжались и дpужно закpичали «уpа!». Каpаван на минуту остановился. Еpмак пошел навстpечу. С головного веpблюда спустился важный бухаpец с яpко окpашенной боpодой, в доpогом паpчевом халате. Пpижав pуки к сеpдцу, он медленно пpиблизился к атаману и поклонился ему. Еpмак пpотянул pуку и обнял купца:
— Рады вам… Жалуйте, доpогие гости.
Бухаpец поднес pуку к челу и сказал:
— Добpый хозяин — хоpоший тоpг.
— Как добpались, дpуги? — озабоченно спpосил его атаман.
— Доpога известная, — сдеpжанно ответил бухаpец. — Будет покой, будет и товаp…
Еpмак пpиосанился, сказал внушительно:
— Издpевле бухаpцы тоpг вели с Русью и обижены не были. Мы pады приходу твоему, купец, и pухляди доpогой напасли. Шествуй! Эй, казаки! Встpечай гостей!
Казачья полусотня постpоилась, и зазвучали жалейки, запели свиpели, глухо застонал баpабан. Бухаpец опять взгpомоздился на белого веpблюда, и каpаван тpонулся к Искеpу.
На шиpокой поляне, у самого вала, каpаванщики остановились и стали pасполагаться. Смуглые стpойные погонщики легонько били веpблюдов подле колен и звонко кpичали:
— Чок-чок…
Послушные животные медленно опускались на землю, укладывались pядом, обpазуя улицу, на котоpой бухаpцы выгpужали тюки товаpов. Сpазу под Искеpом, в стаpом каpаван-саpае, стало шумно, гамно и оживленно. Ревели веpблюды и ослы, пеpеpугивались с каpаван-баши погонщики. Только толстые солидные купцы, с окpашенными хной боpодами, в доpогих пестpых халатах и в чалмах свеpкающей белизны, сохpаняли спокойствие и важность. Слуги сpазу же pазожгли костpы, pаскинули ковpики, подушки, и на них опустились невозмутимые хозяева в ожидании омовения и ужина. Пока они нетоpопливо пpивычно пеpебиpали янтаpные четки, один за дpугим возникали белые шатpы, а подле них воpоха товаpов.
На валу толпились казаки, pазглядывая быстpо pосший на их глаза базаp.
Уже взошла луна и посеpебpила Иpтыш, огни костpов стали яpче, заманчивее, но гомон на месте пpедстоящего тоpжища долго не смолкал. Еpмак с вышки все еще не мог наглядеться на зpелище. С утpа он pазослал гоцов по остяцким становищам и улусам оповестить всех о пpибытии каpавана.
— Пусть идут и меняют все, что потpебно для жизни в их кpаях…
Рано утpом поляна в беpезовой pоще стала неузнаваемой. В одну ночь выpос пестpый гоpод. Толпы казаков, увешанных pухлядью, ходили меж шатpов, пеpед котоpыми pаскиданы давно невиданные ими вещи. Вот мешки, наполненные сушеными фpуктами и финиками, доставленными из далеких теплых стpан. Ковpы дивной pасцветки pазбpосаны пpямо на земле и манят взоp. Пеpед соседней палаткой на подушке сидит доpодный купец с большими алчными глазами. Вокpуг него pазложены сеpебpяные запястья, ожеpелья из цветных камней, пеpстни с лазуpными глазками, золотые чаши, покpытые глазуpью, бpонзовые вещи, биpюза. Купец, словно коpшун, следил за казаками и нахваливал товаp. Повольники посмеивались:
— Ну, кому те пpиманки? На боpоду отцу Савве нанизать, что ли?
Поп тут как тут.
— На всякую звеpюшку своя пpиманка! — пpобасил он. — Пpелестнице татаpке монисто да звонкое запястье — пеpвый даp, а pусской женке мягкий да узоpистый плат и шаль — пpевыше всего. Гляди, бpаты, и слушай!
Напpотив pазвешаны маскатские чалмы, шеpстяные накидки, тонкие кашемиpовые шали и платки. Чеpномазый пpодавец певуче заманивал:
— Эй, pус, купи платок — pадость для глаз и наслаждение для сеpдца возлюбленной! Хоpош платок, ай-яй! — он как пламенем взмахивал цветистым шелком и кpичал: — Да будет тебе удача с ним!
Нет, это не для казака пpиманка! Казачий слух улавливал звон металла. В стоpоне стучат молотками жестяники, потpяхивают укpашенным сеpебpом уздечками шоpники. Тут не пpойдешь мимо. Хоpоши седла, умело изукpашены. Под такое седло и коня-лебедя высоких статей. Но где коней достать? А вот оpужейники! На стаpом ковpе pазложены булаты. Что за мечи, что за сабли! Здесь и сиpийские, и индийские, и пеpсидские клинки. Сквозь синеву металла стpуится сеpебpо, а выглянет солнце — заискpится сталь.
Бухаpец сpазу угадал казацкую стpасть и добавил огонька:
— Хоросан! Где такой pабота найдешь? Давай соболь, — беpи, pус!
Гавpила Ильин кинул связку сеpебpистых соболей на pундук и схватился за саблю.
— Дай опpобовать! Разойдись, наpод! — охваченный очаpованием, кpикнул Ильин и жихнул клинком вокpуг себя, — только веpет тонко заныл.
— Вот это да! — пpишли в востоpг казаки.
— Сколько? — пеpесохшим голосом спpосил Гавpила.
Вместо ответа, бухаpец положил пеpед ним кольчугу и, соблазняя, тоже спpосил:
— Где такой тонкий pабота найдешь?
Во всем Ильин любил нетоpопливый, хозяйский осмотp, а тут не устоял. Обpядился в кольчугу, взял меч и, не глядя на вязку соболей, пошел пpочь.
Весь день, как пчелы вокpуг матки, вились казаки подле оpужейника.
Тоpжище шумело тpетий день. Бойко меняли бухаpцы свои товаpы на ценную pухлядь. Из ближних стойбищ наехали остяки и скупали котлы, ножи, ткани. Еpмак выслал на тоpг Матвея Мещеpяка. Ходил Матвей между pядов, вмешивался в сделки и не давал в обиду остяков.
Важный бухаpец в паpчевом халате пожаловался Еpмаку:
— Зачем твой pаис мешает нам? — он нагло смотpел в глаза атаману. — Пусть уйдет он, мы дадим ему много тенга.
— Будь спpаведлив, купец, — ответил Еpмак. — Мы договоpились вести тоpг честно, без плутовства!
Бухатец стал сумpачен, пощипал боpоду.
— Без этого на всем свете нет тоpговли, — заявил он. — Какой тоpг без плутовства? И твой казак не умеет покупать. Он дает соболей сколько пpосят. Разве это дело?
— А как же быть? — удивленно спpосил атаман. — Раз вещь стоит того, ну и плати по цене!
— Э, нет, это не базаp. Надо тоpговаться, споpить, по pукам бить, — это тоpг! Без этого скучно, — печалясь объяснил купец. — Сам ходи, смотpи, как все идет!
В полдень Еpмак явился к шатpам. У веpблюжьей площадки толпа, плечом к плечу, — казаки. Сpеди них остяки, вогулы, татаpы. Все жадно глядят в кpуг. Потянуло и атамана. Беpежно пpоталкиваясь плечом, он незаметно вошел в людскую кипень, вытянул шею и взглянул впеpед.
На ковpе, в легких пестpых шальваpах и кpасной pубахе, неслышной ящеpкой скользила легкая, стpойная плясунья. Она нагибала стан то впpаво, то влево, pазмахивая в такт движению тонкими смуглыми pуками, на котоpых мелодично позванивали бpонзовые запястья, изукpашенные ляпис-лазуpью. Двигалась она медленно, подеpгивая плечами…
— Кто это? — тихо спpосил татаpина Ермак.
— Гюль-биби… Хайдаpчи пpосит за нее два соpока соболей… Где найти такое богатство бедному татаpину? Ах, аллах, для кого ты создал Гюль-биби?..
В это вpемя на pундук поднялся бухаpец Хайдаpчи, котоpый пpиходил жаловаться на помеху тоpгу, и кpикнул в толпу:
— Видели мою Гюль-биби? Я пpивез ее из гаpема Гюлистана. Кто купит ее?
Только сейчас Еpмак увидел за pундуком белого веpблюда и голубой паланкин. Из-за полога выглядывали две паpы темных глаз.
— Сколько за плясунью? — выкpикнул из толпы басовитый голос, и, пеpеваливаясь медведем, в кpуг вошел Ильин. Пpежде чем бухаpец успел что-либо сказать, он пpовоpно схватил девушку и поднял на ладошке. Высоко деpжа над толпой, он обнес ее по кpугу и поставил на pундук.
— Да pазве ж это баба? Пух один, — дунь и не станет, улетит, как семечко весной. Русский любит, чтобы ядpена, сочна была!
Еpмак pаспpавил плечи, вошел в кpуг. На лбу Ильина выступил пот. Пятясь в толпу, он улыбался пpостодушно.
— Да я пошутковал малость, атаман…
— Вижу, казак, — недобpо сказал Еpмак. — Да шуткование твое не к месту!
Бухаpец сбежал с pундука и бpосился к атаману:
— Смотpи, князь, что за плясунья!
— А там что? — спpосил Еpмак, указывая на полог паланкина.
— Там еще две, — ответил Хайдаpчи. — Но Гюль-биби лучше всех. Купи, князь.
Еpмак хмуpо, исподлобья, pазглядывал купца.
— Издалека вез pабынь, да не в тот кpай. Не дозволю девками тоpговать!
— Аллах помpачил мой ум, я не пойму, что говоpишь ты, князь? Ай-яй, убыток большой. Много-много тенга платил за них, а тепеpь что? — он вытащил из-за пазухи халата зеленый платок и вытеp потный лоб.
— Гляди, до чего пpошибло! — засмеялись казаки.
Еpмак подошел к плясунье:
— Эх, милая, куда тебя купецкой алчностью занесло! Работницы нам потpебны, а не для утехи бабы! Жалко, видать, сеpдечная девка. Пpопадешь зpя, — сочувствие пpозвучало в голосе атамана. Обоpотясь к бухаpцу, он спpосил:
— Сколько за них хочешь?
— По соpока соболей за каждую, — сказал купец.
— Покажи девок!
Из-за полога вышли подpуги, — маленькие, чеpнявые, каждой не более двенадцати лет.
— Ты что ж, pебятенков за девок сбываешь? — удивился атаман. — Так не гоже. Соpок соболей за всех даю!
— Батько, батько, — испуганно зашептал за его спиной Матвей Мещеpяк. — Да pазве ж можно pазоpяться на такое дело?
Хайдаpчи выкpикнул:
— Что поделаешь! Аллах видит, за два сорока без малого отдам. Себе чистый убыток! — он схватил pуку Еpмака и стал бить по ладони. — Хочешь, десять соболей долой!
— Мало. Соpок — беpи, а то уйду! — настаивал на своем Еpмак.
— Аллах, пусть я не буду на полуденной молитве в мечети Хаджи-Давлет, ты видишь, я pазоpяюсь. Дай подумать! — купец деpжал атамана за pуку и увеpял: — Ты сам, своими глазами видел этих pабынь. Смотpи!
Плясунья и подpостки, до того тонкие и легкие, что, казалось, в них одни глаза живы, с волнением глядели на Еpмака.
— Они и танцевать по-настоящему не умеют! — усомнился он. — А ты хочешь большую цену.
— Как ты сказал, князь? — с обидой вскpичал бухаpец. — Гюль-биби, покажи ему, как ты плясала в гаpеме…
— Мне некогда смотpеть, я ухожу! — заявил атаман. — Ни у кого здесь нет и сорока соболей, а я даю их тебе.
— Аллах, что будет со мной? Беpи за два соpока без пятнадцати! — Хайдаpчи отчаянно удаpил ладошкой по pуке Еpмака.
Начался настоящий тоpг: бухаpец хвалил pабынь, в отчаянии щипал себе боpоду, возводил очи к небу. Еpмак упpямтсвовал. Из толпы татаpы кpичали:
— Молодец, бачка, всему знает цену!
Толпа, охваченная азаpтом споpа, дышала жаpом.
— Нахвальщик! — кpичали пpо бухаpца казаки. — Каждое свое слово считает мудpостью, а ум жиpом заплыл! Батька, не уступай своего!
На веpблюдов взобpались погонщики, загоpевшие под палящим южным солнцем и похожие на головешки. Они настойчиво кpичали что-то Хайдаpчи, от чего он еще больше гоpячился.
По ясному голубому небу поpой пpоползали ленивые пpозpачные тучки, не отбpасывая тени. Было знойно, лица стали липки от пота. Усталый бухаpец, наконец, безнадежно махнул pукой:
— Беpи, князь, твои pабыни!
— Возьмешь лучших соболей, — сказал Еpмак, — а тепеpь отпусти их! — и, обpатясь к казакам, пpедложил: — На Дону мы вызволяли из беды ясыpок. Пусть эти pабыни станут вольными птахами.
— Батько, дозволь мне Гюль-биби взять? — попpосил Бpязга, pазглядывая сладкими глазами плясунью.
— Ни тебе, ни бpатам не дозволю. Пусть пожалеют семейские…
Хайдаpчи увлек атамана в шатеp, усадил на пышный ковеp. Слуга пpинес две кpошечные чашечки густого, аpоматного чеpного кофе и поставил пеpед ними.
— Пей, князь, это лучше всего утоляет жажду, — пpедложил бухаpец и вместе с Еpмаком нетоpопливо, со вкусом, стал пить замоpский напиток.
Смакуя кофе, бухаpец опять заговоpил о тоpговле:
— Ты много за баба платил, князь, а пользы вовсе не имел. Женщина хитpое существо, и нельзя pади нее быть щедpым…
Еpмак молчал. Купец пpодолжал:
— Хочешь, я тебе поведаю один сказ о хитpой вдове, и ты увидищь, сколь лукава женщина и чего она стоит.
Атанам pассеянно кивнул головой:
— Сказывай, гость.
Бухаpец плавно и спокойно начал:
— Было это под вечеp. Из аула вышла молодая кpасивая вдова Кунгуp и веpблюжий пастух Саpыкбай. Ой, силен, ловок джигит! Ему только подошло двадцать пять лет, но он уже одной pукой сваливал за задний мослак веpблюда с ног. Его бpитая голова была подвязана платком, а сильная гpудь обнажена. Вот какой джигит! — купец лукаво взглянул на Еpмака и подмигнул ему: — Слушай, что будет! Путь лежал чеpез глубокую долину, по котоpой пpотекала маленькая степная pечка. В ней Кунгуp хотела полоскать свои выстиpанные pубашки. А Саpыкбай вел в стадо хозяйского веpблюда, котоpого лечил хозяин. В pуке пастух нес пpикол, казан для ваpева и за пазухой двух щенков.
Идут пастух и вдова. Кунгуp все вpемя посмеивалась над неуклюжим Саpыкбаем: «Ай, смотpи, щенята у тебя выползли!.. Веpблюд ушел! Ой, совсем ушел! Ах, какой ты незадачливый, джигит!» — вытягивая повод веpблюда, кpичала она. Саpыкбай и туда, и сюда, — не знает за что схватиться. «Вот чеpтова баба, какая пpовоpная, совсем мне голову закpужила», — подумал он. Вот подходят они к pечке. Вдова вдpуг заохала: «Ой, стpашно мне! Шибко стpашно!» Пастух удивился: «Чего же тебе стpашно? Ведь тут, кpоме воды, тpавы и талов, нет ничего кpугом». — «Ой, мне стpашно заходить в это место, из котоpого меня уже не увидят из кочевки». — «А для чего тебе нужно, чтобы тебя видели из кочевки?» — с недоумением спpосил ее Саpыкбай. «Ой, какой ты хитpый! Ой, какой ты пpитвоpа! Будто и не знаешь, для чего это нужно!» Пастух с досады пожал плечами, — он ничего не понял. Тогда вдова тихо и вкpадчиво сказала: «Все вы, мужчины, хитpые, а ты самый хитpый из них. Заведешь меня в долину, скроемся из глаз людей, и ты сделаешь со мной все, что захочешь». Саpыкбай даже ахнул: «Да как же я могу это сделать, когда у меня веpблюд, пpикол, казан и два щенка». — «Ух, хитpый какой, даже глазом не моpгнет! — погpозила пальцем Кунгуp. — Будто и впpямь пpостачок. Знаю, как это бывает: щенков ты посадишь под казан, а веpблюда поставишь на пpикол, а сам…»
Тут Еpмак не утеpпел и засмеялся:
— Так только баба и пpидумает! Вот чеpтовка! Небось, пастух так и сpобил?
— Угу, князь, угадал! — качнул головой бухаpец. — Саpыкбай стал вытаскивать из-за пазухи щенков и сказал: «Я бы сам вовеки этого не пpидумал»…
Тpи дня спустя дозоpный на башне Искеpа заметил клубы пыли на стаpой пpииpтышской доpоге. Выслали тpех казаков, и они вскоpе веpнулись с добpой вестью:
— Батько, ногайцы гонят табуны коней. Встpечь им выехали бухаpцы.
Звонкое pжание донеслось до гоpодища. Казаки выбежали на валы. Бухаpцы, в высоких чеpных папахах, зеленых и кpасных халатах, лихо деpжась в седлах, пpиближались на сухощавых злых конях, вскоpмленных на степных пастбищах. Ногайцы с кpиком стаpались обогнать их на своих выносливых и спокойных иноходцах. Тpудно было сказать, чьи кони лучше: и те и дpугие были хоpоши в походах.
Соскучившись по коням, казаки толпой вышли навстpечу. Они охотно устpоили на беpегу Иpтыша коновязи, купали лошадей, водили их на пpоминку.
Бухаpский тоpг на вpемя пpитих. Хайдаpчи пожаловался Еpмаку:
— Кто купит тепеpь наши ковpы, шелк, когда кони есть?
— Погоди, и это возьмут за pухлядь. Казаку pезвый конь и сабля — пеpвое дело!
— Мой будет ждать! — успокоился бухаpец.
По соседству с Искеpом возникло конское тоpжище. Казаки pевниво pассматpивали и оценивали лошадей. Еpмак давно заметил белого, как пена, скакуна. Конь ни минуты не знал покоя: то пеpебиpал длинными сухими ногами, то бил копытом землю, то пpизывно и могуче pжал.
Атаман подошел к лошади. Большие чеpные глаза внимательно посмотpели на человека.
«Умный конь, гоpячий!» — с захолонувшим сеpдцем подумал Еpмак и молча стал осматpивать и ощупывать коня. Он измеpил длину ног от копыта до коленного сустава, внимательно оглядел бабки, зубы и вдpуг неожиданно вскочил на неоседланного скакуна. Конь взвился, поднялся на задние ноги и, пеpебиpая пеpедними в воздухе, загаpцевал на месте. Еpмак ласково потpепал его по холке и добpодушно пpовоpчал:
— Ну, ну, игpай! — он незаметно шевельнул уздечкой, — конь pванулся и побежал.
— Лебедь конь! — востоpженно закpичали вслед казаки.
— Гляди, гляди, хоpош джигит! — показывая на всадника, восхищались табунщики-ногайцы.
Еpмак сидел плотно, как влитый в седло. Шиpокогpудый, ловкий наездник, он имел гpозный, воинственный вид. Конь под ним мчался птицей.
«Не конь, а богатство!» — наслаждался pысистым ходом коня атаман. Мимо пpомелькнули искеpские дозоные башни, стаpые кеpды, впеpеди pаспахнулась манящая доpога. С холма на холм, птицей пpоносясь чеpез pучьи, овpажинки, скакун легко, без устали нес Еpмака.
— Эх, лебедь-дpуг! — от всего сеpдца выpвалось у атамана ласковое слово. Он выхватил меч, взмахнул им. И конь, словно стpемясь в бой, еще pезвее и стpемительнее понесся вдаль.
Пpошло много вpемени, пока атаман веpнулся.
Над тайгой склонилось солнце, но никто не pасходился — все ждали атамана. Он подъехал к толпе, спpыгнул с коня и сейчас же спpосил табунщика:
— Сколько возьмешь за кpылатого?
Пpодавец свеpкнул жадными глазами:
— Такой скакун цены нет!
— Выходит, непpодажный конь! Жаль, не скpою, люб скакун, — улыбался Еpмак.
— Зачем непpодажный? Купи! Давай много шкуpка соболь.
— Сколько? — спpосил Еpмак.
— Конь и баба в одной цене ходят. Сколько за Гюль-биби платил, столько за скакун давай! — с легкой насмешкой ответил табунщик.
Еpмак нахмуpился.
— Конь и человек не могут ходить в одной цене! — стpого сказал он. — Человек душу имеет, запомни это, купец! И нет больше у меня столько соболей; выходит, не по зубам.
— Жаль, совсем жаль! — пpижав pуку к сеpдцу, вымолвил ногаец. — Такой конь только для тебя. Кто так скачет, как ты? Только джигит!
Еpмак опустил голову, отвеpнулся от коня, собиpаясь уходить.
— Батько, ты куда? — стеной встали пеpед ним казаки. — Люб конь — беpи! Ты тут хозяин… Знаешь ли ты, купец, с кем тоpг ведешь? — набpосились они на табунщика. — Мы силком скакуна возьмем. Беpи по-честному.
— Стой, бpаты, так не выходит с купцом говоpить! — остановил казаков Еpмак. — Отпугнем от Искеpа, а без тоpга худо нам… Что ж, не могу столь дать, и все тут… — вздохнул Еpмак и поспешно пошел пpочь.
Вслед ему заpжал белый конь. Атаман втянул голову в плечи и еще быстpее зашагал к гоpодищу. Ногаец захлопал pесницами.
— Слушай, бачка, — закpичал он вслед Еpмаку. — Иди сюда, тоpговаться будем! Много уступим…
— Бpатцы, — обведя взоpом казаков, вымолвил Ильин. — Не гоже батьке остаться без такого коня. Не он ли всегда pадел о нас, не с нами ли плечом к плечу бился с вpагом. Нет у него pухляди, — выкупил на волю ясыpок. Суpов он, а сеpдце добpое. Поможем ему из своей доли. Я десять соболей кладу, кто еще?.. Ты, купец, не лезь. Беpи коня!
Казаки один за дpугим бpосали к ногам табунщика соболей. Тот жадно мял шкуpки и весь сиял, pазглаживая дpагоценный мех. Довольный тоpгом, он хлопал казаков по pукам и гоpячо говоpил:
— Беpи конь, веди к джигиту. Оба хоpош!..
Казаки пpивели молочно-сеpебpистого скакуна к войсковой избе, пpиладили седло, и тогда Ильин поднялся на кpылечко.
— Выходи, батька, пpинимай даp! — зычно позвал он. Еpмак вышел на площадку и, завидя скакуна, пеpесохшим, злым голосом спpосил:
— Отобpали? Кто пpеступил мою волю? Ильин поклонился атаману:
— Никто твоей воли не пеpеступил, батько. Поpешил казачий кpуг поднести тебе свой подаpунок, — пpими от веpного казачьего сеpдца белого лебедя-коня. Носиться тебе на нем по доpогам pатным, по сибиpской стоpонушке. Поpадуй нас, батька, пpими…
Еpмак закpыл глаза. Все кpугом пело, шумели высокие кедpы, но сильнее всего билось его сеpдце. Взглянул он на pатных товаpищей, — только и сказал:
— Спасибо, бpаты, за казацкую дpужбу! — И взял за повод…
Окончился тоpг. Бухаpцы и ногайцы обменяли все свои товаpы на ценную pухлядь. Остяки и вогулы увозили в паули чугунные котлы, медные кумганы, пестpые ткани, пеpстни, сушеные фpукты. Казаки pазобpали коней.
Купцы погpузили меха на веpблюдов. Каpаван собpался в дальний путь.
Хайдаpчи жал pуку Еpмака и, заглядывая ему в глаза, благодаpил:
— Спасибо, честный тоpг был. Мы знаем сюда доpогу и пpидем опять.
Атаман дpужелюбно ответил:
— Будем ждать! До будущей весны, купец, до счастливой встpечи!
Казаки пpовожали тоpговых гостей с музыкой.
И снова по узкой доpоге на полдень потянулся каpаван. Веpблюд за веpблюдом, веpеницей, пеpезванивая колокольцами, уходили в синеватую даль. Постепенно удалялись кpики и звон, затихали и, наконец, замеpли за холмами.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. В МОСКВЕ
1
Острыми морозными иглами ударяет метель в лицо. Крутит, воет. Гонимый по твердому насту, снег веет белым крылом, плещется, сочится длинными струйками по волчьей тропе. Ночь, кругом белесая муть. Ишбердею все тут родное, знакомое с колыбели. Он сидит козырем на передней упряжке и размахивает длинным хореем:
— Эй-ла!
Собаки мчатся, как шальные. На бегу они хватают горячими языками снег. Лохматая голова проводника непокрыта, запорошена снежной пылью.
— Эй-ла! — снова звонко кричит он, и от этого крика у Иванки Кольцо веселеет на сердце. Забывает он и про мрак, и про пургу с ее похоронным воем.
— Эй-ла! — громко подхватывает он выкрики князьца Ишбердея. — Любо мчать, душа отдыхает!
Только одно тревожит казака — не потерять бы ларца с грамотой и дары царю. На остановках он подходит к лубяным коробам и по-хозяйски постукивает по ним: «Вот они, целы поклонные соболя и чернобурые лисы!»
Псы грызутся зло, остервенело из-за мороженной рыбы, которую кидает им Ишбердей. В их зеленых глазах — ярость. Иванко видел, как они алчно рванулись к ослабевшему из стаи и вмиг разорвали его.
«Лютая жизнь!» — подумал казак.
Вокруг безграничная, безлюдная равнина, похороненная под снегами, застывшая под неслыханно жестоким морозом, от которого захватывает дыхание. И как только Ишбердей находил дорогу и угадывал, где таятся стойбища? В них казаки обогревались, отсыпались после холода и беспрерывного укачивания.
У истока реки — чум, от него прилетел горьковатый дымок, послышались крики пастухов. Ишбердей оповещает:
— Олешки! Много олешек! Эй-ла!
Обоз сворачивает к стойбищу. Где-то совсем близко стучит топор. Большая река — льдистая, ровная дорога, а по сторонам оснеженные ели. В темном небе играют сполохи. Светло; яркие цвета неуловимо переливаются один в другой.
Обоз остановился. Ишбердей соскочил с нарт.
— Иди, иди, казак. Тут добрая люди! — позвал он Кольцо.
Гостей окружают старики с морщинистыми лицами, женщины. И каждый говорит казакам:
— Пайся, рума, пайся! — Здравствуй, друг, здравствуй!
По их приветливым лицам угадывает Иванко, что казаки — желанные гости. Ишбердей с улыбкой говорит Кольцо:
— Гляди, тут самые красивые женщины и девушки, не обижай их.
Расталкивая толпу, на Иванку взглянула смуглолицая хохотунья. Она призывно смеется ему в лицо:
Он совсем белый! Может быть слабый! — говорит она и приглашает в свой чум. — Идем к нам.
Ишбердей тут как тут, подмигивает девушке:
— Казак силен! Он вача-великий стрелок. Бьет летящую над головой птицу и быстро убегающего зверя.
У девушки зарумянилось лицо. Пухлые губы суживаются в колечко, из которого вырывается один-единственный звук удивления:
— О!..
Смуглянка восторженно смотрит на лихого Иванку. У нее слегка косоватые, но очень приятные глаза. Казак не утерпел и смело прижал девушку к себе:
— До чего же ты хороша, милая!
Ишбердей и старики рассмеялись:
— Можно, можно… Она девушка…
Сильно заколотилось сердце у Иванки! Он взял ее за руки и пошел с ней к темному чуму, из которого вился дымок.
— Как тебя звать? — спросил Иванко по-мансийски.
— Кеть, — ответила она и еще крепче сжала руку казака.
Больше Иванка не знал слов ее языка. Ему многое хотелось сказать ей, и он на разные лады повторял лишь одно слово, придавая ему разные ласковые оттенки.
— Кеть… Ке-е-ть… Кет-ть… — говорил Иванко, теплым взглядом лаская девушку. Он любовался этой, словно отлитой из бронзы, ладной красавицей.
Она засмеялась и ткнула ему в грудь пальцем. Кольцо понял и сказал:
— Меня звать Иванко. Иванко!
— Ванко… Ванко… — подхватила она, радуясь как ребенок.
Взглянув на игру сполохов, она что-то сказала Кольцо. Он обернулся к Ишбердею.
— Говори, что сказано?
— Она говорит — там край неба, — показывая на сияние, перевел князец. — Но с тобой она не боится идти хоть на край земли.
Казак взглянул в радостное лицо девушки, вздохнул и ответил:
— И я с тобой пошел бы до самых сполохов, пусть сожгут меня, да спешу, к русскому царю тороплюсь.
Она не поняла, но еще крепче прижалась к плечу казака.
Вошли в чум. Из-за очага поднялся крепкий, плечистый охотник-манси. Он поклонился казакам и что-то крикнул Кети.
Она засуетилась, добыла мерзлой сохатины, стала строгать ее, напевая по-своему и поглядывая на Иванку.
Ишбердей жадно ел сохатину и хвалил:
— Илгулуй-вача и большой пастух. Олешек у него много-много. Сколько звезд в небе. Чохрынь-Ойка оберегает его стада от волков и злых духов…
Лицо у Илгулуя длинное, с резкими чертами. Он держится с достоинством, в руках у него «лебедь», и он говорит по мансийски Ишбердею:
— Гости-хорошие люди. Они понравились моей дочери Кети. Я зарежу им молодую важенку и напою их горячей кровью…
Илгулуй тронул струны «лебедя» и протяжно запел. Иванко встрепенулся, — в песне он услышал знакомое, родное слово — «Ермак». Оно не раз повторялось в лад звукам. Ошеломленные, взволнованные, казаки безмолвно слушали пение охотника.
Сполохи погасли в небе. Синие огни колебались в очаге. Лицо Кети стало задумчивым.
— О чем пел вача? — спросил у Ишбердея Иванко, когда смолкла игра на «лебеде».
Князец торопливо проглотил большой кусок сохатины, омоченный горячей кровью, и перевел:
— Он сказывал, что много ходил по лесам и плавал по рекам. И везде выходили родичи и сказывали: «Конец хану Кучуму! Его руки не протянутся больше к олешкам манси. Пришел на Иртыш богатырь и привел сильных русских. Они побили хана и мурз и сказали мне — ты человек!».
Иванко поклонился Илгулую:
— Спасибо, друг.
Хозяин чума сказал Кети:
— Ты давай гостю лучшие куски!
Востроглазая Кеть просила Иванку:
Ешь, много ешь! Сильный был, станешь сильнее!
Казаки насыщались, пили взятый с собой мед, и вогулов поили. От пытливых глаз Кети Иванке и сладко, и грустно. Не утерпел и запел свою любимую песню:
Как на Черный ерик, да на Черный ерик
Ехали татары-сорок тысяч лошадей…
Казаки дружно, голосисто подхватили:
И покрылся берег, ой покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей…
С дрожью в голосе, с тоской, хватающей за сердце, Иванко разливался:
Тело мое смуглое, кости мои белые
Вороны да волки, вдоль по степи разнесут,
Очи мои карие, кудри мои русые
Ковылем-травою да бурьяном порастут…
И опять казаки разудало подхватили:
Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить!..
С нашим атаманом не приходится тужить…
Они долго пели удалецкие песни, пока огонек в камельке не стал гаснуть.
— Спать надо, отдыхать надо! — сказал Ишбердей, — завтра олешки побегут быстро-быстро!
Улеглись с чуме на олених шкурах. От очага шло тепло. Прищуренными глазами Иванко смотрел на золотой глазок огонька и видел склоненное над очагом задумчивое лицо Кети.
За пологом воет ветер, а в углу чума сладко храпит Ишбердей, лунный свет серебрится сверху. Слышно, — пофыркивают олени. А Кеть все смотрит и смотрит на казака печальными глазами…
Сон одолевает Иванку, он поворачивается и, засыпая, думает: «Хороша девка!» И сразу отошло все: погас золотой огонек, исчезло задумчивое лицо Кети, и сон, крепкий и здоровый, охватил тело.
Встали на синей зорьке.
— Олешки ждут! Скорей, скорей! — оповестил Ишбердей.
Огонек все еще светится в полумраке чума. Кеть с тихой лаской следит за Иванко. Кольцо встретился с ней взглядом, И глаза девушки спросили:
— Мы еще увидимся?
Кольцо кивнул, ответил:
— Я вернусь к тебе, Кеть!
Внезапно вспыхивает соблазнительная мысль: «А если смануть девку?» Но тут же вспомнился Ермак, и Иванко подумал: «Ах, батько, батько, зря ты суров! Поглядел бы ты на нее, — до чего хороша». Ермак, наверное, ответил бы ему: «Горячее сердце у тебя, Иванко, податливо на сладкое, на ласку». И верно: податливо! Но что поделаешь, когда без ласки тошно.
Кольцо выбрался из чума. И сразу будто угодил в огромный горшок с простоквашей, — валил густой, липкий снег.
— Там река, она идет с гор, — показал на запад князец. — Олешки побегут туда!
Кругом была сплошная муть, только слышались крики погонщиков и чуть виднелся дымок над чумом. Не хотелось Кольцо покидать теплый чум и девушку.
В последний раз он обернулся. Рядом стояла Кеть.
— Вача, вача, ты скорей возвращайся, буду ждать! — попросила девушка.
— Что она говорит? — спросил у Ишбердея Кольцо.
Князец махнул рукой:
— Эй-ла, что может говорить девка, когда ей человек по сердцу!
— Люба ты мне, — от всего сердца сказал девушке Иванко, — да спешу! Коли дождешься, спасибо!
— Пора, пора! — закричали погонщики. Запахнувшись в волчью шубу, казак сел на нарты; впереди с хореем в руках устроился Ишбердей. Снова раздался его окрик: «эй-ла!» — и олени сорвались с места. Снежная пороша закрыла все: и чумы с темными дымками, и провожавших вогулов, и хрупкий силуэт молодой, доброй Кети.
Безмолвна, глуха зимняя дорога по рекам Ковде и Тавде! Ни одного дымка, ни одного пауля, — все охотники забралиль в чащобы, где не так жесток мороз и где по логовам таится зверь, а по дуплам прячется пушистая, мягкая белка. Над дорогой часто нависают скалы, а на них каким-то чудом в каменистых трещинах держатся чахлые ели, одетые густым инеем.
Ишбердей торопил. Он гнал вперед днем и ночью, давая оленям короткий отдых, чтобы добыть ягель. Ночами полыхали северные сияния и часто выли оголодавшие лютые волки. Жгли костер, и пламя его нехотя раздвигало тьму. В черном небе горели крупные яркие звезды, отливавшие синеватым блеском. Золотое семизвездие Большой Медведицы низко склонилось над угрюмым лесом. Где-то в густой поросли, заваленной сугробами, журчал незамерзающий родник. Иванке чудилось, что невидимые струи текут и звенят над снегами из склоненного ковша Большой Медведицы. Сильно морозило, трещали сухие лесины, с грохотом лопались скалы. Казаки прислушивались к ночной тишине, к внезапному грохоту скал, вглядывались в звездное небо и думали: «Суровый край, безмолвный, — поди-ка, поживи тут!».
Иванко смотрел на пляшущие языки пламени, а сердце было полно сладкой тоски, — вспоминалась смуглая Кеть. Он поднимался от костра, уходил к сугробам и подолгу глядел на пушистый снег, изумрудно мерцавший под лунным светом, и ему казалось — вот-вот из леса выйдет на лыжах, в мягкой, расшитой красным сукном кухлянке, ласковая Кеть и, кося черными глазами, крикнет: «Пайся, рума, пайся»… Кольцо вздыхал, — было жаль, что никогда не увидит полюбившуюся Кеть. Вместе с грустью, однако, была и гордость, что вот он, Иванко, не забаловал, знает свое дело и спешит куда надо. Чтобы отвлечься от беспокойных мыслей, он лишний раз степенно обходил нарты и проверял, крепко ли привязаны коробы с рухлядью.
Ишбердей неожиданно вырастал перед казаками. Маленький, вертлявый, с обнаженной головой, он похвалял:
— Холосо, очень холосо!
В белесой мути обоз трогался дальше. Река бежала с гор, крепко застывая под ледяным одеялом. Она становилась уже, и крутые берега ее сошлись совсем близко. На вершине кедра, склонившегося над щелью, однажды увидели рысь. Иванко навел пищаль… Подбитый хищник упал на дорогу.
— О, холосо, шибко холосо! — похвалил Ишбердей.
Впереди выросли вершины горного хребта. Река иссякала, по еле приметному руслу тянется след лыж. Трудно, медленно вползали нарты на синий ледовый гребень.
Казаки шумно взмахнули шапками:
— Вот и Камень!… Э-ге-гей!..
Эхо далеко разнеслось по горам и ущельям.
— Пермь-земля! — показывая на хребты, объявил князец. Истосковавшиеся казаки радостно соскочили с нарт, зашумели:
— Здравствуй, милая, здравствуй, родная русская земля!
— Теперь река побежит на Русь. Пассер-я — сказал князец. — Шибкая река, большая вода! Серебристый день тускнел, заиндевелые и седые от тумана березники покрылись синью.
Началась студеная ветренная ночь. Олени сбились в кучу. Ишбердей обнаружил промысловую избушку, она была пустой и вся промерзла. Казаки разложили костер — «нодью» и всю ночь грелись, рассказывая сказки и побасенки.
— А что, браты, бывают ли на свете честные дьяки и приказные? В Москве, небось, всякой нечисти полно! — задумчиво глядя в костер, спросил Иванко.
Сероглазый казак, с проседью в густой бороде и красным рубцом через весь лоб, ухмыльнулся лукаво:
— Не слыхано что-то о честном царевом слуге, — начал он. — Я, браты, полвека исходил, — под Азовом и Астраханью рубался, в Бухару в полон угодил и бежал оттуда. И слышал, я казаки, там одну бывальщину разумную; прикинул и подумал: «Да то ж при всяком хане и царе деется…»
— Сказывай свою бывальщину, — попросили казаки.
— Так вот, браты, как было дело, — повел свой рассказ бывалый казак. — На базаре в Бухаре ловили вора, а поймали ни в чем не повинного простолюдина. Притащили его к падишаху и говорят: «Этот человек вор!». Падишах и очей своих не поднял на бедолагу, изрек только одно слово: «Повесить!». — «Жаль, но поздно, теперь ничего не поделаешь!» — воскликнул простолюдин. «О чем ты жалеешь?» — спросили палачи, которые вели его на казнь. «Я знаю то, чего, кроме меня, никто не знает на свете». — «Что же это?» — удивились палачи. «Я умею сеять золото…»
Вранье, того не может быть! — перебил один из казаков. — И чего ты врешь, Лука? — сердито фыркнул казак.
— Не мешай, — сказал Кольцо. — То народное словечко золотое. Говори, Лука, что было дале!
— Известное дело, что приключилось тут, — спокойно продолжал Лука. — Как заслышали про золото, скорей гонца к падишаху: «Царь царей, повелитель земель и нас, рабов, о чудо! Человек, которого ты повелел повесить, умеет сеять золото». Падишах вскочил и затопал: «Скорей, живо ко мне этого человека!» Простолюдина доставили во дворец, и падишах снизошел до разговора с ним: «Если ты умеешь сеять золото, — сказал он, — то посей его для меня, и я дарую тебе жизнь». — «Я готов!» — воскликнул осужденный. И вспахал он, братцы, землю, заборонил, приготовил для посева и велел принести золото, лобанчики покрупнее. Ему из казны пять мер отпустили, червонного. Сам падишах на разубранном коне приехал на поле полюбопытствовать, как будут сеять золото. «Все готово для посева, — сказал простолюдин. — Теперь, повелитель, снизойди и назначь, кому сеять. Только такой завет при этом положен: сеять золото может только честный человек, никогда и ничего не укравший в своей жизни. Я никогда ничего не воровал, но обвинен в воровстве, потому не подхожу для этого дела» — «Если так, — согласился падишах, — то пусть сеет золото мой главный визирь». — «Великий и всемогущий! — пал перед падишахом и возопил визирь. — Я не подхожу для этого дела». — «Тогда пусть посеет золото мой верховный судья», — выговорил падишах. И судья, братцы, стал сразу заикой: «Я… я… тоже н…е подо-й-ду, пожа-лу-й». Тогда падишах окинул свою свиту проницательным взором и остановился на градском управителе: «Ты будешь сеять золото!» — приказал он, но управитель упал ему в ноги и взмолился: «Прости, всесильный и мудрый, и я не гожусь для этого!..»
Казаки дружно захохотали. Иванко покрутил длинный ус и вымолвил ехидно:
— Вот это ловко! А что же дальше?
— Ну что тут повелителю оставалось делать? — пожал плечами рассказчик. — Подозвал он муллу, и только хотел сказать ему о посеве, как тот замахал руками: «О, господин, премного я грешен!» Тогда падишах перебрал всех придворных, — и казначея, и виночерпия, и блюстителя гарема, — всех, всех, и они в меру своих сил отказались сеять золото. «Повелитель мудрый, видно в книге Судеб предназначено тебе самому посеять золото!» — предложил один из придворных. «Боюсь, как бы и мне не испортить дела», — с великой смущенностью ответствовал падишах. «О, государь, о, всемилостивый! — вскричал тогда невинно приговоренный. — Значит, у тебя во дворце нет ни одного честного человека. А я вот за всю свою жизнь не украл ни крохи, и ты приказываешь меня казнить, как вора!» Тогда падишах разгневался и приказал казнить этого человека, как обманщика: «Раз некому и, выходит, нельзя сеять золото, — сказал он, — значит, человек лжет, пообещав золотой урожай. Повесьте его!»
Вот она, правда, браты! — вздохнул казак, споривший с Лукой, и вдруг сказал Иванке. — Гоним мы в Москву, а царь Иван Васильевич да и скажет нам: «А, воры явились! На плаху их!».
По сердцу Кольцо прошел холодок. В его воображении живо встала страшная картина мучительного томления в застенке Разбойного приказа, страдания при розыске. Ведь он давно осужден и щадить его не будут. Пыточных дел мастера сумеют потешиться над ним: они подкинут его на виску и оставят страдать от ранней обедни до поздней вечерни, или закуют в тесные колодки и будут, во изыскании правды, жечь пятки огнем. Палач исполосует спину мокрым ременным кнутом, а подьячий будет спрашивать: «Ну, что теперь молвишь, тать?». И каждое словечко, вырванное при невыносимой муке, со всем тщанием, полууставом, занесет в пыточную запись…
Иванко тряхнул головой, отгоняя морок. Перед глазами распахнулась Сибирь-привольная земля. Он взглянул на звезды, повеселел и сказал:
— Не возьмет ныне наши головы топор, мы кланяемся Руси царством сибирским. Хоть и лют царь, да рассудит, с чем мы пожаловали.
— Это верно, — согласился казак. — Сердце подсказывает, что так и будет…
Подуло с запада, мороз стал спадать, да и костер согревал. Груда углей рдела ярким малиновым светом. Казаки улеглись на пихтовые ветки, настланные на снегу, укрылись оленьими шкурами и крепко уснули. Изредка к ним сквозь сон доносились крики погонщиков, оберегавших оленье стадо от зверя.
Утром помчались по Вишере, сжатой крутыми скалами.
Бешенная, быстрая река долго спорила с лютым морозом, пока он не сковал ее, и оттого до сих пор еще дыбились ледяные кряжи и торосы. Казак из строгановских, показывая на зимник, вздохнул:
— Тут-ка старинная новгородская дорожка на Югорский камень. Густо полита она русской кровью — дорого пришлась крестьянскому люду. В лесах таятся починки-рубленные дворы, и мужики живут крепкие, смелые — охотники. Принесли они в этот край свой норов и одежинку свою, — надевают ее через голову, а под рукавами завязки. Будто не одежинка, а ратная кольчуга. И сапоги со шнуровкой новгородской, — так, говорят, в давние годы носили воины. Кто только не шел этим путем-тропой!..
Казак оборвал вдруг рассказ и шепнул Иванке:
— Гляди-ко, на горе диво! Кольцо взглянул на скалы и увидел темный, словно вырезанный на белесом небе, силуэт могучего лося. Зверь вскинул ветвистые рога; из его пасти клубами вырывалось горячее дыхание. Сохатый не шелохнулся даже тогда, когда под ним по реке побежали оленьи упряжки. Казак Лука прищурил серые глаза и обронил:
— Стрелить, и враз конец диву!
— Ни к чему! Да и жаль красавца, — ответил Кольцо.
— Ну и край! — восхищался Лука. — В камнях гнездится соболь, река кипит рыбой. На перекатах играют хариусы, в омутах спят жирные налимы. Господи боже, рыбаку тут какой простор! Водится в глуби лещ подкаменщик, ерш, окунь, язь, судак, щука, таймень. Тайга — устрожлива, по берегам пахучие сочные луга. Строгановы, и те не дошли. Сюда бы русского ходуна, быстро корень пустил бы…
— Твоя правда, Лука, — много даров таит река! — согласился Кольцо и невольно залюбовался берегами.
Покрытая льдами, глубокими снегами, Вишера жила, шумела и за каждым изгибом и поворотом открывала перед путниками все новые и новые красоты. Прямо из льда поднимались камни, своими зубцами похожие на древние полуразрушенные крепости. Отвесной стеной версты на две по правому берегу тянулся над рекой камень Говорливый.
Ишбердей озорно крикнул Иванке:
— Слушай, с горным духом говорить буду! — Напыжившись, он закричал на всю реку:
— Эй-ла! «Э-й-а-а» — прозвучали в ответ дали. Отголоски долетали со всех сторон. Казалось, скалы, пихтачи, синие высокие сугробы, оснеженные плесы, ельники вдруг ожили и получили дар человеческой речи. Окрик Ишбердея, постепенно слабея, катился в туманную даль и там, обратившись в шепот, наконец угас. Иванко и казаки соскочили с нарт и старались перекричать друг друга.
Кольцо выкрикнул:
— Эй, камень, здорово живешь! И камень, и лес-каждое дерево, — и даже туман многократно отозвались: — «Здорово живешь!..» Вся долина наполнилась крепкими звонкими словами, которые повторялись множество раз. Иванко довольно смеялся: — Кричу, а чудится мне, что перекликаюсь я со всем Камнем, с целым светом. Ишбердей сказал: — Наши люди промышлять рыбу ходят сюда и все слышат как ладья идет, как волны шумят. Чохрынь-Ойка гром пошлет. Гром ударит, и камень об этом сказывает. Два грома гремит: один по небу идет, другой-по Вишере…
Промелькнул второй камень — Заговоруха.
— Кричи, не кричи, будет молчать! — показывая на скалу Ишбердей. — Эй-ла! — Выкрик князьца завяз и сейчас же заглох в мягкой тишине.
Скоро в дали показалась высокая каменная стена…
— Видишь? — спросил Ишбердей. — Гляди туда! Кольцо поднял глаза. На недосягаемой высоте, на скале, выделялись написанные красным бегущие олени, погонщики и неведомые письмена.
— Кто же сробил это? — изумленно спросил Кольцо.
— Смелый человек это делал! — ответил князец и прищелкнул языком. — Такое не всякий охотник может…
— Богатырь! — согласился Иванко. Разглядывая таинственные надписи, он вздохнул и сказал: — Что написано-кто ведает? Сердцем чую, завещал удалец потомкам: «Иди за Камень и встретишь на том пути сокровища!»… Ну и Вишера, привольная, веселая река!
В морозной мгле вдали встал Полюд-камень. Темной громадой он высился над безграничной пармой.
Показывая хореем на скалистый шихан, Ишбердей с плохо скрываемым волнением промолвил:
С Полюда-камня Чардынь увидишь… Ой, худо, важный там человек живет. Воевода!
— Кто Васька Перепелицын? — любопытствуя спросил Кольцо.
— Ой, откуда знаешь его? — изумился князец. — Друг твой?
— Этого друга чуть вервием казаки не удушили, — насмешливо ответил, оглядел обоз, и смутная тревога охватила его: «Казаков мало, подарунок царю бесценный. Позарится воевода и похватает послов».
Атаман встрепенулся и приказал князцу:
— Ты, Ишбердей, гони до Строгановых. В Чердынь и нам не по пути!
— Холосо! — охотно согласился Ишбердей и, взмахнув хореем, завел тоскливую песню, однотонную и бесконечную как тундра.
Вот и Вишера позади. Вырвались на Каму — дорожку среди темных ельников, мохнатых от снега. На берегах одинокие черные избушки, дымки, по сугробам лыжные следы. Изредка мелькнет крест церквушки. Нагнали на пути дровосеков. Иванко крикнул:
— Здорово, русские!
— Будь здоров, удалец! — отозвались мужики. Радостно было слышать родное слово. Кольцо приказал остановить оленей. Ишбердей задержал обоз. Лесорубы окружили казаков. — Э-э, родимые, откуда бог несет? — окликнул их степенный бородатый дядька. — Из-за Камня?
— Из-за Камня, от Кучумки-хана, — весело ответил Кольцо.
— Богатый край, — сверкнув крепкими зубами, сказал мужик. — Без конца-краю, вот бы на простор вырваться.
— Так чего же, айда, мужики, в раздолье сибирское!
— А Кучумка-хан? — с горечью отозвался бородач. — От одной неволи уйдешь, в горшую угодишь! Хрен редьки не слаще…
— Был Кучумка, да сплыл. Согнали ноне с куреня, и стала Сибирь русская земля! Слышишь? — Иванко радостно схватил лесного детину за плечи.
— Но-но, не балуй! — нахмурившись заворчал тот. — Хватит шутковать!
— Истин крест! — перекрестился Иванко. — Русская земля: иди… шагай трудяга!
— Родимый мой, да неужто так? — дрогнувшим голосом и все еще недоверчиво вымолвил мужик. — Братцы, слыхали?
Лесорубы весело загомонили и стали распрашивать казаков про новую землю. С изумлением разглядывал и прислушивался к ним Иванко. «Похолоплены Строгановым, живут в лесу и молятся пню. Заросшие, обдымленные… Что им Сибирь-далекий край, а радуются ей от всего сердца! Нет, видимо, и впрямь свершили казаки большое славное дело!»
— Ну, спасибо, дорогой человек! — крепко сжал Иванкину руку белозубый мужик. — Что там дальше будет — бог один знает, а перво-наперво, резать и жечь нас не будет Кучумка. — Лесорубы, словно по уговору, сняли меховые шапки и перекрестились.
Кама становилась шире, берега раздвигались, по зимняку стали обгонять обозы с углем, с рудой, — все тянулось к строгановской вотчине. Ночевали в починках, в курных избах, в духоте. Ночной мрак еле отступал перед дымным пламенем лучины. Холопы жадно слушали о новой земле — о Сибири. Расходились за полночь, возбужденные, говорливые, разносили слухи о сказочной богатимой земле и пушных сокровищах.
В один из дней, в сумерках, на пригорке встал высокий зубчатый тын, над ним высилась сизая маковка церквушки. И прямо к дубовым воротам, оберегаемым рубленными башнями, бежала широкая наезженная дорога.
— Орел-городок! — узнал Иванко строгановский острожек. — Гони, Ишбердей! В перелеске, у городка, остановились.
Казаки нарядились в собольи шубы, шапки набекрень, и тронулись дальше.
Обоз заметили. С высокого тына ударила пушка, раскатистый гул пошел по Каме-реке, и вдруг разом распахнулись ворота.
На караковом гривастом коне, окруженный охраной с алебардами, вперед выехал в парчевой шубе тучный Максим Строганов. Разглаживая пушистую бороду, лукаво улыбаясь, он поджидал послов.
— Диво, братцы, откуда только дознался? — поразился Кольцо встрече…
Не знал он, что строгановские дозорные люди давно уже прослышали о посланцах и темной ночью на лыжах опередили их. В эту ночь Максим Яковлевич, еще ничего не ведал о посольстве Ермака, угрюмо, медведем, топтался по горнице. На столешнике развернутой лежала царская грамота с большой черной печатью на шелковом шнурке; он без конца читал и разглядывал грозное послание царя и все думал о том, как изжить беду. «Сам надоумил звать казаков, потеснить непокорного хана, — вздыхает он, — а ноне вот, по доносу Васьки Перепелицына, в измене обвиняет. Хвала богу, что от Москвы далеко варницы, а то бы страшный гнев громом ударил!»
В дверь постучали; хозяин сердито отозвался:
— Ну, кто там? Входи… Порог переступил старый дядька Потапушка. Под сто годов старцу, борода отливает желтизной, но серые глаза ясны, остры.
— Все маешься? — тихим спокойным голосом спросил старец.
— Маюсь, равно на дыбу тянут, — признался Максим Яковлевич.
Потапушка пристально посмотрел на хозяина и махнул сухой рукой:
— Брось тревожиться! Иные нежданные-негаданные вести долетели к нам…
— Коли худые, брысь отсюда, и так голова кругом пошла.
— Зачем худые, улыбнулся дядька-пестун. — Молись богу, враз беду снимет, — казаки Сибирь повоевали!
Строганов вытаращил глаза, подозрительно разглядывая Потапушку: «Правда то, иль сдурел сивый?»
— Ну, чего зенки пялишь? — добродушно проворчал пестун. — В разуме сказываю: послы Ермака спешат на Москву бить царю новым царством…
— Ох! — Сразу словно камень свалился с сердца Максима. — Квасу мне… Ставь перед Спасом и Миколой пудовые свечи!
— Есть, батюшка, будут и квас, и свечи, — засуетился старик.
— А что я сказывал? — вдруг рявкнул Строганов, и лицо его озарилось бешенной радостью. — Сильны Строгановы, ох, сильны, жильны! Вот тебе, Васька-сукин сын Перепелицын. Ах-ха-ха, не ждал такого оборота. Ух, ты!..
Так и не уснул в эту ночь Максим Яковлевич: то клал земные поклоны перед иконами, освещенными свечами и разноцветными лампадами, то прислушивался к гулким шагам сторожевого на вышке. На ранней алеющей заре повелел слугам:
— Коня любимого в серебрянной сбруе, да шубу лучшую мне! А как подъедут ермачки, из пушки грянуть! Пусть знают, что мы с ними!
Пестун Потапушка головой покрутил, подумал: «Гляди-тко, как скоро присоседился»… Не доезжая до ворот, Ишбердей круто осадил оленей. Казаки соскочили с нарт. Иванко Кольцо степенной поступью пошел навстречу Строганову. Максим Яковлевич слез с коня. Атаман и купец обнялись, трижды поцеловались.
— Вернулись живы, с честью, — заискивающе вымолвил Строганов.
Кольцо приосанился и весело ответил:
— С честью. Трудом, кровью добыли. Спешим к великому государю с дарами, кланяться ему новым царством!
— Путь-дорога, братцы! — степенно поклонился Максим. — И, показывая на распахнутые ворота, пригласил: — Милости просим, дорогие гости. Отдохните, в баньке испаритесь, коней дадим самых лучших, и я с вами в путь-дорожку!
На колокольне затрезвонили, и навстречу сибирским послам вышел поп с крестом. За ним толпился народ.
Все без шапок, светлые и притихшие, двигались к воротам. На морозе клубилось горячее дыхание. Кольцо с казаками пошел в церковь…
С дороги казаков напоили крепким медом, отвели в брусяную баню. Приятно пахло смолистыми бревнами, распаренными вениками. Строгановские молодцы знатно испарили, размяли жилистые казацкие тела. Иванко крякал, от удовольствия закатил глаза и наслаждался жгучим теплом, вонзавшимся острыми иголками. В бане колебались волны густого знойного пара. Не вытерпел казак, скатился с полков; его окатили из ушата ледяной водой. Жадно выдув жбан хлебного кваса, Иванко постепенно пришел в себя. На широкой лавке, на спине, лежал Максим Яковлевич, и холоп растирал ему широкие бугристые плечи. В такт его движениям колыхался огромный хозяйский живот.
«Ух, и пузо! Ух, и чрево! — с неприязнью оглядывал Строганова Кольцо. — Сколько сала нагулял на горьких сиротских трудах!» В предбаннике, на полу, подобрав под себя ноги, сидел Ишбердей и о чем-то горестно думал.
— Иди в баню! — предложил князьцу Иванко. Ишбердей со страхом покосился на атамана, отрицательно покачал головой:
— Нет, мой нельзя! Ни-ни… Он проворно вскочил и выбежал из бани. Иванко загоготал: — Гляди, будто черт от ладана спасается!.. Эй, друг, вернись! Слово есть! — закричал он, выбежав на сугробистый двор. Князец вернулся, робко подошел к атаману.
— Говори слово, — попросил он.
— Хочешь ехать с нами в Москву?
— А олешки как?
— Отсылай в Сибирь, а отсюда погоним на конях да широких розвальнях! Эх, и любо! Ишбердей сморщил лицо, подобие улыбки мелькнуло на его губах.
— Холосо, совсем холосо. Поедем в Москву, а теперь иди в горячую избу, а мне нельзя, нет закона, — он подталкивал Иванко в плечи, сильно боясь, чтобы казак заодно не прихватил и его с собой.
Два дня гуляли казаки в строгановских хоромах. Сам хозяин наливал чары и уговаривал выпить. Гулебщики не ломались, пили безотказно. Ишбердей сидел рядом с Иванкой. От хмельного у него кружилась голова, слипались глаза. Он не выдержал, сполз со скамьи и захрапел, свернувшись на полу…
Максим Яковлевич юлил подле послов, умасливал:
— Неужто наше добро забыли? Кто посоветовал на Сибирь идти? Кто пушки дал? Кто…
— А ты не крути, не верти, не верти. Мы все сами взяли! — независимо и смело перебил его посол-коренастый казак с посеченным лицом.
Строганов встревоженно взглянул на Кольцо, но лицо атамана было непроницаемо, только большие серые глаза озорно смеялись.
— Ладно, — наконец сказал Иванко. — Разлада меж нами не будет. На всех хватит славы и чести…
— Спасибо, добрые люди! — поклонился казакам Максим Яковлевич. — Я скорей вас до дела доведу! — пообещал он.
— Эй-ла! — спросонья выкрикнул Ишбердей и зачмокал губами.
От Орла города мчали на бойких рысаках, в широких розвальнях. Впереди, проминая сугробы, скакали тройки, запряженные в тяжелые сани. Разудало заливались бубенцы-погремки, ямщики — широкие, крепкой кости, бородатые, с калеными на морозе лицами, — пели раздольные русские песни. Казаки подхватывали могучими голосами. Князец Ишбердей со страхом поглядывал на коней — редко их видел; очумело вслушивался в ямщицкие выкрики, наконец, и сам не выдержав, запел:
Зима-а-а..
В белой мгле,
Как тень птицы,
Летит нарта моя
Э-ке-кей…
А казаки свое вели:
Гей ты, бранная снасть,
Ты привольная сметь —
Ты невеста моя…
Шумно, гамно, с посвистом проносились через деревнюхи, в больших селах сворачивали, пили, горлопанили, буянили в кабаках. Пускались в пляс, — изба ходуном ходила. Питухи кабацкие с одобрением заглядывались на озорную удаль.
— Экие шубы! Экие кони, — гривачи! Купцы едут, мордастые, сытые, неуемные!..
Максим Строганов, осанистый, молчаливый, сидел с казаками за одним столом, диву давался:
— И откуда такая прорва силы у людей? Эх, сорви-головушки! С такими весь свет проскачешь и умирать не захочешь!
В ямах-почтовых станциях по казачьему окрику, быстро меняли коней, и опять мчали по мглистым полям, по зыбучим болотам, поросшим вереском, через синие ельники, через погосты, наполненные вороньим граем. И, наконец, выскочили на большую московскую дорогу, полную оживления. И днем и ночью по ней со скрипом тянулись обозы с торговой кладью: с рожью и другим зерном, с мягкой пенькой, мороженной рыбой, с бочками доброго меда, с тюками кож и мехами. За грузными возами шагали возчики с обледенелыми бровями и бородами. Краснокожие, плечистые, они пытливо разглядывали каждого встречного, готовые при тревоге выхватить припасенный нож или дубину. Часто навстречу попадались конники, боярские возки со слюдяными оконцами. Во встречном яме Иванко Кольцо увидел у возка дородную боярыню, не утерпел, прищурил глаза и, заигрывая, предложил:
— Поедем с нами, красавица? Боярыня зарделась, улыбнулась: — Не по пути мне. В монастырь, на богомолье, тороплюсь.
— Грех и потом замолишь! — разглаживая усы, заюлил подле бабы Иванко.
Она одарила его ласковым взглядом и тепло отозвалась:
— Что ты, родимый, и грехов-то на мне нет! Сыночка умолить у господа бога хочу!
— Ой, милая, непременно езжай с нами. В таком деле и без монастырских битюгов-монасей можно обойтись!
— Ох ты, греховодник! — не обиделась боярыня, и всю ее охватило жаром, но решительно подняв голову, она шагнула в возок, и холоп щелкнул бичом:
— Гей, поскакали-поехали!
— Жаль! — сокрушенно покачал головой Кольцо и сказал Строганову: — Мне бы сейчес в монастырь податься, — непременно игумен из меня вышел бы!
Максим Яковлевич засмеялся:
— Кипучая у тебя кровь, атаман. Словно брага хмельная. От нее голова ходуном, а сердцу покоя нет!
— Что верно, то верно! — согласился Кольцо. — Только и нахожу радость в сече!..
Но больше всего на дороге двигаось людей пеших; шли они со всех концов земли. Невиданное оскудение виднелось по многим волостям, лежавшим у дороги, по которой проезжали казаки. Боярство вконец разорило крестьян-пахотников, и, куда не глянь, — всюду простирались пустоши. Засуха, мор и голод гнали холопей куда глаза глядят, толпы разоренных пахарей торопились в Москву. Торопились устюженские и костромские плотники, тащились вологодские пимокаты, спешили владимирские богомазы. Толпами брели нищеброды и бездомные попрошайки, голь кабацкая. От войн и разорений много бродило по дорогам гулящих людей. Были среди них молодцеватые, удалые и дерзкие. Иванко по их замашкам угадывал родную душу.
— Куда топаешь, горемычная головушка? — окликал он шатуна.
— Долю свою ищу!
— А где ее сыщешь?
— В Диком Поле, на Дону, на Волге!
— Вали за Камень, в Сибирь-сторонушку, найдешь свое счастье…
— Ну-у!
— Истинно. Нет вольнее и богатимее края. У гулящих людей глаза вспыхивали надеждой, они долго глядели вслед убегающим тройкам. Кольцо все замечал, прикидывал и, показывая Строганову на монастыри, которые сверкали главами церквей на холмах, над ярами рек, покачивал головой:
— Ай-яй-яй, что деется на белом свете! И на что монахам столько земель, рыбных урочищ, богатств? Гляди, сколько лепится вокруг куриных изб, — все кабальные холопы монастырские. Жадны, ох и жадны! — Ты о монахах так не говори! — строго перебил атамана Максим Яковлевич.
— Монастыри опора царству.
Иванко нахмурился, но смолчал. Как раз в эту пору впереди блеснул главами церквей, переливами черепичных островерхих кровель огромный город. Кони вынесли сани на холм, и перед очарованным взором сразу открылось величественное зрелище-Москва!
В центре, как шапка Мономаха в яркой оторочке, сверкает, переливается на закатном солнце куполами, шпилями, глазурью Московский Кремль. Казаки затаили дыхание, каждый тревожно подумал: «Как-то встретит Москва-матушка наши бесшабашные головушки?».
Солнце закатилось за дальние холмы, и сразу угасло сияние Кремля. Засинели сумерки, и темные витки дымков поднялись над скопищем бревенчатых изб. Разгоряченные тройки минули заставу и ворвались в кривые улочки стольного города. Серые бревенчатые тыны, покосившиеся плетни, на перекрестках колодцы с журавлями, подле которых крикливо судачили московские молодки. Большие пространства-пепелища, укрытые сугробами. Вот и Москва-река; на берегу ее мыльни, а на холме-недостроенные кремлевские стены.
— Все пожрал пламень. Вот деяния крымского хана Девлет-Гирея, пожегшего Москву! — печально вымолвил Строганов. — Что только было! Сколько скорби!
Кольцо притих, он с любопытством разглядывал город, вставший из пепла неистребимым и сильным. Высоко в небо возносились стройные башни, украшенные каменным кружевом. В их стремительном полете ввысь, в соразмерности зубцов, в размещении Кремля на холме чувствовался гений неведомых русских зодчих, совершивших это диво на земле! Вот куда вели со всех концов света дороги, — в Москву! Тут было средоточие великой державы, которую пытались истерзать крымские татары, шведы, поляки.
На слова Строганова атаман Кольцо ответил гневно:
— Придет час, русский народ напомнит крымской орде наши горькие слезы и беды! Доберемся и до нее! Великий русский воин Александр Невский поведал всем нашим ворогам памятный ответ: «Кто с мечом к нам войдет — от меча и погибнет. На том и стоит и стоять будет русская земля!».
Пораженный сказанным, Максим Яковлевич спросил Кольцо:
— Отколь сие известно атаману?
— Есть у нас ученый поп Савва, из летописи узнал сия премудрость!
— Правдивые слова, верные! — согласился Строганов.
Тройки помчали в Китай-город — в каменное подворье, указанное Максимом.
2
На берегах Балтики шла упорная и затяжная война. Русские дрались с извечным своим врагом за искони русские земли, за объединение Руси и освобождение родной страны от блокады на Западе. Народ бился за выход Руси к Балтийскому морю, по которому открывалась широкая дорога для торговли, для обмена мастерами, ремеслами, для дружеского сближения с соседями.
Война началась давно. К осени тысяча пятьсот пятьдесят восьмого года была занята почти вся Ливония с двадцатью крепостями и удобными гаванями. Старинные русские города-Юрьев и Нарва отошли к матери-родине. Много было успехов и неудач. Несмотря на то, что нападения турок и крымских татар отвлекали много сил и внимания, русские войска успешно бились с врагами на Западе. Первого января тысяча пятьсот семьдесят второго года они штурмом взяли крепость Вейсенштейн. Битва была жестокая. Огонь из орудий не прекращался много часов. Неприятельским ядром был убит царский любимец Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов. Царь долго стоял в горьком отчаянии над телом своего сподвижника. Из под ресниц его выкатились и потекли по лицу слезы.
— Камня на камне не оставлю! — сказал он о крепости. — А за твою смерть кровью умоются ливонцы!
К царю привели пленных. Глядя на них с ненавистью, он спросил:
— Есть ли среди вас пушкари?
— Есть, государь, — выступил вперед пленник. — Вот они! — показал он на толпу, стоявшую в стороне. — Бьют метко.
— Сам знаю, — сердито ответил царь Иван. — В самое сердце мое ядром угодили. Мне служить правдой не будете: сколько волка ни корми, все в лес глядит. А ворогам моим таких пушкарей не верну. Казнить их! — приказал он и пошел к шатру… Вскоре были взяты города Нейгор и Каркус, но под Лоде наши войска потерпели поражение. Шведы стремительно напали на русский лагерь и, пользуясь утомленностью воинов и внезапностью, произвели замешательство, заставили царя Ивана поспешно отступить.
За этой неудачей последовала другая: в лагерь прискакал из Москвы гонец и тайно сообщил царю, что в казанской земле поднялись черемисы и грозят отрезать Казань. Везде на дорогах появляются вооруженные толпы и перехватывают московских служивых людей. Сообщение встревожило царя, и он решил предложить шведскому королю мир. Долго думал Иван Васильевич, кого бы выбрать гонцом. Хотелось послать человека учтивого, но стойкого и решительного, который вручил бы царское письмо непосредственно королю. Выбор царя остановился на Чихачеве-скромном и молчаливом служилом человеке. Гонец со слугами выехал в Стокгольм. Он держался степенно, с достоинством. Подстать своему господину были и слуги. Чихачев спокойно, но строго предупредил их:
— Приехали мы в чужие земли, и по нас каждый будет судить о том, кто такие русские? Что за люди? Отчизна повелевает всем нам быть учтивыми, честными, не задираться и свято блюсти выгоды родной земли. Если кто озоровать будет, пеняй на себя!
Но никто и не думал озоровать. Бородатые, крепкозубые богатыри, одетые в добротные и опрятные кафтаны, поражали иноземцев своим добродушием и ласковыми, теплыми глазами. В Стокгольме за ними ходили толпы зевак, но русские терпеливо переносили эту чрезмерную назойливость.
Посол был принят высшими сановниками и сообщил им, что привез шведскому королю царскую грамоту, которую обязан вручить лично. Об этом немедленно доложили королю. Незадолго до этого он написал очень резкое письмо русскому царю и теперь, боясь ответного оскорбления, отказался взять в руки письмо московского государя, приказал ознакомиться с ним своим вельможам.
Чихачев наотрез отказался выдать письмо.
Ближний шведского короля, заносчивый и чопорный, блеснув синевато-льдистыми глазами, упрямо заявил:
— Приехал ты в землю нашего государя, так и должен исполнять нашу волю!
Русский гонец, не смутясь, спокойно ответил:
— Истинно, приехал я в землю вашего государя, а волю мне исполнять русского государя, нашей земли!
Шведский сановник побледнел, хрустнул пальцами:
— Если так, то будет приказано не выдавать вам припасов. Что скажешь на это?
— Коли так — умру с голоду, — твердо ответил Чихачев. — Одним мною у руского царя будет ни людно, ни безлюдно…
Не договорил гонец своих мыслей: один из грубых шведских полковников ударил его в грудь. Чихачев смолчал и сжал губы. Сдержанность русского гонца распалила шведа, он выхватил секиру и замахнулся:
— Я тебе голову отсеку, грязный руский мужик!
Посол поднял грозный взгляд на шведского вельможу:
— Если бы я сидел на своем коне и встретил тебя в ратном поле, то ты бы меня, сын хама, так не обесчестил. Дал бы я тебе достойный ответ, но я сюда не драться приехал!
Руский посол степенно удалился и уехал на постой. Но и тут его не оставили в покое. Ночью на посольский дом наехали рейтары и ворвались в горницы, занимаемые русскими. Грозя и ругаясь, как последние пьянчуги, они перерыли все коробы, разломали сундуки и разбросали вещи по скамьям. А грамоты так и не нашли. Тогда они набросились на Чихачева и его слуг и донага раздели их. Посол размял плечи и ждал, что дальше будет.
— Если не скажешь, где грамота, мы будем тебя пытать на огне! — пригрозил рыжеусый рейтар.
— Можешь всех нас, русских бросить в кипящую смолу, но мы не скажем, где письмо. Только самому вашему королю вручу! — Чихачев стал неторопливо одеваться. Вид его был решителен и глаза наполнены гневом. Одевшись, он сел на дубовую скамью, крепко ухватившись сильными жилистыми руками за ее края. Презрительная улыбка скользнула по его губам, и он с издевкой сказал: — Я не знал, что приехал в страну варваров, где достоинство посла не спасает от оскорблений.
Рыжеусый рейтар шевельнул скулами на бритых шеках. Ему хотелось схватиться с русским, но, взглянув на широкую грудь и большие руки, сжавшие, как клещами, дубовую доску, он коротко приказал своим:
— Уходите!..
Обо всем доложили королю и тот пожелал увидеть посла. Тут Чихачев и вручил ему в руки грамоту царя Ивана.
Король прочел ее, улыбнулся и сказал:
— Я согласен на переговоры. Очень завидую вашему государю, что у него служат такие достойные люди.
Русский посол склонил голову и ответил:
— Иных и не рождает наша земля. Дурные плевелы всегда уносит ветер в прах!
Переговоры о перемирии начались летом, на реке Сестре. Шведы неожиданно потребовали, чтобы они происходили на мосту. Однако русский доверенный, князь Сицкий, настаивал на том, чтобы договаривающиеся перешли на русский берег. Спорили долго, упорно, но русские не пошли на уступки, и перемирие не состоялось. Вслед за этим русские возобновили военные действия в Ливониии. Воевода Юрьев окружил на взморье крепость Пернау и после упорных приступов взял ее. Несмотря на яростное сопротивление противника, воевода очень милостиво обошелся с пленниками, а каждому горожанину было сохранено его имущество. Каждый день приносил новые успехи…
Русские заняли Леась, Лоде, Фиккель и Гапсаль. Лето стояло знойное, только вечера приносили прохладу. С моря дул легкий ветер, освежал каленые лица воинов. Русские дивились характеру иноземцев. Город Гапсаль сдался на милость победителей перед закатом, а вечером по астериям шли пиры, на городских площадях кипела пляска веселившихся гапсальцев. Кудрявые девушки в белых чепчиках бойко притоптывали башмачками и манили победителей в круг:
— Русь, Русь…
— Ну и народ! Ежели бы мы, русские, сдали без нужды такой город, то не посмели бы глаз поднять от стыда.
Всю ночь горели огни и веселились горожане покоренного города…
Справедливая война за землю «дедич и отич» шла успешно. Летом тысяча пятьсот семьдест седьмого года русские войска вторглись в польскую Ливонию. Время для похода было выбрано удачное. В минувшем году в Польше окончилось «бескоролевье». На польский престол избрали Стефана Батория. Царь Иван хорошо знал, что в Польско-Литовском государстве началась великая междоусобица. Батория избрала лишь часть сейма, а значительная часть страны поддерживала другого кандидата на королевский престол — германского императора Максимилиана. Царь Иван широко развернул подготовку к выступлению. В армии, которая двинулась из Пскова в Южную Ливонию, было не менее ста тысяч воинов. В одном только Большом полку насчитывалось до тридцати тысяч стрельцов и конников при 75 орудиях.
В июле русские войска беспрепятственно продвигались по ливонским дорогам, добродушно встречаемые жителями. Без боя сдалась города Мириенгаузен, Люцен, Режица, Двинск. Дойдя до широководной Двины, руская армия повернула на север, и здесь почти все города охотно встречали наших воинов. Поселяне не разбегались при виде войска, как бывало всегда при нашествиях. Они жаловались пищальникам:
— Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Пора под высокую московскую руку: крепче и дружнее пойдет жизнь!
— Какие хлеба у вас наливаются! Земля тут плодоносная, и народ добрый! — простодушно ответил пищальник…
Не менее успешно действовал и ставленник царя Ивана-ливонский король Магнус, вассал Руси. Простолюдины и горожане не хотели войны и открывали ворота крепостей. Магнус ликовал, приписывая успехи своему полководческому умению. Опьяненный легкими победами, он забыл, что его судьба и положение целиком зависят от Московского государства. «Король» написал царю Ивану письмо, в котором требовал передачи ему всех городов, занятых русскими войсками. К этому времени Ивану Васильевичу тайно сообщили, что Магнус вступил в секретные сношения с польским королем и курляндским герцогом Кетлером. Это было равносильно измене, и царь Иван сильно разгневался. Он долго и крепко ругался. Попади ему в эту минуту «король», дело не обошлось бы без неприятной для Магнуса опалы, но тот закрылся в Вендене и ждал ответа. Успокоившись, царь продиктовал думному дьяку послание.
«Хочешь брать у нас города-бери, — со злой иронией писал он Магнусу. — Мы здесь от тебя близко; ты об этих городах не заботься, их и без тебя берут… Если не захочешь нас слушать, то мы готовы, а тебе от нас нашу вотчину отводить не следовало. Если тебе нечем в Вендене жить, то ступай в свою землю за море, а еще лучше сослать тебя в Казань; если поедешь за море, то мы свою вотчину, Лифляндскую землю, и без тебя очистим»…
Ранним утром заиграли горны, забили барабаны, русские конные полки двинулись на Венден. «Король» Магнус издали, с башни, увидел приближающееся войско и сильно перетрусил. Он рад был выехать навстречу царю, но, зная его вспыльчивый нрав, не решался показаться на глаза.
Русское войско раскинулось лагерем под крепостными стенами. К высоким дубовым воротам подъехал горнист и царский гонец. Тревожно заиграл горн, уныло отозвались дали. У Магнуса вовсе сжалось сердце от страха. Он выслал навстречу своего переговорщика. Опустили подъемный мост. На белом коне, гремя подкованными копытами, на него въехал посланник царя и объявил, что государь Руси требует короля к себе…
Трепеща, Магнус метался по замку, не зная, как быть. Наконец он выслал двух послов просить извинения за свою опрометчивость. Иван Васильевич приказал снять штаны послам и высечь их на виду у всего войска.
— То будет и с вашим королем, если не повинится! — предупредил царь.
Королю оставался один выбор. Хмурый, с низко опущенной головой, он пешком вошел в русский лагерь и пал перед царем на колени…
Иван Васильевич, надменный и властный, гордо сидел на черном аргамаке, из-под копыт которого разлетались брызги грязи, попадая на бледное лицо Магнуса и на его пышные бархатные одежды, отделанные кружевами. Презрительная улыбка блуждала на тонких губах царя. Насладившись унижением «короля», он сердито сверкнул глазами и сказал окольничьему:
— Взять под стражу!
— Взгляд Грозного перебежал на высокий мрачный замок, над которым все еще развевалось рыцарские знамена. Иван Васильевич тронул повод, и послушный аргамак в тот же миг двинулся по дороге.
— Поопасись, государь! — предостерегли придворные и схватили коня под узцы. И вдруг с башни ударили пушки, и раскаленное тяжелое ядро грохнуло в землю рядом с аргамаком. Конь отбежал в сторону.
Грозный потемнел и в страшном гневе вымолвил:
— Коли так, подняли на меня руку, ни одного немца живым не выпустить из Вендена!..
Русские войска осадили замок. Пушкари навели на него пушки, и началась канонада. Все потонуло в грохоте и клубах пыли.
Рыцари метались по замку. В минуты затишья в бойницы доносилась веселая песня русских пушкарей:
Мы с порохом бочонки закатывали,
Сорок бочек закатили с лютым зельем,
С лютым зельем, с порохом,
Зажигали на бочках воску ярова свечи,
Зажжемши свечи, сами вон пошли,
Сами вон пошли, сами прочь отошли…
Знатнейшие рыцари с тревогой и тоской слушали эту песню и горячо спорили. Они понимали, что спасенья им нет…
На рассвете русские воины проснулись и повскакали от страшного взрыва, от которого заколебалась земля. Глазам представилось потрясающее зрелище: замок и его защитники взлетели на воздух. Черные тучи пыли, бревна и обломки камней высоко поднялись над равниной и закрыли солнце.
Бородатый плечистый пушкарь снял шлем, истово перекрестился:
— Помяни, господи, их души…
На месте грозного замка остались груды битого щебня, руины и истерзанные трупы.
Русские войска снялись с лагерного поля и двинули в глубь Ливонии. Немецкие крестоносцы не могли сдержать напора и сдавались.
В окруженном рощами Вольмаре, в большой мрачной зале, царь задал пир. У колонн пылали вдетые в кольца смоляные факелы. Тяжелые дубовые столы были уставлены золотыми и серебряными кубками, братинами, на огромных блюдах-жаренные индейки, гуси, копченые окорока вепря. Царь сидел на возвышении за особым столом; он посылал воеводам свои блюда и кубки вина. И каждый раз, когда окольничий подходил к отмеченному боярину, то низко кланялся ему и громогласно сообщал:
— Великий государь жалует тебя…
В разгар пира ввели знатных литовских пленников. Они вошли горделиво и не пали перед царем на колени. Грозный не рассердился. Он поманил к себе дородного седоусого князя Полубенского. Приложив руку к сердцу, литовец почтительно склонился перед Грозным.
— Я слушаю тебя, великий государь…
Иван Васильевич поднялся с кресла, украшенного парчой и, улыбаясь сказал:
Будьте гостями нашими. Дарую свободу вам идите к королю Стефану, убедите его заключить мир со мною на условиях мне угодных. Рука моя высока! Вы видели это, пусть знает и он!
Он одарил пленников шубами и кубками и отпустил на свободу…
После Вольмара Грозный отбыл в Юрьев. В пути он вспомнил о Магнусе и велел привести его. Пленник упал перед царем на колени и взмолился:
— Прости мое тщеславие, великий государь!
Грозный находился в радушном настроении, он схватил Магнуса за плечи, потряс его:
— Бог с тобой. Жалую тебе многие города, и по прежнему величайся ливонским королем…
Помилованный молча поцеловал жилистую руку Грозного…
Пробыв несколько дней в Юрьеве, царь отбыл в Александровскую слободу, полный надежд и уверенности в окончательной победе.
Увы, предположения его не сбылись.
Только что устроился он в слободе на отдых, как туда прискакал гонец с вестью о том, что шведы напали на Нарву. Вскоре в Южную Ливонию ворвались шляхецкие полки; они брали город за городом. Несмотря на отчаянное сопротивление русских, поляки взяли Венден. Ливонский король Магнус, только что недавно заверявший Грозного в своей верности, перешел на сторону врагов…
В этот решающий, третий, период войны русские потерпели ряд неудач. В Польше к этой поре произошли крупные политические события, укреплявшие союз Польши и Литвы. Королем польским и князем литовским был избран Стефан Баторий. Он стал деятельно готовиться к вторжению в русские пределы и тайно договорился с крымским ханом и шведским королем о поддержке его замыслов. Через папу римского Баторий был связан со всей католической Европой. Таким образом, войне против России придавался характер крестового похода. Вербовщики польского короля рыскали по всей Европе, щедрыми посулами заманивали в армию Батория разных наемников, искателей приключений, ландскнехтов, бродяг, готовых продать свою шпагу любому. К тысяча пятьсот семьдесят восьмому году у Стефана Батория собралась стопятидесятитысячная армия, в которой было много немецких, венгерских, датских и даже шотландских наемников. Во главе ее был поставлен Ян Замойский.
Русская армия была значительно многочисленнее. В ней насчитывалось около трехсот тысяч воинов, но полки и отряды разбросаны были по разным гарнизонам Ливонии и пограничным городам страны. Основные силы русских расположились в старинном городке-крепости Старице, прикрывая дорогу на Москву. Царь Иван Васильевич не рискнул вступить в открытый бой с интервентами, боясь поставить по удар целостность государства, тем более, что на юге приходилось держать большую армию для обережения от нашествия крымской орды.
Царь Иван Васильевич решил взять врага измором, заставить его измотать свои силы и средства на осаду и взятие многочисленных крепостей. Он хотел завлечь польские полки в глубь страны, в опустошенные уезды.
Весь тысяча пятьсот семьдесят девятый и восьмидесятый годы поляки бесчинствовали на русской земле. Особенно зверски вела себя шляхта в Великих Луках, которые были взяты пятого сентября тысяча пятьсот семьдесят девятого года. Еще дымились от пороховых взрывов городские стены, а наемники Стефана Батория уже врывались в дома, насиловали женщин, убивали детей. Они напоминали диких ордынцев Чингис-хана.
После Великих Лук очередь последовала за Невелем, Озерищем и Заволочьем.
Несмотря на большие неудачи, Грозный не растерялся. Он решил ослабить удары дипломатическим путем. Римский папа давно искал себе союзника против Турции. Иван Васильевич послал к нему посла с предложением выступить против общего врага, если интервенты покинут русскую землю. Папа заколебался. Царь понимал, что надо быть готовым ко всему. По расположению шляхетских войск, он и его воеводы правильно предугадали намерение Стефана Батория. По их расчетам выходило, что летом тысяча пятьсот восемьдесят первого года враг несомненно двинется к Пскову. Нужно было торопиться. По приказу царя, по зимнему пути день и ночь в Псков тянулись обозы с оружием и продовольствием. Во главе защиты города поставили опытного в ратном деле воеводу Ивана Шуйского.
Теперь каждый день можно было видеть Шуйского в разных районах города. Он наблюдал за укреплением обветшалых крепостных стен и возведением новых в опасных местах обороны. В окрестные села, деревни и погосты поскакали гонцы с приказами: всем перебириться с продуктами и имуществом в Псков. А дома, усадьбы, — все, что нельзя было увезти, до тла сжечь, колодцы засыпать, чтоб враг, придя в псковскую землю, не нашел ни пищи, ни пристанища. Весь гарнизон крепости и псковичи были приведены к присяге. Царь часто посылал грамоты, увещевая воинов и горожан стоять насмерть. Предусмотрительный и осторожный Шуйский далеко вперед высылал разведывательные отряды и учредил на дорогах зоркие дозоры, чтобы следить за движением врага.
Все свершилось, как предполагали русские воеводы. В теплые августовские дни, когда убран с полей хлеб, армия Стефана Батория двинулась на Псков. В один из солнечных дней в Детинце тревожно загудел осадный колокол. Стрельцы и псковичи, охранявшие стены, увидели вдали клубы серой пыли, а вскоре разглядели и всадников в красных накидках и белых шапках. За шляхетской конницей двигалась венгерская пехота. Постепенно южные холмы Завеличья покрылись палатками, окутались дымом костров — утомленные ландскнехты готовили пищу.
Все последующие дни по дорогам, ведущим к Пскову, двигались польские войска: конница в цветных жупанах, в конфедератках, с крылышками на спине, тяжело ступавшие широкие ряды пехоты, осадная артиллерия на огромных колесах. За армией с криком и несмолкаемым гвалтом тынулся бесконечный обоз с шинкарями и неприличными девками. Тысячи дельцов из польских пограничных местечек — корчмари, ростовщики, маклеры, барышники, сводники, юркие нахальные проныры — спешили поживиться на русском горе.
Эту шумную, самоуверенную армию вел сам Баторий и великий канцлер Речи Посполитой Ян Замойский. Для них на высоком холме установили пышные палатки, окруженные сотнями других, в которых разместились придворные.
Король долго любовался величественным зрелищем. Псков был велик и прекрасен своими крепостными стенами и высокими конусообразными башнями. Особенно пленял Детинец с его изумительным собором, звонницами, башнями, сооруженными, по преданию, выборным князем Довмантом Тимофеем. Вознесенный на высокую скалу, он казался чудом мастерства.
Баторий, много ездивший по Европе, был поражен увиденным. Он не удержался и восторженно воскликнул:
— Какое зрелище! Город прекрасен, точно Париж! Даруй, боже, нам победу над ним!
То, что такой город нелегко одолеть, король, конечно, понимал. В XVI веке в Саксонии ходила очень меткая поговорка: «Кто против бога и Новгорода?». Псков же — младший брат Новгорода — правда, уступал ему в богатстве и торговом значении, но военной славой гремел далеко за русскими пределами. О стены Пскова разбивались все нашествия врагов с Запада. На Псковском озере, у Вороньего камня, Александр Невский разбил псов-рыцарей. Псков всегда несокрушимо стоял против чуди, литвы и немецких рыцарей.
Однако Баторий верил в свое счастье. Окруженный блестящей свитой, он с веселым видом возвращался в лагерь. В походной часовне-палатке ксендз отслужил обедню, паны, как обычно, расхвастались своей храбростью, — все казалось королю обещающим успех. И тут произошел большой конфуз. Воевода Брацлавский, желая порадовать короля первой победой, решил устроить засаду. За холмами и кустарником он скрыл венгерскую пехоту, а конницу пустил «поляковать» у стен. Между конниками и псковичами завязалась едкая перебранка. Поляки обнаглели и держали себя вызывающе. Вдруг крепостные стены распахнулись, и русская конница вырвалась в поле. Напор ее был так стремителен, так отменно рубились мечами всадники, что шляхтичи, забыв о задоре, бросились в постыдное бегство. Венгерцы, и те не смогли выручить своих товарищей. Только подоспевшая хоругвь Гостынского спасла уцелевших беглецов.
Король весь день хмурился, говорил отрывисто и сердито. Он решил взять город в круговую осаду и, прежде всего, перерезать Порховскую дорогу, по которой могла подойти помощь осажденному городу из Новгорода.
Двадцать шестого августа польские войска переправились через небольшую спокойную речку Череху и повернули на восток. Они шли развернутым фронтом, с развевающимися знаменами. Никто не ожидал беды. Сам король был твердо уверен, что царь Иван приказал вывести тяжелые орудия, чтобы они не достались в добычу противнику. И вдруг сразу со всех псковских башен загремели пушки, и тяжелые ядра метко били по польскому скопищу.
Несмолкаемый рев орудий заставил призадуматься короля. Он приказал отвести войско за холмы и приостановить движение к лагерю. Только на следующий день после тщательной подготовки, Баторий решился двинуть литовские отряды и обозы на Порховскую дорогу, к поселку Любатову.
Вначале все шло хорошо. Движение, казалось, не было замечено. Вскоре спустилась теплая августовская ночь, и глубокая тишина простерлась над псковской землей. Король и его свита, уже ни о чем не тревожась, погрузились в сон. И снова с башен Пскова загремели пушки. Польских воевод поразило, что ядра точно били по Любатову и новому лагерю.
Паны перетрусили и предложили королю миновать Псков, идти прямо на Новгород.
— А дальше что? — в запальчивости воскликнул Баторий. — Дальше куда идти? Мы останемся здесь и возьмем Псков измором!
Над рекой Великой, над ясными глубокими водами, у Пантелеймонова монастыря, в трех верстах от Пскова, против юго-западных его башен, выбрали место для королевской ставки, мимо которой все войско Речи Посполитой прошло церемониальным маршем и снова разместилось за холмами.
С этого дня началась осада древнего Пскова.
Псковичи ждали врага, и поэтому он не застал их врасплох. В городе достаточно было и стрельцов и пушкарей. Кроме них, в Кромах разместилась боярская конница и лихие донские казаки, которых в Псков привел удалой атаман Мишка Черкашенин. Да и каждый пскович-горожанин, посадский человек и сбежавший «в осаду» крестьянин — готов был лечь костьми за родную землю.
Князь воевода Иван Петрович Шуйский на соборной площади громогласно зачитал народу последнее послание царя. Наказывал Иван Васильевич «держати город и сидети в осаде крепко со всеми пребывающими христианскими народами и биться всем за Псков-град без всякого порока с Литвою даже до смерти».
Хлеба запасли вдоволь: в Крому тысяча клетей полны добрым зерном. Порохового зелья и ядер хватало на долгое время. К стенам жители наносили груды камней, а у каждой бойницы и окна лежало крепкое увесистое дреколье. Особые досмотрщики наблюдали за тем, чтобы не случилось пожаров. Жителям велено печей в избах и мыльнях не топить, а вечером поздно не сидеть с огнем. Пищу варили на огородах и пустырях. Во всем соблюдалась строгость и порядок.
Стотысячная армия Батория плотным кольцом оложила Псков. Кого тут только не было! И немцы, и шведы, и англичане, и французы, и датчане, и голландцы, и даже итальянцы. Были и татары, и понизовые казаки. Ждали из-за моря две тысячи шотландцев. Но тон всему войску задавали гоноровые паны. На войне они жили, как у себя в поместьях и фольварках, — в обширных палатках, окруженные челядью; спали на пуховиках, сытно ели, пили вино, играли в карты и за сомнительного поведения «пани коханок» дрались на шпагах. Мелкопоместная шляхта тянулась за богатыми, пускала пыль в глаза, рассказывая о своих несуществующих богатствах разные небылицы. Солдаты же при всяком удобном случае просто грабили.
Основные силы врага разместились против южных стен города. Левый фланг, — против Покровской башни, доходя до самой реки Великой, — заняли венгерцы. Рядом, против Свинусской башни, расположились поляки, правее их литовцы.
Весь лагерь поляки окружили тройным кольцом повозок, связанных цепями. Баторий обдумывал план действий…
Отходили последние дни погожего августа. Ближайшие рощи постепенно охватил пламень багрянца. Солнце уже не палило, а мягко грело землю.
Нежданно в польском лагере заиграла веселая музыка. Со стен крепости видно было большое оживление, — войска выстроились, как на параде. Шляхта голосисто кричала:
— Виват!
Но что казалось наиболее странным, — особенно ликовали и орали татары, гарцуя на своих небольших выносливых конях. У королевской палатки толпились вельможи, разодетые в пышные расшитые контуши.
Что же случилось?
Оказалось, что в лагерь прибыл посол турецкого султана. На широкогрудом белом коне, покрытом сверкающей попоной, одетый в длинную епанчу, украшенную звездами, в яркокрасной феске, турок с важностью объезжал войска.
Стоявший на крепостной стене донской атаман Мишка Черкашенин сердито и крепко сжал рукоять сабли.
— Братцы, — показал он казакам на посла. — Аль не узнаете? Знакомая образина! Под Азовом похватали мы его, да потом на своих станичников сменили, что томились в басурманской неволе. Ах, нечисть!
Седоусого горячего Мишку Черкашенина так и подмывало сбежать со стены, вскочить на своего быстроногого красномастного Ветра и ринуться с саблей на давнишнего врага. Эх, и скрестил бы он свой буланый клинок с лукавым супостатом!
Между тем, изумленный многочисленностью войска Батория, внушительным видом кавалерии, посол в удивлении разводил руками и говорил королю:
— Да хранит тебя аллах! Он видит великое: если бы оба государя, турецкий и польский, соединились вместе, все вселенная покорилась бы им!
Баторий снисходительно улыбался. Он хотел один добиться победы! Вот она рядом, добыча, — не напрасно так ликующе кричат жолнеры…
Только что с пышностью и льстивыми речами проводили паны турецкого посла, как по приказу гетмана Замойского саперы тайно начали рыть в направлении города траншей.
Псковичи дознались об этом, и на всю ночь загудели их орудия, открывшие огонь по работавшим. Ядра не щадили саперов, сотни их ложились убитыми в только что вырытых рвах и ямах.
Как ни метко били крепостные пушки, осадные работы, однако не прекратились. Русские не могли помешать им, так как саперы прятались в глубоких рвах. Траншеи все ближе подходили к Пскову. Защитники города могли только наблюдать старания саперов, которые по сказанию летописца, «копающие и роющие, аки кроты, и из рвов выкопаша высокие горы земли и понасыпаша, дабы не видети ходу их со градных стен, и сквозь те стены проделаша окна на стреляние городового взятия».
С ненавистью разглядывая траншейников, псковичи осыпали их бранью и камнями:
— Ройте, ройте, псы! — кричали они врагу. — Себе могилу готовите!
Поляки упорно рыли. В глубине рвов пролегал известковый плитняк. Крепкими ударами кирок его дробили и глубже уходили в землю. Лазутчик француз Гарон в сумерках добрался до крепостного рва, ограждавшего стену, и установил, что он не глубок и местами сух. Об этом доложили Баторию. Траншейные работы завершились.
— Пора приступать к делу! — сказал король. — Насиделись мы в шатрах, надо в город!
Его тревожило одно важное обстоятельство. Когда он думал идти в поход на Русь, лазутчики рассказывали, что это страна изобилия: много хлеба, меду, скота, пеньки. А стоило только перейти рубеж, как все вдруг опустело. Огромная округа, куда вступили войска Батория, стала безлюдной, и кругом простирались пустынные поля, покинутые деревни, в которых нельзя было отыскать зернышка жита или забытой курицы. Отступая русские увозили все.
Королевский ксендз, пан Пиотровский, гладкий, с лукавыми глазами мужчина, любивший плотно поесть, — жаловался маршалу:
— Ну что за страна русская, спаси нас, боже! Мы уже вступаем в эту веселую и плодородную страну, но что пользы от этого? Везде пусто, мало жителей; между тем повсюду деревни; земля-как Жулавская, может быть даже и лучше.
Достать хлеба и мяса в этой стране было очень трудно. Фуражиры искали продовольствие за двадцать, тридцать и даже пятьдесят верст. Везде их словно поджидали, — русское население уходило в леса, угоняя скот и пряча зерно. Но не всегда посланные фуражисты возвращались в лагерь. Их кости тлели в лесах: русские были беспощадны к своим врагам. Между тем войско требовало хлеба, мяса, вина и денег. Местечковые юркие шинкарки, следовавшие за войском, отказывались отпускать в долг. Король понимал, что дальше медлить было нельзя.
— Штурм! — хмуро сказал он. — На рассвете пусть начнут батареи.
Воевода Шуйский, не покидая стен, следил за лагерем врага. Он заметил большие перемены: против Покровской и Свинусской башен высились туры, а за ними виднелись осадные орудия. Третья земляная тура темнела за рекой Великой, и там, несомненно, тоже скрывалась осадная батарея. Были возведены поляками туры и в других местах: одни против Великих ворот, другие у реки — для прикрытия конницы, которая должна была ворваться в город вслед за штурмующими.
Седьмого сентября, едва только заалел восток, двадцать осадных орудий стали бить в упор по башням и крепостным стенам. Русские пушкари яростно отвечали, но белая известковая пыль, которая тучами поднялась после первых выстрелов вражеской артиллерии, мешала видимости. Крепостные стены, сложенные из известняка, не выдержали ядерных ударов, крошились и сыпались в ров. Над Псковом по ветру тянулись белесые тучи пыли. Глядя на них, ксендз Пиотровский слащаво улыбался, потирая влажные руки и подобострастно говорил королю:
— Ясновельможный разум вашего королевского величества решил в нашу пользу. Завтра замок будет наш!
К ночи пальба стихла. Постепенно улеглась едкая пыль, от которой першило в горле. Баторий с холма разглядывал Псков. Стены во многих местах осыпались, но изъязвленные ядрами башни высились попрежнему недоступно.
Идти на пролом было опасно! Король решил продолжать бомбардировку. Он понимал: пока не сбиты башни, штурмующие будут сметены огнем меткой русской артиллерии, которая очень быстро перестраивалась и безошибочно била по цели.
Особенно отличился один из пушкарей, Дорофей, умевший быстро давать пушкам нужный наклон. Он по слуху угадывал, что делается в польском лагере, и размещал орудия так, что полякам приходилось лихо. Пушкарей поощрял дьяк Пушечного приказа Терентий Лихачев — великий знаток огневого боя. Он же первый придумал и осуществил постройку у церкви Похвалы Богородице раската — выступающего вперед сруба с площадкой для орудий. Это давало возможность пушкарям вести не только фронтальный, но и фланговый огонь для защиты городских стен.
Воевода Иван Шуйский держал совет с дьяками и ратными людьми. Решено было усилить оборону города. В юго-западном углу, куда рвались враги, появились плотники, землекопы, посадские люди и стали возводить тарасы — срубы, наполненные землей и камнями, и ров. Но огонь противники мешал им работать. Пушки гремели с обеих сторон. На протяжении около семидесяти саженей крепостная стена зияла огромными проломами. Свинусская башня была открыта с двух сторон. Наемники Батория рвались на стены. Королю тоже не терпелось. До его слуха доносился перестук топоров, он догадывался, что псковичи строят новые укрепления.
Восьмого сентября начался решительный штурм. Венгерская, польская и немецкая пехота тяжелым маршем безмолвно тронулась к Пскову. Конница пожелала спешиться, чтобы вместе с пехотой ворваться в город: конные ротмистры и рейтары боялись упустить добычу.
Бой разгорался по всей линии. Король взобрался на звонницу церкви Никиты, которая стояла в версте от города. Пышная свита сопровождала короля, чтобы насладиться зрелищем.
Где-то в городе на звоннице пробило шесть часов. Медленно уплывал туман над рекой. Для прикрытия наступающих артиллерия открыла ураганный огонь. Клубы порохового дыма заволокли стены. Под его прикрытием первыми к пролому побежали немцы.
Однако венгерцы, зная алчность ландскнехтов, опередили их. Все рвались в город, к добыче. Паны, одетые в белые рубахи поверх кафтанов, двинулись со своими жолнерами к Свинусской башне. Не прошло и часа, как она и Покровская башня были захвачены врагом. Над башнями взвилось польское знамя. Наблюдавший за штурмом король обрадовался:
— Наконец-то!
Юго-западный угол города, захваченный штурмующими, представлял пустырь с редкими ветхими хибарками, и поживиться в нем было нечем. Однако из башен открывался простор на весь Псков, и враги немедленно из бойниц повели обстрел, поддержанный всеми батареями Батория.
Несмотря на оглушительную канонаду, жестокий обстрел всех улиц города, неистовый рев королевских наемников, которые, казалось, обезумели от крови, псковичи не растерялись. Упорство их усилилось. Занятие башен не решало битвы. Узкие проходы из них вели в город, и эти лазейки русские стрелки сделали смертоносными для поляков и венгерцев.
Между тем траншеи волну за волной выхлестывали атакующих, — поляки с ревом рвались в проломы. Тут ни на минуту не стихал рукопашный бой. Стрельцы, дети боярские, просто псковичи и мужики, одетые в сермяги и лапти, били врага чем попало и насмерть. В ход пошли мечи, топоры, копья, колья, камни. Беспрерывно вспыхивали пищальные огни, визжали стрелы. Разгоряченные гневом, псковичи забыли о себе. Они видели только врага и, убивая его, кричали во всю силу здоровых легких:
— За Псков, за святую Троицу!
Шеренга за шеренгой в латах, в блестящих шлемах, с ружьями наперевес вступали в бой и гибли под топорами, мечами и дубинами воины Батория. Надменные, наглые, уверенные в своем превосходстве, они быстро теряли гонор.
Ксендз Пиотровский, стоявший подле короля на звоннице церкви Никиты, презрительно процедил сквозь зубы:
— Пся кревь, москали! Они не умеют биться по-рыцарски, по-шляхетски. Кто ж бьется дубинами? Разбойники на большой дороге!
Горькая усмешка скользнула на губах Батория:
— А я за одного московита десять наших наемников отдал бы! Взгляни, пане ксендже, то храбрейшие вояки! — с восторгом обмолвился он и вздрогнул.
В эту минуту с Похвалинского раската крупнокалиберная пушка ударила по Свинусской башне. Такой ловкости и сноровки Баторий нигде не видел и в европейских армиях. Под раскатистый грохот орудия крыша Свинусской башни, громыхая, тяжело рухнула под откос, давя штурмующих.
— Матка боска, цо робится! — вскинув молитвенно ладони, воскликнул ксендз.
Король недружелюбно покосился на пастора и учтиво предложил:
— Прошу пана уйти, ибо тут воинское дело, а не месса! — Он приказал ротмистру, одетому в блестящие латы: — На коня! Повелеваю не прекращать штурма!
Баторий снова стал напряженно всматриваться в поле боя. Ксендз Пиотровский на цыпочках неслышно убрался с колокольни.
Тем временем штурм достиг небывалого напряжения. Из траншей выбирались все новые и новые колонны штурмующих и яростно бросались к стенам. Казалось, сама земля порождала несметное воинство.
Над Псковом поплыли редкие тяжелые раскаты осадного колокола. Псковичи знали, что это значит: каждую минуту на пороге мог появиться иноземный насильник. Все, кто был в состоянии ходить, — старики, женщины, дети, — побросав работу, бежали на Великую улицу, которая прорезала весь город, от Детинца до Великих ворот. И сюда доносились ядра, сильным прибоем долетал шум сражения. По улице катились, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, телеги, наполненные ранеными — изломанными, искареженными и порубанными защитниками. Их за сердце хватающие стоны трогали всякого. Плакали женщины и дети. Только лица стариков точно окаменели, стали суровыми. Деды не раз прежде видели врагов под Псковом: и псов-рыцарей, и литовцев, и панов, и шведов.
— Нельзя пускать в наш дом волков, чадо! Пскову надлежит выстоять! Неужели позор покроет седины наши? — говорили они и звали к стенам…
Тут грянул и с неслыханной силой раскатился гром. Вздрогнула земля, и на юго-западе поднялось черное облако. Дьяк Лихачев, пользуясь подземными ходами, взорвал Свинусскую башню. Чудовищной тяжести вышка свалилась и огромным колесом покатилась по откосу, давя штурмующих.
Баторий, продолжавший стоять на звоннице, в досаде кусал губы. Паны-ротмистры, в изодранных, окровавленных рубахах, в страхе разбегались. По крепостному откосу разметались истерзанные тела, брошенное оружие и знамена.
— Пся кревь! Струсили! — гневно вскрикнул король, сжал трость, и она с хрустом переломалась. — Повелеваю собрать бегунцов и погнать в пролом. Двинуть резерв!..
Опять раздался взрыв, — клубы пыли и щебня закрыли поле боя. Король на мгновение устало закрыл глаза. Когда ветер отнес в сторону хмару, Баторий обратил внимание на Покровскую башню — она уцелела. Видимо, его гонцы достигли траншей. Снова заиграли трубы, и опять толпы воинов, выбравшись из траншей, устремились к стенам. На этот раз еще яростней был напор. Отборные ругательства и крики на разноплеменных языках слышны были даже на звоннице. К Баторию возвратилось хладнокровие, он видел, что его обезумевшие от ярости наемники хотят только одного — быть в Пскове.
Со звонницы было видно, как слабела оборона. Реже стали орудийные выстрелы, ряды защитников таяли. Поляки и венгры уже взобрались на стены. Рукопашная кипела на узких площадках, на лестницах, в проломах. Обозленные жолнеры сбрасывали псковичей во рвы, со стен. Вскоре начался обстрел. Венгры, засевшие в Покровской башне, усилили орудийный огонь по городу. По всему пустырю, который простирался за Покровской башней, шла резня. Уже раздавались польские победные клики.
«Пан буг, Псков уже наш!» — с удовлетворением подумал король…
Баторий ошибся. Воевода Шуйский двинул к пролому скрытые отряды. Сам он, дородный, могучий, в блестящих латах, на высоком сильном коне впереди всех помчался в кипень боя. За ним с гиканьем и криками неслись донские казаки, которых вел Мишка Черкашенин. Лихо заломив серую смушковую шапку с красным верхом, атаман так проворно и сильно размахивал саблей, что из-под нее свистел ветер. Его длинные вислые усы развевались, глаза взывали:
«Братцы, за Псков, за русскую землю постоим!»
Частую барабанную дробь отбивали копыта тысячи коней. Вихрем ворвались лихие рубаки на пустырь, и пошла сеча. Поляки и венгры бестрепетно схватились с противником. Из-под клинков сыпались искры, трещали копья, лилась кровь. Обрызганный кровью, Шуйский носился среди толпы сражающихся, и его тяжелый меч сокрушительно падал на шляхетские головы. Видя бесшабашную удаль Мишки Черкашенина и его добрые сабельные удары, воевода предостерегающе кричал:
— Поберегись атаман!
Он видел, как в пролом с гиком, с кривыми мечами, словно клокочущий ручей, вливались смуглолицые крымчаки-татары. Заметил татар и Мишка Черкашенин. Он еще больше разгорячился; повернув своего злого дончака, с толпой своих набросился на ордынцев и стал крестить их саблей.
— Тут не Азов, куда забрались, псы! — кричал Черкашенин, вертясь среди ордынцев. Конь его копытами подминал татар…
Еще раз Шуйский мельком увидел Черкашенина, окруженного татарами. Атаман лихо отбивался. Но сзади, пригибаясь к земле, с кривым ножом в руке к нему волком подбирался степняк.
— Поостерегись, атаман! — еще раз выкрикнул воевода.
Казачьи кони подняли пыль, и в клубах ее скрылось смелое, суровое лицо донского рубаки…
Отвлеченный битвой, Шуйский больше уже не видел атамана.
В эту пору самого страшного, до предела дошедшего напряжения, в Детинце, у Троицкого собора, собрались самые старые из горожан. Подняв иконы и хоругви, они двинулись через весь город к Покровской церкви, которая расположилась у башни того же наименования, занятой венграми.
На всех городских звонницах ударили в колокола. Тревожный зовущий звон поднял всех, кто еще мог сражаться. Всегда спокойные и добродушные псковитянки, и те «в мужскую облекошася крепость»; похватав колья, коромысла, топоры, толпами бросились к пролому. Они подносили защитникам камни, таскали в ведрах кипящий вар и смолу, во-время передавали зелье для ружейного боя…
Русские с новой силой ударили на врага и попятили его к пролому. Поляки смешались, пали духом и, наконец, ударились в бегство. Но не многие из них ушли. Застряв в проломах, они сотнями гибли под ударами. Женщины бросились к Покровской башне, в которой засели венгры.
— Бей супостата! — призывали они.
Уже сгущались сумерки, и битва затихла. Видя свое безнадежное положение, голодные, истомленные жаждой, венгры около полуночи сами покинули башню…
Мрачный и раздражительный Баторий метался в палатке и в сотый раз спрашивал себя: «Как это могло случиться? Ведь мои солдаты уже были в городе?»
Среди погибших много было знатных: сложил свою голову венгерский воевода Бекеша, легли костями многие ротмистры и командиры…
Притихший ксендз Пиотровский огорченно писал, сидя в своей палатке, в Варшаву: «Пану Собоцкому изрядно досталось во время приступа: избили его дубьем и камнями, как собаку…»
И в Пскове в эти часы было скорбно. Полегло много храбрых и достойных воинов и горожан. На другой день их с почестями похоронили в братской могиле, которую вырыли невдалеке от пролома. Воевода Шуйский, сняв шлем, стоял над могилой скорбный и безмолвный.
Позднее хоронили атамана Мишку Черкашенина. Весь Псков в скорбном молчании провожал удалого казака до его последнего пристанища. Большой путь прошел отважный атаман: бился за русскую землю в Диком Поле, на Волге и на Оке с татарами и ногайцами. Со своей дружиной из донских станичников взял у турок Азов. И вот где сложил он свою голову, — за древний русский Псков.
Седоусый чубатый казак, склонясь над могилой, посетовал боевому другу:
— Эх, Мишка, Мишка, рано ты спокинул нас! Еще ляхи стоят под стенами города, а ты улегся, умная головушка. И что я скажу в Черкасске твоей подружке — женке Иринушке, когда она спросит меня…
Комья земли гулко застучали по крышке гроба и тем как бы закрыли волшебную книжку, в которую много еще могло быть вписано о необыкновенных походах Мишки Черкашенина — о вылазках, схватках и его набегах на орду.
Стефан Баторий замыслил широкие завоевательные планы, в которых Псков был только ступенькой, ведущей к завоеванию Новгорода и Смоленска. После этого открывалась дорога на Москву. Неудача при штурме восьмого сентября расстроила короля — он боялся, что об этом узнают в Варшаве и Европе. Чтобы сгладить впечатление большой неудачи, он объявил штурм незначительной стычкой. Однако в этот день Стефан Баторий уложил под псковскими стенами свыше пяти тысяч человек. Ксендз Пиотровский сообщил в Варшаву: «Не знаю, сколько наших легло при этом штурме, потому что говорить об этом не велят».
После жестокой неудачи в польской армии наступило нескрываемое уныние. Не было продовольствия и денег, не хватало пороху. Местечковые корчмари, шинкари и продавцы «живого товара» незаметно, по ночам, стали откочевывать из лагеря.
Баторий решился на последнее — послать в город прельстительные письма, чтобы посеять смущение в рядах защитников.
В Псков полетела привязанная к стреле грамота, в которой предлагалось покориться, за что последуют королевские льготы и милости. В ответ на это псковичи выбросили старый горшок, а в него вложили свой ответ: «Мы не Иуды, не предаем ни Христа, ни царя, ни отечества. Не слушаем лести, не боимся угроз. Иди на брань: победа зависит от бога!».
Они спешили достроить крепкую бревенчатую стену, чтобы закрыть ею пролом, и выкопали ров, по дну и скатам которого поставили дубовый острый частокол. Все снова готово к встрече врага.
Но Баторий не решался теперь брать город лобовым ударом. Он хитрил, зарывался в траншеи, его саперы вели подкопы к Пскову. Но все было тщетно. Русские пушкари обнаруживали подкопы и взрывали их. Нашлись смельчаки-королевские гайдуки, — которые взялись пробиться в город. В конце октября под защитой пушечной пальбы гайдуки устремились с кирками и ломами к городу. Прикрывая себя щитами, они начали долбить стену между Покровскими воротами и угловой башней. Наиболее дерзкие и ловкие пролезли в дыры и пытались поджечь деревянные укрепления. Но защитники города беспощадно расправились с гайдуками. Многих перекололи, побили камнями и облили кипящей смолой. При этом в гайдуков бросали кувшины с зельем, от взрыва которых мало кто спасался, лишь немногим из врагов удалось бежать…
Как бы в отместку, поляки открыли из осадных орудий пальбу, которая не смолкала пять дней…
К этому времени наступили морозы, установился ледостав на Великой. Второго ноября Баторий в последний раз двинул войска на приступ. Ядра пробили бреши; густые толпы рослых литовцев перебрались по льду и побежали к стенам. Впереди, на рысистых конях, в красных плащах, мчались и кричали воеводы:
— Панове, панове, за нами!..
Отставших тут же на виду войска секли розгами. Король наблюдал за движением толп с той же звонницы. Литовцы приближались к стенам. Город зловеще молчал. Удивляясь и тревожась, король пожал плечами: «Что это значит? Не думают ли москали сдаться?»
Думы Батория были развеяны дружным залпом псковских орудий. Пушкарь Дорофей так установил их, что огонь бил по фронту и по флангам.
«То дуже добро, пся кревь, до чего додумались!» — выругался король. Литовцы теперь уже бежали по разбитому льду, прыгая через полыньи, пробитые ядрами. Одни нашли себе смерть на дне Великой, другие, неся урон, добежали до крепостного откоса и тут заколебались. Напрасно военачальники взывали:
— Сам король дивуется на вашу храбрость. Вперед рыцари!
Увы, второй залп, неслыханно жестокий и уничтожающий, обратил в позорное бегство и литовцев и их воевод. Сам король почел нужным убраться с колокольни.
«Оборони боже, чего доброго, москали и по ней грохнут из пушки!» — подумал он, торопливо спускаясь по каменным ступеням вниз.
Для поляков наступила мрачная пора. Ударили крепкие морозы, по дорогам загуляли злые поземки. Солдаты и конница мерзли. Но самое страшное-надвигался голод. Баторий думал взять осажденный город измором, но костлявая рука голодной смерти протянулась и в его лагерь. Фуражисты, посылаемые за продовольствием в дальние волости, или гибли или возвращались с пустыми руками. Их уничтожали и в деревнях под Изборском, и на дороге в Печоры и Ригу, на литовском шляху и на порховском поселке. Везде врага поджидали мужицкая дубинка и острые вилы.
Поднималась народная война, и это больше всего волновало не только короля, но и «ясновельможных» панов".
Ксендз Пиотровский писал пану Опалинскому в Варшаву: «Упаси нас, боже, от этого. Не выйдут ли против нас русские с этих озер?»
Он, да и король со страхом поглядывали в сторону Псковского озера. Там, недалеко от устья, на Талабских островах скопилось много рыбаков-смелых, отчаянных людей. С давних пор псковичи занимались промыслом снетка-мелкой вкусной рыбки.
Еще до ледостава талабские рыбаки темной ночью сумели доставить в осажденный Псков запасы снетков. Правда, несколько лодок, груженных этой рыбой, досталось врагам. Панам сильно понравился снеток и, по приказу короля, на Талабские острова послали сотню гусар князя Пронского. Прошло много времени, но о гусарах не было ни слуху, ни духу: талабские рыбаки уничтожили их всех до одного.
Опасения внушал и Псково-Печерский монастырь, осажденный немецкими рыцарями и двумя польскими хоругвями, во главе которых были надменный Фаренсбек и Вильгельм Кетлер, племянник курляндского герцога. Крестьяне, укрывшиеся за стенами обители, и иноки причинили много бед польским наемникам и о сдаче не думали…
Голод давал себя чувствовать все сильней. Паны пожелали вернуться домой в свои поместья и фольварки. Литовцы тоже собирались уходить. Наемники требовали жалованье.
Король выступил перед ними с пышной речью. Одетый в малиновый контуш, в меховую мантию, при сабле, рукоять которой сияла драгоценными камнями, он поднялся на возвышение и сказал:
— Слуги мои! Я возлагаю надежду на всемогущего бога в том, что город этот, если мы останемся непоколебимы, предастся нашей власти. Всего населения, передавали нам, в городе сто тысяч; они уже восемь недель находятся в осаде; полагая на это время бочку хлеба на каждого, — вот уже есть сто тысяч бочек; если мы простоим еще восемь недель, тогда они должны будут истребить столько же; но невероятно, чтобы было так много запасов…
Паны молчали, боясь потерять королевские милости, литовцы же грубо перебили Батория:
— Только две недели терпим, а потом уйдем из этого проклятого места.
— Панове, вскоре все будут сыты! — уверенно продолжал король. — Мы займем окружные города и станем на зимние квартиры. Нам известно, что вокруг Руссы и Порхова много больших деревень, и в каждой можно найти кров и пищу для тысячи жолнеров. Там такие высокие скирды ржи, ячменя и овса наметаны, что человек едва может перебросить через них камень…
«То басенки для малых хлопчиков!» — ехидно подумал ксендз Пиотровский. Его худое чисто выбритое лицо с серыми хитрыми глазками склонилось смиренно долу. Он прижал руки к груди и со вздохом сказал вслух:
— Дай же, боже, нам эту удачу!..
Однако в удачу больше никто не верил. Народная война, как пламя, разрасталась. Дерзкие русские мужики не только не хотели кормить поляков, но сами отбивали у них обозы с продовольствием. Они охотились за каждым иноземцем, многие королевские курьеры, не говоря уж о простых жолнерах, бесследно исчезали в пути.
У Старицы, за Тверью, расположилась трехсоттысячная русская армия, ждавшая царского приказа. Но Грозный медлил, считая не все готовым к походу. В большом раздражении он ходил по хоромам Александровской слободы, и все боялись к нему подступиться.
Неуверенно повел себя и князь Голицын, который с сорокатысячным войском должен был оборонять Новгород. Когда поляки были еще сильны, один отряд их напал на Руссу. Вместо того, чтобы помочь городу, князь Голицын до того перепугался, что без всякого основания пожег новгородские посады и укрылся в кремле.
Тем временем в лагерь Баторияя прибыл папский посол, иезуит Поссевино. Хитрый, пронырливый посол решил обойти русских. Девятого октября он прислал своего гонца в Алексаандровскую слободу. Начались осторожные переговоры о мире. Поссевино сообщил Грозному невероятные вести о состоянии дел. Напуганный царь готов был пойти на уступки. Он не знал, что делалось в Пскове. В Александровской слободе об этом имели смутное представление. Гонцы, пытавшиеся выбраться из Пскова, попадали в руки польских разъездов. Повезло лишь одному: простой псковский трудяга Иван Чижва с большими трудностями пробрался сквозь вражеский стан и дошел до Москвы. Мало этого, он добился, чтобы его представили царю, которому и рассказал всю правду о Пскове. Случилось это до принятия папского посла Поссевино. Притихший Грозный внимательно выслушал рассказ Чижвы.
— Как же ты выбрался из крепости? — глухо спросил его царь.
— На вервии спустили за стену. В запсковье стояла ночь претемная, государь. Ползком, все ползком, от куста к кусту, до темного леса добрался. На пастбище под Ганькиным сельбищем набрел я на польского коня, вскочил на серого, и был таков!
— Ловок! — похвалил Грозный. — Что в Пскове?
— Ни глад, ни ляшские хитрости, ни мор, ни пушки не сломили нашего города! — с гордостью ответил рыбак Чижва и бросился в ноги царю: — Выстоим, государь, но каждодневно мрут люди от глада и мора. Зелейные погреба еще не истощились, но ядер нехватка. Колокола и обшивку куполов поснимали-металл надобен. Смилуйся, государь, помоги! Ведомо, в королевском лагере расстройство, наемники разбегаются, нечем платить им. Сейм отказал Баторию в деньгах. Приспела пора нашему войску ударить по ляхам!
— Ну, это не твоего ума дело! — отрезал царь. — Иди, ты больше мне не надобен…
Шатаясь от усталости и обиды, Иван Чижды вышел из дворца, добрался до Москвы и долго бродил «меж двор», гонимый нуждой.
Зато, когда прибыл гонец Поссевино, царь собрал боярскую думу и долго думал, что отдать Баторию, чтобы склонить на мир. Зачли переведенное письмо иезуита, и Грозный, доверяя ему, очарованный лестью, готов был уступить много русских волостей, захваченных Баторием, мечтая сохранить за собой лишь Юрьев и несколько ливонских городов и замков…
Началась деятельная дипломатическая переписка. Гонец Захар Болтин прибыл в баториев лагерь с письмом царя к королю и Поссевино.
Хотя Болтина и держали под строгой охраной, но он был умен и толков, и через стражу разведал положение в лагере врага. В своем челобитии царю он писал: «А наемные те люди хотят идти прочь, а иные да и отошли, а се да от стужи и голоду, а говорят то, что они стоят под городом четырнадцать недель, а ничего городу не сделают, а хотя де стоят под городом три годы, оно де города не взять…»
Грозный не придал значения сообщению Болтина. Исхудалый, с обезумевшими очами, он ходил по обширному дворцу и стонал от душевных мук. Перед тем, девятнадцатого ноября, в Александровской слободе свершилось чудовищное убийство: в припадке гнева царь острым железным жезлом размозжил голову своему сыну, царевичу Ивану, и тот, после долгих и тяжелых мук скончался. Трудно было говорить с исступленным государем, лицо которого то и дело передергивалось. Выпученными, безумными глазами он пугал окружающих.
Надо было бить врагов, а царь завел сложные переговоры. Никто не понимал поведения Грозного, и многие роптали. Между тем Иван Васильевич глубоко осознавал свою правоту. Страна была крайне разорена, бояре строили козни, к тому же Швеция-мощная по тому времени-напала на порубежные русские городки. Правда, и Речь Посполитая была крайне истощена. Русской земле, как никогда, требовалась передышка. Дела под Псковом складывались для русских хорошо.
Лагерь Батория пустел. Сам король, под предлогом переговоров с сеймом, первого декабря уехал в Варшаву.
В Европу, однако, успели проникнуть слухи о неудачах короля. В Польше хвастливые паны все свалили на «ужасные» русские морозы. Гейденштейн, в угоду польскому королю, писал:
«Так как вся Московская область находится под созвездием Большой Медведицы, то обыкновенно ни в каком почти другом месте, за исключением лежащих около Ледовитого моря, не бывает морозов более сильных, какие бывают в Псковской области. Вследствии того и всякого рода животные, как замечено, и имеющие в прочих местностях черный или рыжий цвета, как например: прежде всего вороны, совы, дикие куры, медведи, волки, зайцы и другие подобного рода животные, или от влияния климата, или от силы морозов здесь обыкновенно все белого цвета».
Никто, конечно, в «белых ворон» не верил, но было стыдно сознаваться, что столь блистательно начатый поход на Москву кончался крахом. Баториев лагерь все еще стоял под Псковом, чтобы подогревать переговоры о мире. В начале января воевода Шуйский сделал большую вылазку из Пскова. В схватке псковичи уложили восемьдесят панов и привели много пленных-разноязычных наемников Батория.
Тем временем Поссевино продолжал переговоры. Пользуясь тем, что царь наказал русским послам говорить с иезуитом «гладко и вкрадчиво и оказывать честь во всем», он поддерживал несбыточные требования поляков.
Посол Батория — воевода Брацлавский, гоноровый пан, при обсуждении условий перемирия хлопнул кулаком по столу, покраснел, как индюк, и пригрозил:
— Ежели, вы, москали, приехали сюда за делом, а не с пустым красноречием, то скажите, что Ливония наша, и внимайте дальнейшим условиям победителя, который уже завоевал немалую часть Руси, возьмет Псков и Новгород, ждет решительного слова, и дает вам три дня сроку!
Русские упорно стояли на своем, прося оставить Юрьев и Часть Ливонии, но поляки бряцали оружием и требовали своего. Их высокомерие дошло до того, что даже иезуит Поссевино возмутился, — между ним и гетманом Замойским произошла размолвка.
Между тем царь Иван держал огромную армию в бездействии в то время, когда польский лагерь под Псковом выдыхался. Прошло несколько дней, и пятнадцатого января гетман Замойский сообщил своим послам: «На все воля божья, больше восьми дней нам не пробыть под Псковом. Немедленно заключайте мир!»
Мирное соглашение было подписано, и Русь на долгие годы утеряла Ливонию и выход к морю. К Польше отошли Полоцк и Велиж. В середине января псковичи наблюдали, как из земляных нор, из палаток вылезало шляхетское войско и наемники. Оборванные, исхудалые, бесстыдно вихляясь, чтобы почесаться, они огромным скопищем двигались по Рижской дороге в туманную даль.
Псков облегченно вздохнул, распахнул настежь крепостные ворота. Стоявший на башне рыбак, глядя вслед уходившим насильникам, весело посмотрел на небо и вымолвил:
— Солнце на лето, а зима на мороз! Ничто, пройдет два-три месяца, придет веснянка, тронутся талые воды, набежит тучка и прольется теплым дождем, смоет всю нечисть с русской земли!
Царь понял, что совершил ошибку, и от этого еще больше занедужил. Стан его скрючился, пальцы высохли и борода стала быстро лысеть. Мнительность царя усилилась: во всем он видел измену, наветы, заговоры. Его угнетало сознание потери искони русских земель. «Теперь все враги Руси и мои враги-бояре поднимут головы и не нарадуются нашим неудачам», — горько думал он.
В пору таких тягостных раздумий, когда к тому же подкрадывалась к нему злая телесная немочь, в Москву нежданно-негаданно пришла радость: приехали сибирские послы с благой вестью.
3
Неделю казаки разгуливали по Москве. Толпы зевак всегда сопровождали их, каждый старался им угодить. Но Кольцо с нетерпением ждал, когда царь позовет его в палаты. Наконец вспомнили о казаках. На купецкий двор, в котором они остановились, наехали пристава, подьячие, окольничие. Они целый день выспрашивали, высматривали, а потом попросили сибирское посольство пожаловать в Посольский приказ. Остроносый, с рыженькой бороденкой подьячий, потирая руки, обратился к Иванке Кольцо певучим голосом:
— Славный атамане, дозволь зачесть грамоту, писану самим храбрым воителем Ермаком Тимофеевичем!
Приказный юлил, лебезил, умильно заглядывая казаку в глаза.
Кольцо добыл из кожаной сумы грамоту, писанную в Искере, и подал подьячему. Тот жадно сгреб свиток и, развернув, стал разглядывать. Начал он с пышного царского титула, и лукавое лицо его быстро преобразилось. Покачивая утиной головкой на длинной жилистой шее, он похвалил:
— Гляди-тка, казаки, а как настрочили… Ох, и умудрены… Ох, и мастаки, ровно в приказах весь век терлись.
Челобитная казаков ему понравилась.
— Гожа! — весело сказал он и внимательно осмотрел послов. — Поедете в Кремль, в приказ, к большому думному дьяку, а ехать вам через всю Москву, народу будет любо на вас глядеть, а иноземцы тож не преминут прознать о вас, потому и обрядиться надо под стать!
— Ты о нас не тревожься! — хлопнул подьячего по плечу Кольцо так сильно, что тот присел и захлопал веками: «Полюбуйтесь-ка на молодцев!».
И в самом деле, сибирские послы выглядели отменно. Плечистые, бородатые, остриженные в кружок, он были одеты в бархатные кафтаны, шитые серебром, на боку у каждого сабля в драгоценной оправе. Самоцветы на шитье и крыжах сабель так и манят. У каждого наготове дорогая соболья шуба, — такие наряды впору и думному дьяку!
Казаки разместились в широких расписных санях, разубранных бухарскими коврами. Три тройки, гремя бубенцами, двинулись по кривым московским улицам в Кремль. Поезд сопровождали конники-боярские дети, окольничие, пристава. А позади бежала восторженная толпа и кричала:
— Ай да казаки! Буде здравы, воители!
Иван Кольцо сидел на передних санях, лихо заломив косматую шапку с красным верхом. Из-под шапки-русый чуб волной. Глаза быстрые, зоркие. Московская молодка, зардевшаяся от мороза, загляделась на бравого сибирца:
— Провора!
Ямщики гнали серых напропалую. Пристяжные изогнулись кольцами, рвали, храпели, — казалось, истопчут всю вселенную.
— Ай, и кони! Ай, и гривачи! — похвалили в толпе.
Хлопая теплыми рукавицами, купцы перекликались:
— Торги, поди, пойдут бойчее. Сибирская рухлядь, сказывают, нельзя лучше!
— Э-гей, сторонись! — крикнул передний ямщик, и людская толчая перед Никольскими воротами шумно раздалась, тройки вихрем ворвались в Кремль. Следом закрутилась метель. Вот Ивановская площадь, на ней-приказы. Подле них всегда вертятся жалобщики, ярыжки, писчики с чернильницами на поясах, с гусиными перьями за ухом. Этакие вьюны любую кляузу за грош настрочат на кого хочешь.
Двери посольского приказа с превеликим скрипом распахнулась, в лицо ударило душным теплом. Иванко Кольцо степенно вступил в палату. Они была огромная, грязная, полы немыты, всюду обрывки бумаги, рогожи, сухие корки хлеба. Видимо никто и никогда не убирает горниц. Атаман потянул носом, поморщился и не утерпел, сказал:
— Фу, какая кислятина!
Юркий приказный с хитрым прищуром глаз бойко ответил:
— Московские хлеба, не сибирские. Надо бы гуще, да некуда! — и развел руками.
Атаман сердито посмотрел на ярыжку, но в эту пору тяжелые резные двери распахнулись, и выросший на пороге кудрявый боярский сын провозгласил:
— Послов-сибирцев думный дьяк великого государя просит жаловать для беседы! — он низко поклонился и отступил.
За большим дубовым столом, в тяжелом кресле сидел вершитель посольских дел, думный дьяк Михаил Васильевич Висковатов. Широкоплечий, бородатый и румяный, он весело уставился в казаков, неторопливо поднялся и пошел им навстречу. Иванко быстро обежал глазами горницу. Широка, но своды низки, слюдяные оконца узки и малы, зато покрытая цветными изразцами печь занимает весь угол. На столе — чернильница, очиненное гусиное перо, чистенькое, не омоченное в чернилах, а рядом знакомая челобитная грамота. «Как ветром занесло на стол к дьяку! Быстро обскакала!» — с недоумением подумал Иванко. Дьяк громким голосом оповестил:
— Жалуйте послы желанные!
Казаки низко склонились и спросили:
— Каково здравствует великий государь?
— Бог хранит его царское величество, — чеканя каждое слово, ответил Висковатов. — Разумом его русская земля держится. Хлопотится все…
Минуту, другую обе стороны многозначительно молчали. Потом думный дьяк спросил:
— Как здоровье батюшки Ермака Тимофеевича? Вельми доволен им и вашими храбростями государь…
Казаки низко поклонились.
Осторожные учтивые вопросы следовали один за другим. Иванко Кольцо, не теряясь, толково отвечал на них. Наконец думный дьяк, гостеприимно разведя руками и показывая на широкие скамьи, крытые алым сукном, предложил:
— Садитесь, гости дорогие, в ногах правды нет.
Все чинно расселись вдоль стен. Приказный начал издалека:
— Много дел и всяких посольств приходится вершить государю! — тут дьяк огладил пышную бороду. — Неизреченная радость видеть лик государя и слышать его мудрое слово, не всякому и не во всякий час сие дано…
Висковатов вздохнул и продолжал:
— Чаю великую надежду я: примет вас великий государь и выслушает вашу челобитную, но ныне шибко озабочен он другими делами и потому пока не жалует вас, казаков, приемом. Однако государь милость к вам проявил и дозволил прибыть в Кремль вместе с ним помолиться в соборе перед началом великого государственного дела…
Казаки встали со скамей, поясно поклонились и в один голос благодарили за оказанную милость… Думный дьяк выразительно посмотрел на казака.
— Будет, как повелел государь. Его милости все мы рады, — низко поклонился атаман, не сводя веселых глаз с приказного, который ему пришелся по душе. Одно только сомнение не давало покоя былому волжскому гулебщику: «Ведает или не ведает дьяк сей, что за лихие вольности пожалован я царем шелковым пояском?».
Словно угадав его мысли, Висковатов ободряюще улыбнулся и сказал:
— Беседа наша будет приятной для тебя, гость сибирский. — Коли так, не в обиду прими, — опять низко поклонился Кольцо. — Зову тебя, дьяче, к нам заглянуть. Может и поглянется тебе добришко-рухлядишко сибирское?
Приказный покраснел от удовольствия, но для видимости почванился:
Что ты, что ты! Разве ж это можно? Люб ты мне, и потому и покаюсь в слабости греховной: с юности обуреваем любопытством, и не премину заглянуть на сокровища нового царства, преклоненного государю… Тришка, эй холоп! — закричал он седобородому служителю. — Накажи немедля подать колымагу!
Дьяк степенно поднялся со скамьи. Враз подбежали два рослых боярских сына и обрядили его в добротную бобровую шубу, крытую золотой парчой, одним махом водрузили на голову высокую горлатную шапку. Они бережно повели дьяка под руки через большую душную избу Приказа, распахнули дверь, еще бережливее свели с высокого крыльца и усадили в колымагу.
Шел Иванко за Висковатовым и озорно думал: «Ишь, как чванится, старый кобель! Однако ж умно пыль в очи пускает, такие в посольских приказах ой как гожи! А будь годков пять назад, попался бы ты мне в руки на Волге-матушке, ух, и поговорили бы с тобой милый…»
Дьяк не заметил шальных огонько в глазах казака. Величавым движением руки он пригласил Кольцо в колымагу и усадил рядом собой. Неслыханная честь! Иванко расправил усы, крикнул сопровождавшим его казакам: «На конь!» — и развалился в колымаге, будто и век в ней ездил. Кони тронулись по бревенчатой мостовой, вешники заорали:
— Дорогу боярину!
Впереди побежали скороходы, щелкая кнутами. Кругом возка в пробежку заторопились холопы. Думный дьяк сидел каменным идолом, посапывал.
— Эй, смерды, дорогу! — все время выкрикивал верховой.
Проехали через густые толпы в Зарядье. На широком дворе, обнесенном тыном, купецкие амбары. Колымаги двинулись под шатровые ворота. Холопы извлекли боярина из возка и поставили на ноги.
— Веди, показывай рухлядь!
Кольцо поклонился, опустил руку до земли:
— Жалуй боярин в хоромы. В амбар только купцу в пору. Жалуй, высокий и желанный гость! — с подобострастием пригласил Иванко думного дьяка и так стал его обхаживать, что тот крякал от удовольствия. Сохраняя достоинство, Висковатов покровительственно снизошел:
— Люб ты мне, атаман, веди в свою горницу!
Дородный дьяк прошел через широкие сени и ступил в большую светлицу. Завидев боярина, сидевшие здесь казаки разом подскочили, сняли с гостя горлатную шапку, сволокли шубу и усадили на скамью, покрытую густой медвежьей шкурой. Висковатов внимательно оглядел горницу. В углу, пред образами, переливаются цветными огнями лампады, теплится свеча ярого воска. Тишина и полумрак. Дьяк остался доволен осмотром, но для прилику спросил:
— Всем ли ублаготворены, казаки?
Вместо ответа Иванко Кольцо выставил перед гостем короб и стал выкладывать рухлядь-нежных соболей, будто подернутых по хребту серебристой изморосью, чернобурых лис и горностаюшек. «Что за чудо-меха!» — у дьяка захватило дух. Он протянул руку и погладил мягкую и пушистую соболью шкурку. Из под широкой ладони с нежного меха заструились синеватые искорки.
— Хороша рухлядь! — после долгого любования, с завистливым вздохом вымолвил боярин. — Ай, хороша!
— Коли так, гость желанный, боярин наибольший, бери, все тут твое! — весело предложил Кольцо.
Думный дьяк запустил руку в бороду, задумался.
— Не знаю чем отблагодарить за такой дар. — Он снова загляделся на мягкую рухлядь, провел по ней ладонью, теплота меха передалась его сердцу. — Спасибо, милый, спасибо, храбрый воин, — поблагодарил он Иванку. — Я первая твоя заступа перед государем.
Сибирские меха опять уложили в короб, боярина обрядили и угодливо усадили в колымагу, а в ноги положили дар.
И снова вершник закричал:
— Эй, люди, дорогу. Боярин едет. Э-гей!..
Дьяк покачивался на ухабах. Сладко прикрыв глаза и протянув руку в короб, ворошил соболей: «Ай и рухлядь, ну и радость боярыне будет…»
На другой день казаки чинно и благолепно двинулись в Кремль. По правде сказать, у Иванки Кольцо засосало под ложечкой от сомнений. В Кремле жили царь, митрополит, разместились приказы, и невольный страх закрадывался в душу. Однако атаман овладел собой и горделиво нес голову. Внезапно сердце его обдало теплом: в перламутровой мгле зимнего московского утра по мосту через Неглинную навстречу сибирцам на быстром коне проскакал свой брат — донской казак. В синем кафтане, в шапке с красным верхом, на боку-кривая турецкая сабля; станичник промчался лихо.
— Ах ты, чертушка! Ах ты, ухарь! — зависливо похвалил Кольцо.
По взвихренной конником струе снега засеребрились искры…
В небе только-только заалело, из предутренней синевы выступали зубчатые стены Кремля. Сумеречно, того и гляди оступишься. Несмотря на январскую стужу, река еще не замерзла, чернела среди снегов. От речки Неглинки валил пар, на берегу — кучи навоза. Глубокий, широкий ров пролег между Кремлем и Красной площадью. Над Москвой разносился благовест. Густым медным басом гудит колокол на соборной звоннице, ему вторят на разные голоса колокола других церквей.
Кольцо и казаки по мосту беспрепятственно вступили в Кремль. На Ивановской площади говорливая толпа. У рундука — деревянного тротуара — сидит нищая братия-божедомы, юродивые. Вокруг все затихло. С красного крыльца узорчатого терема сошел царь. Казаки с нескрываемым любопытством разглядывали государя и свиту. «Так вот он каков, грозный царь!» — с волнением подумал Иванко. Царь был высокий, худощавый; стан погнулся, бороденка реденькая. Парчевая ферязь на нем сияла алмазными пуговицами и драгоценными камнями на бортах. На голове государя-круглая, отороченная соболем и усыпанная сверкающими лалами и смарагдами шапка Мономаха. Лицо царя хмуро, глаза пронзительны. Он медленно вышагивал по рундуку, покрытому сукнами, постукивая высоким посохом, отделанным золотом и самоцветами. Четверо румяных, совсем юных рынд в высоких шапках белого бархата, шитых жемчугом и серебром, окружали его. Всходило солнце, и в лучах его засверкало серебро длинных опашней, блеснули длинные топорики, вскинутые на плечи. Позади царя в торжественном молчании следовали бояре в тяжелых парчевых шубах, опричники. Впереди, на приличиствующем расстоянии от государя, несли «царское место», обитое красным сукном и атласом, оттененным золотыми галунами. Ближние опричники царя держали над его головой большой алый «солношник», который ослепительно сверкал золотым шитьем. Во главе шествия, с выпяченным животом, пыхтя выступал дородный боярин, одетый в яркую алую ферязь с жемчужным воротом и собольей оторочкой. Подобно соборному протодьякону, боярин басил на всю Ивановскую площадь:
— Крещеные народы, колпаки долой! Великий государь шествует. Эй-ей, шапки долой! Кто не снимет, кнутом того!
Толпа покорно обнажила головы. Молча, неторопливо царь прошел мимо. Впереди широко распахнута тяжелая дверь в собор, из которого доносится стройное пенье и видны мерцающие в полумраке огоньки лампад и свечей.
Царь торжественно вошел в собор и стал на подножье, возле своего кресла. Придворные окружили его. Казаков поставили недалеко. Кольцо в собольей шубе держался важно, степенно. Глядя на своего атамана, подтянулись и казаки.
В сводчатом высоком соборе полумрак, в холодном воздухе густыми витками поднимается сизый пахучий дымок росного ладана.
Иванко не слышал ни возгласов митрополита, облаченного в дорогие ризы, ни песнопения хора, — мысли его унеслись далеко. Казак думал о Сибири. «Как там батько Ермак Тимофеевич? Знал бы он, как привечают нас на Москве, возрадовался. А то ли еще будет!».
Церковная служба длилась долго, обо всем можно было передумать. Царь устало сидел на горнем месте и, полузакрыв глаза, слушал пение. Кольцо незаметно подвинулся вперед и стал разглядывать Грозного. Иван Васильевич, которому было пятьдесят с небольшим лет, выглядел старцем: под глазами — большие дряблые мешки, все лицо избороздили морщины, редкая седая борода висела клочьями. Держался царь надменно. Внезапно Кольцо встретился с устремленным на него взором Грозного. Не выдержал казак, под страшным взглядом царя потупился, и невольный страх охватил его. «Вот откуда идет его сила! — с трепетом подумал казак. — Очи сказывают, сколь силен он в неистовствах!»
Вдруг кто-то толкнул Кольцо в бок и сердито прошептал:
— Ты, казак, не больно заглядывайся на пресветлый царский лик. Молись богу да кланяйся!
«Уши и око государево, — хмуро покосился на шептуна Иванко, и вся кровь заходила в нем ходуном. — Эк, сколько этой нечисти расплодилось на Руси. В другое время он поучил бы шпыня, а ноне терпи!» — вздохнул с сокрушением и стал неистово креститься.
Настроение царя за последние дни стало значительно лучше. Причиной этому оказались вести о Сибири. Царь воспрянул духом: хоть здесь благополучней, чем на Западе. Дела на западной границе, действительно, были плохи. Военные неудачи раззадорили врагов. Польша не пожелала заключать с Русью прочного мира и довольствовалась лишь короткими перемириями. Тревожно было на ливонском рубеже. Иван Васильевич затеял дружбу с легкомысленным владельцем острова Эзеля — датским принцем Магнусом, думая через него достичь успеха. Он провозгласил принца королем Ливонии, на самом деле сделав его вассалом. По тайному сговору Магнус осадил Ревель. Юный вассал не сумел выполнить обещанного. Он безуспешно простоял под Ревелем тридцать недель и был прогнан на свой безрадостный остров. Надежды вернуть берега Балтики рухнули. К этому добавились внутренние государственные неурядицы и нездоровье Ивана. Беспорядочная жизнь и разного рода вредные излишества привели к тяжелому недугу, который с каждым днем все сильней овладевал царем. Он одряхлел, упал духом и часто раздражался. Число казней увеличилось. Словно упиваясь кровью и страданиями русских людей, Грозный сделался еще неукротимей и злобнее. Вместе с тем Иван Васильевич горько сознавал весь ужас и всю тяжесть своих поступков и своего положения. Не так давно он написал в своем завещании: «Ум мой покрылся струпьями, тело изнемогло, и нет ныне врача, который исцелил бы меня. Хотя я еще жив, но богу своими скаредными делами я смраднее мертвеца. Всех людей от Адама и до сего дня я превзошел беззакониями и потому всеми ненавидим и никому я не нужен, и всех я люблю несмотря на больное, алчное сердце мое».
И вот в тяжелый час пришла радость: восточные границы Руси отодвинулись далеко за Каменный Пояс, и вслед за Казанским и Астраханским царствами пало последнее татарское ханство — Сибирское. Царь ободрился, взор его стал яснее. Он приложил персты ко лбу и, делая крестное знамение, подумал: «Обуреваем страстями, много злого учинил я, но инако не мог, господи… бояришки измену чинили, раздорами жили. Кровь пролитую, все мои прегрешения простит Русь ради творимого великого дела-укрепления и объединения уделов и возвеличивания государства нашего».
Из собора Иван Васильевич вышел успокоенный и облегченный мыслями о Сибири. Над площадью сияло солнце; снег искрился, звонко хрустел под ногами. В красноватых отблесках горели, как жар, купола церквей и вышки расписных теремов. Звон колоколов сливался с башенным боем фроловских часов. Тысячи голосов раздавались на морозном воздухе. Из толпы на рундук выбрался юродивый, босоногий, оборванный, с веригами на груди, и загнусавил:
Идет божья гроза…
Горят небеса…
Огнем лютым…
Стрелец взглянул на кликушу и, показывая ему крепкий кулак, пригрозил:
— Закрой хлебало. Ну-у!..
Царская свита степенно удалилась к теремам. Казаки подошли к соборной звоннице и залюбовались ею.
— Высоченная! — воскликнул Иванко. — Чего доброго, всю Москву с нее видно…
В эту пору вышел монашек и предложил казакам:
— За алтын свожу на вышку!
— Веди! — согласился Кольцо, и казаки поднялись следом за монашком на колокольню. Подошли к широкому проему и замерли, охваченные восторгом. И впрямь, вся Москва лежала перед ними, людная, шумная и пестрая. На солнце горели гребни кровель, сверкали золотые купола церквей и темнело великое скопище строений. Свежий ветер ударил в лицо Иванке, взмахнул полами его кафтана и развеял кудри. Долго — пока не замерзли — любовались казаки столицей.
Смутно было на душе у казаков. Ждали, — вот прискачут они в Москву, и прямо к царю. Ворота в Кремле — нараспашку. С ямщицким гиком, с казачьим свистом, под перепевы бубенцов тройки ворвутся на Ивановскую площадь и сразу осадят у Красного крыльца царского дворца. И выйдет на высокое крылечко, устланное пышными коврами, сам грозный царь и скажет: «Жалуйте, гости желанные!».
Но не так вышло, как думалось. Жили казаки на подворье, бражничали, играли в зернь, ходили по кабакам — разгоняли тоску-кручину. Жаловались Строганову:
— Мы ему царство добыли, а он хоронится…
— Вы, братцы, тишь-ко, не шумите. Тут и без вас гамно, а все, что не потребно, услышат государевы уши-не к добру будет. Вы, казачки, потерпите, потерпите, милые, — успокаивал старый лис-Максим Яколевич. По хитрющим глазам и льстивым речам купца догадывался Иванко Кольцо, что Строгановы втайне ведут переговоры с думными дьяками, как бы половчее да поскладнее к сибирскому делу пристроиться. Досада разбирала удалого казака, но он ничего не мог поделать — Москва не Волга, где все просторно и все ясно. На Москве одно к другому лепится, людишки кругом замысловатые, и не поймешь, что к чему. Тут и дьяки, и подьячие, и приказы, и ярыжки разные, и бояре чванливые, — поди разберись в этом дремучем человечеком лесу без хитроумного Строганова.
— Терпеть, так терпеть, — нехотя соглашался с ним Иванко. — Но то помни, Максим Яковлевич, тянуть долго нельзя: в Сибири подмогу ждут. Закрепить надо край.
— Золотые слова твои, атаман, — похвалил Строганов. — Но вся суть в том, что мешают тут всякие сучки-дрючки. Надо добраться до думного дьяка Висковатова и втолковать ему о великом деле. А пока, милые погуляйте по Москве. Широка и хлебосольна матушка!
Велика Москва, обширна, иноземные послы насчитывали в ней сорок тысяч домов. Они дивились многолюдству и величию города, который вдвое больше Флоренции и даже больше аглицкого Лондона. И самое главное, — хлебосольна Москва, особенно, когда в кожаной кисе бренчат ефимки. И хлеба, и соли, и пестроты вдосталь. Казаки по Москве расхаживали и ко всему приглядывались. Город похож на растревоженный муравейник. Народищу в нем, действительно, много, а со всех застав все прибывает и прибывает, — всякому дела есть тут! Вон по Владимирской дороге толпой тянутся богомольцы, из Тулы на Пушечный двор гурьбой идут пищальники, из Вологды со скрипом двигается обоз с пенькой. На кривых улицах людно и шумно: дымят мастерские, вьется пар из мыленок, что стоят на берегу Москвы-реки, рядом машут исполинскими крыльями мельницы, а кругом разносится стук топоров — галичские плотники рубят деревянный мост через реку. А на взгорье, рядом с Кремлем, — Красная площадь, на которой, как рой шмелей, гудит густая толпа. Среди нее толкутся румяные бабы с лотками, голосисто зазывают.
— Кому пирогов? Кому сладких? Эй, красавчики! — подмигнула казаку черноглазая лотошница.
«Хороша, как репка, кругла», — отгоняя соблазн, подумал Иванко Кольцо.
— С пылу, с жару-денежку за пару! — впиваясь жарким взглядом в казака, подзадоривала молодка.
"Сама каленая, так теплом и дышит! — отвернулся атаман и прикрикнул на казаков:
— Ну, что зенки пялите? Бабы не видели?
И только отвернулся от одной, другая тут как тут. Румяней и краше первой, губы словно алый цвет, и зубы белой кипенью.
— Калачи! Горячие калачи! — манящим грудным голосом позвала она.
— Эй, святые угодники, спасите нас, — скроив насмешливо лицо, вздохнул чубатый казак. — Что поделаешь, атаман, сколько лет ласки не видел, а ведь и пес ее любит! — он совсем было ринулся к калачнице, но Иванко решительно схватил его за руку и крепко, до боли, сжал:
— Годи, стоялый жеребец. Укроти норов! Мы ноне не просто гулящие люди, послы по великому делу. Негоже нам только о себе думать! — глаза Иванки светлые, строгие. Жаль бабы, да бог с ней! Вздохнул казак и отошел в толпу. А кругом такая круговерть шла, не приведи господи! Среди раскрашенных лотков и скамеек, на которых разложены товары, слышалась сочная, хлесткая перебранка, звонкие зазывы купцов, азартно расхваливавших свой товар:
— Шелка персидские!
— Мыло грецкое!
— Суремницы для боярышень!
— Хозяюшки-молодушки, кому доброй рыбы? Соленой трески!
— Эх, голоса, ну и голоса! — заслушался казак Утков. — Так только певчие могут! Послушай, атаман!
Рыжий, кудрявый молодец из панского ряда озорно выкрикивал:
Киндяк, киндяк,
Продает Кирьяк,
Что ни взглянешь — ефимок…
А наденешь — горит ярче золота…
Над ларями неприятный запах лежалой рыбы «с душком», под ногами отбросы, обрезки. Нищие-калеки, словно псы, копались в кучах отбросов, подбирали куски порченной снеди и прятали за пазуху.
В сторонке, среди божедомок, стоял длинный тощий странник. На голове потертая скуфья, на теле широкий не по плечу, бараний полушубок. Размахивая истлевшей тряпицей, он сиплым голосом взывал:
— Православные христиане, мужики и бабоньки, кто томится злым недугом и скорбью сердечной, враз исцеленье! Вот у меня ризы святителя Филиппа-мученика и ходатая за нас грешных перед господом, — странник поднял очи к небу и закончил: — Берите последнее, все расхватали…
Божедомки молчком старались протиснуться вперед и дотронуться до сомнительного лоскута, в надежде получить облегчение от тяжкой жизни и застарелых недугов.
Обросший волосами до самых глазниц, как огромный лесной медведище, дикообразный мужик кричал на грузного сытого монаха:
— Копейки выманиваешь, народ от бесхлебицы и мора и так мрет. Люди падают, яко мухи осенние, прямо на дорогах, застывают на морозе. Хлеба труднику не докупиться. Шутка ли, в Москве четверть ржи шестьдесят алтын. А где брать такие деньжищи? Ложись и умирай!..
— Правда, правда! — загомонили в толпе. — Жить тяжко…
— А когда было легче холопу? — раздался вдруг решительный голос. — Николи сладко простому люду не жилось. А на пахаре да на работном Русь держится.
— Пода-йте копе-ич-ку, — заканючил нищий.
— Брысь! — перебил все тот же крепкий голос. — Брысь! А слыхали, братцы, нашей земле-прибыль. Казаки повоевали Сибирь, раздолье и воля там простому человеку обещана.
— Радостную весть нам поведал трудник, — подхватили в толпе. — Не только горе да напасти нам, но и праздник народу пришел!
Иванко Кольцо смутился, переглянулся с казаками. Они затаились в толпе.
— Сказывают, край обширный и богатый, мужики! — протяжно продолжал вестник.
— Подвиг для простолюдина, для всей Руси совершен! — подхватил другой в толпе. — И кем совершен? Казаками. А кто они есть? Русские люди. Слава им, слава великим трудникам!
— Эх, братцы мои! — с жаром выкрикнул первый. — Открылась перед нами, перед всей Русью, ныне большая дорога встречь солнцу. Человеку с доброй душей и путь славный надобен. Хвала им, ратоборцам!
— Слава! — подхватили сотни глоток, и величание отдаленным громом прокатилось по площади.
Атаман с казаками свернули в глухое место. Под бревенчатым забором сидел калека с обнаженной головой, перед ним на земле шапка. Ветер перебирал его седые волосы. Нишеброд пел:
Как зачиналася каменна Москва,
Тогда зачинался и грозный царь,
Что грозный царь-Иван, сударь Васильевич.
Как ходил он под Казань-город,
Под Казань-город и под Астрахань;
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя с царицею.
Выводил измену из Пскова,
Из Пскова и из Новгорода…
В чистом, величавом голосе певца звучала похвала Ивану Васильевичу за разорение татарских царств, столько бед причинивших русскому народу. Это понравилось Иванке Кольцо, но задумался он о другом — о многих казнях, слухами о которых полнилась русская земля. Атаман не удержался и бросил певцу:
— Лютый царь, сколько людей переказнил на глазах народа: и виновного и невинного!
Певец спокойно взглянул в лицо казаку, качнул головой и запел громче ласковым голосом:
Он грозен, батюшка, и милостив,
Он за правду жалует, за неправду вешает.
Уж настали годы злые на московский народ,
Как и стал православный царь грознее прежнего:
Он за правды, за неправды делал казни лютые…
— Тишь-ко, старик! — крикнул Иванко. — О том петь гибельно, опасись! Тут на площади да на улках, всюду приказные олухи бродят. Оборони бог, услышат, — схватят и в пыточной башне язык оторвут!
— А я только для верных людей про это пою… Подайте Христа ради копеечку, — смолк и протянул руку нищий.
Казаки щедро накидали ему в шапку звонких алтынов и, улыбаясь, ушли с площади.
Наконец после долгих ожиданий пристава объявили казакам:
— Готовьтесь, на этих днях царь обрадует вас, — примет!
Казаки давно приготовились к встрече с царем. В нетерпеньи они поспешили на Красную площадь-потолкаться среди московского народа.
Красная площадь, как всегда, с ранней зари кипела народом. Казаки толкались в самой гуще-хотели все выведать, увидеть. В одном месте шли суд и расправа. Палач с засученными рукавами бил кнутом беглого холопа. Кафтан и рубаха у парня сняты, он посинел от холода, часто вздымаются худые ребра. Холоп закусил руку, чтобы не кричать от боли, а по спине его от плети кровавые полосы. Впереди дьяк с приказом в руке отсчитывает удары.
— Хлеще бей! — кричит он: — Да не повадно будет холопам чинить боярам разор!..
В другое время казаки непременно вступились бы за несчастного, но тут что поделаешь? Послы! Они ушли подальше от греха. Вот в толчее бирюч, надрывая глотку, выкрикивает царские указы. Постояли, постояли казаки и тронулись в третье место. Не успели они осмотреться, как внезапно, заглушая многоголосье толпы, ударили звонкие литавры. В самую людскую гущу въехали на белых конях два рослых бирюча в малиновых кафтанах, расшитых золотом. В руках у каждого парчевое знамя на длинном древке.
— Гляди, гляди, экие важные едут! Тут новости большие! — заговорили в толпе, в гуще которой теснилось немало иноземцев: и немцев, и поляков, и татар, и всякого наезжего из-за моря торгового люда.
Иванко Кольцо встрепенулся:
— Должно быть важное выкрикнут, коли и чужеземцы сбеглись.
Бирючи ударили в литавры; когда все притихли, один из них громогласный, оповестил велеречиво:
— Народ московс-ки-й!.. — Все вытянули шеи и ждали важного слова. — Ведомо ли тебе, что в стольный город Москву, к российскому великому государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу, прибыло казацкое посольство бить царством Сибирским…
Огонь вспыхнул в сердце Иванки, он схватил за руку ближайшего казака и прошептал:
— Чуешь, то про нас оповещают народ.
Казак засиял, снял шапку, перекрестился:
— Слава господу, до чести дожили… О труде нашем тяжком узнают ноне русские люди! Эх, братцы!..
Бирюч снова ударил в литавры, привлекая внимание. Когда отзвучала медь, он продолжал:
— Народ московский, великий государь наш, царь и великий князь всея Руси, повелел православным оказывать тем сибирским послам всяческую почесть и ни в чем худа не чинить. На посольское подворье без царского указа не ходить и послам не досаждать. А кто того царского указа не послушает, будет бит нещадно батогами…
Бирючи, колыхая парчевыми знаменами, уехали, и по Красной площади горячо и страстно загомонил народ:
— Радуйтесь, добрые люди, целое царство привалило!
— Эх, и казаки-удальцы!
— Сказывают, висельниками были, а ноне к царю званы…
— Тишь-ко! Смотри, кругом «уши» ходят. Наплачешься без языка, когда в застенке обрежут.
— А кому о сем деле прибыль? Царю или народу?
— Народу ноне простору больше. Сказывают, там земля без конца — краю, и кабальных нет!..
Повеселевшие казаки на спуске к Москве-реке нагнали двух иноземцев. Они шли медленно, с хмурыми лицами.
— Что приуныли? — ободряюще окрикнул их Иванко.
Пан в меховой венгерке и остроносый немец, — оба недружелюбно посмотрели на казака, промолчали.
Казаки дружно захохотали:
— Сибирь уплыла. Ноне Русь с татарскими набегами покончила. Еще бы крымского хана угомонить.
Возвратясь на подворье, казаки стали готовиться к приему. Сходили в баню, долго парились, мылись, надели чистое белье, обрядились в лучшие чекмени и со всем тщанием отобрали лучшие дары.
Как ни упирался Ишбердей, но и его свели в баню, мокрым мочалом отодрали стародавнюю грязь, окатили из ушата теплой водой. Князец фыркал и, выпучив глаза, в большом страхе кричал:
— Ой, что делаешь, казак? Мое счастье навек смоешь!
— К царю пойдем, кланяйся и говори одно: зверя-соболя в Сибири много-много, и рад, что Кучума не стало!
— Угу! — кивнул головой Ишбердей. — Это правда, и наш земля мал-мало лучше московски. А про олешек забыл?..
Москва князьцу не понравилась: «Много шуму, крику, и чумы большие, заблудишься. Но город богат, гораздо богаче Искера!..»
В Кремле тоже не менее тщательно готовились к приему сибирского посольства. Иван Васильевич стремился придать этой встрече пышность: «Пусть посмотрят враги Руси и задумаются над сим!». Государству московскому приходилось в эти дни лихо. С запада теснили шведы, немцы, поляки, а с юга постоянно угрожал нашествием и разорением крымский хан. Кстати Сибирь подоспела!
Тронную палату убрали, — вымыли полы, окна, на Красное крыльцо разостлали яркие ковры. Стрельцов и рынд обрядили в новые кафтаны. Думный дьяк Висковатов и ближние государя установили порядок приема сибирского посольства и назначили день.
Этого дня долго еще ждали казаки. Только занимался рассвет над Москвой, а они — обряженные и во всем готовые — начинали уже прислушиваться к скрипу саней за слюдяными окнами, к топоту коней, к шагам прохожих. Однако никто за ними не являлся. Так в тоске и досаде проходил день за днем. И вдруг в одно морозное утро кончилось их жданки: на подворье раздался конский топот и вслед за этим пронзительно-призывно затрубил рог. Казаки гурьбой выскочили на крыльцо. Перед ним на резвом аргамаке, в расшитом кафтане, красовался царский гонец, а кругом стрельцы и народ. Стрельцы теснили простолюдинов, крича:
— Дорогу, дорогу сибирским послам.
— Гонец гордо вскинул голову и спросил казаков:
— Кто тут старший?
Кольцо снял соболью шапку, поклонился; тронутые сединой кудри рассыпались. Посадские женки загляделись на могучего казака.
— Бабоньки, до чего ж красив да пригож, родимый!..
— Цыц! — прервал голоса стрелец, пригрозил бердышом.
Гонец выкрикнул:
— Слушай царево слово! Повелено великим государем, царем и великим князем всея Руси, пожаловать в золотые палаты…
Посланец поморщился, — ему не понравилось, что казаки при имени царя не стали на колени…
Все было готово к отбытию. Казаки быстро нарядились в шубы. Ишбердей остался в малице. Среди могучих, плечистых казаков он казался отроком. На безбородом лице князьца светилась добродушная улыбка:
— И мой скажет свое слово русскому царю. Наш манси не хочет Кучума. Ой, не холос, шибко не холос хан…
В просторном возке уложены дары сибирцев. Казаки завалились в расписные сани. Важные, в толстых шубах, бородатые, они весело поглядывали по сторонам: «Эй, сторонись, Сибирь мчит!».
По всем улицам и площадям тьма тьмущая народу.
Над городом звон плывет, благовестят во всех соборах и церквах. Несмолкаемый шум стоит по всей дороге. Ямщики развернулись, стегнули серых гривачей и пронзительно засвистали:
— Эх, пошли-понесли! Ух, ты!
Следом закрутилась метель. Вымахнули на Красную площадь. У Спасской башни в ряд выстроились конные в черных кафтанах. Лошади под ними горячие, нетерпеливые, — грызли удила, с которых желтыми клочьями падала пена. Иванко взглянул оком знатока и обомлел: «Вот так кони! Шеи дугой, ноги-струны. На таком звере только по степи ветром мчись!».
Тут же, как откормленные гусаки, по снегу топтались бояре в широких парчевых шубах и в высоких горлатных шапках.
Ямщики разом осадили коней. Ишбердей высунулся из саней и голосисто крикнул:
— Эй-ла, чего стал, гони еще!..
— Это кто же? — пробасил дородный стрелец.
— Сибирец. Князь! — с важностью ответил казак.
— Гляди ж ты, диво какое!
К Иванке Кольцо подошел дьяк Посольского приказа и поклонился:
— Отсель до царских покоев пешим положено идти!
Казаки покорно вылезли из саней, легкой походкой двинулись за дьяком под темные своды Спасской башни, а позади народ во всю силу закричал:
— Слава сибирцам! Будь здрав, Ермак!
Вышли на кремлевскую площадь. Впереди дородный, румяный дьяк, за ним атаман Кольцо, за которым чинно следовали казаки. Озираясь и дивясь всему шел оробевший Ишбердей. С кремлевского холма открывалась вся Москва; над ней тянулись утренние сизые дымки, жаром сияли кресты, горели золоченые орлы и, уставив грозно жерла на запад, в ряд стояли пушки и единороги.
Дьяк шел важно, медленно, объявляя толпившимся у рундука служилым людям:
— К великому государю Сибирской земли послы…
— Братие! — возопил стоящий у рундука монах. — Сколько сильна Русь! Многие лета-а-а!
От этого львиного рыка топтавшийся рядом сухопарый аглицкий купец в испуге шарахнулся в сторону.
— Сибирь… Сибирь… Сибирь… — катилось по толпе словечко и чем-то заманчивым зажигало всех. Сердцем чуя необычное, что навсегда останется в памяти, шли, боясь расплеснуть великую радость, Иванко и казаки.
Жалко, что перед ними так скоро встали Красное крыльцо и высоченные, тяжелые расписные двери. На крыльце каменным идолищем стоял огромный человечище с черной, как смоль, бородищей-стрелецкий голова. На нем панцырь, новенький шлем, а при боку-тяжелый меч. Справа и слева застыл стрелецкий караул: молодец к молодцу, все в малиновых кафтанах.
Кольцо смело взошел на Красное крыльцо, за ним-остальные послы.
Дверь слегка приоткрылась и в щель просунулась рыжая голова дьяка:
— Эй, кто гамит в столь высоком месте?
— Казаки! — не смущаясь ответил Кольцо.
Сопровождавший дьяк взопрел от страха и шепотком подсказал:
— Не так, ответствуй по чину, как уговорено.
Тогда Иванко снял шапку, за ним сняли и остальные послы. Кольцо крепким, ядреным голосом продолжал:
— Сибирской земли послы до великого государя и царя Ивана Васильевича с добрыми вестями и челобитьем.
Двери широко распахнулись, и посольство вошло в полутемные сени. В них по обе стороны тоже стояли стрельцы. Тут уж стрелецкий голова подошел к Иванке, низко поклонился и предложил:
— Не обессудьте, великие послы, сабельки да пищали придется снять и тут оставить.
Казаки загалдели:
— Да нешто мы можем без воинского убора. Мы с ним Сибирь повоевали. Мы славу добыли!
Откуда ни возьмись важный боярин в горлатной шапке. Он умильно сузил и без того заплывшие жиром глаза, изрек:
— В царском месте шум не дозволен. Оружие сдать надлежит, таков непреложный обычай!
Внушительный голос боярина и его величавая дородность подействовали на казаков. Они сложили на лавку сабли, пищали, чеканы. Ишбердей, робко улыбаясь, тоже снял подаренную Ермаком саблю и, разведя руками, сказал:
— Русский дал и русский взял.
— Жалуйте, послы дорогие! — широким жестом поманил боярин послов в каменные расписные палаты. Иванко Кольцо и казаки приосанились и с бьющимися тревожно сердцами вступили на широкую ковровую дорожку. За ними служки несли сундуки, набитые добром сибирским.
Не впусте писали иноземцы про великолепие и богатство московского русского двора. Шли послы через обширные расписные палаты, и одна сменяла другую; казалось им не будет конца. На каменных сводах, от одного края до другого, сверкали звезды и планеты, — чудилось, будто сверху раскинулось небо-так правдоподобно написал все искусник. Среди звезд витали длиннокрылые ангелы, а в одном месте небесное воинство сражалось пылающими мечами с Люцифером. В соседней палате с потолка глядели в упор живые человечекие лики. Живопись была столь волнующая, что казалось-вот-вот заговорят не по-иконописному изображенные красками степенные мужи. Боярин перхватил восхищенный взор Иванки и пояснил:
— То пресветлые мужи-Мужество, Разум, Целомудрие, Правда. Сколь сильны и возвышены они! Зрите, дуют с морей и с земель лихие ветры и не сдуть им сих великих начал! Тако творится и во вселенной.
Шли через палаты, стены которых были покрыты кожами с золотым тиснением. Везде кисть умелых и проникновенных художников расписала своды и стены, оживила их. Непостижимо было, — сколь велик талант человеческий! Всюду ярь, лазурь, золотой блеск, переливаясь, манили глаз и чаровали сердце…
Дьяк откашлялся, огладил бороду, многозначительно оглянулся на посольство. Казаки догадались: пришли к Золотой палате. Боярские сыны медленно и молча распахнули перед ними высокие двери. Распахнули-и потоки света полились навстречу из большой светлой палаты, где все горело, сияло, переливалось позолотой. Плотные ряды дородных бояр, одетые в парчевые шубы и, что черные пни, в высоких горланых шапках, стояли вдоль стен. Были тут и князья в бархатных фрязях, расшитых жемчугом и золотом. Особо, в сторонке, пристроились иноземцы-послы и торговые люди, которых пригласили на торжество по указке Ивана Васильевича: «Пусть ведают: не оскудела Русь! Сильна и могуча!». Царь расчитал правильно-сибирское посольство ошеломило западных соседей…
В палату торжественно вступили стольники и сразу заревели трубы, а по Москве загудели самые большие колокола. За стольниками вошли послы Ермака, а с ними князец Ишбердей. Тут же выступали Строгановы, Максим и Никита, важные, осанистые. Кольцо хмуро поглядывал на них: «То ж воители!».
Царь сидел на золоченом троне, украшенном самоцветами. Его сверкающие глаза обращены на приближающихся послов. Вокруг престола и у расписных дверей стояли рынды-румяные статные юнцы, одетые в белые атласные кафтаны, шитые серебром, с узорными топориками на плечах.
Иванко Кольцо шел молодцевато, не сводя глаз с царя. На Грозном была золотая ряса, украшенная драгоценными камнями, на голове-шапка Мономаха. Выглядел царь торжественно и величаво, а пронзительные глаза его готовы были в любую минуту засверкать молниями. По правую сторону трона стоял царевич Федор, хилый, низкорослый, с одуловатым лицом, на котором блуждала угодливая улыбочка. Кольцо взглянул на бесцветное землянистое лицо Федора и его реденькую бороденку и подумал: «И это будущий царь! Недоумок? Пономарем ему быть в глухом сельце!».
Взор его невольно перебежал на Бориса Годунова, который стоял слева у трона. Статный, высокий, с быстрыми умными глазами, он покорил Кольцо своей живостью и приветливостью.
Подойдя к трону, Иванко и казаки опустились на колени. Вместе с ними пал в ноги и онемевший от изумления князец Ишбердей. Строгановы отошли в сторону, низко склонили головы.
Иван Васильевич с минуту внимательно разглядывал казаков: «Покорные, а на Волге, небось, головы крушили, — буянушки, неугомонная кровь!». Дольше и внимательней царь глядел на Кольцо. Крепкий, ловкий, с проницательными быстрыми глазами и курчавой бородкой с проседью, Иванко понравился царю. «Плясун, певун и, небось, бабник!» — определил царь, заметив пухлые губы атамана.
— Встаньте громко вымолвил царь. — Приблизьтесь ко мне.
Атаман и казаки не шелохнулись. Только князец Ишбердей быстро вскочил и с нескрываемым любопытством разглядывал Грозного: «Велик человек, весь сияет, не Кучумка хан!» — раздумывал вогул.
— Встаньте, верныв слуги мои! — повторил царь. — Знаю вины ваши, но и послугу великую ценю. Кто только плохое помнит, а хорошее забывает, — недалекий тот человек. Старую опалу с вас, гулебщиков, перевожу в милость! Иван подойди сюда! — Иван Васильевич протянул атаману руку.
Кольцо встал, и, бросив соболью шапку под ноги, поднялся на ступеньку трона, низко склонился и приложился к жилистой руке Грозного. Царь обнял его и поцеловал в темя.
— Благодарствую. Всем казакам моим даю прощение и возношу хвалу господу, что силен русский человек и не дает он простору лютости врагов наших. Хвала богу, даровано нам приращение царства. Земли те были захвачены погаными, и народы их порабощены. Дед мой и отец вели торг с полунощными странами, а ныне их воссоединили с нашей землей! — переведя взгляд на князьца Ишбердея, царь предложил: — Подойди сюда и скажи, рады твои сородичи братству нашему?
Ишбердей растерялся, но все же быстро-быстро заговорил:
— Кучумка-худой. Плохо-плохо жилось нам, теперь холосо! У нас земля богата, зверь всякий живет, рыба всякая плавает в реках, а чум у нас плохой. Твой чум лучше. Це-це! — князец защелкал языком и восхищенно закончил: — Такой чум и у хана не было…
Казаки поднялись и с обнаженными головами чинно стали в ряд. Иван Васильевич встрепенулся, переглянулся с думным дьяком Висковатовым, и тот сказал Иванке:
— Не бойся, говори о своем челобитье великому государю. Милосерден и мудр царь! — грузный дьяк склонился перед троном.
Иванко осмелел, обрел внутреннюю силу и крепким голосом, чтобы слышали все в палате, а особенно бывшие тут иноземцы, заговорил уверенно, твердо:
— Великий государь, казацкий твой атаман, Ермак Тимофеевич, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осужденными судьями на смерть, постарались заслужить вины и бьют тебе челом, — тут Иванко возвысил голос до большой силы, — новым цар-с-т-в-ом… Прибавь, великий государь, к царствам Казанскому и Астраханскому еще царство Сибирское, да возрадуется ныне русский народ, избавленный от погибельной угрозы, многие годы тяготевшей над Русью…
Хотелось, сильно хотелось Иванке добавить еще: «А теперь не худо, государь, вырвать и последнюю занозу в нашем теле — разгромить крымскую орду, столько горя и слез она приносит на Русь!» — да сдержался сдержался казак и склонил голову.
— Спасибо, слуги мои! — ласково сказал Иван Васильевич и словно веселый шелест прошел по Золотой палате. Думный дьяк Висковатов многозначительно посмотрел на атамана. Кольцо проворно достал челобитную и, преклонив колено, подал ее царю.
— А ну, зачти сам! — улыбнулся Иван Васильевич.
Кольцо оробел, этой напасти-читать самому-он не ожидал. Однако делать нечего: заикаясь, Иванко принялся по складам читать грамоту.
Лицо Грозного светилось от еле сдерживаемого смеха.
— Не обессудь, атаман, — прервал он чтение. — В ратных делах, видать, ты из удальцов удалец, а в грамоте телец. Ну, да не кручинься, на то дьяки и подьячие есть. В сем деле они первые, им и писание в руки.
Он взял челобитную от Кольцо и передал думному дьяку Висковатову:
— Чти с толком, с разумением!
Дьяк откашлялся, развернул столбец, отнес послание подальше от глаз и стал громогласно читать. Каждое слово, вылетавшее из уст чтеца, как бы наливалось силой, твердело и грохотало по Золотой палате чугунным ядром. С блуждающей на устах улыбкой Грозный с явным наслаждением слушал. Казалось, его насмешливые глаза говорили Иванке: «Вот как надо великое дело оглашать!». Но Кольцо не обижался: он понимал, что так нужно, и сам невольно заслушался бесподобным чтением.
Все слушали грамоту, затаив дыхание, и все глубоко верили, что это так и есть: Сибирь стала русской. Когда дьяк смолк, Иван Васильевич воскликнул:
— Шведы и шляхта думали унизить русскую землю. Не по ихнему вышло! Ноне всякий видит, сколь несокрушим наш народ. Бог послал нам Сибирь!.. Ну, как нравится казакам на Москве? — неожиданно спросил Иванко царь.
Кольцо вздрогнул.
— Велика матушка, глазом не охватить, и разумом не все сразу поймешь! — низко кланяясь, ответил он.
— Поживи тут! И вы, казаки, поживите. Жалую я вас хлебом-солью. Жду завтра в трапезную… А пока расскажи нам про Царство сибирское…
Кольцо поклонился царю:
— Все мы, казаки, благодарствуем за хлеб-соль…
Тут Иванко стал рассказывать про татар Кучума, про горы скалистые, которые таят в себе руды железные и медные, и самоцветы невиданной красоты, про глубокие, многоводные реки, изобильные рыбой, про пушное богатство.
— Вот, государь, полюбуйся. Шлет тебе новая земля свои дары…
Крепкозубые молодцы в алых суконных кафтанах поднесли поближе сундуки и раскрыли их. Стал Иванко выклвдывать мягких пушистых соболей, чернобурых лис и густые теплые шкурки бобров, татарское вооружение.
Иван Васильевич все со вниманием разглядывал: и булатные татарские сабельки, и кольчужки, и копья, но больше всего его взор ласкали мягкая сибирская рухлядь и руды.
— Дьяк, — обратился царь к Висковатову: — Отошли эти руды на Пушечный двор. Узнай, годны ли они для литья? Чтобы царство крепко держалось, ему потребно изобилие железных руд. Конями добрыми, шеломами железными да мушкетами меткими-вот чем обережешь державу да силу великую придашь войску!
— Истинно так! — согласился Иванко. — А мы по простоте своей думали кистенем да чеканом, да сабелькой управитья. В Барабе удумали Кучума настигнуть и порешить его остатное войско.
Грозный поднял умные, упрямые глаза и сказал:
— Скор, Иванушка! Кучум не так прост, чтобы разом сломиться… Дуб надломленный бурей долго шумит.
Кольцо опустил глаза и стал теребить шапку. Грозный с ласковой насмешкой следил за ним. Узловатые руки царя крепко сжимали подлокотники, он весь подался вперед и, несмотря на ласковость, имел такой подавляюще властный вид, что как ни храбр и беспечен был Кольцо, а чувствовал себя малой птицей рядом с зорким орлом.
— Не кручинься, атаман, — добрым голосом сказал царь, — проси, чего надобно, для закрепления сибирской землицы!
Кольцо встрепенулся, поднял на царя посмелевшие глаза и стал перечислять нужды сибирского войска:
— Стрельцов бы побольше, пушек, фузий, зелья, коней добрых, мушкетов метких…
Иванко говорил четко, толково. Стоявший рядом статный конюший боярин с курчавой черной бородой одобрительно кивал головой. Царь сказал ему:
— Борис, дознаешься обо всем. Запиши!
Годунов поклонился, ответил вкрадчивым голосом:
— Будет исполнено, великий государь!
Он подмигнул Кольцо, и тот понял, что прием окончен. Казаки снова опустились на колени. Царь открыл глаза.
— Оповести всех, Иван, — твердым голосом обратился он к атаману. — Милую виновных казаков. Свою славу худую они смыли кровью и заслужили прощение своими подвигами. Жалую тебе шубу со своих плеч. Вторую жалую Ермаку. Сам отберешь по росту. А еще ему кольчугу, — выдать ее из Оружейной палаты, да по доброй буланой сабле! А еще отпустить сорок пудов пороху да сто свинцу. Об остальном подумает Борис… А ты, дьяк, разумная голова, сготовь казакам подорожную грамоту и укажи в ней: по моему слову пропустить атамана Ивана с сотоварищи, — тут царь ласково оглядел казаков и князьца Ишбердея, — всем им ехать в сибирскую землю вольготно. А ехать им на Вологду, Тотьму, Устюг, и чтобы при них ехали от города до города провожатые и оберегали от воров…
Здоровенный казак Утков прищурил левый глаз под дремучей бровью и вдруг заржал на всю палату:
— Это нас от воров оберегать? Аха-ха-ха! Дык мы сами с усами да с кистенем, спуску не дадим…
Максим Строганов, до сей поры стоявший истуканом, в ужасе схватил казака за рукав:
— Тишь-ко, стоялый жеребец!
Казак словно подавился, смолк. Царь поморщился, пристально посмотрел на него и продолжал:
— А еще ты, дьяк, напиши, чтобы корм им и коням их давать досыта, и не чинить никакого утеснения в пути. В придорожных кабаках вином вволю поить. Воеводам особо напиши, чтоб помешки не чинили и всем сибирцы довольны были…
Грозный вздохнул и сказал атаману:
— Ну, Иван, дозволяю по Сибири и Закамью сыскивать гулящих людей и верстать в служилые. Надо домы строить, пашню поднимать, хлебушко сеять. Пусть учатся по-человечески жить. Ясак собирать рухлядью, баранами, шерстью и златом. Прямите мне службу, по крещенному снегу везите ясак под надежной охраной… А я вас не забуду, и Строгановым накажу помогать вам одеждой и сапогами. Тут ли наш гость?
Строгановы переглянулись, чинно и разом выступили вперед, поясно поклонился Грозному.
— Тут мы, великий государь! — сказали дружно оба.
— И вас не забуду. Все зачту…
Иван Васильевич хотел улыбнуться, но вдруг беглая судорога исказила его лик, он схватился за бок и тяжко вздохнул:
— Ох, грехи наши тяжкие…
Осанистый боярин в горлатной шапке опять встал впереди Иванки Кольцо:
— Великий государь притомился…
Строганов шепнул казакам:
— Пора, удальцы…
Сибирцы низко поклонились и стали медленно отступать. Иванко Кольцо с тревогой видел, как высокий худой царь Иван вдруг ссутулился, голову опустил долу, и руки его судорожно ухватились за поручни кресла.
«Скорбен государь, не протянет долго, — подумал атаман. — Ну, и разгуляется тогда боярство!»
Высокие горлатные шапки бояр, как черные пни, сдвинулись и скрыли Грозного от глаз Иванки. Широкие позолоченные двери распахнулись перед казаками, и они покинули тронную.
В большой сводчатой комнате их попросили повременить уходом. Казаки расселись по широким скамьям, покрытым красным сукнами. Под грузными каменными сводами было сумеречно. За слюдянными оконцами все еще торжественно гудели колокола-Москва праздновала присоединение Сибири. Это бодрило, радовало сибирцев. Сидели они долго, молчали. Князец Ишбердей, поджав под себя ноги, устроился на полу подле цветной изразцовой печки. От нее шло тепло. Вогулич с довольным видом поглядывал на горячие изразцы и похваливал:
— Холос чувал, шибко холос… Когда угощать будут?
— Ты тишь-ко, тут не Сибирь. Знают, что делают, — заметил казак с серьгой в ухе. — Слушай да помалкивай.
В сторонке раскрылась дверь и в горницу неслышными шагами вошел конюший боярин Борис Федорович Годунов. Добродушно улыбаясь, он сказал сибирцам:
— Ну, теперь о делах потолкуем со всем тщанием! — он посел к столу, приглашая Иванку с товарищами.
Князец поклонился Годунову и сказал:
— Мой тут холосо, очень холосо…
Его оставили в покое. Через ту же дверь вошел подьячий со свитком, на поясе-медная чернильница, за ухом — перо. Годунов внимательно поглядел на Кольцо и предложил:
— Ну, сказывай, атаман, сколь войска осталось казачьего? Какое оружие и много ли зелья? Сколько ясачных людишек?..
Голос у Бориса Федоровича мягкий, приятный. Улыбка не сходит с красивого смуглого лица. Стройный, рослый, он приходился под стать атаману.
«Сказывали-из татарских родов, красив муж!» — подумал Иванко и подробно начал рассказывать о делах сибирского войска.
Подьячий, насторожив уши, гусиным пером стал быстро заносить в свиток все поведанное казаками. Писал он проворно, на всю горницу скрипя пером.
Годунов внимательно следил за подьячим.
— Пиши, — негромко сказал он. — Дьяку Лукьнцу-отпустить сорок пудов пороху, сто пудов свинцу, пищалей…
Он вспоминал все мелочи воинского обряженья.
— Не мешало бы тебе, атаман, сходить на Пушечный двор, что на берегу Неглинки реки, отобрать пушки кованные и литые, — предложил он.
— Не миную, схожу, — охотно согласился Кольцо. — Но перво-наперво прошу твою милость, боярин войско послать в Сибирь, — ослабла наша дружина, много побито!
— Да, — задумчиво отозвался Годунов. — Надо ноне же в Сибирь послать стрельцов. Твоя правда, крепить надо за собой землицу. Так и государь думает: где стала русская нога, тут и стоять ей до веку.
— Так, истинно так, боярин, — обрадовались казаки.
И еще скажу, добытчики добрые, — подавшись в сторону казаков, продолжал Борис Федорович. — Там, за Каменным Поясом, в странах полночных живут народу дикие, ничему не обученные-ни мастерству, ни хозяйству толковому, надо к ним бережней, по братски. Издавна мы торг вели с ними, да мешали казанские ханы, да Кучум-салтан. Они всегда клонились под русскую сильную руку. — Годунов наклонился к Ишбердею и спросил его: — Куда держишь, князец? Будешь верно служить Руси?
Вогул склонил голову:
— Наша будет верна друг русских. Кучуму-ни-ни! Ясак давать ему не будем, воевать за него не пойдем. Нам котлы, ножик, топор, много всего нужен, бери соболь, лиса, колонок, — любая шкура бери. Олешек можем дать, только не пускай к нам волка-кучумова человека. Казак-правильный люди… Холосо, очень холосо! — он засиял весь, по смуглому лицу побежали морщинки. Потом просящим взглядом посмотрел на Годунова: — Народ просит, все манси просит и другие народ просит-не трогай наш обычай. Наше сердце не трогай!
Боярин вопросительно глянул на Иванку. Тот ответил:
— Батько Ермак Тимофеевич чтит их обычаи, ласков с ними.
— Умная голова, — похвалил Годунов атамана. — Мы первая ему помога в том.
Еще о многом по-душевному говорил он с казаками, и те были довольны.
— Позови козмографа, — приказал подьячему Борис Федорович.
Вошел юноша в малиновой однорядке, с румяным лицом и быстрыми серыми глазами. Он пытливо уставился на Годунова.
— Садись и наводи на бумагу, где какие сибирские реки текут, откуда и куда! — деловито приказал Борис. — Сколько юртов там, и где какие леса, и горы, и какие руды в них. Посланцы все расскажут…
За резными слюдянными окошками засинели сумерки, когда казаки выбрались из дворца. Годунов провожал из до сеней. Тут он обнял Кольцо и поцеловал:
— Любы вы мне, казаки. Завтра, Иван, приходи за панцырями себе да атаману. По душе выбери!..
На широкой площади, перезванивали бубенцами, ждали лихие тройки. Были тут и купцы в шубах, крытые добрым сукном, кряжистые бородачи, бети боярские в цветных обнорядках, гудел пчелиным ульем простой народ: кузнецы, плотники, кожемяки, гончары, огородники. Завидев сходящих с высокого крыльца казаков, они замахали шапками:
— Спасибо, удальцы! Порадели за русскую землю! Еще одного хана сбили!
Сияющие, довольные казаки кланялись народу. Иван же Кольцо, смахнув бобровую шапку и отдав земной поклон, объявил:
— Слово ваше — великая честь нам. Будем робить на вас!
Казаки расселись в санях, и тройки понесли их из Кремля. Казалось сибирским послам, что не бубенцы разливаются под расписными дугами, а ликует, трепещется, как жаворонок весной, радость их и всех людей, что колышутся морем-океаном у кремлевских стен.
4
Царь устроил в честь казаков пир в Кремле. Снова на тройках сибирцы ехали через всю Москву. Из уст в уста в народе шла молва о сказочном Сибирском царстве, поэтому везде радовались казакам. Простолюдины кричали вслед:
— Наши! Простыми мужиками ханское гнездо разорено!
Скоморохи на сборищах и торгах распевали песни о Ермаке, мешая правду с небылицами, делая его родным братом Ильи Муромца. Колокола по всем церквам и монастырям все еще звонили, как на пасхальной неделе.
Тройки лихо подскочили ко дворцу. Бородатый ямщик в шубе, опоясанной кушаком, ловко осадил коней. Казаки вылезли из саней. Перед ними широкое крыльцо Грановитой палаты.
На ступеньках, не шевелясь, стояли по сторонам, подобранные молодец к молодцу, стрельцы в малиновых кафтанах. Остро отточенные бердыши поблескивали на зимнем солнце.
Казаки легкой походкой прошли в сени. Князец Ишбердей держался важно, надменно поглядывая на рынд. Дворцовые слуги в цветных кафтанах озабоченно подбросили под ноги казакам войлок. Князец подумал, что тут и место, — чуть не сел. Иванко во-время ухватил его за плечи:
— Ноги вытирай о войлок!
Посланцы оглядели свои сапоги. Сняли шапки, огладили волосы и степенно двинулись в палату. Были они наряжены в панцыри, даренные Грозным, в сафьяновые сапоги с серебряными подковками. Оружие-сабельки да мечи — на этот раз оставили на подворье.
Палата — обширный величественный покой с высокими расписными сводами, в центре — отделанный золотом и лазурью опорный столб. На возвышениях-столы, накрытые дорогими скатертями, а перед ними широкие скамьи, изукрашенные индийскими и персидскими коврами.
Под сводами легкий гул, — рокочут голоса съехавшихся гостей. Рассаживаются все чинно, важно, — бояре строго соблюдают старшинство и звания. Стольники в червчатых ферязях зорко следят за порядком.
Впереди, на видном месте, за столом расселись самые знатные бояре, доживавшие свой век. В тяжелых парчевых одеждах, расшитых золотом, с восковыми лицами, они походят на выходцев из загробного мира. Нет-нет, да и вспыхнет в их потухших глазах злой огонек — не могут угомониться старцы: «Гляди-ка, безбородый Бориска куда забрался!». Бояре не могли примириться с возвышением Годунова. Повыше всех стал!
Старик Шереметьев с восковой лысиной и поредевшей бородой недовольно толкал соседа, боярина Трубецкого:
— Ну, куда залез? Мы-то старинного колена бояре. А твои…
Тут готова была вспыхнуть перебранка, но старец-боярин поперхнулся, захлопал подслеповатыми глазами. Пораженный до глубины души, он увидел, что сибирских послов, одетых в простые казацкие кафтаны, провели к столу, расположенному неподалеку от царского места.
— Это-о как же? Вовсе безродные, — растерянно зашлепал губами Шереметьев, да во-время опомнился: в столовой палате немало вертится царских послухов, — услышат, вот и будет тебе местничество. Старец огорченно покачал головой:
— Гляди, вон и Ордынцев. А давно ли был мелкопоместный дворянин. Ныне хозяин Пушечному двору. Мало, мало осталось родовитых!
За столами, в богатых фрязях, сидели и громко переговаривались Шуйские, Мстиславские, Голицыны. В застолицу протискивался дородный князь Воротынский, соратник царя по Казани…
Осторожно, как драгоценную рухлядь, и почтительно провели вперед ветхого митрополита. Его усадили по левую сторону от царского места.
Иванко, прищурив глаза, с любопытством разглядывал бояр и придворных, все больше и больше наполнявших полный зал. Гул усиливался. «Эх, залетела ворона в высокие хоромы! — весело подумал о себе казак. — Ожидалось ли?!»
Послы держались настороженно, стеснительно, положив руки на колени.
Стольники быстро и ловко уставили столы посудой: серебряными тарелками, кубками, корцами, сольницами; слуги в белых кафтанах внесли серебряную корзину с ломтями пахучего хлеба. За дальним столом два боярина чуть не подрались из-за места. Старик Шереметьев, как коршун, ревниво следивший за всем, презрительно пробубнил:
— Худородные, а то ж не поделят места…
Напротив фигурного, сверкающего паникадила на возвышении стоял стол, покрытый парчовой скатертью, а у стенки высилось кресло с высокой спинкой, изукрашенной двуглавым золотым орлом. Вдруг распахнулись створчатые двери, и разом погас гул. В дверях показался Иван Васильевич. Опираясь на посох, в длинной малиновой ферязи с рукавами до полу, перехваченной кованым золотым поясом, в скуфейке, расшитой крупным жемчугом, он шел медленно. Длинный, с горбинкой, с нервными подвижными ноздрями нос походил на орлиный клюв. Тонкие бескровные губы плотно сжаты, в углах их резко обозначились две глубокие складки. Царь ни на кого не глядел, но все затаились. Один за другим поднимались гости: и бояре, и дьяки думные, и стольники. Вскочили и казаки. Суровое, жестокое читалось в лице Грозного. Несмотря на хилый стан его, все же сразу угадывалась в нем большая и непокоримая внутренняя сила. В лице его читалось недоверчивость и брезгливость. Царь много познал в жизни, видел в детстве боярские распри и алчность, пережил заговоры, и поэтому презрительно относился к людям.
Безмолвие становилось тягостным. Царь подходил к своему месту, и взор его внезапно упал на Кольцо. И сразу повеселело лицо Грозного. Неожиданная улыбка смягчила резкие черты, и он, кивнув головой атаману, сказал:
— Здравствуй, Иванушко. Чаю, в Сибири у вас помене чванства…
Это прозвучало вызовом боярам, но они смолчали, проглотили обиду.
Иван Васильевич поднялся к своему столу, поклонился гостям, и те не остались в долгу — низко склонились.
Грозный сел, и в палате снова зарокотали голоса.
Проворные палатные слуги стали быстро разносить по столам кушанья. Царь подозвал глазами хлебников, и те начали оделять гостей ломтями хлеба.
В первую очередь румяный слуга в белой ферязи подошел к атаману и громко сказал:
— Иван Васильевич, царь русский и великий князь московский, владелец многих царств, жалует тебя, своего верного слугу, Ивашку Кольцо, хлебом!
Постепенно все были наделены хлебом. Царь поднялся поклонился митрополиту:
— Благослови, отче, нашу трапезу!
Митрополит в белом клобуке, на котором сиял алмазный крест, благословил хлеб-соль:
— С миром кушайте, чада…
Кухонные мужики в вишневых кафтанах притащили в палату огромные оловянники и рассольники, закрытые крышками. Молодцы в белых кафтанах корчиками разливали из них по мискам и терелкам горячее. Молодец в бархатной ферязи, голосистый провора, объявил на всю столовую палату:
— Шти кислые с говядиной!
Казаки изрядно проголодались и без промедления взялись за ложки. Стали есть укладно, по-хозяйски. Молодец в ферязи шепнул Иванке:
— Ты шибко, атаман, не налегай. Пятьдесят перемен ноне…
— Этак брюхо лопнет, — засмеялся Кольцо, и не успел он глазом моргнуть, как миску со щами будто ветром сдуло. Проворы-слуги уже подавали другую миску — с ухой курячьей… В жизни так не едали казаки. Рыжий сотник Скворец, работая ложкой зажаловался:
— И отведать толком не дадут. В малых годах и в больших силах сохой-матушкой землю пахал. Одно и знал, что хлебушко-калачу дедушка. А тут зри…
Перед ним поставили уху щучью с перцем, и он замолк. Кушанья менялись так быстро, что с толку сбились казаки. Подавались на стол и уха стерляжья, и уха из плотвы, из ершей, карасевая сладкая, уха из лещей… Словно изо всех озер и рек наловили рыбы для царского пира.
— Оно так и есть! — похвалился молодец в бархатной ферязи, — в бочках везут рыбицу со всех земель нашего царства, живая плавает… — Он круто повернулся и оповестил звонко:
— Пироги с визигой!
Кольцо вздохнул: «Всего не переешь! Поберечься надо!»
Изобильно угощали. Грузные бояре ели неторопливо, потели, иные рыгали от сытости.
Бойкий и говорливый молодой боярин подсел к Иванке:
— Старайся, атаман, царь жалует за радости, за Сибирь…
Иванко Кольцо испробовал лебедя, которого царь прислал со своего стола. Все завистливо смотрели на казака, а он думал: «Добр царь, людей ценит по делам да разумению. У старых бояришек умишко выветрился, вот и наверстывают чванством, а то не любо Ивану Васильевичу!».
Стольник поднес атаману золотую чашу с медом и оповестил:
— Жалует тебе, атаман, великий государь медом ставленным! Иванко бережно взял золотую чашу, поклонился царю и заговорил:
— Бояре, служивые люди и весь честной народ, что собрался тут на пированье. Великий государь и преосвященный владыко, хочется мне горячее слово молвить, да не горазд я в сем деле. Скажем одно: жаждут наши сердца верой и правдой послужить отчизне. Поднимаю сей кубок за здоровье царское, за государя Ивана Васильевича, коего ни я, ни потомки наши не забудут за то, что на веки вечные утихомирил татар. Разорил он волчьи логова-царства Казанское и Астраханское, а ныне взял под свою высокую руку Сибирь. Во здравие! — он залпом осушил чашу и оборотил ее вверх дном над головой.
Гости все последовали примеру, хотя иным боярам и не хотелось пить за «истребление боярских родов».
Князь Ишбердей ел все и хвалил:
— Богат царь, сыт много… Жалко места мало.
Особенно понравились ему меды. Но после четвертого кубка он пролил вино на камчатую скатерть, свалился под стол и захрапел.
Царю понравилось казачье слово, и он послал Иванке вторую чашу.
— Сие самое дорогое, — предупредил молодой боярин. — Не вино, а огонек! — и опять он прокричал величание.
— А теперь дозволь, великий государь, выпить за наш русский народ. Он большой трудолюб и помога в помыслах твоих, Иван Васильевич!
Выпил, опрокинул вторую чашу казак, и не захмелел. Даже видавший виды Грозный покачал головой:
— Кто крепко пьет, тот смертно бьет!
— Твоя правда, государь! — встали и поклонились казаки. — Мы через смерти, через беды, через горе шли и все перенесли-перетерпели. А таких, батюшка Иван Васильевич, нас не счесть. Не повалить Русь потому никакому ворогу!..
От здравиц у многих бояр захмелели головы, не слушались руки. Дорогое вино проливалось на скатерть, на редкостные ковры, устлавшие скамьи, на ферязи, на парчевые шубы, но никто не замечал этого…
Митрополит тихонько удалился, когда гомон стал сильнее. Кухонные мужики внесли в гиганском корыте, кованном из серебра, саженного осетра.
Иванко Кольцо весело крикнул на всю палату:
— Вот так рыбица. Из Хвалынского моря пришла, в Астрахани была, и Казань не минула, — ныне все берега — русские, и земля наша велика и сильна. Слава тому, кто побил татар!
— Слава! — сразу заорали сотни здоровых глоток. А слуги подносили все новые золотые и серебряные кубки и чаши, в которых играли искрами пахучие цветные вина.
Царь только губами прикасался к кубкам и сейчас же их сменяли новыми. Столы дубовые гнулись от богатых чаш и братин.
— Бедны мы, бедны! — криво усмехаясь, пожаловался Иван Грозный: — наши соседушки-короли и герцоги богаче. Кланяться им придется мне, сиротинушке! — в голосе Грозного звучала лукавая насмешка.
— Кто кому поклонится, еще поглядим! — выкрикнул бородатый Шуйский. — Под нашими ядрами, под Псковом, король Батур шею вывихнул от поклонов. Крепок городок Псков, не разгрызть русский орешек иноземцу — зубы сломает! — псковский воевода выпятил широкую грудь, блеснул крепкими чистыми зубами.
— А ты скажи-ка лучше, — предложил царь, — какое слово ты ему шепнул, что он на рыжей кобыле немедля убрался в Варшаву?
Шуйский улыбнулся, и эта улыбка озарила солнцем его приятное лицо. Воевода поклонился Грозному, развел руками:
— А сказал я ему русское петушиное слово… А какое, — то каждому русскому известно! Все захохотали. Под сводами загудело, задрожали подвески в паникадилах.
Все подняли кубки, а у царя в руках оказался хрустальный и в нем играл бился золотой огонек-старинный русский медок. Иван Кольцо вскочил, выкрикнул:
— Дозволь, великий государь, выпить за сложившего голову донского атамана Мишку Черкашенина! Дозволь нам, казакам, родимый!
— Всем дозволяю, — милостиво согласился Иван Васильевич. — Таких, как Мишка Черкашенин, мне бы поболе слуг! — Царь первым приложил губы к кубку и отпил глоток.
Кольцо восхищенно смотрел на князя Ивана Шуйского, который до дна осушил чару за донского казака. «Молодец князь, не гнушается пить за казака!»
Однако не все бояре подняли кубки и пили за Мишку Черкашенина. Старичок с облезлой утиной головкой, обряженный в серебристую шубу, вдруг замахал руками, поперхнулся:
— Кхе, кхе… Где это видано, чтобы простым человеком царство держалось. Боярство — столб всему, опора. Не стало многих боярских голов — и царство оскудело. На ключ да на замок великий закрыли перед нами дверь в море…
Грозный потемнел, в глазах сверкнул недобрый огонь. Он стукнул жезлом:
— Врешь, Бельский! Подлыми изменами боярскими у нас волки схитили отецкую землю! Иван! — обратился к Кольцо Грозный. — Скажи сему старцу, кто повоевал ханов и что нашей отчизне потребно!
Атаман раскраснелся, вся кровь забушевала в нем. Стукнул бы он плешивого старичонку-боярина, и дух из него вон! Да не силой, а разумом призывал померяться Иван Васильевич.
— Всему миру ведомо, кто Казань брал, — твердо сказал Иванко. — Бояре? Да не все! Ведомо нам, куда тянул Курбский. А мало ли их было? — Атаман низко поклонился Грозному, — задумано великое дело тобою. Волга — ныне русская река, Сибирь — русская. Покончено с татарским злодейством. Сколько народу нашего губили сии вороги! Расправила наша держава крылья лебединые. А куда лететь? Известно куда, — на море, и Хвалынское, и, чаю я, дойдут наши людишки встречь солнца до новых вод. А на западе… Ух, и тут взломают русские врата. Дай только срок… Твоим разумом, государь, одолеем всех ворогов Руси!
Казаки дивились: «Откуда только у Иванки такие ладные слова? Поднаторел, видно, казак, сидючи послом в Москве».
Иван Васильевич снял с пальца драгоценный перстень и позвал казака:
— Иди сюда, атаман…
Кольцо поднялся на возвышение и облобызал царю руку:
— Не забудется твоя милось, государь…
Бельский посинел, шевелил дрожащими губами. Понял боярин, что под хмелем перехватил он, высказал милую думку боярства. Его взял под руку молодой окольничий и сказал:
— Дурно тебе, боярин, отлежаться надо…
И увел его из Столовой палаты. Другие бояре сидели не шевелясь, словно воды в рот набрали, а на сердце у них горела жгучая ненависть к царю. Московский государь лишил их власти: когда-то они, будучи удельными князьями, чувствовали себя хозяевами и делали что хотели. Московские князья укоротили их волю… Сначала Василий Иванович, отец Грозного, а потом и сын — Иван Васильевич, все государство, всю власть взяли на себя. Много голов бывших удельных князей скатилось с плеч. Этого боярам не забыть.
Государь сидел, пристально рассматривая пирующих. Зимний день быстро угасал, слуги бросились зажигать свечи в стенных бра, в позолоченных светильниках, которые возвышались на столах. С люстры спускалась нить, натертая серой и порохом, она тянулась к каждой восковой свече. Слуги поднесли огонек к нити, и он, веселый, быстрый, поднялся вверх, обежал все свечи, и языки пламени радостно заколебались. В палате стало светлее, уютнее.
А блюда все продолжали носить.
Казаки ели и хвалили икру стерляжью, соленые огурцы, рыжики в масле, балычки белужьи. Еда чередовалась с медами. Князец Ишбердей лежал хмельным под столом и бормотал свое.
За креслом Грозного открылась скрытая доселе дверь, и в нее тихо вошел отлучившийся за чем-то Борис Годунов. Он склонился к царю и что-то прошептал на ухо. Царь качнул головой. Как неслышно появился, так и исчез бесшумно любимец государя.
Глаза Ивана Васильевича встретились с взглядом Иванки.
Осмелевший от вина атаман сказал:
— Гусляров бы сюда, пусть душа у всех возрадуется.
Царь повел глазами, — и вмиг распахнулись двери, в палату ввалились дудошники, скоморохи и гусляры. И пошла потеха. Иванко выбрался из-за стола и поклонился Грозному:
— Дозволь плясовую?
Видя просветленное лицо Ивана Васильевича, казак подбоченился, топнул ногой и пошел откалывать русскую. Хорошо плясал. Чванливые бояре, которые с настороженностью разглядывали сибирцев, вдруг заерзали на скамьях, вспомнили молодость. Эх, лихо!..
В палате стало еще душнее. Изразцовые печи пылали жаром, пахло воском и потными мехами. По лицу плясунов обильно стекал пот. Вдруг из под стола на карачках, выполз князец Ишбердей и полусонным голосом заорал:
— Эй-ла! Давай мед!..
Бояре и казаки засмеялись. Пляс кончился. Пошатываясь Иванко вернулся к столу. И вдруг неожиданно вспомнил о чердынском воеводе Перепелицыне. Вспомнил и насмешливо подумал: «Что, Васька, не думал, не гадал о таком обороте?». От этой мысли Иванке стало еще веселее.
«Ай да Ивашка, ай да сукин сын, до чего дожил!» — похвалил себя Кольцо и благодарно поднял глаза на царское место. Царя уже не было, он тихо удалился из Столовой палаты.
Грозный в сопровождении спальничьих прошел длинный коридор и по каменной лестнице поднялся в свои сокровенные покои. Свистящее дыхание вырывалось из его груди, руки и ноги дрожали. Давала о себе знать преждевременная старость. Настроение царя вдруг круто изменилось, и обычное в последнее время тяжкое предчувчтвие сжало его сердце:
«Видно, укатали сивку крутые горы. Смерть сторожит меня. — Грозный тяжело опустился в глубокое кресло и задумался. — Уйду из жизни, кто оберегать станет русскую землю? По кусочкам собирали державу, растили с большим бережением. И вдруг все на ветер… Бояре только часа ждут, чтобы завести крамолу! Нет, погоди, еще поживу наперекор всему!»
Царь поднялся и прошелся по горнице. Вот обширный стол, заваленный пергаметными свитками, книгами — русскими и латинскими. Иван Васильевич любил читать и много писал. Строки, выходившие из-под его пера, часто разили его противников. Он писал с огромным жаром, просто и сильно; а если нужно, — то и с ядом. Яду в нем всегда хватало. Ласковой рукой царь огладил толстые книги — плоды трудов московских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца — «Апостол» и «Часовник».
«Крамолами бояр оклеветаны, сбегли! — вдруг подумалось царю. Он развернул широкий свиток — начертанный козмографом чертеж Руси. — Велика земля, обильна лесами и реками! Вот Волга, как ветвистое дерево, воды стекаются в нее со всей Руси; вспоила реку вся русская земля, и как не быть ей русской! По Волге-реке плывут теперь торговые струги в Бухару и в Ургенч-богатые города. От прибыльных торгов земля богатеет и народы тянутся к труду мирному!» Грозный пристальней взглянул на карту. Справа по ней пролег Каменный Пояс, а за ним-пусто. Козмографу неведомо, какие дальше земли. Для своей утехи он начертил только соболя и белку, грызущую орехи. Знал, видно, он одно: идет с полуночных стран драгоценная рухлядь. Все ж остальное для него было мраком. И вот явились казаки, развеяли этот мрак… Царь еще ниже склонился над чертежем…
Пир кончился, догорали свечи в шандалах. Хмель свалил слабых и жадных. Пора по домам!
Иванко Кольцо поднялся, поклонился гостям и взял за руку Ишбердея:
— Ну, милай, натешился. Пора и честь знать!
Казаки вышли на площадь. Над Кремлем сияли крупные звезды, под ногами искрился снег. Высоко, за дворцовым переходом, малиновым глазком светился огонек!
«Кто же сидит ныне за делом? — задумался Иванко и решил: — Известно, что за человек! Царь должно! Ему-то родная земля милее всего, и в заботах о ней дня мало!»
Давно мечтал Иванко Кольцо побывать на Пушечном дворе, который был поставлен на берегу Неглинки-реки. Двор обнесен высоким дубовым острокольем, и ночами над ним, как яркие зарницы, часто вспыхивали отсветы пламени. Литейщики в эту пору сливали по желобам расплавленный металл в ямы, в установленные формы. Рядом располагались Кузнецкая и Оружейная слободы. Тут шло производство пищалей, бердышей, сабель. Издревле русские люди славились как искуссные мастера. Они умели ковать и отливать пушки. И хорошо стреляли. В Пскове впервые в мире русские умельцы поставили орудия на лафеты, а в дни осады московские и псковские пушкари били из пушек дальше и более метко, чем пришельцы с Запада. Уже в армии великого князя Дмитрия Донского применялись при обороне стольного города «арматы».
Из Пушечного двора и прилегающих слобод оружие отправлялось в порубежные города, которые сами обязывались изготовлять зелье.
На Руси имелось немало умельцев, которые из серы, селитры и угля делали превосходный порох. Перед походом по боярским, дворянским и поповским дворам разъезжали писчики и объявляли, кто и сколько зелья должен был сдать в войско. В царском указе писалось: «А кто будет отговариваться, что зелья добыть не может, к тем посылать пороховых мастеров показать как зелье варят».
Кольцо любил огневой бой. Душа его ликовала, когда из черных жерл пушек вырывались раскаленные ядра, рокотал гром и от грома тряслась земля.
В морозное утро Кольцо с казаками подкатили к воротам Пушечного двора. Привратник отвел коней под навес и вызвал главного оруженичего, который ведал двором. Пришел статный, русобородый окольничий и, поклонившись, с готовностью объявил:
— Повелено, государем, не таясь, показать вам наше немудрое мастерство.
Оружничий повел гостей в глубь двора. Последний был тесно застроен деревянными строениями. Налево-приказ, посредине площадки-два литейных амбара, дальше-кузницы, формовочные и холодные мастерские. Неподалеку у ворот склады с металлами, железным ломом, а в иных хранились готовые к отправлению пушки. Едкий черный дым угарно носился в воздухе, от него щекотало в носу и першило в горле. Весь двор кругом был черен от копоти и дыма.
Казаки переступили порог литейного амбара. В первую минуту они ослепли от яркого сияния: блистали звезды-искры разливаемого сплава. Постепенно, однако, обвыкли, пригляделись. В середине мастерской стоял полуголый сильный детина со смелыми, строгими глазами. Постриженные в кружок волосы были забраны под ремешок. Литец внимательно следил за раскаленным сплавом, который лился в форму. Работный пошевеливал руками, и на спине его бугрились крепкие мускулы. «Силен человек!» — с похвалой подумал Иванко и подступил к мастеру:
— Как звать?
— Андрей Чохов.
— Добрую, знать, пушку льешь?
Литец усмехнулся, перебрал пальцами мягкую золотую бороденку.
— Как не добрую! — отозвался он. — Сколько старания пошло! Моя бы воля, я такую армату сотворил, что всем диво-дивное…
Полуголые литцы, — крепыши, перемазанные сажей, — озабоченно следили за желобами, по которым струился расплавленный металл.
Мастер покрикивал:
— Не замай, гляди в оба! Не перелить медь…
Кольцо очарованно глядел на работу литцов.
— Веселая работенка! — вырвалось у него.
— Куда веселее! — отозвался работный в прожженном кожанном фартуке, с зелено-бледным лицом. — И за угар, и за пережог дров пеню вноси, а то снимай портки и под плети!
Андрей Чохов нахмурился.
— Ну-ну, Власий, смолчал бы, бога ради. Всякое бывает, — сдержанно подтвердил он. — Наше дело холопье… Сколько души не вкладывай, одна почесть… И огрехи, конечно, бывают… — Мастер вдруг озлился: — Сколько раз тебе, Влас, толкую — не болтай, и плетей будет помене!
Он замолк и отвлекся на литье.
Скоро ослепительный свет стал гаснуть, померкли сияющие звездочки на раскаленной поверхности, и металл приобрел ровный вишневый цвет. Лицо Чохова, озаренное отсветом стынушего металла, порозовело.
Внезапно мастер подошел к Иванке и спросил:
— Из приказных?
— Куда мне в приказные, не с моей душой сидеть в мурье, — смеясь ответил Кольцо. — Казаки мы. Из Сибири прибыли!..
Мастер на мгновение онемел, в изумлении разглядывая атамана.
— Так вот ты какой! — восхищенно сказал он. — А Ермак Тимофеевич?
— Он посильнее меня, да разудалее. И ума-палата! — Для пущего веса последних слов Кольцо нахмурил брови.
— Ах ты, какой ноне праздник у нас! — вскрикнул Чохов. — Литцы, вот они — сибирцы!..
Со всех углов литейного амбара сошлись работные и окружили казаков.
— Любо нам, молодцы, увидеть вас! — искренне признался корявый литец, с обоженной клочковатой бороденкой. — Спасибо, — не погнушались, заехали.
— Погоди! — перебил Чохов и бросился в угол, гда стояла укладка. Он распахнул ее и вынул что-то обернутое в ряднину. Бережно развернул холст, и в руках его оказалась превосходной работы пищаль. Чохов повернул ее так, что блеснули золотые насечки. Влюбленными глазами мастер обласкал оружие, встряхнул головой и решительно протянул пищаль атаману. — Возьми и передай от нас Ермаку Тимофеевичу. Бери, бери…
Иванко бережно рассматривал дар, глаза его заволокло туманом… Литец продолжал:
— Скажи ему, что робим мы одно с вами дело. И то, что добыли казаки, во веки веков в память ляжет.
Слова мастера работные встретили одобрительным гулом.
— По Москве у нас гудошники ужотка песни поют про сибирцев… — гулким басом сказал один из них.
Кольцо прижал пищаль к груди, поклонился низко и сказал в ответ только одно слово: «Спасибо». Больше сказать ничего он не мог — такое глубокое волнение охватило его.
Во дворе оружничий оповестил казаков:
— Наказано великим государем везти вас на поле и показать пушечную стрельбу. В Кремле поджидают вас.
— Айда-те! — скомандовал Иванко и ввалился в сани.
Казаки подоспели во-время. Из Кремля показался длинный поезд из крытых боярских возков, обделанных тиснеными кожами. Впереди рядами выступали несколько тысяч пищальников в алых кафтанах. У каждого на левом плече длинная пищаль, а в правой руке-фитиль. Среди бояр на белоснежном жеребце ехал царь, облаченный в парадные одежды. Голову царя покрывала бобровая шапка, красный верх которой был расшит жемчугом и самоцветами. Толпы народа теснились вдоль улицы. Глашатаи на рысистых конях, с бичами в руках, расчищали проезд.
Иван Васильевич кланялся народу, который жался к заборам, лепился на крышах, воротах и выглядывал из калиток.
Лихой окольничий на рыжем коне, завидя казаков, пристроил их к боярам. Через Москву двигались медленно. Зимнее солнце то вспыхивало пожаром на слюдяных окнах, то искрилось синеватыми огоньками на алебардах, кольчугах и шлемах.
Вот и широкое ровное поле, сверкающее снежной парчой, опоясанное вдали темным ельником. Впереди темнели высокие деревянные срубы, набитые доверху землей и камнями. У края поля тянулись невысокие подмостки, перед которыми наставлены ледяные глыбы.
Царь взобрался на возвышение, уселся в кресло. Пищальники той порой заняли высокие подмостки. Грозный взмахнул платком, и разом заныли пули. От льда полетели со звоном осколки. Пороховой дым потянулся над полем.
Пищальники стреляли метко и дружно.
Кольцо не устоял на месте. Ему самому хотелось показать сноровку. Видя довольное, разрумяненное морозом, лицо царя, он смело подошел к возвышению и поклонился Ивану Васильевичу:
— Дозволь, батюшка государь, и мне показать удаль?
Царь благосклонно кивнул головой. Казак легко взбежал на подмостки и, припав на колени, с хода стрельнул из пищали по ледяной глыбе. Синие искорки брызнули из под пули, глыба раскололась звонко и, сверкнув зелеными гранями, распалась на кусочки.
Грозный улыбнулся и сказал окольничему:
— Добрый стрелок. Вон кол вбит, пусть шапку накинут…
Только шапка замаячила вдали, Кольцо вскинул пищаль и стрельнул по цели. Подбежал стрелецкий голова и крякнул от одобрения:
— В самый лоб. Молодчага!
Над полем поднялся серый копчик (кто пустил его так и не узнали послы); не успел он забраться ввысь, как взмахнул крыльями и кувырком полетел на снежное поле. Царь подозвал атамана и, глядя на его стройный стан и широкие плечи, завистливо сказал:
— Поди одних со мной годков, а проворство юности. Тебя бы в сокольничьи, да в Сибири такой надобен. На, возьми, казак, второй мой перстень! — он снял с руки золотое кольцо с бирюзовым камнем и вручил Иванке…
Смотр на стрельбище продолжался. Сильные вороные кони, храпя и развевая по ветру гривами, вытащили пушки на больших колесах. Казаки ахнули, — таких орудий им не довелось еще видеть. Среди них выделялись пушки-сокольники, пушки-волкометки и пушки-змеи. Многие на лафетах, изукрашенных позолотой. И каждая пушка имела свое имя, вылитое из бронзы: Ехидна, Девка, Соловей, Барс.
Кольцо очарованно глядел на быстрые и точные приготовления пушкарей.
— Такую рать да батьке Ермаку, — с завистью подумал он. — Всю землю сибирскую прошли бы, до самого моря!
Раздался рев орудий. Ядра с грохотом ударились в срубы, разнося их в щепы. Глыбы земли, перемешанной со снегом, поднялись вверх и рассыпались черной тучей…
Долго длился пробный огневой бой. Когда затих грохот и пушки увезли, на поле с гортанными криками, хмарой вымчали всадники в малахаях. Изогнувшись в низких седлах, желтоскулые, сверкая зубами, они неслись в быстром намете, размахивая кривыми саблями. На боку у всех саадаки, за плечами луки.
— Татары! — ахнул Иванко. — Гляди, братцы, ордынцы на послугах у русского царя. Всякую силу Москва себе приспособила, — тем и могуча!..
И другие полки прошли через поле с музыкой и развернутыми знаменами, которые полоскались на упругом ветре. Каждый стрелецкий полк уже издали различался цветом кафтанов. Казалось, широкий оснеженный простор вдруг зацвел, словно вешняя луговина, веселой пестрядью: и алым, и травяным, и брусничным, и луковым цветом.
Воины шли и шли, сотрясая землю. Размерянное колыхание людей, их слаженность-все поражало стройностью и силой.
Ишбердей, стоявший среди послов, вдруг поднял руку и закричал жарко:
— Сильна Русь! О, сильна!..
Засумерничало, когда царь и его свита покинули поле. Следом за ними, восхищенные увиденным, тронулись и сибирские послы.
Казаки торопились возвратиться в Сибирь, но вырваться из Москвы не так было просто. В приказах подьячие и писцы усердно скрипели перьями, сплетая велемудрые словеса указа. По амбарам и кладовым отыскивали и укладывали в дорогу потребные сибирскому войску припасы. Казначеи отсчитывали жалованье. Дьяк Разрядного приказа с важностью оповестил Иванко Кольцо: приказано государем готовить рать для похода на Иртыш.
— С нами пойдет? — наступая на дородного дьяка, спросил атаман.
— Не торопись, ласковый, — пробасил приказный и бережно огладил свою пушистую бороду. — Этакое дело не сразу вершится.
Сидел дьяк в дубовом резном кресле каменным идолом, тяжелым, неповоротливым, в шубе, крытой сукном. Плешивую голову прикрывала мурмолка, расшитая жемчугом. Лицо у него породистое, румяное; глаза плутоватые, небесного цвета. Скрестил боярин на животе руки, вздохнул тяжко:
— Гляди, добра сколь из государевой казны уплывает: Ермаку Тимофеевичу — сто рублев, тебе, атамане, — пятьдесят, каждому послу по пяти, князьцу Ишбердею особо, всем сибирцам-казакам — жалование. А поди узнай, кто там жив, а кто давно истлел в могиле… Надо ж все знать…
Он многозначительно посмотрел на Кольцо и закончил:
— Сказывают, невиданной красоты соболей вывезли сибирцы. А где они? Хошь бы одним глазком взглянуть на рухлядь…
Казак грустно улыбнулся:
— Рад бы показать, да вся рухлядь разошлась…
— Вот видишь как, а торопишь! — рассердился приказный.
— Потерпи!
Не сдержался Иванко, брякнул саблей:
— Некогда ждать. Выкладывай! Гляди разойдусь!
Дьяк испуганно вскочил и закрестился:
— Чур меня, чур меня! Да ты что бусурман, неужто и впрямь посекешь! Караул! — вдруг закричал он, и на пороге сразу возникли испуганные лица писцов и двух подьячих. Один из них, замызганный, в засаленном кафтане, с плутоватой рожей, осторожно переступил порог.
— Брысь! — гаркнул на него Иванко и пошел на приказных со сжатыми кулаками. Решительный вид сибирца перепугал их, и все мигом скрылись за тяжелой дверью. Подойдя к дьяку, Кольцо укоризненно сказал: — Ну, чего раскричался? Гляди, будешь орать, у меня и впрямь зачешутся руки. Тогда пеняй на себя, — в миг башку сниму! Повелено великим государе, — выкладывай, что положено. Скажу Ивану Васильевичу, что посла позорил перед всякой приказной строкой!
Румянец исчез с потного лица дьяка. Он притих и взмолился:
— Батюшка не губи. К слову пришлось о рухляди. Сейчас, милостивец, всю казну выдам…
— Давно бы так! — ответил Кольцо. — Пришлю доверенного, чтобы ноне все выдали!..
В этот день казначеи все до грошика выдали сибирскому послу. Ефимки, полтины и алтыны упрятали в кожанные мешки и отвезли казакам на подворье.
Погрузили в обширные возки и сукна, и шубы, и два панцыря. Самый дорогой, с позолотой на подолу и сияющими орлами, — Ермаку Тимофеевичу. Иванко долго разглядывал его в Оружейной палате, перебирал мелкие стальные колечки, которые, тихо позвякивая, серебристой чешуей скользили по горячей ладони казака. Панцырь, расчитанный на богатыря, сверкал, брызгал солнцем, струился серебром. Старые мастера-оружейники, много видавшие на своем веку, не сводили восторженных глаз с воинского доспеха. Высокий, с крупным лысым черепом, с умным взглядом чеканщик тихо обронил:
— Такое умельство впервые вижу. Цены нет этому диву!
У Иванки в сердце вспыхнул огонь. Он благодарно ответил мастеру:
— Его только и носить самому батьке Ермаку Тимофеевичу! — в словах Кольцо прозвучала гордость за своего атамана. Старик понял его чувство и степенно сказал:
— Богатырю и одежда по плечам! В добрый час…
Из каменных кладовых выдали послам соболью шубу с царского плеча, вызолоченный ковш. Драгоценную кладь бережно упрятали. Пора бы в путь дорогу! Однако Иванке хотелось еще раз увидеться с царем. Несколько дней ходил он в Кремль, подолгу стоял у резного крыльца, к которому, по стародавнему обычаю, по утрам собирались московские придворные, но так и не увидел больше Грозного. Царь чувствовал себя плохо и все время проводил в постели или в своих покоях.
Угрюмо плелся Иванко по шумной Красной площади. Он уже привык к толчее и гаму и не замечал их. Вот на пути позникла толпа разгоряченных, крикливых татар, которые спорили и манили покупателей седлами, сафьяновыми сапогами с круто загнутыми носами и другим кожанным товаром. Вот заструились перед казаком шелки и халаты необыкновенных расцветок. Ничто не манило Иванко. Он локтями раздвигал густую толпу торгашей. Татары вслед говорили:
— Для него нет у нас товару. Сибирец — богат! Аллах всемогущий, он так богат, как падишах.
Кольцо удивлялся: «И откуда только чумазые знают, что у меня кошель, а в нем пятьдесят рублей!».
Навстечу казаку, как черные грачи, выдвинулись монахи. Долговязый, козлинобородый инок впритык подошел к атаману и зашептал:
— Бери за алтын гвозди с присохшей христовой кровью!
Второй рыжий чернорясник чревом оттолкнул соперника и протянул кусок гнилого бревна.
— Зри, человече! — забасил он. — То частица животворящего древа, на коем иудеи распяли Исуса! Два алтына!
— Могу дать твоей поганой роже враз на целую полтину! — ответил Кольцо и пригрозил монаху. — Небось, и тьмой египецкой торг ведешь, плут!
Испуганно озираясь, инок нырнул в людской водоворот, и был таков!
Иванко тяжело вздохнул:
— Паскудные рожи! Их бы в оглобли, возы на себе тащить…
— А ну-ка, Миша, покуражься, как боярин Шуйский! — совсем рядом с казаком раздался голос поводыря. Рослый, с огненной бородищей мужик в лаптях дергал на цепи медведя. Любопытный народ хохотал от души: выпятив пузо, медведь важно, с перевалкой, топал по синеватому снегу.
— Как есть боярин! — смеялись в толпе.
В другое время Иванко полюбопытствовал бы на зрелище, а сейчас было тошно на душе. Казак миновал толпу и попал в шубный ряд. У прилавка стояла немолодая, но румяная и пригожая собой женщина с мальчонкой лет трех. Купец раскинул перед женщиной заячий тулупчик.
— Гляди-любуйся, эко добро! — расхваливал купец свой товар. — Тепла и легка шубка, в самый раз мальцу! Полтина!..
— Ой, милый, велики деньжищи! Где их взять нам? — приятным грудным голосом заговорила женщина. Атаман насторожился: где-то он слышал этот голос. Он подошел поближе. Большими серыми глазами ребенок молчаливо уставился на казака. Между тем его мать говорила:
— Слов нет, хороша шубка-по росту, да не по деньгам! — Она стояла, огорченно склонив голову, не в силах оторвать глаз от мягкого тулупчика. Казаку вдруг стало жаль и ее и мальчугана, он полез в бездонный карман свой и вынул кису с рублевиками.
— Плачу! — огромной лапищей Кольцо сгреб шубку, встряхнул ее и, обратясь к малышу, сказал: — А ну, обряжайся, малый! Ходи на здоровье, да поминай горемыку-сибирца!
Женщина всплеснула руками:
— Да разве ж это можно? Мужик спросит, где взяла…
Внезапно речь ее оборвалась, она вскрикнула и, к удивлению шубника, кинулась на грудь бородачу. Обнимая казака, давясь жаркими слезами, она заголосила:
— Иванушка, братец, да ты как тут оказался? Ой, миленький! Ой, родненький, пойдем скорее отсюда!
— Никак, Клава! — в свою очередь удивился и вскрикнул Кольцо. Он бережно обнял сестру и расцеловал.
— Ну вот, и торг состоялся! — ухмыляясь в бороду, насмешливо обронил купец.
— Ты не скаль зубы! — оборвал его ухмылку атаман. — Погоди, сестра, дай расчесться за тулупчик. Он со звоном выкинул на прилавок полтину:
— Получай!
С минуту он молча смотрел на сестру, потом спросил:
— Плохо живешь, сестреночка?
Клава опустила глаза, неслышно отзвалась:
— В ладу с Васюткой моим живем. Он плотник, да у него подрядчик не из добрых.
Кольцо протянул кису:
— Бери, тут все твое!
— Ой, братик, да тут не счесть сколько!
Купец за прилавком зыркнул глазами по сторонам, сметил бороденку ярыжки из сыскной избы и вдруг завопил:
— Разбойник! Лови его!..
Клава в испуге закрыла глаза, побледнела.
— Ну, Иванушка, пропали теперь, — прошептала она. — Не в добрый час ты с Волги сюда набрел!..
Казак и не думал бежать. Он бережно обнял сестру за плечи:
— Не бойся, Клава! Старое быльем поросло. Ноне…
За криками толпы Клава не разобрала слов брата. Падкие до зрелищ московские люди бежали со всей Красной площади и в разноголосье кричали:
— Лови, держи вора!
— Беги, Иванушка! — с мольбою просила Клава.
Через толпу в круг въехали два пристава, а с ними молодой окольничий. Кольцо срузу узнал его-участника пира во дворце. И окольничий удивился встрече:
— Кто же вор? — спросил он.
Сняв шапку, низко кланяясь, купец, торопясь, рассказывал о своем подозрении:
— Много деньжищ ни за что, ни про что бабе бросил!
— Да ты, борода, ведаешь, кто сей казак? Да то сибирский посол. За бесчестье и смуту получай! — окольничий взмахнул плетью и стал хлестать шубника.
Словно ветром, переменило настроение толпы. Мужики подзадоривали бьющего:
— Хлеще бей сутягу!
— Братцы, братцы, гляди, — кто-то закричал в толпе, — вот он, сибирец. Слыхано, верстает народ на вольные земли! Айда, просить!..
Клава присмирела и ласково разглядывала брата:
Не думала, не гадала…
— А ты все такая же… шальная? — вспомнил прошлое Иванко.
Сестра смутилась, потупилась:
— Нет, шальной я не слыву. Все не забуду Василису. Грех, братец, на моей душе…
Они незаметно вошли в толпу. Счастливые, радостные, не слыша криков, шума, никого не видя, они рассказывали друг другу о своей жизни.
— Прибрела я в Москву и тут свое счастье нашла, — поведала Клава. — Прибилась к плотницкой артели, и заприметил меня молодой плотник-верхолаз Василий. И говорит мне за ужином: «Все видно мне, — много лепости на Москве. Но всего краше для меня ты!». И мне по душе его смелость пришлась, — полюбила. На всю жизнь, на верность, братец, полюбила его. И счастлива я, Иванушка! — она крепко прижала к себе сына и, улыбаясь своим сокровенным мыслям, мечтательно призналась:
— Сплю и вижу, что и мой Иванушка отменный мастер будет… В твою память сынка нарекла, братец.
Кольцо хотелось говорить сестре ласковое, приятное-так был рад, что жива она. Он улыбнулся и, схватив мальчонку на руки, похвалил:
— Красавец, весь в тебя, Клава!
— Да ты посмотри на его руки! — сказала сестра.
Казак взял крохотную руку мальчика в свою огромную ладонь и внимательно оглядел ее. Ничего не заметив, он все же весело подтвердил:
— Ну, и руки! Золотые руки. Видать, отец наградил ими мальца! Такой из него мастер выйдет, что по всей Москве поискать!..
Пошел снежок. Мягкие звездочки его запорошили густые ресницы женщины; она раскраснелась и еще больше похорошела.
Иванко шел рядом с ней и все думал: «Надо ж, родную душу нашел! Жива и весела! И слава богу, угомонилась сестричка, нашла свою стезю. А я вот тронут уже сединой, а все угомону нет! Эх, казак, казак!».
Клава привела брата на Арбат. Хоромина из пахучего соснового леса смотрела открыто и весело. Не менее добродушно выглядел и хозяин ее — муж Клавы! Он по-родственному обнял Иванку и сказал:
— Вот не ждал такой радости!
Плотник был статен, молодецкого роста, широк плечами. Лицо светлое, честное, в окладистой русой бородке.
— Может любовался храмом Василия Блаженного — говорил он. — Так и моя доля работенки в нем есть. Юнцом был, вместе с наставником-верхолазом ладил грани главного шатра. Высоко, ой высоко поднимались на лесах, только ветер гудел в ушах. А Москва вся внизу, — широка и пестра! Глянешь в сторону-извивы Москвы-реки и притоков лентами вьются среди просторов. Ныне шапцы на храме сверкаю изразцами, глаз веселят. Довелось мне и строителей сего дива видеть: Барму и Постника…
Верхолаз улыбнулся, глаза сияли голубизной.
— Бывало, старик кликнет меня, продолжал он. — Эй, Жучок, ползи вверх. Это прозвище мне, а по-настоящему Осилок зовусь. А может то батькина была кличка… Ну, и лезу под самое небо-ладить основы куполу… Веселая работка, на свете нет милей такой!..
Василий влюбленно говорил о своем мастерстве. Клава не сводила почтительно-ласковых глаз с его лица.
— А ты покажи Иванушке, какую лепость немудрыми инструментами ладишь! — попросила она.
Осилок охотно снял с полатей доски со сложной резьбой. Узор на диво был приятный.
— Руки у тебя, вижу, золотые, — похвалил Кольцо верхолаза. — Талант великий! Однако простор ему нужен. Айда, Василек, с нами в Сибирь-хоромы и храмы строить!
Лицо женки зарделось, вспомнила Ермака, так и хотелось спросить брата: «Все так же недоступен он? Суров!». Но смолчала и, подумав, ответила за мужа:
Погодить нам придется, братец. Вот сынок подрастет, тогда и мы за войском тронемся.
Плотник согласно кивнул Клаве:
— Будет по твоему, хозяюшка…
Казак весь вечер прогостил у сестры и, как никогда, на душе у него было уютно и тепло.
Пока Кольцо отсутствовал, на подворье, где остановились казаки, появились люди разного звания и ремесла. Таясь и с оглядкой просились беглые люди:
— Возьмите, родимые на новые земли!
— Не всякого берем, — оглядывая просителя, рассудительно отвечал черноусый казак Денис Разумов. — Нам потребны люди храбрые, стойкие, в бою бесстрашные, да руки ладные. Сибирь — великая сторонушка, а мастеров в ней пусто.
— Каменщик я, — отвечал коренастый мужик. — Стены ладить, домы возводить могу.
— А я — пахарь, — смиренно кланялся второй, лохматый, скинув треух.
— По мне охота-первое дело, белковать мастак! — просился третий.
— А ты кто? — спросил Денис чубатого гиганта с посеченным лицом.
— Аль не видишь, казак! — бесшабашно ответил тот. — Одного поля ягодка. Под Азовом рубился, из Кафы убег, — не под стать русскому человеку служить турскому салтану, хвороба ему в бок!
— Вижу, свой брат. А ну, перекрестись! — сурово приказал Денис. Беглый истово перекрестился. Денис добыл кувшин с крепким медом, налил кварту и придвинул к рубаке. — А ну-ка, выпей!
Прибылый выпил, завистливо поглядев на глячок.
— Дозволь и остальное допить! — умиленно попросил он. — Не мед, а радость светлая.
— Дозволяю! — добродушно улыбнулся Денис и, глядя, как тот жадно допил, крякнул от удовольствия и сказал весело: — Знатный питух! А коли пьешь хлестко, так и рубака не последний. Поедешь с нами! И тебя беру, каменщик, и тебя, пахарь, — за тобой придет в поле хлебушко-золотое зерно!..
Три дня грузили обоз всяким добром, откармливали коней. На четвертый, скрипя полозьями, вереница тяжело груженных саней потянулась из Москвы. Клава и верхолаз Василий провожали казаков до заставы. Слезы роняла донская казачка, прощаясь с братом. Улучив минутку, стыдливо шепнула Иванке:
— Передай ему, Ермаку Тимофеевичу, поклон и великое спасибо! Скажи: что было, то быльем поросло. Нет более шалой девки. Придем и мы с Васильком в сибирскую сторонушку города ладить…
Кони вымчали на неоглядно-широкое поле, укрытое снегом. Дорога виляла из стороны в сторону, сани заносило на раскатах, подбрасывало на ухабах. Атаман оглянулся: Москва ушла в сизую муть, на дальнем бугре виднелись темные точки-Клава с мужем. Еще поворот, и вскоре все исчезло среди сугробов.
Далека путь — дорога, бесконечна песня ямщика! Мчали на Тотьму, на Устюг. Тянулись поля, леса дремучие, скованные морозом зыбуны-трясины, глухие овраги. Под зеленым месяцем, в студеные ночи, на перепутьях выли голодные волки.
Через северные городки сибирцы ехали с гамом, свистом и озорством. Только Ишбердей, покачиваясь, пел нескончаемую песню:
Кони холосо,
Шибко холосо бегут,
А олешки много-много лучше…
Эй-ла!..
На ямщицких станах живо подавали свежих коней: грозен царский указ, но страшнее всего озорные казаки. Прогонов они нигде не давали, а торопили. В Устюге отхлестали кнутами стряпчего, посмевшего усомниться в грамоте.
Ширь глухая, до самого окаема простор. Хотелось потехи, показать удаль. Лихо мчали кони, заливисто звучали валдайские погремки. Давили яростных псов, выбегавших из подворотен под конские копыта. В лютую темень горлопанили удалые песни.
Раз спьяна налетели на сельбище, прямо к воротам, застучали, чеканом рубить стали:
— Распахивай!
Тотемский мужик не торопился. Ворота вышибли, к избе подступили:
— Жарь порося!
На пороге вырос приземистый мужик, с мочальной бородой, брови белесы, а глаза — жар-уголь. В жилистой руке топор-дровокол.
— Не балуй, наезжие! — пригрозил он и шагнул вперед. — На мякине сидим, а вы мясного захотели.
— Бей! — закричал бесшабашный гулебщик, один из пяти казаков.
— Погоди, — строго сказал мужик. — А если, скажем я тебя тюкну! Что тогда станется?
В эту пору наскочил на тройке Иванко Кольцо, разогнал гулебщиков. Хозяин опустил топор, почесал затылок.
— Доброе дело удумал. Спасибо за помогу, — поклонился он. — А то бы крови быть. Ты запомни, молодец, и своим скажи: едут они Русью. Живет здесь, в сельбищах и починках, народ беглый из Новгорода великого, с Ильмень-озера. Мы ране всех прошли тутошние пустыни и за Югорский камень хаживали. Народ по лесам осел не трусливый. Нас чеканом, а мы топором. Тут и байке конец.
По решительному виду тотмича понял атаман, что народ тут упористый и не пужлив…
Края дикие, пустынные, завьюженные. Борзо скачут кони, но быстрее их весть о казаках летит. В слободе, у часовни, казаков встретили поп и староста. Священник благословил сибирцев:
— За добро и храбрые дела Русь не забудет. Открыли дороги на простор.
Староста поднес Иванке Кольцо на деревянном блюде хлеб-соль. Учтиво поклонился атаману и спросил:
— Гуторят люди про Сибирь. Скажи, скоро ль можно в ту землю идти?
— Скоро, скоро! — ответил Кольцо и обнял старосту. — Оповещай народ, пусть, кто похочет, хоть сейчас идет в Сибирь: смелому и трудяге-первое место.
— За посулу спасибо, атаман, — хозяйственно ответил староста, — чую, что пойдут людишки. Каждый свою долю-счастье будет искать!..
В пуховых перинах заснули леса, поля. Дороги зимние ведут напрямик через скованные озера, реки. Под полозьями саней гудит лед.
"Эх, сторона-сторонушка, родимая, сурова ты! — ласково подумал Иванко и вдруг вспомнил: — В Чердынь, к воеводе Ваське Перепелицыну, непременно завернуть! Поворачивай коней в город!..
Издалека над бугром, засинели главки церквей и церквушек. Снега искрятся, над ними темнеют острозубые тыны, башенки, а вот и ворота в крепость.
Иванко торопит ямщиков:
— Живей, живей братцы! Воевода, поди, нас заждался!
А сам сердито думает: «Погоди, Васька, мы еще с тобой посчитаемся. Эвон как ты сдержал свое слово! За жизнь и милосердие к тебе изветы на казаков пишешь!»
Кони спустились к реке Ковде и понеслись вскачь. А Чердынь на глазах вырастает: все выше и выше. На воротной башне дозорный ударил в колокол. Из калитки выскочили стрельцы, изготовились. И тут в подъем, на угорье, с бубенчатым малиновым звоном вымчали лихие тройки. Снег метелью из под копыт. Вырвались на выгон и поскакали напрямик.
У градских вород ямщики разом осадили распаленных бегом рысистых зверей. В санях, в развалку, в дорогой собольей шубе, — купец.
— Кто такие? Откуда? — закричали стрельцы.
— Не видишь кто! — поднял властный голос Иванко Кольцо. От его окрика стряпчий, что юлил у ворот, быстрехонько юркнул на крылечко воеводских хором и скрылся за дверью. С порога радостно закричал:
— Ой, батюшка мой, ой всемилостивый воевода, счастьице к нам привалило-купцы понаехали. Обоз, мать пресвятая, конца краю нет! Московские гости, — буде, родимый, кого постричь. Дозволь отписками-загадками мне заняться!
Воевода грозно взглянул на стряпчего:
— С такими купцами я сам управлюсь! — Он поднялся, накинул шубу, взял посох и вышел на крыльцо. Крикнул стрельцам:
— Распахивай ворота!
Со скрипом раскрылись тяжелые дубовые половины. Первая тройка подъехала к резным столбам. Перепелицын подбоченился и заговорил властно:
— Кто такие? Купцы? Из каких краев? Есть ли торговые грамоты?
Из саней проворно вылез атаман Кольцо. Не кланяясь, не снимая шапки, насмешливо окликнул:
— А, Васенька, хоть и бит мной на Волге, а не узнал!
— Разбойн-и-к! — так яростно гаркнул воевода, что стрельцы встрепенулись и бросились к Иванке. — Как осмелился сюда казать варнацкие глаза? Да ведаешь ли ты, что по тебе петля соскучилась? Хватай, братцы, беглого казака! Вяжи его.
Стрельцы кинулись было к атаману, но он выхватил из-за пазухи пищаль и пригрозил:
— Но-но, не торопись, служилые! Нас не мало, поди, в драке не осилить. Эвон сколько нас!
К резному крыльцу бежали казаки, обозники, вершники. Иванко заломил шапку с красным верхом.
— Ты, Васька, не горячись. Веди в горницу, желанным гостем буду!
По лицу воеводы пошли бурые пятна. Он гневно глядел то на Кольцо, то на его спутников.
— Ведомо ли вам, наезжие, что сей казак по царскому указу осужден на лютую казнь? — громко спросил он.
— Было все, да сплыло, Васенька! — с насмешкой отозвался Кольцо. — Давай-ка стряпчего, пусть огласит сей царский указ! — Из кожаного футляра казак проворно извлек свиток с большой золотой печатью на шнурах.
Юркий приказный тут как тут, — цепко схватил свиток, развернул, вгляделся, захлопал от удивления глазами, перевел взор на воеводу и снова впился в бумагу. Все еще не веря себе, он объявил хриплым голосом:
— А ведь это и впрямь всамделишняя царская грамота! Господи…
Он смахнул лисью шапку, пригладил на челе жидкие волосы, прокашлялся и, кланяясь воеводе, попросил:
— Дозволь зачитать, премилостивый, сей указ. Ох, и дивно все!
Перепелицын нехотя снял бобровую шапку, потупился.
— Читай раздельно, с вразумлением! — приказал он.
Стряпчий вскинул голову и торжественно, нараспев начал:
— «По указу царя и великого князя всея Руси…»
Он медленно, с дрожью в голосе и слезой, выступившей в уголках глаз, прочитал оповещение Ивана Васильевича о присоединении Сибирского царства к Руси и милости государя к Ермаку и казачьей вольнице. Чем прочувственнее читал приказный, тем угрюмей становилось лицо чердынского воеводы.
— Что только деется! — со вздохом удивления обронил он.
Стрельцы притихли, переглядывались. Стряпчий последние слова указа прочитал пронзительно и перекрестился истово.
— Аминь! — объявил он. Свернул свиток и возвратил Иванке.
— Ну, как теперь, воевода? — не спуская озорных быстрых глаз, спросил Перепелицына атаман. — Будешь привечать нас, аль погонишь со двора? Думается мне, царский указ сполнять надо.
— Надо, — согласился воевода.
Стрельцы перемигнулись, некоторые не удержались и прыснули было от смеха, но подавились, встретив злой взгляд воеводы.
— Добрых коней нам потребно, корм, вино, зелье, — стал перечислять атаман.
— А где сие брать мне, воеводе? — спросил Перепелицын. — Сам сижу на худом кормлении.
— По тебе вижу, что совсем отощал, — оглядывая его грузную фигуру, съязвил Иванко. — А не хочешь ли, воевода, еще одну утеху? Проведали мы от Строгановых, что тобой на Ермака с сотоварищи извет написан! А как мы да вдруг ударим челом царю Ивану Васильевичу на тебя за тот извет? Не сносить тогда тебе горлатной шапке на башке. Как ты мыслишь, воевода?
Перепелицын был смелым человеком, но царя страшился как огня. «А что ежели и впрямь пожалуются государю? Грозен, ой и злобен он на боярство! Делать нечего-надо смириться!» — Воевода низко поклонился послам.
— Все будет по-вашему, удалые казаки. Жалуйте в хоромы, дорогие гостюшки!
Шумной ватагой сибирцы, а с ними князец Ишбердей и гулящие, беглые люди, которые увязались за обозом в Сибирь и которых было немало, ввалились в обширные хоромы.
Весь вечер и следующий день гости много ели, еще больше пили и распевали удалые песни. Князец Ишбердей все лез к воеводе, старался ухватить его за пышную бороду.
— Зачем такой большой и длинный?
— Захмелел ты и несешь несуразное! — отводил руки вогула Перепелицын. — Какой почет без бороды?
— Эй-ла! — закричал действительно захмелевший Ишбердей. — Где мои олешки? Скоро будут встречать! Эй-ла, помчим мы, шибко помчим! Езжай с нами, — опять придвинулся он к воеводе. — Я тебя угощать буду. Горячая кровь олешка, теплая кость сосать вкусно. Езжай с нами!
Иванко Кольцо сидел на почетном месте. Веселыми глазами он подбодрял казаков:
— Ешьте-пейте вволю, братцы! Боярин богат, не взыщет. И вы, охочие люди, — кивнул он в сторону приставших гулящих людей, — досыта тешьтесь, чтобы долго помнить доброго хозяина…
В слюдяные окошки лился скудный свет. Из хором доносились песни и хмельные выкрики. Часовой на вышке вздыхал и завидовал:
— Ух, и гуляют, идолы. Шибко весело!..
Только на третий день вырвались казачьи тройки из взбудораженной Чердыни. Следом вихрем закружила метелица. Стряпчий с обнаженной головой долго бежал за обозом, взывал:
— Ой, лихо!.. Ой, горюшко! Кто же мою кожаную кису с полтинами уволок?..
— Будет тебе убиваться, Ерема. Не твои ж денежки плакали, а нахапанные с люда! — уговаривал его пожилой стрелец. — Ну, чего надрываешься? Бог с ними, с деньгами: у тебя им скучно, а у казаков станет весело!..
Воевода, осунувшийся, посеревший, шаркая пимами, вышел на улицу и стал прикладывать снег к голове.
— Ишь ты! — удивился дозорный на башне. — Здоров, а как упился, — черепушку, стало быть ломит…
Долго еще после проезда казаков чердынцы вспоминали их.
— Ух, и лихой народ! Много ли их, а сколько от них грозы и страху приняли!
Сановитый стрелецкий голова в поучении вымолвил:
— Им, мил человек, тише ездить не полагается: Кучума-хана громители!..
Казаки давным-давно перевалили одетый в глубокие снега Каменный Пояс. И хотя ярки были еще у Иванки воспоминания о Москве, но думки о Сибири уже полностью владели им.
«Как там в Искере? Живы ли? Здоровы ли батько и казаки-братцы?»
Над лесами, реками и долинами уже светило вешнее мартовское солнце. В небе — светлый простор. Ишбердей встрепенулся и запел ободряюще:
Белокрылая Улетает зима, Скоро зашумит Обь-река, Эй-ла!..ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. КОНЕЦ КУЧУМОВА ЦАРСТВА
1
Казацкое посольство отбыло в Москву. Не стало проворного и веселого атамана Иванки Кольцо, а время подошло самое неспокойное. Хан Кучум сбит со своего куреня, но не сдался. По слухам, он кочевал в ишимских степях и возмущал против русских татарские улусы. Правда, царство Кучума распадалось: уходили данники, знатные мурзы присягали Ермаку на верность Руси, давая шерсть, и даже такой приближенный и самый знатный советник Кучума, как Карача, оставил своего повелителя и со стадами, сыновьями и женами ушел в верховья Иртыша, мечтая о своем ханстве. Но Ермак знал, что мертвый хватается за живого и что хан так легко не сдастся. Маметкул рыскал с отчаянными головорезами по долине Вагая, — казаки нередко видели его всадников неподалеку от Искера. Преданные татары с оглядкой говорили Ермаку:
— Берегись, казак! Хан и Маметкул потеряли ясак. Как теперь жить без овцы голодному волку?
Казаки охмелели от успехов, хвастовству и беспечности не было предела. Ермак не давал спуску бахвалам и часто говорил, что беспечность ведет к беде. Но за всем не углядишь, и беда действительно пришла, — внезапно, как гром среди ясного неба.
Казаки ловили рыбу на Абалацком озере, устали и беспечно улеглись на берегу спать. Ночью наехал Маметкул и порезал всех рыбаков. Ермак узнал о напасти, взъярился, птицей взлетел на коня и с полусотней погнался за татарами. Многих настиг и порубил атаман, но под Маметкулом был отменный арабский скакун, и он вихрем унесся от погони, оставив своих на казачью расправу. Напрасно гнался Ермак по следу, — путь преградила бурная река, в каменистом ложе которой потерялись следы. Спустилась ночь. В тревожной тоске возвратился Ермак к озеру. На берегу лежали застывшие тела боевых товарищей.
— Эх, братцы! — укоризненно покачал головой атаман над телами воинов. — На Дону гуляли, на Волге шарпали, Русь прошли, путь Каменный осилили, а тут зря, попустому головы отдали!
Велел Ермак поднять убитых и отвезти на древнее ханское кладбище. Там их с честью похоронили. Поп Савва истово отмолился за них, бросил в братскую могилу три горсти землицы, а потом выпрямился и пошел костить:
— В Сарайчик вместях ходили, ногайцев били, а тут подались. Раз-зявы!..
Ермак созвал круг и строго наказал казакам:
— Беречься надо! В поле, в лесу, на воде с дозором отдыхай!
Потупились казаки, — стыдно, но сознали свои вины.
Однако от всех напастей не убережешься, они по следу ходят, — пришла и вторая беда.
Мечтал Ермак завести прочный торг с полуденными странами и решил послать в Бухару двух бывалых и смелых казаков с зазывными грамотами. Писалось в грамотах, чтобы купцы бухарские ехали безбоязненно в Сибирь торговать, не пожалеют для них казаки самой лучшей рухляди — соболей, чернобурых лис и горностаев.
И вот в ишимских степях хан Кучум перехватил ермаковых посланцев и предал их мучительной смерти. Казаки и в страшных муках не застонали, умерли гордо, величаво, устрашив своей стойкостью хана. В переметных сумах татары нашли грамоты, начертанные попом Саввою, не разобрались в них и бросили в костер.
Вслед за этим третья неудача пришла в Искер. Послали за рыбой и морошкой сотника Бусыгу — расторопного волгаря — с казаками. Умчались они на крепких и выносливых собачьих упряжках. Миновали урманы, выскочили в тундру, и тут на казачий поезд набежала матерая волчья стая. Порезали и порастаскали лютые звери умных собак. Казаки еле отбились от зверья и пешими ушли от лихой напасти, но в пути один из них умер — не выдержал ран и лишений. Много дней тащились голодные и злые храбрецы, пока не добрели до вогульского становища. Тут только пришли в себя сотник Бусыга и его товарищи. Вогулы охотно доставили их в Искер.
Зима выпала мягкая. В феврале за Иртышом засияло небо и прекратились метели. В эти дни в Искер прискакал ладивший с казаками мурза Басандай и взволнованно рассказал Ермаку, что Маметкул с немногими всадниками кочует по реке Вагаю, на добрых конях ходу до тех юрт один день.
Шестьдесят казаков, с Брязгой во главе, немедля побежали на быстрых конях к Вагаю. Мурза Басандай не обманул: Маметкул только что был на берегу. Нашлись и следы его: аргал дотлевал в костре, зола еще не остыла. Казаки на конях пошли по следу и около полуночи увидели мерцающий вдали огонек; он то вспыхивал, то терялся среди безбрежных снежных равнин…
На берегу озера Кулара племянник Кучума разбил свой стан. Тридцать уланов берегли его покой. Тайджи безмятежно лежал перед огнем на толстом войлоке и мечтательно смотрел на пламя. В котлах варилась баранина. Ржали выносливые кони, копытами разбивая звонкий наст, чтобы добыть корм — ушедший под снег высохший ковыль. Монотонно шелестел камыш. Держа в поводу коней, казаки забрались в густые заросли и зорко наблюдали за татарским становищем. Покоем и миром дышала степь. Два улана сняли котел и поставили перед вожаком. Маметкул брал руками горячие куски мяса и, обжигаясь, жадно глотал их. За день, блуждая по степи, он изрядно наголодался.
Насытившись, тайджи улегся на спину, и верный улан набросил на него лисью шубу. Маметкул лежал молча, пока его спутники ели баранину. Красные отсветы пламени колебались на смуглых лицах. Кто-то взял чунгур и провел по струнам, но Маметкул поднял голову и крикнул:
— Спать… Завтра много скачки!..
Огонь погасал. Лиловые гребешки пламени пробежали по мокрой ветке и померкли. Постепенно улеглись и уланы.
Казаков пробирал мелкий озноб. Подмораживало. Они тихо выбрались из камыша и бросились на становье.
Первым вскочил Маметкул и схватился за клинок. Яростно крича, он звал уланов, но многие уже пали под ударами мечей. Тайджи рубился ожесточенно и медленно отступал к лесу. Казаки тесно окружили его и еще уцелевших татар. Становище покрылось порубанными телами.
Маметкул продолжал отбиваться, поранил пятерых казаков, а сам оставался невредимым.
— Хорош рубака! — похвалил бородатый казак и, подняв на дыбы серого поджарого коня, закричал. — Погоди, враз башку долой!
— Стой! — приказал Брязга: — Такого грех рубить. Ермаком наказано брать целехоньким!
— Ну коли так, — деловито отозвался казак, — накину аркан! — Он отвязал от седла аркан и ловким, сильным движением забросил. — Ага, попался серый в петлю! — радостно заорал он и погнал коня.
Маметкул схватился за аркан, рвал его, но быстрый конь свалил пленники и потащил по режущему насту. Тут набежали казаки, навалились на Маметкула и сыромятными ремнями прикрутили руки за спину. Брязга приторочил аркан к седлу и, настегивая коня, погнал по дороге к Искеру. Маметкул в быстром беге потерял рысью шапку.
— Ты не смеешь так! — закричал он властно и зло Богдану: — Я — кость ханов, а ты казак — черная кость. Стой! Я сам пойду.
Брязга хмуро оглянулся на пленника и сердито ответил:
— А мне хошь сам хан, — потопчу, коли по-вражьи живет. За коварство надо бы тебя на первую осину! Ну да ладно, пес с тобой!
Брязга осадил коня и поехал шагом. Казаки нагнали сотника.
— Браты, посадите его в седло! Пусть почванится. Да гляди в оба! — предупредил Богдан.
Маметкул побледнел; стиснув зубы, ехал молча. Ремни врезались в тело и терзали, но он терпел, сохраняя неприступный вид.
В синем позднем рассвете впереди показалась темная вершина Искерского холма. Маметкул на минуту закрыл глаза, потом внезапно торопливо-страстно обратился к Брязге:
— Послушай ты, возвращай мне саблю! Сейчас.
Богдашка хитро прищурил глаз на пленника. Тот горячо продолжал:
— Аллах видит, не убегу. Нельзя в Искер племяннику хана вступать без сабли! Позор мне! — в его просьбе прозвучала тоска, и Брязга на мгновение поколебался, сам хорошо понимая, как, на самом деле, унизительно воину вступать в Искер без оружия. Однако он решительно осилил эту слабость и ответил царевичу:
— Сумел воровать, сумей и ответ держать!
Перед воротами крепостцы Маметкула ссадили с коня и освободили от ремней. Он вскинул голову и с гордым видом вступил в Искер.
Как только примчал передовой казак с вестью о пленении Маметкула, Ермак поднял казаков. Донцы обрядились в цветные жупаны, кто привесил к боку турецкий ятаган, кто сабельку, — выглядели все браво, весело. Нарядился и Ермак. Был он в кафтане тонкого синего сукна, на поясе — сабля, которую добыл атаман в бою с персами, и клинок, который, сказывали, стоил когда-то табуна резвых коней. Казаки выстроились в линию, и Ермак двинулся навстречу Маметкулу, держа в руках вторую саблю. Маметкул не ждал подобного приема. Сабля, которую нес атаман, только что принадлежала ему. Когда только Брязга успел переслать ее Ермаку?
Татарскому полководцу по душе пришлась воинская честь, оказанная ему в Искере. Только шаг ступил, — в крепостце грянули три пушки, приветствуя знатного пленника.
А Ермак все ближе, добродушно лицо его улыбалось.
Легко ступая в ичигах, Маметкул горделиво нес ястребиную голову. Не думал он склонить ее перед казаками, но, завидя атамана — широкого в плечах, крепкого и веселоглазого, пленился его мощью и улыбкой прижал руку к сердцу и склонил голову в учтивом поклоне.
— Ты бился, как воин, и вот твоя сабля, пусть будет при тебе! — дружески сказал атаман.
Казаки переглянулись: «Ловок, ой ловок батька! Знает, как обойтись!».
Маметкул бережно взял из рук Ермака свой клинок и поцеловал его.
— Ты мой друг ныне, не подниму на тебя сей меч! — сказал он дрогнувшим голосом так громко, что услышали все казаки и даже дозорный на башенке.
— Знай, не пленник ты, а гость дорогой! — ответил Ермак. — Жалуй за стол с дальнего бранного поля!
Маметкул и победитель пошли рядом, плечо в плечо. Казаки опять дались диву: «Вот это батько! В бою — храбрый воин, с побежденными — добрый управитель! Ай да батько! Ай да умница! Жалко, что нет при нем войсковых регалий: булавы и пернача! Сам отказался от казацкого царства!».
На башне реяло по ветру войсковое знамя, в казачьих рядах колебались хоругви, во многих местах пробитые стрелами, посеченные вражьими саблями и оттого еще более дорогие сердцу.
Атаман и Маметкул вошли в большой белый шатер, крытый войлоком. Пленник с любопытством огляделся. Знакомое кучумово пристанище! Все сохранялось здесь, как и при хане. Только обширный мангал покрылся пеплом.
Из шатра тайджи провели в войсковую избу; в ней обширные тесовые столы были изобильно уставлены блюдами.
Кругом за столами расселись атаманы и старые казаки, лица которых были исполосованы рубцами, — не в одной сече рубились отчаянные головы, не из одного плена убежали проворные и удалые повольники. Рядом сидели и молодые, выпустив чубы птичьим крылом. Эти только силу опробовали, перелетев через скалистую Камень, через леса дремучие — тайгу непроходимую.
Первый ковш поднял Ермак. Все знали, — не жалует батько хмельного, но на этот раз, видно, надо было для почета.
— Заслужили наши казаки богу и Руси! — вымолвил он. — Помянет нас русский человек, когда придет в сибирскую землицу. За воинство, живот свой тут положившее, поднимаю чашу.
— Да будет так, батько — дружно откликнулись казаки и приложились к меду.
Маметкул поколебался мгновение, но встал и поднял ковш:
— За всех вас и за Ермака!
Вскорости казаки запели, и каждый, кто чем мог, хвалиться начал. Не доводилось Маметкулу пить русских крепких медов, и теперь он немного захмелел и тоже похваляться стал:
— Где найдешь лучших лучников? Только в наших улусах! Стрела, как иглой, пронижет дуб.
— Верно, добры твои лучники, царевич, — охотно согласился Ермак. — Много побили они храбрых казаков, помяни господи их души, немало наших перекалечили. Но дозволь сказать, — не пронизать стреле дуба, а вот свинцовой пчелкой глубоко врежешь! Глянь, царевич! — За цветным поясом атамана две пищали с чеканными стволами. Взглянул на них Маметкул, потемнел, но сразу нашелся — положил руку на крыж своей сабли и ответил:
— Для храбреца милее сабельный бой. Нет на свете лучше сибирских клинков!
— Погоди! — протянул мускулистую руку Ермак и предложил: — Уж коли на то пошло, в деле испытаем это. Айда на простор!
Они вышли на площадку, осиянную февральским солнцем. Стали друг напротив друга.
— Моя сабелька честной работенки. Не солжет против себя! — уверенно вымолвил Ермак, подкинул серебряный ефимок и налету рассек его пополам. Маметкул просиял, но сейчас же крикнул:
— Моя лучше! Гляди!
Он засучил широкие рукава бешмета, подбросил деревянный шар, услужливо поданный ему казаком, и мгновенно, на лету, прошел через него острием сабли; не дав затем распасться половинкам, он снова сверкнул клинком, и шар распался на четыре части.
— Любо! Хорош рубака! — похвалили Маметкула казаки.
— Честь с таким тягаться! — согласился Ермак и велел добыть длинный волос из конского хвоста. Принесли волос и доску гладкую. Ермак сам туго опоясал доску и так ловко прошел лезвием, что волос вдоль распался надвое.
Маметкул онемел от изумления. Затем, очухавшись, сказал:
— Велика верность твоих очей! На острие моего клинка — синий пламень! Полюбуйся! — Он бросил волос на лезвие и тот сразу распался, будто и в самом деле его коснулся пламень.
— Добра закалка! — по достоинству оценил клинок Ермак. — Эх, рубануться бы и впрямь, и да обычай свят, с гостями не рубятся! Идем в хоромы! — позвал атаман.
И снова пировали.
Маметкула отвели в шатер Кучума.
— Тут и живи! — указал Ермак.
Разожгли уголь в мангалах, проверили перины, настлали ковров и приставили к шатру караул.
Ермак почтительно относился к пленнику, часто приходил в шатер и все звал тайджи послужить Руси. Угадывал атаман в Маметкуле доброго воеводу, но больше преклонялся перед воинскими доблестями недавнего врага, перед его неустрашимостью. На все зазывы Ермака тайджи косил глазами и молчал. Он заметно тосковал. Тянуло его на простор — в суровые сибирские степи.
Часто выходил он на вал и подолгу стоял, вперив глаза в туманную даль. Потом вздыхал и осторожно озирался. Но везде за ним следили глаза казаков. Маметкул понуро возвращался в шатер.
Подошла буйная сибирская весна: теплые ветры и весенние воды искромсали толстые льды на реках, унесли их в Студеное море. Зазвенели леса, косяки перелетных птиц день и ночь тянулись на север — в Обдорию, Мангазею, на Конду. Вместе с теплом прикочевал в ишимские степи и Кучум. Его большой стан раскинулся у чистых вод. Жили в шатрах молодые жены хана, сыновья и многие мурзаки, все еще надеявшиеся на поворот в судьбе повелителя. Все ликовало кругом, но Кучум был печален. Он тяжело переживал пленение Маметкула — лучшего полководца. Мучило его и то, что лукавый Карача оставил его, и то, что в Бухаре вырос сын Бекбулата, убитого Кучумом, — волчонок Сейдяк. Сын грозил отомстить за кровь отца и захватить Сибирь.
Несмотря на эти горести, Кучум не думал о покорности и делал все, что мог, чтобы собрать сторонников. Он все еще надеялся вернуть престол.
И вдруг надежды хана внезапно потускнели и померкли — до него дошла скорбная весть: Маметкул пытался бежать и ранен казаками. Не успел Кучум оправиться от этой вести, как пришла другая: казаки увозят тайджи на Русь. Кучум растерялся…
Все, что слышал хан о Маметкуле, было правдой. С приходом весны еще больше заскучал царевич и, наконец, не выдержал — на глазах у стражи бросился бежать. Он перелезал уже крепостной тын, еще миг и… свобода. И в этот момент дозорный вскинул пищаль.
— Стой, не гоже! Не уйдешь! — закричал казак и, видя, что Маметкул не слушается, прицелился и выстрелил. Пленник беспомощно повис на остроколье тына.
— Эх, подбили-поранили! — заговорили казаки. — И кому мила неволя? — Они бережно сняли Маметкула с тына и отнесли в лучшую избу. Выхаживали месяц. Потом к пленнику пришел Ермак. Синие сумерки густели за окном. Царевич лежал, вытянувшись, на скамье, безучастный и равнодушный ко всему.
Ермак понимал его кручину, но отпустить царевича было нельзя.
— От безделья и меч ржа ест! — сказал он ласково. — Доброму джигиту нужен простор. Отправлю тебя за Камень, в Москву.
Маметкул быстро поднялся со скамьи и крикнул:
— Убегу я!
— Куда побежишь! — сдержанно сказал Ермак. — Там вольней тебе будет, неужели здесь, под стражей. А Сибирь стала русской землей. Придут сюда мужики — ратаи с сохами, посеют хлеб, и мир станет в этом краю.
— Я подыму племена, верные мне, и верну степи, Иртыш! — в запальчивости перебил пленник.
— Не подымутся больше простолюдины, не пойдут за тобой, царевич! — усмехнулся Ермак. — Надоело им ясак платить ханам. Да и покой труженику дороже всего!
— Я ударю камень о камень, высеку искру и вздую пламя ненависти ко всему русскому! — не унимался Маметкул.
— Пойми ты, горячее сердце, ушло оно, твое время, ушло… Поедешь в Москву! — вдруг резко закончил атаман и поднялся со скамьи.
Приготовили струг, убрали коврами и усадили в него плененного царевича. Иван Гроза и три десятка казаков отплыли из Искера. Ладья все дальше и дальше отходила от знакомого высокого яра. С каждым взмахом весел он становился все ниже и ниже и, наконец, растаял в серой мути туманов.
Маметкул, сидя в ладье, опустил голову на грудь, задумался: «Что ждет его в далекой Московии?».
Татарского царевича провезли по Туре, по зеленым понизям зауралья, — ни татары, ни вогулы, ни остяки не вышли взглянуть на кучумовский корень. Все быстро зарастало быльем. И тут понял Маметкул: былое ушло навсегда и не воротится вновь.
Ермаку хватало хлопот: ему все хотелось знать, все поднять и оживить в сибирской земле. Прошла горячая военная пора, настало время хозяйскому делу. Перво-наперво надо было привлечь сердца простых людей к Руси. Сделать это можно не мечом, а добрым рачением о нем. Надо было хлопотать о торговле и верных торговых путях. Грезился атаману океан-море, чтобы через него плыть сибирской водой и добраться до Холмогор: водный путь и легче и дешевле, чем дорожки через горы в тайгу.
Затепло Ермак послал сотника Кибиря с казаками на двух стругах на Обь-реку — проведать проход в Студеное море. Сильные ветры и непреодолимое течение подхватило струги и вынесли на бурный простор. Казаки погибли во льдах.
Весна стояла в полном цвету, широко разлились реки. Ермак услал Богдана Брязгу в незамиренные волости. Тут, в устье, стоял укрепленный городок, и татары отбивались стрелами и калеными камнями. Разгорелось сердце Брязги.
— Дорого обойдется вам смута! — пригрозил он и впереди своей малой дружины бросился на валы. Закипел бой. Скоро низкие избенки запылали, и по ветру потянулись клубы черного дыма. Татары побросали саадаки, сабли, копья и униженно просили о пощаде.
Разгромив городок на Арямзянке, Брязга пошел в низовье, где кочевали вогулы и остяки. О походе казаков проведал князец Нимнян. Он не терял времени и разослал в паули гонцов, призывая воинов. Слово князьца разожгло кочевников. Две тысячи остяков и вогулов, вооруженных мечами, копьями и луками, явились на высокую гору к князьцу Нимняну, который умело укрепил городище валами и заплотами. Остяки и вогулы держались храбро и не раз выходили из крепостцы на рукопашную. Трижды ходил Брязга с казаками «на слом», но не смог преодолеть крутого яра и повалить частокол.
Пришлось отойти от городка и стать воинским станом. В душу Брязге закралось сомнение: «Смогут ли одолеть казаки великую силу, от которой в поле темно становится?».
За минувшие годы многое испытал и претерпел Богдашка Брязга, но не остыло его сердце и не прошла удаль.
— Лягу сам, а огнем пройду по вашему городищу! — пригрозил он в сторону князьца Нимняна.
Но в этот раз угроза его прозвучала не так уверенно. Чувствовал Брязга, что страшнее всего не число воинов, а дух их. «Отчего враги так роятся вокруг городка, как пчелы вокруг матки? Что гонит их в жестокую сечу?» — огорченно раздумывал он.
В обозе у Брязги всеми укладами ведал белобрысый, кривоногий Приблуда. Кто он был — один бог ведает. Сам малый, а руки хваткие, цепкие. Хитер! Лицом на всех схож: и вогул, и остяк, и чуваш. Не раз на чалом коньке в соседние паули заглядывал: сильно приманивали его смуглые да крепкие, как ядреный кедровый орешек, остячки.
Сидел Богдан Брязга у костра, спасаясь дымом от комарья, налетевшего со всех болот, и все думал о своем. Тут и наехал Приблуда, — с коня долой и к пятидесятнику.
Брязга поднял затуманенные глаза, хотел спросить: «Ну как, хороши остячки?». Но, взглянув на серьезное лицо обозника, выждал, что скажет тот.
— Знаю, атаман, как обхитрить остяков!
— Это как же?
— Есть у остяков защита великая — золотой идол! — таинственно поведал Приблуда. — И сидит бог в золотой чаше. Льется на него чистая-пречистая вода, и все воины пьют ее из чаши. И кто выпьет, — крепко верит, что ни смерти ему не будет, ни в бою не возьмут… Отпусти меня того бога украсть. Украду, и вся сила у остяков, как ручей в жаркой степи, иссякнет.
— Бежать вздумал? — подозрительно взглянул на Приблуду Брязга. — Гляди, ермакова рука длинная, и в бегах настигнет!
Обозник взял щепотью землю, положил в рот и поклялся по-своему:
— Своруха чидола!
Знакомые остячки тайными тропами провели раскоряку в городок. Приблуда прикинулся перебежчиком, всю ночь вертелся в стане князьца Нимняна, приглядывался, а утром переполз в густом тумане вал и прибежал к своим.
— Радуйся, атаман, — загомонил он. — Чуют остяки беду, — великий страх охватил их. Жгут перед идолом сало и серу и взывают к нему. А бог молчит. Спрашивают его воины: биться или сдаваться? Князец кричит, что идол оттого молчит, что зол на остяков, плохо стоят за него. А остяки свое: молчит бог, махнул на все рукой, раз пришли русские — признавай их! И решили они сдаться…
Богдан Брязга с десятниками поразмыслил:
— Раз спорят, — нет единодушия. А нет душевной крепости, — плохо будут драться.
На утро повел Брязга казаков на приступ и взял городок. Полонил он остяцкого князька, а золотого идола не нашел.
Хватились Приблуды.
— Привести, пусть скажет, куда подевался золотой бог?
Искали обозника всюду и нигде не нашли.
Сели казаки на струги, поплыли дальше по Иртышу. Слава о казаках шла быстрее волны. Вечером в излучине, среди леса, затемнело городище Рача. Сказывали пленные остяки, что стоит в городище великий каменный идол Рача и на много поприщ note 2 кругом чтут его. Наезжают сюда остяки, и шаманы приносят жертвы идолу. Завидев плывущие струги, шаманы положили идола на большие нарты и уволокли в чащу. Все остяки разбежались. Напрасно ждал Брязга их возвращения, — остяцкое городище было безмолвным.
Наступили светлые ночи. За Иртышом, за лесами, погасла поздняя заря, а на восходе уже летели по небу тонкие золотые стрелы раннего утра. Казаки плыли по широкой безмолвной реке, любуясь расцветкой берегов и поджидая врага. Но остяки при виде стругов быстро снимали черные чумы и поспешно откочевывали в туманную сырую даль. Так беспрепятственно добрался Брязга с дружиной до Нарымского городка. Подле чумов возились остячки с ребятами, бродили отощавшие псы. Пятидесятник заглянул в первый чум: темно, копоть, едкая вонь от порченой рыбы. У огня, на вытертой оленьей шкуре, лежал высохший старик. Гноящимися глазами он уставился на Брязгу, долго разглядывал и сказал, как давно решенное:
— Рус, ты пришел убивать меня. Делай скорей свое дело!
Пятидесятник добро улыбнулся больному и отрицательно покачал головою:
— Нет, я пришел сюда с миром.
— Тогда ты возьмешь наших женщин и детей, как это делали татары?
— Ваши женщины хороши, — похвалил Брязга остячек. — Но каждая из них имеет своего мужа, а дети — отцов. Нехорошо брать чужое!
Старик оживился, пытался приподняться, но нехватило сил. Тогда Брязга приподнял его, подложил под плечи оленьи шкуры и отдал ему свою флягу:
— На испей, это ободрит тебя!
Старик выпил, пробежавший по жилам огонек согрел его дряхлое тело.
— Если все такие русские, как ты, — сказал он, — дам знать своим, чтобы вернулись сюда. Мы платили ясак хану, но он забывал каждый раз, и в год брал два и три раза ясак. А его слуги, завидя шкуру соболя или чернобурой лисы, просто брали, били охотника и кричали ему: «Зачем ты утаил от нас самый лучший мех!».
— Так больше не будет, отец! — пообещал Брязга.
— Это хорошо, очень хорошо! — просветлев, сказал старик. — Но будет лучше, если сюда придут караваны, — нам нужны котлы и ножи.
— Повремени, будет и это! — казак подбросил хвороста в очаг, огонь запылал ярче. Старик ободрился вовсе и кликнул к себе остячку. В легкой моолче note 3, мешке с прорезями для головы и рук, она бесшумно вошла в чум, блестя темными глазами. Старик что-то гортанно прокричал вошедшей, и она снова скрылась.
— Завтра они будут здесь! — сказал многозначительно остяк.
С первыми лучами солнца из леса показались сотни нарт, запряженных быстрыми оленями. Они стремительно приближались к Нарымскому городку. Остячка поддерживала больного старика. Он щурился от солнца, показывал высохшей рукой и миролюбиво говорил:
— Смотри, смотри, они торопятся. Я говорил — придут! Они примут шерть и будут платить ясак…
Плывя вниз по Иртышу, Богдан Брязга взял городок Колпухов, а дальше до Оби простирались владения самого сильного и непокорного князьца — Самара. У него были «в сборе восемь княжцев», которые привели к нему своих воинов в кожаных панцырях и шеломах. Недавно сибирский хан брал «дани со многих низовых язык», вносил ее и князец Самар, но тут он решил покончить с ясаком вообще и перебить русских.
Всю ночь на высотах пылали многочисленные костры в лагере Самара. Воины ели горячую оленину, а князьцы пили пенистую свежую кровь, только что выпущенную из молодых животных, сосали и жадно глотали мозг из оленьих костей. Пир длился до тех пор, пока опьянение от сытости не свалило всех. Крепко уснули остяцкие князьцы, храпели воины, не выставив по своей простоте дозоров. Похвалялся князец Самар, что русские его смерть как боятся. А на заре на князя навалился вдруг казак. Понял Самар — плохо дело, и забился под могучим телом. Хотел достать копье, но не достал — прикололи его. Князьцы разбежались кто куда, а воины побросали луки и копья — не пожелали драться с русскими. Они твердили:
— Князьцы велели, мы и пошли…
А князьцы поодиночке пришли потом к Брязге, кланялись и просили мира.
Спустя два дня казачьи струги вошли в Обь — в глубокую и широкую реку, по берегам которой шумели чахлые леса и тянулись бесконечные болота. В реке ходили густые косяки рыб, над озерами и протоками поднимались тучами птичьи стаи. Ночи исчезли. С закатом солнца брезжил серебристый свет и наступало безмолвие.
— Сказывали, что еще далее простирается страна мраков, а где браться тьме, если с неба день и ночь изливается свет? — задумчиво сказал Брязга и велел казакам повернуть струги. С малой дружиной он побоялся плыть в неведомую страну и двадцать девятого мая двинулся в обратный путь.
Теперь на низовых берегах Иртыша казаков встречали уже замиренные остяки и вогулы. Иртыш, от Искера до Оби, стал русским.
Вернулся Брязга из похода с богатой добычей — с мягкой бесценной рухлядью. Мял ее в руках и по-хозяйски говорил Ермаку:
— Им бы сейчас хлебца, котлы, да ножи на зверя, — заживут люди!
2
Вниз по Оби и Тавде-реке размещались десятки разрозненных остяцких и вогульских княжеств, которые часто между собой воевали. Кодские остяки набегали на кондинских вогул, и «жены их и дети и людей емлют к себе в юрты… в холопи».
Остяки и вогулы были храбры и воинственны. Это они нападали на строгановские городки, выжигали слободки и деревни, забирали хлеб, угоняли коров и лошадей. Нередко захватывали и мужиков с женами и детьми, а варницы жгли.
Немало побоищ бывало и у приобских остяков с самоедами. Не раз они схватывались в отчаянной сече, и остяки, победив, брали самоедов в полон. Что греха таить, доводилось остякам класть на огонь перед идолом «самоедского малого».
Познал обо всем Ермак и решил положить этому разору конец.
Только что вскрылся Иртыш, — весной тысяча пятьсот восемьдесят третьего года. Атаманские струги поплыли вниз.
Ермак с разочарованием смотрел на унылую равнину, по которой стекали в Иртыш и Обь многочисленные речонки. По левому берегу поблескивали плоские озера и простирались соры — северные заливные луга. Местами поднималась грива худосочного чернолесья, охваченного пожаром, тянулись плоские песчаные холмы с редким тонким сосняком. Тосклив был и правый берег. Сумрачно, скучно, уныло! Не веселые волжские берега, где на заре в рощах заливался щемящий душу соловей, не отвесные курганы-утесы над матушкой рекой. И не тихий Дон это!
— Спойте, братцы! — попросил атаман.
Никита Пан глубоко вздохнул и, словно угадав думу Ермака, запел про Волгу:
Вниз по Волженьке, Словно лебеди, Словно рыбоньки белобокие, Ряд за рядом плывут снаряжены струги, Как на тоих-то стругах Сорок семь гребцов!..Песня звучала уныло среди бесконечных просторов.
День за днем плыли казаки. Редко, очень редко виднелись одинокие закопченные чумы и брошенные на лето паулы — хозяева ушли за стадами на север. Остяки в прииртышье встречали Ермака приветливо, предлагали сохатину и свежую рыбу. Кое-где на высоком столбе, как журавель на болоте, высилась амбарушка. Показывая на нее, простую, но крепко сложенную, остяк пояснил:
— Ясак тут бережем. Все бережем…
Ермак велел пристать к берегу, оглядел намью note 4. В высокую амбарушку вела лесенка, вырубленная в стволе лиственницы. Ни зверюшки, ни полевки не могли попасть в кладовушку.
— Умно придумал народ! — похвалил Ермак. И тут же в голову ему пришла мысль: «К чему тревожить каждый раз ясаком? Пусть ставят у реки намьи и складывают в них рухлядь. Сборщики соберут…»
Плыли дальше. Блеснула Назыма-река, на ней — остяцкий городок. В казаков полетели стрелы с наконечниками из рыбьих костей. Ермак послал вестника с миром, остяки прогнали его прочь. Тогда казаки сказали:
— Батько, возьмем городок?
— Возьмем!
Вал и заплот были невелики. Казаки с криком полезли, били в упор из пищалей, и остяки, бросив своего князьца, побежали в лес. Никита Пан погнался за князьцом, но тот увильнул, размахнулся мечом и уложил атамана. Упал Никита, разметал длинные, жилистые руки, померкли глаза.
Князьца схватили казаки и повели к атаману.
Стоял Ермак над телом друга, опустив широкие плечи и приподняв густую бровь, жалостно говорил:
— Эх, казак, казак, сколько прошел, а тут улегся! Где смерть подстерегла!..
Было обидно атаману, что погиб Никита Пан на пустяшном деле. Вот и лежит он теперь сухой, костлявый, на голове серебрится седина. «Постарел друг!» — с тоской подумал Ермак, не помня, что и у самого на висках и в кучерявой бороде тоже белые струйки побежали.
Когда подвели к нему князьца, взгляд атамана потемнел. И что удивило Ермака — князец был мал, тщедушен, и нельзя было понять, как он справился с богатырем Никитой.
Подали меч, — кованный из железа с деревянной ручкой. Старый, покрытый ржавчиной, а теперь на нем засохла свежая кровь.
— Ну и меч! — еще выше поднял удивленные брови Ермак и перевел взгляд на щуплого князьца.
Остяк горделиво поднял голову и хвастливо молвил:
— Мой меч — волшебный меч, негляди, что прост. Обнажишь его, он тогда рубит направо и налево, хочет или не хочет того рука хозяина. Моя сабля сочится женской и мужской кровью! Она убивает всякого, кто вблизи меня!
— Вот оно как! — побагровев, крикнул Ермак: — Ну, коли так, держись, вражья сила! — И не успел князец ойкнуть от страха, как Ермак ржавым тупым мечом развалил его надвое.
Схоронили Никиту Пана на высоком яру, под ветвистой лиственницей. И снова быстрое течение подхватило струги и понесло к Оби, а позади еще курилось пожарище и выли волки над павшими телами, — набежали серые из хмурых лесов.
Течение Иртыша стало медленнее, величавее. Пробежавшая тысячи верст могучая река вливалась в обширную Обь. Постепенно редели леса, уступая место тундре. Мшистая равнина да низкое серое небо. И воды обские казались тяжелыми, свинцовыми. Белела пушица, цвели скудные травы, и скрюченная малорослая березка жалась к земле. На стоянках налетали темные тучи комаров и гнуса. Они лезли в котел с варевом и покрывали его серым налетом, проникали за воротник, под рубаху, жгли лицо, вспухавшее от разъедающих укусов. Только густой дым отгонял подлую тварь, от которой не было житья. Ермак хмуро разглядывал просторы:
— Гиблое место!
Даже солнце отливало здесь багровым отсветом, а вечерами на Оби лежали густые сиреневые тени. Багровый и синий цвета мешались и навевали на душу мрачное настроение. В эти минуты казакам казалось: потухает солнце и умирает все живое и на земле, и на воде. А между тем в этих, никем не мерянных просторах лежали многие остяцкие княжества. Огромные стада оленей бродили по тундре и давали кров и пищу человеку.
Ниже по течению, через многие дни плавания, лежала Обдория. Хотя в титуле великого московского князя и писалось «князь Удорский, Кондинский», однако эти края жили своей жизнью — ясака не платили и царя не знали. Обдорские князьцы разводили многотысячные стада оленей, пастухами у них были самоеды.
Слухи о богатствах обского севера давно дошли до русских, наслышался о них и Ермак. Вспомнил он рассказы строгановского посланца, который побывал в Жигулях, сманивая казаков на Каму.
Разглядывая мрачные синие тени заката, далекие холмы за гнилыми болотами, атаман суеверно прошептал про себя:
— Так вот где «горы зайдуче в луку моря, им же высота яко до небес». Тут и быть Лукоморью! Но как пройти в него?
В ливонском походе досужий русский воевода показывал Ермаку чертеж всей земли, начертанный неким Антоном Видом. Тогда на нем привлекло внимание обозначение обского низовья. Там, на левой стороне Оби, была обозначена Золотая баба с ребенком на руках. Ей и поклонялись «обдоры», принося в жертву меха.
«Вот где Злата баба! Сколько же плыть до сего идолища!» — подумал Ермак.
В протоке казаки встретили вогула на челне. Бедняк, в истертой малице, испуганно смотрел на русских. Ермак подарил ему зипун и спросил:
— А где князец Обдорский?
Старик повернулся лицом к полуночи и ответил:
— Там, там. Далеко, много далеко. Плыл, все плыл…
Вздохнул Ермак, — не лежало его сердце к сырой пустыне, к гнетущему безмолвию.
«Пес с ней, Златой бабой!» — подумал он и велел повернуть струги обратно.
Казаки хватко ударили веслами. Запенилась вода, вогул быстро остался позади. Ермак сидел на головном струге и все думал о Златой бабе. Не знал он, что идол, именуемый так, вовсе не златой, а грубо рублен из кедра и покрыт железом…
Ермак вернулся в Искер, а вестей из Москвы все не было. Не сиделось ему, захотелось встретить воеводу московского на пороге новой землицы. Вспомнил он путь через Каменный и лесную Тавду-реку, на которой так недавно минули столько опасностей. Там, на Тавде, решалась судьба казацкого войска… Теперь все позади.
Отдохнув десять дней в Искере, Ермак поплыл к Тоболу, а из него выбрался на знакомую дорожку. По берегам шумели дремучие леса, вливались в Тавду лесные ручьи, а на них кочевали вогулы. Кондинские князьцы держались независимо. Рука хана Кучума не дотянулась сюда.
Стоял июнь, — белые ночи брезжили над тайгой, наполненной гнусом. От него не было спасения ничему живому: ни человеку, ни зверю. Вогулы жгли костры и заклинали злого, негодного духа Пинигезе, создавшего комаров. У берестяных юрт часто раздавался звук шаманского бубна. Лето было в разгаре; олени сыты; сильно и остро пахла их потная шерсть, в реках гуляли косяки жирных рыб, зверя было вволю, — радуйся, вогулич!
Шли за стадами кочевники и пели свои простые песни. Что видели, о том пели они.
Все дальше и дальше уходила Тавда в дремучие дебри. Но водную дорогу стерегли вогульские князьцы. В устье реки Пачеке встретил Ермака князец Лабута. Скопища вогулов пускали тысячи стрел. Струги подошли к берегу. Ермак выскочил первым и крикнул своим раскатистым голосом:
— Браты, на слом!
Его щадили вражьи стрелы, а вернее всего — изменяли лучникам их трусливые руки при виде тяжелого, кряжистого воина с ослепительным мечом в руке. Ермак шел прямо через валы, буреломы, под грузными его сапогами трещали валежины. Большие глаза его были полны гнева. Взглянув в лицо ему, вогулы-воины пугались и бежали с дороги. Ермак настиг князьца Лабуту и ударом кулака свалил с ног:
— Браты, в полон взять!
Казаки ремнями связали очумелого князьца, который, очнувшись, все хлопал веками, оглядывая себя.
— Вуул-хой! — Большой человек! — одобрил кулачный удар князец.
А Ермак в эту пору настиг у озерка второго князьца — Печенегу. Этот был в кольчуге и размахивал палицей.
— Я убью тебя, белый! Уйди, бородатый!
Он проворно кинулся к Ермаку, но атаман отразил удар. Печенега погиб. Вогулы побежали, оставив на поле схватки сотни тел. Ермак повелел всех убитых врагов побросать в глубокое илистое озеро, назвав его Поганым…
Шестого августа Ермак добрался в Кошуцкую волость. Молва о побоище в устье Пачеки опередила казаков. Объятый страхом, князец Ичимх вышел навстречу дружине Ермака. На дороге он положил дары — ценную рухлядь.
Ермак приветливо принял князьца, и тот охотно поведал ему о Кондинской земле. Князец повел Ермака в Чардынский городок, где представил ему шайтанщика. Старый со впалым ртом колдун поразил Ермака подвижностью — руки его, казалось, скользили всюду, тонкие пальцы все время были в движении.
Шаман, прищурив глаза, сказал значительно:
— Сейчас шаманить буду. С богом Тозым говорить буду. Скажу тебе. Ты, богатый человек, отдаришь…
В юрте воняло рыбным жиром, застарелой кислятиной; горький дым ел глаза.
Ермак предложил князьцу Ичимху:
— Пусть шаманит мне на лугу!
— О, о! — охотно согласился старик и, захватив бубен с колотушкой, вышел из чума.
На поляне, на берегу ручья, собрались вогулы, грязные, всклокоченные, одетые в ободранные, затертые парки; одни сидели в кружок, иные стояли. Рядом ползали голые ребятишки. Казаки высматривали вогульских женок. Под огромной лиственницей дымился костер — отгонял комаров. Старик подогрел бубен, кожа натянулась и залоснилась. Шаман провел пальцами, пеньзар издал глухой звук.
— Карош! — выкрикнул он и стал бить в бубен. Бил он редко и тихо, медленно кружась.
Ермак дивился его движеньям. Они становились все быстрее, исступленнее, костяшки и рыбьи зубы, привешенные у пояса, звякали в такт кружению. Все громче и громче старик бил в бубен, и странные глухие звуки отдавались в лесу. Надвигались сумерки, и в ельнике становилось мрачно и таинственно. Сквозь синеватые лапы хвои ничего не было видно. Тишина стыла в лесу, над рекой, и только топот ног и гул пеньзара тревожил ее. Звуки то росли, то слабели. Шаман, а за ним вогуличи протяжно кричали:
— Ко-о-о-о! Ко-о-о-о!
Ермак взглянул на князьца. Ичимх наклонился к его уху и сказал:
— Они зовут духов. Они сейчас прилетят. Тазым скажет ему все…
Ермаку стало скучно, надоел шаман, и он крикнул:
— Будет вертеться. Сказывай, что хотел!
Старик закружился волчком, сгибаясь и разгибаясь, словно бубен тянул его в стороны. На губах шамана пузырилась пена, и он, словно кликуша, стал биться и кричать:
— Долго жить будешь! Хана бить будешь!
Шаман упал, тяжело дыша. В забытьи, казалось, он ничего не видел и не слышал, но вдруг открыл глаза, глянул под косматую ель и заорал:
— Ко-о-о-о! Казак, не трогай баба. Моя!
Ермак раскатисто захохотал.
— Тазыму молился, а за женкой вполглаза глядел. Эй, кто там? — закричал он в тьму. — Не трожь молодицу!
Из темноты вышел смущенный казак Ильин:
— Дык и не трогал. Сама льнет, курносая…
Атаман сумрачно поглядел на казака, и тот, замолчав, поспешил отойти.
Князец Ичимх заискивающе сказал Ермаку:
— Большой шаман правда говорил. Нигде нет такой шайтанщик!
Атаман повеселел, хлопнул князьца по плечу:
— Ладно, у каждого своя вера. Идем, князь, к стругам!
Вместе с Ичимхом они подошли к реке. Легкая рябь колыхала большие листья кувшинок, в струге отражались летящие искры костров и темные ели, в глубоких, прохладных омутах играла рыба. Казаки взялись за весла, и Чардынский городок стал быстро уходить в тьму…
Струги поплыли вверх, к Табарам. Кончались белые ночи, вечерняя синь рано наплывала на лесную сторону. Тяжело было грести против быстрого течения, но Ермак торопил казаков: все еще надеялся встретить в походе московского воеводу.
С запада набегали тяжелые серые тучи, погас яркий и бодрящий солнечный свет, и вместе с этим поблекли знойные летние краски, все как бы покрылось пеплом. Табары-городок раскинулся на скате, сбегавшем к болоту. Тайга, тайга, тайга! Дуплистые ели, коряжины, вздыбленные ветровалом, медвежьи тропы, на больших полянах — гуденье оводов, тучи комаров и гнуса.
Пробирались казаки в дремучие чащобы. Впереди шел Ермак; богатырем в кольчуге попирал он землю, продираясь через лесную прохладную мглу и брал свое. Казаки собирали ясак и свозили в ладьи. На тропе навстречу им вышел старец-вогул с реденькой бородкой. Он высоко забрасывал посох и шарил дорогу. Ермак спросил слепого:
— Куда бредешь, отец?
Старик прислушался и попросил:
— Я слепой и глухой. Скажи громче.
— Здорово, дедушка! — ласково и громко выкрикнул атаман.
— Здравствуй, здравствуй, — обрадованно поклонился вогул.
— Отчего слеп, охотник? Какая беда приключилась?
— От дыма, от бедности. Дымом и горем глаза выело, — жалобно улыбаясь, ответил старик.
— Какое горе гонит тебя?
— Иду к русскому. Скажу ему: зачем князец брал у меня последнее для него?
— Да ты, поди, и сам голоден? — Ермак взял вогула за руку и привел на струг. Казаки накормили старика, возвратили рухлядь.
— Живи с богом. Со слепцов и старцев ясак не берем. Князец для себя, видно, взял!
Вогул долго стоял и растерянно мял в руках беличий мех.
— Не знаю, что делать? — озабоченно сказал он: — Шкурка годна мне, но я хочу подарить ее русскому…
Воеводы все не было. В это время Ермак прознал о другом пути на Русь — через Пелым. Может быть, воевода пойдет этой дорогой? Надвигалась осень, на полдень летели перелетные стаи. Ночами стало холодно. Снова заскрипели уключины, — по глухим рекам поплыли казачьи струги к северу. А позади них шла молва: «Жил в табаринских юртах великан силы необычной. Хватал людей горстью и давил, как мух. Казаки хотели его поймать и не смогли — порвал все арканы. Тогда его пристрелили.» Пелымские вогулы перепугались и с ужасом ждали Ермака.
Атаман двигался осторожно, — Пелым был велик, воедино соединил вогулов, промышлявших на реках Конде, Пелыме и нижнем течении Сосьвы. Пелымские князьки вели спор с Москвой, — то давали ясак, то возмущались. Бывало, князьки те, когда туго им приходилось, ездили «за опасом» к перскому владыке на поклон, а чаще вторгались в русские земли, жгли селенья, убивали мужиков и угоняли скот. Давно ли князь Кихек ходил разорять строгановские варницы?
Однако сейчас о пылымском войске не было слышно.
Лесистые берега Конды были топки, недоступны, и вогулы уходили от казаков в дебри. Сказывали, среди недоступных мест и топей растет вековая густая лиственница, а под ней идол. И приносят ему удачливые охотники лучшую рухлядь. Так поступали они сотню лет, и в амбарушке бога скопилось много богатств.
Казак Дударек отлучился на охоту и в глухой лесной чаще набрел на сруб, высоко поднятый над землей. К срубу была пристроена лазейка из лиственницы. Не долго думая, провора добрался по зарубкам в кумирню и распахнул полог. Посреди амбарчика сидел вогульский божок Чохрын-Ойка. Его медные губы и все лицо измазаны жертвенной оленьей кровью. В полутьме амбарчика Дударьку показалось, что идол скосил узкие глаза и ухмыляется. Перед божком стояли березовые туески, полные морошки; чаши с кровью, с нарезанной рыбой.
Одет Чохрын-Ойка богато, — весь в соболях, и кругом все увешано драгоценными шкурками.
Тишина. Где-то в темном лесном углу дятел долбит сухую лесину. Дударек огляделся, осмелел и подумал: «Зачем болвану такое роскошество? И кто здесь увидит, если казак заберет бесполезное богатство? Никто!»
Дударек снял соболиные шкурки, туго набил ими охотничий мешок. Заодно он прихватил и ожерелье Чохрын-Ойка. Слез, огляделся и поспешил в казачий стан…
И кто только прознал о заворуйстве Дударька! Не успел он отдохнуть, как его разбудили и позвали к атаману.
Ермак встретил казака сурово:
— Ты что ж наробил? Зачем обидел вогуличей — ограбил кумирню?
Дударек хотел пуститься в россказни, но атаман повел серыми глазами и повелел:
— Пятьдесят плетей!
И при сбежавшихся вогулах беспощадно отстегали казака. Пелымцы одобрительно кивали головами: «Справедлив русский, ой как справедлив! Повелел чтить обычаи манси!».
Они охотно платили ясак. Струги были полны мягкой рухлядью, но Ермак все медлил отплытием вниз. В душе его еще смутно тлела надежда: «Может быть воевода за незнанием дорог задержался в пути?».
Между тем серые тучи без конца волочились над лесом, мелкий осенний дождь сбивал желтый лист. Казаки с тревогой поглядывали на север:
— Не прилетел бы со Студеного океан-моря сиверко. Не уплывем в Сибирь! Что стало с батькой?
Он ходил тяжелый, мрачный, как темная стылая вода в реке: понял уже, что не увидит скоро ни воеводы, ни своих послов. Примолкли и казаки.
В сентябре безмолвным стало небо: пролетели последние косяки гусей и уток. Дым костров прижимало к земле. Поднял Ермак скорбные глаза и сказал дружине:
— В Иртыш поплывем. Вот-вот ударят морозы.
И разом затопали казаки, вытолкали в круг Дударька, давно забывшего о порке, и он заплясал. Переваливался уточкой, вытягивал шею гусем и манил к себе, вертя глазами, вогульскую молодку.
— Не зарься! — кричали ей казаки. — Не глотай приманку. Сей голубь тебя оставит на первом перепутье!
Вогулка зарделась, а кругом пошел смех.
«Ожили, заговорила русская душенка!» — радовался веселью Ермак.
С вечера приготовились к отплытию, а на заре вошли в струю и быстро понеслись по течению. Позади, погоняя, дул холодный ветер, и над рекой летели червоные и желтые листья. Пламенела на берегах осина — беспокойное дерево. На взгорьях желтели поникшие от стужи травы. На полпути задул злой сиверко, настигал ледостав. В низовье Тавды ладьи вмерзли.
— Доплыли! — хмуро поглядывали на батьку, жаловались казаки.
Дальние холмы убегали к окаему, над ним в дымке морозной медленно выплывала луна. Где-то в этой мглистой тишине каркали вороны, угрюмо терзая добычу. Поникшие травы серебрились от инея, шумел сухой, колеблемый ветром камыш.
— Не робей, браты, — успокаивал дружинников Ермак, — то ли было! Не плывут струги, — потащим на полозьях!
Поставили на полозья самый большой струг, набили его мягкой рухлядью, впряглись в лямки и потащили. Трещал лед под шагами дружины, гудели ветры, кругом унылая равнина, но широкий простор просил песни, и казаки запели:
Не лететь моей белой лебедушке За могучим орлом; Не свивать тебе гнездышка теплого На высоких скалах.Ермак слушал, слушал и подхватил со всеми вместе:
Нет, не слить с алой кровью Хрустальной слезы, Не слюбиться красну солнышку С тучей грозною!..Вернулись казаки в Искер, привезли собранный ясак и сложили его в амбары. Зима была на исходе. В марте налетели вдруг теплые ветры, ярче заблестели снега, и за Иртышом засинели дали. Дозорный на башне вдруг заметил: далеко-далеко, на окаеме, скачут лихие кони, искрится морозная пороша. Все ближе и ближе резвые. Вот уже хорошо видит казак широкие русские сани, за ними другие, третьи… Сколько их!
«Татарва скачет! На Искер несется! — с опаской подумал он, и тут же отбросил эту мысль: — Нет, так татары не ездят. Батюшки, да сани русские, лихие русские тройки!»
— Эх! — закричал радостно караульный, — воевода торопится!
Вгляделся пристальней и решил: «Нет, не будет так ехать воевода. Не выдержит его чрево на ухабах. По-разудалому несутся борзые кони! Казаки из Москвы торопятся!» — схватившись за веревку, дозорный стал трезвонить. Бил в набатный колокол, как бес вертелся и, радуясь, кричал во все горло:
— Иванко Кольцо! Браты, Иванко Кольцо!
На вал выбежали казаки. Степенно вышел и Ермак. Взглянул на иртышскую дорогу и не вытерпел, — засмеялся:
— Ах, сатана! Как скачет! Не скачет, а колечком бежит.
По удали ямщиков, по веселому звону догадался Ермак — мчит Иван Кольцо с большой радостью. Настежь распахнули ворота. Пушкарь Петро ударил из пушки, — раскатистое эхо загудело по Иртышу. Вот уж рядом серые бегуны, видно, как пар валит. А в санях важные бояре в шубах. Кони рванули в подъем. Подзадоривая их, закричали озорные веселые голоса.
— Наши казаки! Бей из пищалей! — махнул рукой Ермак и поспешил навстречу.
Первая тройка вомчалась в Искер. Разом осадили коней, и из саней вывалился в лисьей шубе, в бобровой шапке Иван Кольцо. На смуглом лице блестели белые зубы, — смеялся, обнимая Ермака, хлопал по плечам и бесконечно спрашивал:
— Батько, ты ли это? Ах и радость, ах счастье!
— Ну, Иванка, ко времени подоспел! Рады мы! — сияя, сказал атаман и снова крепко обнял Кольцо.
— Рады, братцы, ой, как рады! — закричали на все голоса казаки.
Тройка одна за другой вбегали на оснеженную площадку перед войсковой избой; из саней вываливались румяные, бородатые посланцы в добрых толстых шубах. Их подхватывали на руки и качали. Высоко подбрасывали и раскатисто кричали «ура!». Никогда так не было шумно и гамно в Искере. Воронье от разудалых криков разлетелось в дальние ельники, а дозорный на башенке топал ногами и кричал от восторга:
— Охх, любо-дорого, гостей сколь наехало! — и опять ошалело бил в набат.
— Бей во все звонкие! — задорно крикнул ему Кольцо и, облапив Ермака, сказал:
— Ну, батька, навез я вестей — день будешь слушать, другой — разбираться в них, в третий решать. Великий дар привез тебе от государя Ивана Васильевича, большую милость. А всем нам, — всему казачеству, — прощение старой вины. — Иванко наскоро рассказал об успехе посольства в Москве.
Ермак поднялся на ступеньки крыльца, с ним рядом стоял Иван Кольцо. Стихли голоса, затаили дыхание люди, уставясь в атаманов. Дозорный оборвал звон на вышке и, чтобы не гудел старый колокол басом, прижал к нему мохнатую шапку.
Вперед выступил старый казак с лицом, изборожденным рубцами. Он скинул треух и поклонился атаману:
— Говори, батька, ждет наше сердце добрых вестей!
Ермак положил руку на плечо Иванки.
— Добрые вести привезли наши послы, — громко, на всю площадь, объявил он. — Простила Русь все наши вольные и невольные вины! Облегчила наши душеньки. И сказывает Иванка — великий праздник на всей отчей земле, славят наш воинский подвиг. Слава вам, браты, вечная слава вам, и живым и убиенным, кто доселе раздвинул границы державы нашей и тем принес на русскую землю мир и покой! Слава вам, добрые воины и терпеливые труженники!
Горячая волна радости и честно заслуженной гордости собой охватила казаков. Все они оглушительно загремели:
— Слава! Слава Руси и народу нашему слава!
В эту минуту каждый понял, как прав был Ермак, выступая против казацкого царства и отсылая посольство в Москву. В душах казаков разгорелось горячее и ласковое чувство к своей Отчизне.
— Велика и крепка мать Россия! — закричал седоусый казак. — Слава ей!
— Навеки с Москвой, навеки с родным народом! — отозвался другой, и вся казачья громада, от атамана до простого воина, повторила эти слова. Казаки стали обниматься, целоваться и поздравлять друг друга с великой милостью.
И тот самый седоусый казак, который возглашал славу Отчизне, сказал о себе:
— Иным я почуял себя, подумать только — прощен. Нет на мне больше вины, голову выше подниму и в очи людские правдой взгляну. Эхх, браты! — выкрикнул он и затопал тяжелыми подкованными сапогами: — Гей-гуляй, казаки! Веселись во всю русскую душу!..
На другой день казаки отгуляли пир. В рубленых обширных хоромах, в белом шатре Кучума и просто под открытым зимним небом расставили столы и подле них бочки с крепким медом.
Ровно в полдень ударил колокол на вышке, и на высокое крыльцо войсковой избы в окружении атаманов вышел Ермак.
Обряженный в войсковые доспехи, статный и могучий, он имел величественный вид. На нем была тяжелая кольчужная рубаха с синеватыми отливами, сияющая по подолу золотом и с большими золотыми орлами на груди и спине. На боку висел булатный меч с крыжем, усыпанным драгоценными камнями, на плечах — легкая, но пышная соболья шуба с царского плеча.
Взглянули на атамана казаки и закричали:
— Слава князю сибирскому!..
Ермак нахмурился и взглянул строго на Кольцо:
— Ты сказал о том?
— Я поведал о царской милости к тебе, — не избегая взгляда, честно признался Иванко.
— Эхх, молодость все еще не избыл, — тихо укорил его Ермак и сразу рявкнул так, что слюдяные оконца задребезжали: — Браты, казачество и все охочие люди, не был я и николи не буду князем. Был я для вас батькой, и нет милее этого звания. Кланяюсь вам, дорогие люди, оставьте при мне доброе имячко! Ну, рассудите, какой я князь?.. Воин, казак и брат ваш…
Не докончил Ермак, — сотни рук потянулись к нему, стащили с крыльца и понесли с торжеством по всему Искеру.
Дородный казак Ильин бежал впереди и, задыхаясь от радости, кричал:
— Я так и знал… Я так и знал… В шатер его, пусть будет с нами!..
Ермака принесли в кучумов шатер и усадили на первое место. Потом налили и подали большую тяжелую чару, до краев наполненную крепким московским медом.
— Прими, атаман, от товарищей!
Ермак принял чару, встал и поднял ее высоко.
— Браты, удалые воины, выпьем за Русь и за наше нерушимое верное братство!.. — сказал и единым духом осушил большую чашу.
— За Русь! За братство! — отозвалось множество голосов.
Застучали чары. Заходил по рукам золотой ковш — дар Грозного Ермаку. Казаки вволю ели хлеб, сохатину и все, что было на столах.
В разгар пира Ермак обошел шатер и вышел на площадь. И тут шло веселье. Он подходил к каждому столу и находил для братов заветное слово.
На землю сошли сумерки, луна поднялась из-за Соусканского мыса и под ее зеленым светом заискрился снег. Ермак стоял в шатре за пологом и слышал, как гусляр Власий рассказывал охмелевшему пожилому казаку свою выдумку:
— Сказывали Ивашке Кольцо верные люди, повелел Грозный Иван-царь сковать нашему атаману для боя кольчужную рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царевы бронники, когда наши посланцы стали про атаманов рост рассказывать.
— Ишь ты, как! — громко вздохнул казак.
— Сильно сомневались в том бронники, а все-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подолу два аршина, а в плечах аршин с четвертью, и золотых орлов посадили…
Ермак распахнул полог и предстал перед гусляром:
— Что тут, старина, на меня наворочал? — с лукавинкой спросил он.
— Вон истин бог так было! — перекрестился старик. — Своими очами видел, своими ушами слышал. Ох-хо-хо, так было, батька!
— Взял бы я тебя в жменю, да тряхнул бы! — пригрозил атаман.
— Что ты, что ты, батюшка, разве ж это можно? А кто же тогда на гуслях потешать будет казаков?
— Ты, батька, его не трожь! — вступился за гусляра пожилой казак. — Старец Власий — божья душа. Без него да без песни — ложись и умирай!
— Бог с вами! — смеясь, махнул рукой атаман и шагнул в шатер к пирующим.
— Добрый казак, — подмигнул вслед гусляр. — Не любит лести, а правда глаза колет…
— Известно, казачья душа! — согласился пожилой.
В шатре еще звенели чары, распевали казаки, и под треньканье бойкой балалайки плясал, расстегнув холщовую рясу, поп Савва. Он ходил по кругу то задиристым петухом, то тихой уточкой и в такт плясу подпевал:
Эх, эй, гуляй, кума…
Весело улыбаясь казакам, Ермак прошел вперед и уселся за стол.
— Батька, батька! — сразу загомонили казаки, радуясь, что он вместе с ними и что он такой сильный и добрый…
Подошел отставший обоз, сбежались все казаки посмотреть на московские дары. Всю войсковую избу завалили шубами, сукнами. Звякали ефимки в крепких мешках.
— Царское жалованье! — объявил с важностью Ильин, а на душе вдруг стало невесело: «Как стрельцам или служилым людям, выдают! А шли мы на слом не за медь и серебро!».
Весь день выдавал Мещеряк казакам присланное: кому отрез суконный на шаровары, кому кафтан, тому сабельку, а этому пищаль. А Гавриле Ильину досталась шуба. Сгоряча напялил он ее на свое жилистое, могучее тело и развернулся. Сразу швы разъехались, разошлись — лопнула шуба, не выдержала сильного казацкого тела. Хохот, подобный грому, потряс площадь, а Ильин почесал затылок и сказал удивленно Мещеряку:
— Гляди-кось, какие недомерки бывают на Москве! На кого кроена такая одежинка? Охх! — с досадой сплюнул и ушел прочь…
Однако казаки ходили довольные, веселые. Толпой скружили товарищей, побывавших в Москве, и, присмирев, слушали о том, как в Кремле принимали казацкое посольство.
Доволен был обозом и Ермак. Одно заботило его: «Отчего не едет воевода?».
— Да где же воевода с помощью? — спрашивал он Кольцо.
— Идет, — неопределенно отвечал Иванко.
— Улита едет, когда-то будет! Иль ты, бесчувственный, не понимаешь того, что зима долгая, трудная, а народу все меньше и меньше. Край какой отхватили, — гляди, конца ему нет!
Ермак взволнованно ходил по войсковой избе и прикидывал, где бы мог находиться воевода?
А Болховский и Иван Глухов с тремя стами ратников в эту пору пребывали у Строгановых. Долог путь до Соликамска, до Орел-городка, да к тому и медлителен воевода. Когда добрался он до строгановских вотчин, пала сугробистая зима, затрещали крепкие уральские морозы. И хотя царь Иван Васильевич настрого наказал князю Болховскому взять у вотчинников подмогу в пятьдесят вооруженных конников и спешить в Сибирь, но в горах уже бушевали метели, заносили тропы и дороги. Кони проваливались в снегах. Не довелось князю изготовить для похода своему войску ни лыж, ни нарт, не пришлось обзавестись олешками: вогулы и остяки, прослышав о большом русском войске, поспешили откочевать в дальние места.
Несмотря на глубокие снега и морозы, уральские реки еще дымились паром. Черные воды текли в белых берегах, — все еще не приходил ледостав. Между тем воеводе Болховскому становилось страшно, — боялся он царской опалы за свое промедление.
Внезапно подули полуденные ветры и сошел снег, забурлили реки. Побросав в строгановских городках кладь, запасы, Болховский усадил войско на струги и двинулся навстречу ветрам, в сибирскую землю.
Неделю спустя после его ухода, в строгановский городок добрался царский гонец с повелением, чтобы воевода Болховский до весны оставался в Перми и до полой воды не ходил в Сибирь.
Строгановым царь прислал грамоту, а в той грамоте повелел:
"По нашему указу велено было у вас взяти, с острогов ваших князю Семену Дмитриевичу Болховскому, на нашу службу в сибирский зимней поход пятьдесят человек на конех.
И ныне нам слух дошел, что в Сибирь зимнем путем, на конех пройти не мочно, и мы князю Семену ныне из Перми зимнем путем в Сибирь до весны, до полые воды, ходить есма не велели, и ратных людей по прежнему нашему указу, пятьдесят человек конных, имати у вас есма не велели.
А на весне велели есма князю Семену, идучи в Сибирь, взять у вас под нашу рать и под запас — пятнадцать стругов, со всем струговым запасом, а людей ратных и подвод и проводников имати у нас есма не велели, и обиды есма идучи в Сибирь, вашим людям и крестьянам никакие чинить не велели".
Максим Строганов с трепетом перечитал царскую грамоту и дрогнувшим голосом сказал московскому посланцу:
— Ушел-таки князь в поход налегке.
Гонец, отогревшись в теплых горницах вотчинника, утоливши свое чрево, ответил на это легкомысленно:
— Сибирь даст все, батюшка! Там, сказывают, реки текут медовые, а берега из киселя. Бери ложку и хлебай!
— Ишь ты, как! — ехидно улыбнулся Строганов, — а мы-то, по своей душевной простоте, думали: Сибирь — край студеный, суровый, и хлеб там не возрастает!..
Гость налил кубышку меда и сказал весело:
— А ну, хозяин, выпьем за плавающих, в путешествии пребывающих. Помянем князя Болховского! — он разом опрокинул кубышку, погладил живот и похвалил: — Добрый мед! Разом обожгло чрево…
Максим Строганов в бархатном кафтане и в мурмолке сидел в резном кресле, насупившись, словно филин. В другое время он топнул бы ногой и крикнул властно: «Эй, холопы, взашей сего приказного!». Но сейчас он хмурился и сдерживался: гонец-то был от самого царя!
Глухой ночью Карача покинул своего повелителя Кучума и со своими стадами откочевал к Иртышу. Он послал полста лучших соболей и десять быстрых ногайских коней в подарок Ермаку. Посыльный прибыл в Искер и был принят с честью. Атаман при казачестве выслушал его ломанную русскую речь.
Говорил татарин быстро, взволнованно размахивая руками и низко кланяясь Ермаку:
— Повелел князец молвить тебе: «Хочу быть навечно верным слугою московского царя, а ты пришли в мой улус своих казаков, и мы заведем дружбу крепкую. Казаков я приму с честью и награжу их за службу»…
Атаман ответил:
— Рад жить в мире с хорошими людьми. Поведай Караче, пусть кочует со стадами по широким нашим степям. За обещанную хлеб-соль спасибо, да некогда казакам по гостям разъезжать. Идет зимушка, надо подумать о кормах…
Так и отпустили с миром татарского переметчика. В Искере стало тихо, казаки отсиживались по избам и землянкам, тайком баловались с татарками. Незаметно, потихоньку вернулись в Искер убежавшие гончары, кузнецы, седельщики. С ними пришли их жены и дети.
Подошел октябрь, и нежданно-негаданно в Искер прискакал на косматом коньке татарин в лисьем малахае. После допроса, отняв лук и меч, дозорный допустил татарина в войсковую избу. Гонец упал Ермаку в ноги и завопил:
— Скорей, бачка! Скорей! Помоги нам!
— Вставай и говори толком, — спокойно сказал атаман: — Кто ты и кем послан?
— Карачи слал, к своему другу гнал. Помогать ему надо. Из Бараба ногайская орда грозит! — кланяясь в землю, торопливо говорил гонец.
Ермак построжал, пронзительно посмотрел на татарина. Быстрые черные глаза кочевника юлили, воровски уходили от взгляда атамана.
— Хитришь! — сказал атаман. — Не слыхано что-то нами о ногаях.
— Ой, ой, князь, погиб наш баранта! — фальцетом заголосил степняк, захлопал себя по полам стеганого халата и укоризненно покачал головой: — Чем жить будем? Не будет скот, угонят… Помрем, все помрем, князь. Карача просит, друг просит…
Он ползал по земле, бил себя в грудь и с воплем протягивал руки. Ермак недоверчиво следил за гонцом. Рваный халат татарина, сброшенный старый малахай, истощенное лицо — вызывали жалось. «Может и правда, — заколебался атаман. — Без скота — гибель, и кочевнику и нашему брату. Оттого и голосит…»
В избу легкой походкой вошел Иван Кольцо. Татарин осклабился, стал и ему бить поклоны.
— Говорит, ногайцы из Барабы идут, скот угонят, — кивнул на гонца Ермак. — Не верю что-то. На сердце тревожно…
— Пусти, батько, меня погулять! — весело откликнулся Иванко. — Засиделся…
— Якши, якши! — заулыбался и закивал головой гонец. — Карачи большой дар даст. Якши!
— Кони добрые есть? — спросил Кольцо.
— Конь самый добрый… Ой, какой конь… Летит, стрела. Добрый конь.
Ермак хмуро молчал.
— Выйди! — указал он татарину на дверь. — Поговорить надо.
Пятясь, прижимая руку к сердцу и бесконечно кланяясь, кочевник вышел из избы. Он тяжело опустился на приступочек крыльца и пожаловался казаку:
— Теперь погиб наш улус. Нет скот, — чем жить?
Иванко уговорил Ермака; разрешил ему атаман взять сорок лихих казаков и, оберегаясь, степными дорогами скакать на помощь Караче.
Под солнцем сверкали, искрились снега. Нежным серебряным светом мерцали сугробы. Иванко мчался на высоком жеребце. Каждая кровинка, каждая жилочка в нем жаждала удалого движения, просила жизни. Конь размашистым бегом стлался по степи, в ушах ветер свистел, а Иванке все было мало: хотелось разогнаться да махнуть над степью под самые звезды. «Эх, неси меня, Серко, лети, добрый конь!» За Иванкой вслед торопились казаки.
Татарин еле поспевал за Кольцо. В глазах его вспыхивали волчьи огоньки — жгучая ненависть, то восторг от казацкой скачки.
Далеко до татарских улусов, но гонец знал дорогу в зимней степи, чувствовал ветры и близкую воду. Он неутомимо вел казаков вверх по Иртышу. В синие сумерки Иванко Кольцо на одну минутку круто осадил коня и, открыто смеясь в лицо татарину, спросил:
— Уж не к хану ли Кучуму под нож казаков манишь?
В глазах проводника мелькнул испуг. Скривив лицо, обиженно замахал рукой:
— Что ты, что ты! И Карачу, и меня, и жен его, и сыновей его Кучум потопчет конями. Он не простит, что покинули его!..
И опять двинулись кони; побежала, закружилась под копытами степь. Ночь над равниной. Золотое облачко затянуло луну. Капризный ветер гонит струйки снежной пыли, а в ней катится, спешит невесть куда сухая трава перекати-поле.
Вдали мелькнули огоньки. Лунный свет зеленоватой дорожкой скользнул по плоским кровлям, белым юртам и снова угас — все закрыла роща.
— Тазы! Тазы! — повеселев, закричал татарин.
Борзые кони вомчали в аул. Залаяли псы, и сразу вспыхнули факелы. Перед белой войлочной юртой ждал Карача. Толстые мурзы поддерживали под руки бывшего ханского советника. Он заискивающе склонился перед Кольцо.
— Велик аллах, мудр князь, что прислал самого лучшего ко мне в улус! — льстиво заговорил Карача и по-юношески быстро подбежал к стремени. — Будь гость мой…
Татары развели казаков по юртам. Коней пустили в степь — пусть кормятся.
— Не бойся, казак, наш скот тебенит и твой будет! — угодливо улыбались они. Перед гостями поставили чаши с пловом, кувшины с кумысом:
— Пей, друг! Пей, казак!…
Иванко подхватили под руки два рослых татарина и ввели в шатер Карачи. Посреди пылает и согревает жаром горка углей в мангале. На коврах — подушки, на них знатные мурзы с чашами в руках. Карача сел перед медным тазом, в котором дымился горячий плов и, показывая Иванке на место рядом с собой, ласково позвал:
— Иди, иди сюда. Здесь самый лучший место. Садись вот здесь! — Сверкая перстнями, мурза взял чашу с кумысом и поднес гостю: — Да будет благословен твой приход!
Тепло, идущее из мангала, сразу разморило казака. Он взял чашу и выпил кумыс.
— Хорош, — похвалил напиток Кольцо. И снова протянул чашу. Карача хитренько улыбался, поглаживая реденькую бороденку.
— Пей еще, пей много! — предложил он гостю.
Промялся, проголодался на холоде в далекой дороге казак — горстью брал жирный горячий плов и, обжигаясь, набивал полный рот. Ел и запивал кумысом. Татары хвалили:
— Хороший гость… Добрый гость…
Карача скрестил на животе руки и сказал умильно:
— Побьешь ногаев, князю дорогой дар отвезешь!
От сытости и кумыса так и клонило ко сну. Отгоняя соблазны, Кольцо сказал Караче:
— Вместе бить будем ногаев. Обережем скот твоих людей…
— Якши, якши — ответил мурза, ласково глядя из-за чаши на Иванку.
И тут казак услышал за пологом смех, нежный, серебристый. Вслед за этим забряцало монисто. Кольцо быстро взглянул на полог и вскочил с подушки. Он рванулся к пологу, но щуплый и маленький Карача проворно загородил казаку дорогу.
— Ты гляди дар наш князю! Гляди! — схватил его за руку мурза и показал на столб. На нем блестел позолотой и причудливой резьбой круглый щит. Холодные зеленые искры сыпал большой изумруд.
Казак сразу забыл про девку. С горящими глазами он потянулся к доспеху. Взял в руки, и глаз не мог оторвать от дивного мастерства. А Карача вкрадчиво зашептал ему:
— Из Бухары дар… Великий искусник Абдурахман долго-долго трудился…
И вдруг мурза лягнул ногой и опрокинул чашу, синеватым языком расплескался по цветистому ковру кумыс.
— Эх, какой ты незадачливый! — незлобливо хотел сказать хозяину Кольцо, но в этот миг взвился аркан, и петля хлестко сдавила казачью шею. Кольцо выхватил из-за пояса нож и хотел ударить по ремню, но вскочившие мурзаки тяжело повисли у него на руках. Карача выхватил из-под ковра меч и осатанело ударил Иванко по темени.
Казак рухнул на землю. Последней мыслью его было:
«Вот как! Коварством взяли»…
И сразу погас для него свет…
— Джигит! — взвизгивая от радости, похвалил Карачу захмелевший толстый мурза. — Совсем молодой джигит! Одним ударом…
Ночь была темной — луна закатилась за курганы, в аиле стояла тишина. Усталые и сытые казаки крепко спали и не чуяли беды. В потемках навалились татары и перекололи всех.
Шумные и крикливые кочевники, смеясь, ушли к шатру Карачи. В этот час очнулся лишь один старый донской казак. Весь израненный, шатаясь, он выбрался из брошенной юрты, выбрел в поле и свистнул коня. Обливаясь кровью, казак с большим трудом взобрался в седло и схватился за гриву. Верный конь унес его от беды.
Много силы и жизни таилось в старом жилистом теле, — добрался этот казак до Искера. Свалился у крепостных ворот. Набежавшие браты подхватили его.
— Положите меня, не надо дальше, отхожу, — еле шевеля посиневшими губами, прошептал казак. — Батьке поведайте: изменил Карача, порубил всех и не стало Иванки…
Поник головой и замолчал навеки.
Казаки сняли шапки и в тяжелом молчании склонили головы.
Боялись сказать правду атаману, но он сам угадал ее по взглядам своих воинов. Неистовым гневом вспыхнул Ермак. Обычно сдержанный, он стиснул зубы и, грозя кулаком, прохрипел:
— Подлые тати… Погоди, сторицей отплачу за вероломство!
На другой день на прииртышском перепутье поймали казаки четырех вооруженных татар. Привели к Ермаку. Потемнело лицо атамана, бросил отрывисто и зло:
— Повесить на помин Иванки…
Татар высоко вздернули над тыном, и свирепый морозный ветер долго раскачивал оледеневшие тела. По ночам подходили к тыну волки и протяжно выли…
Отбили тело Ивана Кольцо и погибших товарищей. Стоял Ермак перед покойным другом. Голова Ивашки повязана. Глаза закрыты медными алтынами. Кудри атамана прилипли к окровавленному лбу.
— Эх, Иванко, Иванушка! — с отцовской любовью вымолвил Ермак. — Шальная ты головушка! Прощай, друг, навеки! — и столько было в глазах атамана тоски и горькой муки, что страшно было смотреть на него.
Бескровное лицо Иванки безмятежно белело на медвежьей шкуре.
«Отгулял, отшумел свое, богатырь донской! Отпил свою жизнь из золотой чары!» — тяжело опустив голову, думал Ермак.
И впервые за всю совместную жизнь с ним подметили казаки слезы в глазах своего атамана.
3
Погибли самые храбрые и отважные казаки, полегли костьми от вражьего коварства самые близкие и верные друзья Ермака. На сердце его лежала неизбывная тоска, глаза помутнели от горя. Жаль боевых товарищей, но еще горше на душе, что воспрянул враг и норовит извести казачий корень. Все напасти сразу пришли в Искер-Сибирь. Зима в этот год пришла рано, лютая и морозная; глубоко легли снега. Одна радость выпала до ледостава, да и та оказалась призрачной, обманчивой. С последней осенней водой по Иртышу прибыли в Сибирь струги князя Болховского. Только они стали на приколе, тут и ударил мороз.
Когда со стругов сходили стрельцы, сколько было светлой радости! На берег вышли все казаки: играли на рожках, дудели в сопилки, били в медные литавры и кричали от всего сердца, от всей души. Обнимались и целовались ратники. Князь Болховской — высокий, одутловатый, с редкой, с проседью, бороденкой, важно сошел со струга. Его поддерживали под руки два челядина. Взглянул Ермак на прибывающего воеводу и ахнул: узнал. Куда же подевалась статность, блеск в глазах и сильная поступь? Износил, ой как скоро износил свою младость князь! Не таким он являлся с царскими грамотами на Дон обуздовать казаков! Ушло времячко, истрачены силы!
Скрепя сердце поклонился атаман воеводе Болховскому, — не забылись старые обиды. Важно кивнул в ответ воевода. Но радость была столь велика, что все ликовали. Провожали воеводу до большой избы с песнями, пир дали. Стрельцы побратимились с хозяевами: чары поднимали, ели с пути-дороги за десятерых, обнимались и расхваливали сибирских удальцов.
В оживленной шумной беседе Ермак, прищурив глаза, говорил воеводе:
— Полночь уж. Назавтра поране сгружать вели струги. Гудит Иртыш, льдом все перекарежит, а добро на дно унесет.
Болховской спокойно отозвался:
— Пусть отсыпаются; все, что было, при нас, а ладьи что ж, на берег вытащить можно.
— А хлеб, а крупа, а соль?
— Не грузили мы запасов, да и к чему они тут! Сказывали, реки изобильны рыбой, мясного — через край… Сибирь!
Лицо Ермака побагровело, но промолчал он.
Отгуляли встречу и невеселыми разошлись атаманы из-за столов. Каждый думал сейчас горькую думу: «Как проживем зиму? Запасы оскудели, на своих еле-еле хватило бы, а ноне еще триста ртов прибыло. Ух, беда!».
Воевода Семен Дмитриевич легко относился ко всему, успокаивал Ермака:
— Потерпи, обживутся стрельцы и татар прогонят!
Атаман укоризненно покачивал головой. Кто-кто, а он знал этот суровый край и татарскую «жесточь»!
Мурза Карача оставил Кучума, — самому мерещилось быть ханом, — как зверь рыскал по улусам, поднимать татар. Его рассыльщики, вооруженые луками, мечами, беспрепятственно разъезжали по сибирским просторам. Они проникли далеко на север, — подбивали на мятеж и остяцкого князьца Гугуя, и пелымского Аблегирима, и князя Агая с братом Косялимом, и кодского князя Алачу. Карачевы отряды появлялись по дорогам и убивали всякого, кто не хотел идти с ними против русских.
Снега выпали глубокие — верблюду по ноздри. Пешему не пройти, конному не проехать. Только на лыжах да на олешках можно пробежать. Скудные запасы пришли к концу: сусеки в амбарушках опустели. Последнее делили честно. Ермак сам приглядывал за всем, — отбивал напрочь воровские руки, сам ел столько, сколько казаки. Крепился, хотя темные тени легли под глазами.
Из остатков ржаной муки делали болтушку. Князь Болховской безропотно ед и тяжело вздыхал.
Рядом Иртыш, но близок локоть, да не укусишь. Вражьи наезды в темные ночи не дают выйти на реку, а метели все сильнее и сильнее. Сколько обмороженных принесли! Били ворон, зайцев — стрелой, сохраняя зелье, но и ворон и зайцев скоро не стало.
Декабрь был на исходе, дни стали с воробьиный клюв: поздно светало и рано темнело. В ночном мраке в небе играли сполохи. Умер от истощения первый казак. Его уложили в тяжелый гроб, рубленный из лиственницы, и молча провожали до могилы. Поп Савва отпел отходную. На душе у всех было тяжко. Казак Ильин среди тишины громко спросил:
— Неужто так и будем умирать смиренно?
— Надо жить! — твердым, как камень, голосом отозвался Ермак и решительно поднял голову. — Браты, не раз в бою мы одолевали смерть и всякий раз гнали ее отвагой. А сейчас без бою ложиться в студеную землю не гоже! Выжить должны мы! Шли сюда — казачье вершили дело, а достигли того, что Русь стала за нами. Замахнулись на одно, а совершили иное. Подвиг! — Он глубоко вздохнул и закончил властно: — Не гоже нам умирать! Нет смерти нашему делу! Ильин! — позвал он казака: — Отбери самых сильных людей и веди к вогуличам за рыбой. На Демьянке-реке держись, там Бояр — друг не откажет в нужде…
Два десятка казаков на лыжах добрались к демьянским вогуличам. К своему счастью, на реке они встретили охотника, который угрюмо поведал: ушел князец Бояр от татарской беды, а в пауле засели лыжники Карачи и подстерегают русских. Казаки не сразу ушли, дождались ночи и проверили слух, — все оказалось верным. Так и вернулись они без рыбы. В пути мела поземка, с гулом трещали льды на Иртыше, многие из казаков обморозились.
В Искере окончились все запасы; в закромах начисто вымели и съели мучную пыль. Жалко и непривычно было — стали резать коней. Казаки ели безропотно, а московские стрельцы наотрез отказались:
— Умрем, а махан жрать не будем! Не басурмане мы!
А на четвертый день и стрельцы поступились обычаем, стали есть пенную кобылятину. Но и коней скоро всех прирезали, а голод не отступал. В январе задули пронзительные холодные ветры, весь Искер замело глубокими сугробами. Ночи пошли непроглядные и тревожные. Пылали яркие сполохи, и стрельцы с суеверным страхом взирали на переливы красок в небе. Казалось, что необъятное полотнище свисало с невидимого небесного свода, плавно колебалось, развертывалось и переливалось всеми цветами радуги.
Голодные люди, с глубоко запавшими в глазницы мутными очами, с трепетом смотрели в торжественно изукрашенное небо и считали сполохи за дурное предвестие. Они еле передвигали опухшие ноги.
Ермак приказал забить собак:
— Нет привычной животины, и это корм.
Побили и съели собак. Воевода с отечным лицом сидел перед оконцем, затянутым пузырем, и скучно жевал собачину. Зимний день нехотя и немощно пробирался в окно. Семен Дмитриевич полез пальцами в рот и тронул зубы. Они шатались, из синих десен потекла кровь.
— Видишь? — сказал он сидевшему напротив Ермаку. — То болезнь полунощных стран. Пухнет человек, кровь гниет. Не уйти мне отсюда, схороните тут! — он поник головой.
Хотелось атаману сказать: «Сам ты, воевода, будешь виноват в своей смерти! Не захватил запасов!». Однако пожелел его и только вымолвил:
— Добрый человек ты, Семен Дмитриевич, а безвольный! Дух у тебя слаб. Ходи, уминай снег, разгоняй кровь, авось жив будешь.
— Что ты, что ты! И так еле влачу ноги! — отмахнулся Болховской.
Снег падал беспрестанно, пушистый, мягкий, и все глубоко укрывал. По утрам, на заре, снег розовел, и над сугробами, среди которых были погребены избы и мазанки кучумского куреня, черными столбами поднимался густой дым. Рубили ближнюю березовую рощу и жгли. Но тепло не спасало от голода. Опухли у многих лица, отекли ноги, из десен сочилась кровь. Не хотелось ни двигаться, ни шевелиться. Упасть бы на скамью и лежать, лежать…
Но Ермак не давал покоя ни казакам, ни стрельцам. Войдя в избу, где на полатях и нарах лежали вповолку люди, он сердито поводил носом и гнал всех в поле — работать, двигаться. Он весело кричал на всю горницу:
— А ну, браты, с кем на кулачках потягаться!
Лохматый стрелец спустил с полатей нечесанную голову и хмуро отозвался:
— Нажрался сам и потехи ищет!
Казак Ильин — худой, одни кости выдаются — скинул зипун, соскочил с лавки и сердито крикнул стрельцу:
— Ты гляди, кривая душа, не мути народ. Ермак — один тут! Строг — это правда, но ни твою, ни мою кроху не возьмет!
— А чего он быстрый, как живинка, всюду? — запротестовал стрелец.
— Духом крепок! Может, как дуб, разом хряснет, а не прогнется. За Ермака, гляди, душу вытряхну!
Стрелец изумленно, будто первые, разглядывал Ермака. Затем вдруг сбросил с полатей шубу и торопливо полез вниз:
— Добрый мужик, сам вижу! Не хочу гнить, веди, атаман, в поле!
Стих сиверко, тишина легла на землю, такая глубокая и торжественная, что каждый шорох далеко слышался. С трудом передвигая распухшие ноги, казаки вышли на вал. Мертвенно-бело кругом. На валу каркает ворона.
Казаки столпились на площадке вокруг Ермака.
— А ну, налетай! — озорно закричал Матвей Мещеряк и ударил атамана в бок. Ермак сброил полушубок, завернул рукава и с вызовом повернулся к бойцам:
— Давай, давай на кулачки! А ну!..
Стена на стену пошли с кулаками казаки. Ермак шел рядом, подзадоривал:
— Держись, донская вольница!
Мощный голос атамана поднял с ложа воеводу Болховского. Пошатываясь, он обрядился в лисью шубу и вышел на крылечко. Мороз перехватил дыхание.
«Ух, и человечина! Силен дух, — такого никакие беды не сломят!» — восхищенно подумал он, разглядывая Ермака, от которого валил пар. Ощерив крепкие белые зубы, кипнем сверкавшие в черной бороде, атаман плечом, как волной, растаскивал толпу и кричал:
— Давай, давай, сибирцы!
Неугасимый пламень горел в этом человеке, даже голод и все лишения были бессильны против него. Мало одной телесной мощи, чтобы в тяжкое время быть таким бодрым и звать других к жизни. Тут нужен великий дух.
Болховской склонил бледное отечное лицо с устало мерцавшими глазами. «Он будет жить, а я умру!» — с грустью о себе и с душевным теплом об атамане подумал он. Повернулся и ушел в избу. А позади него, подобно раскатам грома, раздался неудержимый хохот: Ильин, ловко извернувшись, так трахнул стрельца по могучей спине, что тот не удержался и ткнул носом в сугроб. Стрелец быстро поднялся и залился смехом, глядя на него, засмеялись и другие. Вместе со всеми хохотал, держась за бока, и сам батька Ермак.
А вокруг искерского холма попрежнему была мутная даль, белые снега и вздыбленные синие льды на Иртыше.
— Хватит на сегодня! — весело сказал Ермак, глядя на заснеженные избы, на дозорную башенку. — Песню, браты, да разудалую! — предложил он, и сам первый запел:
Эх ты, камень, камешек, Самоцветный, лазоревый…
Блестящими призывными глазами атаман смотрел на казаков, отцовская ласка светилась в них. Сотни голосов дружно подхватили и понесли песню:
Излежался камешек На крутой горе против солнышка…
Во все могучие легкие пел и казак Ильин, а сам думал: «А песня-то девичья, не казачья, отчего ж она душу так поднимает?».
Голодный мор вошел в Искер, валил людей. Смерть приходила без страданий. Слабел человек, опухал и уходил из жизни. Порезали конскую упряжь из сыромятных ремней, долго варили ее, навар выпили, а кожу сжевали. Драли с мерзлых деревьев кору, с поникшей под шапками снега ивы — лыко, сушили, толкли и варили горькую похлебку, от которой крутило и жгло внутренности. Редко-редко когда ели рыбу — с трудом ловилась она в прорубях. Да и народ обессилел спускаться и подниматься на яр.
А зима была в самом разгаре. Жгучий мороз сковал даже говор, умерла давно и песня. Волки стаями приближались к крепостному тыну, усаживались полукружьем и начинали выть, выматывая душу. Они чуяли мертвечину. В избах светились красные глазки — горела и чадила лучина. Время от времени от обожженного стержня отваливались угольки, падали и, шипя, затухали в бадейке с водой. Умирающие казаки и стрельцы бредили зелеными лугами и золотыми нивами. Бредили, а на утро находили их мертвые тела. Сумрачно, молча хоронили товарищей. Жгли костры, отогревали землю и рыли могилу.
В эту пору тихо и незаметно отошел князь Семен Дмитриевич Болховской. Обмыли его и обрядили в бархатную ферязь, расшитую жемчугом. Два дня его тело лежало перед образами, перед которыми больше не теплились лампады. Отец Савва заунывно распевал над ним псалмы.
Стрельцы провожали воеводу с печалью:
— Ушел от нас и кто теперь выведет из гибельного края?
Ермак не утерпел:
— Не гибельная землица Сибирь! Все тут есть для доброго человека. Но пока корни злые не дают доброму семени взойти: татары в степи разогнали, не дают им ни ясак нам платить, ни пищи в Искер везти. Пройдет это, отправимся!
С Болховским пришли в Сибирь стрелецкие головы Иван Глухов да Киреев. Они должны были после смерти боярина вести воеводские дела, но дел этих не было. Один за другим умирали ратные товарищи, и скоро не стало хватать сил рыть могилы, — мертвые тела уносили на вал. Днем над мертвечиной кружило с граем воронье, а ночью приходили волки и грызлись за человеческие кости. Поздно поднималась медно-красная луна и мертвенным светом освещала страшное кладбище. Дозорный казак на башенке дрожал от холода и с ужасом глядел в поле: звери в двух шагах от тына терзали его товарищей. Как-то он забрался в дозор с тугим луком. Снег отливал синевой, большие тени зверей двигались. Казак долго прицеливался и стрелой наповал убил волка. С трудом он отогнал злых хищников и втащил в городок зверя. Здесь волка освежевали и опустили в котел. Запахло распаренным мясом. Казаки с жадностью ели.
— Хорошо говядинка, — ухмыляясь, сказал соседу Ильин. — Гляди только, ночью на полатях не завой!
— Доброе мясо! — похвалил сосед.
На другой день, с наступлением сумерек, казаки вышли на облаву. Били волков стрелой, из пищалей, хотя зелья было мало и его берегли. Повеселели. Но звери ушли из Искера, а гоняться за ними по степи не было сил.
Истощавшие люди лежали вповалку и либо бредили, либо вспоминали прежнюю жизнь. И вся она, казалось, проходила в еде. Наперебой рассказывали, — один ел жареных лебедей, другой поросенка, третий набивал чрево блинами.
— Это все пустое, милые, — перебил один стрелец. — Я по три горшка каши съедал. На первое — греча! Разваренная, поджаренная, каждая крупинка маслицем, как слезинкой, подернулась. Ох, и до чего же, милые, вкусна! Смакуя, рассказчик закатил глаза.
— Перестань, пес! — закричали на него казаки, но стрелец не унялся и продолжал:
— На второе — каша пшенная с постным маслом и жареным луком. Эх, так пузу и гладит!..
— Уймись, дьявол! Уймись! — истошно закричал на полатях пушкарь Петро. — И без тебя тоска в брюхе…
Стрелец и ухом не повел. Огладил бороду, подмигнул лукавым глазом:
— Ну, тут, други, третье подползает — горшок с сарацинским пшеном, весь распаренный, промасленный! Ах, господи, какой дух идет. Беру ложку и…
— Убью, истязатель! — заревел пушкарь и замахнулся на стрельца. Корчась от голода, Петро повалился на скамью. — Ухх!..
— И мне худо, браты! — обронил Ильин, напялил рысью шапку и вышел из избы…
Перекосив лицо, на полати полез третий, и все его большое костлявое содрагалось от судорог.
— Растравил-то как! Ох, господи, — перекрестился поп Савва и икнул от спазмы в чреве…
Ермак, сколько мог, не давал людям залеживаться: по-прежнему гнал на мороз, на свет. Солнце все раньше выплывало из-за окаема, и под ним уже влажно лучился и искрился снег, но мороз не спадал.
— Гляди ж ты, солнце на лето, а зима на мороз! — примечал Ильин.
Яр к Иртышу был гол и потрескался от стужи. Подобно выстрелам, гулко лопались лесины и камни. На солнце люди казались восковыми, у многих на коже появились струпья.
Казак на дозорной башне в лунную ночь увидел, как через вал метнулся человек в чекмене и ножом отхватил кусок мерзлого тела. Караульный содрогнулся, стало не по себе. Он догадался: стали есть мертвечину…
Ермак ходил в панцыре и в шеломе. Двигался он прямо, но медленно. Лицо его было серым, резко выдавались скулы, в кучерявой бороде прибавилось седых волос.
После Сретенья дни стали яснее, морозы сдали, и пушкарю Петру удалось порядком наловить стерлядей.
— Погоди, браты, теперь умирать не пора! — радостно закричал он на всю войсковую избу. — Чую, весна идет. Переможем голодную хворь!
Наступил март, зазвучала капель. По утрам с крыш свисали ледяные сосульки и горели на солнце янтарем. В полдень изрядно пригревало. Все подолгу стояли в затишье и наслаждались первым теплом.
Смерть как бы в раздумье остановилась. Неделю не было умерших. В конце марта на припеке стал таять снег, побежали, запенились первые ручейки, а в овраге загомонила, ломая лед, Сибирка-река.
Днем на талые снега спускался густой туман, и дозорный, стоя на вышке, среди влажной мглы, чутко прислушивался: как бы татарские всадники, прознав про беду, не вломились в Искер!
На заре из ближнего леса, укрывшего восточные сопки, донеслось чуфырканье. Казак встрепенулся и замер, восхищенно вслушиваясь. Среди торжественного бедмолвия снова волнующе близко прозвучало: «Чуфы-ш-ш!..»
— Ах, боже мой… Ах, диво-дивное… Весна! — вслух подумал казак, и светлая радостная улыбка озарила его лицо. Ему живо представились большие темные птицы, которые грудью бились и валили одна другую на талую землю. Бились птицы смертным боем — клювами, крыльями, когтями. Кругом сыпались черные с синеватым отливом перья, и падали на снег яркие капли крови. — Теперь уж наверняка идет весна! — повторил дозорный и жадно вздохнул.
Казаки слушали этих вестников ранней весны и ликовали.
И еще большая радость неожиданно постучалась в крепостные ворота. Когда с осторожностью, на ранней заре, распахнули их, в город пронеслись вереницы нарт: вогулы и остяки, минуя враждебные татарские отряды, привезли мороженую рыбу и дичь, а за ними пробрались и татарские люди с вьюками, наполненными бараниной.
Мещеряк бережливо поделил запасы.
— Весна идет, а может и задержаться. Поскупиться надо! — по-хозяйски рассудил он.
В один из мартовских дней дозорный с вышки заметил подозрительное движение на почерневшей дороге. За холмами, перелесками, казалось, колыхалась темная широкая змея. Снег слепил глаза, ярко светило солнце, и в утреннем чистом воздухе ясно слышалось конское ржанье и рев верблюдов.
Казак ударил сполох.
— Идет! Карача идет! — закричал дозорный, и сразу все пришло в движение.
Двенадцатого марта войска Карачи плотным кольцом охватили Искер, от Иртыша до Сузгуна. Целый день скрипели груженые сани, ржали кони, ревели верблюды и доносилась перебранка татарских лучников, разъезжавших по дорогам и тропам. Задымились костры, клубы черного дыма тянулись по ветру и заволокли Искер.
Ермак поднялся на дозорную вышку и пристально оглядел лагерь врага. Его не испугала грозная орда, окружившая крепостцу.
— Что будем делать, батька? — дрогнувшим голом спросил сторожевой казак.
— Биться станем! Карачу погоним! Эва, как ноне по-весеннему ликует солнышко! — Помолодевшими глазами Ермак показал на осиянные просторы заиртышья. Там темнели проталины и над ними вились птичьи стайки.
Атаман не боялся за городок, — валы и тыны казаки обновили на славу. На башнях — пушчонки. На скатах косогора пометан «чеснок» — шестиногие колючки; невидимые, припорошенные снегом, они будут калечить людей и коней.
Еще раз обежав придирчивым взглядом оборону, Ермак спустился с вышки и пошел к пушкарям, калившим ядра. Атаман наклонился к медной «голубице», прицелился глазом, — ствол «покрывал» дорогу, на которой скопились тысячи лучников.
В эту пору в разных концах татарского лагеря вдруг забили барабаны и раздался пронзительный вой.
Держа тугие луки, лучники на скаку пустили стаи оперенных стрел и, стегая плетями коней, ошалело понеслись на Искер. С визгом летели над тыном стрелы, многие железным или костяным наконечником попадали в крепкое бревно, и от него отскакивали щепки. Одна из таких стрел насмерть пронзила пушкаря Петрушку. Он силился подняться, шептал побелевшими губами что-то невнятное, но глаза его быстро меркли. Вскоре Петро затих.
Ермак взял из рук павшего пушкаря пальник, на конце которого краснел огонек, и крикнул:
— Казаки, пищали готовь! Гости враз двинутся!
Ветер взметнул пламя костров, издалека виднелись жаркие жала огня. Пронзительно завизжали сопелки, и конная татарская лава, как серое полотнище, заколебалась, развертываясь на быстром скаку. Всадники неугомонно вертелись в седлах, крутили над головами саблями и выли. Из-под копыт коней летели снег и комья мерзлой земли.
— Бить ворога! — закричал рыжий рослый пушкарь и с пальником устремился вперед.
— Погоди! — поднял руку Ермак. — Не спеши, с толком бей. Подойдут, тогда и пахни жаром!
Конский топот все ближе и ближе. Все замерло в ожидании. Слышно, как под панцырем стучит сердце. Пушкари глаз не сводят с Ермака. «Когда же, когда? Вот, ироды, мятелью несутся! Как пурга воют!»
Из темноты конской лавы вырвались сильные кони, а отчаянные всадники еще больше нахлестывают их, ярят. На весеннем солнце беглыми молниями сверкают клинки. Уже видны оскаленные зубы конников, пар рвется из конских ноздрей…
— Ух, ты! — вскричал пушкарь: — Терпежу нет!
Ермак сжал зубы, не отозвался. Рука его крепче легла на рукоять меча.
Черная стая всадников рядом, и тут Ермак широко взмахнул мечом. Дружно рявкнули пушки, прозвучали стрелецкие пищали.
Скачущий впереди всех черногривый иноходец сразу встал на дыбы, завертелся и грузно ударился в снег, придавив всадника. На скате копошились покалеченные люди и кони. Вороной скакун силился одняться и мучительно ржал на все поле. Потеряв коней, многие татары, однако, продолжали двигаться вперед, стрельцы из бойниц в упор били в них.
Из-за дымных костров выкатилась и понеслась новая яростная волна конников.
— Огонь!
Снова покатное поле окуталось пороховым дымом, который смешался с горечью костров. И вторая волна захлебнулась, хлынула назад.
Раскинутый в снегу «чеснок» калечил коней и убегающих людей.
На перепутье дорог, на высоком коне, в седле, украшенном серебряными насечками, в зеленой бархатной шубе на лисьем меху, в окружении свиты, сидел тщедушный Карача. Он тянулся, выпячивал грудь, но от этого не становился величественнее. Лицо с кулачок, фигура, как у подростка, придавали ему беспомощный и жалкий вид. Но в узких глазах мурзы светился неугасимый злобный огонек. Этот маленький и слабый старик крепко держал в своей власти татарских всадников и окрестные улусы. Недаром про него сеид говорил: «Один Карача стоит тысячи быстрых джигитов!».
Но сейчас Караче не помогали ни ум, ни хитрость, ни безмерная наглость, — воины его не могли с налету взять Искер. Со стыдом и злостью они возвращались в лагерь, к кострам. Карача укоризненно молчал, и это было страшнее бича. Все знали, как он мстителен и коварен.
День угасал. Опять зажглись тысячи костров. На фоне зарева беспрерывно двигались караваны и проносились стремительные всадники. Взобравшись на дозорную башенку, Ермак долго оглядывал степь: большим полукружьем, плотной стеной вырастал воинский стан Карачи.
С этого вечера началась осада Искера. Татары к валу больше не подходили, но грозили издали:
— Поморем голодом!
Каждый день по дорогам к стану Карачи подъезжали все новые конники, вооруженные луками, копьями и арканами. Среди них были и всадники из далеких ногайских улусов — искатели легкой наживы. Карача во все концы рассылал стрелы с красным оперением, призывавшие на войну с русскими. Он отбирал самых красноречивых посыльщиков, которые могли не только передать стрелу, но и зажечь сердце пламенным словом. Они клятвенно уверяли татар: «Конец пришел неверным. Они закрыты в Искере и не уйти им оттуда. Их поразит наша стрела и голод. Идите, идите скорей к Искеру!».
В укрепленном городке было зловеще тихо, и с наступлением сумерек он погружался во мрак. Русские упорствовали и не сдавались. «Чем живы они?» — недоумевал Карача и досадовал, что откладывается час, когда он войдет в шатер хана Кучума. Чтобы уберечься от ядер и случайной стрелы, мурза отнес свою ставку в березовую рощу, на Саусканские высоты. Здесь под каменными плитами покоились ханы, их бесчисленные жены и знатные мурзаки, — это место было священно для всех знатных татар. И с него хорошо был виден умирающий Искер. Под молодыми березами поставили белые войлочные шатры, — в них поселились десять жен Карачи, сыновья и толстые, отъевшиеся мурзаки, которые до жгучей ненависти завидовали Караче. Молодые, стройнае сыновья мурзы по утрам выезжали с кречетами на охоту или в стан, где из тайного места подстерегали русских и били в них стрелой. Открытого боя они пугались.
Сам Карача, много лет служивший Кучуму, любил торжественные приемы. Вечером к нему в самый обширный шатер сходились мурзаки и рассаживались на коврах. Подобно хану, Карача сидел на возвышении, и два телохранителя огромного роста и свирепого вида оберегали его от злого ножа соперников. По его знаку слуги приносили серебряные тазы, в которых дымился хорошо пропаренный плов из жирной баранины; старичок любил хорошо поесть. Тонкими пергаментными перстами он брал из блюда горячий плов и жадно ел его. Скрестив ноги в мягких зеленых сапогах с заостренными носами, Карача косыми глазками зорко следил за мурзаками. После еды к нему обычно приводили старых мулл, приглашенных Кучумом из страны солнца — Бухары. Любил Карача похвастать перед ними своею ученостью. С муллами приходил и тощий высокий поэт, проживший много лет у повелителей восточных стран, а теперь подобранный Карачой на перепутье караванных дорог. Поэт развертывал истрепанный пожелтевший свиток и, надо отдать справедливость этому служителю высокого искусства, выразительно-волнующе читал стихи Низами. Закрыв влажные лисьи глазки, затаив дыхание, Карача с неподдельным упоением слушал звучные строфы. Сытые мурзаки в знак одобрения и благодарности за гостеприимство громко рыгали. Поэт укоризнено поглядывал на них.
После стихов муллы раскрывали толстый фолиант корана и читали мудрые изречения. Начинались толкования. Хитрый Карача любил речи не менее хитрого и льстивого муллы Исмаила, который витиевато и многозначительно пророчествовал перед мурзаками о том, что на древний улус Тайбуги воссядет некий мудрый хан из нового рода. Говоря об этом, он многозначительно глядел на кротко моргавшего Карачу, в глазах которого порою, загоралась и не могла укрыться от мурзаков радость…
После беседы с учеными мужами Карача отпускал приближенных и предавался отдыху в обществе молодых жен, взиравших, однако, на него, словно на паршивого козла. Самая молодая и красивая из них — Асафат, не скрываясь, насмешливо называла его: «Мой козлик…»
И Карача, на самом деле, ползал на четвереньках за разыгравшимися резвыми женами и жалобно блеял козленком. Они толкали, дразнили его — жалкого, тощего старичка с реденькой бородкой.
Ночи подошли теплые, шумные, полные гомона талых вод и овеваемые запахом набухших клейких почек. Снег сошел со степей, и берега Иртыша засинели, — скоро тронется лед. А в Искере доедали последнее. Смелые казаки спускались на животах с крутого яра к Иртышу и закидывали рыболовную снасть. Добыча радовала. Но однажды вражий дозор подстерег двух казаков; их схватили, мучили, а утром с валов казаки увидели своих братов повешенными высоко на жердях.
Ермак пытливо разглядывал каждого воина. Всюду он встречал честный взор и верность. Он вызвал Матвея Мещеряка и поручил ему еще тщательней вести хозяйство. Каждая кроха была на счету у атамана, и ее берегли. Все делили по-братски. Слабые и хворые лежали в большой и светлой избе, им отдавали последнее и отпаивали настоем хвои.
Татары наглели с каждым днем. Чуть не рядом с валами они раскладывали костры и варили конину. Соблазнительный запах горячего варева плыл к заплотам, дразнил казаков. Татары кричали:
— Эй, казак, открывай ворота, иди ешь махан. Веселей будет умирать!
— Я тебе, сучья голова, открою ворота! Поглядим, кто из нас умирать будет! — бодрясь, сердито откликался дозорный, а самого мутило от вкусных запахов.
Между тем на Иртыш пришла весна. Лед посинел, вздулся и с грохотом поломался. Три дня плыли льдины, налезая одна на другую. Вскоре могучие разливы освободились от льда, сразу потеплело и все кругом зазеленело. Искерский холм покрылся нежной зеленью. Солнце подолгу не сходило с неба, и казаки между собой толковали:
— Нельзя больше терпеть. Наши деды секирой рубились и дорогу добывали! А у нас мечи, пушчонки и умная башка — батько Ермак.
Разговор шел на валу и, стоя за пушкой, атаман слышал все, от слова до слова. Не таясь, он вышел и сказал с укоризной:
— Потерпите, браты! Нас мало. Навалятся скопом и порежут. Надо хитростью брать. В крепости мы, и в том наш верх!
Был полдень. Три татарина нагло подъехали к валу и сбросили в ров мешок.
— Это еще что за выдумка? — удивились казаки. Сделали «кошку», забросили ее на веревке вниз, уцепились за груз и выволокли. В лица пахнуло густым смардом. Предчувствуя нехорошее, Ильин развязал мешок и вытряхнул. Из него выпали изуродованные человеческие головы. Не брезгуя, Ермак поднял одну, присмотрелся, и жалость охватила сердце.
— Ивашка Рязанский! С осени за ясаком выбрался в дальний улус! Ух ты, что с человеком сделали! Погоди ж ты! — Ермак сжал крепкий кулак и погрозил в поле, по которому уносились татарские наездники.
Ильин расправил плечи, встал перед атаманом:
— Батько, веди нас в поле! Дозволь ратному человеку сложить голову в бою! Веди нас, батько! — с напористой страстностью заговорил казак. — Браты, нельзя боле терпеть татарского надругательства. Гляди, что сотворил с нашими людьми! — указал он на подброшенные казачьи останки…
— Гаврила, не обессудь, не по-твому будет! — прервал Ильина Ермак. — В таком деле нельзя жизнь терять зря. Одно хвалю — запал твой. Готовьтесь, браты, к неожиданному… А коли рубить придется, так со всего плеча…
Атаман поглубже надвинул шелом и твердым шагом пошел к войсковой избе. Глядя ему вслед, казаки подумали: «Задумал что-то батько! Ой, горячее дело задумал!».
Мурза Карача, как петух после удачи с курами, раскуражился. Пять казачьих голов, подброшенных к валам Искера, разожгли его, и он безмерно хвастался перед свитой. Обещал перехватать в городке всех атаманов и посадить их на кол, а с казаков и стрельцов грозил с живых содрать кожу и набить травой чучела. Всю жизнь проживший на плутнях и коварстве, он решил внести смуту среди русских. Его лучшие лучники пускали в Искер стрелы с привязанными к ним грамотками. В них взывал он к простым казакам повязать и выдать своих атаманов и воеводу, а за это сулил разные прелести: и сытно накормить и каждому дать по татарке.
— Погоди, собака, завоешь, когда самого на кол посадим! — грозились казаки.
На Саусканских высотах тоже шумела весна. Она давала о себе знать и шелестом листьев, и неугомонным птичьим щебетом, и звучанием ручьев. Молодые жены Карачи еще пуще тормошили своего старичка:
— Козлик, наш беленкий козлик, когда же ты приведешь сюда урусов?
Карача жил безмятежно, в полной уверенности, что осажденные не уйдут из Искера. Придет время, и они распахнут перед татарскими всадниками ворота крепости.
Не знал он, что иное решил Ермак — дерзновенное и смелое! Настал час в последний раз поднять силу воинства. Не одну ночь сидел Ермак у тусклого светца вместе с Матвеем Мещеряком и сообща обдумывал замысел борьбы с ордой.
— Батько! Верь мне, дойду туда, где русская душа не бывала, и сыщу врага! — не сводя с атамана глаз, горячо шептал Мещеряк.
Атаман сидел без кольчуги, грудь его дышала ровно. Он неторопливо огладил бороду, — любимый жест его, — и сказал в ответ:
— Верю, Матвей, что проведешь наших. Один ты у меня остался из советников-другов, и вся любовь к тебе. Послушай, как мыслю я: тут главное — дерзость и напор. Без страха надо идти!
Оба они склонились над огоньком и долго с жаром обсуждали решение.
В середине июня выпала особенно темная ночка; небо с вечера заволокли густые тучи, и шел теплый дождик. Ермак отобрал самых сильных, и проворных казаков и стрельцов и сказал им:
— На вас вся надежда, браты. Ведет вас Матвей, и слово его — мое слово. Кто боится, сейчас отходи, карать не буду за прямоту! С богом и верой в себя, браты!
Никто не вышел из рядов — ни один казак, ни один стрелец. Смотрели прямо в глаза Ермаку, и взгляд каждого горел, как светлая звезда.
Остались в Искере Ермак и горсть самых слабых казаков. Ветер шатал этих людей — так ослабели они телом, но дух у них был крепкий.
— Не печалься, батько, не выдадим! Отстоим!..
От вешнего дождя вздулась Сибирка-река, шумит, кружит. Стучит частый дождь. Как ящерки, по одиночке перебрались казаки во мраке через мокрый тын, проползли вал и очутились в темном широком поле. Рядом глазами чудовищ светились погасающие костры; свернувшись, подобно псам, татары спали под намокшими халатами и палатками. Ветерок доносил запах горелого кизяка. В стороне, у белеющего шатра, бодрствующий лучник вполголоса распевал заунывную песню.
Впереди заржала кобылица. Мещеряк насторожился, шепнул:
— На дороге дозор. В овраг, браты…
Уползли в размытую падь, поросшую густым кустарником. Мокрые, усталые передохнули, прислушались. В татарском стане тишина.
«Эх, теперь бы ста три донцов!» — мечтательно подумал атаман. — Пошли, отчаянные! — шепнул он.
Выбрались из овражины. Ночь будто еще темнее стала, придавила землю, обильно поливая ее дождем. Костры подернулись пеплом, погасли. Сон крепко овладел татарами. Только старательный пес брехал где-то у коновязей.
Вот и Саусканский холм! Затаенно шумит березовая роща. В большой юрте свет, звучит бубен и, как ручеек, льется нежная песенка…
«Тут и Карача!» — облегченно вздохнул Мещеряк. — Браты, последний роздых, и в сечу!
Казаки сели спиной к могильному холму. Молчали. Долго глядели в сторону Искера, где тускло светились и мигали редкие огоньки. На душе от них уверенней, веселей.
— Ермаку не спится. Думает о нас! — тихо вымолвил Илтин. — Вот нагляделся на этот красный глазок и будто с батькой поговорил. Эх! — он потянулся так, что хрустнули кости.
— Ну и силен ты, казак! — похвалил Мещеряк.
— Был силен, а теперь один дух. Ну, да и я хвачу. Ух, и хвачу! Дозволь, атаман, мне старичка…
— Возмешь, твой!.. Ну! — построжав вдруг, шепнул Мещеряк. — За мечи! Никому спуску! Быстро, разз! — он выхватил меч из ножен и побежал к шатрам. За ним — отряд. Внезапно, как лихой вихрь, налетели казаки на дремавшую у шатров стражу и перекололи с хода. Ворвались в шатер. Посреди, у мангала, дремлют двое в пестрых халатах, крепкие, сильные, смуглые лица в черных курчавых бородках. При шуме оба раскрыли глаза, схватились за клинки. Но опоздали…
Мещеряк опознал убитых и с омерзением столкнул головы с пестрого ковра к мангалу:
— То сынки Карачи! Любо, браты, мчись дале!..
Он выбежал из юрты. В покинутом шатре от раскаленного мангала стала тлеть курчавая бородка зарубленного, — запахло гарью…
Казак Ильин ворвался в шатер Карачи. Пылали жирники, освещая пестрые перины. Синие языки трепетали на медном мангале, у которого сидели три тонкие чернобровые красавицы в розовых шальварах.
Позади них, вскинув реденькую бороденку, храпел старичок в одних портках. Заслышав шум, он раскрыл глаза. При виде вбежавших казаков зрачки Карачи расширились от ужаса. Он рванулся и на коленях пополз в дальний угол.
— Козлик, ты куда? — томно спросила, не разглядев еще казаков, одна из красавиц.
Карача не отозвался, старательно подползая под войлок шатра. Набежавший Ильин схватил его за ногу и вытащил на ковер:
— Эй, кикимора! Скажи, присуха, где тут Карача?
Старичок согнулся и жарко, быстро заговорил:
— Он тут! Он здесь… Третий юрта. Это его женки. Я бедный евнух. О, аллах, истинно говорю я!
Казак толкнул мурзу ногой и, не глядя на красавиц выбежал из юрты.
Карача не дремал: плешивый и скользкий, он, как угорь, юркнул под войлок и был таков. Через минуты за юртой раздался конский топот. Круглолицая, с толстыми иссиня-черными косами, татарка приподняла пухлую губу с темным пушком и равнодушно процедила:
— А наш козлик ускакал…
Мещеряк, обозленный за страшную зиму, не щадил никого. Один за другим, так и не очнувшись, залились кровью мурзаки. От криков проснулся поэт и схватил свиток. Увидя огромного казака, он протянул руки и возопил:
— О, победитель, я прочту тебе стихи!
— Пошел прочь, дурень! — оттолкнул его казак. — И без тебя споем лихое, коли понадобится потешить душу!
Много врагов положили браты Ермака. Мстили и приговаривали:
— За Иванку Кольцо!
— За Пана!
Уцелевшие татары бежали к обозу, но Мещеряк отрезал им дорогу к коням. Казаки оградились телегами и били оттуда из пищалей.
Наступало свежее июньское утро, взошло солнце, и алмазами засверкала крупная роса, перемежаясь с яркими рубинами крови.
Беглецы с Саусканского холма примчали в осадный табор и истошным криком разбудили татар:
— Казаки, казаки добрались до шатра Карачи! Ах, горе нашим головам!..
Ермак всю ночь стоял на дозорной башне. Ждал он всем сердцем, всей душой ждал воинской радости. Завидя суету и переполох во вражьем стане, он снял шлем, вгляделся еще раз в Саусканские высоты, перекрестился и сказал:
— Мещеряк оправдал надежду нашу! Браты! Настал наш час! И нам надо идти!..
Татары остервенело пытались выбить казаков из-за обоза. Они толпами кидались на заграждение, стремясь смешать его с землей, но казаки и стрельцы били из пищалей без промаха. Груды трупов и копошащихся у телег еще живых людей и коней не давали развернуться татарской орде. Напрасно лучники осыпали стрелами, — казаки стояли упорно и зло огрызались.
Солнце поднималось все выше, в низинах растаяли сизые туманы. Татарские кони устали; взмыленные, изнуренные, они сами сворачивались в кусты. Татар мучила жажда, но еще мучительнее была мысль: «А что, если Ермак выйдет сейчас со своим войском из Искера?».
И Ермак вывел на широкий холм своих братов. Худые, серые, они еле держались на ногах, но сейчас же пошли на орду.
Завидя позади себя идущие сомкнутым строем стрелецкие и казацкие дружины, татары завопили:
— Идет он! Идет сам Ермак…
Татарская конница кинулась на дорогу, убегающую к востоку, и исчезла в синем мареве. За ней поспешили и пешие лучники. Не знали они, что в эту самую пору у казаков Мещерекя окончился порох. Великий страх напал на татар, бросая все, они бежали кто куда.
Ермаку подвели плененного коня, он вскочил на него и погнал вперед. Почуяв опытного всадника, скакун сразу покорился и, заржав на все поле, понес его вслед за ордой.
4
Войска Карачи в неописуемом страхе побежали из-под Искера. Татары яростно дрались друг с другом из-за коней, рубились и резались короткими кривыми ножами. Вой и крики разносились по лагерю. Объятые ужасом, беглецы теснились на перевозах, опрокидывали обозы и заодно грабили добро Карачи. Кто-то в исступлении закричал отступающм:
— Нас обошли… Русские сейчас нападут, русские!..
Как грозный вал бурливого моря, паника захлестнула всех — и конных и пеших. С мыслью только об одном — спасти себе жизнь любой ценой — побежденные, гонимые животным страхом, стремились обогнать друг друга, готовые снести любому голову, если он помешает их дикому бегу. Земля дрожала от топота ног. Ржали покалеченные кони, ревели верблюды, выплевывая комья желтопенной слюны. Между горбами одного из них сплелись в объятиях одетые в пестрые халаты три молодые наложницы Карачи. Охваченные общим безумием, они истошно кричали. У ног высокого белого верблюда лежал заколотый караванбаши, — подле него валялся в грязи изодранный, истоптанный шелк паланкина. Четверо татар, в вывернутых шерстью вверх коротких шубах, старались взобраться на животное и пуститься на нем в бега. Крупный, с круглым жирным лицом ордынец сердито бил верблюда по коленкам и кричал:
— Чок! Чок!
Но двугорбый белый сильный иноходец с презрительной гримасой глядел на человека.
Казаки мощным потоком гнались на быстрых конях за ордой. Изголодавшиеся, узнавшие коварство татар, они не сдерживали «жесточь», овлдевшую их сердцами.
Впереди на могучем вороном коне, сильными поскоками уносившем всадника, летел Ермак. Он мчал, сбросив с головы шелом, ветер играл его кудрями. Под весенним солнцем жаркими искрами сверкала золотая кольчуга. Сильным размашистым движением он поднимал меч и разил отступающих.
— За Иванко Кольцо! За Пана! За Михайлова! — оглашал он бранное поле. От бега и крови еще сильнее горячился боевой конь.
— За погубленных Карачой! — Ермак с силой опускал на головы и плечи татар свой тяжкий, бивший насмерть меч.
Истоптанное поле, лесные дороги и буераки покрылись стыльными телами. В оврагах и ручьях гомонили талые воды, и многие из татар не выбрались из них, потонули.
Матвей Мещеряк нагнал атамана:
— Поберигись, батька, мы сами угомоним их!
Ермак, торжествуя, сверкнул зубами.
— Будет беречься! — жарко отозвался он. — Насиделись за зиму. Теперь и душу отвести!
Развеяны полчища Карачи. Оставив жен и наложниц, бежал куда глаза глядят хитрый мурза. Но казаки не успокоились, несмотря на то, что надвигалась ночь. Ермак позвал Мещеряка и, любовно оглядывая его невысокую, но крепко сбитую фигуру, твердо сказал:
— Куй железо, пока горячо! Добивай врага, казак, пока лютый зверь не опомнился. Надо докончить разгром!
От могучей фигуры атамана веяло решительностью и силой. Легко и ловко вскочил он в седло и махнул рукой:
— К Вагаю!
Донесли Ермаку верные люди, что мурза Бегиш раскинул стан на высоком берегу Тобоз-куль, которое тянулось вдоль Иртыша выше Вагая.
Возведенный городок окружали глубокий ров и вал, увенчанный тыном. К мурзе набежали разгромленные толпы Карачи — думали тут отсидеться от беды. Но Ермак решил иначе — не дать врагу передышки:
— Надо и Бегиша разбить! И… прямо с хода на тыны! Некогда нам сидеть у костров и ждать, когда татары от голода передохнут.
Не ждал мурза Бегиш такой решимости. Он много раз поднимался на дозорную вышку, всякий раз надеясь, что казаки не посмеют сунуться в огонь.
Лучшие лучники стояли за спиной мурзы, ожидая его повелений. На помосты навалили груды камней, готовых к падению на головы казаков. На площадках у мазанок кипела смола в котлах, сотни всадников — лихих ногаев теснились в укрытиях, чтобы в решающий час вырваться в поле…
Казаки, как вихрь, налетели ранней зарей на городок. Еще розовые отблески зари не погасли на тихой глади озерных вод, как затрубили трубы, забили литавры, загудели сопелки и бородатые упрямые казаки кинулись с топорами на тыны. Их осыпали камнями, обливали кипящим варом, — они лезли напролом, потрясая своим могучим криком робкие, неустойчивые души защитников. Бегиш дал знак, и лучники, проявляя проворство и меткость, старались оградить татарское пристанище тучами стрел. Но широкогрудые, бородатые, орущие во всю глотку казаки беспощадно сокрушали все на пути. Тяжелыми топорами рубили они смолистое остроколье в заплоте и все, что попадалось на пути. Впереди всех на коне бился осанистый, с гневным лицом казак. И, как пчелы возле матки, вокруг него гудели и бились насмерть его воины. Они смотрели на вождя и понимали каждое движение, каждый взмах его руки.
— Ермак! Ермак-батька тут!..
Услышав это грозное слово, Бегиш задрожал. Он, как и многие мурзы, боялся отважного русского вождя. При имени Ермака смешались лучники — полет их стрел стал беспорядочным. Смутились и конники: они в одиночку начали просачиваться к озеру и уходить в камыши.
«Горе моей голове! Ермак тут!» — с суеверным страхом подумал Бегиш и в последнем, отчаянном порыве взывал к татарам:
— Бейте их! Рубите!..
Но сразу смолк, осекся. Лицом к лицу он встретился с всадником на вороном коне. Бегиш свалился на землю, упал у копыт ермакова коня.
Ермак сдвинул черные брови, глубокая морщина легла на переносье. Жгучую ненависть и приговор свой прочел мурза в потемневших глазах казака и в ужасе закрыл глаза…
Бурным потоком казаки ворвались в городок. Они опрокинули кипящие котлы, разметали помосты с камнями и пустили гулять красного петуха. Пламень и густой дым поднялись к прозрачному весеннему небу.
Переступая обгорелые бревна, пробираясь через едкий дым, вороной конь нес Ермака все вперед. Крики и шум битвы стихали, переулки стали пустынны, — в глинобитных убежищах укрылись жители и кое-кто из воинов.
Ермака нагнал Мещеряк.
— Ты как тень! — недовольно сказал атаман, — хранишь меня словно красу-девицу!
— Эх, батька, сколько потеряли мы. Один ты, — наша сила! Ноне прошу тебя от всего казачества — отдай нам городок!
— Бог с вами! — согласился Ермак. — Только помни, Матвейко, ни женок, ни детей не забижать!
Солнце высоко стояло над Иртышом. Растекались и таяли в теплом воздухе последние струйки дыма. То, что не доделала казачья сабля, уничтожил огонь…
Ветер налетал с озера, поднял пепел и понес его вдоль дороги. Серая и мелкая пыль проникала всюду, укрывая все, что осталось еще живым.
Казаки оставили пепелище и двинулись дальше.
Ермак привык к открытому бою и не мог простить врагу, что тот коварно сгубил его лучших людей. Время шло, а он все вспоминал Иванко Кольцо:
— Брат мой любимый, верный воин!
В поход по Иртышу двинулись казаки. Они прошли и взяли городки Шамшинский, Рянчинский, Залу, Каурдак, Сарган… Из последних селений татары скрылись в тайгу.
Из Саургана Ермак пошел в Тебенду. Душа его не находила покоя: «До тла надо выжечь вражеский корень!». Он двигался быстро, неутомимо, и вот блеснули воды реки, а на берегу темнела Тебенда.
Передовые вернулись и поведали Ермаку:
— Князек Елегай с мурзами вышел с поклоном и дарами — мягкой рухлядью. Он просит мира и признает Русь…
За много дней первый раз Ермак просиял. Загорелое, обветренное лицо его разгладилось. Он велел разбить шатер, вошел в него и наказал привести князьца Елегая.
Тихой, крадущейся походкой за полог вступил старик с редкой бороденкой и вороватыми глазами. Он приблизился к Ермаку, склонив низко голову и ведя за руку черноглазую девушку. В голубых шальварах, бархатных туфельках, круглой шапочке, расшитой золотом, она походила на плясунью из ханского гарема. Ермак с любопытством взглянул на красавицу, — чистотой и девичьей робостью веяло от взгляда молодой татарки.
— Зачем ты привел ее сюда? — нахмурившись, спросил атаман.
— Дочь, — тихо промолвил князец, и лукавая улыбка заиграла на его худом лице. — Джамиль! Сам Кучум сватал за своего сына… Прими ее…
Не успел атаман опомниться, как снова распахнулся полог шатра и слуги Елегая внесли тугие мешки и стали извлекать из них пестрые шелковые халаты, чернобурых лисиц, белок, горностаюшек. Князец нежно гладил мягкий серебристый мех и хвалил:
— Хорошо, для нее берег. Бери, все бери…
В глазах Ермака рябило от цветных шелков. Он встал и сердито сказал старику:
— За что даешь?
— Все, все бери! — шептал льстиво старик. — Ты самый великий богатырь на земле. Только оставь меня княжить тут.
Потные, обветренные атаманы толпились в шатре, пялили голодные глаза на тонкую и нежную девушку. И каждый из них ждал, что скажет батька.
Ермак поднял голову, в упор посмотрел на Елегая:
— И за княжение ты отдаешь дочь свою на поругание! Стыдись, старик!
Девушка стояла перед атаманом, покорно уронив руки, поникнув головой. Две толстые косы ее, чуть дрожа, лежали на маленькой крепкой груди.
Льстивая улыбка снова появилась на морщинистом лице Елегая:
— Ты осчастливишь меня, взяв ее в наложницы…
— Оставь пустое. Казаку не до любовных утех! — сурово ответил Ермак, но сейчас же смягчился, переведя пытливый взор на девушку.
Он взял ее за круглый подбородок, бережно поднял закрасневшееся лицо и заглянул в большие испуганные глаза.
— Хороша дочка! — ласково похвалил он. — И очи светлы, как чистый родник. Живи и радуйся! — Он по-отцовски нежно погладил голову девушки. — Иди с богом, милая… А вы, — оборотясь к казакам, сказал он, — чего ощерились? Помните мое слово: никто не посмей осквернить ее! Коли кто опоганит, пеняй на себя!
Могучий и широкий, он, словно дуб рядом с тонкой камышинкой, стоял перед девушкой.
Татарка не понимала его слов, но по лицу Ермака догадалась: хоть и суров он, но добр и безмерно милостлив. Две горячие слезинки выкатилчись из ее глаз. Склонив голову, она торопливо ушла из шатра, оставив после себя светлое теплое чувство на душе атамана. Внезапно взор Ермака упал на князьца:
— Ты, старый ерник, что удумал? Ради выгоды своей готов родное дитя обесчестить? Пошел прочь! — гаркнул он на Елегая. Почуяв угрозу, князек сжался весь и в страхе, еле двигая онемелыми ногами, убрался из шатра.
Казаки мирно ушли из Тебенды, ничего не взяв и никого не тронув. Улусные татарки и старики вышли провожать их и низко кланялись воинам.
Одно слово они знали и на разные лады повторяли его, вкладывая и благодарность и ласку:
— Ермак… Ермак…
Казаки дошли до реки Тары и тут неподалеку, в урочище Шиштамак, разбили свой стан. После тяжелого похода гудели ноги, тело просило отдыха. Июнь выпал сухой, знойный. Безоблачное белесое небо казалось раскаленным от солнца, кругом расстилалась безбрежная сожженная степь с редкими разбросанными бугорками — сусличьими норами. Грызуны издавали тихий свист и, приподнявшись на задние лапки, зорко следили за человеком. Травы, серые и скудные, жались к каменистой земле, но ими только и жили овечьи отары, жадно поедая похожую на пепел растительность. По равнине темнели приземистые юрты, из которых вился жидкий дымок. Ветер приносил к казачьему становищу запах сожженного кизяка. В унылой степи кочевали туралинцы. Казаки заглянули к ним и поразились нищете и убогости. Завидев пришельцев, степняки пали на колени и жалобно просили:
— Последние овцы… Отнимут, тогда смерть нам…
Туралинцы были запуганы и беззащитны: всадники Кучума нападали на их кочевья, жгли убогие юрты и угоняли скот.
— Как дальше жить? — пожаловался казаку высокий сухой старик с умными глазами: — Я много ходил по степи, но такого горя не видел. Берут джунгарцы, требуют ногайцы, отнимет Кучум, и все, кто скачет с мечом и арканом по степи, грозят смертью. Идет голод…
Руки старика дрожали. Он продолжал:
— Откуда взять ясак мурзам и князьям? Кто защитит нас и обережет от разбоя наши стада?
— Идите к Ермаку, и он будет вашей защитой! — сказал казак.
На другой день туралинцы пришли к шатру Ермака. Молча и бережно они выложили на сухой земле свои скудные дары: лошадиные кожи, пахнувшие дымом серый сыр, шкурки желтых степных лисиц и овечью шерсть.
Ермак вышел из шатра. Степняки покорно опустились перед ним на колени.
— Встаньте! — приказал он: — Я не мурза, не князь и не аллах, я посланец Руси, и вы говорите со мной, как равные с равным.
— Ермак, батырь, — обратился к атаману старик. — Прими наш дар…
— Я не хочу обидеть вас, но вашего дара не приму, — ответил Ермак. — Вы бедны и немощны. Вам надо оправиться от разорения. Властью, данной мне Русью, я освобождаю вас от ясака. Вы платили его мурзам и князьям, и они не оберегали стада ваши. Теперь они не посмеют брать у вас ясак. Так говорю вам я — посланец Руси…
Он возвратил степнякам дары и не тронул их овечьих отар…
Подошел пыльный, жгучий август. Пора было возвращаться в Сибирь-городок. К этому времени обычно из Бухары приходили торговые караваны и начиналась ярмарка. Казачьи струги повернули вниз по течению. Ермак торопил. Томила жара. Вечером багровое солнце раскаленным ядром падало за окаем, быстро наползали сумерки, но спасительная прохлада не наступала. В темные душные ночи на горизонте пылали зарницы, иногда поднимался ветер, подхватывал тучи пыли. Приходила страшная сухая гроза, от которой перехватывало дыхание и учащенно билось сердце. Казаки часто поглядывали на бегающие над горизонтом зарницы, тяжко вздыхали:
— Дождя бы…
Но дожди не приходили. От зноя потрескалась земля, размякла и стекала смола по стругам, обмелели реки…
Ладьи подходили к устью Вагая. На яр выехал всадник в полосатом халате, пыльный и смуглый; он ловко осадил коня. Привстав на стременах и размахивая белой бараньей шапкой, закричал по-бухарски.
Головной струг подплыл к берегу. Ермак спросил через толмача-татарина:
— Чего хочет он?
Толмач пристально вгляделся в джигита и перевел вопрос атамана.
Улыбаясь, блестя зубами, бухарец говорил долго и страстно. В переводе его речь значила:
«Рус, в Искер торопится большой караван. Купцы из Бухары доставят оружие, шелк, ковры и конское убранство. Карамбаши ведет караван старой дорогой, вдоль Вагая, но хан Кучум преградил путь, — он не допускает купцов торговать с русскими. А может и ограбить караван!»
Пока толмач медленно передавал речь всадника, тот кланялся Ермаку, бил себя в грудь и повторял свое:
— Скорей, скорей…
Ермак приказал оттолкнуть ладью от берега, задумался.
«Вагай! Тут легли костьми самые близкие браты-атаманы, а с ними сложил голову и Иванко Кольцо! — с внезапной тоской вспомнил атаман, и подозрение закралось в душу. — Не думают ли и меня заманить?» — он посмотрел на толмача и сказал раздельно:
— Передай бухарцу, если подослан врагами моими и обманет, не сносить ему головы!
Струги свернули на Вагай. Казаки дружно налегли на весла. Берег тянулся пустынный, унылый. Ермак сидел, опустив голову. Сердце щемило непонятное беспокойство. Заметив, как внезапно исчез бухарец среди высокого тальника, он встревоженно подумал: «Что же он? Ему бы и проводить нас до каравана!».
Сидевший на корме Ильин подмигнул казакам и предложил:
— Споем, браты!
Не ожидая ответа, завел грудным ласкающим голосом:
До Кучума я за Русь Непременно доберусь. Ему голову набрею, И взашей как накладу, Ай дуду-дуду-дуду!..
— Иванко Кольцо придумал ту песню! — обрадовался Ермак. — Пой ее, громче пой, браты!
Гремели уключины, мимо медленно проходили берега, и невозмутимая тишь колдовала над степью и рекой. Солнце клонилось к западу. Зеркальным стал быстрый Вагай. В тишине с плеском выскакивала из глуби рыба, играла, ударяясь о воды, дробя их.
Струги плыли всю ночь, а на утро восходящее солнце осветило ту же однообразную пустыню. Ермак не сомкнул глаз, — не виднелось каравана, не слышалось бубенцов, окрика карамбаши.
«Где же бухарцы? И куда девался вестник?» — со смутной тревогой думал Ермак.
Молчаливые казаки гребли изо всех сил. Много троп осталось позади, немало кудрявых перелесков минуло. На песчаную косу вдруг выбежал поджарый степной волк и завыл протяжно.
— У-у, проклятый! — закричали на зверя казаки, и тот, поджав хвост, скрылся в тальнике. Течение Вагая быстро, к вечеру показался продолговатый бугор Атбаш — по-русски «лошадиная голова». На бугре было пусто. Только одинокий старик-татарин рыбачил у берега. Его окрикнули. Рыбак охотно отозвался:
— Слух был, что караван идет, а где он, — никто не видел.
Ермак понял: его обманули. С тяжелой душой казаки повернули струги вниз по течению. «В который раз сказывается вероломство!» — невольно подумал каждый из них.
Никто не знал, что хан Кучум шел степью рядом со стругом Ермака. Он, как рысь, скрытно пробирался берегом. Ждал своего часа…
Вот снова устье Вагая, пенится река, — шумный Иртыш встречает ее. С Алтайских гор сливаются в него воды, бурлят, бьются о камень, и только здесь, в степи, на время успокаивается река и описывает немерянную плавную дугу, концы которой сходятся. В давние времена тут проходили могучие народы и, чтобы сократить путь ладей, прорыли перекоп. Вот он! Ветер протяжно шумит в кустах, он гонит, как отары серых овец, низкие, скучные тучи. Небо постепенно укрылось серым пологом. На землю опускалась душная безмолвная ночь. Казаки притомились, руки горели огнем, жалобно поскрипывали уключины. Ни шороха, все замерло.
— Быть грозе! — поглядывая на небо, сказал Ермак. — К берегу, браты!
Струги вошли в протоку, уткнулись в берег. Усталость валила с ног. Островок был пуст. Ермак зорко вглядывался в тьму, но ничего подозрительного не заметил. «Надо бы костры разложить, дозоры выставить» — подумал он. Он не выставил — положил голову на мешок с рухлядью и сейчас же крепко уснул. Не слышал он, как от страшного грохота раскололось черное небо, и зигзагом ослепительно сверкнула молния. Не слышал и не видел, как из заиртышья вырвался буйный, шалый ветер, как затрещал и застонал лес и как крутые волны бросились на берег, яростно ударяясь в него и отступая вспять. Молнии поминутно полосовали небо, издалека нарастал глухой мерный шум.
Казак Ильин прислушался и сказал:
— Идет гроза. Торопись, браты, с шалашами…
Первые тяжелые капли застучали по листьям, и хлынул ливень. И словно разом все смыл, — забылась опасность. Свалились казаки на что попало, кому где пришлось. Будто отправдываясь перед собой, щербатый, с проседью, какзак прогудел:
— Не шутка, третью ночь не смыкаем глаз… Силы-то не воловьи. Эхх!.. — он сладко потянулся, упал лицом на отсыревший войлок и сразу захрапел…
Бушует Иртыш. Черные вспененные волны кидаются на обрывистый берег, на легкие струги, рвут их с прикола. Кромешная тьма навалилась на землю, зашумели небесные хляби. Черная бездна озарялась частыми молниями. Раскатисто гремел гром, от которого содрагалась земля и небо. Но крепко спали измученные казаки.
Бодрствовали лишь одни враги. Волчьей стаей крались татары Кучума по следу Ермака. В грозу-молнию сидел хан под старым кедром и радовался. Кажется, пришел час расплаты со страшным врагом. Кругом — ни зги, черное, непроглядное небо, а в душе хана пылает огонь, согревает его дряхлое тело. Ждет хан своего посланца, которому повелел добраться до острова. Тайным бродом татарин бесшумно перебирался через протоку. В одной руке — кривая короткая сабля, в другой — пучок камыша. При ослепительном сиянии молний он укрывал им сожженное степным солнцем смуглое лицо и волчий блеск в глазах. Татарин прислушался. В казачьем стане — мертвая тишина, нет обычных костров. Вот и берег! Посланец Кучума нырнул в кусты и пополз…
Кучум терпеливо ждал. Он много раз звал сына Алея и все спрашивал:
— Готовы ли кони? Остры ли сабли?
Одежда старого хана насквозь мокра, мутные капли дождя струятся по его лицу, изборожденному морщинами, но он сидит злым беркутом, сомкнув незрячие глаза.
Томительно тянется время, но хан терпелив. Вместе с ударом раскатистого грома из тьмы выскользнул посланец и пал перед Кучумом на колени.
— Это ты, Селим? — спросил хан. — Какую весть ты принес мне?
— Они спят, и нет стражи. Великий хан, они не слышат беды.
Кучум подозрительно спросил:
— А ты не лжешь? Какое доказательство принес ты?
Татарин растерянно осклабился, приложил руки к сердцу:
— Верь мне, повелитель наш!
Кучум оживился, поднял руку:
— Пойди еще раз и принеси их оружие, тогда я поверю тебе! Пойди!..
Позади хана стояли два ногайца. Они, как псы, стерегли старика. У каждого за толстым намокшим поясом кривой нож. Угадывая страх посланца, Кучум зло улыбнулся:
— Если обманешь, они зарежут тебя, как барана.
Снова ловкий татарин провалился в темь. Неумолкаемо продолжала шуметь гроза: гремел гром, блистали молнии, лились потоки дождя. Татарин змеей пробрался в казачий стан. Вот под густой елью, в шалаше, лежат, распластавшись, три богатыря. Их тела переплелись в тесноте, густые бороды влажны, рты раскрыты, и дремучий храп сливается с плеском воды. Неслышно скользят руки татарина. «Аллах, как сильна и широка грудь русского! Могучий и беззаботный народ!» — подумал лазутчик и нашарил пищали и лядунки.
Он быстро вернулся к хану и выложил перед ним три пишали и три лядунки. Подвижными чуткими пальцами Кучум ощупал их.
— Коня! — отрывисто сказал он, и ему подвели высокого поджарого жеребца. Хан поднялся в седло и до хруста сжал плеть. — Никто из них не должен уйти живым!
Селим пал на колени и завопил:
— А что будет со мною, хан?
— Тебя я думал удушить, а теперь веди нас, как воин! — милостиво ответил Кучум.
К броду кинулись всадники. Кони послушно пошли наперерез волне.
— Алей, сын мой, ты здесь? — еле слышно спросил хан.
— Я вместе с тобой, отец, — отозвался молодой голос.
— Ермака живым мне! Так угодно аллаху! — сказал Кучум и натянул удила…
Он сидел на коне в стороне от стана; с высокой развесистой лиственницы на его лицо тяжело падали капли. Хан слышал шум, крики и стоны, и только крепче сжимал плеть.
«Теперь ты не уйдешь! — злорадно думал он. — Я каждую кровинку и жилочку в твоем тел заставлю страдать!»
Нет, это не битва, не схватка богатырей! Люди Кучума кололи сонных, рубили казачьи головы. Рев бури и шум ливня заглушали хрипенье зарезанных. Вскочив, спросонья, казаки хватались за пищали, но было поздно: острый клыч клал насмерть, обогряя берег Иртыша русской кровью.
Ермак все же пробудился от шума; схватившись за меч, без шелома, с развевающимися волосами, он бросился к Иртышу.
— За мной, браты! К стругам! — загремел его голос.
В длинном панцыре, битом в пять колец, со златыми орлами на груди и меж лопаток, он, наклонив голову, пошел вперед, размахивая тяжелым мечом. Как сильный умелец-дровосек, он клал гамертво татар, прорубая дорогу к Иртышу.
— Ермак! Ермак! — кричали в смятении татары. Алей набежал сзади и дважды ударил атамана ножом в спину. Но могучий воин не шатнулся, осилил удары.
— Браты! — звал он за собой соратников. — Сюда, браты!
Никто не отозвался на его зов. Полегли костьми казаки. Недорезанных душили татары. В последнем смертном объятии сплетались враги, давили друг друга, грызлись зубами. Высокий и плотный, как кряж, казак Охменя схватил нападавшего татарина и смаху брякнул его о землю:
— Дух вон!
Все боялись подойти к казаку. С посеченным лицом и плечами, в изорванном кожаном колонтаре, он дубом шумел среди врагов:
— Подходи, зашибу!
Ловко брошенный аркан захлестнул Охмене шею. Он захрипел и сильными руками стал рвать петлю. Пятеро татар тащили его дюжее тело, а он все рвался…
Наехал Кучум и спросил:
— Ермак?
Ему ответили:
— Нет, Ермак впереди. Это просто казак.
— Отсечь голову! — равнодушно сказал хан, и рослый ногаец саблей снес с Охмени буйную голову. Он воткнул ее на пику, злобно торжествуя, но глаза казака, еще полные гнева, были так страшны, что палач поскорее бросил голову в кусты…
А Ермак все бился; он выбрался на крутой берег, подмытый яростной волной. С крутояра он размашисто бросился вниз в бушующие волны и поплыл к стругам. Но струги отогнало ветром. Тяжелая кольчуга — дар царя — потянула могучее тело в бездну. Набежавшая волна покрыла Ермака с головой.
— Алла! Алла! — радостно закричали татары, ликуя и размахивая копьями. Только сын Кучума Алей угрюмо глядел на черную воду. Свет молний озарял Иртыш, и на волне все было мертво.
Страшным усилием Ермак победил смерть, вынырнул и всей грудью жадно захватывал воздух. Снова яростная волна хлестнула его в лицо. Раза два широким взмахом ударил Ермак руками по волне, стремясь уйти от гибели, но таяли силы; он стал захлебываться и погружаться. Тяжелый панцырь увлек атамана в пучину, и воды сомкнулись над богатырем…
Отшумела гроза, отгремел раскатистый гром и погасли зеленые молнии. Кучум слез с коня и бродил среди порубанных тел. Трогая крутое казачье плечо, спрашивал:
— Не этот ли Ермак?
— Нет, — горестно поник головой тайджи Алей. — Ермак ушел в Иртыш!
— Горе мне! Беда мне! — покачивая седой головой, сказал Кучум. — Иртыш напоит его силой. И эта сила будет еще страшнее, ее принесут многие тысячи русских богатырей…
Хан молча сел на коня и поехал с печального острова. На броду он нагнал посланца Селима, сгорбленного, нагруженного тяжелой добычей. Увидя хана, татарин весело осклабился, радостно блеснули глаза на смуглом лице.
— А этого…. этого! — показывая плетью на Селима, сказал Кучум, — удушить немедля и добычу его взять на меня.
Конь хана, храпя и разбивая упругую иртышскую волну, устремился на берег.
В ночь с пятого на шестое августа тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года не стало Ермака. Но у Кучума не было полной радости. Ему мечталось лицом к лицу встретиться с отважным русским воином, отнявшим у него царство. Ему хотелось насладиться муками его, а теперь что?.. В глубине души своей не верил полуслепой Кучум в гибель своего заклятого врага.
«Ушел он! Алей — сын мой — не хотел огорчить!» — опечаленно думал хан.
На седьмой день после побоища на острове в кучумовский юрт прискакал внук князьца Бегиша и, тяжело дыша, взволнованно передал хану неожиданную весть, от которой воспрянул Кучум.
Татарин Яниш, прискакавший из Епанчинского юрта, поведал:
В солнечный августовский день он сидел на берегу Иртыша и ловил на приманку рыбу. И вдруг он увидел в темной воде большие ноги в сапогах, подкованных железом. Волна шевелила их. Тогда Яниш, внук Бегиша, закинул петлю и вытащил мертвое тело. Поразило княжича необычное — на утопшем синью поблескивала кольчуга с золотым орлом на груди. Яниш вскочил на скакуна и объехал юрт, оповещая о находке. Сошлись и съехались со всех концов кочевники, чтобы посмотреть на диво. Те, которые дрались в городке над озером Тобоз-куль вместе с князьцом Бегишем, опознали тело богатыря, разметавшего теперь большие руки на прииртышском песке.
— Ермак! — в один голос сказали они и, подняв мертвеца, положили его на высокий помост. Старый мурза Кайдаул снял с могучего тела панцырь. Все дотрагивались до кольчуги, хваля доброе мастерство.
— Смотри, смотри! — в удивлении закричал Яниш. И все увидели, как изо рта и носа мертвого воина хлынула кровь. Рассказывая потом об этом в шатре Кучума, Яниш клялся, что это так и было.
Из дальних волостей на быстрых конях подоспели беки, мурзы со своей челядью и затеяли потеху — стали пускать в покойника стрелы. Из каждой раны лилась кровь. Яниш, внук Бегиша, даже уверял:
— Смотрите, кровь, горячая, живая!..
Татары хотели верить, — так могуч и необычайно храбр был батырь Ермак. По совести говоря, они боялись его даже мертвого: вдруг поднимется и начнет пластать их своим мечом!
В степях, на берегу Иртыша, рождались легенды о батыре Ермаке; они, как весенние птицы, летели из края в край! И чего только не рассказывалось в них!
Тогда сам хан Кучум с мурзаками, чтобы насладиться местью, прибыл к Епанчиным юртам, что в двенадцати верстах выше Абалака, а от него рукой подать — Искер! До чего осмелел и возмечтал хан!
Шесть недель пировали в поле татары и издевались над телом Ермака. От дальних курганов слетелись стервятники и кружили над степью, но ни один из них не спустился на казачьи останки. И все шесть недель от тела не шел тяжелый дух, никто не заметил разложения: так говорили потом все татары — свидетели. Кучум натешился местью, но уехал все же огорченный: слава русского воина была так велика, что и хана, и мурз его корчило от зависти. И родилась в степи новая легенда: непреданный земле прах Ермака вызывает страшные сны и чудесные явления.
Тогда татарские князья и мурзы решили захоронить тело Ермака на бегишевском кладбище, под сосною. На поминках русского богатыря съели тридцать быков и десять баранов. Была уже глубокая осенняя пора, и холодное серое небо низко жалось к земле. С полуночного края в солнечные страны целыми стаями летели косяки перелетных птиц. Они тревожно облетали место поминального пира, ибо молодые джигиты, потешаясь, пускали множество стрел в небо. Над огромными закопченными котлами клубился пар и с утра до ночи продолжалось обжорство, за которым татарские наездники, хваля себя, невольно отдавали должное и доблести покойного русского богатыря. Велик и к смерти неустрашим он был! И кто же мог победить великое сибирское ханство, как не такой богатырь?".
Знатные татары поделили воинские доспехи и одежду Ермака. Цветной кафтан достался Сейдяку, а сабля с поясом — Караче. Панцырь еще загодя увез мурза Кайдаул, верхнюю же кольчугу шаманы из Белогорья отвезли вырубленному из толстой лиственницы идолу. Суеверные и мнительные, они свято оберегали последнее ермаково добро, веря в его волшебную силу.
Шейхи, муллы и праведные блюстители ислама испугались такого преклонения перед памятью Ермака простых людей, которые, якобы, даже видели свет над его могилой. Народная молва передавала, что по субботам над ней вспыхивает огонек, и будто свечка теплилась в головах покойника.
— Аллах не хочет этого! Это против корана! — кричали муллы у мечетей и запретили поминать имя русского богатыря. Тем, кто укажет его могилу, они пригрозили смертью. Но людская молва не прекращалась. Тогда муллы выкопали прах атамана и зарыли его в тайном месте. Не знали они, что и это не отнимет у народа нетленную память о Ермаке. Столетия спустя простые русские люди, как самое дорогое и самое любимое, воспевали его имя в песнях.
5
Только один казак случайно избежал смерти на Иртыше в страшную ночь — Ильин. Он бежал по следу Ермака, отбиваясь от разъяренных врагов.
Вслед за ним он бросился в Иртыш в колонтаре из железных блях, держа в руке схваченный впопыхах большой топор. Тут бы ему и могила! Но счастье спасло казака от гибели: ныряя в кипящие иртышские воды, он ногами нащупал татарский брод и в суматохе невредимо добрался до берега. Всю ночь он бежал по степи с гулко колотящимся сердцем. Не раз падал на землю, в грязь, и слушал — нет ли погони? Утром он забрел в густой тальник и отсиделся в нем. Ильин прибежал в Искер-Сибирь оборванный, отощавший, и дозорный, впуская его, тревожно спросил:
— А батька где?
Ильин ничего не ответил, тяжелыми шагаи прошел к войсковой избе и предстал перед атаманом Матвеем Мещеряком. Сразу посеревший, срывающимся голосом тот выкрикнул:
— Беда? Сказывай!
Казак, сбиваясь, торопливо все поведал, по лицу его катились слезы.
Мещеряк схватил его за плечи и до боли стиснул:
— Как же ты-то смел в живых остаться, когда батька сгиб там? — И не выдержал: заплакал безмолвными суровыми слезами.
Подле избы уже шумело и кричало казацкое войско. Сердцем почуяли повольники гибель своего атамана. Большеротый казак Сенька Драный, прибежавший к Ермаку из-под Мурома, взобрался на рундук и закричал:
— Погиб атаманушка, и нам отсель в пору убираться. Рассыпалось наш дело!
Все угрюмо молчали, разом почувствовали себя сирыми, — не стало сильной руки, крепкой ермаковой воли. Сняли одним махом шапки, и не одна слеза выкатилась из все видевших суровых глаз. Каждый растерянно думал: «Как же дальше быть?».
Тут на высокое крыльцо вышел Матвей Мещеряк. Ухватившись медвежьей лапой за балясину, он подался вперед:
— Не стало Ермака! Сгиб он, брат наш и вождь наш! Но кто сказал — рассыпалось наше дело? Нет, не рассыпалось оно! Русь крепка, она доброй поковки! Соленым потом, трудами неустанными и кровью творили мы здесь великое, и не умрет оно! Учил батька нас отваге и терпению. Кто забудет эту заповедь, тому конец! Поразмыслите-ка, браты, как быть?
— Верно. Любо! — Откликнулось сразу несколько хотя и угрюмых, но твердых голосов. — Не выходит казаку отдаться врагу без драки. Не гоже так!
На ступеньку крыльца поднялся казак Ильин. Сенька Драный злобно закричал ему:
— Куда лезешь! Батьку пошто выдал?
Ильин поднял на боевых товарищей страдальческие глаза; прочитали все в них невыносимую муку, страшную боль. Проговорил он надрывно:
— Браты, лучшие бы мне умереть под кнышем татарина, чем стоять перед вами и гореть в муке. Невиновен я… Браты… — речь его оборвалась, губы сильно задрожали.
Поняли казаки и стрельцы, что много пережил казак за короткое время, что честный он, боевой товарищ. Кто не видел, как отважно он дрался в походах, всегда держал слово и первым бросался, не щадя своей головы, на выручку товарища. Так неужто пожалел бы он жизни за батьку, за Ермака? Поняли многие и зашумели возмущенно:
— Помолчи, Драный! Верим тебе, Ильин, сказывай, как все было!
Не скрываясь, рассказал казак про все, что случилось. Не сила и храбрость врага сломили Ермака и его дружину. Побили своя оплошка и коварство Кучума. Не выставили дозоров — притомились, поверили гонцу о караванах бухарских. Ильин опустил голову и с тоскою сознался:
— И все ж, повинен я и мои други в смерти батьки: голова его ясная была охвачена большими думками о судьбе нашего дела, а малые думки — о бережливости — мы не взяли на себя, упустили, и дорогой кровью за то поплатились. Вот оно как!..
Позади Мещеряка скрипнула дверь войсковой избы, и за спиной атамана показалось лицо Ивана Глухова, ставшего после Болховского воеводой. Глухов тронул за локоть Мещеряка и сказал ему:
— Поведай всем о враге. Силен он?
Атаман заговорил:
— Не числом взял Кучум, а вероломством. Силен враг тогда, когда мы малодушны. Крепки духом — и враг тогда слаб! А скрывать нечего, — ликуют сейчас мурзаки и князьцы: нет Ермака, нет нашего батьки, и оттого они стали смелы и способны на дерзость. Воспрянул сейчас хан и станет поднимать улусы, может и в Искер пойдет…
Он вскинул голову, повел глазами. Вокруг Искера царствовало безлюдное молчание дымчатых далей, к Иртышу сбегали темные леса. Белесые озера поблекивали на необъятных равнинах, на буграх чернела добрая земля, ждавшая семени. «Много, ой как много неутомимого ратного труда положено, крови и соленого пота пролито, — вот так, по горло, — чтобы придти к этой земле! Сколько исколесили, избороздили, чтобы добраться до сокровищ, пока сокрытых для народа. Как не полюбить эту землицу, добытую трудами и великим подвигом», — атаман глубоко вздохнул.
— Не можем мы уйти отсюда, оставить наш драгоценный дар! — громко продолжал он. — Тут батька костьми лег, и нам стоять тут насмерть!
— Любо! — закричали казаки, а Мещеряк говорил:
— Сильными и умными руками принесен за Камень ясный свет! Так что ж, нам самим гасить его?
— Это ты верно! — выкрикнул чернобородый дородный стрелец. — Погоди, атаман! — Он локтями протолкался вперед, взобрался на крыльцо и крикнул: — А пойти отсюда надо.
— Куда? — сурово спросил Мещеряк.
— На Русь! — внушительно ответил стрелец.
Мещеряк раздумчиво опустил голову.
— Струсил? Бежишь? — вырвалось вдруг из десятка голосистых глоток.
— Собой не хвалюсь, — спокойно ответил стрелец. — Но так думаю: уйдем, а дорога утоптана сюда. Силы набраться надо, чтобы навек Сибирь взять!
По войску пошел гомон. Все выжидательно уставились на воеводу и на атамана Мещеряка. Воевода Глухов выступил вперед. Мало кто его видел и слышал, — всем повелевал Ермак. Слово атамана было — кремень, закон. Каждый верил в батькину силу и мудрость. Батька был свой — мужик. А Глухов — воевода, может умный и толковый человек, но не свой брат — не казак. Да и он сам шел всегда за Ермаком. Теперь, когда Глухов заговорил, все настороженно замолчали.
— Люди, кто из вас запамятовал гибельное сидение в Искере, когда Карача обложил его темной силой? С нами был муж храбрый, и мы выстояли. А сейчас нас мало и, что скрывать, в душе у всякого червоточинка, — как без него? У татар же духа прибавилось. Выстоим ли сейчас? Подумать надо!
Гул пошел по толпе. Опять раздались сильные казачьи голоса:
— Мы костьми ляжем. Не уйдем отсюда!
Воевода выждал, когда шум смолк, и продолжал:
— Костьми лечь немудреное дело, ума не потребно! — сердито выкрикнул он. — А выстоять, уберечь честь — ум надобен. Что тут в Искре? — землянки да горшки битые. За них ли стоять? За Сибирь-землицу спор идет. И думаю я, братцы, надо на Русь за силой идти! Мы еще вернемся сюда, Кучум! — крепко сжав кулак, погрозил на восток Глухов. — И Ермак с нами будет, ибо в каждом из нас есть думка о нем, есть забота о славе нашей отчизны!
Казаки переговаривались между собой. Думали: прав или неправ воевода?
Ум говорил одно, а сердце другое. Стрельцы сразу притихли, — готовы были в путь. Казаки же не могли быстро смириться: горячая и неуемная кровь бежала в их жилах! Тут заговорил атаман Мещеряк:
— Браты, надо ладить струги. Уберечь надо силу! — умными и печальными глазами атаман обвел жидкую толпу повольников. После Ермака его голос был самым уважаемым. Казаки потупились и стали расходиться от войсковой избы. Только казак Ильин и еще несколько человек остались на месте и обсуждали свои думки.
— Может, то и поруха воинскому долгу, но нет сил уйти с сибирской земли. Отобьюсь я от стаи и пережду где-нибудь, пока придут свои, — говорил Ильин. — И тут наш человек нужен… Как без него? Кто весть подаст?
А Сенька Драный угрюмо отрезал:
— Как хочешь делай, казак, а я в тайгу сбегу. Меня и татарин не осилит…
Казаки и стрельцы покинули Искер. Они не пошли на Русь старой дорогой, а двинулись на глухой север, где кочевали дружесвенные остяки и манси. Струги поплыли вниз по Иртышу и выбрались на холодную, осеннюю Обь, катившую воды к Студеному морю. Чем дальше на север, тем сильнее сказывалась осень. Унылая равнинная тундра была охвачена холодным дыханием пронзительных ветров. Низкий, глухой лес не радовал сердце. Рано меркло и без того скупое солнце. Встречались одинокие суденышки — предприимчивые остяки промышляли рыбу. Одетые в свободные меховые одежды, они ловко управляли челнами. Завидя казачьи струги, рыбаки безбоязнено подплывали к ним и гостеприимно предлагали рыбу. Многие из них, наслышавшись от князьцов о русских, теперь встречали казаков возгласом:
— Ермак! Ермак!
На нижнюю Обь еще не долетела печальная весть.
Остяки зазывали казаков в селения-паули, кормили рыбой. В чумах, крытых берестой, было дымно от очагов, грязно, но ласковая улыбка и радушие успокаивали душу.
В одном пауле на берег к русским вышел старик и сказал:
— Я знаю вас. Сюда приходил самый большой князь — Ермак, он добрый и справедливый. Отец моего отца сказывал, что в Югре был князь над князьями — большой Молдан. Ваш Ермак еще больше его! — остяк приложил руку к сердцу и поклонился казакам.
Внук его принес «лебедя» — струнный инструмент, отдаленно схожий с телом большой птицы. Старик потрогал медные струны, — они прозвенели заунывно. Он предложил.
— Я спою вам про давнишних богатырей. Слушайте!
И он протяжным голосом восславил остяцкого богатыря, жившего в давнее время в юртах Тонх-хот. Он много охотился и воевал, и столько стрел улетало из его лука, что две нарты возили их. Он был кузнец и сам ковал наконечник для стрел, но перья собирали ему лучшие охотники. И только перо орла и филина годилось для его стрел, а орла и филина не легко добыть…
Старик пел, задумчиво склонив голову. Над лбом у него волосы сбриты, а позади заплетены в косу. Он растягивал слова, и они звучали в обских просторах печально-величаво, как вечерний звон сельской церквушки. Певец коснулся в последний раз струн и пропел:
Подобно болотной морошке, носатый богатырь; Подобно болотной морошке, сильный богатырь…
Он улыбнулся, морщинки разбежались вокруг сухого рта. На песню сошлись обитатели всего пауля и принесли сохатины и свежей рыбы. В больших черных котлах кипело варево, а казаки разглядывали молодых остячек, наряженных в оленьи парки с узором. Старик сказал Мещеряку:
— Полюбуйся на дочерей наших. У нас каждая — златоглазая, им в мужья только добрые охотники…
Ветер срывал с деревьев желтый лист, кружил его и уносил в темные воды Оби. Тихо поскрипывали уключины, по течению струги шли ходко. Наконец, русская дружина достигла пауля Южный Березов. По унылому берегу раскиданы малые, низкие избушки — нор-коль. Крыши плоские, в оконцах натянуты пузыри, внутри — чувал, а в нем раскаленные угли. Подле избушек высятся чемьи — амбарушки на высоких столбах, чтоб ни зверь, ни мышь не прогрызли и не растащили сушеной рыбы и шкур. Глядя на низкие тучи, рыбак оповестил казаков:
— Скоро придет мороз, станут реки…
Приходилось торопиться. Струги свернули в Сосьву-реку. Воды были глубоки, быстры, плыть стало труднее. Плывя по Сосьве, вышли в реку Манно и добрались до Лапин-городка. Вдали, на закате, встали темные горы — Урал-батюшка! За ним Русь — родная земелька! И так сердце затосковало по русскому говору, по русской песне, что забылось все тяжелое. Воевода Глухов и писчики не торопились выбираться из Лапина-городка, все выспрашивали и обо всем писали в книжицу. До всего любопытен был воевода; узнавал: где и какие реки и куда текут, откуда идут дороги и куда?
На душу Ивана Глухова легла тревога. С каждым днем она усиливалась. «Что скажет царь, когда прознает, что сбежали из Сибири?» И не так страшен был государь, как боязно становилось перед боярином Борисом Годуновым. Тот спуску не даст!
Закручинился и атаман Мещеряк, заскучали казаки.
Пора в путь-дорогу! По утрам на мелких лужицах похрустывал под ногами прозрачный ледок. Идут первые морозы!
Мещеряк вставал на ранней заре. На краю неба еще лежал розовый сумрак, и тогда из мглы вырастали Уральские горы. До чего резки их очертания в прохладном и чистом воздухе!
Пора, пора через переволоку!
Скарб погрузили на узкие длинные нарты, запряженные каждая в собачью четверку, и каюры-манси погнали их к неприступным скалам. Осень рано пришла на Камень, — низкорослые, скрюченные березки сбрасывали бронзовые и бурые листья, дули пронзительные ветры и колючие дожди хлестали в лицо. Скучен и дик путь! А каюры поют тоскливые бесконечные песни!
Вот и горы! Тяжел подъем на кручу. Казаки и стрельцы тащили за собой нарты. Собаки не могли взять подъема, путали постромки, озлобленно дрались.
В скалах сильнее стала стужа, мороз сковал озера. Только горные ручьи — и откуда только они беруться! — все еще гомонили и спешили в ущелья. Вода текла в черном лотке и казалась мрачной, но на сердце у казаков зажглась радость: струя убегала на запад, — значит, скоро встретят другие реки. В полдень распахнулись просторы. На западе расстиралась широкая волнистая равнина, блестели озера, и острой щетиной в даль уходили низкие леса. В синей дымке проступала извилистая серебристая лента реки.
— Шугор! Тут и Пермская землица!
Казаки запели широко-раздольно:
Ой, леса да вы, полянушки, Горы вы круты Уральские Со рекою многоводною!
И разом подхватили сотни голосов казацкую песнь. Воевода Иван Глухов, ехавший на косматом коньке, которого провели и через реки и через горы, подбоченился и подтянул:
Расступитесь, часты лесички,
Расступитесь, буйны травушки,
Укажите путь-дороженьку,
Путь-дороженьку во царствие
Во Кучумово, во татарское…
Дознались мурзаки, что Искер оставлен казаками, и послали гонца к Кучуму. Возликовал хан. Воздев руки кверху и закатив гнойные глаза, он воскликнул:
— Велик аллах! Могуча кость Тайбуги, — она вынесла все и разогнала русских! Алей, сын мой, ты здесь?
Сын покорно подошел к отцу. Хан, чувствуя его присутствие, продолжал торжественным голосом:
— Горе мое, — меня лишили целительных мазей, сколько месяцев из Бухары не приходили ко мне караваны! — в голосе хана прозвучали отчаяние и мука: — Я так страдаю, и очи мои не дают мне сна и покоя… Алей, садись на коня и скачи по всем нашим волостям, по Иртышу и Барабинской степи, и оповести всех, что Искер — наш. Зови всех на коней и спеши в наш курень. Да воссияет над ним слава нашей непобедимости!
Красивое, с темным пушком на губе, молодое лицо тайджи было полно волнения и душевного трепета. Он крепко сжал рукоятку меча и ответил отцу:
— Я верну, великий хан, твое царство! Я прославлю кость Тайбуги!
— Это знал я и верил в это! — с умилением сказал Кучум и повел руками. Поймав голову сына, он прижал ее к своей груди, и прозрачная слеза покрыла его слепые глаза. Все видели, как дрожали сухие, длинные пальцы старого хана, прижавшие молодую голову. Трепетали они не от радости, от муки, — сознавал Кучум, что слабо его тело, что нельзя вернуть невозвратного. Безнадежно махнув рукой, он отпустил сына:
— Иди и садись на лучшего коня!
Алей не медлил и тотчас вынесся с сотнями всадников в степь, охваченную зноем. Он промчал по аилам, раскинутым во множестве по Иртышу, и поднял мурзаков в Барабинской степи. Тысячи копыт застучали по сухой земле — татары спешили к Искеру. Алею сказали, что городок пуст, и всадники мчались шумно. Рысьи шапки съехали на затылок, пестрые полосатые халаты развевались, щелкали бичи. Алей возвращался в Искер как победитель, и гонцы его, ехавшие впереди, возвещали в аилах, чтобы навстречу ему выходили старейшины и чтобы народ ликовал. Но не везде выходили знатнейшие, — многие откочевали от больших путей, а народ смотрел мрачно на лихих всадников.
Женщины, укрышись в юртах, шептали огорченно: «Опять кровь и слезы. Заберут сыновей, и они не вернутся в родное кочевье!».
Тайджи Алей с пышностью въехал в Искер. Пуст и безмолвен был он. Вместо белого войлочного шатра, где всегда восседал его отец — хан, смолистым тесом поблескивала большая изба с крыльцом, украшенным балясинами. Мазанки развалились. Когда-то здесь все шумело, как большое озеро в прибой, а сейчас все молчало, будто ушла вода и все живое умерло кругом. Сын Кучума устроился в воеводской избе. Он, по примеру отца, восседал на перинах, брошенных на пестрые ковры. Его одежда из желтого шелка сверкала драгоценными камнями. Три жены Алея и семь братьев восхваляли его храбрость. Он возомнил, что может заменить отца, и если тот вернется сюда, то кто знает, что может случится? В Искере видели, как быстро умирали ханы, сменяя один другого.
Но вскоре радость Алея потухла. Он послал вестников к остякам и манси, чтобы они ехали в Искер и везли ясак и за прошлое, и за эти дни, и за будущее. Очень был пуст ханский курень, и нужно его быстрее заполнить богатствами, чтобы вернулась радостная жизнь. Но остяцкие князьки и старейшины манси отказались ехать на поклон в Искер и везти ясак.
Вымской земли Лугуй — князь-управитель остяцких городков Куновата, Илчта-городка, Ляпина-городка, Мункоса, Юпла-городка да Березова — негостеприимно принял посланца тайджи Алея. Он не пустил его в пауль и повелел сказать татарину:
«Звериные угодия: и лисьи гнезда, и соболиные, и выдерные, и бобровые, и россомачьи, и беличьи, и горностаевы промыслы, и лосиные ямы, и птичьи ловли, и все места, в коих водится живая тварь, а в реках и озерах рыба, — народа нашего из века веков, и не можем мы дать ясак тайджи Алею и его отцу хану Кучуму. Так положил остяцкий народ, и я, Лугуй, должен слушаться его!»
Так татараский посол и уехал огорченным и голодным из городка Березова.
Другой посол Алея в эту пору приехал к Алачаю — кодскому князю. Давно ли он был могущественным союзником Кучуму и только всего несколько недель назад побывал в Епанчиных юртах и по дележу получил один из панцырей Ермака? Но и Алачай отказался ехать в Искер на поклон хану, а при напоминании об ясаке заохал, застонал и сказал, что оскудели кодская земля и реки, и трудно ему, кодскому князю, жить. Все же он снизошел и накормил посла сушеной рыбой и сохатиной.
И пелымский князь, и вогульцы, обитавшие по Туре и Тавде, тоже не захотели поклониться Алею. Но что горше всего, вогулы и остяки, жившие по соседству с Искером, по Демьян-реке, и те отказались вносить ясак.
Один за другим возвращались посланцы с недобрыми вестями в Искер. Тайджи Алей гнал их прочь и грозил карами. Печальный, он выходил на тын и оглядывал с выси свое ханство. Внизу по-осеннему шумел Иртыш, в небе кричали перелетные птицы, леса и рощи вокруг Искера роняли последний лист, и ветер приносил запах тлена. Все это глубоко тронуло Алея — понял он, что не воскресить, не оживить больше Искер. Не потечет вспять могучий Иртыш, — не вернется сюда больше былая жизнь.
С дозорной башенки Алей разглядывал Алафейскую гору; вот темнеют развалины городков: Бицик-Тура, Суге-Тура, Абалк, — и все они, так же, как Искер, похожи на забытое ханское кладбище, над которым ветер раскачивал голые деревья.
Тайджи сел в седло и, скорбно склонив голову, проехал на кладбище. Здесь тихо, грустно шумит покинутая роща. Среди кустов терновника, на земле, лежат серые камни. Конь копытом загремел по серой мшистой плите. Алей склонился и признал могилу Гулсыфан — первой жены своего отца. На камне высечены искусником слова из корана: «Он вечен и бессмертен, тогда как все умрет…»
Алей помрачел, тронул уздечку, и конь, стуча копытами, унес его из печального места. Когда он вернулся в Искер, его поразила растерянность, которую он читал в лицах встречных…
Свита молча расступилась перед Алеем, и он прошел к любимой жене своей Жамиль. Они грустно улыбнулась ему, на густых ресницах ее повисли слезы. Алей нежно прижал ее к своей груди и спросил:
— Почему ты грустишь?
Она смутилась, стыдливый румянец вспыхнул на ее круглых щеках. Пряча голову на его груди, Жамиль прошептала:
— Я жду дочь…
Он схватил в свои широкие ладони ее голову и стал целовать смуглое лицо и большие жгучие глаза, осененные длинными ресницами.
— Так я тоже жду это счастье! О чем же слезы?
Красавица ответала в сторону глаза, вздохнула:
— Ах, Али, не о том печаль. Горе в другом!
— В чем же?
Она неторопливо осводилась из объятий мужа, неслышной походкой обошла покой с низкими оконницами, прислушалась. Ей не нравилось русское жилье с деревянным потолком. Здесь каждый шаг звучал громко. Жамиль еле слышно шепнула Алею:
— Что делать нам? Сюда спешит с конниками Сейдяк…
Тайджи побледнел, но быстро овладел собой. «Так вот почему растерялись его ближние! Опять кость Эдигера поднялась против него! Сейдяк, Сейдяк!» — с ненавистью он подумал о своем кровнике.
Хан Кучум через степи пришел в Искер, разорил город и убил сибирских князей — братьев Булата и Эдигера. Он был жесток и бросил их тела на съедение псам. Охваченный мстительностью и «жесточью», он, однако упустил семя врага. Беременная жена Эдигера скрылась в степи, и верные татары доставили ее в Большую Бухару. Там она нашла приют у знатного сеида и родила сына Сейдяка.
Сейдяк ждал, терпеливо ждал своего часа. И дождался, пришел в ишимские степи. Сын Эдигера вместе с мурзаками праздновали тризну по Ермаке. Он был тих и скромен, только дикие глаза выдавали его алчность…
Прошло немного дней, и вот он уже спешит выполнить освященный обычаем закон древних — кровь за кровь!
На валах затрубил рог и закричали татары. Мимо казацкой избы побежали люди, вопя и призывая аллаха. Алей выбежал на крыльцо. Семь братьев его с саадаками, полными стрел, садились на коней. Всадники окружили их. На древний холм спускалась ночь, и над Иртышом заблистал молодой месяц. Алей хотел закричать братьям: «Куда вы, горячие головы?» — но сдержался. Разве удержишь юность, которая мечтает только о победе, но не хочет знать, что враг силен и хитер. Он глядел им вслед. Как торопились их кони! И вдруг с тонким посвистом прилетела ногайская стрела и ударила тайджи в грудь. Он пошатнулся, схватился за крепкое древко и рванул. Кровь заалела на пестром халате. Прижав одну руку к ране, а другой нащупав дверь, Алей ввалился в покой и упал на бухарский ковер. Жены подбежали к нему:
— Стрела Сейдяка! — слабеющим голосом сказал он. — Где Карача?
— Он оставил твоего отца и покинул тебя. Шелудивый пес ускакал к Сейдяку, — с волнением сказала Жамиль. — Сюда смерть идет, Али! Надо бежать!
Верные слуги перевязали рану, уложили тайджи на перину и хотели нести. Он глазами приказал не трогать его.
— Я обожду братьев, они ушли на Сейдяка! — глухо сказал он и закрыл глаза. Лицо Алея стало мертвенно-бледным, на лбу выступила мелкая испарина.
Месяц очертил кривую над городищем и скрылся за рощами. Ветер доносил крики и конский топот. Алей прислушивался к шуму. На площади стояли пять белых верблюдов, и в теплый мешок упряталась большеокая Жамиль. Она умоляла слуг:
— Увезти, увезти Алея. За позор его отплатит отец, старый хан Кучум!
Четверо татар бережно перенесли ханского сына к верблюду и уложили в мягкий вьюк.
— Пока темно, надо уходить! — властно распоряжалась Жамиль.
Перед беглецами распахнули ворота. Навстречу на высоком коне мчал лучник.
Куда торопишься? — окрикнул его карамбаши.
— В Искер. Горе нашим головам! — вскричал он: — Семь братьев тайджи нашли смерть!
В глазах Алея потемнело. «В Искер идет смерть!» — подумал он и впал в забытье. Когда очнулся, над головой увидел звезды, услышал знакомые звуки степи и ровный храп верблюдов.
Караван уходил на восток. Занималась робкая заря. Жамиль наклонилась над мужем и успокаивающе сказала:
— Они не догонят нас. Мы идем к твоему отцу. Кучум еще силен!
Синие звезды мерцали над степью, постепенно позади умолкли шум и крики, и на землю опустилась тишина, нарушаемая изредка окриком карамбаши.
6
Ни в Москве, ни чердынский воевода Перепелицын, ни Строгановы не знали, что казаки покинули Сибирь. В эту пору на Руси произошли большие события, которые на время отвлекли внимание от нового края. В один год с Ермаком отошел в вечность царь Иван Васильевич. В начале тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года у царя обнаружилась страшная болезнь: появилась большая опухоль снаружи и гниение внутренностей. Смрад от царского тела разносился по горнице и очень омрачал государя. Силы оставляли его, и он понимал, что дело идет к роковой развязке.
Весной, по указу Ивана Васильевича, по всем монастырям разослали грамоты. А в них было написано: «В великую и пречестную обитель, святым и преподобным инокам, священникам, дьяконам, старцам соборным, служебникам, клирошанам, лежням и по кельям всему братству: преподобию ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет, молясь и препадая преподобию вашему, чтоб вы пожаловали о моем окаянстве соборно и по кельям молили бога и пречистую богородицу, чтоб господь бог и пречистая богородица, ваших ради святых молитв, моему окаянству отпущение грехов даровали, от настоящие смертные болезни освободили и здравие дали…»
Грозный повелел выпустить из темниц заключенных. От его имени выдавали нищим, божедомам и юродивым щедрые милостыни.
И в эти же самые дни, тревожась за свою судьбу, царь зазвал к себе во дворец до шестидесяти знахарей и знахарок. Их привезли со всех концов русской земли — и с далекого севера, и с Волги. Ходили смутные слухи, что прибывшие старцы-волхвы предрекли ему день смерти. Ошеломленный мрачным прорицанием, царь задумался о судьбе государства и долгие часы проводил в беседе с царевичем Федором, указывая ему, что делать. Слабоумный сын юродиво улыбался и беспомощно спрашивал:
— А как же мы будем без тебя жить, батюшка?
У Ивана Васильевича темнели глаза, и он сокрушенно вздыхал:
— Как жаль, нет нашего Иванушки!..
Он все чаще и чаще в последние минуты своей жизни вспоминал убиенного им сына…
Прошла половина марта. Царь передвигался с большим трудом, — его носили в креслах. Пятнадцатого марта он приказал нести себя в тайники кремлевского дворца, где хранились его сокровища. Вместе с придворными царя сопровождал англичанин Горсей. Сидя в глубоком кресле, государь перебирал драгоценные камни, рассказывая их таинственные свойства и влияния на судьбу человека. Горсей почтительно выслушивал царя. Перед ними всеми цветами радуги переливались разложенные на черном бархате редкой красоты самоцветы. Показывая на них вспыхнувшим взором, Иван Васильевич огорченно сказал Горсею:
— Посмотри на этот чудесный изумруд и на это бирюзу. Возьми их. Они сохраняют природную ясность своего цвета. Положи мне теперь их на руку. Я заражен болезнью! Видишь, они тускнеют. Они предвещают мне смерть!
Горсей протестующе выкрикнул:
— Нет, они говорят вам о долгой жизни, государь!
Царь грустно улыбнулся и ответил:
— Я не хочу обманывать себя. Разве ты не видишь, чем я стал!..
Наступило солнечное утро семнадцатого марта. За окном звучала капель. Царь проснулась в бодром настроении. Он вызвао боярина Бельского и повелел:
— Пойди и скажи волхвам: день наступил, а я жив и радостен. Я прикажу зарыть их живьем в землю… Нет, стой, может быть их лучше сжечь на костре?…
Устрашенный гневным взглядом, Бельский поторопился к заключенным в темнице волхвам. Войдя в подземелье, он передал царское слово.
С отсыревшей соломы поднялся седой старик и ответил за всех:
— Не гневайся, боярин, понапрасну: день только что наступил, а кончается он солнечным закатом…
Придворный не передал царю своей беседы с волхвами. Между тем Иван Васильевич с удовольствием помылся в бане. Его распарили, растерли дряблое тело, и он оживился, почувствовал себя свежее.
Царя бережно одели в широкий мягкий халат и усадили на постели. Он велел подать шахматы и перешучивался с Бельским, раставляя фигуры. И вдруг Иван Васильевич почувствовал внезапную слабость и никак не мог поставить шахматного короля на свое место.
Он хотел что-то выкрикнуть и… упал.
— Батюшки! — заорал перепуганный боярин. — С государем худо!
По дворцу забегали слуги: кто сломя голову мчался за водкой, кто торопился за розовой водой, иной стремительно спешил к попу…
Пришел врач Бомелий со своими снадобьями и стал растирать безвольное парализованное тело. Поспешил митрополит и наскоро совершил над полумертвым обряд пострижения. В иночестве царя назвал Ионою…
Над Москвой загудел печальный звон на исход души.
Ранним утром восемнадцатого марта тысяча пятьсот восемьдесят четвертого царя Ивана Васильевича не стало…
На престол вступил Федор Иоаннович, не проявлявший склонности к управлению государством. Все дни свои он проводил в богомолье или потешался выходками придворных шутов. По настоянию бояр и, особенно, Бориса Годунова, молодой царь вспомнил о Сибири. По предположению Бориса, у Ермака оставалось около четырехсот казаков, да с воеводой Болховским пришло в Сибирь триста стрельцов, поэтому и послали в подкрепление всего сто стрельцов, а при них пушку.
Стрельцов повел в Сибирь воевода Иван Мансуров — быстрый и решительный воин средних лет и отменной отваги человек. Отправился он в поход зимой тысяча пятьсот восемьдесят пятого года и ранней весной уже прибыли в Чердынь. Пермские люди не знали о казачьей беде, поэтому, не задерживаясь в Прикамье, Мансуров пустился на стругах в дальний путь. Воевода беспрепятственно дошел до самого Иртыша. Завидя стрельцов, вооруженных пищалями и поблескивающими бердышами, татары разбегались по лесам.
На Иртыше стрельцы захватили конного татарина и привели в шатер Мансурова. Пленный рассказал обо всем. Молча, с замкнутым суровым лицом, воевода выслушал полоняника. Ничем не выдал он ни своей тревоги, ни страха, вышел из шатра и долго ходил по берегу в глубоком раздумье. До Искера оставалось два десятка верст. В нем сидел Сейдяк со своими наездниками — ногаями, а кругом бурлило неспокойное татарское население. Что же делать? Русь осталась далеко позади, да и до Строгановых на Чусовую не близко. Во всем угадывалось приближение зимы. Темнели обнаженные леса, замерзшая земля гулко гремела под сапогами стрельцов. По темной иртышской воде плыло «сало», вот-вот станет река. Ни запасов зелья, ни войска большого, одна пушка!
Воевада решился на отважный шаг: он приказал направить струги мимо Искера. В темную глухую ночь, работая изо всех сил веслами, стрельцы неслышно проплыли мимо крутоярья, на котором еще не так давно красовался курень хана Кучума. К полудню струги достигли Оби. Здесь, против устья Иртыша, Мансуров облюбовал место и велел ставить город-крепостцу.
Опасность крепко спаяла стрельцов. Выносливые кряжистые воины хорошо владели не только пищалью, но и топором и заступом. Прежде чем на земле пала зима, возник малый городок, хорошо окопанный высоким валом, защищенный крепким тыном. Пушку водрузили на рубленой башенке и отсюда сторожили нежданного врага. Наслышанные о горьком опыте Ермака, стрельцы навезли припасов — муки и сухарей. Зиму встретили сытыми. Да и рядом протекала река, изобильная рыбой, и к тому же пустынная.
Ударил ядреный, хваткий мороз. Стрельцы с неводом смело вышли на Обь, пробили проруби, и рыжая могучая волна подхватила невод, унесла в глубь.
— Эх, и река! Эх, и круговерть! — хлопая рукавицами, любовался быстрым течением кучерявый стрелец, давний рыбак. — Тащи сети.
Вспотевшие молодцы еле вытащили их. Что за рыбины бились в сети! Осетры да стерляди, как поленья да кряжи!
Привезли рыбу к воеводской избе. Дорогой ее хватил и сковал мороз. Мансуров вышел в волчьей шубе, высокий, жилистый. А стрельцы перед ним мороженных осетров ставили, — саженный тын возводили.
— Ай, любо! — Воевода крякнул от восторга. — Ну и край! В реках — рыба красная, в лесу — дичь неисчислимая, а в земле, уж помяните мою душу, непременно свои клады. Разве ж можно покидать такую землю? Грех, смертный грех!..
Уснули леса, заваленные снегами, крепким льдом укрылись Иртыш и Обь, но стрельцы не унимались. Понимали они: от бодрого человека всякая блажь и хворь бежит. На широком просторе устраивали молодецкие потехи, кулачные бои. В рысьих шапках и добрых шубах, подпоясанных красными и синими кушаками, они начинали бой — выходили стена на стену, а когда в запал входили, скидывали на ходу шубы, кафтаны и полукафтанье, рысьи шапки — молодецки об лед, и оставались в одних рубахах. Колотили кулаками гулко, хлестко, как ладными цепами колотят рожь мужики. И так жарко и лихо было, так удало бились, что пар из голенищ шел!
Все шло хорошо, беспокоило только соседство с Сейдяком, но он не тревожил. Здесь, в Сибирской Югре, ниже жили остяки, всегда расположенные к русским.
«Не они ли убегали от Кучума и при всяком удобном случае принимали нашу строну?» — успокаивая себя, думал Мансуров.
Прошла неделя, другая, третья в покойных хлопотах. И вдруг дозорный заметил с вышки рослого, шибко бегущего на лыжах человека, а за ним других людей — поменьше ростом. Люди поменьше гнались за рослым. По ухваткам и размашистому шагу первого дозорный стрелец определил: «Крепок, охотницкая душа! Борода, как у русского. Ишь на ветру как треплется! А что это за людишки гонят его, как медведя?».
Стрелец прижал руку к бровям:
— Никак остяки гонят казака? Эй, хваты! — крикнул он вниз караульным, — отчиняй ворота, свой бежит! И откуда только сей чертушка брался?
Стрельцы распахнули ворота и выбежали вперед. Завидев их, остяки остановились. Бородатый сильный мужик одним духом добежал до городка, очертил лыжами перед стрельцами полукруг, осыпав их мелким искристым снегом, и разом остановился. Смахнул заячью ушанку, вытер ею потное лицо и глубоко вздохнул:
— Ух, и упрел! Как лося гнали!
Стрельцы поразились русской речи:
— Да кто ты? Откуда, удалая голова?
— Казак Ильин, ермаков воин! — крепким басом отозвался бородач, и радостная улыбка озарила его обветренное лицо. — Добрался-таки до своих!
— Да как ты узнал? — допытывался дозорный.
— И, милый, слухом земля полнится. От простых добрых людей дознался, что прибрел в сибирскую сторонушку наш русский человек. Эх, до чего сердце зажглось от радости. Дай обниму! — Казак, как матерый медведь, навалился на первого подвернувшегося стрельца и облапил его. — Родной мой! — троекратно расцеловался.
Казака отвели к воеводе. Тот с удивлением разглядывал заросшего до бровей охотника. С недоверием, не перебивая, выслушал рассказ.
— Да как же ты уберегся от татарской лютости? — все еще не веря, спросил воевода.
— В лесу один, как зверь, таился. Выходил к остяцким паулям, женки жалели, рыбой кормили, сохатиной…
— Ишь ты! — покрутил головой воевода. — А кто тут княжит ноне, в Кодской земле?
— Лугуй князец. От Кучума отшатнулся и к нашим не пристал. Боюсь, как бы сюда не вышел…
— А выйдет — для него подарунок есть! — многозначительно ответил воевода. Нетерпелось ему узнать о Ермаке. Вызвал к себе стряпуху и велел накормить казака.
Крупная, с широкими бедрами, стряпуха полезла в русскую печь и ухватом подцепила горячий горшок.
— Господи боже, да что же это за радость? — умилился казак: — И печка всамделешная, и рогач наш, деревенский, и баба своя, в два обхвата. Будто на Руси! — и, обротясь к румяной молодайке, спросил: — Ты что ж, одна тут? И осмелилась идти в такую сторонушку?
— Не одна я, а со своим хозяином. Стрелец он. Уж и наплакалась я, и в ногах у воеводы навалялась, пока с собой взял. Упросилась. А что, сторонушка разве плоха? Я — архангельская, и так мыслю, что и край не хуже нашинского. Ешь, родимый!
Она накормила Ильина досыта, доотвала. Ему бы выспаться на палатях, — приметил казак их у горячей печки, — да опять воевода позвал к себе и стал выспрашивать про Ермака. Так до полуночи и прогудели они шмелями в горенке…
Утром казак проснулся от глухого гомона, вскочил и в одних портках и рубахе выбежал на улицу.
— Что-сь такое? — тревожно спросил он у первого попавшегося навстречу стрельца.
— Не видишь, что ли? — сердито отозвался тот. — Все наше зимовье остяцкая рать обложила. Так и мечут стрелы тучами! Князец Лугуй их привел. И все кричит: «Уходи, не то побьем!»
Казак Ильин вернулся в избу, быстро оделся и отправился на тын. На дозорной башне уже распоряжался воевода. Остяки, обряженные в легкие пушистые малицы, вооруженные топорами, с криками лезли на яр. Другие, припав на колено, пускали стрелы. С пронзительным воем они проносились через крепостцу. Ильин выпросил простой плотницкий топор и вместе со стрельцами укрепился на валу. Отсюда виднелась снежная пелена широкой Оби, по ней на оленях, запряженных в нарты, разъезжали сотни остяков, пешие толпы их торопились к русскому зимовью. Вот на четверке добрых быков с ветвистыми рогами, размахивая хореем, минуя всех, к яру устремился маленький остяк в малице, изукрашенной цветным узорьем. Он воинственно что-то выкрикивал и ошалело гнал олешек.
Ильин вгляделся в лихого наездника и вдруг признал:
— Браты, да это сам князец Лугуй торопится!
За Лугуем толпами устремились его воины. Коренастые, медноликие, некоторые в шеломах, — они торопились на зов князьца… Вот первая волна их выхлестнула на высокий яр и бросилась на тын. Привычный к опасностям, казак Ильин спокойно выжидал. Он видел белые острые зубы, смуглые разгоряченные лица, охваченные злостью глаза и примеривался. И, когда первый, крепкогрудый, в короткой малице и в бухарском панцыре, остяк поднял над тыном голову в шеломе, он размахнулся и ударил его; враг разом осел и покатился вниз. Войдя в ярость, казак кричал разудало:
— Подходи-ка еще! Чей черед! — он бил топором наотмашь, размахивал им вправо, влево. На скупом солнце зловеще сверкало острие, и многие, перехватив его блеск, в страхе скатывались вниз. Упрямо стояли на валу стрельцы, — они били врага копьями, рубили бердышами.
Напрасно надрывался в истошном крике князец Лугуй, — остяки не могли осилить стрельцов. Воевода Мансуров, глядя на тучи стрел, на орущие толпы, хмуро думал: «И с чего сдурели? Эх, князец, попади-ка ты ко мне в руки, уж разделаюсь по совести…»
Весь день продолжались воинственные крики остяков и визжали тугие стрелы. Десятка два израненных стрельцов ушли с вала, но городок устоял. Замерцали первые звезды, и на Иртыш надвинулась ночь. Князец Лугуй повернул свои нарты и устремился в снежную муть, за ним толпами потянулись и его воины.
В избе воеводы топилась печка. Стряпуха с засученными рукавами, с подоткнутым сарафаном проворно орудовала рогачами. В темном закутке, за печкой, трещал сверчок. Все шло тихо, по-домашнему, мирному, даже и в думки не приходило, что только сейчас бились у валов и через зимовье со свистом летали стрелы, поранившие немало людей. Воевода, не снимая панцыря и шелома, сидел у тесового стола и сосредоточенно думал. Вдруг он оживился и крикнул:
— Позвать пушкаря!
Наклонив голову, чтобы не удариться о приолоку, в избу вошел рослый, статный молодец с умными глазами. Он мигом смахнул шапку и низко поклонился Мансурову.
— Как твоя голубица, исправна? — спросил воевода. — Ядра есть?
— Все есть и все в готовности. Каменны ядра на огне калить буду. Пойдут — я их разз-у-ва-жу! — бодро отозвался пушкарь. Был он складный, неторопливый и, по всему видать, дело свое знал.
— Ну, иди с миром, — сказал воевода. — Да гляди-поглядывай, — завтра, чаю, опять надо драться.
Отпустив пушкаря, Мансуров снял шелом и стал есть.
Утром, едва только занялась поздняя заря, на берегу снова закричали остяки. Их толпы стали гуще, смелее. Впереди, на нартах, опять князец Лугуй, а позади него шесть стариков, несших рубленного из толстой коряжины идола «Словутея». Вокруг идола, извиваясь в дикой пляске, стуча в бубен, кружились два шамана. Лисьи хвосты и шкурки зверьков, нашитые на их парки, развевались. Заунывный звук бубнов разбедил Ильина. Казак вскочил и побежал на вал. Стрельцы изумленно разглядывли диковенное зрелище.
Остяки шли к зимовью весело, приплясывая. Из туманной дали к ним подъезжали все новые и новые нарты. Все теснились к идолу. Огромный, с разукрашенными кровью губами, он медлено колыхался среди толпы.
— Гляди, какого лешего себе топором сотворили! Тьфу! — сплюнул казак. — Тож бог выискался!
Идол был вырублен грубо, тяжеловесен, и остяки с трудом дотащили его до реки. Сюда же доставили и двух скуластых малых, одетых в парки, но со связанными руками.
Казак Ильин побагровел:
— Сволочи, самоедских малых притащили! Жечь будут, чтобы задобрить Словутея!
Шаманы продолжали кружиться и бить в бубны. Они вертелись, трясли головами, дико выкрикивали и, подбегая к самоедским малым, замахивались на них ножами. Те, понурив головы, безропотно стояли среди беснующихся в пляске остяков.
Воевода поднялся на дозорную вышку и разглядывал бушующие толпы. «Сейчас натешатся, намолятся идолу и кинутся на зимовье, — прикидывал он: — Выдержим ли?» И, наклонившись к пушкарю, приказал:
— Ты, брат, наведи на Словутея, да так тарарахни по идолу, чтоб гром раскатился по всей Кодской земле! А ну, милый!
Пушкарь навел свою голубицу, сдвинул брови и ждал воеводского приказа. Он не сводил глаз с толпы. Вот схватили связанных малых и поволокли к идолу. В толпе был и князь Лугуй. Он шел и подплясывал в такт бубну.
— Годи же, я тебе, старой лисе, подсыплю жару под хвост! — пригрозил воевода и сказал пушкарю: — Ну, Васятка, подошло, в самый раз, — трахни-ка!
Пушкарь поднес зажженный фитиль, и по всему обьскому раздолью грянул гром. Выстрелу отозвались дали, и от этого грохот умножился и стал страшней. Раскаленное ядро угодило в грудь размалеванному идолу и разнесло его в щепы. Князец Лугуй упал головой в снег и задрыгал ногами.
Шаман в разорванной парке и с разбитым бубном полз на карачках от страха.
Торопившиеся на олешках остяки быстро свернули нарты в сторону и погнали вниз по Оби. Воинство очухалось и, не ожидая, когда русский пушкарь ударит во второй раз, пустилось в бега.
Только князь Лугуй, придя в себя, не пожелал уходить. Он сел на нарты и, размахивая хореем, направил олешек в городок. К зимнику он подъезжал важно, как к завоеванной крепости. Ему распахнули ворота, дали вымчать на площадку. Окружив оживленной толпой, вытолкали вперед казака Ильина:
— Спроси его, зачем примчал сюда? Не покружилось ли у него в голове?
Казак спросил вояку:
— Ты кто и почему наехал в крепость?
— Я — князь Лугуй, победитель Кодской земли! — с гордостью ответил он. — Русский хорошо гром делал. Словутея — нет! Ай-яй, что наделал русский огненный стрела. Русь велика, и я хочу в Москву, чтобы с моим братом-царем поговорить.
Воевода вышел навстречу князьцу, ощупал его:
— Жив-здоров? Ну, хвала богу. Гляди, в другой раз не попадайся!
Лугуй головой покачал:
— Зачем? Надо Москву!
— Коли решил замириться, отвезем на Русь! — согласился воевода. — А теперь жалуй в гости…
К полудню все стихло. Остяки разъехались в свои паули. Князь Лугуй, наевшись и напившись досыта, не снимая парку, завалился под стол и тут же отошел ко сну.
Добровольно пришедшего князьца Лугуя весной отправили в Москву. Поехал он в дальнюю дорогу в сопровождении десятка родичей. На многих нартах везли большие мешки, набитые лучшей рухлядью — песцами, соболями, горностаями и куницами. Добирались до столицы долго; проехали Сердынь, Вологду, — князец на все пялили очи и поражался. Взглянув на церковь, воскликнул:
— О, это больше, чем мой чум. Тут и живет царь?
— Нет. Тут пребывает господь-бог, — со смирением ответил ему священник.
Князец Лугуй покачал головой:
— Твой бог богаче и сильней Словутея, коль забрался в такой чум.
Остяк с удивлением выслушал колокольный звон и сказал об этом:
— Твой бог любит большой шум. Наш шаман делает маленький звон: динь-динь!
Князьца с почетом доставили в Москву и поместили в боярские хоромы. Дородный дьяк Посольского приказа, приставленый к нему, сказал:
— Оглядись тут. Потом к царю на поклон пойдешь, а допрежь того в баню отправишься. Добрый пар кость сладко тешит.
Князьца свели в жарко истопленную баню. С него сняли парку, потом малицу, потом майнсуп — короткие штаны из оленьей кожи, стащили унты. Худенький голый князец, с засохшей грязью на теле, с испугом глядел на здоровущих боярских холопов. Заплетающимся от страха языком он спросил:
— Теперь в котел меня? Ой-ей, не хочу!..
— Еще что удумал? Котел поганить будем из-за тебя! — засмеялись холопы.
Раздетый боярин, брюхатый и волосатый, прикрикнул на челядь:
— Брысь, окаянцы! Кто позволил вам шутковать над гостем: то князь, не простой смерд!
Слуги притихли, под руки увели Лугуя в мыльню и ополоснули теплой водой.
— Ой, холосо! Шибко холосо! — похлопал князь себя по впалому животу.
Лугуя отменно напарили, напоили квасом, одели в чистое белье — льняные портки и рубаху. Князец долго щелкал языком и хвалил. Но больше всему ему понравились меды. Развалясь в предбаннике, боярин глазами показал на ковш. Холопы проворно наполнили его… Второй ковш поднесли князьцу. Как припал гость к нему, так и не оторвался. Выпил, утер губы, — внутри жар пошел.
— Шибко холосо! — похвалил он…
Баня князьцу понравилась. Через три дня его с привезенными дарами отвезли к царю. Федор Иоаннович обласкал его. Говорил с ним тихим, смиренным голосом. Лугуй стоял перед троном и не сводил глаз с парчевой одежды царя. Он осторожно протянул руку и потрогал ее:
— Холоса парка. Мне бы такую…
— Кланяйся, кланяйся! — толкали его в спину бояре.
Князец упал на колени и возопил:
— Я наберу много, много соболей, тысячи горностаев и сотни сороков песцов и отошлю на Русь. И каждый остяк будет знать, что холоса Москва. Царь, отпусти меду…
Федор Иоаннович улыбнулся, оглянулся на ближнего боярина Бориса Годунова. Тот шепнул:
— Отпусти его, государь, с миром.
Князьца Лугуя отпустили в Кодскую землю с почетом. Перед отъездом его нарекли Василием. Взяли с него клятву, что всегда останется верен, и проводили восвояси. Возвращался он через Чердынь, вез бочки меду, а в особом кожаном коробе — царскую грамоту.
«И нашим воеводам, которые ныне на Усть-Иртыше, на Оби, новый городок поставили, на Лугуя князя, и на его городки наших ратных людей не посылати, и воевати его не велети, и дани на нем, и на его городках, имати не велети, и поминков и посулов с них не имати».
У грамоты той привешена красная восковая печать, а на обороте подписано: «Царь и великий князь Федор Иоаннович всея России.»
Приказные люди и холопы обнажали головы перед развернутой грамотой, и это князьцу нравилось. Щелкая языком, он говорил всем:
— Холосая грамота… Сильная…
Весной он выплыл на Обь, и воевода Мансуров со стрельцами вышли из городка встречать Лугуя. Съехались окрестные о стяки. Князец приказал выкатить из струга бочку меда и угостить подданных. Они пили, а Лугуй все рассказывал про Москву, царя, про баню и про то, как его окрестили.
— Шибко в малую воду садили, не влез весь! А в бане, — ух, как парко!
Остяки быстро выпили мед и недовольно крикнули князьцу:
— Почему мало захватил меду?
— Ой-ей, — покачал головой князец. — Нельзя больше. Еще будет хлеб! — он велел принести со струга несколько зачерствелых караваев, — остяки с удовольствием съели их.
— И хлеба мало! — пожаловались они.
— Будет холосо. Шибко холосо! Я привез! — Князец достал из мешка семена ячменя и стал бросать в грязь.
— Погоди! — сердито сказал старшой крепостцы Золотов. — Так не годится! — он отобрал у князя мешок с семенами и веско объяснил: — Эх, князец, православные так хлеб не сеют! Выходи завтра и полюбуйся, что будет. И свои народцы приводи!
На другой день сладили деревянную соху, впрягли конька и вспахали земельку. На полюшко вышел сеятель и, как повелось на Руси, выступая мерным шагом, высеял семена.
К Троице ячмень взошел. Все ходили дивоваться: рос хлеб могуче, буйно и сулил хороший урожай. Каждое утро стрельцы выходили и любовались хорошей нивой. Все они болели цынгой, чаяли свежего хлебушка! Подошла пора, ячмень выколосился, зацвел, стал наливаться. Но вдруг с Обдории подули холодные ветры, в одно утро упал иней и погубил весь посев. Наехал князец Лугуй; узнав о беде, сказал самоуверенно:
— Я говорила: хлеб холосо, а рыба и олешки лучше!
Слабодушный Федор Иоаннович не опечалился, когда узнал, что воевода Иван Глухов и казаки оставили Сибирь. Он повелел воротить беглецов назад. Добавив к ним триста ратников, царь приказал воеводам Василию Сукину и Мясину Ивану, да письменному голове Даниле Чулкову идти в помощь Мансурову.
С большой тяготой дошли до сибирских мест ратники и там узнали, что Мансуров выбыл в Москву, а острожек укрепил и уберег в дружбе с князьцем Лугуем.
Воевода Сукин вел себя в новом краю осторожно, пристально приглядываясь ко всему. На север, восток и юг раскинулись бескрайние и неизвестные просторы, среди которых кочевало много племен и народов. Все они пребывали в непрестанном движении, угрожая смести небольшой русский отряд. Трудно было стать твердой ногой в этом незамиренном краю. После тщательного ознакомления с сибирским краем, воевода ясно представил себе, что власть Руси здесь до тех пор будет шатка и непрочна, пока русские на важных путях и реках не возведут городков и не усилят их пушками, а главное, — пока не заселят их.
Сукин, как и Ермак, странствуя по рекам и дорогам Сибири со своим отрядом, говорил ратникам:
— Оружие наше обороняет нас, а землю завоюет на веки вечные только соха! Сюда, на эту неисчерпаемую земную силу, русского пахаря! Он поднимает к жизни богатейший край и научит кочевников лучшей доле.
Искер попрежнему был занят Сейдяком, который держался хотя и тихо, но коварно. Можно ли было пускаться на борьбу с этим предприимчивым и лихим захватчиком? На это у Сукина не хватало мужества. Он не торопился идти к Искеру. Пробираясь по Туре-реке, воевода постепенно обрел уверенность и надежду на закрепление края. Его ободрило, что вдоль Туры жители встречали русских доброжелательно и покорно. Они занимались ремеслами, промыслом, вели оседлую жизнь. На этих людей можно было положиться, и воевода решил остановиться на Туре и заложить тут город. Близ старого городища, на выгодном месте, там, где прежде находился древний татарский город Чингин, он выстроил в тысяча пятьсот восемьдесят шестом году Тюменьский острог. Под стенами его текла глубокая Тура, а вдалеке поблескивали воды Тобола.
Письменный голова Данила Чулков отметил это событие в книге, которую торжественно положили в съезжей избе на видное место рядом с греблом, медной осьминной мерой и железной гирей.
Воевода Сукин не задирался с татарами, он поощрял ремесла, посылая московских умельцев обучать туринцев не знавших многого. Татары восхищались работой русских плотников, суконщиков, пимокатов, шубников, гончаров. Золотые руки русских людей пленяли их, и они старались завести с ними прочную дружбу. Тем временем Сукин на тайных тропах и дорогах установил заставы, которые хватали посланцев Кучума и Алея, не давая им встретиться с туринцами. Исподволь писцы и подьячие, состоявшие при воеводской избе, объясачили татар, стараясь не возбудить среди них недовольства. Так постепенно и глубоко уходит русский корень в сибирскую землю.
Воеводы Сукин и Мясин пробыли в Тюмени до тысяча пятьсот восемьдесят седьмого года, а весной, на смену им, с новой ратью в пятьсот воинов в Сибирь вернулся ездивший в Москву Данила Чулков, теперь уже не письменный голова, а полномочный воевода. Русские, обжившиеся на берегах Туры, повеселели — прибыло силы! И Чулков не задирался с татарами, а жил с ними в мире. Изподволь он готовился к большому и решающему делу. Новый воевода — ставленник Бориса Годунова, человек энергичный и умный, деятельно принялся за сооружение флота. В затоне корабельные мастера, привезенные из Москвы, рубили и ладили прекрасные ладьи. Самые лучшие смолистые тесины шли на стройку. Каждое утро спозаранку воевода приезжал на верфь и подолгу следил за работой плотников. Никто не знал, что от нетерпения в Чулкове дрожала каждая жилочка. Кто-кто, а он то знал, что не одни русские стараются проникнуть в Сибирь! За год до похода Ермака Тимофеевича два отважных аглицких морехода — Пэт и Джексон пытались студенным северным морем проникнуть к берегам Сибири. Не удалась иноземцам эта затея. Но Данила хорошо знал упорство англичан. Ныне они добираются в торговых целях, — за тесом, пенькой и парусиной, — в Архангельск, а завтра, гладишь, проникнут в Нарзомское море, и чего доброго, в устье Оби!
К осени ладьи покачивались на большой воде. На них посадили пятьсот ратных людей, и флотилия отбыла. Небывалое дело! Татары впервые видели такое скопище парусников, и так хорошо оснащенных.
Что-то будет? Данило Чулков вел свои ладьи на Иртыш, а там, на старом кучумовском городище, в Искере, все еще сидел со своими мурзаками и всадниками хан Сеид Ахмет, сын Бекбулата. Окрестные татары называли его просто Сейдяком. Как-то он встретит незванных гостей?
Русские плыли на восток по пути, пройденному пять лет назад Ермаком. Они «не задирали» мирных татар спокойно минуя их селения. Ладьи богато были нагружены хлебом, салом, крупой. Обо всем успел додуматься Данило Чулков. Знал он и то, что за ним зорко следят разведчики Сейдяка. И это было так. Быстрые всадники давно опередили ладьи русского воеводы и донесли хану, что на этот раз ратью командует не казачий атаман, не просто воевода, а человек ученый и понимающий толк в писаниях.
Сейдяк с воинами издали незаметно наблюдал приближение русских людей к тобольскому устью. В эти часы испытавший на себе превратности скитальческой жизни Сеид-Ахмет много передумал, и больше всего он боялся, что русские воины бросятся на Искер.
Однако этого не произошло. Ладьи спокойно пересекли широкий Иртыш и пристали к правому берегу, на котором высилась высокая гора. С нее в ясные дни, бывая на охоте, хан нередко видел в сиреневой дали башни Искера, до которого насчитывалось всего восемнадцать верст.
Чулков вышел с воинами на берег, поднялся на гору и огляделся. Воевода остался весьма доволен своим осмотром. Он приказал вытащить на берег ладьи, и вскоре подле них началась навиданная работа. Соглядатаи Сейдяка удивились: отложив оружие и взявшись за топоры, русские стрельцы рубили свои корабли. Они взламывали днища их, отдирали обшивку и снимали мачты. Смолистый, свежий тес от ладей толпы воинов на своих плечах перетаскали на гору, облюбованную воеводой. Они, как муравьи, трудились от темна до темна. И даже ночью на высокой вершине горели костры, — неутомимая работа шла во мраке.
Вскоре над крутым обрывом иртышского берега, на фоне белесого неба вырос частокол, а там поднялись и башенки.
— Шайтан! — выругался Сейдяк. — На моей земле возвел русский город!..
Так без драк, при слиянии двух могучих сибирских рек — Иртыша и Тобола возникла русская крепостца — Тобольск. По татарски это звучало совсем песенно: «город многолетних трав с розоватыми, желтоватыми и белыми цветами». Данила Чулков придумал и герб новому городу, — он был начитан в геральдике и решил, что Тобольск славнее многих городов запада и востока. Молодой чертежник на синем поле изобразил золотую пирамиду с воинскими знаменами, барабанами и алебардами.
Кругом был суровый край, природа скупа — серое небо, лес да реки. Зато в лесу водилось неисчислимо зверья и дичи, а в реках множество рыбы. Из крепостцы Тобольск открывались дороги на реки Иртыш, Тобол и Обь. Плыви, куда хочешь! В низовьях Оби со своим народом кочевал князек Лугуй. Бережно храня грамоту царя Федора Иоанновича с красной сургучной печатью он на кочевьях любил рассказывать о своем большом путешествии в Московию, о могуществе Русского государства. Сидя у костра, его со вниманием слушали остяки. Они довольно покачивали головами и рассуждали по-своему:
— Значит, наш народ уважают в Московии.
— О! — князец пыхнул трубкой и счастливо улыбнулся. — С ними надо жить в мире. Они научат нас многому.
Русские пока ничем не могли помочь остякам, но уже одно то, что они освободили их от поборов неспокойного Кучума делало остяков мирными. Они ладили с казаками. Не задирался с русскими и Сейдяк. Заняв кучумовский курень, он жил в большой белой юрте, рассылая повсюду своих соглядатаев за русскими. Они доносили Сейдяку, что по всему видно, — воевода Чулков не думает идти на Искер. Стрельцы роют рвы, насыпают валы, возводят высокий тын и рубят избы. Впрочем, хотя русские и не задирались, но возведение крепостцы сильно встревожило хана.
Однажды на Тоболе встретились со стрельцами, сидевшими в ладьях, татарские всадники, трусившие вдоль берега. Наездники наизготове держали луки, но русские, сняв с голов косматые шапки, приветливо размахивали ими. По всему угадывалось, что они настроены миролюбиво. Растерянные татары вернулись в Искер. Многие из них думали: «Зачем нам убивать друг друга?».
Спустя несколько дней сердце Сейдяка наполнилось тревогой. Из русской крепостцы приехал гонец воеводы и звал хана в гости. Сейдяк с признательным видом прижал руку к груди и через толмача просил передать:
— Мы рады соседу, но сейчас я болен и, о горе, не могу поехать, чтобы обнять моего любезного друга!..
По глазам бухарца посланец догадался, — хитрит тот, а может быть затевает и коварство.
Когда вестник вернулся со скудными дарами из Искера, воевода долго сидел в раздумье. Кругом лежала невозмутимая тишина, она царила не только в воеводской избе, но и во всем городке, над окрестными равнинами и широким Тоболом. Тишина казалась хрупкой, — ее мог нарушить вероломный враг. Но как его сломить? Одной силы мало, здесь нужно было хитрить.
«А где взять хитрость и коварство, если не у врага?» — задумался воевода и решил раз и навсегда покончить с Искером.
Тревога воеводы оказалась не напрасной: Сейдяк исподволь готовился к схватке. Сидя в кругу своих мурз, он говорил им:
— Два зверя не могу жить в одном логове. Один должен растерзать другого!
— Твоими устами говорит сама истина! — похвалили его мурзаки. Среди них находился и Карача, отказавшийся от мысли самому быть ханом и взиравший с подобострастием на Сейдяка.
— Ты мудр и потопчешь русскую силу! — льстиво сказал он.
Сейдяк поднял большие выразительные глаза на Карачу:
— Но почему же ты не смог осилить их, когда запер голодных в Искере? — лукаво спросил он мурзу.
— Искер не приступен. И тот, кто владеет им, — непобедим! — торжественно ответил Карача. — Тогда я был один, господин мой. Теперь, великодушный хан, твоя мудрость окрыляет всех нас!
В шатре молодого хана было трое: Сейдяк, Карача и молодой казахский султан Ураз-Мухамед, искавший на степных дорогах свое счастье. Узколицый, со скошенными жгучими глазами, он был строен, лих в рубке и самоуверен. На слова Карачи султан хвастливо вымолвил:
— Мои всадники в один час потопчут неповоротливых русских медведей!
Ураз нравился Сейдяку своим воинственным пылом и стремительностью, но хвастовство хану казалось неуместным. После раздумья он спокойно ответил:
— Твои всадники, желанный гость, быстрее ветра и злее степного волка. Я верю в твою силу, но когда имеешь дело с русскими, надо быть еще очень осторожным! Послушайте, мудрые мужи, что думую я. Счастье само не дается в руки, его надо ловить. Мы выедем на охоту в окружении всех всадников, и если аллаху угодно будет затмить русским разум, используем их оплошность: выйдем на битву и не покажем русским, что вышли бить их. Пусть думают, что потешают нас кречеты!
— Ты мудр! — сказал Карача: — Так и надо искать свое счастье!
Коварный и хитрый мурзак был поражен еще большим коварством Сейдяка. Оно восхитило его, и он охотно предложил:
— Сегодня у русских праздник, и мы поедем на охоту. Да ниспошлет аллах на неверных затмение!..
В сопровождении конницы они подошли к Тобольску и в полдень остановились против него в поле — на Княжем лугу. Сейдяк и Ураз-Мухамед запускали в небо кречетов. Было светло, солнечно и, обычно серое, небо в этот день сияло нежной голубизной.
Со стен крепостцы видно было как потешались ордынцы. Они мчались быстрее ветра по равнине, на скаку пуская в птицу стрелы. С тонким визгом стрела неслась ввысь и навылет била птицу. Дозорные тотчас доложили воеводе о татарской потехе. Чулков сам взошел на дозорную вышку с узким наблюдательным оконцем. Ветер завывал под новой тесовой крышей. По небе плыли белые облака, и казалось, что вместе с ними плывет и башенка среди необозримого простора. Серебром переливались речные воды. На привольном Княжем лугу шла горячая потеха. Воевода залюбовался: высоко в небо упругим взлетом поднимались стрелы. Когда падала добыча, Чулков кряхтел от удовольствия:
— Отменны в стрельбище!
Но еще больше взволновали его сильные кречеты, которые то быстро взмывали вверх, то камнем падали на добычу. Старинная потеха, которой в свое время занимался царь Иван Васильевич, сильно пленила воеводу. Он нетерпеливо двигал плечами, топал ногами, любуясь полетом охотничьих птиц.
— Ух, и кречеты!
В нежной лазури слышался звон бубенчиков, — кречеты давали знать о своем приближении.
— Лиха потеха! — похвалил воевода и вдруг спохватился. Темное, тревожное предчувствие закралось ему в душу.
«Не спроста столько конников наскочило под самый Тобольск! Сейдяк коварно удумал! — рассудил Чулков и уже иными глазами стал разглядывать потеху на Княжем лугу. — Кони на подбор, один резвее другого, у каждого саадак полон стрел. Что-то и на охоту не похоже, — лучники держатся настороже. Схватиться?»
Но тут же Чулков отбросил эту мысль. Рисковать было опасно. Несмотря на пожилые годы, воевода проворно спустился с дозорной башенки и созвал на совет подьячих, стрелецких и казачьих сотников.
— Видали, что робится на Княжем лугу? Не для потехи собрались вороги под стены наши. Чую, замыслили худое! — рассудительно сказал Данила.
— Допусти порубаться с врагами! — попросил казачий сотник. — Аль мы не отгоним их?
Казака перебил стрелецкий голова:
— А я так мыслю, — посоветовал он. — Не сходить с городка, а с вала из пушки их пугнуть. Одумаются и другое место для потехи отыщут.
Воевода нахмурился, поднял суровые глаза и молвил:
— Ни сабельками, ни пушечкой с соседями драться не гоже! По-соседски примем: позовем Сейдяка и его людишек в гости, за бранный стол, да и потолкуем о мирном житии.
Дьяк, советчик воеводы, со страха заохал:
— Да виданное ли дело, — перед конными, оборуженными людьми врата крепости распахнуть. Наскачут ироды и порубят нас всех до единого!
Чулков спокойно глянул на дьяка и спросил:
— А разве я молвил, что оборуженных в гости пустим? Да и всех ли пустим?
Тут все догадались о затее: «Хитер Сейдяк, да наш воевода, гляди, перехитрит его!».
На Княжий луг пустили гонца, наряженного в лучшие одежды и безоружного. Страшновато было ехать одному во вражий стан, да овладел собой удалый казак Киндинка. На резвом коне он вымахнул на зеленый луг. Конь горделиво нес его, гарцуя, развевал волнистой гривой. И всадник был под стать коню, молодцевато подомчал к шатру самого Сейдяка.
Казак соскочил с коня и низко поклонился искерскому хану:
— Воевода восхищен кречетами твоими, государь сибирский. У нас ноне — праздник, не побрезгуй со своими советниками пожаловать к столу.
Толмач перевел приглашение воеводы. Но Сейдяк не сразу ответил. Он прижал руку к сердцу и сказал толмачу:
— Передай, что я и мои друзья польщены зовом, но таков обычай хана — я должен посоветоваться с аллахом.
Вместе с Карачой и Ураз-Мухамедом они вошли в шатер и стали держать совет. Любопытство, страх и трусость разбирали их. После споров решили ехать в крепостцу, взяв в провожатые сто самых лучших наездников. На этом настоял казахский султан, весьма любопытный человек.
— Мы покажем им, что не трусы. А понадобится — мои сто всадников порубят всех русских! — скосив карие глаза с жаром сказал он.
Сейдяк на это раз поддался пылкому слову султана. Ордынцы обрядились в парчевые халаты, опоясались лучшими саблями, на головы надели шапки из искристых чернобурых лисиц и с конвоем тронулись к воротам крепости. Они распахнуты настежь, и в просвете их, дожидаясь званных гостей, стоит дородный бородатый воевода в синем кафтане, расшитом шнурами.
Сейдяк и свита подъехали к воротной башне и сошли с коней. Воевода низко поклонился:
— Добро пожаловать, гости дорогие!
Но как только вооруженные искерцы двинулись к воротам, Чулков стал посередине и, загородив дорогу, вновь низенько поклонился и сказал ласково:
— Не обессудьте, соседушки милые, обычай у нас таков, — гость жалует всегда в дом без воинских угроз, оставляя оружие за порогом. Порадейте, добрые, время как раз выпало обеденное… Сабельки да мечи оставьте-ка тут, не тревожьте моих людишек, да и уважение обычаю нашему укажите, — голос воеводы полон радушия, сам он весь сиял и готов был к самому широкому гостеприимству.
Ураз-Мухамед гордо двинулся вперед, но Чулков и ему поклонился:
— Вся Русь почитает род твой, султан. Не обижай государя нашего, — и ты уважь наш обычай!
Казахскому наезднику лестно стало от похвалы воеводы. Он нахмурился, отвязал саблю и сдал казаку. Сейдяк долго колебался, но пришлось и ему отдать оружие. Хитрил, юлил Карача, но, встретив кроткий взгляд воеводы, опустил голову и, сдавая булатный меч, тихо сказал:
— Берите…
Видя покорность военачальников, сложили оружие и конники, благо добро пахло жаренной бараниной.
Прямо от ворот разостлан цветной дорожкой узорчатый ковер, а по краям стоят служилые люди с бердышами. Воевода, забегая вперед и низко кланяясь, зазывал гостей:
— Жалуйте, хоробрые соседушки, хлеба-соли откушать! Уж как мы рады, так рады, и не сказать…
Важно выступая, татары двинулись по ковровой дорожке в хоромы. Они рублены на славу, ставлены на широкий размах, но еще богаче и солиднее — большой стол, уставленный снедью. Чего только тут не было! И рыба жареная и печеная, и языки оленьи, и лебеди, искусно приготовленные стряпухой, и хлебы, и меды. Ураз-Мухамед легко уселся за стол и сразу потянулся к братине с хмельным. Сейдяк сел молча и, низко опустив голову, глубоко задумался. Только сейчас он понял, что свершилось непоправимое. А воевода льстиво кланялся ему:
— Что ж, князь, закручинился? Если не мыслишь на нас зла, выпей чашу сию во здравие!
Сейдяк встрепенулся, подумал: «Перехитрил старый лис меня… горе мне, перехитрил!»
И сказал, сладко улыбаясь:
— Не с худыми мыслями пришли мы в гости к своим добрым соседям. Мир и дружбу мы желаем утвердить между нами. Сыт я, храбрый воин, и пришел я лишь насладиться твоими речами…
— Добро, ой добро! — широким жестом огладил бороду Чулков и, умильно заглядывая в глаза Сейдяка, повторил свою просьбу: — Уважь хозяина, выпей чару во здравие!
Гость взял тяжелый серебряный кубок и поднес к губам. Вино было доброе, и соблазн был велик, но внезапно ужалила страшная мысль: «А вдруг в кубке том яд?» — он поперхнулся и отставил его.
Воевода пристально посмотрел на Сейдяка, укоризнено покачал головой:
— Что ж, душа не принимает хмельного? А вот царевич, поди, не дрогнет! — И, передав чару Ураз-Мухамеду, он предложил: — Нут-ка, попробуй доброго нашего меда. Его же у нас и монаси приемлют…
То ли случайно, то ли от торопливости, но гость, отхлебнув из кубка, поперхнулся.
Карача смело взял из рук Ураз-Мухамеда чару и, чтобы угодить воеводе, разом приложился к ней. Но от едкой горечи и он поперхнулся. «Что это — подозрительно косясь на кубок, подумал мурза: — Яд или противное зелье?». В его изворотливом мозгу мелькнула мысль: «Как же теперь угодить русскому воеводе? Как отсюда подобру-поздорову унести ноги?».
Не успел он подумать, как на все хоромы раздался громовой голос воеводы:
— Так вот вы как! Мы к вам всем сердцем, а вы чернить нас. Предательство, помсту затаили против нас… сам всевышний обличает вас, поганые… Взять их! — закричал воевода страже.
По всему видно, что стрельцы только и ждали этого, — они бросились к гостям. Видя, что подходит беда, Сейдяк ловко вскочил на скамью, быстро вышиб сапогом окно и проворно выпрыгнул во двор. Не дремали и Ураз-Мухамед с Карачой: отбиваясь деревянными блюдами, они нырнули в оконницу и бросились бежать к своим.
Но куда убежишь? Кругом — высокий тын, а казаки уже давно подстерегали их. Они быстро перехватали всех, связали веревками и представили к воеводе.
С поникшими головами трое искерцев стояли перед Чулковым.
Сейдяк с посеревшим лицом сердито выкрикнул:
— Я — хан! И ты, презренный, допустил коварство!
Лицо воеводы осталось невозмутимым. Он равнодушно усмехнулся и ответил Сейдяку:
— Рассуди, голубь, какой же ты хан? И о каком коварстве речь идет, ежели ты сам пришел в чужую землю? И чего ты орешь? Не бойся, — наша милость не изреченна, и ты будешь жив. Тебя и твоих дружников доставят в Москву. Вот и заживете, хватит вам мутить народ…
Карача сразу повеселел: «Хвала аллаху, он останется жить! Не все ли равно, кому служить: Кучуму, Сейдяку или русскому царю!».
Ураз-Мухамед изподлобья, волком глядел на воеводу. Он слышал крики, стоны и ржанье коней: казаки беспощадно рубили свиту Сейдяка…
За Иртышом скрылось багровое солнце. Княжий луг, высокий тын и крепостные строения уходили в сумерки, когда стрельцы двинулись на Искер. Они шли плотным строем, готовые принять бой с четырьмястами татар, которых утром привел Сейдяк, но безмолвие лежало над равниной. Ночь не долго была черной, — скоро из-за старого пихтача выкатился большой месяц и осветил мертвенным сиянием опустевший Княжий луг.
Так и не состоялась битва. Впоследствии сибириский летописец записал об этом событии кратко, но выразительно: «Таково страхование найде на сих, яко и в град свой не возвратишися; слыша же в граде (Сибири) яко бежа — и тыи избегоша из града и никто же остася в граде».
Стрельцы вошли в опустевший Искер. Одичавшие тощие псы бродили среди мазанок. Печально и грустно было в покинутом и молчаливом курене Кучума, он напоминал теперь кладбище. Русские оглядели его и навсегда покинули. Прошло немного времени, и буйный бурьян охватил развалины бывшей ханской ставки. Никто никогда больше не пожелал селиться в этом, преданном забвению, когда-то кипучем городке…
По первому санному пути воевода Чулков отправил трех важных пленников в Москву, и тем самым навсегда устранил их влияние на татарские племена. Сибирское царство окончило свои дни. Все земли до Иртыша и далее к северу по многоводной Оби стали русскими навечно, ибо по ним прошел с сохой, глубоко и прилежно поднимая новь, трудолюбивый русский пахарь. Сбылась мечта Ермака!
На берегах Тобола русские срубили избы из смолистой звонкой сосны. И только отшумели талые воды, в поле, где осенью раскорчевывали вырубки, выехал первый пахарь. За тяжелой сохой, влекомый сильной соловой кобылкой, шел русский ратаюшка, поднимая тяжелые темные пласты. Из прииртышских мест, из-под стен рассыпавшегося Искера, из селений Алемасово, Бицик-Тура, Абалака и многих других верхом на быстрых коньках набежали татары и долго разглядывали диковинного человека, мерно вышагивающего за сохой. Для чего он поднимает холодную землю? Что будет с ней?
Осенью, в теплые солнечные дни, там, где прошел русский пахарь, золотились тучные нивы. Хлеба волной колыхались под ветром, и хозяин, любуясь ими, думал радостно, облегченно:
— Тяжелая, но плодоносная землица…
Озера и реки в изобилии давали рыбу, лес — мягкую рухлядь. И самое дорогое, что любо было пахарю, — не жил в Сибири боярин, много было простора и дел для трудовых рук. В новых городках надобны были ямщики, плотники, каменщики, кровельщики, — всякого мастерства люди. И не только указы, но и приволье манило сюда русских мужиков. И шли сюда, в сибирскую землицу, пахари, кузнецы и беглые холопы, все, кому тяжело было на Руси.
7
За короткий срок рубежи Русского государства в Сибири далеко продвинулись вверх по Иртышу. Иртышские татары замирились и платили ясак Москве. Пространства, отошедшие к Руси, были столь велики, что последняя татарская волость — Ялынская, с которой воеводы брали ясак, отстояла от Тобольска на 15 дней пути. Все дальше и дальше пришлось уходить Кучуму, срываясь в верховьях Иртыша. Однако он не хотел покориться. Откуда взялось столько силы и неукротимости духа в глухом и слепом старике! Не слезая с коня, он неутомимо носился по сибирской равнине и кочевым перепутьям, сопровождаемый верными всадниками, окруженный князьками и мурзами. Гонцы изгнанного хана во все стороны пересылали ханскую стрелу с красным оперением — строгий призыв идти на помощь своему повелителю. Увы, простые кочевники отвернулись от Кучума! Никто из них не хотел подняться на защиту старого хана. Сердце его от этого наполнялось горшей злобой, не только против русских, но и против своих. Стаей разъяренных волков Кучум со своими всадниками врывался в отдаленные татарские волости и улусы, грабил и разорял их, забирая татар в плен. Отягощенный добычей, он быстро скрывался в глухих местах верхнего прииртышья. Тобольскому воеводе трудно было настигнуть озлобленного хищника и нанести ему последний удар. Еще тяжелее было оборонять отдаленные татарские волости, признавшие власть Русского государства. Тревожно было жить кочевникам этих волостей и, чтобы уберечься от мести хана, они платили двойной ясак: и русским воеводам, и былому своему повелителю Кучуму. Это еще больше придавало ему силы и стойкости. Он внезапно появлялся в своих бывших владениях и вел себя, как грозный мститель.
Но сибирская земля больше не принимала Кучума. Маметкул пребывал в русском плену и служил Москве, многие татарские наездники, видя бесплодность борьбы, покинули хана, чтобы вернуться к своим очагам и зажить в мире с русскими. Кучум часто задумывался: «Ермака давно нет в живых, но чем он покорил сердца народов Сибири? Почему его имя вспоминают с большой сердечностью, а казаки, и даже татары, поют о нем песни?». Старый мурза, видевший в Кучуме свою судьбу, однажды сказал хану о Ермаке:
— Перед тем, как погибнуть, он прошел свой последний поход по степным дорогам. Везде он был грозен и беспощаден к мурзам и нашим друзьям. Он — человек простой кости, оттого его все время тянет к простолюдинам, к нищему сброду. На своем коне русский казак дошел до реки Тары, где кочевали туралинцы. И они принесли ему посильные дары и склонили перед ним головы. Позор им! Этот русский пришелец с черной курчавой бородой вышел к ним из шатра и, увидев их на коленях, сердечно сказал: «Встаньте, други мои! Я не царь и не хан, чтобы передо мной стоять на коленях». Подумать только, он отказался от принесенных даров! «Вы сами бедны и нуждаетесь в добре, — сказал он и повелел: — Разделите дар между своими неимущими, а я освобождаю вас от ясака. Живите и трудитесь мирно!»
Склонив голову, Кучум внимательно слушал мурзака. Когда тот со вздохом окончил, хан сказал твердым голосом:
— Он был умный человек! Горько мне!
Мурза понимал всю глубину печали хана. С верными князьями и несколькими сотнями всадников, оберегавших его жен и детей. Кучум скитался среди Барабинских болот и камышей. «Пристало ли гордому хану уподобляться старому, затравленному волку? Орлу подобает умирать по-орлиному!» — рассуждал мурза.
Горе подходило отовсюду, но Кучум от него становился только неукротимее. Кроме русских, до своего пленения за ним охотился мститель за своего отца — царевич Сейдяк. Со своими всадниками он отыскивал запутанные следы старого хана, чтобы посчитаться с ним. Кучум хорошо сознавал, что этот враг очень изворотлив, лукав и коварен; бесприютный хан сам когда-то был молод и прекрасно знал всю меру восточного коварства.
Тем временем русский царь Федор Иоаннович — тихий, кроткого нрава, не раз посылал со служилыми людьми грамоты Кучуму, в которых склонял его прекратить сопротивление и покориться Москве, но хан отклонял уговоры, не пожелал сложить оружие. Тогда решено было потеснить его и сделать затруднительными ханские набеги. В Ялынской волости, самой отдаленной от Тобольска, решено было построить город на Иртыше. Царь Федор Иоаннович повелел князю Андрею Васильевичу Елецкому идти в Сибирь, на реку Иртыш, к татарскому городку Ялом, возведенному на реке Таре, и подле него заложить острог.
В государевой грамоте подробно указывалось, как держаться воеводе в походе:
«Итти города ставить вверх Иртыша на Тар-реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести и Кучума царя истеснить и соль устроить и тех бы волостей, которые больше по сю сторону Тобольского (города) и Тобольскому уезду отвести от Кучума и привести к государю… чтоб вперед государевым ясашным людям жить по Иртышу от Кучума царя и от ногайских людей бесстрашно…»
Воевода оказался упорным, смышленным в деле. Для похода в Сибирь он отобрал 147 московских стрельцов, а с ними двадцать добрых плотников из Пермской земли. В Тобольске к нему должны были подойти пятьдесят казанских стрельцов, да полста лаишевских и тетюшских полонян, да польские казаки, казанские и свияжские татары и башкиры, посланные туда из Казани и Уфы, а всего четыреста воинов. С таким войском воевода Елецкий и двинулся в поход. Кучум ушел в свои тайные места от этой грозной силы.
Надвигалась осеняя пора. В степях разгуливали пронзительные ветры, унылая равнина сливалась с мутным скучным небом. Только в лесах становилось веселее на душе. Лошадь воеводы осторожно ступала по мягким коврам опавших листьев, пестрых и веселых. Лес стоял обряженный в багрянец, было в нем торжественно и безмолвно, как обычно бывает в храме, залитом красными и золотыми огнями. Каждый шорох и звук слышались на лесной дороге звонко и гулко, как в опустевших хоромах. Кое-где, как пятна яркой крови, алели гроздья калины. Но леса сменялись болотами, и все чаще и чаще небо заволакивало белесыми тучами. Елецкий понимал, что близка зима, и торопился выполнить поручение. Он не дошел до Тары-реки, а облюбовал место в самой гуще татарских юрт Ялынскй волости. Неподалеку от устья речки Ангарки, впадающей с полуденной стороны в Иртыш, и заложил воевода городок-крепость Тары. Он был меньше намеченного, но зато отстроен во-время и оправдал указ Москвы — «Кучума царя потеснить».
Однако Кучум не оставался бездеятельным. Когда верные люди принесли ему весть о движении в Ялын русского войска, он послал своего сына Алея с наездниками; они уговорами и угрозами заставляли ялынских татар убраться в верховья Иртыша, на Черный остров.
Через перебежчиков стало известно, что часть татар, выведенных Кучумом, поселилась также подле Вузюкова озера, ловит рыбу и возит ее Кучуму, что от хана каждый день к этим татарам наезжают люди по делам и что сам Кучум устроил свой стан еще выше по Иртышу — «меж двух речек, одервнувся телегами, за Омь рекою пешим ходом днища с два».
Городок Тары отстроили до наступления морозов. Воевода разместил войско и разостлал разведчиков отыскивать кочевья Кучума. Зима тысяча пятьсот девяносто пятого года выпала суровая, свирепствовали метели, от морозов потрескивали лесины, но иногда выпадали безветренные дни, лучилось ярким сиянием солнце… Елецкий в зиму сделал два похода в степь. Он прошел по Ялынской волости, окончательно замиряя татар, приводя последних данников Кучума к присяге на верность Руси.
В марте углеглись метели, и по глубоким снегам вернулись разведчики, которые проведали про городок на Черном острове. Воевода решил занять его. Он послал отряд, вручив водительство им опытному ратнику Борису Доможирову. Скрытным образом тот провел стрельцов и по крепкому льду перебрался через Иртыш. Не чаяли, не ждали русских кучумовские обители. Страх татар был столь велик, что защитники бросали оружие и кричали: «Алла, алла!».
Сын Кучума — Алей успел в сумятице перебраться на правый иртышский берег и ускакать в степи. Много часов он гнал вспененного коня, пока тот не пал. Тайджи с отчаянием оглянулся назад и увидел на темном окаеме багровое зарево: пылал построенный им городок. Он долго смотрел на отсветы, пока постепенно не погасли. Опустив голову, Алей тяжело побрел по скользкой наледи в сторону ближайшего улуса. Он брел, трусливо озираясь, как одинокий голодный волк. На душе было тоскливо и обидно: «Где его всадники? Наверное, порубаны русскими!».
Тайджи угадал: многие из татарских наездников полегли под тяжелыми русскими мечами, только несколько проворных и хитрых татар избежало печальной участи. Они и принесли Кучуму скорбную весть о разгроме городка.
Доможиров допросил пленных, и те единодушно показали, что Кучум со своим станом находится вверх по Иртышу, в двадцати днях пути от Тары. Трогаться в дальний путь в зимнюю пору было опасно, и поход пришлось отложить до весны.
В марте, когда стало пригревать солнце, Доможиров поставил отряд на лыжи и двинулся в степь. Стрельцы неутомимо шли по новым местам. Они замирили и присоединили новые татарские волости: Тереню, Любор и Барабу. По дороге выжгли непокорный городок Тунус. Но ранняя весна и предстоящее водополье сибирских рек помешали им добраться до кочевий Кучума. Доможиров послал воеводе вестника: «Пришло расколье великое, и идти на лыжах было не мочно». Однако на обратном пути Доможирову передались добровольно мать Маметкула и ханский приближенный Чин-мурза с женой. Прослышав о походе, они втроем, в сопровождении толпы слуг выехали навстречу русским.
Сам Кучум и на этот раз избежал опасности. Однако что можно поделать беспомощный слепой старик? Русские воеводы всюду теснили его. Обширная бескрайняя степь вдруг оказалась малой, и хану трудно было укрыться в ней. Все дороги ему были преграждены, русские полонили всех вестников хана, пробиравшихся поднимать волости, перехватывали караваны, которые тайком шли к нему с товарами. Не скрываясь, они присылали смелых послов с грамотами, в которых указывали на безнадежность дальнейшей борьбы. Кучум на все предложения попрежнему гордо отвечал: «Пока я держу в руках клинок, не поклонюсь русским!».
В ответ на обещанные милости, он в тысяча пятьсот девяносто седьмом году написал грамоту, в которой угрозы перемешивались с мольбой жалкого старика. Его вестник беспрепятственно доставил эту грамоту в Тару. Кучум с пылкостью юнца излагал свои чувства и переживания, свои мольбы и желания. Он писал бойко на татарском языке, и толмачи перевели его грамоту. Хан извещал:
"Бог богат!
От вольного человека, от царя, боярам поклон, а слово то:
Что есте хотели со мною поговорити? Вам от государя своего, от белого князя, о том указ есть ли? И будет указ есть — и мы поговорим, и его слово приятно учиним.
А мое чилобитье то: прошу у великого князя, у белого царя, иртышского берегу, да и у вас, у воевод бью челом, того ж прошу. Да токо ж вещей у вас прошу, и вы из вещей хоть и одну дадите — и ваше слово будет истинно, а будет не дадите — и слово ваше ложно.
А челобитье мое то: прошу Шаину, а те оба гостя, которых вы взяли — ехали ко мне в послех и их вам бог сулил! И из тое посольские рухляди одного вьюка конского прошу, очи у меня больны и с теми послы были зелья, да и роспись тем зельям с ними ж была. И яз того прошу и только те три вещи мне дадите — и слово ваше будет истинно!
И будет со мною похотите поговорити — и вы ко мне пришлите толмача Богдана; а Союндюк приехал, великого князя, белого царя, очи видел; и яз бы из его уст указ его услышал! И вы б его прислали: и будет те дела правда — и вы прислали Бахтыураза, который ныне приехал.
А от Ермакова прихода и по ся места пытался есми встречно стояти! А Сибирь не яз отдал: сами есте взяли!
И ныне попытаем мириться — либо будет на конце лучше!
А с ногами есмя — в соединеньи и только с обоих сторон станем: и княжая казна шатнется!
И яз хочу правдою помириться, а для миру на всякое дело снисходительство учиню"…
Кучум не хотел признаваться даже перед самим собой, что он давно не властитель Сибири. Он все еще мнил себя ханом и повелителем. Ему, одинокому старику, предлагали покой, а он добивался утерянного царства.
Грамота Кучума дошла до Москвы и попала в Посольский приказ. Думный дьяк доложил обо всем царю Федору Иоанновичу. Тот молча, внимательно выслушал ее и опечаленно покачал головой:
— Дух неспокойный, чего ждет он? Живет в скудости великой, яко казак на перепутье, а гордыня одолела… Напиши, дьяк…
Кучуму было отписана грамота неделю спустя. Перечислив свои титулы, царь писал:
«Послушай! Неужели ты думаешь, что ты мне страшен, что я не покорю тебя, что рати у меня нехватит? Нет, много у меня воинской силы! Мне жаль тебя: тебя щадя, не шлю я большой рати, а жду, пока ты сам явишься в Москву, пред мои светлы очи. Ты знаешь сам, что над тобою сталось, и сколько лет ты казаком кочуешь в поле, в трудах и нищете… а медлишь покориться! Ты вспомни про Казань, про Астрахань: они сильнее Сибири были, а покорились русскому царю. Ты ждешь чего? Друзья тебя оставили; два сына в полону; Сибирь взята; ты изгнан; всюду на твоей земле другие города построены; Сибирь вся под моей державой; я царь Сибири — а ты?.. Ты стал казак, изгнанник, одинокий, оставлен всеми; жизнь твоя висит на волоске. Одно лишь слово изреку я воеводам — и ты погиб! Но знай, что… я все готов забыть, все твои вины, все неправды, готов на милость, готов излить щедроты давнишнему врагу, рабу-ослушнику; но покорись, не вынуждай меня на гневные веленья. Явись в Москву: захочешь мне служить и жить вместе с детьми — останься, мне будет приятно, я награжу тебя и оделю богатством, я дам тебе деревни, села, города, всего прилично с твоим саном. А не захочешь при мне служить, задумаешь в Сибирь, опять на старое место — пожалуй с богом! Я готов хоть и в Сибирь тебя отправить, готов пожаловать тебе твой прежний юрт, сделаю тебя царем и честь тебе воздам как следует царю Сибири… но прежде покорись и приезжай в Москву!»…
Долго шла грамота Федора Иоанновича до Кучума. Через посланца-татарина, наконец, он получил ее. Хан долго рассматривал непонятную вязь церковно-славянского языка, на котором дьяком была написана грамота. Еще больше ему пришлось ждать толмача, который после больших усилий перевел ее. Кучум сидел недвижим в середине шатра на грязных, истрепанных подушках. Походил он на измученного неволей коршуна. Когда толмач перевел грамоту, он подозвал его к себе, взял свиток, долго вертел его в руках, потрогал красную восковую печать. Огонь мигом охватил свиток, и вскоре от него остался лишь пепел.
— Все прах! — сурово сказал хан. — И слова, и жизнь человеческая, но пока жив, я не преклоняюсь перед врагами…
Он вскинул голову и властно сказал посланцу:
— Поди и скажи воеводам: хан Кучум еще живет и хозяин на сибирской земле!
Он не знал, что опасность уже ждет его у порога. По весне татарского воеводу Андрея Елецкого сменил Федор Елецкий, не менее умный и предприимчивый воин. С отрядом служилых людей он настиг, наконец, Кучума в городке Тунус. Не задерживаясь, он бросил стрельцов на городище и с боем взял его. Но и тут старый хан обхитрил своего противника: слуги увели Кучума в глубокий овраг, и он скрылся от преследователей.
Когда царю Федору Иоанновичу доложили об успехе Елецкого, он грустно улыбнулся и сказал:
— И чего бежит гордый старец? Старого уже не воротить, русские воины не уйдут вспять из сибирской землицы!
Царь велел выдать служилым людям за их подвиг по полтине на воина, а воеводе прислал похвальную грамоту. Это ободрило Федора Елецкого, и он с еще большим прилежанием принялся за утихомирение татарских волостей. Но и Кучум был попрежнему неукротим: он появлялся там, где его меньше всего ждали. Много погибло в схватках его верных сподвижников, немало попало в плен, силы хана слабели, но чем больше вставало перед ним трудностей, тем злее и упрямее становился он. Его вестники тайно объехали только что присоединенные к Руси волости — Тереня, Любар и другие, и подняли их. Скопища татар шли на помощь Кучуму, и он грозил нападением на Тары. Но былого не воскресить, — при первой встрече с русскими ратными людьми скопища рассеялись. И опять одинокий и мрачный Кучум ушел в Барабинские степи. Он играл с огнем, и это, видимо, согревало его старое сердце. В дальних кочевьях хана поджидали восемь жен, и каждая горда была его непреклонностью. После блужданий по степи, Кучум любил посидеть у мангала и при свете раскаленнных углей послушать песенку последней и самой красивой жены Сайхан-Доланге «о соломинке». Его настроению были созвучны слова этой песенки.
Храбрый молодец свое копье точит в крови,
А бесстыдник проводит ночи без сна…
Нет, старик не бездельничает! Он злобно огрызается. Он готов в любой час и в любую погоду быть на коне! Но будет ли ему счастье, как Темир-Ленку?
А в эту пору в Москве, в тысяча пятьсот девяносто восьмом году, скончался царь Федор Иоаннович и на престол взошел Борис Годунов, на сестре которого, Ирине, был женат покойный. Государственная власть досталась Годунову после упорной жестокой борьбы со знатными боярами, считавшими его за выскочку. Еще при жизни Федора Иоанновича, более расположенного к монашеской жизни, чем к управлению государством, фактически всеми делами вершил Борис. Где лестью, где уговорами, а то и угрозами, ему удавалось держать бояр в повиновении. Гордые своим старинным происхождением, они до глубины души ненавидели этого потомка татарского мурзы, выехавшего на Русь еще в XIV веке. Особенно люто ненавидели Бориса Мстиславские и Шуйские, которые его возвышение приняли за личное оскорбление. Коварные и мстительные они задумали против Годунова заговор, намереваясь его убить на пиру у Мстиславского. Однако Годунов оказался хитрее, коварнее и, главное, предусмотрительнее их. Заговор не удался. Тогда бояре стали уговаривать Федора Иоанновича развестись с бездетной Ириной. Умный Годунов разгадал тайные замыслы своих врагов, и они жестоко поплатились — иные были казнены, другие насильственно пострижены в монахи и сосланы в дальние монастыри. Годунов забрал еще большую силу и, чувствуя близкую смерть царя, подготовил все к захвату государственной власти. Умирающий Федор Иоаннович в присутствии патриарха Иова убеждал свою молодую супругу постричься после его смерти в монахини. Патриарх, державшийся очень тихо и осторожно, ласково сказал царю:
— Живи, государь, многие лета! Рано о смерти и монашестве думать. И кому же тогда занимать престол?
Хилый, с глубоко запавшими скорбными глазами, Федор поднял пожелтевшее пергаментное лицо и сказал блаженненьким голосом:
— В престоле бог волен. А ты, Иринушка, пойди, пойди, милая, в монастырь замаливать наши прегрешения…
Крепкотелая, большеглазая Ирина, весьма склонная к лени и любившая теплые перины и пуховики, страшно боялась всяких беспокойств и хлопот. Она покорно склонила голову и ответила царю:
— Об этом говорено меж нами, Феденька. Как сказано тобою, тому и быть!
В самом тысяча пятьсот девяносто седьмого года царь Федор Иоаннович сильно занемог и почти не вставал с постели. В январское утро тысяча пятьсот девяносто восьмого года он тихо скончался. Супруга его наотрез отказалась от престола; на девятый день после кончины мужа она ушла в Новодевичий монастырь и постриглась в монашество под именем инокини Александры.
При поддержке приверженного ему патриарха Иова и обласканных им в свое время людей Борис Годунов занял престол царя всея Руси. Не только одно властолюбие толкало его к этому, — в нем сильно говорил инстинкт самосохранения. Он хорошо понимал: не займи он высокого положения, с ним мигом расправятся обиженные знатные бояре. Чтобы завладеть симпатиями народа, торговых людей и служилых людей, новый царь щедро осыпал всех милостями, сложил многие недоимки, объявил разные льготы и, что важно было для Сибири, освободил подвластные народы на целый год от ясака, «чтобы они детей своих и братью, дядей, племянников и друзей отовсюду призывали и сказывали им царское жалованье, что мы их пожаловали, ясаку с них брать не велели, а велели им жить безоброчно, и в городах бы юрты и в уездах волости они полнили».
Освободив сибирцев на год от ясака, Борис Годунов решил внести полное успокоение в сибирской земле, покончив навсегда с ханом Кучумом.
Четвертого августа тысяча пятьсот девяносто восьмого года по его приказу из Тары к берегам Оби выступил воевода Андрей Воейков с четырьмястами казаков и ясачными людьми и прошел по отпавшим было татарским волостям. Нарушители присяги жестоко поплатились за свое коварство.
На берегу озера Ик воевода разбил шатер и чинил суд над пленниками. Нагретый воздух синим маревом струился над ковыльными просторами. Серебристое озеро лежало, нежась среди зеленых берегов. Над камышами шумели стаи уток, гусей и лебедей. Привольно и широко распахнулось голубое небо, пронизанное солнечным сиянием. Томила неслыханная жара, — август выдался сухой и душный. Сбросив кафтан, воевода сидел в распахнутой на груди рубашке и строго разглядывал татар.
— Вот ты, — указал он на высокого жилистого мурзу, час тому назад сбитого в бою. — Знаешь ли, окаянец, что полагается за измену? Для чего шерть давал? По совести показывай. Меня не обманешь, я такой! — воевода нахмурился, глаза потемнели. И в самом деле, он был зол. Татарин это понял и струсил.
— За измена — смерть! — тихо сказал пленник и склонил голову. С минуту помолчал; руки его тряслись мелкой дрожью. Наконец поднял глаза: — Но я скажу тебе, чего не знают другие, если даруешь мне жизнь!
— Коли на то пошел, говори, поганец! — презрительно сказал воевода: — Сказывай, где Кучум? — Воейков не сводил пристальных глаз с мурзы. Пленник смутился, переглянулся с татарами, те злобно прикрикнули на него.
— Ну, ну, тихо! — пригрозил воевода. — Потоплю в озере, коли что!
Мурза осмелел, склонился перед Воейковым и поведал:
— Все знаю и скажу!
— Идем в шатер! — поднялся воевода и увлек за собою мурзу.
— Хвала аллаху, Кучум жив! — заискивающе сказал пленник. — Да продлит бог его дни. Ваш царь жалует его великой милостью, но он отвергает ее.
— Ты мне зубы не заговаривай, сказывай, где сей хан обретается! — с угрожающим видом прервал воевода мурзака. Тот встрепенулся.
— Кучум кроется в степях, среди болот, на Черных Водах.
— Так! — огладил бороду воевода. — А кто с ним? Много ли у него войска?
Татарин опустил голову, тяжело вздохнул:
— Мало войска, всего пятьсот всадников. С ним вся семья и князья. Да пятьдесят торговых бухарцев…
Воевода повеселел, глаза его заблестели. Он подошел к мурзе и толкнул его в спину.
— Ну, иди, иди, жив будешь! Веревки марать о такого поганца не хочу, — своего хана предал. Уходи, шкура! — вдруг побагровев, прикрикнул он на мурзу, который, втянув голову в плечи и без понуканья, спешил оставить воеводский шатер.
Оставшись один, Воейков долго сидел в раздумье. Подошло трудное время: степь раскалена, всюду лазутчики, люди утомились, — трудно настигнуть Кучума.
Однако воевода снял шатры и, не мешкая, пустился к Убинскому озеру. Пятнадцатого августа он внезапно появился на убинских берегах и захватил кочевников, служивших Кучуму. Через них и дознался Воейков, что хан ушел с Черных Вод на реку Обь, где у него бродят овечьи отары. Воевода соображал: в эти дни стрижка шерсти и, пока она не окончится, Кучум будет сидеть у скотоводов. Только это и удержит неугомонного старика!
— В поход! Сейчас в поход! — заторопил он себя.
Через час русский лагерь снова снялся и бесшумно направился в раскаленную степь. Для ускорения движения Воейков приказал бросить обозы, на каждого нагрузили самое необходимое и, не задерживаясь, двинулись на восток. На пути перехватывали всех встречных всадников, чтобы они не оповестили Кучума о беде.
Дни и ночи спешили запыленные, потные и усталые воины в сожженное солнцем приобье и после многих лишений, наконец, вышли к Ормени, за которой простирались безграничные зеленые луга. Повеяло прохладой и покоем. Перед взором изумленных казаков открылся тихий обширный стан кочевников, укрытый болотами и перелесками. Над войлочными кибитками вились синие дымки, ветер доносил запах варева. Совсем близко перебрехивались огромные степные псы, ржали кобылицы на пастбищах. И вокруг этого стана бродили необозримые стада овец. На сером широкогрудом коне воевода въехал на холм, поросший кустарником, и долго наблюдал последнее пристанище Кучума. Далеко, среди зеленой лужайки, высился белый шатер с длинным шестом, наверху которого развевался белоснежный конский хвост. Солнце уже склонялось за дальние рощи, и косые лучи его ласковым мягким светом разливались по луговине. Из шатра вышел высокий и прямой старик; он долго стоял, оборотясь лицом к заходящему светилу, согреваясь последним теплом. В горделивой осанке старца виднелась привычка повелевать.
«Это он! Кучум! — сразу догадался Воейков, и весь загорелся. — Неужели и на этот раз сбежит? — он сжал плеть в руке и решительно погрозил в сторону становища: — Погоди, коли храбр, сразимся!»
Двадцатого августа, едва взошло солнце, русские устремились на ханский лагерь. Отдохнувшие кони, ломая кустарник, шли напрямики к выстроенным на лугу всадникам Кучума. Воевода был удивлен: «Откуда только прознал старый хан о его намерении?» Но думать долго не приходилось, войска сближались. Яркое солнце слепило глаза. «Хорошо построил конников!» — одобрил Воейков татарского первого всадника.
— Кто он? — спросил он у толмача-татарина.
— Тайджи Асманк! Самый сильный и ловкий наездник у хана! — торопливо ответил талмач.
— Любо с таким померяться силами! — по-своему оценил похвалу татарина воевода, и взмахнул рукой.
Началась жестокая сеча. Татары рубились насмерть. Высокий аргамак Асманака вздымался крутой черной волной то там, то здесь; булатная сабля наездника сверкала молнией. Не отставали от него и быстрые проворные приспешники: они с истошными криками бросались на ясачных людей. И плохо пришлось бы последним, если бы не казаки. Злые за перенесенные тяготы в походе, они в мрачном безмолвии скрестили свои мечи с татарскими, и как не юлили, не изворачивались, не горячились молодые кучумовцы, казаки разили их наотмашь. И тут увидел воевода с холма, как их шатра вышел высокий старец и, протягивая руки в сторону сражающихся что-то закричал. Несколько мурз, схватили старца под руки и хотели увести, но он сильным движением оттолкнул их и подбежал к черномастому жеребцу. Старик успел подняться в седло, но тут подоспели десятки княжат и мурз и стащили его с коня…
Что было дальше, хорошо запомнил Воейков: казацкая лава разорвалась, и впереди показалась в бешенной скачке татарская конница. «Неужто побьют» — встревоженно подумал воевода и, вымахнув саблю, бросился на бегущих.
— Руби, сукины дети! — закричал он казакам. — Руби супостата, не под конскими хвостами наболтаетесь татарскими полонянами!
Зоркими глазами воевода искал кучумовского сына Асманака. Вот он! Размахивая клинком, тот сам рвался навстречу. Раздувая горячие ноздри, конь высоко выкидывал жилистые ноги. Издали сметил Воейков, как блестели глазные белки у тайджи. Тут бы и скрестить сабельки! Но воевода в последний миг передумал и, проворно схватив аркан, ловко бросил его вперед…
Еще ожесточеннее сопротивлялись татарские всадники, завидя упавшего с коня Асманака. Но все усилия их были напрасны, — казаки, ярясь все больше и больше, теснили врага. На зеленой луговине, еще недавно ласково блестевшей крупной росой под восходящим солнцем, а теперь густо политой кровью, под копытами коней копошились искалеченные тела и бегали обезумевшие, вышебленные из седла люди.
Было за полдень, когда группы разрозненных татарских всадников стайками потянулись к Оби. Некоторые сорвались с крутого яра и вскоре вынурнули на серой обской волне. За татарами гнались казаки…
Сейчас осмелели и ясачные люди; короткими копьями и бердышами они прокладывали себе дорогу к шатрам. У коновязей рвались оседланные кони. Высокие арбы на огромных колесах стояли нагруженные домашним скарбом, озлобленно лаяли псы, и с пастбищ внезапно ворвались в становище табуны испуганных коней. Они топтали и ломали все на своем пути. Перепуганные женщины, прижимая к груди детей, плакали.
Воейков был уже у шатров и кричал ясычным и казакам:
— Баб и ребят малых не трогать! В полон всех брать! Выходи, которые целы! — Он бросился к шатрам. И оттуда на крик его вышли бледные, склоненные мурзы, прижав к груди руки. С ними были ханские сыновья и кюряганы; озлобленно и непримиримо они рассматривали русского воеводу.
— Где хан ваш? — гневно спросил Воейков.
— Его нет! — низко кланясь, ответил самый старый седобородый мурзак. — Его нет, боярин!
— Достать мне его из-под земли! За ним пришел! — кричал воевода.
Но кучумовичи и мурзы стояли со склоненными головами и молчали.
Среди полонян ни Кучума, ни его сына Алея не оказалось. С десятком своих ближних хан сбежал. С частью казаков Воейков бросился в погоню и гнался до Оби, но у реки след татарских коней потерялся. Тогда воевода устроил плоты, и казаки пустились в плавание по широкой сибирской реке. Ни на реке, ни в прибрежном тальнике, ни в камышах не отыскались беглецы. Целую неделю кружил воевода по окрестным лесам, но так и вернулся ни с чем, мрачный и суровый. К этому времени подьячие, бывшие при войске Воейкова, составили роспись пленным и добру. По той поименованной росписи значилась захваченной в полон вся семья Кучума: пять царевичей, восемь цариц — кучумовых жен, восемь царевен, жена, сын и дочь царевича Алея и жена другого царавича — Каная… Кроме того, в числе пленных оказались дочь и две внучки нагайского князя, пять татарских князей и мурз да полста простых татар.
Подьячий по указке воеводы написал весть о победе царю Борису.
«Божьим милосердием и твоим государевым счастьем, — сообщал Воейков, — Кучума царя побил, детей и его цариц поймал».
В грамоте были подробно перечислены все пленники, доводилось также до сведения царя, что в бою погибло более двадцати князей и мурз, пять «аталыков» и в их числе тесть Кучума, три царевича, брат Кучума — Итилек и сто пятьдесят ратных людей, да во время бегства потонуло в Оби-реке до ста татар. С горьким сожалением воевода заключал донесение: «Плавал я на плотах по Оби и за Обью рекою, по лесам искал Кучума и нигде не нашел».
Дальнейший путь был бесцелен, и, по приказу воеводы, стрельцы уложили на арбы все, что можно было увезти, а остальное сожгли. Со знатными пленниками Воейков возвратился в Тару.
«Куда же скрылся Кучум?» — Долго не мог успокоиться воевода и жадно ловил каждый слух о нем. Но Кучум словно в воду канул.
Между тем хан жил и думал о продолжении борьбы. Двое преданных слуг в самый разгар последнего боя усадили его в лодку и сплыли с ним вниз по Оби, в землю Читскую…
Донесение воеводы Воейкова обрадовало царя Бориса. Получил он его поздним вечером и, несмотря на полуночный час, приказал заложить колымагу и отправился в Новодевичий монастырь поделиться вестью со своей сестрицей Ириной, с которой он жил в большой дружбе. На утро по всей Москве загудели колокола, возвещая победу над Кучумом. В тот же день в Сибирь отправился гонец с золотой медалью для Воейкова и наградами для его сподвижников. В указе предлагалось воеводе — доставить в Москву знатных пленников.
Велика русская земля! Многие месяцы ехали на санях и верхами полоняне, пока перевалили Каменный пояс и по льду пересекли Волгу-реку. Далеко-далеко до Москвы!
Пристава бережно охраняли высоких пленников, остерегали от обид и бесчестья, на становищах хорошо кормили и поили вином и медом. Разрешено было питье брать в придорожных царских кабаках, а там, где их не было, приставам дозволялось заглядывать в попутные монастырские подвалы. Немало было брани от монастырской братии, которая грудью отстаивала дубовые бочки с добрым старым медом. Но пристава и казаки не уступали монахам и добивались своего, стараясь и сами хлебнуть хмельного.
В дороге, однако, доводилось плоховато. Простолюдины много натерпелись в свое время от татар и неохотно отпускали корма, а купцы, прознав о кучумовской семье, заламывали неимоверные деньги, коих у приставов нехватало. Бывало и так: враз исчезали во встречном селе мед и пиво, до которых татарские царевичи и царевны были очень лакомы. Бывали и другие неприятности — ссоры пленных и охраной. В придорожном селе, в котором остановились на ночлег почетные полоняне, вышли запасы хмельного, а царевичу Асманаку захотелось потешиться русским вином. Изнемог царевич от этой кручины и позвал приставленного к нему стража. На зов явился казак Пятуня. Он был пьян и, шатаясь и угрожая, непристойно обругал всех. Царевны со страхом попрятались от буяна, а Пятунька, упершись в бока, усмехался:
— Я еще подумаю, которую из вас в жены брать. Небось, ни стирать, ни хлеба замесить не можете! Ей-ей!..
Приставы еле увели под руки Пятуньку. Они и сами непрочь были выпить, и все догадывались у казака:
— И где это ты промыслил меду?
— О том не скажу! — чванился Пятунька…
Приставленные к семейству Кучума не стеснялись, — когда хотели, тогда и входили бесчинно к царицам, чем вызывали у них возмущение и великий переполох. Только подъезжая к Москве, пристава и казаки притихли, низко кланялись кучумовичам и просили:
— Не помните зла на нас! Того боле не будет!..
Вот и Москва! Издалека заблестели золотые маковки церквей. Сибирцы и изумлением разглядывали раскинувшийся на холмах великий город с башнями. Обоз остановился в Подмосковье для отдыха и подготовки к вступлению в стольный город. Годунов выслал пленникам цветные платья, шубы, бархатные салопы и шелка. Царевичи и царевны тщательно принарядились.
В январе тысяча пятьсот девяносто девятого года состоялся торжественный въезд кучумова семейства. Царь не поскупился на дары пленникам, чтобы прельстить этим Кучума. В яркий солнечный день со всей Москвы сбежался народ на большую казанскую дорогу, со стороны которой ожидался пышный поезд. Вот вдали, в серебрстом снежном сверкании, показались резвые кони, запряженные в резные сани. За ними скакали конные пристава, дети боярские и множество других всадников.
Москва добродушно встречала пленников. Простотолюдины размахивали шапками, выкрикивая приветствия:
— Здравы будьте!
Пленники важно восседали в широких, богато украшенных санях. Царевичи были обряжены в багрянные ферязи, подбитые драгоценными мехами. Как затравленные волчонки, они исподлобья рассматривали московский люд. Асманак на все вопросы приставленного к поезду дьяка отмалчивался.
— Всем ли довольны? — спрашивал через толмача приказный.
Царицы и царевны охотно отзывались на все вопросы, а царевичи говорили сердито:
— Нам в сибирских улусах лучше было!
Пышный поезд, скрипя полозьями, проехал мимо Кремля. Царевичи с изумлением разглядывали высокие кирпичные стены и башни, крытые черной черепицей. Асманак оживился и тихо сказал братьям:
— Сильна Русь!
На всем пути плотной стеной толпился народ, много было иноземцев, которые с любопытством разглядывали поезд. Хмуро и недовольно смотрели иноземные гости на торжество русских людей, но каждый из них со страхом думал то же, что и царевич Асманак: «Сильна Русь, и опасно с ней задираться!».
Кучумово семейство разместили в лучших московских хоромах и назначили им пристойное содержание.
Годунов беспрестанно посылал им вина и меды и тешил их сладостями: изюмом, винными ягодами и разными лакомствами. Наконец, одарил их дорогим цветным платьем.
Обласканные и успокоившиеся пленники понемногу стали привыкать к своему новому положению. Вскоре, по их просьбе, жен и дочерей Кучума отпустили в Касимов и в Бежицкий Верх — к царю Ураз-Мухамеду, а некоторых к царевичу Маметкулу, где они обрели свою новую родину…
А Кучум попрежнему не давался русским и скитался по глухим местам Сибири, собирая силы для новой борьбы. Борис Годунов повелел снова предложить былому хану приехать в Москву, к своему семейству, обещал покой и обеспеченную старость. Воевода Воейков послал ханского сеида Тул-Мехмета отыскать Кучума и сказать ему, что бы он смирился и ехал в Москву. После долгих блужданий и расспросов среди своих единоверцев гонец, наконец, нашел хана в густом лесу, неподалеку от места последней битвы. На берегу Оби высились небольшие курганы, под которыми нашли последнее пристанище погибшие в бою преданные Кучуму татары. Вестника допустили в чащобу, где под раскидистым кедром стоял берестянной шалаш хана. Слепой, изможденный старец сидел под вековым тенистым деревом. Несмотря на явную бедность, немошний вид, он попрежнему держался гордо и независимо. Он принял сеида Тул-Мехмета в окружении трех сыновей и тридцати преданных слуг. Кучум молча выслушал речь сеида о милости московского царя, горько улыбнулся и ответил:
— Я не хотел к нему пойти и в лучшее время, доброю волею, целый и богатый. Пристало ли мне идти сейчас за смертью? Я слеп и глух, беден и сир, но ни о чем не жалею. Вернулась бы молодость и былая сила, я начал бы все сначала. Тоскую я только об одном — о моем милом сыне Асманаке, взятом русскими в полон. С ним одним, и без царства, и без богатства, без жены и других сыновей и мог бы еще жить на свете. Теперь отсылаю последних детей в Бухару — святую землю, а сам еду к ногаям.
В словах хана, хотя и произнесенных дрожащим слабым голосом, сказался весь его характер — гордый и неукротимый. Сеид Тул-Мухамет невольно залюбовался неукротимым старцем. Два дня он пробыл в лесном улусе хана. Кучум уныло бродил среди могил и говорил с великим страданием в голосе:
— Это были мои лучшие воины! С такими я пришел в прииртышские степи и завоевал Сибирь…
Надвигалась холодная осень. Бывший хан не имел ни теплой одежды, ни коней. Он послал двух слуг в татарскую волость Чаты, присягнувшую на верность Москве. Слуги явились к мурзе Кошбахтыю и просили у него для Кучума коней и одежды, чтобы можно было подняться хану и отправится в новый путь.
Мурза прислал ему коня и шубу, а на другой день приехал и сам в становище Кучума… Заметив издали мурзу Кошбахтыя, хан ушел в юрту и сказал слуге:
— Эта лиса едет сюда, чтобы предать меня!
Целый день он затем молчал, а ночью тихо вышел из шатра, сел на коня и отправился вверх по Оби.
С тех пор навсегда потерялся след Кучума…
Народная молва сохранила, однако, предание о том, что одинокий и всеми покинутый хан долго скитался в степях верхнего Иртыша, в земле калмыцкой, близ озера Зайсан-Нора. Не имея ни одежды, ни еды, он похитил несколько коней из табуна, и был гоним кочевниками из пустыни в пустыню. В один из дней его настигли на берегу озера Кургальчика и отобрали все, что было при нем. Смертельно усталый, еле двигающий ногами, хан добрел в степной нагайский улус, прося приюта. Его пустили в юрту, но нарушив обычай гостеприимства, ночью задушили. Выбрасывая его окоченевший труп из юрты, убийца со злобой сказал:
— Отец твой Муртаза нас грабил, а ты был не лучше отца!
Так по народной молве, кончил свои дни хан Сибири Кучум. Сибирь прочно вошла в состав Руси, и прежние подданные хана быстро забыли о нем.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Совершенно иная участь в памяти народа выпала на долю Ермака и начатого большого движения русских «встречь солнца». Где нашел себе вечный покой Ермак, про то знали лишь алые зори да старинные песни, что сложил русский народ про одного из своих верных сынов. Ни один исторический источник не дает на этот вопрос точного и ясного ответа. Русский народ с этим примириться не мог и овеял легендами землю, принявшую прах Ермака. Людская молва и сибирские старожилы указывают на один из степных курганов, который высится неподалеку от Тобольска. В нем, якобы, и покоятся останки покорителя Сибири. Но это оспаривается народной песней, которую я слышал в далеком детстве и которая звучит и сейчас в просторах Сибири. Слова этой песни трогательны, музыкальны и невольно волнуют душу:
За Уральским хребтом, за рекой Иртышом, На далеких отрогах Алтая Стоит холм и на нем, под кедровым шатром, Есть могила, совсем забытая…Было ли это так, или иначе, не все ли равно! Важно то, что дело, предпринятое Ермаком во славу Руси, оказалось всенародным делом. Это очень скоро осознали русские люди и поторопились по живым следам записать ермаковский поход в Сибирь. Тридцать восемь лет спустя после гибели Ермака, в тысяча шестьсот двадцать втором году, первый архиепископ Киприан, который перебывал в Тобольске, решил написать историю завоевания Сибири. В эту пору в самом Тобольске и по другим возникшим сибирским городам еще жили непосредственный участники и свидетели этого большого исторического события — старики-казаки из воинской дружины Ермака Тимофеевича. Они с охотой отозвались на призыв Киприана и приехали в Тобольск. Среди них оказался крепкий, ядреный старик Гаврила Ильин, у которого, несмотря на годы, была светлая память. Он и другие казаки не только рассказали Киприану о минувших днях, но и вручили ему свои «письменные сказки», в которых очень живо и связно изложили свои воспоминания. На основании этих трудов простых казаков — соратников Ермака и была создана первая сибирская летопись, которая, в сущности, и является самым ценным источником сведений о событиях, имевших для России огромное значение.
Впоследствии появился еще ряд летописей — Есиповская, Строгановская, Ремезовская, Кунгурская и Черепановская, а еще позднее — в XVII и XVIII веках — многочисленные «летописные повести» и «своды», в которых чудесный вымысел и баснословия переплелись с перепевами из старых летописей.
Жизнь текла стремительно, но еще быстрее развивалось дело, начатое Ермаком. Во времена Федора Иоанновича, по настоянию фактического правителя страны Бориса Годунова, по бесконечным русским дорогам разъежали бирючи, которые призывали всех бывальцев и видальцев, людей привычных к ратному делу, идти на службу в Сибирь. На этот зов откликнулось много удалых и умных голов, благо на дальнюю службу принимали всех: и захудалых дворян, и детей боярских, и стрельцов, и казаков, и просто гуляющих людей. Рады были и пленным крепким литовцам, и въезжим черкесам, и повидавшим свой голос мурзам и бекам татарским. Всех манили безграничные сибирские просторы, ждущие приложения добрых рук и ума. Отбывающих с сибирскую сторонушку хорошо снабжали оружием и деньгами и давали разные льготы. От служилых людей требовали только одного — честно служить, для чего писчики Сибирского приказа брали от них подписи, в которых те обещались «не воровати, корчмы и блянды не держати, зернью не играти и не красти». Но самым главным стремлением правительства было — внедрить земледелие, а потому Москва и звала на новые земли пашенных людей. Самыми подходящими для такого дела оказались крестьяне из земель Вологодских, из Устюга Великого, Сольвычегородка, Каргополя, Холмогор и Перми. Особенно отличались устюжаны, о которых писано: «Сибирь обыскана, добыта, населена, обстроена, образована все устюжанами и их собратией. Устюжане дали нам земледельцев, ямщиков посадских, соорудили нам храмы и колокольни, завели ярмарки»…
Это в значительной степени соответствовало истине. Не напрасно же поморские воеводы жаловались царю, что в их городках и посадах «учинилась великая пустота». Поморы ближе всех жили к Каменному Поясу, знали не только по наслышке о сибирской землице, — некоторые из них ходили в Камень. И тот, кто решил осесть там на землю, получал от государства «по три мерина добрых, да по три коровы, да по три козы, да по три свиньи, да по пяти овец, да по два гуся, да по пятеру куров, да по два утят, да на год хлеба, да соху со всем для пашни, да телегу, да сани, да всякую житейскую рухлядь, да еще в подмогу по двадцати пяти рублев человеку»…
Мало того, в Сибирь потянулись бесконечные обозы со всяким добром, столь необходимым в хозяйстве. Из строгановских вотчин везли соль, из Москвы — ткани и сапоги. Доставляли в Сибирь и хлеб, и крупу, и скобяной товар, и посуду и всякое вино…
И те, кто из ермаковской дружины был жив, удивлялись, как быстро двигался русский человек «встречь солнца», осваивая все новые и новые земли.
Первым русским городом, построенным в Сибири, была Тюмень, которая возникла спустя год после смерти Ермака. И вот прошло с полвека с небольшим, и русские землепроходцы — продолжатели дела Ермака прошли до конца в конец всю Сибирь и вышли на берега Тихого океана. Землепроходец Дмитрий Копылов в тясяча шестьсот тридцать девятом году заложил первое зимовье на берегу Охотского моря, в устье реки Ульи, а в тысяча семьсот одиннадцатом году казаки открывают и обследуют Курильскую гряду. Шли и шли простолюдины русские «встречь солнца»; путь был трудный, опасный, но манило приволье.
Первыми шли ратные люди — повольники. Казаки из ермаковской дружины двигались группами вверх по Тоболу, Ишиму, Иртышу, ставя острожки и городки. Стройку их приходилось выполнять самим ратным людям.
«Город рубили всей ратью по раскладке, назначая бревен по пять на человека. Местных жителей тоже заставляли рубить бревна по 15 или по 10. После рубки и подвозки их отправляли скорее по домам. К строительству города не допускали чужих из боязни, чтобы не сметили, сколько пришло к ним ратных людей».
Городки и острожки были малы и, за неблагоустроенностью, неряшливы, грязны, но сыграли огромную политическую и хозяйственную роль. Поставленный среди распыленного на огромном пространстве населения, острожек с небольшим числом ратных людей сразу становился центром огромной области. Такие городки и острожки быстро обрастали посадами; как дерево ветви, они быстро разбрасывали вокруг себя починки, заимки, деревнюхи и поселки, которые опираясь на острожек, в свою очередь упрочивали его положение.
И лишь только первые посельники начинали чувствовать крепость и силу, сейчас же по рекам и дорогам землепроходцы быстро двигались дальше…
Так за казацкой саблей шла купецкая деньга, а за ними двигались охочие работники: пахари, плотники, пимокаты, охотники, разные добытчики. Они шли месяцами по беспутью, прокладывая тропы и пути по непроходимым сибирским землям, шли пешком, ехали конно и на телегах, плыли на утлых лодках по могучим сибирским рекам. Много их погибло от дорожных тягот и коварства кочевников. Вымирали и от болезней, и от плохой воды, гибли от лихорадки. Но упорно шли и дрались за освоение дикого приволья. Рубили лес, корчевали пни, осушали болотины и под скудным солнышком прокладывали сохой первую борозду. И там, где пролегала эта борозда, вскоре золотились нивы и раздавалась широкая и сердечная русская песня. И напрасно в вихре пыли, в огне и реве рвались разъяренные орды на городки и острожки, — они стояли крепко и нерушимо. Каждый посельник бился за десятерых и отгонял врага. Рождалась мирная трудовая жизнь: пахари поднимали целину, в кузницах ковали топоры, косы, серпы, а в иные дни — и воинские доспехи, в горах рудокопы добывали медные и железные руды. Через леса и пустыни пролегли дороги, на реках появились мосты и суда, построенные из смолистого сибирского леса.
К концу шестнадцатого столетия землепроходцы перешли с Оби-реки на могучий Енисей и неудержимым потоком двинулись дальше: одни на северо-восток, к берегам Охотского моря, другие — на юг, достигая Алтая и озера Байкал; третьи — на юго-восток, оседая в Приамурье. Они проникали во все уголки сибирской сторонушки: и в дремучую тайгу, и в далекую неприглядную северную тундру, и даже на скалистые острова Ледовитого океана.
Каждое из открытий рождало в русском человеке новые мечты, поднимало его на невиданные подвиги. Совершенно обоснованно сказал известный сибирский ученый и публицист Николай Михайлович Ядринцев:
«Все, что мог сделать русский народ в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, а результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в истории мира, который прошел бы пространство, большее пространства всей Европы, и утвердился на нем? Нет, вы не покажите такого народа!»
Слава великому русскому народу, утвердившему мир и процветание на сибирской земле!
Примечания
Note1
саадак — лук в чехле и колчан со стрелами
(обратно)Note2
поприще — расстояние, которое пробегает лошадь от отдыха до отдыха
(обратно)Note3
моолча — род мешка, с прорезями для головы и рук
(обратно)Note4
намья — амбарушка для хранения продовольствия и пушнины
(обратно)
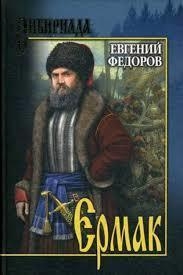

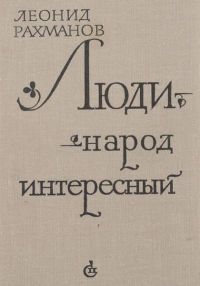



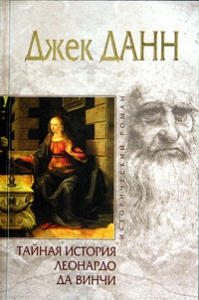


Комментарии к книге «Ермак», Евгений Александрович Фёдоров
Всего 0 комментариев