Виктор Мануйлов Жернова. 1918–1953 Книга десятая Выстоять и победить
Часть 36
Глава 1
В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков.
Казалось бы, какой смысл удерживать эти ничтожные кусочки обрывистого берега, рассеченного глубокими оврагами, губить здесь десятки тысяч советских солдат? И немцы не собирались превращать Сталинград в главную и основную цель всей летней кампании сорок второго года, имея намерение лишь прекратить по Волге судоходство, что, кстати, им удалось с выходом к Волге севернее Сталинграда. Но выход к Волге на пустынном берегу — это одно, а овладение городом, носящим имя Сталина, совсем другое. Именно от этой точки должно было распространиться господство германских войск над главной водной артерией русских в обе стороны.
К ноябрю немецкое вклинение в глубину советской территории на юге напоминало гигантский язык, вытянутый в сторону Каспия между Главным Кавказским хребтом и излучиной Волги, обращенной к Дону. В северо-восточной части этого «языка» образовался «нарыв», центром которого и стал Сталинград. Но, начиная с октября, в северной части этого нарыва, в районе города Серафимович, и в юго-восточной, в районе Сарпинских озер, уже сгущались дивизии и корпуса Красной армии, готовые ударить с двух сторон и отсечь 6-ю армию генерала Паулюса и части 4-й танковой от основной массы немецких войск.
Предстоящей операции, предложенной Жуковым и Василевским, Сталин присвоил кодовое наименование «Уран». Сопутствующие операции тоже получили кодовые названия из списка планет солнечной системы.
* * *
Начальник Четвертого управления НКВД (разведка, террор, диверсии в тылу противника), генерал-майор Судоплатов, подтянутый, с мягкими, типично славянскими чертами лица, умными карими глазами, с двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Красной звезды на гимнастерке, стоял перед Сталиным и смотрел на него несколько напряженным, ожидающим взглядом. Он только что закончил доклад о работе своего управления, посвященный в основном дезинформации противника с помощью перевербовки засылаемых в наши тылы агентов абвера.
Сталин, до этого ходивший по ковровой дорожке от стола до двери и обратно, остановился перед генералом и, пытливо заглянув в его глаза, спросил:
— Вы сказали, что ваш агент по кличке «Макс» прошел специальную подготовку в немецкой разведшколе…
— Так точно, товарищ Сталин. Только я должен уточнить. Кличку «Макс» нашему агенту дали немцы. У нас он проходит по кличке «Гейне».
— Почему именно «Гейне»? Он что, еврей?
— Никак нет, товарищ Сталин. Русский.
— Он любит этого поэта?
— Не знаю.
— Почему же тогда вы переняли у немцев их кличку «Макс»? Эта кличка лучше подходит вашему агенту?
— Никак нет. Лишь только потому, что под этой кличкой он работает у нас.
— Впрочем, это не имеет значения, — отстранил Сталин движением руки все предыдущие уточнения. — А не могли немцы перевербовать этого вашего… «Гейне»-«Макса»?
— Никак нет, товарищ Сталин. Мы верим этому человеку, верим в его преданность нашему делу, своей родине. Более того. С его помощью мы обезвредили двадцать восемь вражеских агентов, часть из них перевербовали, они работают под нашим контролем.
— Это хорошо, товарищ Судоплатов, что вы верите своим людям. Но осторожность никогда не помешает.
— Так точно, товарищ Сталин. Между тем есть агенты, которым мы доверяем полностью. К таким агентам относится и «Гейне».
— И что это за человек?
— Его фамилия Демьянов, зовут Александром. Он из знатного дворянского рода. Его прадед был первым атаманом кубанского казачества. Отец, офицер царской армии, погиб на германском фронте в пятнадцатом году. Дядя был начальником контрразведки у белых на Северном Кавказе, служил у генерала Улагая. Умер от тифа в плену у красных. Мать закончила Бестужевские курсы, пользовалась известностью в аристократических кругах Петербурга. Она отказалась уехать в эмиграцию. Они вдвоем с сыном жили в Петербурге, бедствовали. Несмотря на все это, Демьянов остался верен своей родине. Он сотрудничает с нами более десяти лет. Художники, артисты, писатели, дипломаты иностранных государств — вот сфера его деятельности до войны. Ему не пришлось менять ни образа жизни, ни своего поведения, чтобы стать своим в этой среде. Немаловажно и то обстоятельство, что вместе с ним на нашу разведку работает и его жена, Татьяна Березанцова, и тесть, профессор медицины Березанцов. Это облегчает работу нашего агента.
— А немцы… они ему тоже доверяют полностью?
— Пока у нас нет данных, которые бы говорили об обратном. По нашей легенде Демьянов перешел на сторону немцев, будучи добровольцем народного ополчения, он ненавидит советскую власть, которая отняла у него все. Правда, поначалу немцы встретили его весьма настороженно, но после тщательной проверки убедились, что Демьянов находился в разработке их московской резидентуры еще в тридцатые годы, что его хорошо знают в эмигрантских кругах.
— И какую задачу поставили они перед «Максом» немцы?
— Осесть в Москве, создать агентурную сеть и проникнуть в наши штабы. Мы пунктуально решаем эту поставленную перед ним задачу, товарищ Сталин. В настоящее время «Гейне» является офицером связи при Генеральном штабе, он «завербовал» несколько работников Генштаба, бывших офицеров царской армии.
— Это очень хорошо, товарищ Судоплатов. Я почему вас спрашиваю об этом, — произнес Сталин и, замолчав, снова двинулся к двери. Но, пройдя всего три-четыре шага, остановился, обернулся, продолжил: — Я потому спрашиваю, что, если ему так доверяют немцы, мы могли бы использовать его не просто для вылавливания немецкой агентуры и проведения малозначительных операций, а для передачи немецкому командованию дезинформации стратегического характера… Как вы думаете, ваш «Гейне» сможет выполнить такую работу?
— Я уверен, что сможет. Все дело в том, насколько эта дезинформация будет похожа на правду.
— Я думаю, что с помощью работников Генштаба вы будете снабжать немцев не только дезинформацией, но и весьма полезной для немцев информацией… Должен вам сказать, что в ближайшее время на фронте предстоят значительные события, и нам хотелось бы, чтобы немцы обратили свое внимание на такие из них, которые не имеют для нас решающего значения. И не заметили другие, более важные… — Сталин снова остановился напротив генерала Судоплатова, посмотрел на него снизу вверх, закончил: — Обратитесь от моего имени к начальнику Генштаба Василевскому. Он поможет вам решить эту задачу. Но о ней должно знать весьма ограниченное число людей. Список этих людей представите мне лично. Желаю успеха.
* * *
В тот же день Сталин принял начальника Генштаба Василевского.
— Я сегодня разговаривал с генералом Судоплатовым, — начал он, едва Василевский переступил порог его кабинета. — У них имеется агент, работающий на немцев и служащий в вашем штабе. Немцы ему доверяют. Хорошо бы использовать его для передачи немцам стратегической дезинформации. Ну, например, что мы готовим наступление под Москвой. Или на Кавказе. Или, скажем, там и там одновременно. И отвлекающий удар в районе Сталинграда. Потому что, как мне представляется, совершенно скрыть наши там приготовления вряд ли возможно. Что-то да станет немцам известно. Им наверняка уже кое-что известно. Но это не должно быть связано с предстоящей операцией «Уран». Пусть немцы по-прежнему считают, что мы кое-где, как и раньше, готовим резервы для привлечения их непосредственно к обороне Сталинграда. Как вы на это смотрите?
— О существовании этого агента мне известно, товарищ Сталин. Его устраивали к нам в Генштаб не без моего участия. Мы тоже подумывали об использовании его в целях дезинформации. Генерал Штеменко занимается детальной разработкой этой дезинформации. Предполагается сообщить немцам о наступлении наших войск на Кавказе, под Москвой и Ленинградом. Я не доложил вам об этом исключительно потому, что план этой дезинформации не вполне готов.
— Очень хорошо, что наши с вами точки зрения совпали, — произнес Сталин, но Василевский уловил в голосе Верховного нотки недовольства. — Я думаю, товарищ Василевский, что Ленинград надо исключить из этого списка. Хотя бы потому, что предыдущая попытка наступления под Ленинградом не дала ожидаемых результатов. А для подготовки новой нужно время. К тому же ваш агент не может знать всех тайн Генерального штаба. А немецкий Генштаб такая осведомленность агента может насторожить.
— Совершенно согласен с вами, товарищ Сталин, — склонил Василевский русоволосую голову. — Я передам Штеменко, чтобы он исключил Ленинград из разработки.
— Мы должны атакующими действиями на других направлениях заставить немцев тратить свои резервы и лишить их возможности придти на помощь 6-й армии Паулюса… Если, разумеется, у нас с вами получится все, что мы запланировали. Имейте в виду, что об этой дезинформационной операции могут знать лишь трое: вы, Штеменко и Судоплатов. И никто больше, — произнес Сталин. И повторил с нажимом: — Ни-кто! И впредь ставьте меня в известность обо всем, что касается этой задачи.
— Так точно, товарищ Сталин.
— И еще вот что, товарищ Василевский. Пусть этот агент передаст немцам, что наступлением под Москвой будет командовать Жюков.
Василевский с изумлением вскинул голову и уставился на Сталина, но переспрашивать не стал: Сталин в это время возился с трубкой, точно в кабинете уже никого не было.
Глава 2
Едва начальник Генштаба вышел за дверь, как заглянул Поскребышев и сообщил:
— Курчатов. Игорь Васильевич.
— Проси, — прошелестело в ответ.
В кабинет стремительной походкой вошел высокий человек не более сорока лет от роду, с пронзительными черными глазами, очень похожий на тех революционеров-разночинцев конца девятнадцатого века, которые сперва шли в народ, затем в ссылку, а из нее в эмиграцию.
Сталин пошел ему навстречу с улыбкой, которая говорила о том, что он рад встрече, давно ее ждал, да все как-то не получалось, и вот наконец-то встретились. Он протянул руку, задержал руку посетителя в своей и заговорил, но в обыкновенной своей медлительной манере, так не вяжущейся с улыбкой, продолжающей блуждать на его губах и в излучинах табачных глаз:
— Рад с вами познакомиться, Игорь Васильевич. Моряки очень похвально отзываются о вашей работе по размагничиванию кораблей на Черном и Каспийском морях. Теперь, как я понимаю, немецкие магнитные мины не станут наносить ущерб нашему флоту?
— Не станут, Иосиф Виссарионович. Пока немецкие конструкторы не придумают что-нибудь нового.
— Очень хорошо, — произнес Сталин, беря Курчатова под руку. Проводив его к столу, предложил сесть. Когда оба уселись напротив друг друга, спросил: — А что у нас получается с танковой броней?
— И с броней мы разобрались, Иосиф Виссарионович. Не стану, с вашего позволения, вдаваться в технические подробности, скажу только одно, что броня в результате соответствующих присадок и термообработки приобрела оба взаимоисключающих свойства: сравнительно высокую вязкость при повышенной твердости. Хотя, разумеется, это не предел, и возможности для улучшения танковой брони еще не исчерпаны. Нам представляется, что и комиссия по военно-техническим вопросам при Академии наук СССР должна продолжать свою работу.
— А что, кто-то хочет ее закрыть?
— Да, некоторые товарищи считают, что она работу свою выполнила и себя исчерпала.
— Товарищи явно заблуждаются, Игорь Васильевич. У нас, как всегда, наблюдаются две крайности. С одной стороны — тяга создавать комиссии по любому случаю, с другой — закрывать их, едва получив мало-мальский результат. В данном случае, как мне представляется, кто-то подвержен мании второй крайности. Не волнуйтесь, мы не собираемся распускать вашу комиссию. Даже, пожалуй, наоборот: постараемся расширить пределы ее деятельности. Но меня, Игорь Васильевич, интересует вот какой вопрос. Не можете ли вы популярно объяснить, что такое расщепление атома урана и к чему оно может привести с военной, так сказать, точки зрения?
— А что, есть какие-то новые данные по этой проблеме? — подался Курчатов всем своим телом к собеседнику, и на подвижном лице его отразились неподдельный интерес и нетерпение.
— Кое-какие данные имеются, — уклонился Сталин от прямого ответа. — Но вы не ответили на мой вопрос.
— При расщеплении атомов урана должна выделяться колоссальная энергия. Более того, при определенных условиях, пока еще не совсем ясных, может возникнуть цепная реакция, последствия которой трудно предугадать, — заключил Курчатов, продолжая буравить Сталина нетерпеливым взглядом.
Сталин усмехнулся в усы. Курчатов не первый, кому он задает подобный вопрос, стараясь уяснить политический и практический аспекты этой темы. Поверив в реальность создания атомной бомбы, он советовался по этой проблеме с различными учеными, стараясь отыскать среди них такого, который смог бы возглавить некий орган, способный теоретически и практически решить задачу создания столь необычного оружия в СССР, понимая, что от того, кто возглавит эту работу, зависит девяносто процентов успеха. Курчатов, сочетающий в себе качества крупного ученого и организатора, что он и доказал на деле, возглавив научно-техническую комиссию, представлялся Сталину наиболее вероятным руководителем такого органа. Но именно поэтому он пригласил его на беседу последним, чтобы его кандидатура не накладывала некой тени на других.
— Я вижу, Игорь Васильевич, что эта проблема вас явно заинтересовала, — произнес Сталин, раскурив свою трубку.
— Еще бы, товарищ Сталин! — воскликнул Курчатов. — Я столько лет отдал изучению этой проблемы! К тому же товарищ Берия уже разговаривал со мной на эту тему. И я даже подготовил докладную записку, в которой изложил свое видение проблемы и способов ее решения. К сожалению, пока мы в этом направлении не продвинулись ни на шаг. У нас нет ни помещения, ни денег, ни оборудования. А та база, что имеется в Казани, не способствует плодотворной работе. Да и большинство ученых-ядерщиков все еще заняты не своим основным делом…
— И каким же именно?
— Кто служит в радиовойсках, кто простым рентгенологом в армейских госпиталях. Талантливый физик Флёров, например, служит специалистом по спецоборудованию в авиационном полку. Кое-кто все еще продолжает вести работы по размагничиванию кораблей, улучшению броневой стали…
— Что поделаешь, товарищ Курчатов, если ваши атомщики проявляют себя такими разносторонними специалистами. Их работа крайне важна. Но, как говорится, всякому овощу свое время. И вашему овощу время пришло. Именно поэтому я и обратился к вам, чтобы хоть в малой степени удовлетворить свое невежество. Так вот, должен вас известить: в Америке вплотную заняты этой проблемой и уже достигли кое-каких результатов на пути… э-эээ… получения цепной реакции. Кое-кто даже говорит о создании атомной бомбы. Как вы на это смотрите?
— Теоретически это вполне возможно. Что касается практического осуществления, то здесь еще очень много неясного. Мы до войны тоже наблюдали цепную реакцию деления ядер урана-235. Но в таких количествах и условиях, которые не позволяют делать далеко идущие выводы. Сложность заключается в том, как из ураносодержащей руды выделить уран-235. Пока известны два способа, но ни один из них до войны мы не успели опробовать. Наконец, у нас нет урана в таких количествах, чтобы вести масштабную работу. Нужна разведка месторождений, их освоение. В то же время, насколько мне известно, в Северо-Американских штатах сейчас собраны все лучшие физики и математики из разных стран, кто еще до войны работал в области расщепления атомов урана. Наверняка они в своих исследованиях продвинулись значительно дальше того уровня, который мне известен.
— Действительно, мы мало знаем о том, что там делается, — кивнул головой Сталин. — Есть кое-какие данные, что и в Германии работают над этой же проблемой.
— Вполне возможно, Иосиф Виссарионович, — несколько успокоился Курчатов. — Вполне возможно. Но в Германии остались ученые, которые никогда не блистали особыми успехами в этой области. Хотя, конечно, и в этом вопросе мне известно далеко не все.
— В свое время мы не придали значения предложению харьковских ученых о создании сверхмощного взрывного устройства: не до того было, — произнес Сталин. — Но теперь, в свете имеющихся фактов, и нам необходимо заняться этой проблемой вплотную. И для начала собрать в одном месте тех, кто может работать по данной теме. Есть у вас на примете такие люди?
— Да, товарищ Сталин, — ответил Курчатов, почувствовав в интонации собеседника некую официальность. — Но они разбросаны по разным ведомствам. И судьба большинства из них мне не известна. По просьбе товарища Берия я составил и передал ему список специалистов, но до сих пор не знаю, что сделано в этом направлении, — закончил Курчатов и смело глянул в глаза Сталину.
— Товарищ Берия сейчас занимается кадровой проблемой, — сообщил Сталин. — Не все так просто, товарищ Курчатов. Но самое главное в нашем деле — решить, стоит ли овчинка выделки… если иметь в виду, что сегодня почти все средства идут на вооружение нашей армии, а бомба невероятной мощности — это еще очень не скоро. И средств она потребует огромных. Раскрою вам секрет: наша разведка с некоторых пор начала активно работать в этом направлении. Сами понимаете, что здесь нужна кропотливость и чрезвычайная осторожность. Сегодня мы уже получаем кое-какие данные, которые помогут вам с большей уверенностью приступить к решению поставленной задачи. Я советовался с некоторыми авторитетными товарищами. Они в один голос рекомендовали вас в качестве руководителя проекта.
С этими словами Сталин поднялся из-за стола. Встал и Курчатов.
— Мне кажется… более того, я уверен, что эта задача вам по плечу, — закончил Сталин. — Настало время подумать о создании некоего центра по проблеме атома. Я бы даже сказал: атомной бомбы. Как вы считаете, Игорь Васильевич? — спросил Сталин, провожая академика до двери.
— Разумеется! — воскликнул Курчатов. — И как можно быстрее!
— Что ж, на этом и порешим. Заканчивайте свои дела в комитете и приступайте к работе над проектом. Думаю, что в ближайшем будущем вам со своими коллегами можно будет перебраться в Москву. Товарищ Берия и нарком по производству вооружений товарищ Ванников призваны помогать вам в этом деле, а товарищ Молотов возглавит эту работу в качестве координатора.
Глава 3
Пасмурный ноябрьский день быстро погружался во тьму ранней ночи. По Волге шла шуга, плыли отдельные крупные льдины, иногда целые ледовые поля. Из-за Волги время от времени били немецкие орудия и минометы, и над подвижной поверхностью реки вставали с гулом и тяжелыми вздохами белые столбы. Тогда возникали темные окна волжской воды, они двигались, окруженные шугой, парили, затем незаметно поглощались ею, и только глухой шум и треск исторгались с поверхности реки, впитывая в себя ни на минуту не прекращающиеся звуки боя, идущего в развалинах Сталинграда.
Сообщение между берегами было практически прервано. Пробиться через шугу, конечно, можно, но слишком велик риск, что плавсредство отнесет к берегу, занятому противником, и тогда шансов остаться в живых было бы не больше одного на тысячу. Лишь самые отважные рисковали перебраться с одного берега на другой в такое время. Да и то в виду крайней необходимости.
Подполковника Генерального штаба Николая Матова рисковать заставляло задание генерала Угланова: непременно побывать на правом берегу Волги в Шестьдесят второй и Шестьдесят четвертой армиях, выяснить, смогут ли они удержать занимаемые позиции, как долго, чем надо им помочь, чтобы они все-таки их удержали, приковывая к себе основные силы Шестой немецкой армии.
Матов привык выполнять приказы своего начальства пунктуально. Он даже представить себе не мог, что станет ссылаться на невозможность переправы с одного берега на другой, чтобы данные о положении армий собирать не в самих армиях, а вдали от них, хотя и здесь, в штабе Сталинградского фронта, имели прямую связь с правым берегом и знали все детали тамошней обстановки. А обстановка была такова: немцы начали новое наступление большими силами танков и пехоты, они в районе завода «Баррикады» вышли к Волге, отрезав от армии генерала Чуйкова одну из ее дивизий.
Матов стоял на берегу и смотрел, как движется лед. Льдины терлись о берег, налезали на него, звенели и трещали. Вступить на лед и сойти с него на том берегу — это, пожалуй, самое сложное. Но одному пускаться в путь рискованно. И Матов вернулся в землянку, где располагался оперативный отдел штаба Сталинградского фронта.
Начальник оперативного отдела подполковник Кучеренко, еще недавно работавший в Генштабе и потому хорошо знакомый Матову, встретил своего бывшего сослуживца молчаливым вопросом.
— Мне бы ватник, маскхалат, да сапоги подбить шипами, чтобы не скользили. Ну и… длинный багор, веревку метров двадцать-тридцать и толкового сопровождающего, — ответил Матов на немой вопрос Кучеренко.
— Все-таки решил идти?
— Ты же знаешь наше правило: все увидеть самому. Или можешь предложить что-то другое?
— Ничего другого сегодня я тебе предложить не могу. Но завтра-послезавтра на тот берег пойдут бронекатера, и ты без лишнего риска попадешь к Чуйкову.
— Завтра-послезавтра меня не устраивает. Мне надо сегодня.
— Что ж, удерживать тебя не стану. А халат, сапоги, сопровождающего и все прочее обеспечу. Когда собираешься идти?
— Как только взойдет луна.
— Тоже верно. Что, опыт имеется? Ах, да, ты же из поморов… Тогда тебе и карты в руки. А пока отдохни, чаю попей, а я распоряжусь. Заодно сообщу на тот берег, чтобы встретили.
Через некоторое время в землянку вошел человек в серой телогрейке, в накинутой на плечи белой куртке, шапке-ушанке и сапогах, но явно не военный, остановился у порога, огляделся. Было ему лет пятьдесят, морщинистое обветренное лицо, неряшливая бородка, мутные карие глаза, низенький и кривоногий. Он остановил свой взгляд на Матове, спросил:
— С тобой, что ль, пойдем?
— Со мной.
— А-а, ну-ну, гляди. Дело-то не шутейное — Волгу перескочить по такому льду. Тут и бывалый народ, случалось, нырял до самого дна… раков кормить. Звать-то-величать как?
— Николаем.
— А меня Федор Кузьмичом. Можно просто Кузьмичом: не из бар чай. Я смотрю, собрался ты хорошо… Приходилось, что ль, попрыгушками заниматься?
— Было дело.
— Ну, тогда что ж, тогда, бог даст, перескочим. Если фриц не подстрелит. Эка они там как сцепились-то — страсть. Я в Первую имперьлистическую воевал — такого не упомню.
— Времена меняются, — откликнулся, вставая, подполковник Матов.
— Оно конечно, кто ж спорит… — легко согласился Федор Кузьмич.
Луна выползла на очистившееся от облаков небо, укутанная в радужный воротник. Усилившийся к ночи мороз пощипывал щеки. Матов глянул на светящийся циферблат часов: 22–40. Бой на той стороне постепенно стихал. Лишь иногда вдруг вспыхнет яростная перестрелка, раздадутся слабые хлопки гранат, будто кто-то там что-то не успел доделать за день и теперь подчищал.
— Ну, что ж, Николай, двинем помаленьку, — произнес Кузьмич и, задавив ногой цигарку, шагнул к движущейся массе льда, выждал немного и неожиданно ловко перепрыгнул на плывущую мимо льдину.
Матов подождал, пока выберется почти вся веревка, и, глубоко вдохнув воздуху, тоже вспрыгнул на эту же льдину. Льдина качнулась под его ногами, но он удержал равновесие с помощью багра, затем выбрался на середину, внимательно следя за проводником. Тот, потыкав багром туда-сюда, перескочил на другую льдину и дернул за веревку, приглашая Матова следовать за собой. Матов перебрался к Кузьмичу, на этот раз более уверенно.
— Во-он видишь… поле? — спросил проводник, показав рукой на середину Волги. — Вот как до него доберемся, так, считай, мы на той стороне.
Матов поля не видел. Он видел что-то однообразно серое и зыбкое, но нисколько не усомнился в правдивости слов проводника: тут, видимо, нужен опыт, какого у Матова не было даже в Поморье. Там если и прыгали по льдинам, то исключительно днем, подбираясь к лежбищам тюленей. Да и поля там — это ж действительно были поля, а не жалкие островки, плывущие по Волге.
До середины реки добрались без приключений. Но здесь лед шел значительно быстрее, зато и льдины были крупнее и теснились одна к другой. По этим льдинам они бежали почти без остановок, перепрыгивая через трещины, канавы и воронки, заполненные шугой. Впереди двигались темные ноги Федора Кузьмича, а верхняя часть, укрытая белой курткой, точно висела в темном воздухе, то отдаляясь, то приближаясь, и Матов следил исключительно за ногами, запоминая, где они и как двигались — легкой ли трусцой, широким ли шагом или скачками.
Высокий обрывистый берег закрыл половину неба черной стеной. Теперь ориентироваться можно было лишь по взлетающим время от времени осветительным ракетам и пулеметным трассам, иногда проплывающим над головой.
Луна освещала реку настолько хорошо, что вблизи видны даже маленькие льдинки. Матов вполне освоился и теперь мог различать в отдалении и ледяные поля, и отдельные льдины, но только сейчас со всей отчетливостью понял, что пойди он один, еще неизвестно, дошел бы даже и до середины реки.
Плывущее ледяное поле, медленно вращаясь, совместилось с другим полем, прижатым к берегу. Кузьмич перескочил на него, Матов следом. И тут вдруг завыло, заскрежетало, и над головой понеслись огненные стрелы: с левого берега ударили «катюши», не менее десятка установок сразу.
Еще прыжок, пробежка, прыжок и… Матов, не рассчитав прыжка, оступился, потерял равновесие, нога провалилась в шугу, сапог хлебнул воды, но его подхватили под руки, выдернули из ледяной воды — и он оказался на снегу, который никуда не двигался и не раскачивался под ногами.
Кто-то, в солдатском ватнике и шапке, спросил:
— Вы — подполковник Матов?
— Я, — ответил Матов.
— Капитан Логунов, — представился человек. — Командующий Шестьдесят второй армией генерал-лейтенант Чуйков ждет вас в своем штабе. Прошу.
Матов отвязал от пояса веревку, передал багор Кузьмичу.
— Когда назад-то? — спросил тот.
— Думаю, следующей ночью. Подождете?
— А куды ж я денусь? Мне велено вас сюды и обратно.
— Где вас искать?
— А тут же, при штабе.
— Идемте, идемте, — поторопил Логунов, — а то фриц начнет сейчас обстреливать берег из минометов.
Штаб армии представлял из себя глубокую землянку, устроенную в обрывистом берегу, с ответвлениями, узкими ходами, отдельными помещениями, обшитыми тесом, со множеством народу, среди которого встречались женщины с детьми, раненые и много еще кого, к штабу явно не имеющие никакого отношения.
— Немец так бомбил и обстреливал минувшие два дня, что многие укрытия обвалились, вот народ и набился сюда, — пояснил капитан Логунов. — Сейчас саперы роют землянки, переведем людей туда, а лед встанет, на тот берег. У нас раненых скопилось — девать некуда. Так вот и живем… Вы у нас впервые?
— Да.
— Ничего, жить можно, — подвел итог капитан. — Можно сказать, курорт. А вот наверху…
Они остановились у полуоткрытой двери, откуда слышался настойчивый голос:
— «Земля», я «Берег»! Как слышите меня? Прием…
Миновали пункт связи и очутились еще у одной двери. Капитан одернул ватник, открыл дверь.
— Разрешите, товарищ генерал?
— Входи, Логунов. Встретил?
— Так точно, встретил! — и отступил в сторону.
Матов шагнул в землянку, освещенную двумя электрическими лампочками, увидел невысокого, широкоплечего генерал-лейтенанта с бугристым открытым лицом, с зачесанными назад черными волосами, с внимательным взглядом сквозь узкие щелки из-под косматых бровей, представился:
— Подполковник Матов, оперативный отдел Генштаба.
— Входите, подполковник, входите. Логунов, ты документы проверил у товарища подполковника?
— Никак нет, товарищ генерал. Да и зачем? Звонили же…
— Звонили… Мало ли что.
Матов достал из кармана документы, протянул генералу. Тот посмотрел, потом спросил, задержав руку Матова в своей:
— Искупались?
— Одной ногой: не рассчитал прыжка.
— Вот объясните мне, что за нужда заставила вас рисковать жизнью?
— Приказ, товарищ генерал.
— Не жалеет ваше начальство своих подчиненных. Или не представляет себе, в каких условиях мы тут существуем.
— Именно для того, чтобы представлять эти условия, товарищ генерал.
— Ну что ж, рад слышать. А то оставайтесь у меня: мне ответственные и смелые командиры нужны.
— С удовольствием, товарищ генерал. Но сперва я должен выполнить порученное мне задание.
— А в чем оно заключается?
— Побывать на передовой, своими глазами увидеть и понять условия, в которых приходится сражаться вашим войскам.
— Что ж, на передовой, так на передовой. Но учтите: немец сейчас давит на нас со страшной силой. Это сегодня ночью он что-то притих, а то ведь атака за атакой. Одних отбросим, он заменяет атакующих другими — и так уже четвертый день. Но и фриц, видать, тоже устал. А нам уставать не положено: мы на своей земле, от нее и черпаем силы. Сейчас готовимся контратаковать и вернуть утраченные позиции. Немец решил перекурить, а мы ему не позволим. Так что, если угодно, можете прямо отсюда двигать в расположение Тридцать девятой гвардейской дивизии, которая ведет бои в районе завода «Красный октябрь». Немец там потеснил их немножко, требуется вернуть утраченное. Капитан Логунов вас проводит. Только сначала переобуйтесь, а то ноги отморозите. Лучше в валенки. Логунов, организуй подполковнику валенки. И ватные штаны. А мы пока перекусим, чем бог послал.
Бог послал пшенку со «вторым фронтом», квашеную капусту и, разумеется, водку.
Глава 4
Штаб дивизии расположился метрах в трехстах от передовой в подвале среди громоздящихся развалин. Подвал большой, перекрытия лежат на бетонных стенах и колоннах, с отдельными глухими помещениями со стальными дверями. В одних помещениях разместился медсанбат, в других склады с боеприпасами и продовольствием, кое-где в потолке огромные дыры, и внизу страшно разворочено от взрыва тяжелых бомб.
Командира дивизии Будникова, моложавого полковника с высоким лбом и кисточкой усов под носом, нашли в помещении, заставленном большими ящиками с заводским оборудованием. Под самым потолком узкая щель, перед нею помост из ящиков, на помосте стереотруба. Возле щели двое: наблюдатели.
Сам комдив расположился рядом, за железобетонной стеной. Он брился возле железной бочки из-под горючего, с прорезанным отверстием для дров и жестяной трубой, уходящей в какую-то дыру. В бочке горели доски от ящиков. На бочке стоял ведерный чайник. В углу телефонный аппарат и рация, возле них, прижавшись друг к другу спинами, спали двое. Третий клевал носом, привалившись к стене. С потолка на проволоке свешивался керосиновый фонарь, какие используют для подсветки бакенов.
Матов представился.
Полковник кивнул головой и повел рукой: располагайтесь, мол, пока я занят. Матов сел на ящик из-под снарядов, присмотрелся к полковнику, вспомнил: года три тому назад будущий комдив был еще майором, учился в академии на курс выше, занимался классической борьбой.
Полковник закончил бриться, протер лицо полотенцем, смоченным горячей водой из чайника. Встал, широкий, основательный. Протянул руку.
— А я вас помню, — пророкотал он хрипловатым басом. — Вы выступали с докладом о боях с японцами у озера Хасан. Хороший был доклад. Это я вам не из лести говорю, а так оно было на самом деле.
— Я вас тоже помню: на одном из парадов вы несли знамя академии. А еще видел вас на борцовском ковре…
— Да, была жизнь, были надежды и кое-что еще, и все это оказалось миражом, по сравнению с нынешней реальностью. А реальность такова: моя дивизия, от которой осталось не более полка, держит восточную часть завода да пару прилегающих к нему развалин бывшей улицы. А против нас четыре дивизии, из них одна танковая, и несколько отдельных саперных батальонов. Правда, тоже весьма потрепанных. — И без всяких переходов: — Есть хотите?
— Нет, спасибо: поел у Чуйкова.
— Ну а я, если не возражаете…
— Да-да, конечно…
Полковнику принесли котелок с кашей, он уселся на ящик, котелок поставил на колени, стал есть.
— Вы спрашивайте, отвечу на все вопросы, — произнес он с набитым ртом.
— Четыре дивизии и… полк… Как, выстоите?
— Конечно. А куда мы денемся? К тому же завтра придут катера, подбросят пополнение, боеприпасы, продовольствие, заберут раненых. А там, бог даст, и Волга встанет. Да и немец уже не тот, скажу я вам. Нет, не тот. Уже ни того гонора, что был, ни той спеси, ни уверенности. Да и то сказать… Вы, кстати, надолго к нам?
— Завтра должен побывать в Шестьдесят четвертой армии, послезавтра вернуться на тот берег, потом в Москву, — ответил Матов.
— Вот завтра, как развиднеется, сами увидите: трупы, трупы и трупы. И сгоревшие танки. Мы не даем их убирать. Чуть сунутся — тут наши снайпера и пулеметчики: не лезь! А почему? А потому, скажу я вам, что ему завтра опять идти в атаку, а он пойдет по трупам своих же солдат, мимо своих же сгоревших танков… Каково? Особенно, если его только что пригнали откуда-нибудь из Европы… У кого угодно поджилки затрясутся. А тут, я вам доложу, кого только нету: и французы, и венгры, и хорваты, и бельгийцы, и даже поляки и латыши. Не говоря уже о самих фрицах. И ничего, стоим. Скажи мне, что будем стоять вот так еще три-четыре месяца назад, когда отступали по двадцати-тридцати километров в день, не поверил бы. Тем более что драться станем за каждый метр, за каждый этаж, за каждый дом. И те будем стараться отобрать назад.
Полковник, доев кашу, налил в кружку из чайника, спросил:
— Чай-то хоть будете?
— Буду.
— А вы, капитан?
— Не откажусь, — встрепенулся Логунов, задремавший возле печки.
Молча пили чай. Затем Будников спросил:
— Так все же в окопы?
— Да, — ответил Матов.
— Ну что ж, в окопы так в окопы, — согласился Будников почти теми же словами, что и Чуйков. И, кивнув в сторону опять прикорнувшего капитана: — Логунов вас проводит. — Пояснил: — Он тут каждую дыру знает.
Под утро Матов вместе с Логуновым и сержантом-связистом пробрались в один из батальонов, оборонявших развалины четырехэтажного здания на перекрестке двух улиц.
Командир батальона лейтенант Криворучко, молодой, не старше двадцати пяти, обросший рыжеватой щетиной, с перевязанной шеей, встретил гостей неприветливо:
— Что, Логунов, опять пожаловали проверять наши данные? Сами знаете, мы если и врем в своих отчетах, то самую малость, и все для пользы дела.
— И что же ты нам наврал в последней сводке?
— Я даже и не наврал, а только запятую не там поставил, — проворчал Криворучко.
— И все-таки…
— А вот то, что шестнадцать легко раненных не включил в список активных штыков. И себя тоже. А я, между прочим, гнал их в медсанбат: идите, мол, имеете полное право. А они уперлись: раны, мол, пустяковые, да и перед товарищами неловко. А силой я их гнать не могу. Так-то вот.
— Успокойся, Криворучко. Не я сегодня у тебя в гостях, а вот товарищ подполковник из Генштаба.
— Откуда, откуда?
— Из Генштаба, говорю. Подполковник Матов. Знакомьтесь.
— Виноват, товарищ подполковник: не разглядел.
— Ни в чем вы не виноваты. И я к вам не из праздного любопытства. Если вас не затруднит, обрисуйте обстановку.
— Да тут никаких трудностей нет. Против нас справа действует сто сорок седьмая пехотная дивизия. Людей у них тоже не густо: по тридцать-сорок человек в роте. Слева еще одна дивизия — двести десятая. Эта недавно переброшена к нам из-под Клетской, людей там побольше. Дивизия сборная: один полк из немцев, другой из хорватов, третий из французов, бельгийцев и еще черт знает из кого. Немцы дерутся неплохо, но и они уже нахлебались по самое некуда. Остальные — так себе. Предпочитают перестрелку с безопасного расстояния. Но мы на такие провокации не поддаемся: стреляйте, сколько угодно. А вот когда их заставляют идти вперед, тут мы им и всыпаем по первое число. Ну и… танковая дивизия. Вон их танки стоят. Полюбуйтесь, — ткнул Криворучко пальцем в амбразуру, представлявшую из себя дыру в стене полуподвального помещения, пробитую снарядом. — Ну а мы… мы — что ж: нам в полсилы воевать нельзя — себе дороже. Вот как мы это поняли, так и стоим, и держим эти развалины, и будем держать, пока они, сволочи, все зубы свои об эти камни не обломают, — закончил Криворучко с ожесточением и, посмотрев на трофейные часы, предупредил: — У вас, товарищ подполковник, между прочим, осталось всего минут двадцать. Не больше. Вон посмотрите… Видите? Да нет, не там, а правее школы — вон те развалины буквой «п»… Они у нас два дня назад их отняли… Да не высовывайтесь вы так, товарищ подполковник: снайпера!
— И что там? — спросил Матов, напрягая зрение, чтобы хоть что-то разглядеть в предутренней темноте среди лежащих метрах в трехстах отсюда горбов, припорошенных снегом.
— Неужели не видите? Перебегают. Во-он оттуда, справа, к этой самой школе. У них там, за школой и вон теми кучами битого кирпича, окопы, ходы сообщения. Наши, между прочим, окопы и ходы. Там они и накапливаются. Значит, минут через двадцать снова пойдут в атаку. Тут и часы проверять не надо. Все не угомонятся никак, сволочи. А у нас задача — захватить школу.
— И что же?
— А то, что здесь будет жарко, товарищ подполковник. Очень жарко. И не все, кто сейчас глотает свой завтрак, доживут до обеда.
— Ничего, мы вам в тягость не будем. А здесь сидеть, или на КП дивизии, разницы никакой. Дайте нам с капитаном автоматы, гранаты… так, на всякий случай.
— Да сколько угодно, товарищ подполковник. Вон этого добра валяется, — показал он в угол, — бери, не хочу. И наши, и немецкие. И гранаты тоже… Но как бы мне комдив фитиль в одно место из-за вас не вставил…
— А вы кого больше боитесь, комдива или немцев?
— Комдива, разумеется, — ответил лейтенант вполне серьезно и поднялся на ноги. — Пойдемте отсюда, а то сейчас начнет артиллерия шмалять — мало не покажется.
Спустились в подвал. В подвале, скупо освещенном двумя коптилками, вдоль стен сидело человек двадцать, и кто из них красноармеец, а кто командир, не отличишь: все в ватниках, стеганых штанах, солдатских шапках-ушанках, у всех автоматы, наши гранаты-лимонки и немецкие с длинными ручками, ножи, сидора, саперные лопатки.
— Зачем им вещмешки? — спросил Матов у Логунова, пока Криворучко давал указания одному из своих подчиненных.
— А как же? — удивился тот. — Там и продуктов дня на три, и патроны, и гранаты, и индивидуальные пакеты. Случалось не раз, что фрицы прорвутся, захватят первый этаж, наши в подвале и на втором — и так вот дерутся несколько дней. Поэтому и держат все при себе. Фрицы — то же самое. Опыт. Поэтому мертвый враг еще и источник продуктов и боеприпасов. Все в дело идет…
— И как же вы собираетесь вернуть свои позиции? — спросил Матов у Криворучко, когда тот вернулся к ним.
— А вот они проведут две-три атаки, нахлебаются, тут мы и ударим. У нас к ним, между прочим, два подкопа сделаны. И взрывчатка заложена. И оба подкопа ведут к блиндажам. Мы уже их голоса слышим. Рванем — получатся дырки, через эти дырки и по верху…
Наверху раздался сильный взрыв, дрожь прошла по каменным сводам, посыпались вниз песок и мелкие камешки. Еще удар, еще. А затем заухало безостановочно, будто в гигантской камнедробильной машине, пламя коптилок заметалось из стороны в сторону, и тени заметались по стенам и потолку, а люди, привалившись к стене, дремали, и казалось, что ожесточенное буйство снарядов их никак не касается.
Артподготовка еще не закончилась, а комбат уже поднял людей, и они быстро и без суеты разошлись по своим местам. И вовремя: послышалась густая стрельба, и в предрассветных сумерках Матов увидел фигурки людей, перебегающих от одного укрытия к другому, в то время как из черных щелей в здании школы и припорошенных снегом развалин, пульсируя огнем, безостановочно дудукали пулеметы, и пули с глухим стуком били в кирпичные стены, со звоном — в железные балки, трубы и куски листового железа, а разрывные нервно хоркали, будто злились, что не добрались до живого человеческого тела.
Стрелять по этим быстро возникающим и так же быстро исчезающим фигуркам было бесполезно. Да никто и не стрелял. А через минуту-другую там, где мелькали фигурки врагов, стали рваться снаряды. По звуку Матов определил, что стреляют из-за Волги, и кто-то точно корректирует стрельбу.
Атака немцев захлебнулась, так и не начавшись.
Комбат Криворучко пристроился рядом с Матовым. Спросил:
— Как вам это понравилось, товарищ подполковник?
— Хорошее взаимодействие, комбат.
— Это только начало. Прелюдия, так сказать. Они, впрочем, особо и не лезли. Их задача — выявить нашу систему огня. А мы не раскрылись. А вот минут через десять полезут уже серьезно. И я бы на вашем месте, товарищ подполковник… извините за нарушение субординации, отправился к комдиву. Честное слово, никто вас за это не осудит. Тут, понимаете ли, сноровка нужна, опыт, а у вас его нет. Пуля — она хоть и дура, но выбирать умеет.
— Спасибо за совет, комбат, но меня здесь удерживает не молодечество и не желание острых ощущений. А пуля или осколок — они и на том берегу могут достать. Да и Логунов, я смотрю, тоже не торопится в тыл.
— Логунов — он мужик геройский. Еще недавно батальоном командовал. Ранение, контузия — временно при штабе. У него иногда обмороки случаются. Сами понимаете… Ну, кажется, начинается. Держитесь, товарищ подполковник. Черт не выдаст, свинья не съест, а нам сегодня надо быть в школе. — И Криворучко вернулся к своей амбразуре.
Из-за школы выполз танк, выкрашенный в белое. Повел стволом — выплюнул огонь. Снаряд ударил куда-то вправо, истерично провизжал большой осколок. Снова замелькали фигурки атакующих, вслед за первым танком вылез второй.
Сзади звонко ударила противотанковая пушка — и этот второй танк точно присел, подсеченный снарядом, из его щелей густо повалил дым.
На всем пространстве, занятом атакующими, стали рваться мины. Они с воплем вонзались в мерзлую землю, в кучи битого кирпича, вздымая снег и красную пыль, а за прерывистой стеной развалин замерцали торопливые сполохи артиллерийского огня немецких батарей. В ту сторону над головой проплыли огненные стрелы ракетных залпов «катюш», там вспучилась черная гряда разрывов — и гром заметался над землей, придавливая остальные звуки.
Вдруг все, кто только что укрывались за стенами, метнулись и пропали в каких-то щелях, и через несколько секунд их согнутые спины появились уже перед глазами Матова. Без криков, молча, без выстрелов даже они мелькали впереди, быстро уменьшаясь в размерах, — и все под грохот и гул артиллерийского и минометного огня.
— А, подполковник! Как пошли! Как пошли, черти! — восторженно кричал в ухо Матову капитан Логунов. — Они ж тут каждый камушек знают, каждую дырку. Гвардия!
Впереди вразнобой заухали разрывы гранат, густо посыпалась автоматная трескотня, а за спиной продолжали звонко тявкать противотанковые пушки, и видно было, как в черных щелях, из которых пульсировали огоньки пулеметов, взметались огненные вихри.
— Ну что, товарищ подполковник? Как вам это понравилось? — спросил Логунов, когда стрельба с нашей стороны неожиданно оборвалась, и лишь немцы все еще долбили по опустевшим развалинам, где несколько минут назад располагался батальон старшего лейтенанта Криворучко. — Может, хотите посмотреть, что они там натворили? Только чур, короткими перебежками: метров десять и — носом в снег. Или куда придется. Иначе — хана. Потом отползаем в сторону — и снова рывок.
— Пойдемте, — согласился Матов.
— Тогда смотрите, бежим вот до этой каменной гряды. Падаем. Отползаем вправо. Следующий рывок — вон до той кучи. А там должна быть канава. По ней проползаем метров тридцать, еще рывок — и мы в окопах. Но высовываться — избави бог.
Они выбрались из полуподвала, встали за стеной у проема двери, Логунов выглянул раз, другой и крикнул:
— Вперед! — и бросился первым.
Глава 5
В окопе, куда спрыгнул Матов вслед за Логуновым, лежали убитые немцы. Или кто там они — сам черт не разберет. Один лейтенант, другой фельдфебель. Оба одеты в маскировочные белые куртки, каски тоже обтянуты белой материей. И оба, судя по изорванным курткам, погибли от близких взрывов гранат.
Матов наклонился над лейтенантом, пошарил под курткой, достал из нагрудного кармана документы, затем снял полевую сумку. В это время Логунов забрал у фельдфебеля автомат, сумку с рожками, из-за пояса гранаты, сдернул с плеч ранец.
— Пойдемте, товарищ подполковник, в школу. Надо посмотреть, что там и как.
Бойцы Криворучко обживали отбитые у немцев позиции. В подвале у стены на немецкой шинели лежал комбат, тихо стонал. Над ним склонились двое.
— Что с ним? — спросил Логунов с тревогой.
— Ранен, — ответил один из них. И добавил обреченно: — Аккурат в живот.
Логунов наклонился над Криворучко, заглядывая в его широко раскрытые глаза.
— Серега! Серега, слышишь меня?
Глаза Криворучко закрылись и снова распахнулись. И Матов, уже навидавшийся всяких смертей, понял, что комбату осталось жить совсем немного.
— Ты полежи, полежи маленько, сейчас отнесем тебя в тыл, там врачи посмотрят… Ты потерпи малость, Серега, потерпи, — бормотал Логунов, гладя безжизненную руку комбата, и по лицу его текли слезы.
Но Криворучко уже не слышал ничего: глаза его, остановившиеся на какой-то точке, затягивало смертным туманом.
Логунов встал, судорожно всхлипнул и махнул рукой.
— Вы, товарищ подполковник, идите… идите. А я останусь здесь. Скажите в штабе… Впрочем, вы и сами все видели.
И тут загремело, заухало, затрещало. Логунов кинулся наверх. И все, кто был в подвале, тоже. Матов поспешил следом.
Немцы шли в атаку. Впереди танки, за ними пехота. Матов из своего укрытия насчитал восемь танков. Два из них T-IV, остальные T-III.
— Школу взяли, — кричал в трубку Логунов. — Комбата убило, еще двоих, пятеро раненых. Взял командование на себя. Немцы контратакуют. Дайте огня! Подполковник? Отослал к вам. Все! Конец связи!
После второй атаки немцы захватили западное крыло школы, предварительно взорвав стену.
Матов, лежа за пулеметом на сохранившемся остатке второго этажа, прикрываясь естественной баррикадой из кирпича, простреливал огнем нижний коридор и часть классов. Обе атаки начинались с того, что немцы пускали в ход ранцевые огнеметы и, под прикрытием дыма, кидались в этот самый коридор, строча из автоматов во все стороны и разбрасывая в боковые двери гранаты, но огненные струи до обороняющихся не дотягивались, а атакующих встречали огнем и гранатами. Вон их сколько валяется по всему коридору — один на другом.
Отстрелявшись, Матов отполз за толстую колонну, где лежал раненный в плечо красноармеец Дворников, молодой парень из Краснодара.
Дворников смотрел на Матова с мольбою, но ни о чем не просил и не жаловался. Вытащив из кармана портсигар, Матов достал папиросу и, вложив ее между сизыми губами Дворникова, чиркнул зажигалкой. Потом закурил сам.
— Ничего, Вася, — произнес он. — Рана у тебя, конечно, не из легких, но и не смертельная. Потерпи немного.
— А рука? Руку мне не отрежут?
— Не отрежут. Зачем же ее резать? Вот чудак. Кость, конечно, задета, но я рану обработал, гангрена тебе не грозит. Потерпи немного, потерпи.
— Как вы там? — послышался снизу голос капитана Логунова.
— Нормально, — откликнулся Матов. — У меня напарника ранило. В плечо. Спустить бы его надо в подвал.
— Сейчас пришлю людей. Только вы, подполковник, тоже спускайтесь. У нас над головой «рама» крутится. Значит, жди пикировщиков.
И точно: едва все собрались в подвале школы, как послышался рев самолетов, визг бомб — и подвал затрясло, будто в лихорадке, потянуло пылью и сгоревшим толом.
Едва отбомбилась одна группа самолетов, уже воет другая, снова грохот, пыль, дым.
Прибежал красноармеец.
— Немцы в подвале, — сообщил он. — Тоже прячутся.
— Со мной пойдут Ливенков, Мамедов, Тигранян, Стиценко, Чумаков! Приготовить гранаты! — приказал Логунов и к Матову: — Подполковник! В случае чего, останетесь за меня! — И Матов воспринял этот приказ как должное.
Но Логунов вдруг покачнулся и медленно осел на пол.
— Посмотрите, что с ним, — перехватил инициативу командира Матов. — Названные капитаном люди пойдут со мной.
Двигались сперва по подвальному коридору, прижимаясь к стене, но с нашей стороны было темно, а со стороны противника в подвале зияла дыра, пробитая бомбой, из нее сочился слабый свет, и в этом свете клубилась пыль вместе с дымом.
За углом их ждал боец.
— Где они? — спросил Матов громким шепотом.
— Вон там, за этой дырой. Нас, значит, капитан послал проверить, что там и как, а тут сверху фрицы посыпались. Тоже от бомбежки спасаются. Ну я и послал Чулкова…
Накатила новая волна бомбежки, в грохоте, вое и пыли. Но, похоже, ни одна бомба не попала в школу. И едва волна, миновав школу, покатила дальше, Матов знаками показал: двое гранаты влево, двое вправо, затем еще по одной, сразу же врываются в помещение и — огонь из автоматов. Замер, прислушиваясь, махнул рукой: вперед!
Когда сам Матов вслед за другими заскочил в тот отсек подвала, где должны быть немцы, он увидел сквозь еще более плотную пыль какие-то неясные тени и нажал на спусковой крючок автомата. И рядом с ним стреляли, стоя почти спиной друг к другу, но в ответ не прозвучало ни одного выстрела.
— Кто здесь старший? — спросил Матов, когда все стихло.
— Младший сержант Мамедов, — ответили ему из темноты.
— Мамедов, посмотрите, что здесь и кто, оставьте троих с пулеметом, соберите документы, оружие, а я пошел назад.
Когда Матов вернулся в свою часть подвала, Логунов уже несколько оправился, сидел, пил воду, тяжело дышал.
Матов присел рядом.
— Вы не ранены, капитан? — спросил он.
— Нет, — прохрипел тот. И пояснил: — Старая контузия, подполковник. Чтоб ее… И главное — в самый неподходящий момент голову схватит, будто тисками, и поплыл…
Через несколько минут вернулись бойцы, участвовавшие в короткой атаке. Мамедов положил перед Матовым две офицерские полевые сумки, набитые бумагами, доложил:
— Двадцать девять трупов, товарищ подполковник. Четверо раненых. Два ранцевых огнемета, три пулемета, автоматы, патроны, гранаты, галеты, шоколад, сигареты, шнапс. Людей я оставил. Дальше как прикажете.
— Что, капитан, дальше будем делать? Сможете командовать?
— Смогу: уже оклемался малость.
Наверху несколько притихло. Лишь минометы долбили мерзлую землю в полукилометре от школы.
— Это у меня второй такой случай, — говорил Логунов, жадно глотая махорочный дым. — Первый раз тоже самое: свалились в подвал они с одной стороны, мы с другой, подвальчик маленький, наверху бомбят, сидим, смотрим друг на друга, курим, ждем… Они нам сигареты предлагали, но мы ни-ни… Когда бомбежка закончилась, я им говорю: «Вэк!» — мотайте, мол, отсюда к такой матери! И они пошли. С опаской, но пошли. До сих пор жалею, что отпустил: благородство решил проявить. И перед кем? Какое к ним может быть благородство? — воскликнул Логунов, точно сейчас окончательно осмыслил недавнее прошлое. И сам же себе ответил со злой решительностью: — Никакого! Бить, бить и бить! Чем попало и где только можно. — Помолчал немного, продолжил, будто оправдываясь перед Матовым: — Видели бы вы, товарищ подполковник, что они творят с гражданскими! Во-первых, раздевают чуть ли ни до гола и на себя напяливают. А если что не по ним, не просто убьют, а изуродуют так, что и не признаешь человека. А все от ненависти. Они-то думали, что надавят — и мы за Волгу драпанем. А мы не драпаем и не драпаем. И чаще всего не так немцы лютуют, как всякая там сволочь: хорваты, венгры и прочие. Я так понимаю, что для немца эта война как бы необходимость, а все остальные поперлись с ними в Россию, чтобы нажиться, нахапать чего-нибудь. А нахапать-то нечего. И назад не уйдешь. Вот и зверствуют, сволочи…
Из угла позвали:
— Товарищ капитан! Вас к телефону!
Логунов тяжело поднялся, некоторое время стоял, покачиваясь, затем пошел, держась одной рукой за стену. Слышно было, как он говорит короткими фразами:
— Да, держимся. Подполковник? Здесь подполковник. Есть! Есть! Есть!
Вернулся к Матову, сел, заговорил, но не как всегда, а с большими паузами, точно ему что-то мешало:
— Вас спрашивали… Сам Чуйков… беспокоится. Велено вам вернуться… в штаб… армии. Сейчас к нам… пополнение… подбросят, обед… обещали… принести. Еще поживем. Так и передайте… своему начальству… в Генштабе: Сталинград стоит и стоять будет… до конца.
— Как вы себя чувствуете, капитан? — спросил Матов, заглядывая в глаза Логунову.
— Нормально… Вернее, почти нормально… Идите, подполковник… пока тихо. А то опять… начнется — не выберетесь. — И крикнул в темноту: — Мамедов!
Из серой дымки показался младший сержант Мамедов, остановился в двух шагах.
— Вот что, Мамедов, проводи подполковника до штаба дивизии. Скажи там… Впрочем, ладно, ничего не говори… Приведешь сюда пополнение и… и обед… чего-нибудь горячего… люди давно не ели горячего.
Матов встал, протянул руку, капитан свою, поднялся на ноги, не выпуская руки Матова.
— Ну, как говорится, до встречи в Берлине.
— Договорились, — и Матов, тиснув руку Логунова, повернулся и пошел вслед за Мамедовым.
Глава 6
— Подождите немного, товарищ подполковник, — попросил адъютант командующего Шестьдесят второй армией. — Командующий занят…
В это мгновение дверь «кабинета» командующего с треском распахнулась, и на пороге возникла полусогнутая фигура в офицерской шинели, но без шапки. Офицер пятился, мелко перебирая ногами, прижимая к бедрам руки, а над ним возвышался генерал Чуйков, мелькали его кулаки.
— Я тебя, сволочь, под трибунал отдам! Собственной рукой застрелю! — кричал Чуйков, нанося удары по голове офицера. Увидев Матова, Чуйков остановился, вскрикнул: — Пшел вон, с-скотина! — и скрылся за дверью.
Офицер повернулся разбитым лицом к Матову, покривился и бросился вон из штаба.
Матова эта картина потрясла до такой степени, что он как стоял возле стола дежурного, так и остался стоять, не зная, оставаться или уйти.
Адъютант командующего бросился к двери, открыл ее, заглянул, протиснулся внутрь, будто что-то мешало открыть дверь пошире. Через пару минут вернулся, произнес извиняющимся тоном:
— Командующий просит вас, товарищ подполковник.
Матов вошел, начал докладывать, но Чуйков, стоящий возле стола, махнул рукой, произнес:
— Мне уже доложили. Говорят, стреляли из пулемета?
— Пришлось, товарищ генерал.
— А я вот… — начал Чуйков, разглядывая в кровь сбитые костяшки пальцев, и замолчал. Торопливо затянувшись дымом папиросы и выдохнув его, продолжил: — Одни воюют умно, изобретательно, дорожат своими людьми, другие кладут их в лобовых атаках… Видели? — спросил, уставившись жгучими глазами из-под лохматых бровей.
— Видел.
— Командира батальона ранили, а его зам… вот этот вот самый, что вы видели… Скотина! Сволочь! Бросил людей на немецкие пулеметы, а сам… сам не пошел, сам, гнида поганая, остался в укрытии! — и вот результат: из ста тридцати человек батальона в живых осталось пятьдесят два. И набрался наглости докладывать, что приказ командования на овладение развалинами дома выполнен. — Помолчал, задавил окурок, бросил, глядя в сторону: — Вот… сорвался! Да и как тут не сорвешься? — Спросил: — Будете докладывать?
— О чем?
— Действительно, о чем тут докладывать? — проворчал Чуйков. И тут же совсем другим тоном: — Если хотите в Шестьдесят четвертую, то сейчас самое удобное время… пока не рассвело. — И посмотрел вприщур на Матова.
— Разрешить идти, товарищ генерал?
— Идите, подполковник! Идите. С левого берега уже звонили, о вас спрашивали… Беспокоятся.
Матов повернулся кругом и вышел из «кабинета». В «предбаннике» пожал руки адъютанту командующего и дежурному офицеру по штабу армии. Тот сообщил, что проводник ждет подполковника на берегу.
А на берегу стояла группа солдат вокруг кого-то, кто лежал, раскинув руки и ноги. Люди стояли, смотрели на лежащего, и — странно! — никто не снял шапки.
— Что случилось? — спросил Матов.
— Да вот, — откликнулся стоящий рядом Кузьмич. — Я стою, вас дожидаючись, а энтот вышел и бабах себе в голову из револьвера. Видать, кишка не выдержала, — заключил он. И добавил, вздохнув: — Жисть наша… едри ее в сапог.
Пока Матов дожидался погоды на аэродроме, он составил подробный отчет о состоянии наших войск, дерущихся в Сталинграде, и не только 62-й, но и 64-й армии, которой командовал генерал-майор Шумилов, проведя там неполных два дня. К этому времени атаки немцев по всему фронту почти прекратились, бои велись лишь на отдельных участках. Хотя за это время Волга не встала окончательно, но лед продолжал двигаться лишь на самой быстрине, и то еле-еле, сообщение между берегами улучшилось значительно, и Матову не пришлось совершать чудеса эквилибристики, еще дважды перебираясь с берега на берег.
Едва сев в самолет, он раскрыл дневник немецкого обер-лейтенанта Кемпфа. Это была довольно толстая тетрадь. Первая запись датировалась мартом 1942 года. Судя по некоторым ссылкам на предыдущие записи, начало дневника восходило к 1939 году, то есть к польской кампании. Это была четвертая тетрадь. И заканчивалась она записью от 10 ноября 1942 года. То есть за день до гибели ее автора в подвале разрушенной школы.
«Сталинград с каждым днем превращается для нас в настоящий ад. Русские дерутся с поразительным упорством. Более того, они дерутся лучше нас, изобретательнее, часто ставя нас в тупик. Мы все никак не можем понять, как так вышло, что еще недавно они бежали от нас, попадали в окружения сотнями тысяч, сдавались в плен, а теперь мы не можем сковырнуть их в Волгу, до которой осталось в иных местах всего пару сотен метров. Это не просто фанатизм, это что-то другое. Нам говорят, что их заставляют так сражаться жиды-комиссары. Чепуха! Мы захватывали развалины домов, в которых против нас сражались по два-три человека, и среди них ни одного жида и комиссара. Иногда одни рядовые. Под страхом смерти так сражаться человек долго не способен — непременно сломается. И у нас это наблюдается все чаще: равнодушие, усталость, самострелы, любое легкое ранение — и человек спешит в тыл. Я чувствую, что мы приближаемся к роковой черте, за которой нас, немцев, ожидает что-то страшное. Неужели господь оставил нас своими милостями…»
Глава 7
— Зря вы так рисковали, Николай Анатольевич, — попенял Матову генерал Угланов. — Не ваше это дело — стрелять из пулемета и кидать гранаты. Не для того вас учили. Да и за Волгу, при тех условиях, идти было не обязательно. Но в целом… в целом информацию вы собрали исчерпывающую. Я доложу ее наверх. А там уж как решат… А пока отдыхайте. — И генерал Угланов, улыбнувшись своей грустной улыбкой, сообщил, как о чем-то несущественном: — Кстати, сегодня утром звонила ваша жена. Она в Москве. Пробудет здесь дня три. Извините, что сразу же не сказал вам об этом. Поезжайте домой. Даю вам отпуск на три дня. И еще: тут вот приготовили вам кое-что сухим пайком. Думаю, пригодится. — И Угланов достал из-под стола набитый под завязку вещмешок.
Матов шел домой проходными дворами, протоптанными в глубоком снегу узкими тропками, время от времени переходя на рысцу, — благо, дом его находился неподалеку от места службы. Ему казалось, что каждая лишняя минута, отделяющая его от Верочки, не только сокращает их свидание, но может лишить его вообще: мало ли что случится, пока он идет. Он даже не предупредил ее по телефону о своем приходе: пока позвонишь, то да се, а время тик-так, тик-так, тик-так…
Вот и знакомый дом, в который он заглядывает не чаще одного раза в три месяца, находясь при Генштабе на казарменном положении, вот и подъезд с отбитой там и сям штукатуркой, с неплотно закрывающейся дверью, с выбитыми окнами, кое-где заделанными фанерой: результат разорвавшейся неподалеку бомбы.
Он одним духом, не дожидаясь лифта, даже не зная, работает он или нет, взлетел на четвертый этаж. Нажал на кнопку звонка и тотчас же услыхал знакомые торопливые шаги. Брякнул засов, дверь распахнулась — и вот она, Верочка. Короткий вскрик, и руки ее обвили его шею, он приподнял ее и внес в квартиру, а она целовала его лицо, всхлипывая, смеясь и что-то пытаясь сказать, и все это одновременно.
Они лежали в постели, тесно прижавшись друг к другу.
— Почему ты сразу не позвонил мне, когда приехал? — спросила она.
— Мой начальник сообщил о твоем звонке только тогда, когда я сдал отчет о командировке и подробно рассказал ему обо всем увиденном и услышанном. Он извинился, сказал, что забыл, но на самом деле, я уверен, посчитал, что известие о том, что ты в Москве, отвлекло бы меня от дела.
— Бедненький: ты целых пять часов не знал, что я жду тебя дома. А я не знала, что ты уже в Москве и с тобой все в порядке. А твой Угланов, между прочим, обещал мне, что как только ты вернешься и отчитаешься, и если не будет чего-то неожиданного, он сразу же даст тебе отпуск.
— И, как видишь, сдержал свое слово.
Верочка гладила его лицо, целовала, а он рассказывал ей о поездке в Сталинград, опуская подробности боя в разрушенной школе и показывая все это так, будто наблюдал бой со стороны из хорошо защищенного места.
На другой день Матов и Верочка встали поздно. Они пили чай, когда позвонил генерал Угланов и сообщил, что Матову необходимо быстро собраться и ждать машину. Форма одежды — выходная, новая, та, что введена совсем недавно, но которую получили далеко не все.
— Что-нибудь случилось? — забеспокоилась Верочка, отчищая на его кителе какое-то едва заметное пятнышко.
— Почему обязательно — случилось? Ничего не случилось. В лучшем случае — наградят, в худшем — пошлют опять в командировку. Ничего не поделаешь: такая у меня служба, — успокаивал ее Матов, прикрепляя к кителю свои ордена, снятые с гимнастерки.
Они сели на диван, держа друг друга за руки.
— Ты знаешь, — сказала Верочка, — когда ты далеко, я не так за тебя переживаю, как сейчас, когда тебя у меня забирают неизвестно куда. Если тебя снова пошлют на фронт, ты позвони мне обязательно. Хорошо?
— Разумеется. Как ты могла сомневаться?
— Я не сомневаюсь. Я боюсь.
Внизу настойчиво просигналила машина. Матов вскочил, стал надевать шинель.
— Ты не волнуйся и не бойся, — торопливо говорил он. — Это не на фронт. На фронт вот так, с бухты-барахты, не посылают. Но я позвоню в любом случае.
Он поцеловал ее в губы уже на лестничной площадке. Еще раз и еще. И побежал вниз, прыгая через две ступеньки.
Глава 8
Капитан госбезопасности встретил Матова у раскрытой дверцы комуфлированной «эмки».
— Капитан Шурупов, — представился он. — Попрошу ваши документы, товарищ подполковник. — Проверив удостоверение личности и несколько раз посмотрев при этом на Матова, вернул удостоверение и пригласил садиться в машину.
— Куда мы едем, капитан? — спросил Матов, едва машина тронулась.
— В Кремль.
— В Кремль? — удивился Матов. — Не скажите, зачем?
— Узнаете на месте.
Машина проскочила Каменный мост, выехала на Манежную площадь, затем на Красную мимо Исторического музея и вкатила в узкие ворота Спасской башни. Царь-пушка, Царь-колокол, зеленые ели, снежные сугробы по сторонам, поворот, еще поворот, остановились у массивной двери белого здания, все еще накрытого маскировочной сетью. В раздевалке Матов и капитан оставили шинели и портупеи, по ковровой дорожке поднялись на второй этаж; длинный коридор, молчаливая охрана, высокая дверь, просторное помещение, мягкие стулья вдоль стен, за столом со множеством телефонов генерал с круглым лицом и плешивой головой.
— Проходите, вас ждут, — произнес генерал и сам открыл дверь, пропуская Матова вперед.
Довольно светлая комната, в ней за столом с телефонами двое, еще дверь и… большое помещение с зашторенными окнами, справа длинный стол, на столе большая карта, возле стола невысокий человек. Человек повернулся — и Матов узнал в нем Сталина.
— Входите, товарищ Матов, — произнес Сталин знакомым глуховатым голосом с легким акцентом и шагнул навстречу.
Матов подошел, хотел доложить, но Сталин протянул ему руку и, задержав в своей, спросил:
— Вы успели отдохнуть после поездки в Сталинград?
— Так точно! Успел, товарищ Сталин, — ответил Матов не слишком громко, боясь нарушить плотную тишину кабинета.
— Вот и прекрасно. Расскажите мне, какое у вас сложилось впечатление о наших войсках, сражающихся в Сталинграде.
— Самое благоприятное, товарищ Сталин, — ответил Матов, все еще не понимая, что именно хочет узнать от него Сталин. — Несмотря на ожесточенные атаки превосходящих сил противника, войска дерутся, проявляя изобретательность, нанося противнику ощутимые потери.
— Но кое-где немцам все-таки удается потеснить наши войска, рассечь оборону и выйти к Волге, — возразил Сталин и повел рукой, как бы отсекая всякие возражения.
— Удается, товарищ Сталин. Но с такими потерями, что отвоеванная ими территория практически ничего им не дает. К тому же, должен заметить, умело организованными контратаками мы зачастую возвращаем не только отдельные здания, но и целые кварталы.
— Говорят, вы сами принимали участие в бою. Разве это входит в обязанность офицера Генерального штаба? А если бы вы попали в плен?
— Разумеется, участие в бою не входит в мои обязанности, товарищ Сталин. Но обстоятельства складываются иногда таким образом, что волей-неволей приходится это делать. Что касается возможности попасть в плен, то вероятность этого ничтожно мала: ведь я там был не один. Да и немец уже не тот, товарищ Сталин.
— Что значит — не тот?
— Воюет без огонька, без былой уверенности в своем превосходстве, хотя дисциплина все еще высокая и упорства хватает, однако воюет как бы механически, раз за разом повторяя заученные приемы. Наши командиры и бойцы успешно этим пользуются.
Матов хотел добавить еще кое-что из вычитанного в дневнике лейтенанта Кемпфа, но удержался, посчитав, что лейтенант от отчаяния мог и преувеличивать некоторые негативные стороны поведения солдат своей армии, как это бывало и у нас до недавних пор. Не исключено, что Сталин читал его отчет, а там есть и ссылка на дневник и другие трофейные документы.
— То есть, вы хотите сказать, что Сталинград мы удержим…
— Так точно, товарищ Сталин, непременно удержим.
— Именно это я и хотел от вас услышать, товарищ Матов. Спасибо вам за подробную информацию. Я думаю, что очередной орден Боевого Красного Знамени вы более чем заслужили.
— Служу трудовому народу! — ответил Матов, вытягиваясь еще больше, но по-прежнему не повышая голоса.
— И где ты был, если не секрет? — спросила Верочка, помогая мужу раздеться. — Ой, да у тебя новый орден! Поздравляю!
— Спасибо, — ответил Матов, целуя жену. — А был я… а был я у товарища Сталина. В Кремле… Не веришь?
— Верю. А только как-то даже не верится, — произнесла Верочка, покачивая головой, с изумлением глядя на мужа, точно не узнавая его. И пояснила: — Ведь у него столько работы, такая страна, армия, столько фронтов! И… и вдруг — ты… Но почему именно ты?
— Я полагаю, что он хотел поговорить с человеком, который только что вернулся из Сталинграда.
Еще Матову хотелось сказать, что надвигаются события, которые, если все будет хорошо, должны повернуть весь ход войны. Но это была такая тайна, такая… что о ней и сам он лишь догадывался по небывало напряженной и целенаправленной работе, проводимой Генштабом. И Матов лишь повторил всем известные слова:
— Ничего, дорогая, скоро и на нашей улице будет праздник. Вот увидишь.
— Ты представить себе не можешь, — прошептала Верочка, прижимаясь к нему всем телом, — как люди в тылу ждут этого праздника.
— Почему же не могу? Очень даже могу, — улыбнулся Матов снисходительно.
Верочка покачала головой.
— Нет, не можешь. Ты не был там, в глубинке, далеко от фронта. Люди там живут… я просто не могу тебе передать словами, как трудно они живут, в каких ужасных условиях работают. Хлеба нет, дают буквально крохи, крупы, мяса, овощей — и не спрашивай. На производстве часто случаются голодные обмороки. Иногда с тяжелыми травмами…
— Ничего, мы двужильные, мы выдюжим. Нам нельзя не выдюжить, — сжал Матов руку своей жены. А сам подумал: «Как хорошо, что сына оставили у родителей».
И Верочка, будто подслушав его мысли, прошептала:
— Боже, как я соскучилась по нашему мальчику. — Всхлипнула и уткнулась лицом ему в плечо, закапав его слезами.
Матов молча гладил ее волосы, смотрел в темный потолок и чувствовал, что и сам готов расплакаться: так вдруг защемило в груди и что-то подкатило к горлу.
Глава 9
— Итак, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что для наступательной операции в районе Сталинграда практически все готово, — произнес генерал армии Жуков почти торжественным голосом. — Войска сосредоточены на исходных позициях. Ждут сигнала.
— Очень хорошо, товарищ Жюков, — кивнул головой Сталин. Затем прошелся по кабинету от стола до двери и обратно, остановился напротив. — И все-таки слетайте еще раз к Ватутину на Юго-Западный фронт в район сосредоточения войск и убедитесь на месте в их полной готовности. В ГКО поступают сигналы, что не все звенья готовы в одинаковой степени. Более того, имеются данные, что не все командиры верят в успех предстоящего наступления. А без веры в победу победить нельзя. Наконец, обратите особое внимание на готовность авиации. Без сильной авиации, которая бы расчищала путь войскам, громила его позиции, идущие к фронту резервы и отступающие колонны, прикрывала наши войска от атак авиации противника, операцию начинать нет смысла. Мы должны психологически подавить противника путем систематических бомбежек и штурмовок, расстроить его оборону и не позволять закрепиться на новых рубежах. Лучше начать на несколько дней позже, накопить авиацию, зато действовать наверняка и без пауз. — И Сталин сделал отсекающий жест рукой. — Надо припомнить немцам сорок первый год. Теперь мы можем себе это позволить…
Он замолчал, вернулся к столу, завозился с трубкой. Но Жуков видел, что трубка здесь совершенно ни при чем, что Сталин взволнован, и, видимо, на то есть веские причины. Особенно генерала поразила фраза о том, что не все командиры верят в успех предстоящего наступления. Сам Жуков нисколько не сомневался в успехе операции и, в силу ли своей уверенности или чего-то еще, даже не предполагал, что кто-то может подвергать сомнению задуманное и с такой тщательностью подготовленное дело. Даже если кто-то и сомневается, не избавившись до сих пор от ощущения немецкого превосходства, то дело этих сомневающихся выполнять спущенные сверху приказы, а результат в любом случае должен быть один: окружение и разгром немецких войск в районе Сталинграда.
— Василевский сейчас находится на Сталинградском фронте, — снова заговорил Сталин, не поворачиваясь к Жукову лицом, заговорил как о чем-то неважном, второстепенном. — Решите с ним, когда лучше всего начать наступление, исходя из требования полной готовности всех родов войск. И тотчас же возвращайтесь в Москву. Вам предстоит возглавить наступательные операции на Ржевско-Вяземском направлении. На этот раз в качестве координатора действий Западного и Калининского фронтов. Мы усилили эти фронты авиацией, артиллерией, резервными частями. От командования требуется лишь решительность и грамотное управление войсками. Мы полагаем, что вы в полной мере поспособствуете проявлению этих качеств у командующих фронтами. У Гитлера не хватит резервов для противостояния сразу двум нашим ударам: под Сталинградом и под Москвой.
Глаза Жукова сузились.
— Но чтобы начать там наступление, товарищ Сталин, — заговорил он возбужденно, — необходимо значительно усилить войска Западного и Калининского фронтов хотя бы еще двумя общевойсковыми армиями. Особенно артиллерией и танками. Тем более что, как доносит разведка, немцы уже перебросили в район Смоленска и Вязьмы несколько танковых и пехотных дивизий из Франции и даже из Норвегии… Мне кажется, — после небольшой паузы добавил он, — командование вермахта больше всего опасается именно за этот участок фронта.
— Возможно, возможно, — пробормотал Сталин, искоса глянув на Жукова. — Кое-что мы вам дадим дополнительно к тому, что уже поступило в войска в качестве усиления. Однако там и без того достаточно артиллерии и авиации для такого наступления. Командование фронтов уже ведет соответствующую подготовку. Постарайтесь, чтобы наши войска не попадали в окружения, как это происходило уже не раз. Чтобы не получилось так: пошел по шерсть, а вернулся стриженным. И учтите: операция «Уран» должна постоянно находиться в поле вашего зрения и контроля.
При этом Сталин не сообщил Жукову, что получил письмо от командующего Четвертым механизированным корпусом генерала Вольского, в котором тот пишет, что операция по окружению и разгрому немцев под Сталинградом приведет лишь к новому поражению войск Красной армии, а это чревато ужасными последствиями, что немцы все еще сильнее нас, лучше организованы, что войска Сталинградского фронта, предназначенные для удара во фланг Шестой немецкой армии с юга, сами окажутся в окружении, как это было уже под Москвой в районе Ржева и Вязьмы, на Волховском фронте и под Харьковом, потому что в тыл нашим наступающим войскам может ударить — и непременно ударит! — Четвертая армейская группа генерала Гота, в составе которой имеется целая танковая армия; что он, Вольский, и его механизированный корпус сделают, разумеется, все, от них зависящее, но за окончательный успех он поручиться не может, потому что, оторвавшись от своих тылов, в условиях почти полного бездорожья, корпус останется без горючего и боеприпасов и будет обречен на уничтожение. И не только его корпус, но и другие части прорыва.
И, конечно, Сталин не сказал Жукову, что немцы уведомлены о том, что командовать наступающими советскими войсками на Ржевско-Вяземском направлении будет Жуков. А не сказал не потому, что информация об этом будет воспринята Жуковым как-то не так, как следовало бы, и, разумеется, не потому, что можно предположить, будто через Жукова противнику станет известно о том, что наступление наших фронтов на Ржевско-Вяземском направлении является отвлекающим, а исключительно потому, что не видел необходимости сообщать об этом своему Первому заместителю, который должен знать лишь то, что ему положено знать. И не более того.
Не сообщив никому о паническом письме генерала Вольского, чей корпус находится в ведении Сталинградского фронта, Сталин, однако, поручил Василевскому присмотреться к этому генералу и составить окончательное мнение о том, способен ли тот командовать корпусом в условиях наступления: все-таки Вольский до сих пор непосредственно войсками не командовал, занимая должности помощника командующего армией, затем фронта по автобронетанковым войскам. Может, в теории он и силен: как-никак, а за спиной две академии, но теория — это одно, а практика — совсем другое. И это доказали многие советские генералы в предыдущих сражениях. Ну и… под влиянием ли этого письма, или помня плачевные уроки предыдущих наступательных операций Красной армии, и у самого Сталина стали закрадываться сомнения, что наши войска действительно готовы исполнить все планы, разработанные Ставкой, а главное — не позволят немцам нанести им поражение, задействовав в решительный момент какие-то неучтенные силы и тактические уловки. Теоретически вроде бы все говорит за неизбежность нашей победы на южных участках фронта, и Жуков с Василевским преисполнены уверенности и решительности, но на практике может случиться такое, чего не ожидают даже они, как случилось, например, с Тридцать третьей армией в районе Вязьмы, так и не сумевшей выйти из окружения. Так что лучше перестраховаться.
Молчание, между тем, затягивалось. Сталин все еще возился со своей трубкой, очищая ее от нагара, а Жуков ждал, не добавит ли Верховный еще что-нибудь к сказанному. Он уже понял, что вопрос о назначении его координатором наступления Западного и Калининского фронтов решен бесповоротно, возражать бесполезно, но был глубоко обижен таким назначением. Ему казалось, что, коль скоро он готовил вместе с Василевским Сталинградскую операцию, и возглавлять ее тоже должен он — Первый заместитель Верховного главнокомандующего. Тем более что Василевский, штабист до мозга костей, способен лишь пунктуально выполнять задуманное, но на войне все предусмотреть невозможно, противник может предпринять самые неожиданные контрмеры, а в таких ситуациях нужна несколько другая голова. А тебе предлагают возвращаться туда, где ты провел около года в бесплодных попытках затянуть горловину Ржевско-Вяземского мешка. И при этом не дают ни времени на тщательную подготовку, ни соответствующих поставленной задаче средств.
— У вас ко мне есть еще какие-то вопросы? — спросил Сталин, откладывая трубку в сторону и поворачиваясь к Жукову.
— Никак нет, товарищ Сталин: мне все ясно, — произнес Жуков своим, на этот раз, обычным, без интонаций, скрипучим голосом: — Я сделаю все, чтобы выполнить поставленную передо мной задачу.
— Я в этом не сомневаюсь, — буркнул Сталин, погасив усмешку, и отвернулся.
Глава 10
Самолет летел над заснеженными просторами, то проваливаясь в пустоту, то с натугой поднимаясь вверх. Жуков дремал, откинувшись на спинку кресла, предупредив летчиков, чтобы сказали ему, когда будут подлетать к излучине Дона в районе города Серафимович: он хотел еще раз сверху посмотреть на те места, где, изготовившись к наступлению, сосредоточились войска Юго-Западного фронта. Он хотел взглянуть на эти места глазами немецких летчиков и их фотокамер и попытаться понять, ждет ли командующий Шестой немецкой армии генерал Паулюс нашего наступления. Ведь как ни прячь, а что-то да не спрячешь, и очень важно понять, что именно спрятать не удалось. Если судить по данным разведки, противостоящие армиям генерала Ватутина румынские, итальянские и венгерские войска, по всем параметрам явно уступающие немецким, наступления русских не ожидают, да и настроение у них не слишком воинственное. Однако стрелять они все равно будут, тем более что в тылу у них стоят немецкие дивизии, и все это надо размолотить за несколько дней, не дав времени противнику на перегруппировки, подтягивание резервов и закрепление на промежуточных рубежах.
— Георгий Константинович, — дотронулся до плеча Жукова адъютант. — Только что миновали Урюпинск. Летим над Хопром.
Жуков открыл глаза, кивнул головой, прильнул к иллюминатору.
Внизу змеилась заснеженная пойма Хопра. Закатное солнце углубило тени, стали более отчетливо видны холмы и обрывистые берега реки, накатанные дороги, упирающиеся в лощины и овраги, там и сям сгрудившиеся по берегам рек и речушек утонувшие в снегу дома станиц и хуторов, деревья небольших рощ и перелесков. Вот колонна в десяток машин движется к фронту. Машины накрыты белым и почти сливаются со снегом, зато тени резкие и отчетливые. Вот, похоже, позиции дальнобойной артиллерии. Самих пушек не видно, но видна некая упорядоченность бугорков и пробитые в снегу тропинки, бегущие в разных направлениях. Вот еще что-то сгрудилось в широкой лощине, а что именно, не поймешь, но явно искусственного происхождения. Спрятать почти в голой степи такое количество войск и техники не так-то просто, но, похоже, вполне удалось, что можно признать большим достижением командования фронтом.
Но дело не только и не столько в маскировке. Похоже, немецкое командование привыкло, что на его флангах русские постоянно скапливают свои армии, чтобы потом перебрасывать их в Сталинград, где они сгорают за несколько дней. Нельзя исключить и предполагаемого опасения русских, что они, немцы, могут ударить на север вдоль Волги или на юг в сторону Астрахани. Иначе чем объяснить настойчивое усиление Ржевско-Вяземской группировки противника за счет резервов из Европы? И не получится ли так, что мы ударим под Сталинградом, а противник — в сторону Москвы? Или они, наоборот, ждут главного нашего удара именно там, под Москвой? Но разведка уверяет, что немцы к наступлению на Москву не готовы.
Жуков энергично потер обеими руками лицо, прогоняя свои сомнения. Нет ничего удивительного, что и другие сомневаются в наших возможностях. И, похоже, сам Сталин. Известное дело: пуганая ворона и куста боится.
Внизу показался аэродром. Видны стоящие в ряд самолеты, зенитки, домики, взлетная полоса, огороженная снежными валами; по полосе, взвихривая снег, бегут два маленьких самолетика. Вот они оторвались от земли и будто повисли в воздухе.
Самолет, на котором летел Жуков, резко накренился — в иллюминаторе горизонт бросило вниз, открылось голубое небо, а на нем хищные кресты истребителей сопровождения. Самолет качнуло — снова возник горизонт, мимо понеслись курганы, овраги, редкие купы деревьев, все увеличиваясь и увеличиваясь в размерах. Колеса ткнулись в слежалый и утрамбованный снег, самолет задребезжал, подпрыгивая и трясясь, затем покатил ровно, свернул со взлетной полосы к ангарам, где уже стояли два крытых белым брезентом «виллиса» и встречающие Жукова люди в белых полушубках. И все вокруг тоже было белым и насквозь промороженным.
В штабе фронта Жукова встретил командующий фронтом генерал Ватутин, член Военного совета, начальник штаба, командующие родами войск.
— Как долетели, Георгий Константинович? — спросил Ватутин, пожимая руку Жукову, с тревогой заглядывая ему в глаза: знал, что если прислали Жукова, то наверняка потому, что Сталин не слишком доверяет командующему фронтом. И пояснил свой вопрос: — Из Ставки звонили, беспокоились…
— Нормально, — произнес Жуков, не расположенный к отвлеченным разговорам. Тем более что Ватутина недолюбливал еще с тех пор, когда был начальником Генштаба, а Ватутин его заместителем, который явно предполагал, что Шапошникова может заменить только он, выпускник двух академий. А тут какой-то неуч Жуков…
В низкой избушке, по самую крышу заметенной снегом, Жуков, освободившись от меховой кожанки, попросил:
— Если можно, чаю. — И уже решительно: — Давайте обсудим готовность войск и самочувствие противника. А завтра побываем в войсках. Как можно раньше.
Принесли чай.
Жуков, грея ладони о стакан, отхлебывая из него время от времени, слушал доклад командующего фронтом. Ничего нового в докладе Ватутина не было: войска сосредоточены для наступления, артиллерия прорыва стоит на своих позициях, цели разведаны и пристреляны, пехота пойдет в атаку при поддержке танков, не дожидаясь окончания артподготовки, механизированные и танковые корпуса стоят во вторых эшелонах, движение на исходные позиции начнут с первыми залпами артиллерии, противник, судя по показаниям пленных, нашего наступления не ждет, ведет себя тихо, особенно не беспокоя наши передовые части в надежде на взаимность. Что касается авиации, то она произвела глубокую разведку обороны противника, наметила цели. Сможет ли она эффективно расчищать дорогу для наступающих войск? Сможет. Но если бы еще пару дивизий штурмовиков и столько же истребителей, эффективность была бы значительно выше, что положительно сказалось бы на темпах продвижения наших войск.
Судя по уверенному тону Ватутина, он то же самое докладывал и Сталину — отсюда и желание Верховного лишний раз проверить, все ли здесь, на месте, именно так, как ему докладывали: по части реляций вышестоящему начальству Ватутин был большим мастером.
— А не отстанут снабженцы от наших войск? — проскрипел Жуков.
— Не отстанут, Георгий Константинович. Для этого созданы специальные автороты и автобатальоны, которые двинутся сразу же вслед за наступающими войсками. Для расчистки дорог приспособлены танки, оборудованные специальными ножами.
— А какое настроение в наших войсках? — спросил Жуков.
— Боевое, Георгий Константинович! — выступил вперед член Военного совета фронта генерал майор Мехлис, изрядно подрастерявший за минувшие месяцы не только звезды в петлицах, но и самоуверенность и надменность доверенного лица самого Сталина. Не мигая глядя в лицо Первого заместителя Верховного, он торопливо докладывал: — Войска хорошо подготовлены, вооружены и снабжены всем необходимым. Санитарные части придвинуты вплотную к фронту, санитарные поезда стянуты на ближайшие станции. Комиссары и политруки ведут широкую работу по поднятию боевого духа красноармейцев, их уверенности в нашей победе.
— Что ж, работу вы проделали большую, — скупо похвалил Жуков, лишь мельком глянув на Мехлиса, все еще остающегося недремлющим оком самого Сталина. — Остальное посмотрим на месте.
Еще не было шести часов утра, когда несколько машин выехали на хорошо накатанную дорогу, ведущую к небольшому хутору, где располагался штаб одного из танковых корпусов, предназначенный для глубокого прорыва немецкой обороны. Было морозно, небо густо усеяно звездами, узкий серпик Луны едва светился среди звездного великолепия.
Жуков был не в духе. Он не видел надобности в своей поездке на Юго-Западный фронт, который и без того создавался при его непосредственном участии. За то недолгое время, что он здесь не был, вряд ли что-то могло измениться, тем более в худшую сторону. Конечно, далеко не у всех командиров, начиная с батальона, кончая танковыми и пехотными корпусами, есть практика успешных наступательных операций. Разве что у тех, кто гнал немцев от Москвы зимой сорок первого-сорок второго годов. Он читал эту неуверенность в их глазах, в их нервозности при подготовке операции, и старался изжить эту неуверенность, приобретенную в предыдущих неудачных сражениях, жесткой постановкой задач и постоянным контролем за их исполнением. Но никто из командиров даже не заикнулся, что опасается за исход предстоящего дела, о котором большинство из них могли только догадываться.
Командующий корпусом генерал-майор Веретенников, докладывая Жукову о готовности корпуса к наступлению, смотрел на него как раз теми глазами, в которых читалась эта неуверенность. Жуков знал, что Веретенников в боях под Киевом потерял все танки своей танковой дивизии: одни в боях с противником, другие вынужден был уничтожить из-за отсутствия горючего и боеприпасов; из окружения прорывался на своих двоих, сохранив едва пятую часть личного состава. Но другие командиры дивизий и корпусов не сохранили и этого. Да и танки те были в основном старых конструкций, которые уже на Халхин-Голе в боях с японцами показали себя весьма слабо защищенными даже от пулеметного огня. И под Харьковым весной прошлого года Веретенников, уже командуя корпусом, попал в такую же передрягу. То есть весь опыт генерала состоял в неудачных наступлениях и последующих за ними разгромах. Теперь у Веретенникова в корпусе почти одни Т-34 и КВ, а это совсем другая техника, какой у немцев пока еще нет. И все-таки техника — это одно, а люди — совсем другое.
— Ну, а если немцы ударят тебе во фланг? — спросил Жуков, глядя на комкора сузившимися глазами. — Что тогда? Побежишь?
— Никак нет, товарищ генерал армии, не побежим, — дернулся Веретенников. И уже совсем зло: — Раньше не бегали, с какой стати побежим сейчас? — И добавил для пущей убедительности: — Будем драться до последнего снаряда.
— Значит, опять взрывать свои танки и пехом топать до самой Волги?
— Я не понимаю вашей иронии, товарищ генерал армии, — вспыхнул Веретенников, вытягиваясь в струнку. — У нас приказ: прорвать оборону противника, проутюжить его тылы и соединиться с частями Сталинградского фронта… Что касается флангов, то я уверен, что командование фронтом выделит достаточно средств для обеспечения их безопасности.
— То есть ты уверен, что немцев мы сумеем окружить, не выпустить их из котла и разгромить? Это ты хочешь сказать?
— Именно так, товарищ генерал армии. Хотя и считаю, что надо быть готовым к любым неожиданностям.
— А их, этих твоих неожиданностей, не должно быть! — отрезал Жуков. — Не должно быть ни под каким соусом! Даже думать о них не имеешь права. Потому что у нас имеется все, чтобы разгромить врага и не предоставить ему ни одного шанса на спасение. Именно так ты должен думать о завтрашнем дне. Без всяких если и вдруг. Сомневающийся в успехе командующий корпусом, равно как и армией или дивизией, не имеет права командовать ни корпусом, ни армией, ни даже полком. Твоя задача — идти вперед без оглядки. И крушить все, что попадется тебе на пути. И немец побежит. Тем более всякие там румыны, итальянцы и венгры. И верить, что командование фронтом сделает все, чтобы твой удар был неотразим. Все ясно?
— Так точно, товарищ генерал армии!
— Ну то-то же, — усмехнулся Жуков. И добавил: — Обороняться вроде бы научились. Стоять насмерть научились. Пора учиться и наступать.
Глава 11
Командующий Четвертым механизированным корпусом генерал Вольский ехал на выкрашенной в белое «эмке» в одну из своих дивизий, затаившихся в районе Сарпинских озер, примерно в ста километрах к югу от Сталинграда. Он ехал из штаба Сталинградского фронта, где командующий фронтом генерал Еременко, член военного совета генерал Хрущев и представитель Ставки Верховного командования генерал Василевский проводили последний инструктаж с командующими армиями и корпусами перед предстоящим наступлением.
— Ваша задача, товарищи генералы, — говорил Хрущев в заключение совещания, гвоздя воздух сжатым кулаком, — состоит в том, чтобы наконец нанести проклятым фашистам окончательное и бесповоротное поражение. Многострадальный город, носящий имя великого Сталина, ждет от вас решительных действий, предусмотренных планами Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. Но, как говорят в народе: взялся рубить лесину, смотри, как бы она не упала тебе на спину. Вот и вы должны смотреть, чтобы фашисты не сели вам на хвост. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваше наступление прошло без сучка и задоринки.
Вольскому показалось, что в речах Еременко и Хрущева нет-нет да и проскальзывала неуверенность, которую они старались погасить громкими фразами. И даже в немногословных замечаниях и вопросах представителя Ставки. При этом Василевский ничем генерала Вольского от других не выделил, задавая всем одни и те же вопросы, в которых как раз и проскальзывала эта неуверенность. А он, Вольский, Сталину писал со всей откровенностью, что очередное наступление Красной армии может закончиться очередным провалом. И что в результате? А ровным счетом ничего: молчок. Сказать сейчас о своих сомнениях во всеуслышанье? Но какой смысл? И генерал Вольский промолчал.
И теперь, возвращаясь в свой корпус, он чувствовал, что на душе у него становится еще темнее, хотя день ясный, морозный, можно сказать, чудесный, а сидящий рядом с ним дивизионный комиссар Ладейников крутит головой, поглядывая по сторонам и на комкора веселыми, почти счастливыми глазами. Неужели он ничего не чувствует, не понимает? Или настолько хорошо умеет прятать свои истинные чувства и мысли? Или это обычное русское: пей, гуляй, однова живем, а там что бог даст?
А кругом, куда ни глянь, расстилалась голая заснеженная степь с редкими курганами-могильниками, на которых снег не держится, и они бурыми пятнами возникают на горизонте, притягивая взгляд. Иногда на пути попадались сверкающие на солнце солончаки или замерзшие озера, обрамленные бурым воротником камышей. Озера эти, если посмотреть на карту, тянутся прерывистой чередой на юго-восток, в сторону Каспийского моря; они, судя по всему, остались от протекавшей по этим местам в давние времена какой-то реки, — может быть, даже Волги.
Открывающиеся перед генералом Вольским картины заснеженной степи на какое-то время оторвали его от тяжелых мыслей. Особенно неожиданно возникшее русло высохшей реки с обрывистыми берегами. Тем более что в таких вот руслах и прятались от постороннего глаза полки и батальоны его корпуса.
Четвертый мехкорпус создан недавно, накапливался в этих местах постепенно, в стороне от гремевших в это же самое время сражений. Танкисты, артиллеристы, пехотинцы — всё, что составляло живую силу корпуса, не имели ни только практики наступления, но вообще никакой боевой практики. Все это была либо зеленая молодежь, едва достигшая восемнадцати лет, либо неуклюжие сорокалетние запасники, либо выходцы из среднеазиатских республик, кое-как разбавленные выписанными из госпиталей бойцами и младшими командирами, хотя и понюхавшими пороху, но порох тот пахнул поражениями или, в лучшем случае, боями в обороне. Конечно, их учили и продолжают учить искусству боя в наступлении и обороне, но учения — это жизнь, а бой — это смерть.
Генерал Вольский все последние дни не находил себе места. Отправив после долгих колебаний и размышлений письмо Сталину, он теперь жалел, что сделал это, и каждую минуту ждал, что его если не арестуют, то снимут с командования корпусом и… и черт его знает, что будет дальше. Во всяком случае, он готовился к самому худшему.
Написать Сталину письмо его толкнули многие факты нераспорядительности, разгильдяйства, пренебрежения элементарными правилами ведения боевых действий сперва в Крыму, затем на Северном Кавказе, которые он наблюдал, будучи заместителем командующих этими фронтами по бронетанковым войскам, а должность заместителя командующего БТ — это ни то ни сё, а черт знает что, то есть никакой власти и почти никакой причастности к боевым действиям. И здесь, под Сталинградом, хватало всякой дури, и Вольский в конце концов стал видеть одну только дурь и ничего больше. И вот ему поручили командовать механизированным корпусом, который, как представлялось Вольскому, совершенно не готов к боевым действиям, в том смысле, что то одного нет, то другого, то третьего, то одно делается не так, то другое через пень-колоду, а между тем все, начиная с командующего фронтом, смотрят на все эти безобразия сквозь пальцы, надеясь на все то же русское авось. А он, Вольский, насмотрелся на все это еще в Крыму. Там началось с шапкозакидательских распоряжений командующего Крымским фронтом генерала Козлова, находящегося под сапогом у представителя Ставки, всесильного, как им всем казалось, начальника Главпура Мехлиса, человека истеричного, жестокого и ничего не понимающего в военном деле, а закончилось паническим бегством огромной армии, собранной на небольшом пятачке крымской земли, едва немцы прорвали фронт и двинулись на Керчь, сметая все на своем пути. Тень того страшного разгрома маячила перед глазами генерала Вольского, и ему казалось, что все это может повториться здесь, под Сталинградом, но в еще больших масштабах.
Танковая дивизия, входившая в состав мехкорпуса, располагалась в русле некогда протекавшей по нему реки, личный состав помещался в землянках, вырытых в крутом берегу, к тому же прикрытых белыми полотнищами. Все танки, машины и орудия выкрашены белой краской и тоже тщательно укрыты белыми же полотнищами, которые сверху, если верить нашим летчикам, выглядят снежными сугробами. Хотя сам Вольский приложил немало усилий, чтобы как можно тщательнее спрятать свой корпус от глаз воздушной разведки противника, однако это не избавляло его от ощущения, что все это напрасно, что немцам известно и о местонахождении его корпуса, и о его слабой готовности к предстоящим боям, и даже о планах нашего командования, потому что механизированные группы немцев то и дело проникали с юга в Калмыцкие степи, сея панику и бесследно исчезая в неизвестном направлении. Поговаривали, что простодушные калмыки, поверив своим сородичам, ушедшим в эмиграцию после разгрома белых армий, помогают немцам в этих рейдах и даже сами нападают на наши части. Что толку при таком положении от нашей скрытности и маскировки? — сплошной самообман! Из всего этого следует, что едва лишь корпус начнет движение, как тут же попадет под воздействие авиации противника и удары его танковых дивизий. Даже странно, что этого не понимают там, наверху.
Перед своими подчиненными, равно как и перед начальством, Вольский ничем не выдавал своей неуверенности и тревоги, но эти неуверенность и тревога накапливались в нем день ото дня, как пар в перегретом и плотно закупоренном котле. Когда же удерживать в себе свои сомнения стало выше сил, он выплеснул их в письме на имя Сталина, и все эти дни мысленно следил за продвижением письма, считал дни и даже часы, когда оно попадет к Верховному, — если попадет, разумеется, — представляя себе Сталина, читающего это письмо в своем кабинете, и как он отдает приказ… — но дальше все было смутно и не поддавалось логическому объяснению.
Машины съехали вниз по пологому откосу, вкатили под полотняный навес и остановились. Вольский, — в белом полушубке и меховой шапке, красивое и мужественное лицо сосредоточенно и спокойно, — выбрался из машины и принял рапорт командира дивизии, молодцеватого полковника-танкиста, лицо которого дышало здоровьем и молодым задором, а голос звучал звонко и даже весело. И Вольскому подумалось, что этого полковника не посещают никакие сомнения, что для него война — естественный процесс, и даже, вполне возможно, его не гнетет, что его дивизия стоит в калмыцких степях, куда еще ни разу за всю историю России не проникал ни один завоеватель, если не считать набегов с юга разбойничьих племен.
Доложив, что вверенная ему дивизия ведет плановые занятия по боевой подготовке, что никаких происшествий за минувшие сутки не имело места, полковник, опустив руку и крепко пожав руку командира корпуса, произнес, глянув на ручные часы и несколько понизив голос:
— Восемь минут назад звонили из штаба фронта, просили, чтобы, как только вы прибудете, немедленно туда позвонили.
— Хорошо, ведите на пункт связи, — произнес Вольский.
И они перешли в другую землянку, где располагались телефонисты и радисты.
Штаб фронта ответил сразу же и предупредил, чтобы генерал Вольский ожидал у телефона, никуда не отлучаясь.
Пока генерал стоял, держа в руках трубку, в голову ему приходили разные мысли: и что жена могла позвонить из Куйбышева, потому что уже дважды звонила ему в корпус, но только ночью, когда линии не так загружены; и могли позвонить из бронетанкового управления, где он работал долгое время инспектором, по поводу заявки на новые танки или запчасти к ним; и что-то еще в том же роде. Во всяком случае, никакого опасения этот звонок у него не вызывал.
А в трубке все время слышались трески и шорохи, будто кто-то шел там, в неведомых глубинах, пробираясь через неведомые препятствия. И вдруг далекий властный голос неожиданно спросил:
— Генерал Вольский?
— Так точно, — ответил Вольский, не зная, кто его спрашивает на том конце трубки, но догадываясь, что уж точно не какой-то там лейтенант. А трубка тем же властным голосом сообщила: — С вами будет говорить товарищ Сталин.
Внутри у генерала все обмерло и как бы опустилось, а в голове возник звон и гул. И в эти звуки вторгся глуховатый голос:
— Здравствуйте, товарищ Вольский. Я получил ваше письмо. Я никому его не показывал, кроме генерала Василевского. Я думаю, что вы неправильно оцениваете наши и свои возможности. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас задачами и сделаете все, чтобы ваш корпус добился успеха. Готовы ли вы сделать все, от вас зависящее, чтобы выполнить поставленные перед вами задачи?
Вольский слушал этот монотонный, без взлетов и падений, голос и с трудом понимал, что ему говорят: настолько был ошеломлен таким результатом от прочтения Сталиным его письма. Однако самое главное — заданный Сталиным вопрос — он понял и, справившись с собой, ответил не своим обычным, а каким-то хриплым, деревянным голосом:
— Так точно, товарищ Сталин: с поставленными перед корпусом задачами я справлюсь.
— Очень хорошо, товарищ Вольский, — прозвучало в трубке почти без паузы. — Я верю, что вы справитесь. Желаю успеха. До свидания.
И в трубке, и даже во всем мире повисла такая плотная тишина, которая не только не отгородила его, Вольского, от далекой Москвы, от Кремля и медлительного в движениях человека, который, однако, может принимать быстрые и самые неожиданные решения, но и, будто спрессовавшись до невозможно малой толщины, сблизила их вплотную, на расстояние вытянутой руки. В горле генерала возник спазм, дыхание прервалось, он судорожно втянул в себя воздух и, отвернувшись от телефонистов и всех остальных, рукавом полушубка отер глаза. И самое удивительное: он в эту минуту не понимал, как мог сомневаться и каким образом в его голове родилась мысль написать письмо Сталину, когда все и без того так ясно и просто, как дважды два — четыре.
Глава 12
Операция «Уран» началась 19 ноября наступлением войск Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина и левого крыла вновь созданного Воронежского фронта под командованием генерала Рокоссовского. На другой день ударили войска Сталинградского фронта под командованием генерала Еременко. Удар такой мощи для немцев оказался совершенно неожиданным. Танковые и кавалерийские корпуса советских фронтов смяли румынские, венгерские и итальянские войска, прикрывавшие фланги 6-й немецкой армии, и стоящие за ними немецкие дивизии. На пятый день передовые части фронтов соединились в районе хутора Советский. По всем дорогам стояла разбитая авиацией немецкая техника, или просто брошенные танки, машины, орудия, лежали заметаемые снегом трупы.
— Противник бежал в такой панике и с такой поспешностью, что его с трудом догоняли наши танки, — слышал Жуков в трубке ликующий голос командующего Юго-Западным фронтом генерала Ватутина, и ему самому передавалось это ликование, однако на лице Первого заместителя Верховного Главнокомандующего это никак не отражалось.
— Гоните немцев к Сталинграду, рассекайте их порядки, расширяйте прорыв, плотнее затягивайте кольцо окружения, не останавливайтесь ни на минуту! — ответил он своим обычным скрипучим голосом и положил трубку. Затем, повернувшись к командующему Калининским фронтом генералу Пуркаеву, сменившему на этом посту генерала Конева, произнес тем же тоном: — Ну, Максим Алексеевич, показывай, что вы тут напланировали.
— Да ничего особенного, Георгий Константинович. Пытаемся довершить начатое вами.
Жуков глянул на карту, на изломанную линию фронта, где не всякий разберется, кто у кого в мешке. С одной стороны оборона немецких войск протянулась этакой длинной закорючкой, загибающейся к северо-западу, внутри которой лежат многострадальные города Ржев и Вязьма, и закорючка эта почти на триста километров проникает на территорию, контролируемую советскими войсками. С другой стороны немецкие войска охватывают Тридцать девятую армию Калининского фронта, а этот мешок помещается в мешке еще большем, в котором находятся уже четыре наши армии, из них две армии фронта Северо-Западного. И, вообще говоря, наверчено тут, накручено так, что сам черт ногу сломит. Но если вспомнить сорок первый и даже лето-осень сорок второго, то в памяти встает одно необоримое желание: вырваться из этих взаимно проникающих мешков хотя бы половиной того, что имеем. Однако уж год почти стоим — и ни с места. Ни мы немцев, ни они нас. Есть, правда, и существенное различие: помышляют о наступлении опять же не немцы, а мы. Значит, именно мы кое-чему научились и кое-чего достигли, а противник кое-что утратил. Следовательно…
— Сколько немцы увели отсюда дивизий? — спросил Жуков у Пуркаева, уверенный, что какую-то часть войск Гитлер наверняка перебросил в район Сталинграда.
— По нашим данным они не только не забрали отсюда ни одной дивизии, но даже еще подбросили две танковых и четыре пехотных, — ответил Пуркаев.
— А не врут эти ваши данные?
— Не врут, Георгий Константинович: много раз перепроверяли. Сами теряемся в догадках. Поначалу думали, что они будут атаковать наши позиции, чтобы оттянуть часть наших дивизий от Сталинграда. Нет, не атакуют. То есть активность проявляют, но не настолько, чтобы она говорила о серьезности их намерений. У нас, честно говоря, сложилось мнение, что немцы ждут наступления с нашей стороны. Пленные уверяют, что по всей линии фронта им приказано как можно глубже зарыться в землю, минировать все танкоопасные направления, что сам Гитлер обратился к ним с посланием, в котором потребовал стоять насмерть, до последнего патрона и солдата. Еще один факт вроде бы подтверждает показания пленных: усиленное насыщение их обороны противотанковой артиллерией.
— Странно, — произнес Жуков, задумчиво тиская пятерней свой раздвоенный подбородок. А про себя подумал, что Верховный, может быть, был не так уж и не прав, предполагая главное направление немецкого удара в 42-м на Москву. Не исключено, что Гитлер передумал в последний момент. Или держал этот удар про запас, в зависимости от обстановки на южном участке фронта. А обстановка для удара на Москву не сложилась, потребовав значительно больших войск под Сталинград и на Кавказ. Могли и немцы обмишуриться, предположив, что мы летом продолжим наступление на Западном фронте.
Вслух же сказал:
— Завтра с утра поеду на передовую, посмотрю, на каком участке лучше организовать прорыв обороны противника, чтобы танкам было где развернуться.
Пуркаев ткнул указкой в карту.
— Лучшего места, чем это, все равно не найдем. Сам несколько раз побывал в окопах вместе с танкистами.
— Ничего, два глаза хорошо, а четыре лучше, — возразил Жуков.
И весь следующий день, нахлобучив на голову солдатскую шапку, кочевал с одного наблюдательного пункта на другой, выспрашивая командиров полков, разведчиков и танкистов, пока не убедился, что Пуркаев выбрал самый, пожалуй, удобный участок для прорыва обороны противника.
* * *
К Ивану Степановичу Коневу, принявшему командование — во второй раз — Западным фронтом, Жуков не поехал. Не хотелось ущемлять своим появлением его и без того ущемленное самолюбие. К тому же Конев, в отличие от Пуркаева, имеет более солидный опыт командования наступающими войсками и поэтому вряд ли допустит грубые ошибки. Ну и, наконец, не ладил Георгий Константинович с Иваном Степановичем с тех самых пор, как отослал Конева командовать Калининским фронтом. Так что лучше лишний раз не дергать нервы ни себе, ни ему. Да и голова все время занята сражениями, развернувшимися на юге: уж больно все идет там гладко, как бы не поскользнуться.
И Жуков, поговорив с Коневым по телефону и утвердив сроки наступления фронтов, уехал в Москву. Тем более что Сталин то и дело звонил ему, спрашивая, что Жуков думает о делах на юге, как бы поступил на месте того или иного командующего фронтом.
* * *
Наступление Западного и Калининского фронтов началось в начале декабря. Калининский фронт оборону немцев прорвал, а Западный фронт сделать этого не сумел.
— Поезжайте к Коневу, — велел Сталин, — и разберитесь, почему его войска топчутся на одном месте.
Жуков чертыхнулся про себя и поехал.
Генерал-полковник Конев встретил Жукова мрачным взглядом. Долго и обстоятельно доказывал, что его войска делали все возможное и невозможное, но оборона немцев настолько насыщена артиллерией и танками, что имеющимися в его, Конева, распоряжении силами такую оборону не прорвать.
— Надо было наступать южнее, — проскрипел Жуков. — Там местность не такая пересеченная, танкам есть где развернуться.
— Там сплошные минные поля. И противотанковой артиллерии — плюнуть некуда, — вяло возразил Конев. И даже едва не зевнул.
Жуков промолчал. Да и что скажешь? Немцы явно ждали нашего наступления, основательно подготовились.
— Верховный требует продолжать наступление, не давать противнику передышки, — снова проскрипел он. — Надо воспользоваться успешными действиями Калининского фронта, изменить направление удара… Бросить авиацию на бомбежку минных полей. Ударить эрэсами. Идти вперед и только вперед! Не позволить немцам взять отсюда ни одной дивизии. Сейчас все решается под Сталинградом…
Не успел Жуков закончить мысль, как позвали к телефону. Звонил Пуркаев.
— Георгий Константинович, у нас беда! — донесся сквозь трески и писки отчаянный голос командующего Калининским фронтом. — Немцы отрезали мехкорпус Соломатина, прорвавшего фронт и углубившегося на пятнадцать километров. Все наши попытки вызволить корпус из окружения своими силами не дают результатов. К тому же обнаружены еще две свежие дивизии немцев…
— А ты куда смотрел? — взорвался Жуков. — Почему не обеспечил фланги? У тебя в резерве целая дивизия и танковая бригада. Надо было сворачивать немецкую оборону, как ковровые дорожки. Для этого надо было бить по флангам! По флангам бить надо было, по флангам!
— Мы все это делали, Георгий Константинович! Вернее, пытались делать, но уткнулись в глубоко эшелонированную оборону противника…
— Надо было не пытаться! Надо было атаковать самым решительным образом! — гремел в тесном помещении голос Жукова, пронизанный железными нотами.
— Я согласен. Но мне кажется, что немцы специально пропустили корпус Соломатина, а потом захлопнули за ним свой фронт.
— Ему, видишь ли, кажется! Он, видишь ли, пытался! Тебе не фронтом командовать, а похоронной командой! — проскрипел Жуков и положил трубку. Затем приказал соединить его со Ставкой.
Сталин взял трубку сразу же. Выслушав доклад своего заместителя, спросил:
— Что собираетесь делать?
— Своими силами Калининский фронт корпус вызволить из окружения не сможет, товарищ Сталин. А сам корпус вряд ли сможет продержаться больше трех-четырех дней: противник запер его в лесисто-болотистой местности, где нельзя ни развернуться, ни устроить надлежащую оборону. Прошу дать из резерва хотя бы один полнокровный стрелковый корпус. И перебросить на это направление часть истребителей из Московской зоны ПВО.
— Хорошо, — послышался спокойный голос Сталина, как будто он ничего лучшего и не ожидал. — Позвоните в Генштаб от моего имени, они выделят вам корпус.
— Спасибо, товарищ Сталин, — произнес Жуков по инерции, хотя Верховный уже положил трубку.
И посмотрел на генерала Конева.
А тот пялился в карту, делая вид, что ничего не слышал, а если и слышал, то ничего не понял.
И Жуков, все тем же не терпящим возражения тоном, повторил:
— Атаковать и только атаковать! Не давать противнику ни минуты покоя! Минные поля ему, видите ли, мешают! Все это отговорки. Надо делать так, чтобы твои действия мешали противнику! Тогда и результат будет.
«А кто тебе мешал добиться результата на моем месте? — усмехнулся про себя Конев. А дальше привычное: — Учителей много, а помощи никакой». Вслух же отчеканил:
— Есть не давать ни минуты покоя, товарищ генерал армии!
Глава 13
Главный редактор газеты «Правда» Поспелов вышагивал по своему кабинету, заложив руки за спину, и говорил таким уверенным тоном, будто он один держит в своих руках все нити, связывающие между собой фронты, растянувшиеся от Черного моря до Баренцева:
— Судя по всему, наши войска и в районе Ржева устроят фрицам такой же котел, что и в Сталинграде. А может быть, и покруче. Я звонил в Генштаб, мне там сказали, что в Ржевско-Вяземском мешке немцы сосредоточили почти миллионную армию. Представляешь, какая там предполагается мясорубка? Поезжай туда немедленно, отдыхать сейчас некогда.
Его единственным слушателем был спецкор газеты писатель Алексей Задонов, недавно вернувшийся из-под Сталинграда, своими глазами видевший прорыв наших войск в районе города Серафимович, а затем и встречу Донского и Сталинградского фронтов. Он по телефону передал репортаж об этом событии, занявший в газете почти целую полосу, а вернувшись в Москву, только что закончил большой очерк о действиях одного из механизированных корпусов, которому именно сегодня было присвоено звание гвардейского, и наверняка не без влияния его репортажа.
Алексею Петровичу не хотелось никуда ехать. Ему казалось, что он весь выплеснулся в победные строчки, что такого восторга, какой он испытывал, сидя внутри командирской тридцатьчетверки, подпрыгивая и трясясь на жестком сидении, оглушаемый пушечной и пулемётной пальбой, то сжимаясь от страха, то крича что-то нечленораздельное, видя, как несущиеся по снежной целине танки крушат немецкие колонны, превращающиеся на глазах в жалкие толпы с поднятыми руками, которые совсем недавно были войском, наводившим страх своей неумолимостью и несгибаемостью, — да, именно восторга! — и, следовательно, второй раз этот восторг на бумаге передать невозможно.
Но и отказаться от поездки он не мог. А посему на другой день был на Центральном аэродроме, влез в кабину позади пилота в безотказный «кукурузник» и через три часа петляния вдоль русла то одной, то другой речки, оказался на аэродроме возле какой-то железнодорожной станции. Самолет, попрыгав по застругам, наметаемым жестким ледяным ветром, приткнулся к огромному сугробу и затих.
Алексей Петрович вывалился из кабины, с трудом расправляя окоченевшее от долгого сидения в тесной кабинке тело, и свалился бы, но его поддержали крепкие руки и опустили на грешную землю, покрытую не менее грешным снегом. И вот он уже два дня сидит в политотделе штаба фронта, читает дневники и письма немецких солдат и офицеров, в которых отчаяние соседствует с уверенностью, тоска с оптимизмом, вера с неверием; читает немецкие газеты, приказы Гитлера и командования группы армий «Центр», называющие Ржевский выступ кинжалом, направленным в сердце России, воротами к Москве, трамплином и даже предместьем Берлина, если Ржев отдать русским.
В одной немецкой газете он прочитал и выписал себе в блокнот и такое: «Наши доблестные солдаты противостоят противнику, который лучше приспособлен к погодным условиям своей страны, но, несмотря на это, наносят коммунистам жестокие поражения, которые в конечном счете приведут нас к победе. Удержать Сталинград и Ржев — значит переломить ход войны. Недалеко то время, когда мы, ведомые Великим Фюрером Германской нации, победным маршем пройдем по развалинам городов мира, утверждая в них нашу власть и дух покорителей вселенной».
А памятка, обнаруженная чуть ли ни у каждого немецкого солдата, заклинает: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобою старик или женщина, девочка или мальчик — убивай…»
И рядом с этим в неотправленном письме пленного унтер-офицера: «Здесь ад. Я не знаю, выживу ли в этом аду. Похоже, Москвы нам не видать. И на юге творится что-то невообразимое. Передают, что армия Паулюса оказалась в кольце, так и не сумев взять Сталинград. Когда русские разделаются с Шестой армией, они навалятся на нас, и я не уверен, что к тебе придет даже извещение о моей смерти: некому его будет послать…»
Или вот еще: «Великий Боже и Святая Дева Мария! За какие грехи нас бросили в это пекло из Франции, где мы жили, как у Христа за пазухой. И это стало видно только отсюда, а там, во Франции, мы ворчали, что наши на Востоке воюют как-то не так. И вот теперь мы сами оказались здесь. Боже, любое ранение — только бы остаться живым и снова оказаться в фатерлянде…»
Или вот совсем другое: «Мы все вынесем, лишь бы дотерпеть до лета. Мы, артиллеристы, получаем истинное наслаждение, видя, как горят русские танки и белые поля устилаются трупами русских солдат. Беспрерывные атаки по нескольку раз в день. Трупы наслаиваются на трупы. Их никто не убирает. Скоро у русских не останется солдат. Эти дикари не заслуживают лучшей доли». И подпись: «Шарфюрер СС Ганс Грюнберг. Хайль Гитлер!» А кому пишет? Понятно: «Барону Карлу-Эрнсту фон Рильке, генералу в отставке. Кёнигсберг».
Алексей Петрович вздохнул, отложил письмо в сторону, захлопнул свой блокноту, сунул его в полевую сумку, закурил.
В рубленной крестьянской избе, крытой соломой, покосившейся то ли от времени, то ли от бомбежек и артобстрелов, но все-таки уцелевшей, топилась печь; хозяйка, пожилая женщина с изможденным лицом, сновала между печью и сенями с охапками дров, гремела чугунками. Пахло вареной картошкой, тушенкой, лавровым листом. На печи виднелись две детские головки, до ужаса худые, — таких Алексей Петрович видел в начале тридцатых в Поволжье, на Дону, на Украине, в других местах. Деревня, как ему сказали, была освобождена ночной атакой лыжного батальона, поэтому немцы не успели ни сжечь ее, ни угнать с собой жителей. Да и сами немцы, застигнутые внезапной атакой, все еще лежат, окоченевшие, за сараем, сложенные в штабеля и уже полузасыпанные снегом. Своих похоронили, а этих оставили на потом, то есть до весны, когда растает и можно будет вырыть ров, подходящий для такого количества трупов. Или свалить их в уже ненужные окопы.
В избу, в которой размещались несколько корреспондентов фронтовой газеты, вместе с клубами морозного пара то и дело входили люди, грелись у печи, что-то ели или писали в свои блокноты, перебрасываясь скупыми фразами с сидящими за столом, снова уходили в непрекращающуюся уже третьи сутки метель.
Задребезжал полевой телефон. Сидящий напротив Задонова младший политрук, молоденький, чистенький и какой-то не здешний, некоторое время слушал, что ему говорили, подтверждая сказанное короткими «так, понятно», затем, положив трубку и дав отбой, произнес, обращаясь к Алексею Петровичу:
— Ну что, товарищ Задонов, не передумали?
— О чем вы, товарищ Гарушкин?
— Об участии в прорыве в составе механизированного корпуса.
— Разве я собирался участвовать?
— Ну как же! — воскликнул Гарушкин и даже развел руками, подтверждая свое удивление непостоянством московского гостя. — Сами же говорили, что на Воронежском фронте…
— Так это же было на Воронежском, — усмехнулся Алексей Петрович. — А здесь Калининский. И там я был несколько моложе. И вообще, кто вам сказал, что я ездил на танке?
— Так в вашем же очерке…
— Так это же в очерке…
— Так вы, стало быть…
— Именно так, товарищ младший политрук. Очерк все-таки полухудожественное, полудокументальное произведение и, стало быть, допускает в некотором роде полуреальную трактовку реальных событий… — И Алексей Петрович покрутил пятерней в воздухе и пару раз пощелкал пальцами.
— Вот и верь после этого написанному.
— Написанному верить надо, товарищ Гарушкин, — влез в разговор еще один политрук, на этот раз старший, и по годам, и по опыту, если иметь в виду поношенную гимнастерку и баранью безрукавку. Он, как и Задонов, усердно что-то выписывал из захваченных немецких документов, писем и газет. — Даже если товарищ Задонов и не ездил на танке. Суть от этого не изменилась, зато эффект присутствия налицо, — добавил он назидательно.
И снова задребезжал телефон.
— Вас, товарищ Задонов, — произнес Гарушкин, протягивая трубку.
— Товарищ Задонов? — послышался в ней требовательный голос.
— Так точно.
— Полковой комиссар Евстафьев. Ну как, едем?
— Разумеется.
— Тогда я посылаю за вами машину.
— Жду.
— До встречи, — откликнулись на другом конце трубки.
— Накаркали вы, товарищ Гарушкин, — произнес Алексей Петрович, вставая. — Сейчас бы самое время, как говорил один герой одного писателя, завести роман с веселой маркитанткой, а тут тащись в ночь, трясись по кочкам — и ради чего? Ради того, чтобы товарищ Гарушкин поверил в написанное товарищем…
И тут вдруг шарахнуло совсем рядом. Посыпались стекла, холодный ветер ворвался внутрь избы вместе с дымом от разорвавшегося рядом не то снаряда, не то бомбы. Послышался еще визг — и новые взрывы загрохотали поблизости, а затем подвывающий гул удаляющегося самолета.
— Черт! — сказал кто-то, вставая и отряхиваясь. — Ведь погода совершенно нелетная!
— Для кого нелетная, а для кого и вполне подходящая, — проворчал Алексей Петрович, тоже поднимаясь с пола.
Где-то поблизости звали санитаров, неподалеку горела одна из изб, в которой тоже размещался какой-то отдел какого-то штаба.
— Говорят, Жуков здесь, — произнес старший политрук, собирая с пола бумаги. — Судя по всему — в его честь.
Хозяйка затыкала разбитые окна подушками. Под ногами хрустело битое стекло.
За стеной избы что-то взревело, лязгнуло и затихло. Затем дверь отворилась, вместе с паром ввалился человек в черном танкистском комбинезоне и меховом шлемофоне, со свертком под мышкой, остановился в дверях, спросил:
— Кто тут у вас писатель товарищ Задонов?
— Вот он, — показал Алексей Петрович на Гарушкина, и тот захлопал глазами, не зная, что сказать. А Задонов пояснил без тени улыбки: — Он очень хочет поехать, а его не пускают, я не хочу, а меня гонят. Полнейшая несправедливость… Впрочем, нас тут чуть не разбомбили, так что я, пожалуй, поеду: в танке надежнее.
Танкист понимающе улыбнулся, представился:
— Старший лейтенант Юрьев, командир танка КВ-2. Приказано взять вас заряжающим. Я для вас, товарищ Задонов, комбинезон принес и унты.
— А вы не боитесь, старший лейтенант Юрьев, что я заряжу не тот снаряд и не тем концом?
— А вам, товарищ Задонов, и не придется заряжать: сами управимся. Вы сядете за кормовой пулемет, а пулеметчик займет место заряжающего: у нас заряжающий вышел из строя.
— Ну тогда — что ж, тогда давайте ваш комбинезон.
Большая поляна, изрезанная глубокими колеями, окружена вековыми соснами. Над ними низкое небо, откуда сыплет и сыплет мелкий снег. Сосны гудят под ветром, качая лохматыми верхушками. Под этими соснами стоят выкрашенные в белое танки. Точно частокол, торчат наружу тонкие, длинные стволы орудий. Перед танками плотными рядами выстроились танкисты в черных комбинезонах, десантники в белых маскхалатах. Чуть впереди еще один танк, а на его башне человек. Человек кричит, напрягая легкие, изо рта его вместе со словами вырываются клубы пара:
— Там, на юге, наши войска громят фашистских захватчиков. Целая армия окружена под Сталинградом, сотни тысяч солдат и офицеров. И чтобы эти изверги не вырвались из котла, нам с вами необходимо здесь, на этой политой нашей кровью земле, устроить фашистам свой Сталинград. Мы должны драться умело, мужественно, с лютой ненавистью к врагу, не думая о смерти. Пусть фашисты думают о смерти и дрожат перед неминуемой расплатой за свои злодеяния! Родина дала нам могучее оружие. Там! — оратор выбросил руку в сторону. — На Урале! В Сибири! Наши отцы и матери, жены, братья и сестры день и ночь куют это оружие, чтобы мы били им врага до полного его уничтожения! Так будем же достойны нашего великого народа, нашей партии, нашего гениального вождя и учителя товарища Сталина! Смерть немецким захватчикам! Вперед, на врага! Победа будет за нами! — Переждал немного и срывающимся голосом: — По маши-ина-ам!
Глава 14
Сперва около часа долбила артиллерия. Затем «сыграли» «катюши». Что творилось впереди, у немцев, в сумерках раннего утра, в круговерти метели разглядеть было нельзя. Тем более что Алексей Петрович сидел задом наперед, то есть лицом к корме, и мог видеть лишь то, что творилось сзади. Да и то далеко не все: обзор был не слишком-то велик.
Но вот взревел мотор, танк дернулся и покатил, переваливаясь с боку на бок, то с натугой карабкаясь вверх, то падая вниз. Хотя Алексей Петрович уже имел опыт езды на танке и сказал себе, что больше не сядет в эту душегубку, однако тот риск и ни с чем не сравнимый азарт, когда несешься в неизвестность, и все вокруг гремит и грохочет, будто ты попал в ужасные жернова, перемалывающие всех и всё, в то же время оставаясь в убеждении, что именно тебя-то как раз и не перемелют, потому что… а черт его знает, почему! — и на этот раз не удержался, полез и теперь, вцепившись обеими руками в скобы, тычась головой то в резиновый налобник прицела, то затылком тоже во что-то резиновое же, но твердое, как железо, весело проклиная себя за ненужное молодечество, которое когда-нибудь кончится плохо.
Танк катил в своем ряду одним из последних, командир торчал в люке, Алексей же Петрович видел только глубокую колею, оставляемую танками в снегу, прицепленную к танку пушку, укутанную брезентом, да следующие сзади танки, облепленные десантниками, и все это неясно, в вихрях снега, поднимаемых танковыми гусеницами в помощь самой метели.
Под Сталинградом он тоже ехал на месте пулеметчика, но в носовой части «тридцатьчетверки», откуда обзор больше, а главное — виден сам бой. И даже выпустил несколько коротких очередей по колонне машин, набитых румынами, но не был уверен, попал в кого-нибудь или нет. Однако попал-не попал — не главное. Главным было то, что он не только наблюдал бой издалека, чтобы описать его, силясь представить себя на месте то того, то другого действительного участника боя, но и участвовал, то есть при случае мог сказать, не кривя душой, что тоже воевал.
Поначалу, как и под Сталинградом, перли и перли. Иногда то далеко, то совсем рядом что-то взрывалось, взметая вверх снежные фонтаны. Иногда по броне что-то било с тупой настойчивостью, или вдруг шарахнет точно градом по жестяной крыше, но не страшно, хотя тело само по себе реагировало на каждый удар и шараханье, сжимая мышцы живота и обдавая холодом грудь, то есть то и там, где сосредоточена сама жизнь. Но через какое-то время наступило привыкание, а сама поездка уже не казалась такой страшной.
Вот потянулись горящие избы, пламя билось на ветру, черный дым жался к земле. Промелькнул и остался позади горящий немецкий танк, развороченный грузовик, вот наша тридцатьчетверка уткнулась в сугроб, вот несколько серых фигурок, уже заметаемых снегом, то есть ничего особенного и страшного. Но если под Сталинградом он был полон оптимизма, то здесь движение в глубь занятой немцами территории вселяло тревогу и рождало ненужные ассоциации с подобными же прорывами в этих же местах и чем они заканчивались.
Сильный удар встряхнул корпус танка, мотор взвыл как-то по-особенному, точно от боли, но затем снова зарычал привычным рыком: видать, механик-водитель от встряски или неожиданности придавил педаль газа до упора, вот мотор и взвыл, захлебнувшись соляркой. Но после первой встряски последовали другие, позади и по бокам все чаще и гуще огромными гейзерами взметалась черная земля со снегом и дымом, а это значит, что били пушки калибра не менее сотки.
— Пятый! Пятый! Как самочувствие? — послышался в наушниках голос командира танка.
Алексей Петрович не сразу сообразил, что вопрос относится к нему, пропустив мимо ушей, что он в экипаже пятый, что к нему — для краткости — так и будут обращаться.
— Нормально, Первый, — ответил он поспешно. И спросил: — Что там впереди?
— Фрицы! — ответил командир и тут же переключился на других членов экипажа: — Внимательнее следить за полем боя! Слева сарай. Четвертый, прощупай его очередью.
По броне затарабанили прикладом. Кто-то закричал, срывая голос:
— Командир! Стой! Пушку надо отцепить!
С лязгом открылась крышка люка. Послышался голос старшего лейтенанта Юрьева:
— В чистом поле вас, что ли, выбрасывать? Вон у сарая встанем!
— Там фрицы!
— Третий! По сараю фугасным!
Рявкнула пушка. Танк рванулся, полез на взгорок. Захлебываясь, били длинными очередями курсовые пулеметы. Алексей Петрович видел, как позади задымили одна за другой две наших бэтэшки. Опять по броне шарахнуло чем-то тяжелым, встряхнув стальную махину.
— Правее! Правее бери! — кричал за спиной Алексея Петровича Юрьев, но кричал будто сквозь вату: — Бронебойным! Под башню! Огонь!
Рявкнуло орудие. Новый удар. Что-то дико заверещало внутри танка и тут же замолкло. И сразу же стало тихо.
Алексей Петрович не сразу понял, что танк стоит, мотор не работает. Тянуло дымом. Кто-то навалился на спину, хрипя и дергаясь.
«Подбили!» — молнией пронеслось в мозгу. Алексей Петрович видел, как соскочившие с танка артиллеристы облепили орудие.
Кто-то крикнул, не поймешь откуда, кажется, снизу:
— Живые есть?
— Есть, — прохрипел Алексей Петрович, не в силах сдвинуться с места.
Через пару минут его потащили вниз, ругаясь и кашляя. Он тоже кашлял и не мог остановиться. Тем более что шлемофон был застегнут наглухо, шнур внутренней связи утоплен в розетку, а вилка прихвачена пружиной. Алексея Петровича чуть не задушили, пока он не сообразил сорвать с себя шлемофон.
Глава 15
В низком бревенчатом сарае, где, судя по запаху, держали лошадей, отбитом у немцев, под самую крышу заметенном снегом, Алексея Петровича положили на солому, прикрыли полушубком. Через какое-то время появился человек в белом маскхалате, вымазанном кровью, осмотрел Алексея Петровича, ощупал своими жесткими холодными пальцами, сказал, что раны нет, а есть контузия, что товарищ интендант третьего ранга легко отделались, потому что снаряд пробил броню, командир погиб и механик-водитель тоже, а стрелок и заряжающий ранены, что, слава богу, не взорвался боезапас и не загорелась солярка, а то бы… — и, плеснув из фляги разведенного спирта в алюминиевую кружку, дал выпить, затем перешел к другим раненым.
От боли раскалывалась голова. Болели спина, ноги, грудь. Каждое движение давалось с трудом. Даже дышать — и то было затруднительно. Выпитый спирт вроде бы уменьшил боль, но ненадолго, и Алексей Петрович, нащупав полевую сумку, трясущимися руками достал оттуда флягу с коньяком, сделал пару глотков, откинулся к стенке и закрыл глаза.
Постепенно прорезался слух, и прерывистый гул боя разделился на отдельные звуки: взрывы снарядов и мин, выстрелы пушек, пулеметную трескотню. Думать ни о чем не хотелось, но мысли привычно нанизывались одна на другую, хотя и бесформенные, но все об одном и том же: не о чем будет писать, потому что ничего не видел. До него еще как-то не дошло, что всего с полчаса назад он был на волосок от смерти. Конечно, и при штабе фронта мог погибнуть во время бомбежки, но все-таки штабные гибнут в сто раз реже, чем те, кто идет на пулеметы и пушки врага. А не дошло потому, что остался живым и, следовательно, никакой фатальной неизбежности не вернуться из этой командировки у него нет. Он дышал, чувствовал боль, мог шевелить руками и ногами, мог думать, в конце концов, и надеяться — чего же больше?
Алексей Петрович с ожиданием следил глазами за иногда появляющимися в сарае новыми людьми, в основном санитарами с носилками, но никому из них не было до него дела, никто из них не подошел к нему, не сообщил о том, что творится снаружи и что ждет их в ближайшие часы.
Рядом остановился все тот же человек в белом халате, еще сильнее измазанном кровью, через плечо две санитарные сумки. Теперь Алексей Петрович смог разглядеть его: лет сорок, грубоватые черты продолговатого лица, умный спокойный взгляд серых глаз. Человек спросил, присаживаясь на корточки:
— Как вы, товарищ интендант третьего ранга?
— Ничего, спасибо, — прохрипел в ответ Алексей Петрович и добавил: — Тело какое-то… не мое. И голова раскалывается.
— Контузия, — сочувственно покивал головой человек. Посоветовал: — Постарайтесь уснуть.
— Разве это возможно?
— Все возможно… при желании. — И пояснил: — Судя по всему, загорать нам здесь придется долго.
— Что так? — забеспокоился Алексей Петрович и даже приподнялся на локтях.
— Слышите, как садит? То-то и оно. У них тут пушек понатыкано черт знает сколько. А вокруг сплошные болота. Мороз, а под таким снегом болото не промерзает. Танки в них как в прорву проваливаются. — И проворчал с осуждением: — Пошли, не ведая куда и зачем.
— Вы думаете, что мы попали в ловушку?
— В ловушку или нет, а вырваться отсюда вряд ли удастся.
— Почему вы так решили?
— Как вам сказать? Опыт. Я уже второй раз в такие вот передряги попадаю. Поперва с десантниками в декабре сорок первого под Вязьмой… Высадились в лесу, снег по пояс. Пока собрались, уже еле на ногах стояли от усталости. А тут надо в бой идти. Ну и пошли, а он со всех сторон лупит по нас из минометов, из пушек, из пулеметов. А у нас что? Винтовки, автоматы, ручные пулеметы — и больше ничего. И патронов — что в вещмешке. На три дня боя. Там как раз Тридцать третья армия к Вязьме прорывалась. Предполагали, что еще нажим — и Вязьма наша. А только — шиш. Бились об эту Вязьму, как лбом об стенку. Столько людей положили… И назад хода нет: отрезали. Под конец уж ни патронов, ни еды. Коней у Белова… — кавкорпус там был, генерал Белов им командовал, — почти всех поели. Раненые мерли как мухи: ни медикаментов, ни перевязочных средств, ни тепла. Мало-мальская потеря крови — и конец. С самолетов сбросят того-другого, а сколько они могут сбросить? Так, ерунду какую-нибудь. Да и то: один мешок нам, два мешка фрицам…
— Фелшар! — послышался из другого угла сарая страдальческий голос.
Человек поднялся, пошел на голос, переступая через лежащих людей. Минут через пятнадцать вернулся.
— Я чего к вам, товарищ интендант третьего ранга, — заговорил он, присаживаясь на слежавшуюся солому. — Вы, говорят, писатель. Из Москвы, говорят… — И уставился на Алексея Петровича своими умными глазами.
— Да, — подтвердил Алексей Петрович, заметив, что, слушая этого человека, почти позабыл о своих болях: то ли притупились, то ли чужие боли и страдания, о которых поведал ему этот человек, оказались сильнее. Он шевельнулся и прислушался к себе: действительно, боли поутихли, но шум в голове остался, да в висках стучат молоточки с пугающей настойчивостью.
— Во-от, — удовлетворенно протянул человек. И представился: — Военфельдшер Кузовков, Егор Иванович. Еще в ту войну фельдшерил. А вот медицинский институт закончить не довелось: обстоятельства не позволили. Так я к чему веду речь? А к тому, что если нас окольцуют, то вам надо самолет вызывать, чтобы эвакуироваться. Потому что тут такое может начаться, что уже не до вас будет. А вам потом рассказывать, как дело было, чтобы, значит, люди знали, какие муки может претерпеть человек, когда вот такое вот творится.
— Ну что вы, — качнул головой Алексей Петрович, хотя внутри, помимо его воли, вспыхнула надежда, но тут же и угасла. — Что вы! Я думаю, не все так плохо. Да и времена другие. И командиры кое-чему научились, и красноармейцы, и техники стало побольше. Я под Сталинградом был…
Неподалеку рвануло, раз и другой, сверху посыпалась какая-то труха, — точно в насмешку над его оптимизмом.
— Да-да, я читал ваш репортаж, — заговорил Кузовков, когда наступила тишина, нарушаемая далекой стрельбой, но к ней уже привыкли и не обращали на нее внимания. — Читал. Честно признаюсь, даже засомневался, что так все просто обернулось. У нас ведь, сами знаете, любят преувеличивать. В том смысле, что… чего его, фрица-то, жалеть? Чем больше накрошим, тем лучше. Хоть бы и на бумаге, а простому человеку какое ни есть, а все утешение. А самое главное и удивительное, что решились на такой отчаянный шаг…
— Почему же отчаянный? — удивился Алексей Петрович.
— А как же! Тут вот леса, есть где спрятаться, затаиться. Да и расстояние от одного нашего фронта до другого всего-то сотня-другая километров. А там… Я сам с Дона, знаю, какие там места. Степи, балки, холмы, редкие рощи. Просто удивительно, где все это пряталось, чтобы немец с воздуха не заметил. Опять же, если только на карту глянуть — и то оторопь берет: с полтыщи километров, не меньше. И чтоб вот так, очертя голову… И главное, получилось — вот что удивительно!
— Не все ж, Егор Иванович, немцу нас бить, — возразил Алексей Петрович с чувством превосходства. — Пора уж и самим научиться.
— Это вы правильно сказали: пора. А только, видать, там самых способных генералов собрали, вот они и устроили фрицам баню. А тут, выходит, остались самые никудышные, каким доверить большое дело Сталин не мог. А других нету. Вот я о чем.
— Что ж, в известном смысле и это вполне возможно. Хотя, как мне говорили, наступление Калининского и Центрального фронтов координирует сам Жуков. А он человек неглупый.
— Все это так. И среди нас, солдат то есть… — это я по старой привычке так красноармейцев называю, так что извините… Так вот, среди солдат Жуков известен как хороший генерал, — согласился Кузовков. — Но ему одному за всеми не углядеть. Опять же, если начистоту, то генерал-то он хоть и поумней других будет, а все ж солдат ему считать не приходится. Он солдат не по головам считает, а по дивизиям и корпусам. Есть корпус — ну и вперед! Такое его дело. Об этом у нас тоже говорят. Да разве мы против! Главное, чтобы с толком. Когда с толком, народ многое простить может, потому как русский народ для общего дела себя не жалеет. А без толку людей тратить — ума не надо.
— Так как же вы тогда выбрались? — напомнил фельдшеру Алексей Петрович.
— Как выбрались-то? А собрали обоз из оставшихся лошадей и саней, сложили на них раненых и двинули на запад. То есть если смотреть по карте, то в самую глубь немецкого тыла. А там партизаны. К ним, значит, и правили. Путь не близкий, но дошли. Не все, конечно, половина — это точно. А уж потом кого самолетом вывезли, кто своим ходом вырвался к своим. Потому как оставаться у партизан тоже было нельзя: и с едой плохо, и с патронами, да и вообще — обуза. Ну, это особая статья. Хуже другое: вся Тридцать третья армия, и кавалеристы, и десантники — все почти полегли в тех лесах. Сперва, говорят, сам же Жуков не разрешал выходить к своим, потому как сковывают, мол, силы противника, что ему, Жукову-то, на руку. Однако потом, когда разрешил, люди уже идти не могли от истощения и болезней. Так в чистом поле и полегли. Мало кто вырвался. Не дай нам бог такой же участи.
Глава 16
Вечером Алексей Петрович поднялся с помощью фельдшера Кузовкова, добрел до двери, вышел на воздух. Метель прекратилась, небо разъяснилось, на нем перемигивалось множество звезд, ущербная луна повисла над лесом, под нею краснелось пульсирующее зарево пожара, дым тянулся вверх, заволакивая звезды, наплывая на луну, будто кто-то решил ее поджарить. На взгорке виднелись черные трубы сгоревшей деревни, напоминающие памятники далеких эпох. У самого сарая стоял, приткнувшись к стене, немецкий танк, рядом с ним пушка. А чуть ниже темнела неподвижная махина КВ — того самого, на котором Задонов ехал и приехал, невесть куда.
Они курили, пряча папиросы в рукава.
— Вот эта пушка ваш танк и подбила, — произнес Кузовков. — Правда, стояла она в сарае, так мы ее вытащили, чтоб не мешалась.
Алексей Петрович вспомнил команду старшего лейтенанта Юрьева: «Наводи под башню!» и вслед за этим удар и истошный визг внутри танка, и только теперь до него дошло, что он был на волосок от смерти. Однако даже запоздалого страха не испытал: в конце концов, не в том дело, на один волосок или десять, а в том, что ему еще рано на тот свет: он и на этом не все сделал, что положено. Тут поневоле становишься фаталистом, и эта уверенность, может быть, спасает человека от сумасшествия, позволяя ему жить в столь ужасных условиях и даже пытаться их изменить.
С той стороны, где разгорался пожар, доносилась частая пушечная пальба, вспыхивали зарницы.
— Наши атакуют, — произнес Кузовков и вздохнул. — Вот так и воюем, — добавил он после долгого молчания. — Надо бы кое-кого в медсанбат отправить, здесь они долго не протянут, а где он, медсанбат, никто не знает. А у меня уж и бинты кончились, и обезболивающие. И вообще ничего нет. И кормить раненых нечем. И никто не чухается. Послал двоих санитаров искать начальство. Еще засветло. И с концами. Вот я и говорю: генералы у нас… — не досказал, какие у нас генералы, и снова вздохнул. А через минуту, понизив голос до шепота: — Уходить вам надо отсюда, товарищ писатель. Сами видите: день будет светлым, немцы про наш сарай знают, как развиднеется, так и налетят. Оно б и всем уйти надо, а куда? А самое главное — как?
— А мне куда идти? — усмехнулся Алексей Петрович, чувствуя, как подрагивают от слабости колени, как подкатывает к горлу тошнота и хочется к чему-нибудь прислониться, а лучше всего лечь. Он задавил окурок ногой, повернулся и побрел на свое место, поддерживаемый Кузовковым.
Зарывшись в солому, Алексей Петрович тут же провалился в глубокий полуобморочный сон, и снилось ему, будто в сарай врываются немцы и стреляют из автоматов от живота по всему, что движется. И эта трескотня подбирается к нему все ближе и ближе.
Алексей Петрович очнулся именно от грохота. Бомбили где-то совсем рядом. Отчетливо слышался звенящий вой «юнкерсов», частый стук зениток. «Ага, — подумал он. — Значит нас прикрывают». И тут же испугался: раз прикрывают, значит, решат немцы, есть кого прикрывать. А две-три зенитки — это для них семечки. И опять в мозгу: «Бежать? Но куда?» И он инстинктивно стал зарываться в слежалую солому еще глубже, стараясь устроиться поближе к стенке.
Бомбили все-таки еще не сарай, а что-то другое. Наконец бомбежка кончилась, самолеты прошли еще раз на бреющем, стреляя из пушек и пулеметов, и улетели. Но вокруг, хотя и не так близко, продолжало греметь и гудеть, стонать, стучать и трещать. Судя по всему, бой шел по какому-то кольцу, только трудно было понять, чем этот бой вызван: нашим ли продолжающимся наступлением или тем, что немцы сжимали кольцо вокруг механизированного корпуса генерала Саломатина.
Открылись двери сарая, и внутрь потянулись сперва носилки с людьми, затем пошли ходячие раненые. Раненых с носилок клали рядами, над ними склонялись люди в белом, и Алексей Петрович поразился этому нашествию людей и тому, что он его попросту проспал. И тут же почувствовал сосущую пустоту в своем желудке. В сумке у него оставалось печенье, пара плиток американского шоколада. Он достал одну из плиток и, стараясь не привлекать к себе внимание, чего-то стыдясь, стал отламывать по кусочку и тихо сосать.
А в сарае становилось все светлее. И не только потому, что была открыта дверь, что свет проникал в многочисленные дыры и щели, но более всего потому, что взошло солнце: его лучи пронизывали пыльную мглу, таящуюся в углах, в них искрился морозный иней, возникающий от человеческого дыхания, делая в то же время этих людей беззащитными перед самолетами, которые вот-вот должны вернуться.
— Где, говоришь, он лежит?
— А вон там. Идемте — покажу, — услыхал Алексей Петрович сквозь забытье знакомый голос Кузовкова. Открыл глаза и увидел: пересекая лучи, перешагивая через лежачих, в его сторону движутся двое.
— Товарищ Задонов? Как вы себя чувствуете? — спросил, наклонившись, человек в белом полушубке, в котором Алексей Петрович узнал полкового комиссара Евстафьева.
— Ничего, спасибо.
— Идти сможете?
— Если не очень далеко, то, пожалуй, смогу.
— Давайте руку.
Алексей Петрович заворочался, сбрасывая с себя пласты соломы, приподнялся, протянул руку. И тут же сильная рука, до боли сжав его ладонь, вырвала его из соломы и поставила на ноги. Видать, этот Евстафьев никаких колебаний не ведал, полумерами свою красиво посаженную на широкие плечи голову не забивал.
Но Кузовков тут же подхватил своего подопечного под локоть и повел к выходу, приговаривая:
— Ну вот и славненько. А то лежать здесь — сами видите, а там, бог даст, свидимся.
— Свидимся, конечно, свидимся, — подхватил Алексей Петрович, сунув в руку Кузовкова плитку шоколада.
Возле сарая стоял легкий танк с открытыми люками — Т-70. Алексею Петровичу помогли забраться наверх и протиснуться в люк, усадили на место пулеметчика. Вслед за ним в люк протиснулся и Евстафьев. Люк захлопнулся, взревел мотор, и танк понесся по полю в сторону леса. Алексей Петрович запоздало вспомнил о том, что не простился с Кузовковым подобающим образом, всем своим существом сосредоточившись на том, как залезть на танк и как влезть в него. А Кузовков ведь стоял рядом, держа в руке плитку шоколада, и весь вид его говорил о том, что он чего-то ждет от Задонова. И Алексей Петрович дал себе слово непременно найти фельдшера, когда все это кончится, и расспросить поподробнее о боях под Вязьмой.
Ехали не слишком долго. Едва углубились в лес, остановились под густой завесой из елей. Процедура вылезания из танка прошла увереннее. Более того, Алексей Петрович с удовлетворением обнаружил, что движения не вызывают в нем ответной боли, головокружения и тошноты, хотя что-то да осталось, требуя покоя и ничего больше.
Утвердившись на истоптанном снегу, он огляделся: там и сям от елки к елке натянуты белые холсты, под которыми скрываются утепленные американские палатки, зенитки и даже несколько новеньких тридцатьчетверок. Судя по всему, здесь расположился штаб дивизии или даже корпуса. Евстафьев проводил его в одну из палаток, велел кому-то:
— Товарищ военврач! Посмотрите товарища Задонова: у него контузия. — И уже Алексею Петровичу: — Вы пока побудьте здесь, а дальше будет видно. — И покинул палатку.
В палатке было сумрачно. Но вот вспыхнула лампочка, женский голос предложил:
— Ну что ж, раздевайтесь.
— Как, совсем?
— Совсем не надо. Хотя бы до пояса. Да вы не волнуйтесь: замерзнуть не успеете.
Только теперь Алексей Петрович разглядел женщину, показавшуюся ему с первого взгляда огромной и толстой. Теперь-то он разобрал, что толстой ее делала одежда: под белым халатом солдатская телогрейка, ватные штаны, на голове солдатская же шапка-ушанка. У нее было несколько грубоватое лицо, нос с горбинкой и чуть выдвинутый вперед подбородок, черные брови и серые глубоко упрятанные глаза. Лет ей было, пожалуй, сорок-сорок пять.
Пока Алексей Петрович стягивал с себя полушубок и меховой комбинизон, она грела над спиртовкой руки, время от времени шуршала сухими ладонями, как будто мыла их под тоненькой струйкой воды, и, не глядя на него, задавала вопросы голосом, лишенным всяких интонаций:
— Давно вас ранило?
— Контузило, — уточнил Алексей Петрович.
— Контузия тоже ранение.
— Вчера. Где-то в середине дня. Нет, пожалуй, все-таки утром.
— Каким образом?
— Я знаю только одно: в танк попал снаряд, а дальше, честно говоря, мало что помню.
— И кто заставлял вас лезть в танк? Вас, писателя и журналиста…
— Именно вот это самое и заставило.
— Глупости… Мальчишество… — произнесла она тем же сухим голосом, похожим на шуршание ее ладоней.
— Совершенно с вами согласен, — произнес Алексей Петрович, пытаясь снять гимнастерку, но женщина остановила его:
— Не надо снимать: я и так посмотрю. Задерите только повыше, — и, подойдя к Алексею Петровичу, приложила к груди холодную трубку стетоскопа, повторяя: — Дышите глубже. Не дышите. До этого были ранения?
— Да, в прошлом году. Царапнуло немного и контузило.
— Счастливчик, — подтвердила она. И велела: — Повернитесь ко мне спиной.
Но едва она произнесла эту фразу, поблизости рвануло, что-то рухнуло с треском, — скорее всего дерево, — раздались заполошные голоса. Рвануло еще раз, затем еще. Рядом кто-то завизжал истошным голосом, и Алексей Петрович, успев лишь присесть, увидел перед собой согнутую фигуру военврача, прижимающую к лицу руки, в одной из которых оставался стетоскоп. Она стояла на коленях, уткнувшись в них лицом, и визжала на одной истошной ноте.
Алексей Петрович встряхнул ее за плечо, крикнул в самые уши:
— Вы ранены?
Визг прекратился, женщина подняла голову и глянула на него белыми от ужаса глазами.
А за хлипкой стеной палатки ахало с поразительной методичность, иногда доносились фыркающие звуки пролетающих осколков, сверху что-то падало, слышались команды, рычали моторы. Казалось, что теперь так и будет продолжаться до бесконечности, и никто не сможет остановить этот адский грохот. Но грохот прекратился, как всегда вдруг, и стало так тихо, что Алексею Петровичу показалось: это не обстрел прекратился, а он оглох окончательно. Но нет: сверху все еще что-то падало и падало, и не сразу он сообразил, что падают ветки с деревьев, что бог или кто там еще опять его миловал, не дал в бесполезную трату.
— Так как? — спросил он, поднимаясь. — Продолжим или отложим на послевойны?
— Вам хорошо, — произнесла женщина, — а я под обстрелом первый раз.
— Зачем же вы-то, позвольте вас спросить, полезли в эту кашу?
— Приказали, вот и полезла, — ответила женщина. И, отряхнувшись, пояснила: — Я тут в оккупации оставалась… при роддоме. Вот и…
— И как же вам удавалось избежать обстрелов и бомбежек?
— Рожениц разобрали по домам, а я ушла в деревню. К нам немцы так ни разу и не заглянули. Партизаны приходили, лечила, как могла, а немцев не было. И ничего не было. А наши пришли, меня мобилизовали. Всего лишь два месяца назад. Я ужасно как боюсь…
В палатку кто-то заглянул, спросил:
— Как вы тут? Живы? — И не дожидаясь ответа: — Там раненые — надо посмотреть.
Женщина стала поспешно собирать сумку, что-то укладывая в нее. Алексей Петрович спросил:
— Как вас зовут?
— Меня-то? Агриппина Тимофеевна. — Посоветовала: — Вы оставайтесь здесь, я вас потом досмотрю. — И вышла.
Алексей Петрович стал одеваться.
За стеной палатки слышались крики, команды, кто-то звал санитаров, взрыкивали танковые моторы.
Глава 17
— Ну как, не жалеете, что пошли с нами? — спросил полковой комиссар Евстафьев, разливая по кружкам водку.
— Так теперь поздно жалеть, — ответил Алексей Петрович. И поинтересовался: — А что, так плохо?
— Хуже некуда, — не стал увиливать от ответа комиссар. — Немцы нас обложили со всех сторон, и теперь глушат, как рыбу, с помощью авиации и артиллерии. Несколько наших попыток прорваться закончились полным швахом. Командующий фронтом обещает пробить коридор и вывести корпус из окружения. А пока приказано держаться. Пока держимся. Одно утешает, что на юге наши фрица бьют в хвост и гриву, и не заметно, чтобы Паулюс сумел переломить ситуацию в свою пользу. Значит, и мы, пока держимся, помогаем нашим давить Паулюса. Вот за это давайте и выпьем. Пока есть что и есть чем. И чтобы не замерзнуть. Хотя врачи уверяют, что водка не только не помогает, а ускоряет замерзание. Или врут, как всегда?
— Не знаю. Не интересовался, — ответил Алексей Петрович, прислушиваясь к звукам боя, доносящихся откуда-то издалека.
Они выпили, стали есть из одного котелка чуть теплую пшенную кашу с тушенкой.
Облизав ложку и сунув ее в полевую сумку, Евстафьев поднялся, пожаловался:
— Обедаешь в одном месте, ужинаешь в другом, а доведется ли позавтракать, одному богу известно. Или черту. — Посоветовал: — Вы, Алексей Петрович, пока сидите здесь, никуда не рыпайтесь. А я буду иногда набегать. Клюквина за вами присмотрит.
— Кто это?
— Военврач, которая вас осматривала.
— А-а… По-моему, за ней за самой надо присматривать: бомбежки и артобстрелов боится до истерики.
— Ничего, привыкнет.
— А то взяли бы меня с собой, Иван Антонович, — неуверенно предложил Алексей Петрович. — Скука здесь, да и писать потом будет не о чем.
— С собой взять не могу. Слышите — стреляют? Мне как раз туда. Там мотострелковая дивизия держит оборону. Мне там быть по должности и долгу положено, а вам-то зачем? Чтобы описать? Так туда и ехать не надо: придумаете что-нибудь. Или я не знаю, как это у вас делается? Все я знаю. И все знают. К тому же Клюквина говорит, что у вас… как ее?.. Короче говоря, что-то вроде эпилепсии на почве повторной контузии.
— Много она понимает, эта ваша Клюквина, — проворчал Алексей Петрович, но спорить не стал, понимая, что патриотическую норму выполнил, а настаивать сверх нормы — опять лезть в танк и куда-то ехать, все равно ничего не видя вокруг, глупо.
Евстафьев, подпоясавшись поверх полушубка, протянул руку, тиснул ладонь Алексею Петровичу и молча вышел из палатки.
И второй день, как на зло, выдался солнечным, и немецкая авиация опять с самого утра свирепствовала вовсю практически безнаказанно. Алексей Петрович жил в той палатке, где его осматривала Клюквина, только теперь здесь располагались еще четверо: сама военврач Клюквина, медсестра Наташа Струева, совсем еще девчонка лет восемнадцати, москвичка, только в этом году, сразу же после десятилетки, закончившая ускоренные курсы медсестер, военфельдшер Устименко, человек пожилой, ворчливый и угрюмый, как, наверное, большинство фельдшеров; радистка Ольга Мелентьева, лишь на год старше Струевой. Все они большую часть времени пропадали на службе, возвращались уставшие, ели, не разбирая вкуса, что давал им штабной повар, и тут же, не раздеваясь, ложились на еловый лапник, укрытый танковым чехлом, им же накрывались с головой и проваливались в сон — пока не разбудят.
Задонов среди них выглядел бездельником, не знающим, чем себя занять. Днем он заглядывал в палатки для легкораненых, расспрашивал о боях, из которых их вырвало ранение, записывал, не зная, пригодятся ему эти записи или нет. Контузия почти себя не проявляла, однако состояние было такое, что, казалось, тряхни себя посильнее, и тут же провалишься в бездонную яму. Не исключено, что это ощущение тоже было следствием контузии, не имеющее под собой никаких медицинских показаний, кроме страха перед неизвестностью. Но как бы там ни было, тело свое Алексей Петрович носил бережно, будто сосуд, наполненный до краев драгоценной жидкостью. И даже не падал в снег во время артобстрелов, как бывало, а сперва приседал, становился на четвереньки, и только после этого вытягивался во всю длину, прислушиваясь не столько к близким разрывам снарядов, сколько к своему телу.
На пятые сутки он заметил, что вместо надоевшей пшенки ему выдали два сухаря и кусок колотого сахара, при этом предупредили, что сахара больше не будет. Зато в небе появились наши истребители, а «лаптежники», как называли солдаты немецкие пикировщики Ju-87D, стали появляться в небе все реже. Пронесся слух, что сам Сталин послал сюда лучших советских ассов. Правда, небо заслоняли густые кроны сосен, а потому не было видно, что там творится, но треск пулеметов, бубуканье самолетных пушек слышалось довольно часто, иногда прямо над головой.
Вечером в палатке опять появился комиссар Евстафьев, такой же самоуверенный и шумный, с немецким автоматом через плечо.
Алексей Петрович был один, лишь под брезентом спала радистка после очередного дежурства. Но она спала так крепко, что ее не будили даже близкие взрывы и пальба.
— Скажу по секрету, — произнес Евстафьев, тиснув руку Задонову и усаживаясь на березовую чурку, — что наши готовятся пробить к нам коридор. А посему фрицы, скорее всего, сами попытаются рассечь нас на части, чтобы добить окончательно. А у нас в танках ни капли солярки, на орудие по два-три снаряда, с патронами тоже бедновато. Если не сбросят в ближайшие день-два, танки придется подрывать. — И с этими словами вытащил из кармана полушубка две банки тушенки, одну протянул Алексею Петровичу.
— Извините, Иван Антонович, но принять не могу, — отстранил тот банку рукою. И пояснил: — Не стану же я есть это под брезентом, в тайне от остальных.
— А вы не мучайтесь, — отрубил Евстафьев. — Велено всем раздать из неприкосновенного запаса: не оставлять же фрицам. Так что каждый получит то, что положено. Давайте выпьем. У меня французский коньяк.
— Откуда?
— Разведчики ходили в поиск, разгромили офицерский блиндаж, ну и поживились, конечно. Сейчас все сидят на голодном пайке. Даже комкор приказал давать ему столько же, сколько и всем остальным.
Евстафьев вскрыл своим ножом обе банки, разлил коньяк по алюминиевым стопкам, хмыкнув при этом: «Тоже оттуда». Алексей Петрович выложил на газету свои сухари. Выпили, заскребли ложками по стенкам банки. Алексею Петровичу, после только одних суток столь строгого поста, тушенка показалась объеденьем, а коньяк ударил в голову, разлился теплом по телу, и потребовалось большое усилие, чтобы тут же не заснуть.
— Э-э, да вы, Алексей Петрович, как я посмотрю, уже клюете носом! — воскликнул комиссар. — Совсем ослабли, батенька мой.
— Да вот… — виновато улыбнулся Алексей Петрович. — Сам не ожидал.
— Ладно, пойду: дела. Я к вам на минутку — проведать. Да, вот вам автомат и подсумок с запасными рожками. На всякий случай. Обращаться умеете?
— Приходилось.
— Особенности стрельбы из него знаете?
— Заваливает влево…
— Не только. Прицельный огонь — не далее ста метров. Дальше — зря будете жечь патроны. Наш ППШ стреляет на полста метров дальше. Весьма ощутимое преимущество. Имейте в виду.
— Постараюсь, — ответил Алексей Петрович, для которого все эти сведения были не в новинку.
— Прекрасно. Отдыхайте пока… — Задержался у входа, добавил: — Кстати, разведчики выяснили, что на наш участок фронта переброшена еще одна танковая дивизия СС. Соображаете? Вот то-то и оно. — И тут же покинул палатку.
На Алексея Петровича напала странная апатия: ничего не хотелось: ни есть, ни идти куда-то, ни разговаривать. Он застегнул полушубок на все крючки, завязал уши своей шапки под подбородком, поднял воротник, после чего забрался под брезент поближе к спящей радистке. Ему чудилось, что он в Крыму, нырнул в теплую воду, и нырнул давно, однако никаких неудобств от этого не испытывает. Более того, он дышит под водой и движется легко, как рыба, и вместе с рыбами, потому что произошло с ним некое удивительное превращение, но оно не вызывает ужаса, наоборот, ему тепло и приятно, а звуки, доносящиеся сверху, где в ряби волн сияет солнце, его никак не касаются.
Он очнулся, точно вынырнул из глубины: его трясли за плечо и что-то кричали.
— Да проснитесь же вы наконец! — кричал ему в лицо девичий голос. А вместе с этим голосом в уши ворвались частые выстрелы, автоматная и пулеметная трескотня.
— Что случилось? — спросил он.
— Немцы прорвались! — вскрикнул девичий голос, и Алексей Петрович узнал в нем голос радистки.
В палатке было темно, но чувствовалось по шорохам, что в ней кроме них двоих есть еще люди. Алексей Петрович встал на колени, нащупал свою сумку, наткнулся на автомат, вспомнил: Евстафьев говорил о том, что немцы постараются рассечь окруженный корпус и уничтожить его до подхода помощи извне.
— А были какие-нибудь распоряжения? — спросил он, и ему ответил хриплый голос военфельдшера Устименко:
— Велено сбираться на поляне, товарищ интендант. У вас, прошу прощения, фонарика случаем нема? А то ничого не бачу у такой темнотище.
— Фонарик случаем ма, — ответил Алексей Петрович, достал фонарик, включил.
Желтоватый луч вырвал из тьмы копошащиеся в разных углах фигурки, — все, как и Задонов, на коленях.
— А на какой поляне, не сказали? — спросил он у фельдшера.
— А бис их знает, товарищ интендант. Здается мени, что на той, где була сторожка.
Алексей Петрович сторожки не помнил. Он встал и вышел из палатки, и его тотчас же охватила сумеречная тьма, какая бывает в безлунную ночь, пронизываемая трескотней близкого боя. Темнели палатки, молча вокруг них суетились какие-то люди. Там и сям среди деревьев вспыхивали короткие вспышки разрывов и раздавался сухой треск. Иногда по-воробьиному чвиркали пули.
— Все, у кого имеется оружие, ко мне! — раздалась в отдалении команда, и Алексей Петрович узнал зычный голос полкового комиссара Евстафьева. И пошел на этот голос.
Собралось человек двадцать.
— Построиться в две шеренги! — приказал комиссар. И когда собравшиеся, потолкавшись, замерли неровными рядами, продолжил: — Слушай приказ. Нам надо прикрыть эвакуацию раненых. Для этого выдвигаемся к просеке. Тут рядом, шагов сто пятьдесят. За мной!
Глава 18
Алексей Петрович лег за поваленную сосну. Оглядевшись, стал руками зарываться в снег. Дорылся почти до земли, и оказалось, что ствол дерева лежит выше его головы более чем на метр, и если придется стрелять, то надо будет вставать на колени.
Чуть правее за этой же валежиной зарывались в снег еще двое. Похоже, с пулеметом. Другие устраивались за стволами деревьев.
Проваливаясь почти по пояс, вдоль линии обороны двигался Евстафьев. Наклонялся, что-то говорил. Вот остановился возле тех двоих, с пулеметом, и до Алексея Петровича донеслось:
— И куда вы будете стрелять? Что вы видите? Одни деревья! А ну выдвигайтесь поближе к просеке!
Остановился над Задоновым.
— Ну а вы что? Воевать пришли или прятаться? Вы бы еще под ствол залезли!
— Так пока не стреляют, — возразил Алексей Петрович. — А начнут стрелять, я поднимусь.
— А-а, это вы, товарищ Задонов! Вам бы остаться с раненным. Не ваше это дело — воевать. А впрочем, положение у нас такое, что не знаешь, где пан, а где пропал. Ладно, оставайтесь. Только не геройствуйте.
— Ну что вы, товарищ комиссар! Какой из меня герой…
— Все равно: плохая позиция! Сдвиньтесь вон к тому пенечку. Оттуда и обзор шире, и защищает он получше этой валежины. — Огляделся, спросил: — А кто у вас справа?
— Не знаю. Похоже, никого.
— Что ж, следите, чтобы не обошли. Огонь — только короткими очередями. Отход — по команде. Ну, не пуха!
— К черту, — буркнул Алексей Петрович и побрел к пеньку.
Пенек оказался гнилушкой. Алексей Петрович ткнул его — он и завалился. Однако возвращаться на прежнее место не стал, продвинулся вправо еще шагов на десять и устроился под огромной сосной с раздвоенной верхушкой. Пока разгребал снег, взопрел. Да и мороз, похоже, ослаб против вчерашнего. Устроившись, присел, огляделся: впереди теснились стволы сосен, вправо тоже, уходя куда-то в предутреннюю мглу. Ощущение, что справа у тебя никого нет, да и слева поблизости никого, с кем можно перекинуться словом, было не из лучших. Если, не дай бог, ранят, тут можешь и остаться.
Томительно тянулись минуты. Где-то впереди и несколько левее слышались частые выстрелы, взрывы гранат, но они не приближались, а лишь смещались то в одну сторону, то в другую. И тут слева зашелся длинной очередью пулемет и захлебнулся. И тотчас же густо затрещало и заухало.
Алексей Петрович пялился в сумрак пробуждающегося утра и видел лишь мерцающие слева огоньки. Но они все время перемещались, прицелиться в них было невозможно. А вот, похоже, что-то мелькнуло среди сосновых стволов как раз напротив Алексея Петровича, метрах этак в пятидесяти. Он передернул затвор, но впереди больше ничто не шевелилось и не мелькало. Видать, померещилось. Ему все казалось, что его обходят и вот сейчас навалятся сзади и… Он переместился с левой стороны сосны на правую. И тут же увидел немца. Тот стоял метрах в тридцати за сосной, но весь на виду у Алексея Петровича, полагая, видимо, что опасность ему грозит от просеки. На нем белая куртка до колен, каска тоже в белом чехле, но все остальное темное: ремень, подсумок, автомат, ранец, две гранаты за поясом.
Сердце у Алексея Петровича забилось одновременно в висках и в горле. Он сглотнул слюну, сильно зажмурился и снова открыл глаза: немец все еще стоял, только теперь он делал кому-то манящие знаки рукой. И тотчас же из полумрака стали появляться новые фигуры. Они двигались пригнувшись, с опаской. И хотя слева продолжали стрелять, Алексею Петровичу вдруг показалось, что он остался один-одинешенек против множества врагов, следовательно, ничего с ними поделать не сможет, а посему надо бежать, пока не поздно. И он было дернулся, но память напомнила ему сорок первый год, широкое поле с цветущим льном, деревушку на взгорке, бабу с коромыслом, а потом сумасшедший бег по лесу и по дороге, ужас, охвативший его и других, и что-то будто толкнуло его: «Стоп! Побежишь — тут тебя и прикончат». И, прошептав: «О господи!», нажал на спусковой крючок автомата. Черная железка задергалась в его руках, желтое пламя заметалось на конце ствола, и немцы тут же исчезли.
Перестав стрелять, Алексей Петрович перекатился на другую сторону сосны: все-таки прошлый опыт кое-чему его научил. И вовремя. Оттуда, где были немцы, затрещало множество выстрелов, над самой головой зацвенькали пули, сверху посыпались чешуйки коры. А потом ухнул взрыв — совсем рядом, но именно с той стороны сосны: граната. И тотчас же рядом застучал пулемет — наш пулемет! — знакомым стуком, и Алексей Петрович успокоился. Он лишь приподнял голову и глянул влево: около трухлявого пня лежали двое. Один стрелял из пулемета короткими очередями, другой из карабина. Алексей Петрович глянул туда, где были немцы — там вспыхивали короткие огоньки. И тогда он сам выпустил остаток рожка по этим огонькам.
Над головой вдруг завыло, заскрежетало, и где-то впереди, за деревьями, густо заухали тяжелые разрывы реактивных снарядов. Звуки эти подавили своей мощью все остальные. Похоже, уже никто и не стрелял. Во всяком случае, огоньков Алексей Петрович больше не видел. Но страх оказаться окруженным еще держался. Он исчез только тогда, когда увидел идущего в его сторону комиссара Евстафьева с немецким автоматом в опущенной руке, идущего без всякой опаски.
Евстафьев подошел, сел в снег, прислонившись спиной к сосне, глянул сверху на Алексея Петровича и показал большой палец. И чувство безопасности вернулось к Задонову окончательно. Он тоже сел и полез в сумку за папиросами. Они закурили, сидели и улыбались, поглядывая друг на друга. Потом, бросив окурки в снег, встали и пошли к просеке, по которой двигалась масса людей, саней и артиллерийских упряжек.
Вскоре выбрались из лесу на чистое. Пятнистая змея колонны вилась среди глубоких снегов. Над головой проносились наши штурмовики и истребители, вспухали дымные трассы реактивных снарядов.
Алексей Петрович шагал вместе со всеми по рыхлому снегу, шагал тяжело и тупо, до конца не веря, что они скоро придут к своим. И не только потому, что там, куда они шли, клубились дымы, выло и стонало, трещало и гудело. Ему казалось, что они подвигаются в пасть чудовища, из которой уже не вырваться.
— Подтяни-ись! — время от времени катилась по колонне команда, заглушаемая шорохом поземки и скрипом снега под сотнями и сотнями валенок и сапог. Но никто не спешил подтягиваться, точно эта команда относилась не к ним или вообще звучала исключительно потому, что командиры не могут не командовать. Люди шли, как лунатики, тяжело переставляя ноги. Мимо тянулись подбитые танки, наши и немецкие, но наших было больше, там и сям угадывались человеческие тела, заметенные снегом, где по отдельности, а где густо или длинными рядами. Алексей Петрович смотрел на все это равнодушно, и если внутри у него что-то шевелилось, похожее на мысль, то исключительно как недоумение, связанное с той уверенностью, которая звучала в голосе редактора «Правды», напутствующего его, Задонова, в тиши своего кабинета на очередной журналистский подвиг всего лишь несколько дней назад. А подвига не получилось. И нового Сталинграда не получилось тоже. Остались усталость и слабость, то и дело подкатывающая к горлу тошнота, желание приткнуться куда-нибудь, — хотя бы под эту вот сосну, — ничего не видеть и не слышать, не думать и ничего не загадывать наперед. Алексей Петрович закрывал глаза и на какое-то время проваливался в темноту, но тут же ощущал чью-то жесткую руку у себя на локте, вновь открывал глаза и вновь видел шевелящиеся впереди тени, слышал хруст снега.
— Мужики, — донесся до него чей-то знакомый хрипловатый голос. — Возьмите к себе товарища командира. Контузия у него. Не дойдет.
— Да куда брать-то? — прохрипело в ответ.
— Да вот сюда, с краешку. Посуньтесь маленько…
«Это обо мне», — подумал Алексей Петрович равнодушно.
И тут же его под мышки и под коленки подхватили чьи-то руки и осторожно положили на что-то жесткое. И наступило ощущение долгожданного блаженства, в которое он и погрузился до самого дна.
Очнулся Алексей Петрович и не поверил тишине, которая окутывала его со всех сторон. Однако он точно знал, что эта тишина ему не грезится, что она существует на самом деле. Он тихонько пошевелился и тут же услыхал грубый женский голос, который подтвердил его возвращение к жизни:
— Да, глубокий обморок. Ничего страшного. Давление пониженное, но пульс нормальный. Дайте ему еще нашатыря понюхать, потрите виски… Приходит в себя? Ну вот и хорошо.
Алексей Петрович открыл глаза и увидел над собой что-то белое. Это что-то шевелилось. Затем в нос ударил резкий запах нашатыря — и все сразу же прояснилось: низкие темные потолки, девичье лицо в кудряшках из-под белой косынки, стоны и кашель со всех сторон.
— Где я? — спросил Алексей Петрович, не узнавая своего голоса.
— В медсанбате, — пропищал удивительно тоненький голосок. — Вы лежите! Лежите! Я вам сейчас дам горяченького попить. А потом вас отправят в госпиталь.
— Я ранен?
— Нет, вы контужены…
— Как, опять?
— Не знаю, товарищ командир. Вас только что привезли. Вам вредно говорить.
— Из окружения… вышли… все? — Говорить, действительно, было тяжело: не хватало воздуха.
— Да-да! То есть, я не знаю. Вы отдыхайте, не разговаривайте. Я вам сейчас бульон принесу…
— Бульон? Удиви-тель-но, — прошептал Алексей Петрович, с трудом веря, что все самое худшее осталось позади.
* * *
— Ваш «Гейне» хорошо поработал, — сказал Сталин генералу Судоплатову. — Мы наградили его орденом Красного знамени. Думаю, он достоин этой награды.
— За эту же самую работу немцы тоже его наградили, товарищ Сталин.
— И чем же?
— «Железным крестом».
— Передайте товарищу «Гейне» мои поздравления с обеими наградами. Уверен, что это не последние его награды. А перед вами стоят новые и несколько необычные задачи. Нам нужно знать как можно больше о том, как в Америке идут дела с изготовлением атомной бомбы. И не только в принципе, а как можно подробнее. Надо помочь нашим ученым ускорить процесс изготовления советской атомной бомбы. Мы слишком поздно начали. У нас не остается другого способа, как воспользоваться их достижениями. Товарищ Берия считает, что вы справитесь с этой задачей. Когда у вас появится согласованный детальный план работы в этом направлении, встретимся еще раз и обсудим.
— Слушаюсь, товарищ Сталин, — произнес генерал, повернулся и пошел к двери.
Сталин проводил его фигуру долгим взглядом, вдруг ощутив, что мир с этого мгновения повернул на новую, еще неизвестную человечеству дорогу, и никто не может знать, куда она приведет.
Глава 19
Лето всегда почему-то бывает ужасно коротким: только станет тепло, только трава зазеленеет, только появится земляника, за ней малина и грибы, потом клюква и орехи — и уж никакого лета нету, а есть дождь, ветер, серые облака.
Нынешнее лето — первое лето в Третьяковке — оказалось еще короче, потому что я долго болел после того, как еще весной меня лягнул копытом Бодя, и все это время не выходил на улицу. А пока я болел, наши войска, как говорил папа, опять начали отступать и доотступались до самой Волги, про которую поется в песнях, что она, «Волга-Волга — мать родная, Волга русская река». А еще папа говорил, что генералы у нас ни к черту, воевать совсем не умеют, что если так дело пойдет и дальше, то не только до самой Волги фрицы дойдут, но и до самого Урала. То есть да нашей Третьяковки. Даже и до какого-то Баку, где водится нефть, который находится на Кавказе, где когда-то отдыхал папа. Было это очень давно, когда я был совсем маленьким и ничего не понимал, мы жили в Ленинграде, где всего было вволю. И мама, вспоминая Ленинград, где мы так хорошо жили, вздыхала и говорила: «И когда это только кончится!» То есть про наше отступление и наступление немецких гитлеров.
Время от времени к нам домой приезжал дядя-фельдшер, такой старый, такой седой и бородатый, что я сперва его боялся, но он оказался очень добрым. Он варил какую-то траву в нашем чугунке, потом вынимал это траву и клал мне на грудь и спину, обматывал меня тряпками и заворачивал в тулуп. Трава была такой горячей, что я еле терпел. Но проходило немного времени, и становилось так тепло, и так легко дышалось, что мне всякий раз казалось, что я уже поправился и могу не только ходить, но и бегать. Да только болезнь через какое-то время возвращалась назад, я кашлял, в груди у меня сипело, свистело и хлюпало, а дышать становилось все больней и больней. Но потом дышать вдруг стало легче, я начал поправляться и поправился, а впервые вышел из дому только тогда, когда полетели по ветру желтые листья, журавли на нашем лугу начали собираться в стаю и курлыкать, над ними летали другие журавли с других лугов и озер, которые в дальних странах. Потом полетели лебеди и утки, еще какие-то птицы, некоторые мальчишки пошли в школу, которая в Борисове, во двор не выйдешь, потому что холодно и мокро, а обуви никакой, то есть ботинки есть, но худые, а из пальтишка своего я вырос, а другого нету и взять неоткуда.
— И в чем он в школу пойдет на следующий год? — спросила мама у нас у всех сразу. — Ума не приложу.
А папа ответил:
— Что-нибудь придумаем.
И папа придумал.
Теперь он каждый вечер сидит возле керосиновой лампы, сучит дратву, соединяет ее со щетиной и чинит нашу обувь. Я сижу с другой стороны и читаю сказки. Но не про то, как мужик двух генералов прокормил, а про всякое другое.
Сказка про двух генералов, которых прокормил мужик, которую сочинил бородатый Салтыков-Щедрин, оказалась скучной и не интересной. Я еле-еле дочитал ее до самого конца и больше сказок в библиотеке не брал. Зато про Павку Корчагина читать было интересно, поэтому я читал книжку про него долго, чтобы она долго же не кончалась. Мне очень хотелось стать таким же, как Павка: сыпать махру в квашню какому-нибудь попу, освобождать Жухрая, воровать у немецкого офицера револьвер, скакать на боевом коне, рубить немцев настоящей шашкой и строить железную дорогу. Мне только совсем не хотелось водиться со всякими тетками и девчонками, потому что они писклявые и дразнючие.
Когда в избе все стихает, я лежу с открытыми глазами и думаю о том, что я уже вырос и воюю с белыми и гитлерами вместе с Павкой. Или вместе с Зоей Космодемьянской поджигаю немецкие дома и конюшни, но не попадаюсь к ним в плен, потому что я большой и сильный, спасаю Зою и не даю ее повесить. Правда, мне никогда не удается додумать до конца свои истории, потому что я почти сразу же засыпаю. Зато все начала этих историй отличаются одно от другого, потому что так интересно придумывать, чтобы ни одно и то же.
А потом наступило бабье лето, стало опять тепло, и у папы в кузнице закончился древесный уголь. И он сказал, когда мы пили чай с оладьями:
— Вот что, Витюшка, давай-ка собирайся, поедешь с нами жечь уголь.
А мама сказала:
— Только ты смотри, чтобы он там все время был рядом, а то мало ли что.
А я сказал:
— И совсем не мало ли что! Потому что я уже большой и на следующий год пойду в школу.
Тогда мама вздохнула, и мы с папой собрались и пошли к реке. По дороге к нам присоединился дядя Трофим со своим Бодей. Дядя Трофим работает вместе с папой в кузне и живет почти возле самой реки. Они с папой тащили на себе лопаты, топоры, пилу и всякую провизию, чтобы жить в лесу дня два-три, потому что иначе нельзя: иначе уголь не получится.
Нагрузив большую лодку всякой всячиной, мы с папой забрались в лодку, я уселся на носу, папа встал на корме с длинным шестом, а дядя Трофим с Бодей остались на берегу, чтобы тащить лодку за длинную веревку, потому что нам надо плыть вверх по течению, а это очень трудно: течение такое сильное, что просто жуть. Одни только рыбы, да и то самые большие, там и могут плавать, потому что они привыкли. А маленькие не привыкли и поэтому плавают на тихих местах и мелководье — я сам видел, как они плавают там большими стайками. Папа толкался шестом, Бодя шел по берегу и тащил лодку за веревку, а дядя Трофим тащил Бодю за узду. Так мы долго-долго плыли и плыли, пока не приплыли в такое место, где надо переезжать на ту сторону реки, потому что там растут березы, а в остальных местах все елки, сосны да пихты, для древесного угля не приспособленные. Дядя Трофим забрался в лодку, веревку с Бодей привязал к корме, чтобы он не утонул, и мы поплыли на ту сторону. Дядя Трофим греб веслами, папа толкался длинным шестом, который доставал до самого дна, Бодя плыл рядом, из воды торчала его голова и немного спины, а я сидел на носу и смотрел, чтобы мы ехали правильно и не наткнулись на корягу. Хотя и здесь течение было очень сильным, мы все-таки переехали и причалили к берегу, выбрались на берег, вытащили Бодю, а Бодя вытащил лодку, чтобы ее не унесло, привязали лодку к дереву, после чего принялись строить шалаш, чтобы жить. Я тоже помогал строить, таская из лесу лапник, который рубил дядя Трофим. Из этого лапника и всяких кольев папа строил шалаш, потому что он все умеет делать. Шалаш получился такой хороший, что я бы согласился жить в нем всю жизнь. В шалаше папа сделал полати, чтобы спать не на земле, потому что от земли «тянет» и можно простыть, соорудил стол и лавки. А когда закончили шалаш, стали все вместе копать большую яму. И когда ее выкопали, то меня оттуда еле достали — такая она оказалась глубокой.
Наконец папа сказал:
— Шабаш. На сегодня хватит. Надо наловить рыбы, пока еще светло, сварить ухи и пораньше лечь спать.
И папа вместе с дядей Трофимом разделись совсем-пресовсем, как в бане, взяли сетку за длинные палки, к которым она была привязана, и полезли в воду. А я не полез, потому что не умею плавать. Я бегал по берегу и кричал во все горло, чтобы рыба пугалась и сама лезла в сеть. Да и вода ужасно холодная, так что мужики, то есть папа с дядей Трофимом, когда лезли в воду, все время фыркали, как Бодя, и ухали. И чуть не утонули, потому что оба провалились в яму. Нет, сперва папа провалился, потому что шел на глубине, потому что высокий, а дядя Трофим, потому что он ниже ростом, тянул сеть вдоль берега. И когда папа ухнул в яму, он потащил туда и дядю Трофима, потому что течение, а дядя Трофим не захотел в яму, потому что маленький и мог там утонуть, и он уперся ногами и как закричит:
— Гаврилыч, бросай сеть!
Гаврилыч — это мой папа. И папа бросил сеть, потому что она тянула его на глубину, где живут страшные сомы, и два раза утопился с головой, так что его совсем не было видно, а когда бросил совсем, то поплыл к берегу и приплыл. А я так боялся за папу и дядю Трофима, что даже не знал, что делать, чтобы их спасти, тянул сеть за веревку, привязанную к дереву, а сеть никак не тянулась, тогда я стал бегать по берегу и кричать, сам не зная что.
Наконец папа вдвоем с дядей Трофимом вытащили сеть на берег, и то еле-еле, так что я подумал, что там ужасно много рыбы набралось со страху, потому что я кричал очень громко. Но когда сеть вытащили совсем, в ней ничего не оказалось, кроме одного вьюна. Да и тот выскользнул из моих рук и упал на траву, а потом как запрыгает, как завьется, что твой червяк, и привился к воде и уплыл, а я испугался его хватать, потому что… потому что опять же не знаю почему.
Мужики попрыгали возле костра, согрелись и опять полезли в воду, но уже в другом месте, где помельче. И опять я бегал по берегу, кричал и даже шлепал по воде палкой. На этот раз в воде не оказалось никакой ямы, мужики не проваливались и благополучно выбрались на берег вместе с сетью, держась за палки, чтобы не упасть и не утонуть. Нам повезло: в сетке оказались всякие-разные рыбы: и щуки, и плотва, и язи, и окуни, и вьюны, и пескари, и еще не знаю кто — и все от моего крика и шлепанья по воде палкой. Наверное, в первый раз было бы еще больше, и мог бы оказаться даже огромный сом, если бы папа не провалился в яму и не бросил сеть. Но даже из того, что поймалось, получилась уха, но не обыкновенная, а тройная. И еще хватило на жареху. Мужики выпили самогонной водки, чтобы не заболеть, и стали есть. А я самогонку не пил, потому что маленький, поэтому ел уху просто так, с хлебом. И ни до, ни после я такой вкусной ухи не ел. И такой жареной рыбы. А когда мы наелись, то стали пить чай с конфетами, которые назывались «подушечками», внутри которых было варенье. А Бодя, наевшись травы, стоял возле костра, хлопал ушами, сердито фыркал, ожидая хлеба с солью. И я дал ему кусок, хотя он меня и лягнул еще весную, но он же не виноват, что я дернул сразу несколько волосин из его хвоста. Мне бы тоже было больно, если бы у меня был хвост.
После ужина я лег спать на полати из жердей и лапника, забравшись в застегнутый на все крючки тулуп, как в мешок, и проснулся лишь тогда, когда стало совсем светло. Папы и дяди Трофима уже не было, зато было слышно, как где-то в лесу тюкают топоры, и тогда я испугался, но не от страха, а оттого, что мужики начнут жечь уголь без меня, и я так и не узнаю, как они это делают. Я выбрался из шалаша — никого нету: ни мужиков, ни Боди. Из ямы идет дым, возле ямы лежат березовые бревна.
И я пошел туда, где тюкают.
Солнце уже светило вовсю. На березах тренькали синицы, рядом плескалась о берег река, а в реке плескалась всякая рыба. Я прошел совсем немного, как среди деревьев показался дядя Трофим, который вел под уздцы Бодю, а Бодя тащил волоком два березовых бревна.
— Проснулся, работничек? — весело закричал дядя Трофим, увидев меня. — Небось проголодался? Сейчас отец подойдет, завтракать будем. Или ты уже позавтракал?
— Ничего я не завтракал, — сказал я сердито, чтобы дядя Трофим не подумал, что я мог завтракать один, никого не дождавшись.
После завтрака мужики пилили бревна на такие чурбаки, которые были ростом с моего папу, чурбаки ставили в яму стоймя, где уже горел небольшой костер. И столько они напилили этих чурбаков, что заполнили ими почти всю яму. Да еще между чурбаками напихали хворосту, а сверху навалили лапника и всякого мусора. Уже и огонь стал внутри разгораться, когда я, папа и дядя Трофим стали засыпать кучу землею. И засыпали ее совсем, лишь кое-где выбивался из земли дым, но его тоже засыпали, пока не стало никакого дыма. После этого сделали две дырки с двух сторон, чтобы тянуло. И стало слышно, как внутри что-то трещит, стреляет и гудит. Я заглядывал в дырку и видел там красный огонек, который метался в черной дыре и никак не мог найти, куда ему деться. Мне было ужасно жалко этот огонек, и я пытался сунуть ему сухую ветку, чтобы он по ней смог выбраться наружу, но папа сказал, чтобы я отошел в сторону: мало ли что. И я отошел к другому костру, которому было все равно, куда гореть, потому что его не засыпали.
После того, как гору из земли обшлепали лопатами и даже кое-где обмазали глиной, мужики сели и закурили свои цигарки, такие вонючие, что даже Бодя и то фыркал и отходил от них подальше. А я не фыркал, потому что сидел с другой стороны костра и подкладывал в него веточки и щепки. Так и прошел весь день. И ничего интересного не случилось. Мы опять пообедали и поужинали ухой и жареной рыбой и легли спать.
А утром проснулись — снег! Везде-везде! Только на куче земли, под которой были спрятаны березовые поленья, снега не было. И вся куча так и парила, так и парила — как в бане. И с одной стороны шел дым, а с другой дыма не было, потому что другая дырка была поддувалом. Как в печке.
— Ну, слава богу, — сказал дядя Трофим. — Вовремя управились.
— Да-а, повезло, — сказал мой папа. И добавил: — Что ж, давайте собираться.
— А как же уголь? — спросил я.
— А уголь еще не доспел, — сказал дядя Трофим. — Вот когда доспеет, тогда придем за ним и отвезем его в кузню.
Мы опять с папой сели в лодку, а дядя Трофим шел по берегу и вел в поводу Бодю. Только на этот раз Бодя ничего не делал, а просто шел и шел. И мы тоже с папой ничего не делали, а просто плыли и плыли по течению, лишь иногда папа чуть-чуть правил веслом, чтобы лодка плыла правильно. А когда доплыли до нашей Третьяковки, дядя Трофим забрался в лодку и сел за весла, а Бодя остался на берегу.
— А как же Бодя? — спросил я.
— Ничо, сам приплывет, — ответил дядя Трофим. И пояснил: — Потому как домой. А домой всякая тварь стремится — подгонять не надо.
Мы уплывали, а Бодя стоял на берегу и смотрел на нас. И так мне было его жалко, что я чуть не заплакал от жалости. А Бодя вдруг так тоненько, так жалобно заржал и стал спускаться к воде. Он понюхал ее, осторожно вошел в воду и поплыл. Потому что — домой.
Прошло несколько дней, снег растаял, но стало так холодно, что по утрам все замерзало: и трава, и лужи, и даже вдоль берега Чусовой образовывался тоненький лед, который тихонечко звенел, когда об него плескалась волна. Папа с дядей Трофимом без меня ездили за углем, поэтому я так и не увидел, какой у нас получился уголь. Но папа сказал, что хороший. Значит, не зря я ездил вместе с мужиками на ту сторону. Жаль только, что в шалаше удалось пожить всего два дня.
А вскоре наступила зима. Настоящая. И как-то очень даже неожиданно. Еще вечером ничего не было, а утром я глянул в окно — все покрыто снегом, и таким глубоким, что не видно травы. Даже крапива возле нашего забора еле видна из-под снега. А снег все идет и идет. И еще много дней и ночей он шел, наметая вокруг нашей избы огромные сугробы.
В один из таких ненастных дней папу вызвали в город Чусовой, где расположен военкомат, который забирает в армию годных мужиков. И много еще мужиков вызвали туда же вместе с папой, потому что на фронте нужны красноармейцы, чтобы убивать немецких гитлеров. А только папу опять не взяли на фронт, но он совсем не опечалился, и мама не опечалилась, только я один опечалился. Зато папа стал в кузне самым главным кузнецом, и целыми днями кует подковы и всякие другие штуки, нужные для Красной армии. А потом он стал делать еще и бочки, потому что он один во всей округе умеет делать настоящие бочки, а больше никто не умеет, потому что папа в Ленинграде работал на таком специальном заводе, где делают бочки. Теперь мама уже не ходит на работу, разве что изредка, потому что ни репа, ни картошка, ни овес в поле уже не растут — все выросли. Зато в лесу еще растут деревья, и мама иногда ездит в лес вместе с другими бабами валить деревья, потому что они почему-то тоже нужны для фронта.
Однажды мама не валила деревья, потому что простыла, кашляла и потела, пила сушеную малину с медом, папа в кузне делал подковы и бочки, мы с Людмилкой тихонько возились возле печки. И тут к нам постучались. И вошли сразу целых пять человек: три тёти и два ребенка. Они были все замерзшие-презамерзшие, даже не могли говорить. Их нигде не пустили в избу погреться, а я пустил, потому что не знал, что это цыгане и что их нельзя пускать в избу, потому что они обманут и все украдут.
Цыгане вошли и встали у порога.
— Кто там, Витюшка? — спросила мама грустным голосом из своей комнаты.
— Тети, — сказал я. — Они замерзли и хотят кушать.
— Я сейчас встану, — сказала мама.
— Не беспокойся, хозяюшка, — сказала одна из теть, потому что я сказал им, что мама моя простудилась на лесоповале и болеет. — Мы погреемся немного и пойдем. А если покормишь, я тебе заговор скажу от болезни твоей, не заметишь, как поправишься. Можно и погадать на короля твоего, чтобы никакая пуля его не брала, никакая напасть его не трогала. Скажу тебе, когда вернется домой, как жить будете, сколько лет и какой интерес твой раскроется в жизни твоей, что было, что будет и чем сердце успокоится.
И тетя стала разматывать свои шали.
Вышла мама, остановилась в дверях, посмотрела на теть и их детей и сказала:
— Витюша, достань из печки чугунок с картошкой, пусть поедят. — И села на лавку, потому что ноги ее совсем не держали.
Я открыл заслонку, взял ухват, ухватил им чугунок и потянул на себя. Чугунок большой, тяжелый, но я все-таки выволок его из печи на шесток, открыл крышку и стал деревянной ложкой вылавливать картофелины в мундирах и класть их в большую миску. Тети и их дети, мальчик и девочка лет десяти, сели за стол, не раздеваясь, а только размотав свои платки. Я поставил перед ними миску и солонку с крупной серой солью, а мама велела мне достать из ларя хлеб и тоже положить на стол.
И они стали есть. Они даже не чистили картошку, а ели прямо с очистками, только макали ее в соль.
Мама всплеснула руками и сказала:
— Витюшка, принеси же капусты! И как же это я забыла! — удивилась мама.
И я принес из кадки мороженой квашеной капусты с клюквой, и старшая тетя сказала:
— Вот спасибо, золотце мое, дай бог тебе счастья.
Когда они поели, оставшийся хлеб и картошку сложили в свою сумку, и соль из солонки высыпали в кулечек, хотя у нас у самих соли было очень мало, а тетя сказала:
— Ты бы, хозяюшка, дала бы нам еще картошки с собой. Не скупись, хозяюшка, бог тебе за это даст всего, чего ни пожелаешь.
— У нас у самих мало картошки, — сказала мама. — Сами едва концы с концами сводим. А картошку дает не бог, а бригадир на лесоповале.
А тетя сказала:
— Ты не ври мне, хозяюшка, что у тебя картошки нету. Я ведунья, все вижу, меня не обманешь. Дай картошки, иначе наведу на тебя и детей твоих порчу.
— Идите отсюда, — сказала мама. — Вас покормили, а вы еще и хамите. Мы эвакуированные, не местные. У местных просите: у них побольше картошки в погребах, чем у нас, а мне детей своих кормить надо. А вы вон какие здоровые, шли бы на лесоповал, там бы и заработали картошки и хлеба. Чем просить-то…
Тетя рассердилась и сказала:
— Так знай же, хозяйка: сын твой помрет в девятнадцать лет от пьянства. Да сбудется слово мое и падет на вашу голову.
Тети стояли у двери, не уходили и все оглядывались, что бы еще такое поесть, но у нас все равно ничего не было, только суп в чугунке для папы, который ковал подковы в своей кузне. И тогда я схватил ухват да как закричу на этих теть:
— А ну идите отсюда, а то как стукну!
И тут послышался скрип полозьев и хруст снега под копытами лошади, потом затопало на крыльце, и в избу вошел папа, весь замороженный. Тетки засуетились и стали одна за другой выскакивать в сени.
— Что тут у вас произошло? — спросил папа.
— Да вот, цыгане, — сказала мама. — Мы их покормили, а они, такие нахальные, просят, чтобы им дали еще. Так ведь не просят, а требуют — вот в чем дело! А где я возьму?
— Совсем не надо было пускать, — сказал папа, повернулся и вышел.
Что-то загремело в сенях, я тоже туда выбежал, а папа у одной тети отнимает хомут, который висел на крючке. И как толкнет ее, как она упадет, папа как заругается — и все тетки-цыгане и их дети побежали и убежали совсем. А папа еще и во двор вышел посмотреть, чтобы они чего еще не утащили.
Папа вернулся и сказал:
— Там их целый табор — возле Борисово-то. Ко мне в кузню двое цыган в помощники набивались, да я не взял: своих девать некуда.
— Мам, а почему я умру от пьянства? — спросил я, потому что мне совсем не хотелось умирать… даже от пьянства.
— Глупости все это, — сказала мама. — Выбрось из головы. — И пояснила для папы: — Цыганка ему напророчила, что в девятнадцать лет умрет от пьянства. Вот ведь ведьма, так ведьма. — И засмеялась: — Видел бы ты, отец, как он за ухват схватился! Защитничек мой.
— Правильно, — сказал папа. — Никому не давай спуску, сынок. И никому не кланяйся.
— Я и не кланяюсь, — сказал я. И добавил: — Это тетя Груня дяди Кузьмы кланяется своему боженьке. Потому что он ей деток не дает.
— Кланяйся не кланяйся, а что кому не дано, тому и не бывать, — сказал мой папа.
Мама вздохнула, а я долго раздумывал, кому не дано и что из этого получается, но так и не раздумал до самого конца.
Глава 20
Дни стали, как сказала мама, с гулькин нос: не успеешь оглянуться, а дня уже нету. И всё ночь и ночь. На столе горит керосиновая лампа, но свету от нее мало, не то что от электрической, которая горела у нас в Ленинграде. Папа уходит еще затемно, приходит из кузни уже по темну, садится у печки и шьет мне сапоги. Иногда просит меня померить, прикладывает к ноге лоскутки кожи и долго хорошенько думает, чтобы сапоги получились самые настоящие. А мама вяжет носки для Красной армии. Я смотрю, как папа думает, как мама вяжет, а потом начинаю читать книжку из библиотеки. Только теперь за книжками не я езжу в Борисово, а папа, потому что его кузня рядом, а Третьяковка совсем наоборот. Да и зима: не наездишься.
— Сегодня волки подходили к самой кузне, — рассказывает папа. — Я сперва подумал, что собаки, а потом пригляделся — волки. Дядьке Трофиму говорю: смотри, говорю, волки. А он: а и бог с имя, с волками-то… — Папа перекусил дратву зубами, продолжил рассказ: — Бог не бог, а до дома четыре версты. Да-а… Вот сделал себе арапник, со свинчаткой на конце, да только черт ли от них арапником отобьешься: их целая стая, почитай, штук десять-пятнадцать. Да и сноровки нету: не калмык, чай. Дядя Трофим сказал, что теперь будет брать с собой ружье. Ну, с ружьем уж как-нибудь сладим.
— Ты поосторожнее, Вася, — сказала мама. — У нас, помню, еще до революции, сосед, Мирон Степаныч Калинычев… Да ты его помнишь, небось!
— Помню, — сказал папа. — Это который без пальца на руке?
— Вот-вот, он самый. Так на него волки напали сразу за Тверцой, коня порвали, а он еле отбился вилами. Пальца лишился…
За окном вдалеке залаял Морозко, собака хромого Кондрата Третьякова.
Я пошел в мамы-папину комнату к окну, поскреб ногтем ледяную корку на стекле, потом подышал на нее и припал глазом к стеклу.
Сперва я ничего не увидел, кроме голубых сугробов, потому что светила луна. Потом разглядел избу Третьяковых, выглядывающую из-за заснеженных черемух, синие тени на голубых сугробах. Но ничего такого, на что можно лаять. А Морозко все лаял да лаял. И вдруг на сугроб перед моим окном взобралась серая собака, каких нет в нашей деревне, а я всех деревенских собак знаю. И хвост у нее не крючком, а поленом. Собака посмотрела на меня, приблизилась, и я увидел ее зеленый глаз совсем-совсем близко. И глаз этот светился. Мне показалось, что собака эта сейчас ударит лапой по окну и кинется на меня. Но тут бабахнул выстрел — и собака исчезла. Потом еще бабахнуло. И я увидел Митьку Третьякова: он стоял с ружьем и смотрел туда, где лежало замерзшее озеро. Я тоже попытался посмотреть туда, но смотреть туда было неловко, как я не старался. Поэтому ничего и не увидел.
— Что там? — спросил папа, держа в зубах дратву и тыча шилом куда-то внутрь сапога.
— Собака, — сказал я. — Только не наша, и глаза у нее зеленые-зеленые.
— Волк, — сказал папа. — Вот ведь обнаглели.
— О господи, — вздохнула мама, которая все еще болела. — И когда все это кончится?
А я пошел к окну, чтобы еще посмотреть на волка, если он вернется к нашей избе. Но он так и не вернулся, потому что Митька-лоботряс напугал его своим ружьем — и «все это» уже кончилось. Мне ужасно стало обидно, потому что папа мог стукнуть волка арапником, потом бы снял с него шкуру, и папе дали бы за это деньги, потому что из волчьих шкур делают телогрейки для летчиков, чтобы они не замерзли в своих самолетах.
Я вернулся в горницу и снова сел за книжку. На этот раз книжка была про Дерсу Узала, как он жил в лесу, потому что у него не было дома, но он ничего не боялся и всех зверей называл «люди». Эту книжку взял папа потому, что читал ее в детстве, и она ему очень понравилась.
— Ты бы почитал вслух, Витюша, — сказала мама.
Признаться, я не люблю читать вслух. Во-первых, язык очень быстро устает и начинает заплетаться; во-вторых, мама непременно скажет: «Чем читать такие взрослые и непонятные книжки, читал бы лучше сказки». В-третьих, когда я читаю вслух, то получается медленно, а про себя — быстро. В-четвертых, я сам ничего не понимаю, когда читаю вслух, потому что читать надо громко, а от громкости у меня в ушах все перепутывается. Но мама говорит, что в школе обязательно нужно читать вслух, и я читаю. А еще потому, что всем нравится слушать, как я читаю.
Но только я собрался читать вслух, как за окном захрумкало, кто-то постучал в двери, папа пошел отпирать, и в избу ввалился дядя Трофим и как закричит:
— Наши окружили немцев под Сталинградом! Представляете?
— Да ты что-о! — удивился папа.
— Точно-точно! Мой пострел Федька собрал дирек-кторный — черт, не выговоришь! — приемник, и Москва только что передала по этому приемнику «В последний час» экс-хренное сообщение. Вот! — воскликнул дядя Трофим и поставил на стол бутылку, заткнутую деревянной пробкой, — самогонка называется.
— Во-от, — сказал папа. И добавил: — Сталин не зря говорил про праздник на нашей улице. Не зря. Вот он и наступил. А то все драпали и драпали. Черт знает что! Генералы у нас, едри их за ногу! А Сталин один, за всеми не уследит. Тут вот в своем хозяйстве не всегда знаешь, где что лежит и куда подевалось, а тут — шутка ли сказать! — такая страна: и то надо, и сё, и пятое-десятое…
Мама заплакала и стала собирать на стол, потому что действительно наступил «и на нашей улице праздник». Дядя Трофим подтвердил, сказав, что по дирек-кторному приемнику тоже говорили… про этот самый праздник.
И долго они с папой обсуждали этот праздник, пока к нам не пришли еще мужики. И бабы тоже пришли, принесли кто шаньги, кто пироги с лосятиной или рыбой, грибами или с брусникой. Все выпили самогонной водки, галдели, а потом стали петь песни.
И мой папа запевал:
По диким степям Забайкалья, Где золото роют в горах, Бродяга, судьбу проклиная, Тащился с сумой на плечах…И все подхватывали, при этом бабы тонкими визгливыми голосами, а мужики — совсем наоборот, то есть толстыми. И так печально они пели, что у меня на глазах выступили слезы от жалости к этому бедному бродяге. И у других тоже. Даже у мужиков. Потом папа запел другую песню, но я уже ничего не слышал: наевшись от пуза пирогов, я спал на полатях, и мне снилось, как «наши», то есть папа и все остальные мужики и бабы, водят хоровод, а в середке Гитлер с усишками под носом, на него лает Морозко, а папа бьет Гитлера арапником со свинчаткой на конце, а у Гитлера глаз зеленый-зеленый, как у волка…
Глава 21
Сугробы возле нашей избы поднялись до самых окон, один из них слопал ступеньки нашего крыльца и пробовал даже заползти в избу, но дверь была заперта — и он не заполз. Утром папа взял лопату и стал гнать сугроб от крыльца. Я тоже хотел взять лопату, но мама сказала, что мне нечего одеть, и я остался в избе, смотрел в окошко, как папа расправляется с сугробом и завидовал ему, потому что у папы было настоящее пальто с зимним воротником, который весь покрыт черными колечками. Это чтобы красиво было, потому что в Ленинграде все ходят в красивых пальто, и сам Ленинград тоже красивый, но там нет хлеба и даже картошки в мундирах, потому что немецкие гитлеры не пускают никого в хлебные магазины, стреляют из пушек и бомбят из самолетов. Но теперь, когда Красная армия окружила немцев под Сталинградом, она скоро окружит их, как сказал папа, и под Ленинградом, и тогда опять у нас соберутся мужики и бабы, будут есть шаньги и пироги, пить самогонною водку и петь песни про то, как бродяга «тащился с сумой на плечах». Мне очень нравятся такие песни, и я тоже пробую их петь, когда никто не слышит, потому что не знаю слов.
Сегодня папа не пошел на работу. Он сказал, что в кузне кончилось железо, а говорить председателю без толку, потому что «ему все до лампочки» и «он даже ухом не повёл». Я встал к зеркалу и попробовал «повести ухом», но повелась вся голова, а ухо не повелось, и как я ни старался, как ни кряхтел и ни сопел, ничего у меня не получилось.
— Мама, а почему председатель умеет ухом повести, а у меня не получается? — спросил я у мамы.
— Не говори глупости, — сказала мама. — Ушами умеют шевелить только звери, а люди не умеют.
И точно! Как же это я забыл? И лошадь умеет, и корова умеет, и овца умеет, и гусь…
— Мам, а почему у гуся нет ушей?
— Есть, но они очень маленькие.
— А у курицы?
— Не приставай с глупыми вопросами.
Я вздыхаю и иду читать про Дерсу Узала. Уж Дерсу-то Узала наверняка умеет шевелить ушами, потому что он умеет все, но дядя писатель Арсеньев про уши ничего не написал. Впрочем, может быть, дальше будет что-нибудь и про уши.
С тех пор, как наши окружили немцев под Сталинградом, прошло много-много дней. Еще два раза приходил дядя Трофим и рассказывал про то, как наши окружают немцев и что говорят по дирек-кторному приемнику его сына Федьки-пострела. Уже и новый год наступил, который оказался просто Новым годом, а не праздником, а наши все окружали и окружали. А под Ленинградом не окружали, потому что приемник ничего про это не говорил.
Мне ужасно хотелось посмотреть на этот таинственный приемник, но Федька-пострел к нам не приходил, потому что он был большим мальчиком и собирался в новом году в город, чтобы поступить там в ремесленное училище.
— Неча ему тут в навозе ковыряться, — говорил дядя Трофим. — У парня котелок варит, пущай дальше образовывается, может, из него толк и выйдет.
И всегда эти взрослые говорят не поймешь как. А начнешь спрашивать, так сразу: «Не лезь с глупыми вопросами!» И вовсе они не глупые, а непонятные, потому что все тут не понятно: и почему Федька-пострел в навозе ковыряется, и что такое «пострел», и что это у него за котелок такой, который сам варит, и как из него выйдет таинственный толк и куда он денется? — все непонятно, а спросить нельзя. И в книжках ничего про это нету, то есть есть, но я такие непонятные слова пропускаю, потому что слов много, а мама одна и на все мои вопросы ответить не может.
Папа шил мой сапог, сидя возле самого окна, мама вязала шерстяной носок к этому сапогу, Людмилка качала свою куклу, а я читал. Но читалось плохо: и на папу хотелось посмотреть, как он шьет, и на маму, как она вяжет. Только на Людмилку смотреть не хотелось: на нее посмотришь, так она тут же начнет приставать со всякими дурацкими глупостями.
И тут послышался звон бубенцов и визг гармошки, мимо нас пролетели сани, разукрашенные лентами, и лошадь тоже была в лентах, а в санях сидели все Третьяковы — кроме бабки Третьячихи. Митька-лоботряс правил вожжами стоя и размахивал кнутом. Полушубок на нем расстегнут, шапка набекрень, а ему совсем не холодно и хоть бы хны.
Я едва успел посмотреть на все это в дырочку окна, проделанную мной в морозных узорах, потому что иногда надо же и смотреть, что делается на улице, иначе и не заметишь, как опять придут волки.
— Митьку в армию провожают, — сказала мама, хотя она и не смотрела в окно, и так вздохнула, словно Митьку не в армию провожают, а на кладбище.
Сани пролетели мимо нашей избы, колокольчики затихли, и только ветер гудел в трубе да папа мычал какую-то песню, но без слов, потому что во рту у него была дратва.
— И когда это только кончится? — произнесла мама свои самые любимые слова.
Папа посмотрел на маму, на меня, вынул изо рта дратву и сказал вместо мамы:
— Ты бы, Витюшка, вслух почитал, что ли.
И я стал читать вслух:
«Часов в восемь вечера дождь перестал, хотя небо было по-прежнему хмурое. До полуночи вызвался караулить Дерсу. Он надел унты, подправил костер и, став спиною к огню, стал что-то по-своему громко кричать в лес.
— Кому ты кричишь, с кем говоришь? — спросили его стрелки.
— Амба, — отвечал он. — Моя говори ему: на биваке много солдат есть. Солдаты стреляй, тогда моя виноват нету.
И он опять принялся кричать протяжно и громко: „А-та-та-ай, а-та-та-ай“. Ему вторило эхо, словно кто перекликался в лесу, повторяя на разные голоса последний слог — „ай“. Крики уносились все дальше и дальше и замирали вдали…»
— А что такое амба? — спросила мама.
— Тигр, — ответил я и стал читать дальше.
Я читал долго-долго, пока язык не стал заплетаться. И тогда мама сказала:
— Хватит, — сказала мама. — Пора обедать.
Но я еще читал, пока мама собирала на стол, но уже про себя.
Мне очень нравилось, что Дерсу всех называет «люди», даже муравьев и жуков, что он никого не боится в лесу и все про лес знает. Мне тоже хотелось все знать про лес, но меня в лес не пускали, поэтому я ничего и не знаю. Я представлял себе, как можно жить в лесу возле костра, особенно в том шалаше, который мы построили в прошлом году на берегу Чусовой. Звери бы приходили ко мне в гости, я бы научился разговаривать и понимать по-звериному, и никто бы меня не нашел в лесу, потому что никто мне не нужен. А к маме и папе я бы приходил из лесу в гости, чтобы они не плакали и не думали, что меня съели волки. И с волками бы я подружился, и с медведями, а на лосях ездил бы верхом, куда захочу.
Мои фантазии текли рядом с тем, что я вычитывал из книги, в голове все перемешивалось, и часто я не мог отделить одно от другого.
Однажды в морозный вечер, когда «хороший хозяин собаку не выгонит во двор», когда папа дошивал последний сапог, мама довязывала очередной носок, а я дочитывал про Дерсу, к нашей избе подъехало трое саней, из них вылезли восемь мужиков с ружьями и один дяденька военный. Они были все в снегу и в инее, на усах и бороде висели сосульки, даже на бровях и ресницах, так что из инея и снега виднелись одни лишь красные носы. Мужики набились у нас в горнице, топали ногами, а папа стал раздувать самовар.
Мужики и военный ели тушенку, пили чай в прикуску, грызли сухари и говорили, что они едут ловить дезертиров, которых очень много развелось в нашем лесу — больше чем волков. Дяденька военный угостил нас тушенкой и сахаром и сказал, что все деревенские мужики пойдут с ним в лес на облаву, чтобы переловить всех дезертиров. Потом мужики и военный дяденька ушли ночевать к соседям, потому что «у вас дети, и мы не хотим их пугать».
На утро мужики вместе с военным, нашим папой и другими мужиками сели в сани и поехали ловить дезертиров. Целый день мама ходила «сама не своя», заламывала руки и повторяла свои любимые слова: «И когда это только кончится?», но это все не кончалось и не кончалось. Лишь поздно вечером, когда совсем стало темно-темно, вернулись замороженные мужики и дядя военный, разбрелись по избам, папа тоже разбрелся по нашей избе и стал говорить сердито, что никаких дезертиров они не поймали, что это выдумки и полная ерунда, что кому-то нечего делать, а чтобы не послали на фронт, они выдумывают дезертиров и бегают по лесам за своими выдумками, что на врачебной комиссии здоровые сынки всяких начальников сдают мокроту, купленную у чахоточных, чтобы не идти на войну, что в Чусовом столько лоботрясов, укрывающихся от армии, особенно жидов, что просто жуть, что надо там устраивать облавы, а не бегать по лесам, где нет никаких дезертиров…
— Ты бы при ребенке не говорил таких вещей, — сказала мама, но папа сказал, что ребенок уже большой и должен все понимать, раз читает такие взрослые книжки.
Папа выпил самогонной водки и залез на печку, потому что промерз до самых костей.
Но на утро мужики снова уехали в лес ловить дезертиров, и наш папа с ними. Их долго не было и не было, поэтому «это не кончалось» до следующего дня. И еще до следующего, так что мама плакала и ходила к соседям узнать, что стало с нашими мужиками.
Мужики вернулись на четвертый день и привезли с собой целых трех других мужиков, бородатых и волосатых. Оказалось, что это и есть дезертиры, а совсем не мужики, потому что они не захотели идти на фронт, поэтому и называются дезертирами. Дезертиры лежали в санях со связанными руками и, уткнувшись лицом в сено, нюхали это сено и не смотрели по сторонам. Их привели к нам в избу, развязали, напоили чаем с сухарями. Я смотрел с печки, как они пьют чай, макают в него сухари и вздыхают. Потом их снова связали веревками, положили в сани, туда же сели приезжие мужики и военный дядя, и сани уехали в город. А папа остался дома.
— Пап, — спросил я. — А почему дезертиров только три штуки, а дяденька военный говорил, что их больше, чем волков?
Папа только что помылся и попарился в бане, был красным и добрым. И все деревенские мужики, которые ездили в лес за дезертирами, тоже попарились в бане, тоже были красными и добрыми. Они пили самогонную водку, повторяли мамины слова про «когда все это кончится», но водка у них не кончалась и не кончалась, так что они напились «до чертиков», пели песни и ругались.
А папа сказал мне:
— Ты иди-ка на печку и не путайся под ногами.
Я залез на печку, укрылся полушубком. В трубе выл ветер. Он то гудел паровозом, то пищал маленьким котенком, то смеялся дядей Трофимом. И под этот ветер папа пел свою любимую, очень жалостливую песню:
Когда я на почте служил ямщиком, Был молод, име-ел я силе-о-онку, И крепко же, братцы, в селенье родном, Любил я в ту по-о-ору девчо-о-онку.Мужики слушали папу и плакали, потому что у моего папы голос, как у Козловского. А я подумал, что это у какого-то Козловского голос как у папы, а не наоборот.
В конце концов я уснул, хотя «это все» не кончалось и не кончалось…
Глава 22
А зима взяла да и кончилась — и как-то вся сразу. Везде закапало, потекло, синички и воробьи стали веселыми, даже Бодя — и тот стал веселым: вдруг ни с того ни с сего как заржет, сперва тоненько, а потом толсто. И всхрапнет, как папа, когда спит. И коровы стали мычать по целым дням, и овцы, только не мычать, а блеять, а у нашей козы, которую папа купил у одного дяди перед новым годом, появились козлята. Ну прямо-таки совсем-совсем неожиданно. И целых четыре. Теперь у нас по этому случаю образовалось козлиное… нет, козье молоко. Сперва немного, потому что надо им поить козлят, чтобы они не померли, а потом много — по целой кружке каждый день и мне, и Людмилке, и всем остальным. Я пил это молоко ма-аленькими глоточками, чтобы на дольше хватило, а Людмилка выпивала сразу и таращилась на меня, так что мне приходилось прятаться от нее, чтобы она не стала клянчить. Такая она ненасытница.
А потом… потом опять наступила зима, ударили морозы, пошел снег, и все попряталось и затихло. А я так ждал весны и лета, потому что это будет последнее мое лето, потому что мне после этого лета надо будет идти в школу. По правде говоря, в школу мне идти совсем не хочется. Лучше бы я и так, без школы, читал книжки, рисовал и считал до ста. Но мама сказала, что все дети должны ходить в школу, что мы не баре: это у бар было заведено так, что их дети в школу не ходили, а к ним домой приходили учителя, а уж пото-ом, когда подрасту-ут… Но про это я уже читал в одной книжке — про баринов и про их детей. Что ж, раз надо идти, то придется идти. Но это ж так далеко — аж в Борисовку. И мама по этому поводу иногда вздыхает и говорит папе, что, может, и правда, пусть дома посидит, а уж когда вернемся в Ленинград, тогда непременно пойдет в школу. Тем более что блокаду прорвали и теперь в Ленинграде все есть и можно жить, как все нормальные люди. Но папа сказал, что все это ерунда, что прорвать прорвали, но совсем немножко, а немцы как стояли под Ленинградом, так и стоят. И финны тоже. И что он, то есть я, уже большой, и в школу ему, то есть мне, ходить не так уж далеко. К тому же он, то есть папа, постарается договориться с председателем, чтобы нас, то есть меня и других третьяковских, отвозили в школу на лошади. И привозили домой. Так это ж совсем другое дело, подумалось мне, и я стал собираться в школу заранее, потому что, как сказал папа, школа — это дело серьезное, и когда он был маленьким, тоже ходил в школу и тоже пешком, хотя тоже было далеко, и у него все было готово к школе: и азбука, и тетрадки, и прочее. Не то что у некоторых.
«А только зачем мне азбука? — пришла мне в голову неожиданная мысль. — Ведь я уже умею читать, и даже не по словам, а по целым предложениям. И считать умею до тыщи. И писать умею тоже, хотя у меня получается плохо. Но это потому, что пишу я очень редко. А если стану чаще, то и получится писать хорошо. А с другой стороны — как же без азбуки? Все дети в первый класс ходят с азбукой. Даже Буратино. Правда, он ее продал и купил билет в цирк, так это ж в сказке, а в жизни так не бывает… Ну что ж, с азбукой так с азбукой. Мне все равно».
А война все продолжалась и продолжалась, гитлеровские немцы все не уходили и не уходили в свою Германию, даже после того, как им в Сталинграде надавали по шеям, а остальных взяли в плен, и неизвестно, когда уйдут и нам разрешат вернуться в Ленинград. Но, судя по тому, что передавали по дирек-кторному приемнику Кольки-пострела, — а он теперь разрешает послушать свой приемник всем желающим, и я тоже иногда слушаю, — ждать нам и ждать до кузькиного заговенья, как говорит мама, потому что война, как сказал папа, дело такое, что сегодня мы немцам надаем, а завтра немцы опять нам. Но я сказал, что наша Красная армия во-он куда наступила и даже освободила много-премного городов… только я забыл каких, что наши убили много фашистов, захватили много всяких винтовок, автоматов и пулеметов, сбили сто самолетов и уничтожили много чего еще.
А папа сказал, что все это ерунда, потому что по радио — это одно, а на самом деле — совсем другое, но чтобы про ерунду я не болтал никому, потому что про нее можно говорить только дома, а в других местах нельзя.
Однажды я пришел к Кольке послушать его детекторный приемник, — так его, оказывается, надо называть, чтобы было правильно. Колька сидел за столом и что-то мастерил. И совсем он не был похож на пострела, то есть на такого мальчишку, который никого не слушается и все делает наоборот.
— Приемник пришел послушать? — спросил у меня Колька, когда я, стоя около, начал вздыхать все громче и громче.
— Ага, — ответил я и переступил с ноги на ногу.
— На, слушай, — протянул мне Колька один наушник — такую черненькую штучку, похожую на колесо, приделанное к веревочке, которая называется провод, который приделан к такой штуке, которая похожа на маленький барабан, а там есть такая беленькая штучка, похожая на маленькую свистульку, которая называется детектор. Вот что такое этот приемник, по которому говорит Москва.
Я прижал наушник к уху и стал слушать: передавали музыку. Такой музыки я еще никогда не слыхивал: она была какая-то… какая-то мягкая, как подушка, и такая жалостливая, что у меня на глазах навернулись слезы. Даже не знаю, почему. Музыка позвучала, позвучала и вдруг оборвалась. Я даже подумал, что детекторный приемник испортился, потому что его слушают все, кому ни лень. Но в наушнике потрескивало и попискивало, и я догадался, что это в далекой Москве, где сидит Сталин и все видит и слышит, кто-то выключил музыку. И точно: какой-то дядя сказал, что сейчас будет передано сообщение Совинформбюро. И послышались редкие гудки автомобилей, какой-то шум и треск.
— Чего там? — спросил Колька.
— Ничего, — ответил я. — Была музыка и теперь ничего.
— И что сказали?
— Сказали, что будет сообщение.
И Колька тут же отобрал у меня наушник и стал сам слушать, что там сообщали. А я, подумав-подумав, прислонился своим ухом к наушнику с другой стороны и услыхал, как стали бить часы, а когда они перестали бить, дядя сказал очень важно: «Передаем сообщение Совинформбюро». И далее: «В последний час». И опять важно о том, что войска героической Красной армии продолжают мощное наступление против немецко-фашистских войск, несмотря на ожесточенные контратаки противника, и стремительно продвигаются вперед. Освобождены такие города, как Орел, Курск и другие. Противник несет большие потери, и вот-вот наступит час, когда Красная армия освободит Донбасс, Харьков и все остальное. Потом дядя стал называть другие города и деревни, которые освободила героическая Красная армия, сколько сбито самолетов, подбито танков, убито, ранено и взято в плен солдат и офицеров противника, то есть немецких гитлеров. Потом дядя помолчал чуть-чуть и опять обычным, не таким важным, голосом: «Мы передавали сообщение Совинформбюро». И тут же тетя сказала: «Продолжаем концерт симфонического оркестра…» И Колька отнял от своего уха наушник и положил его на полку.
— Все, — сказал он. — Иди гуляй.
— Коль, а Коль, как ты думаешь: немецкие фашисты опять надают нам по шеям? — спросил я, потому что мне стало так грустно, что хоть плачь. Особенно после такой грустной музыки. И еще потому, что наши героические войска наступают просто так, а немецко-фашистские войска обороняются ожесточенно.
— Ты чо — совсем? — покрутил Колька у своего виска пальцем. — Теперь уже не надают. Товарищ Сталин сказал, что у нас теперь пушек, танков и самолетов, сколько хошь. Теперь уж точно врежут так уж врежут — только пыль от них полетит во все стороны. А ты: по шеям. Дам вот тебе по шеям, будешь знать. Вали отсюдова.
И я пошел, хотя мне очень хотелось послушать музыку сем… сим… — вот забыл, как он называется… — оркестра: очень жалостливая такая музыка. Я такой еще ни разу в жизни не слыхивал.
Глава 23
В кабинете Сталина за столом для заседаний теснились члены Политбюро, Государственного комитета обороны, наркомы ведущих отраслей промышленности, директора крупных заводов, работающих на оборону.
Первый заместитель Верховного главнокомандующего Красной армии генерал армии Жуков и начальник Генштаба генерал армии Василевский сидели рядом, командующие родами войск не за столом, а за их спинами.
Заседание вел Ворошилов. Он предоставил слово Василевскому для, как он сказал, «прояснения общей обстановки на театре военных действий».
Василевский встал, подошел к карте Европейской части СССР, начал «прояснять», водя по ней длинной указкой:
— Одновременно с окружением Шестой армии Паулюса в районе Сталинграда наши войска развили наступление в западном направлении. Войска Закавказского, Юго-Западного, Воронежского, Брянского и других фронтов гонят немцев с нашей земли. Освобождены Орел, Курск. На очереди Харьков. Разворачиваются бои за промышленную зону Донбасса. Войска Южного фронта форсировали на некоторых участках реку Псёл. Ожесточенные бои идут на Кубани. Противник, опасаясь окружения своих войск южнее Дона, спешно выводит войска через так называемый Ростовский коридор и на Таманский полуостров с последующим перемещением в Крым. В центре силами Западного, Брянского и Калининского фронтов готовится наступательная операция, которая отбросит немцев от Москвы еще дальше. На других участках советско-германского фронта ведутся бои местного значения, сковывающие войска противника.
Василевский замолчал и посмотрел на Сталина, сидящего во главе стола.
— У вас все? — спросил Сталин.
— В общих чертах — да, — ответил Василевский.
— Что ж, — заговорил Сталин, вставая и выходя из-за стола. — Дела на фронтах у нас идут неплохо. Паулюс сдался вместе с остатками своих войск. Наступление наших войск развивается более-менее успешно. Надо признать, что Генеральный штаб Красной армии работать стал лучше. Наши генералы за минувшие год и восемь месяцев боев кое-чему научились. К сожалению, далеко не все. Наша промышленность наращивает темпы производства вооружений и боеприпасов. Союзники увеличивают поставки военной техники, продовольствия и сырья для нашей промышленности. Конечно, это капля в море, но капля весьма существенная. Однако решение вопроса об открытии Второго фронта затягивается на неопределенное время. Следовательно, мы по-прежнему должны рассчитывать исключительно на свои силы. Надо бы лучше и больше, но так не бывает, чтобы везде и у всех всё было хорошо. Между тем мы считаем, что достигнутые успехи нашей армией требуют того, чтобы их отметить соответствующим образом. Особую заслуга в этой работе принадлежит начальнику Генерального штаба товарищу Василевскому. Помимо успешной организации работы своего ведомства товарищ Василевский проявил себя способным координатором действий нескольких фронтов, которые успешно громят фашистских захватчиков, освобождая наши города и села. В связи с этим товарищу Василевскому присваивается звание Маршала Советского Союза… Он, к тому же, награждается орденом Суворова Первой степени.
Василевский вспыхнул, вскочил, вытянулся, отчеканил:
— Служу трудовому народу!
Сталин, кивнув головой, сделал продолжительную паузу, будто потерял нить рассуждений, затем заговорил снова:
— Пожалуй, самая приятная и самая долгожданная весть — это весть о прорыве блокады Ленинграда. Мы ни раз и ни два пытались осуществить этот прорыв, но только сейчас достигли поставленной цели. Почему именно сейчас? Потому, во-первых, что бойцы и командиры Красной армии уже не те, что год назад: они приобрели опыт, воюют лучше. Потому, во-вторых, что они получают от нашей промышленности все необходимое, чтобы ни в чем не уступать врагу. И даже превосходить его в моральном и материальном отношении. Немаловажным является и тот факт, что координацию Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады осуществлял от имени Ставки товарищ Жюков. И я думаю, что самое время сообщить товарищу Жюкову о присвоении ему высокого звания маршала Советского Союза и награждении его орденом Суворова Первой степени. Товарищ Жюков заслужил звание маршала и орден Суворова своими решительными и грамотными действиями как в должности командующего фронтом, так и в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования не только в организации прорыва блокады города Ленина, но и в разработке и осуществлении плана контрнаступления Красной армии под Сталинградом. Мы надеемся, что и в дальнейшем товарищ Жюков будет направлять все свои способности на разгром немецко-фашистских захватчиков.
Жуков встал, вытянулся, произнес своим обычным скрипучим голосом:
— Служу трудовому народу! — и повел глазами по сидящим за столом с чувством признанного превосходства, хотя на каменном лице его не дрогнул ни один мускул.
Сталин, изучающе сощурившись, покивал головой, соглашаясь, что так оно и есть — служит и будет служить этому самому народу. И, возвращаясь на свое место, добавил:
— Будут отмечены командующие соответствующими фронтами, чьи войска внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и Ленинградом.
После Василевского и Сталина выступали наркомы оборонной промышленности. Из их слов выходило, что промышленность продолжает набирать темпы, освобождение Донбасса может значительно усилить промышленный потенциал страны и, следовательно…
— Именно поэтому так важно наступление наших войск в этом направлении, — подвел итог выступлениям Сталин, словно в доказательство кому-то, кто с наступлением наших войск был не согласен.
После чего в кабинете остались лишь члены Государственного комитета обороны.
— А не получится так, — обратился к Василевскому Сталин, — что немцы опять, как и в сорок втором, ударят нам во фланг? Хорошо ли прикрыты фланги Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов? Что говорит наша разведка о перемещении немецких войск в том или ином направлении?
— Если исходить из классических схем, то фланги наступающих армий обеспечены явно недостаточно, товарищ Сталин, — заговорил Василевский. — Но если мы выделим часть сил для прикрытия, то тем самым снизим наступательный потенциал наших армий. Генштаб и командующие фронтами полагают, что противнику неоткуда взять резервы для такого удара, что ему нечем даже заткнуть те дыры, которые образовались в результате осуществления нашими войсками наступательной операции под кодовым названием «Скачок». Особенно после выхода наших танковых и кавалерийских корпусов на оперативный простор. Конечно, войска устали после трехмесячного непрерывного наступления, но и противник устал тоже. Мы полагаем, что две-три полноценные армии и пара танковых корпусов, взятые из резерва Ставки, могли бы усилить наше преимущество на направлении главных ударов.
— Что ж, будем надеяться, что так оно и есть. Пару армий мы, пожалуй, дадим, но лишь в том случае, если начнется замедление темпов наступления, а пока обходитесь теми силами, которые имеются в вашем распоряжении, — заключил Сталин, прервав свое маятниковое движение по ковровой дорожке. И неожиданно спросил: — А что думает по этому поводу маршал Жюков?
Жуков встал.
— Из той информации, что нам доложена начальником Генштаба, трудно сделать какие-то определенные выводы, — заговорил он. — Меня беспокоит исчезновение из поля зрения разведки танкового корпуса СС и других танковых корпусов противника. Командующие фронтами полагают, что Манштейн отводит их за Днепр. Может быть. Но может быть и так, что эта хитрая лиса производит перегруппировку своих сил для нанесения удара там, где мы его не ждем. К тому же противник может использовать те свои дивизии, которые выводит в Крым через Таманский полуостров. Надо поручить партизанам проследить все перемещения немецких воинских эшелонов на железных дорогах Украины и Белоруссии. И на основе этих данных делать соответствующие выводы. Однако о флангах заботиться надо всегда. Азбучная истина.
— Пожалуй, товарищу Жюкову надо будет отправиться на Южный фронт, — подхватил Сталин. — Надо посмотреть на месте, все ли там делается для того, чтобы не позволить немцам вывести в Крым большую часть своих войск. На Таманском полуострове скопилось много боеспособных войск противника. Эти войска могут ударить во фланг наших войск, движущихся к Днепру. Надо разгромить эти войска, не дать им возможности эвакуироваться в Крым. Это, ко всему прочему, позволит нам освободить Новороссийск и получить базу для Черноморского флота.
— Мы не исключаем, товарищ Сталин, — попытался то ли возразить, то ли уточнить Василевский, — что некоторые немецкие части могут быть использованы против наших наступающих фронтов. Более того, некоторые части из Южной группы немецких войск уже отмечены в районе Сталино и Мариуполя. Но они нуждаются в пополнении и приведении в порядок. На это уйдет недели две. За это время мы успеем подтянуть дополнительные силы…
— Похоже, товарищ Василевский, вы даете немцам на приведение в порядок своих дивизий столько же времени, сколько отпускаете на подтягивание наших резервов к угрожаемым участкам. Или вы все-таки рассчитываете опередить Манштейна?
— Рассчитываем, товарищ Сталин. Что касается танкового корпуса СС и других корпусов, то установлено, что они грузятся на железнодорожные платформы и действительно отводятся на правый берег Днепра. К тому же, по данным разведки, немцы усиленно строят там оборонительные укрепления, видимо, не надеясь удержать наши войска на левобережье. Должен заметить, товарищ Сталин, что железные дороги в нашей прифронтовой полосе нуждаются в серьезном восстановлении.
— Другими словами, вы хотите сказать, что не успеваете.
— Никак нет, товарищ Сталин: успеваем. Тем более что, как я уже докладывал, наши танковые и кавалерийские корпуса перерезали многие рокады, так что немцы находятся в еще худших условиях.
— Вот вы, товарищ Василевский, и возвращайтесь к Голикову и Ватутину и внимательно посмотрите, все ли там идет так, как надо…
Сталин остановился возле своего рабочего стола, взял трубку и, ни на кого не глядя, произнес: — На этом заседание считаю закрытым.
Глава 24
Член Военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев ехал в Харьков, только что освобожденный от немцев, но уже зная, что город будет сдан, потому что немцы опять наступают, разведка опять прошляпила сосредоточение танковых корпусов противника в районе Александрова, что повторяется сорок второй год, только в ту пору фронтом командовал маршал Тимошенко, а теперь генерал-полковник Голиков, и фронт тогда назывался Юго-Западным.
Настроение у Никиты Сергеевича — хуже некуда. Да и погода… дрянь погода: то оттепели такие, что все начинает течь, то опять ударят морозы, все заледенеет, машины скользят, идут юзом, даже танки — и те на обледенелых дорогах выписывают кренделя, точно пьяные. Как-то на глазах Никиты Сергеевича «тридцатьчетверка» вдруг скользнула в сторону, сбила и опрокинула санитарный автобус, полный раненых. Командир роты, который вел своих солдат в сторону передовой, выхватив пистолет, кинулся с матюками к люку механика-водителя, а из него высунулся чумазый мальчишка лет восемнадцати-девятнадцати, растерянный, и сам чуть не плачет, и делай с ним, что хочешь: хоть стреляй, хоть режь, а лучше он танк водить все равно не станет раньше, чем не набьет себе шишек, — если жив, конечно, останется, — потому что танков стали выпускать много, а механиков-водителей как следует готовить не успевают. И командир сунул пистолет в кобуру, махнул рукой и пошел командовать своими солдатами, пытающимися поднять автобус и помочь раненым.
То же самое и с командующими фронтами, армиями и прочими подразделениями: события обгоняют, торопят, не дают как следует освоить полученный опыт командиру, скажем, полка, а его уже ставят на дивизию, потому что и дивизии растут как грибы, и командиры выходят из строя. А если взять тех, кто командует армией или фронтом не первый год, та же самая картина: не успевают опомниться, как обстановка меняется, и настолько стремительно, что вчерашний опыт мало чем помогает. Так ведь кого и чужой опыт учит, а кому и свой не впрок. Вот и Еременко из тех же самых, и Тимошенко, и Голиков. И почему это Сталин назначает его, Хрущева, к таким командующим, которые ни то ни сё, а черт знает что, известно одному богу да самому товарищу Сталину. Ладно бы, если бы товарищ Хрущев занимал должность секретаря какого-нибудь обкома, а то ведь первый секретарь ЦК КП(б)У — величина, можно сказать, всесоюзного масштаба. А между тем многие секретари обкомов по фронтам не мотаются, в землянках не ютятся, углы солдатских окопов своими генеральскими шинелями не обтирают, занимаются привычными делами и ждут, когда освободят их области. Или Сталин решил во главе Украины поставить кого-то другого? Все может быть. Но в любом случае надо еще и еще раз доказывать, что все другие хуже, не годятся для такой ответственной должности, как первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Сергеевич Хрущев.
Пошел снег, и через минуту все, что двигалось и стояло, побелело, но от этого не стало на сердце у Никиты Сергеевича светлее. И хотя вспоминать прошлые неприятности — только еще больше рвать себе нервы, тем более что и нынешних неприятностей хватает, однако никуда от воспоминаний не денешься. Умному человеку всегда хочется понять, от собственных ли просчетов происходят твои неудачи или по чьей-то злой воле. Понять — это значит в аналогичных случаях заранее подстелить соломку, чтобы мягче было падать. Но иногда, хоть лоб расшиби, а понять совершенно невозможно, почему Сталин поступает так, а не иначе.
Уж как Никите Сергеевичу хотелось принять капитуляцию Паулюса в Сталинграде — на сотни лет это бы прославило его и оставило в памяти народной, ан нет, принимали совсем другие, которые к сражению за Сталинград никакого отношения не имели. Можно сказать, что генерал Рокоссовский пришел на готовенькое, получив из рук Сталина право завершить разгром и пленение Шестой армии Паулюса, в то время как командующий фронтом Еременко и сам товарищ Хрущев, хотя и продолжали руководить Сталинградским фронтом, да только этот фронт от Сталинграда вдруг оказался далеко в стороне. Ловко Сталин провернул комбинацию с переименованием фронтов, одним только этим задвинув Хрущева на задворки истории. Ну, Еременко — черт с ним! Его на правую сторону Волги, где сражались армии его фронта, и на буксире невозможно было затянуть, а Никита Сергеевич там бывал неоднократно. От таких командующих лучше быть подальше. И с Еременко они расстались. Не по воле Хрущева, разумеется, а по воле того же Сталина. Однако… хрен редьки не слаще — и Никита Сергеевич оказался на Воронежском фронте членом Военного совета при генерале Голикове. А кто такой Голиков? Этот бывший любимец Сталина, до сорок первого командовавший разведкой Красной армии, прошляпивший на этом посту начало войны, не сумевший как следует наладить работу ГРУ в военных условиях, был переведен командующим армией, затем фронтом, затем опять армией. И теперь, став командующим Воронежским фронтом, кинулся, как в прошлом году Тимошенко, очертя голову вперед, думая, что если побили фрицев под Сталинградом, так теперь кати до самого Берлина без оглядки. И Харьков освободили, и дальше заглядывали — аж до Днепра, а немец как всегда неожиданно врезал во фланг наступающим армиям — и всё покатилось назад, все жертвы оказались напрасными. Вот говорят: Жуков людей не жалеет. Так Жуков при этом добивается поставленных целей. А остальные? И людей точно так же не жалеют, а толку от этого почти никакого. Но его, Никиту Хрущева, Сталин к Жукову не ставит членом Военного совета фронта, а все к каким-то недоумкам.
Американский «джип», хотя у него обе оси ведущие, ползет по дороге, разбрызгивая мокрый снег. Перед глазами мотаются влево-вправо снегоочистители, мелькают снежинки, с натугой воет и скулит мотор. Машину трясет, клонит то в одну сторону, то в другую, Никита Сергеевич сидит, вцепившись обеими руками в стальные скобы, специально для этого предназначенные. От такой езды все внутренности вполне могут перепутаться, потом ни один хирург не разберет, где чего и как поставить на место. Хорошо еще погода не летная, едут уже два часа, и ни одного самолета — ни немецкого, ни нашего.
Действительно, серое небо точно опустилось к самой земле, легло на дальние холмы и увалы, и по всем дорогам идут и едут отступающие войска, еще несколько дней назад рвавшиеся вперед, уверенные в своей несокрушимости. Никита Сергеевич вглядывается в красноармейцев и командиров, облепленных мокрым снегом, шагающих по раскисшей дороге, и видит лишь равнодушные, усталые лица. И идут они тяжело, через силу, скомандуй им остановиться — упадут и уснут прямо на снегу. А ведь он, Хрущев, видел, что войска, наступавшие беспрерывно более трех месяцев, устали и, что называется, выдохлись. Самое разумное было бы велеть им остановиться, привести себя в порядок, да куда там: вперед и только вперед! И вот — результат. Тут и его вина есть безусловно, потому что вполне понимал, что значит эта усталость войск, к чему она может привести, однако был уверен, что русский солдат все выдюжит, все перетерпит, и подгонял этого солдата вместе со всеми. Так ведь не сам по себе подгонял, а больше потому, что его, Хрущева, подгоняли сверху — вот в чем петрушка.
Снег вдруг прекратился, и — словно подняли занавес, — вдали показались окраины Харькова, напоминающие не город, а заброшенное кладбище.
В сорок втором, на волне одержанной под Москвой победы, когда сдвинулись с места все фронты, когда казалось, что это уже окончательно и бесповоротно, вот так же Никита Сергеевич стремился к Харькову, только не навстречу отступающим, а как раз наоборот — следуя за наступающими частями Красной армии. Он уже видел себя перед собравшимися жителями города, в уме давно сложил приличествующую событию речь. Он поклянется харьковчанам и освободившим их войскам, что бывшая столица советской Украины освобождена навсегда, что с этих пор ни один вражеский солдат не ступит на его улицы, что с завтрашнего дня начнется восстановление и возрождение поруганной Украины. Эти самые слова он говорил в освобожденном Сталинграде, они будут вполне уместны и в освобожденном Харькове. Но кто ж знал тогда, что до Харькова он так и не доедет? Никто. Даже Сталин. А нынче Никита Сергеевич в Харьков приехал накануне его второго по счету оставления города на произвол врага, и ликующий голос Геббельса уже несется над миром, предвещая очередной крах большевиков, на этот раз в 1943 году. И слава, как говорится, богу, что не въехал товарищ Хрущев в Харьков, иначе бы говорил то же самое, что собирался сказать в сорок втором, а потом… Как потом смотреть людям в глаза? Впрочем, он уже давно привык смотреть им в глаза не моргая, независимо от данных и невыполненных обещаний. Жизнь такая, что зачастую и сам не знаешь, что будет с тобой через час или два, какие планы сбудутся, а какие нет.
Мимо проплывали почти до основания разрушенные окраины, из снега торчали печные трубы, остатки стен. Возле развалин стояли женщины в лохмотьях, к ним жались детишки, одетые не лучше, на испитых лицах та же усталость и равнодушие, что и на лицах красноармейцев. Собственно, Никите Сергеевичу в Харькове делать нечего, но его властно тянуло туда, в город своей молодости, в город, который сам сдавал врагу во второй раз, тянуло как преступника на место совершенного им преступления.
В штабе фронта, несколько дней назад перебравшегося в Белгород, куда Никита Сергеевич прилетел прямо из Москвы, его отговаривали ехать. Но Никита Сергеевич в штаб лишь заглянул, чтобы лишний раз не якшаться с Голиковым, которого недолюбливал и от него ничего хорошего для себя не ожидал, тем более что ходили слухи, будто Голикова вот-вот должны сместить и заменить кем-то другим. Правда, Сталин эти слухи не подтвердил, учинив Хрущеву очередной нагоняй за то, что второй раз наступает на те же самые грабли, будто Хрущев, а не Голиков командует фронтом, будто не Сталин подгонял войска фронта идти смелее вперед. Конечно, надо было хорошенько позаботиться о флангах, — не Сталину же о них заботиться! — но черт же его знал, что у немцев еще сохранились такие силы, которые позволили им не только остановить уставшие и поредевшие наступающие войска Красной армии, но и нанести им поражение. А теперь вот близко локоток, да не укусишь.
На центральной площади бывшей столицы Украины Никита Сергеевич выбрался из машины на онемевших от долгого сидения ногах, постоял, держась за дверцу, потоптался, разминаясь, огляделся: и вблизи город тоже казался мертвым, укрытым белым саваном. Вокруг площади высились голые прокопченные стены правительственных зданий, укоризненно глядящих на Никиту Сергеевича черными провалами окон. Чудом казались уцелевшие здания кое-каких заводов, — иные, говорят, даже работали при немцах, — но вряд ли все это уцелеет, когда отсюда выгонят фрица в очередной раз. Все повторялось, и кого угодно могло бы привести в отчаяние это роковое повторение, только не Хрущева. «Ничего, — рассуждал он сам с собой, забравшись на заднее сидение и велев возвращаться в Белгород. — Ничего, ничего. Еще посмотрим, кто будет сверху. Еще посмотрим…» И, утешив себя этими словами, надвинул генеральскую папаху на глаза, откинулся на спинку сидения, и во всю обратную дорогу не смотрел по сторонам, то проваливаясь в дрему, то выныривая из нее, когда особенно сильно встряхивало и мотало. Только на подъезде к Белгороду, когда машина встала и кто-то дурным голосом заорал: «Во-озду-ух!», Никита Сергеевич вывалился из оцепенения, а затем из машины, и, не оглядываясь и не рассуждая, упал в канаву, закрыв руками голову. Над ним раза два с характерным воем пролетели «мессеры», треща пулеметами и дудукуя пушками, пули и снаряды с голодным визгом шлепались в снег, и Никита Сергеевич, вздрагивая, всякий раз торопливо шептал одно и то же: «Господи, пронеси! Господи, помилуй!», веря и не веря в потустороннюю силу неведомого существа, черному лику которого когда-то, в далеком детстве, бил поклоны и творил молитвы, прося милости и помилования за совершенные мелкие грешки.
Глава 25
С самого начала Сталинградской битвы Жуков кочевал с одного фронта на другой, выполняя различные поручения Сталина. Ему не трудно было догадаться, что после ряда поражений Красной армии, Сталин все меньше доверяет командующим фронтами, уверенный, что они либо неправильно оценивают состояние своих войск и войск противника, либо стараются до последнего скрывать свои ошибки и промахи, надеясь выкрутиться, а уж потом доложить о своей победе. Но победы, как правило, не получается, а получается очередной драп, попадание впросак, а затем поиск оправдания и биение себя в грудь. Наблюдая все это раз от разу, Жуков не уставал поражаться этому удивительному постоянству в поведении некоторых командующих фронтами. Казалось бы, каждый день в Генштаб и Ставку лично ими отправляются донесения о ходе боев со всеми подробностями, из которых не так уж трудно извлечь истинное положение своих войск и войск противника, как и направление развития событий на данном участке фронта, — если, разумеется, эти подробности не плод фантазии командующего и его штаба. Нет, иные генералы так насобачились желаемое выдавать за действительное, что и сам черт не разберет, где правда, а где искусно сотворенная ложь. Сам Жуков еще со времен Халхин-Гола уяснил, что нет более порочного пути, чем врать себе и вышестоящему начальству: истина все равно всплывет, а веры тебе уже не будет. И полагал, что если он чего и достиг на последующих должностях, то именно неотступным стремлением говорить Сталину правду и только правду, хотя выводы из этой правды Сталин делал не всегда ей соответствующие. Но время шло, и оказывалось, что он, Жуков, чаще оказывался прав, а Сталин, слишком доверяющий командующим фронтами, членам Военных советов этих фронтов, которые в известном смысле были его, Сталина, глазами и ушами, принимал решения, на поверку оказывающиеся не самыми лучшими, а иногда и гибельными.
Вот и по прибытии в Ленинград он, Жуков, по докладам командующего Ленинградским фронтом генерала Хозина сразу же определил, что они, как и в прошлом году, собираются использовать для прорыва блокады лишь часть имеющихся у них сил, в то время как многие участки фронта, где идут бои местного значения, или вообще никаких боев не ведется, не нуждаются в тех силах и средствах, которые там сосредоточены из принципа «как бы чего не вышло». Он приказал всю артиллерию, какая имеется в распоряжении фронтов, сосредоточить на участке прорыва, обеспечив таким образом решающее превосходство над противником. И блокада была прорвана всего за шесть дней. А если бы еще и разведка была поставлена на соответствующий уровень, то хватило бы и четырех. Конечно, немцы ждали удара и подготовили оборону и резервы, но как бы и ни ждали, а сила силу ломит. Жаль, что не удалось их отогнать от Ленинграда подальше, но и те немногие отвоеванные километры вдоль ладожского берега позволили установить сухопутное сообщение многострадального города с Большой землей и, следовательно, избежать нового голода и нехватки средств для успешной обороны. Он, Жуков, сделал для Ленинграда все, что только можно было сделать в тех условиях и теми силами. Другой на его месте не сделал бы и половины — в этом новоиспеченный маршал был совершенно уверен. И вот Сталин наконец признал за ним явное превосходство над всеми другими маршалами и генералами. И если до этого он, Жуков, еще с ними церемонился, приезжая на тот или иной фронт в качестве представителя Ставки, то теперь особо церемонится не станет, потому что… не умеют воевать, так пусть учатся, пока еще есть у кого учиться, а будешь церемониться — и время потеряешь зря, и толку никакого. Не может наш народ без того, чтобы не обложить его трехэтажным матом и не сунуть под нос железный кулак. Только тогда он приходит в чувство и начинает делать то, что положено.
* * *
На Южном фронте, где наши войска под командованием генерала Еременко уперлись в так называемую «Голубую линию», сооруженную немцами на Таманском полуострове, властвовала весна, с дождями и мокрым снегом. Почва настолько пропиталась водой, что даже тридцатьчетверки садились на брюхо, взбивая гусеницами жирный чернозем и не двигаясь с места. Вязли не только танки и машины, вязла пехота, едва вытаскивая сапоги, даже подвязанные к поясному ремню веревками. Не могли взлетать самолеты, почти прекратился подвоз боеприпасов и продовольствия, лошади падали от бескормицы. Наступать в таких условиях означало зазря губить людей и технику. Синоптики же предсказывали, что погода улучшится лишь к середине апреля.
Однако Еременко не оставлял бесплодных попыток прорвать оборону немцев, и когда Жуков, изучив обстановку, спросил у него, на что он рассчитывает, тот лишь пожал плечами, пояснив, что он лишь выполняет приказ Ставки ВГК, где доподлинно известны условия, в которых наступают наши войска. И добавил, явно для подстраховки:
— У противника, Георгий Константинович, условия еще хуже: и та же грязь, и весенние шторма, затрудняющие снабжение по морю.
— Зато у них организация снабжения и оборонительных действий в несколько раз лучше, чем у… чем у нас, — проскрипел Жуков, однако вертевшиеся на языке слова «у тебя» все-таки удержал за зубами.
Было решено наступление остановить, наладить снабжение, пополнить части людьми и техникой, усилить воздействие авиации на немецкие тылы и пути снабжения.
Миновало несколько дней после приезда его на Южный фронт — и вот очередной звонок из Москвы.
— Как у вас дела? — услыхал Жуков голос Сталина.
— Накапливаем силы для прорыва немецкой обороны, товарищ Сталин. Для этого потребуется время. Да и погода дрянь, все раскисло, наступать в таких условиях без соответствующей подготовки…
Сталин недослушал, перебил:
— Пусть Еременко готовится сам. А вы срочно вылетайте к Ватутину. Надо остановить немцев, которые уже захватили Харьков и Белгород. Помогите Василевскому и командующим фронтами.
— Слушаюсь, товарищ Сталин, — произнес Жуков и внутренне усмехнулся: Василевского в помощь Жукову Сталин не присылал ни разу, а Жукова Василевскому — не единожды.
* * *
В штабе Воронежского фронта обычная суета, со всех сторон звучащие голоса штабных офицеров, вызывающих корпуса, дивизии и прочие воинские формирования. Командующий фронтом генерал-полковник Голиков гнулся над картой, маршала Жукова встретил пасмурным взглядом покрасневших от бессонницы глаз. Рядом пыхтел Хрущев, выражая тем самым свою готовность поддержать посланника Сталина.
Тиснув Голикову и Хрущеву руку, Жуков с усмешкой спросил:
— Ну что, допрыгались? Доскакались? «Скачо-ок!» «Скачо-ок!» Вот вам и скачок. Не говори гоп, пока не перескочишь. Так-то вот. — Спросил: — А где Василевский?
— С утра поехал в войска, — ответил Хрущев, опередив Голикова, и тот поморщился, как от зубной боли.
— Та-ак. Ну и что мы имеем в резерве, что знаем о противнике?
— О противнике знаем, что немецкая 4-я танковая армия, усиленная танковым корпусом СС, наступает в направлении Курска, — стал догладывать командующий фронтом, и Никита Сергеевич незаметно отступил в тень, как говорится, от греха подальше. — Мы задействовали нашу 1-ю гвардейскую танковую армию Катукова, которая совместно с 21-й армией старается остановить немцев севернее Белгорода. Бои ведутся с переменным успехом. Резервы на исходе.
— Что на левом фланге?
— Там разворачивается 64-я армия генерала Шумилова. Надеемся отбросить противника и вновь овладеть Белгородом.
— Если только надеетесь, значит ни черта Белгородом не овладеете. Дай, как говорится, бог, удержаться на занятых позициях.
Вошел маршал Василевский, получивший это звание и орден Суворова, когда наступление наших фронтов, действия которых координировал начальник Генштаба, еще продолжалось и ничто не предвещало его скорого краха. Но не отнимать же пожалованные звания и ордена за то, что проглядели, недодумали, сразу не сообразили, что к чему.
— Ну и что у нас в войсках? — спросил Жуков таким тоном, точно перед ним стоял какой-нибудь полковник.
— Дерутся, — коротко ответил Василевский. Затем пояснил: — Противник выдыхается. Я полагаю, надо переходить к жесткой обороне.
— Давно надо было переходить, — проскрипел Жуков, но дальше развивать эту тему не стал, зная, кто именно настаивал на продолжении наступления во что бы то ни стало. И, взяв Василевского за рукав, увлек из дома, в котором помещался штаб. — Пойдем прогуляемся, Александр Михайлович. — И добавил с усмешкой на тонких губах: — Не будем мешать командующему фронтом командовать фронтом.
Они вышли на крыльцо. Жуков посмотрел на небо. Произнес:
— Похоже, погода налаживается. А тут, посмотри, сколько машин. Любой немецкий летчик сразу же скажет: штаб. И жди «лаптежников». Уж бьют нас, бьют, а все без толку.
— Да, это так, — согласился Василевский. — Надо будет сказать…
— Я уже сказал. Видишь, суетятся? Ну да ладно. Я вот о чем… — И пошел гвоздить в своей обычной манере, глядя в глаза Василевского своими неуступчивыми глазами, будто именно и только Василевский виноват во всем, что случилось: — Надо зарываться в землю по самую маковку. Надо накапливать резервы. И не одну-две армии, а минимум десяток. Надо восполнить потери в авиации и танках. Создать еще три-четыре танковых и механизированных армии, десяток-полтора корпусов. Артиллерийские дивизии прорыва. Дивизии ПВО. Хватит выезжать на одном энтузиазме. Надо, наконец, готовить квалифицированные кадры танкистов, летчиков, артиллеристов. Чтобы не на один-два выстрела, один-два вылета, один-два боя. Лучше начать наступление позже, зато во всеоружии.
— Я понимаю, — поддержал Василевский, обиженно дрогнув губами. — Я сам за это. Но только в том случае, если такая роскошь не сыграет на руку противнику.
— Не сыграет, — отрезал Жуков. — По всему видно, что немцам тоже нужна длительная передышка. По крайней мере — до мая. И не только на этом участке фронта, но и везде, от Черного моря до Баренцева. Они ушли из Ржевско-Вяземского мешка, за который и мы и они заплатили сотнями тысяч жизней и горами техники. Почему ушли? Потому что им неоткуда брать резервы. Потом они, конечно, что-то наскребут, а пока неоткуда. Этим и надо воспользоваться.
— Ты же сам знаешь… — начал было Василевский, но Жуков бесцеремонно перебил его:
— Знаю. Вместе будем убеждать Верховного. Надеюсь, что убедим. А там посмотрим. А пока разведка, разведка и еще раз разведка. И… вот смотри, что у нас получается, — заговорил Жуков с вдохновением, двумя взмахами начертив пальцем в лайковой перчатке на снегу крутую дугу, и голос его потерял свою обычную скрипучесть, обретя напевную баритональность. — Вот смотри: здесь, внутри дуги — мы, вокруг — немцы. Представь себя на месте Гитлера и его генштабистов. С их точки зрения эта конфигурация линии фронта — идеальное место для того, чтобы подрезать сразу войска двух наших фронтов в направлении Курска. В результате получится идеальный котел. Они и хотели это сделать, атакуя по линии Белгород-Курск, да силенок хватило только на Белгород. Им нужен реванш за поражение под Сталинградом, и мысли их должны двигаться именно в этом направлении. Тут тебе и политика, и тактика со стратегией. Отсюда вывод: именно здесь этим летом все и решится, как только они накопят резервы. Следовательно, и нам надо стараться в том же направлении. Понимаешь?
— Да, ты, пожалуй, прав, — согласился Василевский после некоторого раздумья, поражаясь, как быстро Жуков схватил создавшееся положение, оценил его и сделал выводы. И уже более уверенно: — Конечно, ты прав! Они ведь даже из-под Ленинграда тянут сюда резервы. Венгров напрягают на усиление своих войск, румын и даже испанцев…
— Во-от! — удовлетворенно воскликнул Жуков, прислушавшись к далекому погромыхиванию артиллерии. — А это… — он кивнул головой в ту сторону, откуда доносились эти тревожащие звуки, — Это скоро закончится. Как только они поймут, что дальше им не пройти. Через неделю-другую линия фронта стабилизируется окончательно и начнется подготовка. С их стороны. А мы должны начать готовиться уже сейчас. Чтобы успеть. Чтобы встретить их глубоко эшелонированной обороной. Измотать, обескровить. И только после этого пойти вперед. И уж бить так бить. И гнать, гнать… До Днепра и дальше. Но никак не раньше… — И Жуков коротко хохотнул: — Вот, стихами заговорил.
— Целиком и полностью с тобою согласен, — произнес Василевский, заражаясь вдохновением Жукова. — Вот только командование Воронежским фронтом…
— Ты имеешь в виду Голикова?
— Да.
— Заменим, — решительно отрезал Жуков. — Комфронта из него явно не получается. Да и разведчик из него был так-сяк… Тут нужен человек основательный, тактически грамотный и решительный. Но этот вопрос второстепенный. Главное — решить в принципе.
— Согласен.
— На этом и будем стоять перед Верховным. Думаю, он поддержит. К тому же надо учитывать и тот факт, что за минувшие месяцы он кое-чему научился, — добавил Жуков и вприщур глянул на Василевского.
— Да-да, конечно, — поспешил тот, понимая, что им и дальше надо держаться вместе, что Жуков опережает его в предвидении, в оценке быстро меняющегося соотношения сил на том или ином участке фронта, в принятии неожиданных решений. А в таком случае не до собственных амбиций. Более того, амбиции именно на этом пути — рядом и даже за спиной Жукова — могут удовлетвориться наиболее полно.
Глава 26
Сталин, после долгого раздумья, когда в кремлевском кабинете слышны лишь его шаркающие шаги, остановился, повернулся к Жукову и Василевскому и, поведя трубкой по карте, заговорил своим глуховатым, а на этот раз, как показалось Жукову, еще и сварливым голосом:
— Вот вы уверяете, что немцы непременно должны наступать на так называемом Курском выступе… Июнь заканчивается, а наступления все нет и нет. А не может так случиться, что они этим летом сосредоточат свои усилия на Западе и вообще откажутся от решительных действий на советско-германском фронте?
Жуков ожидал подобного вопроса. Он и сам не раз задавал его себе, недоумевая, почему немцы, сосредоточив против армий Воронежского, Центрального и Брянского фронтов такие огромные силы, не используют эти силы по назначению. Агентурная разведка уже дважды докладывала о возможности наступления то в конце мая, то в начале июня. По последним данным наступление перенесено на конец июня. Но почему? Ни пленные, даже весьма осведомленные, ни партизаны, ни агентурная разведка ответа на этот вопрос не дают. Повторяется ситуация сорок первого года. С той лишь разницей, что все знают о неизбежности немецкого наступления, все к нему готовы и продолжают готовиться, неожиданности не будет в любом случае, а наступления, действительно, нет и нет. Что это — очередная уловка? Но с какой целью?
Глянув вопросительно на Василевского, с которым он обсуждал этот вопрос, и, уловив его отсутствующий взгляд, Жуков заговорил в своей обычной манере, четко разделяя слова:
— Мы думаем, товарищ Сталин, что немецкое наступление неизбежно. Они слишком долго к нему готовились, стянули к Курскому выступу огромные силы, они не могут не наступать. Вопрос заключается в том, когда наступление начнется. Мы думаем… Я полагаю, — поправился он, — что теперь скоро. Потому что держать в напряжении такие силы — себе же во вред. Правда, они заставляют и нас понервничать, но я уверен, что мы выиграем эту войну нервов.
Сталин провел концом трубки по усам, заговорил, несколько смягчив тон:
— У меня были командующий Воронежским фронтом Ватутин и член Военного совета фронта Хрущев. Они считают, что мы должны наступать первыми. Ватутин предлагает план по рассечению немецких группировок на части, окружения их и уничтожения… — И, как бы оправдывая Ватутина, уточнил: — Ватутин неплохо проявил себя в качестве командующего Юго-Западным фронтом. Ему удалось отразить попытки группы армий «Дон» деблокировать окруженную армию Паулюса. Но иногда он слишком увлекается. А это для командующего фронтом большая роскошь.
— Все это так, товарищ Сталин, — ничуть не смутился Жуков. — Дело не только в Ватутине. Дело в том, что нашим «тридцатьчетверкам» придется столкнуться с новыми немецкими танками «Тигр» и «Пантера», с новыми самоходными орудиями, которые, надо признать, и по вооружению, и по броне, и по качеству оптических прицелов значительно превосходят нашу «тридцатьчетверку». Она способна поразить «Тигр» с расстояния не более пятисот метров, а он ее — с двух километров. Но и это не самое главное. Самое главное заключается в том, что наши общевойсковые командиры, как это показали события весны этого года, еще не вполне готовы к проведению наступательных операций большого масштаба. Хотя операция «Уран» закончилась разгромом Шестой армии Паулюса, однако тоже выявила существенные недостатки в организации и проведении операций такого масштаба. Командующие не только фронтами, но также армиями, корпусами и даже дивизиями часто теряют управление войсками, не умеют анализировать сложившуюся обстановку, не поспевают за быстро меняющимися обстоятельствами, плохо организуют взаимодействие между родами войск на поле боя, бросают войска в наступление без знания противника, атакуют чаще всего навалом. Мы зря погубим наши танки во фронтальных атаках, не достигнув желаемого результата. И тем самым отдадим инициативу противнику.
Сталин ничего на это не ответил, молча прошел по кабинету до двери и обратно. Остановился и, разглядывая карту с обозначением противостоящих сил, проворчал:
— Насколько мне известно, у немцев новых танков не так уж много. А наши «тридцатьчетверки» все еще остаются грозным оружием в умелых руках. В сорок первом немецкие танки Т-3 и Т-4 по всем параметрам уступали «тридцатьчетверкам». На Юго-Западном фронте их, вместе с КВ, было не менее тысячи. И что? Где эта тысяча танков? Что они дали нашему фронтовому командованию? Почти ничего. Немцы их даже не заметили. А замечать стали лишь с октября сорок первого, когда наши танкисты кое-чему научились… Волков бояться — в лес не ходить. К концу этого года у нашей армии появятся и новые танки. А самоходки, которым никакой «тигр» не страшен, уже появились. Что касается наших командиров, то лучших взять неоткуда. Что же, по-вашему, и не наступать? Пусть доучиваются в бою, — заключил Сталин.
И Жуков тотчас же воспользовался паузой:
— Я полностью согласен с вами, товарищ Сталин, что почти любая техника в умелых руках способна творить чудеса. Всем известен пример, когда один оставшийся в живых артиллерист из своей сорокопятки сумел уничтожить полтора десятка танков и бронетранспортеров противника. Известны случаи, когда отдельные бойцы с помощью бутылок с зажигательной смесью поджигали по нескольку вражеских машин. Но случаи эти единичны. К сожалению. Речь идет о другом. Да, новых танков у немцев, действительно, немного, — продолжал скрипеть Жуков. — Но они модернизировали свои старые танки, усилили их броню, поставили длинноствольные пушки с высокой начальной скоростью снаряда. Мы, к сожалению, опоздали с модернизацией наших «тридцатьчетверок» и нашей противотанковой артиллерии. А наши заводы продолжают выпускать танки устаревших конструкций. Исходя из всего сказанного, напрашивается вывод: мы должны наступать, но лишь после того, как возникнут для этого благоприятные предпосылки. То есть после того, как в оборонительных сражениях нанесем существенный урон не только новейшим танкам противника, но и всей немецкой группировке войск как на северном фасе Курской дуги, так и на южном. Главная наша надежда в этих условиях на артиллерию и авиацию…
— Что же вы предлагаете — сбросить со счетов наши танки? — возмутился Сталин. — Наши танковые начальники так не считают. Наши тридцатьчетверки еще не исчерпали свои ресурсы. Они более маневренны, чем немецкие танки. И броня у них не такая уж слабая. Вы говорите, что проблема не в танках, а в танкистах? Но танковые начальники уверяют, что учат их современному бою. Времени для этого у них имелось более чем достаточно.
— Но в предстоящих сражениях все будет сводиться к тому, как высшее командование используют танки непосредственно в боях, — начал было Жуков, не зная, как убедить Сталина, что предыдущие сражения — это одно, а предстоящие — совсем другое, но Сталин перебил его:
— Вы повторяетесь! Не считайте нас глупее себя! Речь идет о другом: что если противник так и не начнет наступления?
— Если немцы не начнут до середины июля, мы, в соответствии с нашими планами, начнем сами. Но тогда за успех придется заплатить более дорогую цену, — гнул свою линию Жуков, все еще не уверенный, что убедил Сталина в невыгодности нашего наступления, в необходимости дождаться, чтобы противник ударил первым. — И может получиться так, — продолжил он в том же духе, — что нам не хватит сил для решения стратегических задач по освобождению Донбасса и Левобережной Украины…
— Вы повторяетесь! — с нескрываемым раздражением снова оборвал маршала Сталин, и глаза его недобро вспыхнули желтым светом. Потоптавшись возле стола, он прошелся взад-вперед, еще больше сутулясь. Затем, задержавшись возле неподвижно стоящих перед ним маршалов, раздумчиво заключил: — Что ж, подождем. Чего-чего, а ждать мы умеем.
Конец тридцать шестой части
Часть 37
Глава 1
Отдельный танковый батальон майора Вологжина еще в начале мая был придан пехотной дивизии, которая занимала оборону примерно в десяти километрах от фронта.
Командир дивизии полковник Каплунов, низкорослый, плотный, наголо обритый, с щегольской щеточкой усов над полными губами, как только Вологжин представился и доложил о прибытии батальона, нетерпеливо передернул тугими плечами, ткнул пальцем в карту, разложенную на столе и приказал, глядя снизу вверх на рослого Вологжина маленькими черными угольками глаз:
— Танки повзводно рассредоточить по пехотным батальонам. Вашим коробочкам отводится роль огневых точек. Распорядитесь, майор, чтобы ваши люди каждую ночь на отведенных им участках зарывали и маскировали по одному взводу танков. Зарываться в землю так, чтобы ни снизу, ни сверху вас не было видно. И чтобы днем ни-ка-ко-го-дви-же-ния! — произнес комдив по слогам и при этом погрозил пальцем. — Вам все ясно?
— Так точно, товарищ полковник! — вытянулся Вологжин, прижав руки к бедрам.
— Вопросы есть?
— Никак нет.
— Тогда идите и выполняйте. Через неделю проверю.
— Есть! — откликнулся Вологжин, повернулся кругом и вышел из командирской землянки.
Собственно говоря, ему ничего не было ясно, кроме одного: зарыться в землю. А зачем зарываться в десяти километрах от фронта — это забота начальства. Может, просто учения такие — мало ли их было! — может, ожидается крупное наступление немцев, о чем уже судачит «солдатское радио»; может, ничего не ожидается, а так, на всякий случай. Да и танки в его батальоне в основном старой конструкции, а новых тридцатьчетверок всего один взвод, и пока стояли в тылу, Вологжин тренировал на них все экипажи в надежде, что придут еще такие же машины. Но те так и не пришли.
Впрочем, воевать можно и на старых… если с умом. Тем более что у его «бэтэшек» пушки калибра семидесяти шести миллиметров. Правда, с короткими стволами, следовательно, с низкой начальной скоростью снаряда. Однако гусеницу порвать могут вполне, хоть у того же «тигра», а потом пару снарядов в моторную часть и — «Гитлер капут!». У немцев старья тоже сколько угодно, и они при атаке держат это старье во второй линии, а впереди идут «тигры», которых даже новые «тридцатьчетверки» не берут в лоб из своих длинноствольных орудий. Разве что подкалиберным. Короче говоря, что есть, тем и надо воевать. Но как он будет командовать своим батальоном, если его танки придется раскидывать друг от друга иногда на расстояние в километр и более? Не получится ли так, что он вообще останется не у дел? Однако задавать подобный вопрос командиру дивизии не имело смысла.
И Вологжин занялся устройством своего батальона в соответствии с планом, который ему был предоставлен в штабе дивизии.
Майские ночи не больно-то длинны, и чем дальше, тем короче, но Вологжин приказал натягивать маскировочные сети, рыть капониры для танков под их прикрытием даже в светлое время суток. На оборудование взводных позиций он собирал танкистов почти со всего батальона, посылал землекопами писарей и ремонтников, то есть всех более-менее свободных людей, и за ночь они успевали-таки зарыть несколько танков в землю по самые башни, сверху накрыть навесами из бревен, на бревна уложить свежий дерн и посадить кусты, чтобы ни щелочки видно не было, ни свежей земли. И когда весь батальон был зарыт, Вологжин приказал произвести пристрелку по ориентирам — и тоже так, чтобы не попасть в фотокамеру «костылей», которые кружили в небе, надоедливо зудя, что твой слепень или овод.
Оборона строилась «гнездами» по фронту и в глубину: два-три танка, батарея противотанковых орудий, несколько минометов, пара дотов с круговым обстрелом, окопы для пехоты в две-три линии, многочисленные ходы сообщения — и все это с навесами, с тщательной маскировкой. А днем все замирало, и не дай бог кому-то взбредет в голову вылезти из укрытия — выговоров от начальства не оберешься. Похоже, действительно готовились к чему-то очень серьезному. Это было заметно еще и потому, что наезжало генералов иногда по пяти штук и более, и все в солдатских плащ-накидках с капюшонами и в пилотках, хотя гуся, как ни маскируй, видно издалека.
Побывали проверяющие и на позициях, занимаемых одним из взводов танкового батальона майора Вологжина. Кто такие, не представились, но, видать, шишки большие, если командир дивизии, низкорослый и широкий, тянулся перед ними стрункою, как иной комвзвода не тянется перед тем же командиром дивизии.
Один из поверяющих, высокий и мордастый, в пятнистом солдатском плаще с капюшоном, чтобы не были видны его регалии, и к Вологжину обратился со своими въедливыми вопросами:
— Как вы, командир танкового батальона, собираетесь командовать своим батальоном?
— Никак, товарищ генерал! — отчеканил Вологжин. — Я подчиняюсь командиру дивизии, в боевой обстановке — командиру полка, командиры танковых рот и взводов — комбатам и командирам стрелковых рот, на позициях которых стоят их танки. И так все экипажи батальона. В резерве у меня взвод из четырех танков, — это на тот случай, если противник прорвет наши позиции в каком-нибудь месте. У нас приказ, товарищ генерал: драться до последнего снаряда там, где стоим! — закончил Вологжин, глядя в спокойные серые глаза генерала своими тоже серыми, но дерзкими глазами.
— А если поступит приказ собрать батальон вместе и контратаковать прорвавшегося противника?
— Такой вариант, насколько мне известно, не предусмотрен, товарищ генерал. Но на крайний случай — посредством радиосвязи. — И пояснил, видя вопрошающий взгляд генерала: — Почти на всех танках есть рации: недавно поставили. Остается лишь назначить пункты сбора в зависимости от обстановки. Но бой, к которому мы готовимся, вряд ли позволит это сделать.
— Что ж, задачу свою знаете, — скупо похвалил генерал. И, кивнув на ордена Вологжина, спросил: — Где успели повоевать?
— Начинал на Юго-Западном фронте. В Восьмом мехкорпусе. Потом на Западном. Сюда, на Воронежский, попал после госпиталя.
— Что ж, желаю успеха, майор, — произнес генерал и пожал Вологжину руку.
— Кто такой? — спросил Вологжин, прихватив рукав командира дивизионной разведки, когда генералы один за другим потянулись с наблюдательного пункта командира пехотного полка.
— Начгенштаба маршал Василевский, — ответил разведчик шепотом и пошевелил нетерпеливо плечами. — А ты: генерал-генерал! Думать надо.
— А второй? — не отпустил рукава Вологжин, которого ничуть не смутило, что он маршала разжаловал в генералы.
— Комфронта Ватутин. Генерал-полковник, — добавил разведчик учительским тоном и поспешил за поверяющими.
После этого Вологжин окончательно уверовал, что войска готовятся к большим боям.
Миновал май, подходил к концу июнь, а на фронте никаких перемен. Правда, и в мае, и в июне раза по два объявляли боевую готовность номер раз, но то ли разведка выдумывала близкое немецкое наступление, то ли немцы передумывали наступать, а только все заканчивалось тем, что постреляют немецкие пушки, налетит их авиация, побомбит, но трудно понять, по видимым целям стреляют и бомбят, или наобум Лазаря. Потом пролетят наши самолеты в сторону фронта, будто их разбудили немецкие бомбежки, там, слышно, погромыхает — вот и вся война. Даже тошно становится от такой войны. Ладно бы на чужой территории сидели, а то на своей, и столько еще земли под немцем, столько людей. И чего ждать, спрашивается? Не хотят немцы наступать, значит, дрейфят после Сталинграда, значит, надо наступать самим. Но и на других фронтах, если верить радио и газетам, тоже идут бои местного значения, как и здесь, на Воронежском… Однако командованию сверху, как говорится, виднее, что и когда делать, и майору Вологжину остается только ждать приказа да маяться.
Впрочем, Вологжин ни себе, ни своим танкистам расслабляться не давал: профилактика матчасти, тренировки на слаженность экипажей, взаимозаменяемость в бою на случай ранения или гибели товарища. На четырех танках, что остались в резерве и которые с разрешения начальства он отвел подальше в тыл, по ночам — благо луна светила во всю — заставлял гонять по пересеченной местности, вести огонь по движущимся мишеням, преодолевать препятствия и делать много чего еще, что должно пригодиться в бою. И ни он один: и пехоту муштровали, и артиллеристов, и всех прочих, чтобы не обленились и не раскисали от безделья.
Глава 2
В эти дни ожидания предстоящих боев всех с особенной силой тянуло писать письма. Для этого рядовому составу раз в неделю замполиты раздавали по три линованных листка бумаги, вырванные из блокнотов, химические и простые карандаши. Карандаш делили пополам или даже на три части в зависимости от того, какие имелись у кого запасы. Командирам взводов и выше выдавали блокноты: им писать отчеты. Ну и… политинформации, беседы, партийные и комсомольские собрания, и прочее, и прочее — для поднятия духа.
Однажды в дивизию приехали артисты, пели под баян, хохмили по адресу Гитлера. На их концерты, проходившие в заросшей кустами ложбине, отбирали от каждого батальона людей, чтобы не слишком много и не бросалось в глаза. Приехали как-то газетчики и фотографы, Вологжина тоже сняли стоящим возле танка, но не нового, а старого, все остальное время — тягучее ожидание, которому не видно конца.
Из дому майору Вологжину писали часто. В основном отец. Иногда приходили письма от среднего брата, воевавшего в Заполярье, от самого младшего — из госпиталя, от сестер. Не было писем лишь от одного из братьев, призванного в августе сорок первого. Ну и, конечно, приходили письма от жены, которую Вологжин отправил к отцу в Череповец за полмесяца до начала войны. Он тогда получил новое назначение, должен был ехать в Киевский особый военный округ, устраиваться на новом месте, а уж потом, когда устроится, вызывать семью. Но… и устроиться не успел, и семью не вызвал — и слава, как говорится, богу, потому что после 22 июня не только о семье, но и о себе не всегда помнил. Так жена и осталась вместе с детьми в Череповце.
Четвертого июля пришла почта, и Вологжину вручили письма от отца и от сестры с лиловыми оттисками «Проверено военной цензурой».
Вологжин развернул треугольничек из одного тетрадного листика в косую линейку, исписанный на одной стороне мелким и аккуратным отцовым почерком. Отец писал, что все живы-здоровы, кланяются, внуки растут, внук — шалун, а внучка — полная ему противоположность: тихая и ласковая; от Сергея пока никаких известий: не ранен, не убит, не пропал без вести — ровным счетом ничего. Может, воюет где-нибудь, откуда не напишешь. Невестка работает на судостроительном заводе в ОТК, устает, так что не вини ее за редкие письма: я пишу всем и за всех.
И сестра Варвара о том же, хотя живет отдельно от родителей: они в Зашекснинском районе, она — в Заягорбском, поскольку город делится на три части реками Шексна и Ягорба. А главная Варварина новость — у отца открылось кровохаркание, от работы электросварщиком его отстранили, хотели вообще отправить на пенсию, но он запротестовал — и ему поручили учет заготовок для строящихся и ремонтируемых судов и прочей мелочи, из-за чего он ужасно переживает.
Прочитав письма, Вологжин вздохнул: и отца жалко, и на сердце холодок оттого, что защищает он невестку, как бы успокаивает его, своего сына, что все, мол, нормально и не о чем беспокоиться. Может, и нормально, но все равно обидно: жена все-таки, могла бы писать и почаще. Тем более что больших писем не требуется, а несколько слов — вполне хватает, и времени на них много не требуется.
В день, когда пришла почта, всякие занятия и отлучки из расположения частей были запрещены строго-настрого. Даже переговоры по телефону, не говоря о радио, и те запретили без крайней нужды. И все заметили, что немецкие самолеты-разведчики, не покидавшие небо не только днем, но и ночью, часто сбрасывая осветительные бомбы то в одном месте, то в другом, вдруг исчезли, точно все высмотрели, что надо, а больше высматривать нечего. Правда, с утра на передовой слышна была стрельба, потом над нашими тылами прошли несколько девяток «юнкерсов», побомбили, но не с пике, а с пролета, а поскольку наши нигде на их бомбежки не отвечали, то к середине дня на всей линии фронта установилась такая глухая тишина, будто всё повымерло. Значит, решил Вологжин, Оно близко и начнется со дня на день. Или даже с часу на час.
* * *
Вечером собрали всех командиров от комбата и выше в штабе дивизии, и сам комдив Каплунов, откашлявшись, заговорил звенящим голосом:
— Я думаю, что многие из вас давно догадались, что поставили нас на эти рубежи не зря. А сегодня могу сказать открыто: в ближайшие день-два ожидается большое наступление немцев, к которому они готовились еще с апреля-мая этого года. Сведения эти окончательные, проверенные и перепроверенные. Но и мы, как вы заметили, тоже не сидели сложа руки. По данным нашей разведки немцы намерены ударами с севера и юга танковыми и механизированными соединениями, подрезать так называемый Курский выступ и окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Они надеются разгромить наши войска и снова пойти на Москву. Наше командование решило встретить наступление противника глубоко эшелонированной обороной, обескровить танковые дивизии противника, а затем… Ну, что будет затем, этого я не знаю, до этого еще дожить надо. Зато нам известно, что против нашего, Воронежского то есть, фронта будет действовать Четвертая немецкая танковая армия и Оперативная группа под названием «Кэмпф», а также части Восьмой полевой армии, входящие в Группу армий «Юг». Наша с вами задача состоит в том, чтобы встретить врага подобающим образом… — Комдив пошевелил карандаш, лежащий на карте, подозрительно оглядел собравшихся в его блиндаже командиров, зябко передернул плечами и вдруг, побагровев, произнес высоким голосом, точно они, сидящие перед ним командиры, не поверили тому, о чем он им только что говорил: — Стоять насмерть! Продолжать драться даже в окружении! Да! Отход на новые позиции исключительно по приказу командования! Отход или тем более драп с занимаемых позиций — расстрел на месте! Приказ Верховного командования за номером двести двадцать семь никто не отменял… — Помолчал, насупившись, успокоился и снова своим обычным голосом: — Эту установку довести до каждого офицера, до каждого красноармейца. Это все, что я имел вам сказать… Вопросы будут?
Вопросов не было. Да и о чем спрашивать? Не о чем. Все и так ясно и, как теперь казалось каждому из них, ясно было еще месяц и более тому назад.
Глава 3
Майор Вологжин вышел из штабной землянки командира дивизии, устроенной в скате глубокого оврага вместе со своим начальником штаба капитаном Тетеркиным.
На выходе из хода сообщения их ожидали четверо автоматчиков из роты прикрытия: ночью командирам строго-настрого было запрещено передвигаться по территории без охраны. Два автоматчика пошли впереди, за ними Вологжин с Тетеркиным, двое сзади, держа на северо-запад по знакомой тропинке среди созревающих хлебов.
Глубокая ночь укрывала землю. Ярко светили звезды, сиял голубоватым светом Млечный путь, висела между звездами, пригорюнившись, кособокая Луна, в хлебах перекликались перепела, коростели, звенели на одной ноте кузнечики и сверчки. Иногда где-то совсем рядом возникал разговор и обрывался, казалось, на полуслове, сверху текло вниз привычное гудение ночных бомбардировщиков, летящих на большой высоте, нацеленных на дальние тылы, как предупреждение о постоянной опасности; легкий порыв ветра пролетал над нивой — и колосья шуршали своим особым шорохом, от которого на сердце становилось тоскливо.
Время от времени их вполголоса окликали часовые и разбросанные между позициями секреты: немецкая разведка шастала по нашим тылам, пытаясь раскрыть оборону, хватала зазевавшихся командиров и красноармейцев, которых потом находили в бурьяне со следами пыток. По ночам там и сям частенько возникали короткие перестрелки, изредка взлетали осветительные ракеты, заливая окрестности желтоватым мертвенным сиянием: то ли сидящим в секретах что-то померещилось, то ли и в самом деле на них наткнулась немецкая разведка, то ли кого-то из своих по дурости или по пьяному делу занесло не туда. Все привыкли к этим ночным перестрелкам и уже не обращали на них внимания, как на неизбежные и вполне объяснимые мелочи прифронтовой жизни. В эти мелочи входили и желание противника выведать секреты нашей обороны, и время от времени возникающие ЧП: когда в одном месте скапливается такое количество людей, да тянется это сидение неделями и месяцами, из кого-нибудь непременно начинает вдруг переть дурь, точно молоко из чугунка, забытого на большом огне. Об этих ЧП сообщалось в сводках большому начальству, большое начальство делало оргвыводы, доводило их до начальства поменьше, а то и до самого низа, внушая подчиненным, что разгильдяйство до добра не доводит.
Сегодня тихо, так тихо, что хотелось проверить, не оглох ли ты под грузом навалившегося ожидания. Даже затихающий вдали гул самолетов не нарушал этой тишины.
— Хлеба’ жалко, — произнес капитан Тетеркин, разминая в руке почти созревший колос. И вздохнул. — Сеяли-сеяли — и все коту под хвост.
— Да, — подтвердил Вологжин, думая о своем. Затем, будто очнувшись, возразил: — Зато они хорошо маскируют позиции.
Вверху вдруг вспыхнул мертвенный свет, и все тут же метнулись в сторону от тропы и упали среди колосьев.
Вологжин перевернулся на спину. Над ними, погасив звезды и задумчивую Луну, повисшую над лесопосадкой, горела голубоватым светом, медленно опускаясь, немецкая «люстра». Она еще не погасла, как раздался нарастающий свист — и шагах, может быть, в ста, не больше, разорвалась небольшая бомба. За ней еще одна и еще. Просвистели и прожужжали осколки, посыпалась сверху поднятая взрывами труха. Люстра, не долетев до земли, угасла, и снова наступила темнота короткой летней ночи, зажглись на небе звезды, засияли Млечный путь и Луна.
Подождали немного: не бросит ли еще? — встали, отряхнулись, пошли дальше.
— Меня чего особенно злит, — снова заговорил капитан Тетеркин, — что копали мы тут, копали, готовились-готовились, а немец до нас не доберется. Силища-то какая впереди нас стоит — просто страсть. Мне еще столько противотанковой артиллерии у нас видеть не доводилось. Нам бы столько в июне сорок первого…
— Что об этом говорить! Пустой разговор, — оборвал своего начштаба Вологжин, не любивший отвлеченных разговоров. И, помедлив, заговорил досадливо: — Дойдут — не дойдут… Даже лучше, если не дойдут. Еще навоюемся: впереди еще вон сколько! Что касается было-не было, так я так тебе скажу: не было — теперь есть. Дальше будет еще больше. Не умели воевать так, как надо, теперь кое-чему научились. Дальше будем воевать еще лучше.
— Да нет, я это к тому, — пошел на попятную Тетеркин, — что впереди нас все гражданское население выселили и хлеб сеять запретили. А у нас — нет. Значит, наверху решили, что немец до нас не дойдет. — И добавил для солидности: — Главное, чтобы на этот раз Оно началось, а то ждешь-ждешь…
— Главное — связь, — не согласился Вологжин.
Они пришли на КП второй танковой роты, где их встретил старший лейтенант Синеблузов. Его танки были разбросаны по точкам, а точки — по фронту и в глубину, сам командир роты находился при КП пехотного полка, примерно посредине со своим танком, зарытым в землю на опушке небольшой дубравы.
— Вот что, старший лейтенант, — начал Вологжин, когда комроты доложил ему, что в роте все в порядке, никаких происшествий не случилось, все на месте, живы и здоровы, связь работает нормально.
— Да, так вот что надо будет сделать, — повторил Вологжин. — Собери взводных и политруков, доведи до их сведения, что не сегодня, так завтра-послезавтра немцы начнут наступление. Чтобы бдительность и дисциплина были на высоте. Пусть доведут до сведения каждого, что от предстоящих боев зависит судьба… Короче говоря, чтобы не рассчитывали, что нам придется отсиживаться за спинами товарищей, которые там, на передовой, первыми встретят удар немецких танков. И еще раз: стоять на смерть, с позиций без приказа не уходить, в случае израсходования боеприпасов или выхода из строя матчасти, продолжать бой совместно с пехотой.
— Да мы именно так и ориентировали танкистов, товарищ майор… — начал было старший лейтенант Синеблузов, но Вологжин перебил его:
— Ориентировать — одно, а убедить и потребовать — совсем другое.
— У меня в роте все экипажи партийно-комсомольские, товарищ майор, — обиделся Синеблузов. — Поэтому в их убежденности стоять насмерть я уверен на все сто.
— А главное — бить их спокойно, расчетливо и, что называется, насмерть, — добавил Вологжин для верности, привыкший, чтобы за ним в разговоре с подчиненным оставалось последнее слово.
Попрощавшись с ротным и начальником штаба, сопровождаемый двумя автоматчиками, он продолжил путь к своей «точке», расположенной на командном пункте полка в глубине обороны.
Что ж, и еще один день прошел спокойно. И половина ночи тоже. Может, последний день и последняя ночь.
Глава 4
Четвертого июля, ранним утром, со стороны передовых позиций послышался грохот орудий. «Началось?» — спросил сам у себя Вологжин, прислушиваясь к этому грохоту. И весь день, то затихая, то усиливаясь, грохот этот притягивал всеобщее внимание. Но к вечеру все стихло.
Снова, уже под вечер, комдив собрал командиров полков и отдельных подразделений. Вид у него был озабоченный: то ли от начальства получил втык, то ли еще что.
— Как стало известно, — начал он, — сегодня с утра немцы провели разведку боем. Кое-где им удалось вклиниться в наши позиции. И довольно глубоко. Были отмечены отдельные случаи паники и бегства с позиций. В основном необстрелянной молодежи из тех подразделений, где преобладает пополнение из Средней Азии. Прошу командиров обратить на этот факт особое внимание. Необходимо так распределить бойцов по окопам, чтобы опытные бойцы и… вообще, я бы сказал, славянского роду-племени, были распределены равномерно и показывали пример стойкости при атаках противника. И никаких контратак и всякого геройства. Поражать противника огнем и только огнем.
Затем выступил начальник политотдела дивизии подполковник Симанов. Он был еще более краток:
— Всем политрукам провести политбеседы и соответствующие разъяснения среди личного состава. При этом тщательно выбирать выражения, не унижать человеческого достоинства красноармейцев и командиров — товарищей по оружию, не смотря на их национальность. Упор делать на необстрелянность и тот факт, что паника и бегство с позиций чреваты еще худшими последствиями для паникеров и трусов.
У Вологжина в экипажах лиц из Средней Азии не было и на этот счет он мог быть спокоен. Но, поскольку воевать танкистам придется во взаимодействии с пехотой, то, в случае чего, как сказал подполковник Симанов, соответствующую ориентировку получить должны. Впрочем, пока фрицы доберутся — если доберутся вообще, — до их позиций, многое может измениться, в том смысле, что обороняться не придется.
И когда он возвращался на КП с комполка подполковником Лысогоровым, стояла такая тишина, будто и война кончилась на попытке немцев разведать нашу оборону.
— И много у тебя азиатов? — спросил Вологжин, когда они пили чай перед тем как отойти ко сну.
— Процентов тридцать, — ответил Лысогоров. — Да и что с них возьмешь? По-русски большинство ни бельмеса, почти все неграмотные или малограмотные, танки увидели лишь на фронте, боятся буквально всего и всех — и наших и немцев. Просто беда с ними, да и только. Но не отправлять же их в обоз! Ничего, черт не выдаст, свинья не съест.
Пятого июля утром Вологжина разбудила артиллерийская канонада. Он поднял голову с лежанки, прислушался, затем сел, не спеша намотал портянки на ноги, обулся, подпоясался ремнем и, выбравшись наверх, в ход сообщения, где топтался часовой, задрал голову.
Среди еще не потухших звезд в сторону немецких позиций неслись огненные стрелы, выпускаемые «катюшами»; по всему горизонту севернее позиций, занимаемых дивизией полковника Каплунова, вспыхивали зарницы; по скрежещущему, булькающему звуку Вологжин определил, что бьет тяжелая артиллерия, бьет откуда-то издалека.
«Так что, — спросил у себя Вологжин, потирая ладонями помятое после сна лицо, — выходит, что мы наступаем, а не немцы? Не похоже. Контрартподготовка? Скорее всего, что так. Как не болела, а померла, — вспомнил он мрачную поговорку своего отца. И заключил с облегчением: — Началось».
Часы показывали половину третьего ночи.
Наши отстрелялись и затихли. Все, кого оторвала от сна неожиданная стрельба, и Вологжин вместе со всеми, вслушивались в эту тишину, пытаясь понять, что она означает. Молчали телефоны и рация, лишь высоко среди мерцающих звезд удовлетворенно гудели наши самолеты, возвращающиеся с бомбежки.
— Похоже, началось, — произнес, ни к кому не обращаясь, подполковник Лысогоров. И добавил: — Похоже, на этот раз не ошиблись.
Светало. На востоке, где пролегала линия фронта, в сизой дымке разгоралась малиновая заря, и стало возможным разглядеть поднимающиеся в небо черные дымы, в то время как за спиной, на западе, еще властвовала тьма, сонно помаргивали редкие звезды. Но вскоре и там посветлело.
Грохот далекой артподготовки докатился до слуха Вологжина в шестом часу утра: долбила немецкая артиллерия, долбила настойчиво, все усиливая и усиливая интенсивность стрельбы, и стрельба эта расползалась по всему горизонту.
За два года войны Вологжин привык различать все оттенки ведения огня как немецкой, так и своей артиллерии — и эта стрельба точно была артподготовкой перед наступлением, а не, скажем, перед заурядной атакой местного значения. Он смотрел на часы, положив на артподготовку не более тридцати минут: немцы редко стреляли дольше. Он представил, как там, среди дыма и огня, наши солдаты вжимаются в землю в узких щелях и блиндажах, а в это время немецкие танки уже выходят на исходные рубежи, стараясь как можно ближе подойти к нашим окопам под прикрытием огня своей артиллерии.
Через несколько минут из-за спины стала отвечать наша дальнобойная артиллерия, и почти сразу же на большой высоте появились немецкие самолеты, там и сям застучали зенитки, грохот разрывов бомб и стрельбы покатился в тыл, и вот уже все пространство, покрытое созревающими хлебами, небольшими рощами, оврагами, холмами и крутыми меловыми грядами, извилистыми речушками, заросшими камышом, — куда ни глянь, стало затягиваться дымом и пылью.
Немецкие танки появились вечером того же дня — значительно раньше, чем их ожидали. Они преодолели первую полосу десятикилометровой эшелонированной обороны и вплотную приблизились к позициям дивизии полковника Каплунова. С КП командира полка в стереотрубу было видно, как по еще зеленоватому пшеничному полю катят и катят, оставляя за собой длинные полосы смятых колосьев, бронированные машины, и не видно им ни конца, ни краю. Впереди ползут «тигры», за ними танки поменьше, дальше самоходки, бронетранспортеры с пехотой, машины с пушками и зенитками. Остановить эти полчища, казалось, было невозможно. Они надвигались неумолимо, кивая длинными стволами с набалдашниками, посверкивая отполированными траками. Низкое вечернее солнце светило им в бок, и рядом с танками ползли по земле длинные уродливые тени.
Затем стало видно, как идущие впереди танки подрываются на минах. Один подорвался, другой, третий. Колонны встали там, где их застали подрывы, затем попятились назад. Вскоре, как обычно, появилась немецкая авиация и принялась мелкими бомбами расчищать проходы в минных полях. Снова заговорила наша дальнобойная артиллерия. Тяжелые снаряды вздыбливали гигантские черные кусты разрывов, но немецкие танки стояли далеко друг от друга, и лишь иногда черные кусты подбрасывали вверх башню, колеса, куски чего-то, что секунду назад было танком, самоходкой или бронетранспортером с обитавшими в них людьми. Потом к нашим пушкам подключились «катюши» — и вот уже все видимое во все стороны пространство затянуло дымом и бурой пылью.
— А ведь они, сволочи, в этой пыли могут через наши позиции проскочить, — нервно хохотнул подполковник Лысогоров. — Как мыслишь, майор, проскочат или нет?
— Если и проскочит какая-то часть, то встретим на второй линии, — ответил Вологжин несколько резковато, будто комполка не знал, что у него есть и вторая линия, и третья. — Впрочем, видимость не такая уж и плохая: метров двести, пожалуй, — добавил Вологжин, сглаживая впечатление от своей резкости. — А если ветер поднимется…
Несколько взрывов взметнули вверх землю чуть правее КП, и подполковник приказал телефонисту связаться с «Калиной». Телефонист, прикрывая трубку рукой, забубнил:
— «Калина»! «Калина»! Оглохли вы там, что ли? — И уже подполковнику: — Есть связь с «Калиной»!
Подполковник схватил трубку, послушал, что ответила ему «Калина», похвалил:
— Молодцы! Подпускайте поближе! Что-о? Саперы? Не давайте саперам разминировать! Что значит, не видно? Вы наверху, вам должно быть видно! Лупите из пулеметов, в душу их фашистскую мать! У вас там снайпера имеются! Спят они, что ли?
Бросил трубку, пожаловался:
— Сколько воюем, а некоторые все никак не привыкнут думать собственными мозгами, все им подскажи да укажи. У них немецкие саперы под носом мины снимают, а они не знают, что делать: у них, видишь ли, приказ без команды сверху огня не открывать, вот они и не открывают. А сверху что видно? Ни черта сверху не видно! Вояки, едри их за ногу…
Вологжин тоже нервничал и переживал за своих танкистов, хотя и старался казаться спокойным. Танковая рация, стоящая перед ним, молчала, а это значит, что его люди не испытывают нужды в его советах и приказах. Да и что он может посоветовать или приказать, видя лишь часть боя, разгорающегося на огромном пространстве, в который втягиваются отдельные танки его батальона? Ничего он не может. Только ждать своего часа и надеяться, что его танкисты не подведут. Как и все прочие, кто сейчас сходится грудь с грудью с наступающим врагом.
И вдруг рация ожила:
— «Восемнадцатый»! Я «Тридцать шестой»! Прием!
— «Тридцать шестой», я «Восемнадцатый»! Прием!
— Немецкие танки и пехота ворвались на наши позиции! Веду бой в окружении…
— «Тридцать шестой»! «Тридцать шестой!» Ответь «Восемнадцатому»! «Тридцать шестой»!
Но «Тридцать шестой» уже не отвечал.
— Что там, майор? — заволновался комполка.
— Похоже, «Тридцать шестой» узел обороны подавлен противником, — ответил Вологжин, глядя на карту. — Надо бы накрыть их нашей артиллерией.
— Вот сволочи! — воскликнул комполка. — И мои тоже не отвечают: нет связи.
В углу связисты на разные голоса вызывали батальоны, полковую артиллерию.
Ветер слегка отнес дым и пыль, стало видно всхолмленное поле, горящие там и сям немецкие танки, но горело не так уж много, если иметь в виду минные поля, заградительный огонь тяжелой артиллерии и «катюш», частую стрельбу минометов и противотанковых пушек.
Между тем минное поле перед позициями полка тяжелые немецкие танки, идущие впереди, уже почти миновали. Видно было, как «тигры» останавливаются на какое-то время, стреляют и движутся дальше. Звонкие выстрелы их пушек, как и выстрелы противотанковых орудий, пулеметная и автоматная стрельба медленно, но неумолимо накатывались на позиции первого батальона. Но танки полегче отстали, бронетранспортеры тоже, выбывало из строя их все больше и больше, и, судя по всему, на них артиллеристы и сосредоточили весь свой огонь, рассчитывая, что «тигров» и «пантер» возьмут на себя другие.
«А ведь они все-таки прорвутся, сволочи», — думал Вологжин, поворачивая стереотрубу из стороны в сторону. И уточнил: — «Если им ночь не помешает».
И тут налетели немецкие пикировщики. Они развернулись в карусель и, кидаясь вниз друг за другом, стали перепахивать бомбами первую линию обороны дивизии. Их было много — штук, может быть, пятьдесят. Сверху их прикрывали истребители.
— Где «соколы»? — кричал в трубку подполковник Лысогоров. — Фрицы по головам ходят, а их черти где-то носят!
Немецкие летчики, точно услыхав подполковника, перенесли атаку на вторую и третью линию. Несколько бомб упало вблизи КП подполковника Лысогорова.
Отбомбившись, немцы улетели. За ними погнались наши истребители. Над полем боя появились штурмовики «Ил-2», но немецкие танки они не остановили, хотя им и удалось зажечь некоторые из них.
— Майор! Вологжин! — отвлек Вологжина от наблюдения за полем боя подполковник Лысогоров. — Смотри! — и показал рукой направо. — Они прорвались через первую и вторую линию! Через пятнадцать-двадцать минут выйдут на наши тылы.
Вологжин глянул в указанном направлении. Действительно, с десяток танков и бронетранспортеров каким-то образом проскочили и минные поля между двумя узлами обороны первой и второй линии, и простреливаемое перекрестным огнем пространство, и теперь по полевой дороге катили вдоль оврага к третьей линии, где стояли резервные танки Вологжина, минометные и гаубичные батареи, где располагался медсанбат и склады боеприпасов. По этим танкам било всего лишь одно орудие из третьей линии, точно все остальные были уничтожены бомбежкой, пронесшейся над оборонительными порядками дивизии полковника Каплунова.
— Ну, я пошел, — сказал Вологжин и, прихватив планшетку и танкистский шлем, выбрался из блиндажа в ход сообщения, затем наружу, открытый взору всех, кто смотрел на это поле, перепаханное воронками от бомб, с редкими кустиками почти сгоревшего овса, и, пригибаясь, побежал к своим танкам, стоящим в укрытии в трехстах метрах от КП полка.
Глава 5
Торча по пояс из люка своего танка, Вологжин коротко скомандовал механику-водителю:
— Вперед!
Тяжелая машина дернулась и выбралась из-под навеса. Почти одновременно с ней еще три машины, расположенные в линию.
— Атакуем сходу прорвавшиеся танки и бронетранспортеры противника! — монотонно передал Вологжин по рации. — Разворачиваемся фронтом. Сближаемся на самое короткое расстояние. По танкам — бронебойным, по бронетранспортерам — фугасным! Полный вперед!
Убедившись, что все командиры танков поняли его команду, опустился на командирское сидение и захлопнул за собой крышку люка.
Тридцатьчетверки были новехонькими, с увеличенной башней, где помещались наводчик, заряжающий и командир танка, с орудием в восемьдесят пять миллиметров, с утолщенной броней. Они так и называлась: Т-34-85. Теперь командиру танка — взвода, роты или батальона — не нужно отвлекаться на стрельбу, он мог следить за полем боя и командовать не только своим экипажем, но и другими, если того требовала его должность. Таких танков в Красной армии еще не было: их выпустили лишь небольшую партию в начале этого, 1943 года, и когда батальону Вологжина вручали всего лишь четыре машины, присутствовал сам командующий бронетанковыми войсками фронта и представитель завода-изготовителя.
Представитель, человек весьма пожилой, с усталым отечным лицом, в толстых очках, в командирской форме с погонами полковника, но на военного нисколечко не похожий, отозвал Вологжина в сторону и попросил умоляющим голосом:
— Вы, товарищ майор, пожалуйста, очень вас прошу, постарайтесь в боевой обстановке выяснить все слабые и сильные стороны этого танка и, если вас это не затруднит, напишите на завод о своих впечатлениях. Вот вам адрес и моя фамилия, — и представитель протянул Вологжину блокнот в кожаной обложке с пистончиками, из которых торчали карандаши.
— Но ведь цензура… — начал было Вологжин, но представитель перебил его, замахав руками:
— А вы через особый отдел дивизии. Они предупреждены. Так и дойдет вернее и… Короче говоря, очень вас прошу. Для нас, сами понимаете, ваш отзыв чрезвычайно важен. Главное, попробовать его против «тигров» и «пантер». Ну и вообще…
— Конечно, — согласился Вологжин. И добавил: — Если в первом же бою…
— Да-да, я понимаю, но будем надеяться, товарищ майор, будем надеяться. — И, пожимая Вологжину руку, пробормотал скороговоркой: — Желаю вам удачи и дожить до победы.
— И вам того же, — произнес Вологжин, осторожно тиснув мягкую ладонь представителя.
Этот разговор, случился чуть более двух месяцев назад. На новые танки Вологжин посадил лучшие экипажи, гонял их по пересеченной местности, учил стрелять и с остановки, и с ходу, и днем, и ночью, и против солнца, и против ветра. Танки вели себя хорошо, экипажи действовали слаженно, единственного трофейного «тигра» превратили в решето, стреляя с различных расстояний.
Но это на учениях, то есть без противодействия противника. Для большинства же танкистов из его батальона предстоящий бой будет первым настоящим боем, хотя ненастоящих боев не бывает вообще. Зато бывают бои, что называется, ствол на ствол, а бывают, когда на один твой ствол приходится десять вражеских. Сегодня, похоже, им предстоит именно такой бой. Тут только успевай поворачиваться.
Прорвавшееся танковое подразделение немцев вели за собой один «тигр» и две «пантеры». О «пантерах» было известно, что немцы скопировали их с нашей тридцатьчетверки, то есть борта сделали не прямоугольными, а скошенными, башню тоже, пушку поставили калибра 75 мм с чудовищно длинным стволом, но башня вращается медленно, двигатель бензиновый, скорость по ровной местности около пятидесяти, однако она тяжелее тридцатьчетверки и, следовательно, менее поворотлива. Это все, что знал о своем противнике Вологжин. И он тут же приказал:
— Огонь сосредоточить по головным машинам! Целиться под обрез башни! Расстояние — триста метров!
Танк Вологжина несся на полной скорости. В панораму-дальномер было видно, как разворачиваются им навстречу «тигр», «пантеры» и несколько штук Т-IV. Расстояние до них было еще метров восемьсот, и оно стремительно сокращалось.
Вологжина мотало вместе с машиной, однако он, вцепившись в стальные скобы, прижавшись лбом к резиновому обрамлению прибора, не отрывал глаз от головной машины противника, постепенно выраставшей и заполнявшей все пространство белым крестом и черной дырой орудийного ствола.
Вот из этой дыры вырвалась огненная струя выстрела, и танк на несколько секунд укрыло белым облачком дыма. В то же мгновение звонко чиркнуло по башне, встряхнув ее, и от этого звона Вологжину заложило уши.
Он хрипло выкрикнул:
— Механик, не рыскай, держи курс на головного! Наводчик! Прицел под основание ствола! — и снова поймал в перекрестие дальномера башню «тигра», ожидая выстрела. И тут «тигр» вдруг сел на правую сторону, попав то ли в замаскированный ход сообщения гусеницей, то ли в яму-ловушку, а из его недр выплеснуло пламя.
Вологжин, так и не поняв, кто же поразил фрица, оглядел поле боя, увидел, что танки его целы, а одна из «пантер» дымит, опустив орудийный ствол, и приказал держать курс на вторую «пантеру». Орудие дернулось и откатилось назад, выбросив гильзу и отработавшие газы.
Они ли попали в нее, или кто-то другой, или все сразу: дистанция была менее трехсот метров, но фриц полыхнул огнем и дымом и, разваливаясь на куски, стал превращаться в черное облако. И хотя все это длилось какие-то мгновения, Вологжину они показались вечностью.
Дальше все слилось в один длинный и непрекращающийся стон и грохот. Машину мотало из стороны в сторону, она то вертелась на одном месте, то срывалась и неслась куда-то на полном ходу, то замирала на несколько мгновений, и тогда рядом в железном чреве орудия взрывался пороховой заряд, выбрасывая тяжелый снаряд. А однажды танк врезался в борт с белым крестом на нем, и от удара в глазах Вологжина долго мелькали красные молнии. Просто удивительно, что он умудрялся при таком движении следить за полем боя и командовать. Почти без пауз стрелял танковый пулемет, иногда ему вторил курсовой, спаренный с орудием, метались впереди немецкие солдаты, в наушники врывались голоса то механика-водителя, то пулеметчика, то командиров остальных танков, то он сам отдавал какие-то приказания, и, надо думать, вполне соответствующие обстановке, но ни одного слова из своих приказов не помнил.
Потом машина прокатила немного и встала борт о борт с немецкой «пантерой», и Вологжин, откинув стальную крышку люка, высунулся из башни, глотнул свежего воздуха и закашлялся. И только откашлявшись и отдышавшись, огляделся.
Неширокая лощина, пролегшая между двумя грядами с довольно крутыми склонами, на которых были оборудованы узлы обороны третьей линии, и по которой немцы пытались прорваться в наши тылы, представляла из себя нечто похожее на выставку разбитой немецкой техники. Тут были и танки, и бронетранспортеры, и тягачи на полугусеничном ходу с противотанковыми пушками на прицепе, и даже две самоходки, которые Вологжин проглядел, и мотоциклы, и трупы, трупы, трупы. Среди этого железа стояла наша «тридцатьчетверка» за номером 208, и возле нее возился экипаж, натягивая перебитую гусеницу. Еще две «тридцатьчетверки» остановились неподалеку от танка Вологжина, и командиры этих танков тоже оглядывали поле только что отгремевшего боя.
Вологжин вспомнил, что командир подбитого танка старший сержант Арапников доложил ему о перебитой гусенице, потом что-то о наседающих фрицах, но Вологжин был слишком занят движением, стрельбой, чтобы искать в этой кутерьме подбитый танк. Он помогал экипажу, попавшему в беду, тем, что бил все, что попадалось ему на пути, уверенный, что кто-то из своих же прикроет раненый танк. Как потом оказалось, не одни они вели бой с прорвавшимися танками, но и артиллеристы узлов обороны. И даже пехота.
Оглядевшись и не заметив опасности, Вологжин стянул прилипший к мокрым волосам шлем, и свежий ветерок приятно охватил его разгоряченную голову.
Солнце уже село за далекие холмы, однако чистое небо светилось голубоватым сиянием, и от этого сияния контуры предметов в лощине обозначились резче, приобретя зловещие очертания. К небу тянулись черные дымы: догорали три-четыре немецких танка и бронетранспортера, самоходки стояли косо, подорвавшись на минах. Постепенно мрачные очертания приобрели и покатые холмы, и ближайший лесок, небо на глазах тускнело, сияние на западе замещалось розовато-желтыми разводьями вечерней зари.
Хотя в голове у Вологжина продолжало гудеть, но все-таки он уловил, что бой затихает по всей линии обороны, что немцам не удалось прорваться через порядки дивизии полковника Каплунова, и приказал экипажам возвращаться на исходные позиции. А сам соскочил на землю, подошел к израненной «пантере», похлопал по ее крутой и еще горячей броне, обошел, отыскивая дыру от снаряда, думая при этом, что сегодня же надо будет отписать представителю завода о том, как вел себя новый танк в бою. И не только его собственный, но и все остальные. А то неизвестно, удастся ли сделать это завтра.
Глава 6
Всю короткую летнюю ночь немцы обстреливали позиции дивизии полковника Каплунова из орудий и минометов, их пехота то в одном месте, то в другом пыталась просочиться в ее тылы; некоторые «тигры», вырвавшиеся вперед, горбились черными глыбами среди минных полей, по ним с разных сторон били наши орудия, «тигры» огрызались; немецкие саперы ползали по минным полям, обезвреживая наши мины, готовя проходы для танков, группы наших автоматчиков схлестывались с прикрывающими их панцергренадерами, и по всему по этому от зари до зари не прекращались стычки по всей линии обороны не только дивизии Каплунова, но и соседних.
Майор Вологжин дважды пытался соснуть, привалясь к бревенчатой стене блиндажа, и оба раза просыпался от близких разрывов мин и снарядов.
— Лютует фриц, мать его… — ругался рядом подполковник Лысогоров. — Пытается взять на измор. Давай, майор, попьем чайку. Хрен тут поспишь при такой немецкой музыке.
Они сидели и пили чай из эмалированных кружек с отбитой там и сям эмалью.
— Мои разведчики только что вернулись из поиска, — говорил между глотками чая Лысогоров. — Приволокли языка, эсэсовца, ефрейтора, а по-ихнему какой-то там хрен-его-знает-фюрер. Говорит, что с утра немцы опять попрут вперед. Там у них целый танковый корпус СС перед нашими позициями толчется. Так что завтрашний денек пострашнее нонешнего будет.
— Уже не завтрашний, а сегодняшний, — поправил Лысогорова Вологжин и, глянув на часы, уточнил: — До рассвета осталось чуть больше часа.
— А здорово вы им врезали! — оживился Лысогоров. — Честное слово! Четыре танка на такую армаду! Если бы своими глазами не видел, не поверил бы.
— Ну, во-первых, не мы одни. Ваши тоже лупили их в хвост и в гриву, — не согласился Вологжин. — Во-вторых, эти танки хоть и называются «тридцатьчетверками», а по существу, совсем другие машины: и броня помощнее, и орудие посильнее. Ну и… в-третьих, опыт, выучка…
— Да-да, разумеется, — согласился Лысогоров. — Но ведь и фрицы не лыком шиты.
Вологжин усмехнулся.
— Будем считать, что нам повезло на этот раз больше, чем им.
И оба уставились в темноту, слабо освещаемую горящим фитилем в снарядной гильзе.
Едва допили чай, как ожили телефоны восстановленной связи. Пришло сообщение, что в первой линии остались лишь редкие очаги обороны, противотанковые узлы либо уничтожены, либо заняты противником; на второй линии практически уничтожена артиллерия и оба танка, прикрывающие проход между двумя узлами обороны.
— Это на правом фланге, — ткнул в карту Лысогоров. — Там, где вчера прорвались немцы и которых вы… Я думаю послать туда взвод пэтээрщиков, пару орудий из резерва, ну и… хотя бы один из ваших танков… было бы весьма кстати.
— Я распоряжусь, — сказал Вологжин и добавил: — И вообще, судя по всему, мне здесь делать больше нечего. Если понадоблюсь, я в своей машине. Связь по рации… Буду действовать по обстановке.
И Вологжин тиснул руку подполковнику, тряхнул за плечо рядового Сотникова, пулеметчика из экипажа своего танка, выполнявшего роль ординарца и связного. Тот вскочил, как очумелый, вытер мокрый рот и уставился на Вологжина испуганными, совсем еще детскими глазами.
— Пошли, — велел Вологжин. — В танке доспишь.
Захватив автоматы, они выбрались из блиндажа в ход сообщения.
Небо уже начало светлеть. На его фоне прорисовывались темные горбы холмов, купы деревьев, изодранных бомбами и снарядами, уродливый контур какого-то одинокого строения. Но в низинах темнота сгустилась еще больше, а от недалекой реки уже наплывала тонкая кисея тумана.
Менее чем в километре слева и справа шел бой. В темноте вспыхивали огненные трассы, пересекались и гасли, короткие зарницы орудийных выстрелов сменялись грохотом разрывов. Впереди же, перед позициями полка Лысогорова, уже с полчаса было тихо — так тихо, будто все вымерло. И это настораживало.
Потом от реки возникли звуки движения, шаги множества людей, понукание ездовых, лошадиный храп, тряский перестук колес. И Вологжин догадался, что это выходит на полупогибшую позицию подкрепление, о котором говорил Лысогоров. Он подождал, покуда последнее орудие проследовало мимо, скорым шагом миновал открытое пространство и, ответив на оклик часового паролем, протиснулся в узкий лаз, прикрытый дубовыми ветками с уже увядшей листвой. Тонкий луч фонарика вырвал из мрака зеленую глыбу танка, сапоги спящего под его днищем экипажа.
— Младший лейтенант Самарин! — окликнул Вологжин.
— Я! Я — младший лейтенант Самарин! — откликнулся юношеский голос из-под самого днища, затем засучили ноги в сапогах, и под свет фонарика выбрался из-под танка белобрысый и курносый, в сущности еще мальчишка, поморгал заспанными глазами, приложил руку к шлему, доложил:
— Товарищ майор! Экипаж танка отдыхает. Все на месте, больных и раненых нет.
— Ужинали?
— Так точно, товарищ майор!
— Боеприпасами и соляркой заправились?
— Так точно! Еще вчера вечером.
— Вода, сухпай на три дня…
— Все имеется в полном комплекте, товарищ майор!
— Хорошо. Поднимайте свой экипаж и выходите вот на эту позицию, — показал Вологжин на свой планшет, сквозь целлулоид которого виднелся кусочек карты. — Это чуть левее того места, где мы вчера вели бой с прорвавшимися танками противника. Здесь замените экипажи старших сержантов Прохоренко и Гамаева. Если их машины в укрытии и не способны вести бой, вытащите машины и поставьте в стороне, а сами займите место одной из них. Но если хотя бы один из танков может стрелять… Короче говоря, действуйте по обстоятельствам. Ваша задача — выбивать «тигры» и «пантеры». Остальные оставляйте пэтэа и пехоте. Все ясно?
— Так точно, товарищ майор. А как же взвод?
— Я останусь при взводе, — ответил Вологжин: — Должен же я чем-то командовать: майор все-таки.
— Понятно, товарищ майор. Разрешите выполнять?
— Выполняйте. Чтобы через пятнадцать минут были на позиции… пока еще темно… И запомните: главное — маневр и огонь. Без спешки. Без суеты. Да, и вот еще что: если там есть наши раненые танкисты, посодействуйте, чтобы их отправили в тыл.
— Есть через пятнадцать минут быть на позиции! Есть посодействовать отправке раненых! — громким полушепотом откликнулся младший лейтенант Самарин.
Вологжин, стоя в стороне, смотрел, как выбирающийся из капонира танк смял прикрывающие вход ветки деревьев, развернулся и, на малых оборотах двигателя, едва урча, утонул в жидких сумерках.
Туман еще более сгустился, хотя и укрывал землю тонкой пленкой, так что казалось, будто невысокие холмы, купы деревьев и кустов, развалины какого-то строения висят в воздухе и даже движутся куда-то, но еле-еле, как бы крадучись, точно хотят незаметно уйти от того, что ожидает их с восходом солнца. А солнце все еще покоилось за горизонтом, алая заря пламенела и разрасталась, то есть там, где таились скопившиеся за ночь бронированные полчища немцев, а само небо посветлело настолько, что на нем остались лишь самые крупные звезды, да и те лишь в сумеречной стороне неба.
Отсюда, с вершины холма, в котором были укрыты танки Вологжина, позиции второй и третьей линии обороны пока лишь угадывались. Судя по тому, что стрельба велась справа и слева от позиций полка Лысогорова, немцы будут наступать именно здесь, то есть по следу прорвавшейся вчера в наши тылы немецкой колонны и благополучно здесь погибшей. И место удобное для прорыва, и грунтовая дорога, и впереди никаких естественных препятствий, а небольшая степная речушка поворачивала за спиной у Вологжина на север, следовательно, наступать можно, не форсируя этой речушки, на другой стороне которой располагалась следующая линия нашей обороны.
Впрочем, это всего лишь его, майора Вологжина, предположения, а на самом деле он ничего не знает о конкретных планах противника, кроме одного: немецкие танковые корпуса рвутся к Курску с севера и юга-востока, чтобы окружить и уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов и всё, что стоит ему в затылок. А у него, майора Вологжина, и тех немногих танков его батальона, что зарыты в землю в пределах видимости, одна задача — способствовать тому, чтобы немцы не прорвались сквозь порядки полка подполковника Лысогорова. Если же учесть, что немцы вчера прорвались через многие позиции других полков и дивизий, пройдя почти без задержки более десяти километров минных полей и оборонительных рубежей, что вряд ли они утратили свою пробивную силу, то выстоять дивизия полковника Каплунова под их таранным ударом не сможет. Но ослабить этот удар обязана, не считаясь ни с какими потерями живой силы и техники.
Вологжин глянул на светящийся циферблат швейцарских часов, снятых с убитого немецкого офицера еще в августе сорок первого. Часы показывали три часа десять минут. И почти тотчас же вершины холмов с их меловыми выступами вспыхнули ярким солнечным светом, а вдали, со стороны немцев, замерцали сполохи выстрелов артиллерийских орудий. И Вологжин поспешил вниз по крутому скату холма, а сзади его уже догонял слитный и тяжелый гул первых разрывов немецких снарядов.
Артподготовка еще не закончилась, когда в воздухе появились «юнкерсы» и начали утюжить минные поля, которые за ночь успели восстановить наши саперы и на которых уже подорвалось несколько немецких танков. Другие самолеты бомбили узлы обороны, сосредоточенные в основном на скатах холмов и возвышенностей.
Затем пошли танки.
Отрывистые выстрелы наших противотанковых пушек слились с выстрелами немецких танков и самоходок, издалека заговорила наша же дальнобойная артиллерия, «катюши» в течение нескольких минут выплескивали в небо дымные струи огня, в небе гудели наши и немецкие самолеты, окрестности затягивало дымом и бурой пылью — и весь этот грохот, то усиливаясь, то на некоторое время ослабевая, топтался на одном месте, протягивая свои пыльные лапы в ближайшие наши и немецкие тылы.
Через два часа ожесточенного боя немецкие танки прорвали вторую линию обороны полка Лысогорова как раз в том месте, где вчера четыре танка Вологжина вели свой первый и вполне успешный бой. Возникла угроза, что они могут прорвать и третью линию и уж во всяком случае выйти на тылы второй.
— Товарищ майор! — окликнул Вологжина, снова наблюдавшего за полем боя с вершины холма, старший сержант Семенков. — Вас вызывает «Семнадцатый».
Вологжин и сам успел оценить прорыв немецких танков и мотопехоты через порядки второй линии обороны, поэтому, сбегая с холма, крикнул сержанту:
— По машинам! Командиров танков ко мне! — и, достигнув своего танка, взял из рук радиста шлемофон и прижал к уху.
— «Восемнадцатый» слушает.
— Майор! Фрицы опять прорвались там же, где и вчера. Нужна твоя помощь, — услыхал Вологжин взволнованный голос подполковника Лысогорова.
— Понял. Выступаю.
И посмотрел на командиров своих танков, стоящих рядом.
— Идем с интервалом в тридцать метров вдоль оврага. После рощи выходим на скат вон той высоты и там становимся в засаду. Как только немцы подойдут на триста-четыреста метров, расстреливать в первую очередь «тигры» и «пантеры». Далее по обстоятельствам. В случае моей гибели командование взводом берет на себя старший сержант Семенков. Всё. По машинам.
Глава 7
Это место на склоне гряды, образованной когда-то движением ледника, Вологжин присмотрел давно. Здесь дожди, талая вода и ветры прорыли неглубокую щель, в которую танк помещался по самую башню. Правда, было одно неудобство: если танк поднять повыше, ему приходилось стоять в наклоненном положении, что сужало сектор обстрела, но если немного расчистить площадку от камней, подровнять ее, то лучшего места для засады не найти. И Вологжин велел еще недели две назад такие площадки подготовить. Однако подготовили лишь одну: подготовить больше помешали другие заботы. Вологжин сам въезжал на своем танке на эту площадку и примеривался, как отсюда, с высоты метров, примерно, в тридцать, вести огонь вниз, по дороге, если на ней окажутся танки противника. Выяснилось, что надо немного опустить нос, тогда будет в самый раз: сверху даже «тигра» можно раздолбать любым снарядом. А им снизу ничего не светит, потому что с дороги видны лишь ствол орудия и часть башни — он сам проверял.
Сейчас готовить площадки для других танков не было времени, и он приказал старшим сержантам Арапникову и Семенкову оставаться внизу, в промоинах же, укрыться от авиации маскировочными сетями и действовать из-под них короткими наскоками: выскочил, пару выстрелов, откатил назад, сменил позицию, снова вперед — и так до полной победы.
Он так им и сказал: «До полной победы». А что он еще мог им сказать? Не маленькие, сами поймут, до какой черты им стоять на этом месте.
А сам повел свой танк наверх. И неожиданно встретил там, на подготовленной площадке, артиллерийских корректировщиков. Впрочем, сразу и не разобрались, кто такие: трое, в нашей форме, один офицер. Может, немцы. Может, перекинувшиеся на их сторону казаки, о чем ходили самые разные слухи, может, власовцы. Всякое может быть.
Офицер вскочил, замахал руками, заорал:
— Куда претесь, черти! Не видите, что ли, занято?
— А ну дай очередь над их головами, — приказал Вологжин пулеметчику. — Пониже, пониже. Вот так, пусть землю понюхают. — И, откинув крышку люка, высунул автомат и крикнул: — Кто такие?
Офицер поднял голову от земли, ответил:
— Старший лейтенант Клецков из сто седьмого артполка. Ведем корректировку огня своих батарей.
— Документы! — приказал Вологжин, не отводя автомата от прижавшихся к каменному днищу сухого русла людей. — И своему механику-водителю: — Прутников! Возьми у них документы.
Офицер встал, протянул свое удостоверение.
— Вы за это ответите, — сказал он. — У меня приказ командования. Я должен корректировать огонь: вон они прут как, а вы — документы! Какие к черту документы, — все более накалялся его крик. — Под трибунал захотели?
Вологжин соскочил с брони, подошел к старшему лейтенанту.
— Не ори! Эту площадку мы давно подготовили для танка. Так что придется потесниться, товарищ старший лейтенант Клецков, — и Вологжин вернул удостоверение офицеру.
— Но вы же стрелять будете — и вас сразу же засекут. А наше дело тихое.
— Ничего, подниметесь повыше — дальше виднее будет. А там бой рассудит. И поторопитесь: мне машину надо установить.
— Ладно, так и быть, — сдался старлей. — Пойдем ребята наверх. А то нас тут прихлопнут вместе с этим утюгом.
И корректировщики, пригибаясь, чтобы не было видно со стороны, полезли выше со своей рацией, а экипаж, поставив танк на место и натянув над ним сеть, приготовился к бою.
Едва заняли позиции — вот и немцы. Впереди мотоциклисты, за ними бронетранспортеры — разведка. А уж за ними… в пыли и дымной пене разрывов наших снарядов надвигалось целое полчище «тигров», «пантер», средних танков, самоходок, а среди них выделялись огромные «фердинанды», восьмидесятитонные чудовища с толстенной броней и мощной пушкой.
С противоположного холма открыли огонь противотанковые орудия. С бронетранспортеров посыпались панцергренадеры. Многие из них кинулись туда, где скрывались танки Вологжина: промоина была заметна с дороги, она обозначалась кустиками терна, крупными валунами и грудами камней, которые когда-то стаскивали с полей, расчищая пашню.
Противопехотные мины, которыми была напичкана лощина, и короткие злые очереди из танковых пулеметов отбросили немцев назад.
Вологжин медлил открывать огонь. Вот когда немец подставит свои борта, тогда уж наверняка, тогда только успевай заряжать. К тому же немецкая разведка прошла по дороге, даже колесные бронетранспортеры прошли и прошли они над минами, вернее, там, где мины стоять должны. Может, там стоят какие-то особые мины, рассчитанные на тяжелые танки. Как бы там ни было, а надо ждать.
Наша полковая артиллерия почему-то перестала стрелять, дым и пыль отнесло в сторону, и открылось жуткое и одновременно величественное зрелище: танки, танки и танки, докуда хватал глаз. Впереди «тигры» и «пантеры», за ними «фердинанды», далее все остальное.
Вологжин глянул вверх по распадку, но корректировщиков там не увидел: то ли это действительно не наши, то ли еще не устроились на новом месте. Черт их разберет! И он связался с полком, чтобы выяснить, должны тут быть наши или не должны.
Долго не отвечали, наконец сказали: должны. Ну и слава богу, а то как-то тревожно и не знаешь, что делать.
Немцы встали, едва первый «тигр» нарвался на мину. И сразу же по замершим танкам с двух сторон открыли огонь наши противотанковые орудия и минометы. Вновь заговорила дивизионная артиллерия, расположенная километрах в трех-четырех от линии фронта. Немецкие танки открыли огонь по высотам, танки полегче пошли в атаку на позиции полка подполковника Лысогорова, за ними бронетранспортеры с пехотой. Загромыхала немецкая артиллерия. Появились бомбардировщики. Вновь все затянуло пылью и дымом.
Вологжину вести огонь по танкам противника было не с руки: расстояние больше километра, попасть, конечно, можно, но лучше поберечь снаряды для ближнего боя. В ожидании, когда авиация проложит путь через минные поля, немецкие танки стали маневрировать, то подвигаясь вперед, то назад, лишь бы не стоять на месте. Даже «тигры» — и те вынуждены были шевелиться, чтобы не стать неподвижной мишенью, потому что, хотя снаряды советских семидесятишестимиллиметровых противотанковых орудий в лоб их стамиллиметровую броню не брали, однако корму, менее защищенную, продырявить могли вполне.
Но вот немецкая авиация мелкими бомбами проутюжила узкую полосу в минном поле, танки двинулись вперед и через несколько минут головные тигры вошли в зону, наиболее удобную для стрельбы с той позиции, которую занимал танк Вологжина. До ближайших целей было не более четырехсот метров, до дальних семьсот-восемьсот. Но все немецкие танки вынуждены втягиваться в узкую горловину, пробитую в минном поле авиацией, а это лишало их маневра.
«Тигры» ползли еле-еле. Они и по хорошей-то дороге могли развить скорость не более тридцати километров в час, а по местности, изрытой воронками от снарядов и бомб, едва вытягивали пятнадцать.
— Спокойно, Андрюша, — говорил Вологжин своему наводчику, двадцатидвухлетнему парню из Ижевска. — Он только по названию тигр, а на самом деле шакал, да и только.
Орудие дернулось, отскочило назад. Взрыв порохового заряда менее чем в метре от головы, это… это и сравнить не с чем. Особенно первый выстрел. Затем наступает некоторое привыкание: ты будто бы глохнешь, в голове стон и гул, да и во всем теле не лучше, но деваться из этой тесной коробки все равно некуда, так что терпи и делай свое дело.
После выстрела на какое-то мгновение Вологжин не только оглох, но и ослеп. Вернее, глаза его сами собой закрылись, веки плотно сжались, и тело сжалось, но длилось это недолго. Он открыл глаза и увидел, что «тигр» горит.
— Молодец, Соболев! — похвалил он наводчика. — Теперь давай второго.
Второй в это время медленно объезжал своего горящего собрата. И объезжал не с той, а с этой стороны, явно не представляя, откуда пришла смерть головному танку. За ним тянулись остальные, нюхая воздух длинными стволами своих орудий, увенчанных хищными ноздрями дульных тормозов.
— Дай ему продвинуться еще метров тридцать, — говорил Вологжин, следя из командирской башенки за полем боя. — Это ничего, что их много, — продолжал он, чувствуя необоримое желание говорить и говорить, точно в этом заключалось их спасение. — Чем их больше, тем легче выбирать. Тем им труднее ориентироваться. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу… А вот теперь влепи ему под башню…
И опять ударило по голове и по всему телу взрывом порохового заряда, оглушив и ослепив на мгновение, и Вологжин подумал об увеличенном калибре орудия, и уже не впервой: всего-то на девять миллиметров больше, чем в обычной «тридцатьчетверке», а снаряд на шесть кило тяжелее и выстрел чуть ли ни вдвое сильнее.
И второй «тигр» выдохнул из себя густое облако дыма, вспыхнул и тут же подпрыгнул на месте от взрыва боекомплекта, и круглая башня его, похожая на бочку, взлетела вверх, перевернулась, упала стволом вниз, несколько мгновений стояла на стволе как бы в раздумье, затем рухнула, взметнув бурую пыль, и Вологжину показалось, будто сама земля в испуге попыталась защититься от нее невидимыми руками.
— Молодец, Соболев! — прохрипел Вологжин и закашлялся, задохнувшись пороховыми газами, вырвавшимися из казенной части орудия.
Звякнула упавшая вниз гильза, а в казенник уже досылался третий снаряд, гудел вентилятор очистки воздуха…
— Не спеши, — продолжал командовать Вологжин. — Они нас все еще не обнаружили. И у них, судя по всему, приказ: идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Пусть идут. Возьми-ка на прицел вон ту «пантеру», что идет почти впритык следом за «тигром». Да нет, не эту, а правее! Видать, боится, пытается прикрыться своим полосатым собратом, — нервно хохотнул Вологжин и даже сам подивился этому своему хохотку. «С чего бы это вдруг?» — подумал он, следя за стволом орудия, медленно ползущим вслед за выбранной жертвой. — Мы, чего доброго, сегодня можем рекорд поставить, — продолжал он говорить, внешне спокойно и даже насмешливо, а внутри у него все звенело от напряжения, каждая жилочка, каждый нерв. И не от страха, нет. Какой тут страх! А оттого, что ему в модифицированной «тридцатьчетверке» отведена роль наблюдателя. Когда сам ведешь огонь, совсем другое дело. Тогда все внимание сосредоточено на цели, а тут… — Я слыхал, — звучал в наушниках членов экипажа его внешне спокойный и даже насмешливый голос, — …слыхал, что на Ленинградском фронте одна «тридцатьчетверка» из засады расстреляла восемь «тигров». Еще в сентябре сорок первого. Говорили, что в одном из них сидела какая-то крупная немецкая шишка. А у нас уже два. «Пантеру» вполне можно приравнять к «тигру». Так что давай, Андрюша. «Звездочку» ты уже заработал. Жми на «Красное Знамя»!
Выстрел, откат, жалобный звон опорожненной гильзы, захлебывающийся вой вентилятора…
На этот раз Вологжин выдержал выстрел, не закрыв глаза: ко всему привыкаешь — и увидел, как дернулась «пантера», будто живое существо, а затем рванула, захлебнувшись огнем и дымом. Но он заметил и другое: стволы многих танков стали поворачиваться и задираться в их сторону. Он даже разглядел черные дыры этих стволов. Засекли, сволочи!
— Теперь давай «тигра»! — скомандовал он.
Но немцы опередили: вокруг рвануло сразу с полдюжины снарядов, затем еще и еще. Но ни один не задел танк, а лишь камни посыпались сверху, поднятые взрывами, загрохотали по танковой броне, и на минуту все заволокло дымом и белой известковой пылью.
— Вот сволочи, Гитлера их мать! — выругался Вологжин. И подумал: «Эдак они нас ослепят, и нам останется только хлопать глазами. Хоть бы ветер подул…»
И он переключился на внешнюю связь:
— Двухсотые! Я — «Восемнадцатый». Как там у вас?
— Нормально, «Восемнадцатый».
— Нас засекли, пыль, дым, ни черта не видно. Но вы не спешите. Пусть подойдут поближе. И заранее распределите цели, чтобы не палить в упор по одному и тому же танку.
— Уже распределили, «Восемнадцатый».
— Все. До связи.
Дым все-таки отнесло, пыль тоже. Немцы больше не стреляли. Они выжимали из своих танков все, что могли, и ревом их моторов заглушило все звуки.
— Андрюша, как видимость?
— Нормальная, товарищ майор.
— Давай по головному.
— Есть по головному.
Выстрел, откат, звон упавшей вниз гильзы…
— Четвертый, — произнес Соболев, не дождавшийся, чтобы командир как-то откликнулся на этот выстрел.
— Хорошо, — не сразу откликнулся Вологжин своим обычным спокойным голосом; у него вдруг пропало желание говорить.
— Давай пятого — и будет по одному на брата! — послышался голос механика-водителя сержанта Прутникова.
И тут рвануло.
Острая боль охватила все тело Вологжина, и он провалился в бездну.
Глава 8
Вологжин очнулся и вновь почувствовал острую боль во всем теле. Но так не бывает, чтобы во всем: это он знал из опыта прошлых ранений. И он стал мысленно ощупывать свое тело. Болела левая нога, но не остро, а ноющей болью. Ныла левая же рука и весь бок. Скорее всего, контузия. Еще выше… И тут он понял, что вся боль сосредоточена в глазах. Именно их жгло и резало нестерпимо. Он пошевелил левой рукой — шевелится. Правой — то же самое. Тогда он поднял руку и дотронулся до своего лица: лицо было мокрое и липкое от крови. «Это ничего, — подумал он. — С лица воду не пить». Но чем выше поднималась рука, тем сильнее его охватывала паника, и он уже понимал: с глазами что-то неладное. Они не открывались. Более того, он боялся их открыть. А пальцы сами собой поднимались вверх, ощупывали подбородок, губы, нос: в крови, но все вроде бы на месте. И наконец — глаза. Едва он прикоснулся к переносице, как боль усилилась настолько, что он не выдержал и застонал.
— Товарищ майор, — донеслось до его слуха. — Товарищ командир, вы живы?
— Кажется, жив, — прохрипел Вологжин. И спросил, не узнав голоса: — Прутников? Ты, что ли?
— Никак нет, товарищ майор. Это я — Сотников, стрелок. А Прутникова убило. И Ластикова, заряжающего, тоже. И Андрюху Соболева… Я думал, и вас тоже, а вы, оказывается, живы. Я так рад, товарищ майор.
И Вологжин услышал, как Сотников хлюпает носом, как рвутся из него едва сдерживаемые рыдания.
— Ты что, Сотников! Как не стыдно! И с чего ты взял, что все погибли? Может, без сознания, — говорил Вологжин, с трудом шевеля израненными губами и неповоротливым языком. — Ты лучше скажи, что сейчас вокруг делается, а то я ничего не вижу… С глазами у меня что-то…
— Так мне отсюда ничего не видно, товарищ майор. Я знаю только, что нас завалило взрывом. А больше я ничего не знаю, товарищ майор. И в голове у меня сплошной звон.
И снизу опять послышался приглушенный всхлип.
«Мальчишка, однако», — подумал Вологжин, пытаясь вспомнить, как зовут стрелка.
Не вспоминалось. К тому же мешала боль и страх, что глаз-то у него… И тогда, преодолев себя, он дотронулся до правого глаза одним пальцем, и почувствовал, что палец будто проваливается в дыру, хотя он, его палец, остановился на какой-то границе, которую раньше не перешагивал и о существовании которой помнил, потому что дальше было глазное яблоко, а теперь его не было, и век тоже не было, а было что-то липкое. Стиснув зубы, Вологжин точно таким же образом исследовал и второй глаз — на месте второго глаза тоже была дыра.
«Довоевался», — подумал он, но подумал так, будто речь шла не о нем, а о ком-то другом. Потому что представить себя слепым, с провалившимися глазницами, не мог. Кого угодно, но только не себя.
— Что будем делать, товарищ майор? — донесся до его слуха голос Сотникова, отвлекая Вологжина от еще не вполне осознанной утраты. — У нас даже нижний люк не открывается.
— А что нам делать, Сотников? Ждать, вот что нам остается делать. Ты вот что, парень… Сам-то как? Ранен?
— Никак нет, товарищ майор. Контузило маленько. И спина болит.
— Ничего, пройдет. Бой кончится, наши придут, вытащат нас отсюда. Ты вот что, Артём… Тебя Артёмом зовут? Так?
— Никак нет, товарищ майор. Артёмом заряжающего зовут, Ластикова. А меня Тимофеем.
— Ты вот что, Тимоша. Ты еще раз хорошенько проверь ребят, может, кто и жив. Ты на шее трогай, возле уха. Там жила проходит.
Внизу завозились, послышался звон отстрелянных гильз. Потом опять всхлип.
— Мертвый он, товарищ майор, — послышался снизу плачущий голос. — Холодный уже.
— Как холодный? — удивился Вологжин. — Сколько же мы тут?..
— Вечер уже, товарищ майор. Уже все тихо, не стреляют. Побили наших, товарищ майор. Всех побили.
— Ну, ты это брось, парень! Ишь выдумал: побили. Всех побить не могли. Не те времена. Отступили наши. Потому что сила у фрицев страшная. Но далеко они не пройдут. У нас тоже сила будь здоров! Сам же видел, как мы их щелкали. А сзади нас другие наши войска стоят, они не пропустят.
Вологжин замолчал и прислушался: бой шел, но где-то далеко, его звуки доносились глухо, как сквозь подушку. Может, со слухом у него тоже, а не только глаза… Но он заставил себя не думать о своих глазах — и даже боль от этого стала тише.
— Давай лезь сюда, наверх, Тимоша, — позвал Вологжин. — Проверь остальных.
Снова зазвенели гильзы, затем возле ног послышалось кряхтение и шумное дыхание живого человека.
— Ластиков тоже мертвый, товарищ майор, — произнес Сотников, на этот раз без всхлипа.
— Стащи его вниз, — приказал Вологжин.
Внизу запыхтело, послышалось бряцание чего-то, затем все стихло.
— Ну ты чего там застрял? — спросил Вологжин.
— У него пальцев на руке нету, товарищ майор, — опять всхлипнул Сотников.
— Мертвому пальцы не нужны, — оборвал всхлипывания Вологжин. — Держись, солдат. Еще неизвестно, сколько нам тут торчать придется. Тащи давай вниз Соболева. Если мертвый.
— Мертвый, товарищ майор. У него череп весь… прямо ужас один…
— Лезь сюда и не мямли! Не девочка, чай. Сожми себя в кулак и держись! Ясно?
— Так точно, товарищ майор. А только жалко ребят… страсть, как жалко.
— Что тут поделаешь, Тимоша. Радуйся, что жив остался и не ранен. Теперь нам выжить надо, пока наши не придут.
Мимо, задевая Вологжина, вниз потянулось тело наводчика, и руки его, казалось, цеплялись за комбинезон Вологжина, точно Соболев был еще жив. Потом какое-то время было тихо, но Вологжин не стал подгонять парня: в девятнадцать лет испытать такое — не всякий взрослый мужик выдержит.
Затем, уже легкими движениями ощупывая Вологжина, боясь его задеть, Тимофей Сотников уселся на место наводчика и шумно, с привсхлипом, выдохнул воздух.
— Ты меня видишь? — спросил Вологжин, повернув голову в сторону наводчика.
— Вижу, товарищ майор.
— И что?
— Лицо у вас… в крови.
— А глаза?
— Тоже… кровь одна… и что-то на ниточке висит… вроде как глаз, товарищ майор.
— Отрежь. Возьми пакет и перевяжи.
— Сейчас, товарищ майор, я только руки вытру.
— Не спеши. Нам теперь спешить некуда… А что видно вокруг?
— Немцы, товарищ майор, — перешел на шепот Сотников.
— Что, близко?
— Нет, там, на дороге. Танки свои растаскивают. Мертвяков собирают.
— Еще что видишь?
— Больше ничего. Вечер уже, товарищ майор. Видно плохо. И дым. Они потом дымовую завесу пустили и поперли. Наши, Арапников и Семенков, долго стреляли, а потом стихли. Не знаю, ушли или остались.
— А ты посмотри: их же видно было.
— Я уже посмотрел: нету.
— А рядом фрицев нет?
— Не видно, товарищ майор.
— Ладно. Перевязывай.
Вологжин запрокинул лицо, сидел, сжав зубы до ломоты в скулах. Он слышал, как Сотников, сдерживая дыхание, осторожно прикасается к его лицу, как он что-то отлепил от него, затем лица коснулась прохладная сталь армейского ножа. Потом мокрые тампоны обтерли лицо, и на него стали ложиться шершавые, до дрожи во всем теле, сухие полосы бинта.
Сотников долго и неумело обматывал его голову, сопя от напряжения.
— Уши-то не закрывай! Еще могут пригодиться. Если я не вижу, то хотя бы тебя могу слышать… Вот так вот, во-от. Молодец, — подбадривал Сотникова Вологжин. — Вот кончится война, Тимоша, приедешь ко мне в Череповец, станем вспоминать, как воевали вместе, выпьем по чарке… Да-а… Жизнь станет хорошей… после войны-то. Совсем другой станет. Вот увидишь… Пойдем с тобой на рыбалку… У нас рыбы — страсть как много. Всякой. Две реки рядом: Шексна и Ягорба. И Волга не шибко далеко от нас. Да-а. И на уду, и сетью… Уху сообразим… Будь здоров, какая уха у нас с тобой получится…
Где-то рядом зарокотал пулемет, наш, Дегтярева. Бухнули одна за другой две гранаты, бабахнули винтовочные выстрелы, зачечекал немецкий автомат. Потом совсем рядом затопало, послышались голоса, сперва не разберешь из-за стрельбы, чьи, и Сотников вдруг вскрикнул, но Вологжин вцепился в его руку, зашипел, угадав в невнятных голосах не русский, а чужой выговор.
Шаги и выстрелы накатили, стали подниматься вверх, еще раз зашелся длинной очередью «дегтярь», сильно рвануло, похоже на связку гранат, и все стихло. И долго сидели Вологжин и Сотников, прислушиваясь к этой тишине.
— Корректировщики, — прошептал Сотников.
— Похоже, что так, — согласился Вологжин. — Как стемнеет, попробуем выбраться, — произнес он после длительной паузы. Ноги у меня вроде бы…
Но тут залязгало совсем рядом, у подошвы гряды, там, где недавно таились два его танка. Раздались лающие команды, рокот моторов, удары кирок и ломов по каменистой почве.
— Что там? — спросил Вологжин, хотя мог бы и не спрашивать: такие звуки говорили о том, что немцы готовят позиции для своих орудий, и выбираться из танка — попасть им в лапы.
— Немцы, товарищ майор. Пушки устанавливают. А по дороге танки идут. Много танков, товарищ майор.
— Ты вот что, Сотников. Давай поменяемся с тобой местами. С моего места лучше видно. Будешь смотреть, докладывать, что и как. А у самого в голове: «Зачем мне это? Что с этим делать? Ерунда». И в то же время что-то толкало его делать нечто привычное, что положено делать по должности и по всякому другому.
С трудом владея своим непослушным и ставшим неожиданно громоздким телом, Вологжин, с помощью Сотникова, перебрался на место наводчика. Умостившись, ощупал казенник орудия: оно стояло на боевом взводе, то есть снаряд был в стволе, спусковой механизм — только нажми, и грянет выстрел. Открыв затвор, забрызганный чем-то липким, он вытащил снаряд и положил его в желоб откатника. Работа вроде не такая уж тяжелая, а он задыхался и чувствовал временами, что вот-вот потеряет сознание.
Глава 9
Утро разгоралось медленно, но Вологжин, мучаясь болью и лишь изредка проваливаясь в сон, не видел занимающейся зари. Зато он чувствовал сладковатый запах начавших разлагаться трупов. Было ясно: им здесь сидеть и ждать, и терпеть, потому что другого не дано. А дано ему, скорее всего, заражение крови, столбняк или еще что-нибудь в этом роде. Так не лучше ли застрелиться и отпустить Сотникова на все четыре стороны? Вернее, приказать ему уйти, как только стемнеет, чтобы добрался до наших и передал… хотя передавать в сущности нечего… и уж потом застрелиться, чтобы зря не мучиться, а главное… главное — не возвращаться домой слепым калекой, не садиться на шею молодой жене, не возвращаться к детям, которым не сможешь дать ничего, — будущее свое он не мог себе представить, все это было противоестественно и мучительно… и рука сама собой нашарила кобуру, щелкнула кнопка, освобождая крышку…
— Товарищ майор, — снова послышался всхлипывающий голос Сотникова.
— Что тебе?
— Немцы… Немцы наших по дороге гонят. Пленных…
— Много?
— Много, товарищ майор. Человек… человек двести. Или больше…
— Что ж тут поделаешь, брат: война.
— А как же мы?
— Ты вот что. День как-нибудь переживем, а едва стемнеет, выбирайся из танка и иди к нашим. Скажешь, что так, мол, и так, немцы устанавливают пушки… ну и… что по дороге еще увидишь.
— Как же я вас брошу, товарищ майор? Мы это… лучше по рации передадим…
— По рации, — усмехнулся Вологжин. — Рация-то, небось, в дребезги. Хотя… чем черт не шутит… Посмотри, что там с рацией.
И какая-то надежда вспыхнула в нем и зазвенела тоненькой, туго натянутой жилкой. Он сидел и слушал, как Сотников возится внизу, чем-то осторожно брякая, и эти звуки возвращали его к жизни. Он подумал, что Сотников вряд ли сумеет пройти незамеченным через плотные порядки противника, а здесь, в танке, они могут дождаться своих, а там… а застрелиться он успеет всегда, зато помочь этому несмышленышу выкарабкаться — его святая обязанность и как командира, и как человека.
— Товарищ майор, — послышался сдавленный шепот Сотникова.
— Чего тебе?
— Я в туалет хочу… Силов нету терпеть.
— Спустись вниз и сделай, что тебе надо.
— Как же это? Там же ребята…
— Тогда терпи. Или в штаны. Нам из танка выбираться нельзя.
— Вонять будет…
— А сейчас что? «Красной Москвой» пахнет? Днем, когда жара начнется, трупная вонь еще сильнее будет. Одной вонью больше, одной меньше… Терпи. Нам до победы дожить нужно. Нам с тобой в их проклятом Берлине побывать нужно, — говорил Вологжин свистящим шепотом с накатывающей на него ненавистью и отчаянием, понимая, что ему в Берлине не бывать, что вообще уже ничему в его жизни не бывать, зато можно как-то погромче закончить эту жизнь, чтобы… Но как именно, он не знал, хотя был уверен, что придумать что-то можно. И он продолжал кидать в сторону притихшего Сотникова слова, дышащие отчаянием и ненавистью: — А это… это со временем забудется, как дурной сон… Если сможет забыться… А потом… потом мы им, сукам, все припомним. Мы у них, в их поганой Германии, дай срок, все вверх дном перевернем. Ради этого жить надо, Сотников. Жить и терпеть. Ты меня понял?
— Так точно, товарищ майор. Понял.
— Ну вот и славно, — выдохнул Вологжин и замолк.
Долго не было слышно ничего. Лишь вдалеке долбила артиллерия. Затем с торжествующим гулом прошли над головой наши штурмовики. Через пару минут где-то загрохотало.
— Сотников, где ты там? — окликнул Вологжин стрелка и протянул руку.
— Здесь я, товарищ командир.
— Облегчился?
— Да.
— А рацию смотрел?
— Смотрел: провод питания перебит.
— Так замени. У Прутникова в бардачке все есть.
— Я знаю.
— А знаешь, так давай действуй. И посмотри: там фляжки с водой должны быть, сухпай. Водка должна быть. Тащи все наверх. А еще — магнит.
— Магнит-то зачем?
— Осколки из глаз вытащить: мозжит ужасно.
Послышалось сопенье, накатила новая вонь — то тошноты, но Вологжин проглотил слюну и откинулся на спинку сидения. Он вспомнил, как однажды, еще до войны, пришлось ему побывать в морге для опознания своего красноармейца, погибшего во время взрыва склада с боеприпасами, какая там встретила его вонь и как среди этих трупов, лежащих на подтаивающих глыбах льда, присыпанных опилками, два человека в грязных халатах ели яблоки, с хрустом вгрызаясь в них крепкими зубами. Его тогда чуть не вырвало. А потом, когда началась война, случалось такое, что сравнивать с моргом — считай, что не с чем.
Послышались лающие команды. Залязгали орудийные затворы. «Фойер!» — и ударило орудие.
«Пожалуй, калибром сто сорок, — подумал Вологжин. — Ведут пристрелку. Потом начнут крыть беглым. Значит, наши близко, недалеко отошли».
— Вот, — послышался рядом голос Сотникова. — Принес.
— А связь? Связь восстановил?
— Еще нет, товарищ майор. Главное, аккумуляторы исправны. А рация… пока еще не знаю. Подключусь, тогда и узнаю.
— Поторопись, Тимоша. Хорошо бы своим товарищам помочь. Корректировщики, видать, погибли или ушли. Теперь наша очередь.
Рация оказалась целой. Из этого Вологжин сделал вывод, что слева от танка рванула бомба большого калибра. А может, и не бомба, а снаряд из самоходки. И все, кто находился слева, погибли от осколков, вырванных из танковой брони ударной волной или болванкой, погибли, прикрыв своими телами его и Сотникова. А заряжающий спас рацию. Вот только глаза самого Вологжина не были прикрыты ничем и никем: во время взрыва он смотрел на поле боя через панораму своей командирской башни.
— Дай мне шлемофон, Сотников: мой не работает, — велел Вологжин и, приняв у стрелка шлемофон, попытался натянуть на голову, но Сотников столько намотал на нее бинтов, что и пытаться бесполезно.
Положив шлемофон на колени, Вологжин, стиснув зубы, принялся сматывать окровавленные бинты. Потом, передохнув и сжавшись от предчувствия еще более сильной боли, поднес к глазам подковообразный магнит. И боль, — точно! — резанула его по глазам и остановилась на каком-то пороге. Следовательно, за минувшие часы в глазницах кровь запеклась, и магнит не может вытащить осколки. Вологжин отвел магнит от глаз и некоторое время сидел, пережидая, пока боль не утихнет. Затем велел Сотникову смочить марлевые тампоны водкой и приложил их к глазницам. Боль, но уже другого рода, ударила в голову и помутила сознание. Вологжин терпел, не отнимая рук от лица, скрипел зубами, мычал. И перетерпел: боль стихла, голову обволокло чем-то даже вроде блаженства, когда ничего не хочется, а лишь бы это состояние длилось вечно. Но через какое-то время возникла другая боль, пульсирующая, и стала нарастать, охватывая всю голову.
Вологжин убрал тампоны и снова резко приблизил к глазницам магнит: глаза, или то, что от них осталось, обожгло, а затем вновь наступило уже знакомое блаженство исчезновения сильной боли. Решив, что больше ничего сделать не сможет, он попросил Сотникова наложить на глаза легкую повязку с тампонами, и только после этого шлемофон налез на голову. И еще какое-то время потребовалось на то, чтобы успокоиться и собраться с мыслями.
По-прежнему методично стреляли немецкие орудия, а со стороны дороги доносился прерывистый гул моторов.
— Все прут и прут, товарищ майор, — звучал сбоку отчаянный шепот Сотникова. — Просто ужас какой-то, как их много.
— Чего много?
— Танков и всяких машин.
— Ничего, сейчас много, через час станет меньше.
Включив рацию, Вологжин пощелкал переключателем, переходя с одной фиксированной волны на другую, и наконец наткнулся на родной голос, правда, далекий и еле слышный, который просил «Ромашку» ударить по квадрату 12–40. Влезать в переговоры «Ромашки» с кем-то еще не имело смысла. Лучше всего выходить на свою связную рацию при штабе полка подполковника Лысогорова — если он выжил и отошел со своей позиции на следующую. Есть еще рация у начальника штаба отдельного танкового батальона капитана Тетеркина. Но начинать надо с «Семнадцатого»: у него артиллерия, у него связь с дивизией.
«Семнадцатый» не отвечал долго. Вологжин уж отчаялся до него докричаться. Наконец, после щелчка, прорвался чей-то голос:
— «Семнадцатый» слушает «Восемнадцатого». Прием.
— «Семнадцатый»! Я нахожусь на старой позиции. Выбраться не могу: вокруг фрицы. В пределах видимости от меня несколько немецких батарей ведут огонь. По дороге в квадрате 54–16 все время движутся танки и тыловые части обеспечения. Готов корректировать огонь артиллерии. Прием.
— «Восемнадцатый»! Номер вашего танка, ваша фамилия, звание и фамилии офицеров вашего штаба, — после некоторой паузы отчеканил далекий голос.
«Не верят! — изумился Вологжин. — Вот сволочи! Тут каждая минута дорога, а они…» Однако Вологжин справился с нахлынувшей на него злостью и передал требуемые данные. После этого последовала команда:
— Ждите на связи.
Прошло не менее получаса, прежде чем «Семнадцатый» заговорил вновь:
— «Восемнадцатый»! Переходите на третью волну! Смените позывные на резервные.
Вологжин пощелкал переключателем, услыхал знакомые позывные на мотив песни из кинофильма «Волга-Волга».
— «Енесей»! Я — «Байкал»! Прием!
— Даем пристрелочный, — послышалось в наушниках, и у Вологжина отлегло от сердца. И даже боль в глазах будто бы утихла совсем.
— Сотников, — позвал он громко, потому что голос заглушило новым залпом немецких батарей. — Наши начинают пристрелку. Корректируй. Имей в виду, что справа от нас левая сторона, слева — правая.
— Есть! — вскрикнул Сотников.
— Не ори и следи за обстановкой. Где лег снаряд?
— Метрах в трехстах впереди и правее. То есть левее с их стороны метров на пятьсот.
— «Енисей»! Я «Байкал»! Недолет триста, правее пятьсот.
— «Байкал»! Вас понял: недолет триста, правее пятьсот. Даем пристрелочный.
— Смотри, Тимоха! Внимательно смотри! — велел Вологжин Сотникову.
Рвануло у них за спиной метров на двести выше по скату.
Вологжин дал новую поправку. На этот раз снаряд ударил между двумя орудиями.
— Есть попадание! — сообщил Вологжин.
И через пару минут там, где стояли немецкие орудия разверзся ад из множества разрывов, и вскоре все затянуло дымом и пылью.
— Вот так вот, милый ты мой Тимоха, — с чувством произнес Вологжин. — А ты говорил: их много. Теперь стало поменьше. Мы еще с тобой повоюем.
Глава 10
После разгрома немецких батарей и налета наших штурмовиков на тыловую колонну с горючим и боеприпасами, все вокруг на какое-то время стихло и затаилось.
— Давай перекусим, — предложил Вологжин. — И дай-ка мне глотнуть из фляги.
Он отпил несколько глотков, почувствовал, как внутри у него разлилось благодатное тепло. Сотников намазывал на ломти хлеба свиную тушенку, совал их в руки Вологжина, и тот ел, с трудом, преодолевая боль при каждом движении челюстей мучительно напрягая слух. Оказывается, слушать, зная, что не можешь увидеть, не так-то просто. А раньше это не вызывало никаких затруднений. И не понять, в чем тут дело и как это связано с потерей зрения. Ведь ночью, в темноте, или при закрытых глазах… А может, у него и со слухом все-таки не все ладно? И он время от времени переспрашивал у Сотникова:
— Ты ничего не слышишь?
— Нет, товарищ майор. То есть я слышу, что стреляют где-то далеко, а рядом… рядом все пока тихо.
— Вот то-то и оно, что тихо. А почему? Ты посмотри, Тимоха, что там делается.
— Я смотрю, товарищ майор. Немцы убитых собирают, повозки ездят, пушки ихние валяются, машины горят… Вот… Ага, вот какая-то машина приехала. Вроде как легковая. Мотоциклисты, бронетранспортер — охрана, значит. Какой-то немецкий командир из машины вылез… может, генерал… все перед ним тянутся… рукой повел так, знаете ли, будто все это ихнее и потому должен быть порядок. Вот он опять сел в машину, поехал… повернули в сторону фронта… то есть туда, где наши. А больше ничего не видно.
— Ладно, ты ешь, но по сторонам поглядывай постоянно. Генерал там или кто, а приезжал сюда он не зря. И насчет порядка — ты это верно подметил: непорядок это, когда столько пушек русские раздолбали. Не спроста это, думает этот их генерал. Значит, сейчас они забегают. Станут искать, что и откуда. У них пеленгаторы работают, могут высчитать, откуда передачи. Сам, небось, знаешь: учили, небось… Так что ты смотри в оба, а то засекут нас — и хана.
— Я смотрю, товарищ майор.
— А танки наши — ты их нигде не видишь? Посмотри, нет ли возле лесочка?
— Никак нет, товарищ майор. Нету наших танков. Отошли, наверное. Я так думаю, товарищ майор, что приказ был, вот они и отошли. Без приказу бы стояли — за это я головой ручаюсь.
— Я и сам, Тимоха, знаю, что стояли бы, — согласился Вологжин. И вспомнил с сожалением, что письмо заводскому представителю так и не отправил, и теперь лежит оно в его полевой сумке. А ведь танки хорошо себя показали. И «тигров» шлепали, как гнилые орехи, и броня покрепче стала против прежней: сколько снарядов от нее отскочило, иные и приличного калибра. У старой «тридцатьчетверки» башню точно бы снесло, а эта выдержала, только изнутри осколки вырвало. Может, с закалкой что-нибудь не так, может, перекалили башню-то. И все остальное. Но главное, маневренность не стала хуже. Хотя мотор тот же, что и на старой «тридцатьчетверке», а вес танка вырос тонн, считай, на пять-шесть. То есть лошадиных сил на тонну веса стало чуть меньше. И орудие… Пушка, конечно, хорошая, но надо бы как-то уменьшить звук при выстреле и пороховые газы хорошо бы выбрасывать за борт полностью, как это на американских танках устроено. Впрочем, можно и потерпеть. Главное, победить, а там все наладится.
Под вечер они еще раз вызвали огонь нашей артиллерии на колонну немецких танков и машин, направлявшихся к фронту. На этот раз ударили «катюши», и всю лощину между двумя возвышенностями перепахали своими ракетами, так что колонна превратилась в горящие и взрывающиеся кучи металла с разбросанными вокруг телами убитых фрицев.
А через час возле танка остановилось четверо немцев. Один из них залез на башню, заглядывал в смотровые щели, принюхивался, приникал ухом, стараясь уловить хоть какие-то признаки жизни, потом что-то сказал своим товарищам, и из всего сказанного Вологжин уловил лишь несколько слов: «Фу! Шайзе!» и «Аллес тотен», то есть воняет и все мертвые. Однако немцы на всякий случай постучали прикладами по броне, один из них крикнул:
— Русс! Ком, ком! Вэк! Бистро! Бистро! Шиссен! — в том смысле, что, мол, русские, мы знаем, что вы там прячетесь, вылазьте, а то будем стрелять.
Постояв и не дождавшись ответа, они сбили прикладами винтовок антенну, затем сунули в ствол орудия гранату и отскочили в сторону. В стволе рвануло, но поскольку затвор был закрыт, вся энергия взрыва вырвалась наружу, не причинив танку никакого вреда. Потом они сделали несколько выстрелов из автомата в щель командирской башенки, специально предназначенной для стрельбы из личного оружия, если танк вдруг окажется окруженным или еще что, но большинство пуль ударялось в противоположную стенку ее, падали вниз, израсходовав свою энергию. Однако одна из них по какой-то немыслимой траектории нашла ногу Вологжина повыше колена, другая выдрала у Сотникова из плеча кусок кожи.
Постреляв, немцы еще какое-то время топтались возле танка, курили, о чем-то лениво переговаривались. Хотя Вологжин немецкий учил в школе и в танковом училище, в анкете писал, что «владеет немецким со словарем», однако за годы армейской службы язык забыл начисто, вспомнить мог лишь отдельные слова, поэтому из разговоров немцев ничего не понял и пожалел, что так безответственно относился к знаниям, которые в него когда-то вложили, истратив зря народные деньги.
Немцы покурили и ушли, а Вологжин с Сотниковым занялись извлечением пули из ноги Вологжина и перевязками. А когда совсем стемнело, восстановили антенну, но не ту, которую сбили немцы, а просто выбросили кусок изолированного провода через смотровую щель.
«Надо давать другие координаты цели, — решил Вологжин. — Иначе фрицы вернутся и не ограничатся автоматной очередью и гранатой в орудийный ствол. Тем более что еще днем Сотников заметил: если раньше немецкие машины сворачивали влево, то теперь ехали прямо к реке, где, похоже, соорудили переправу». Об этом Вологжин и передал «Енисею», как и о том, что немцы ищут корректировщиков.
Ночью, едва стемнело, на дороге вновь возобновилось довольно оживленное движение транспортных колонн. На этот раз, вызвав артиллерию, дали ей координаты, на целых два километра смещенными к северо-востоку, к реке: пусть фрицы думают, что корректировщики сменили позицию. Снова по цели сработали «катюши», но результат их работы отсюда во всех подробностях виден не был — только горящие бензовозы да взрывающиеся боеприпасы. А сколько чего — не разглядишь.
Глава 11
День проходил, наступала ночь, за ней новый день. Нещадно палило солнце, башня накалялась, воздух в танке, пропитанный миазмами, казалось, превращался в некую жидкость, лишенную даже намека на кислород. И мухи… Они наполнили танк, жужжали, ползали по лицу, лезли в ноздри, в уши, в рот. Снаружи слышалось попискивание трясогузок, охотящихся за мухами, беспрерывное густое стрекотание кузнечиков и сверчков, а это значило, что за танковой броней жизнь продолжалась. Вологжина время от времени окутывало беспамятство, он стонал, ругался, хрипел. Сотников тряс его за плечо, прикладывал к лицу мокрую тряпку, Вологжин успокаивался и отходил.
Этот мальчишка оказался выносливым и терпеливым. Он не жаловался и, казалось, даже не спал, наблюдая за окрестностями. Более того, он оказался еще и весьма изобретательным. После того как они попробовали дышать через противогаз и у них из этого ничего не получилось, он отсоединил трубки от фильтра и высунул их кончики в смотровые щели — дышать стало легче. Но сильнее, чем вонь и раскаленная на солнце броня танка, угнетало бездействие.
Немцы артиллерию на прежнее место ставить не стали, и неизвестно, оттого ли, что здесь были уничтожены несколько их орудий, или оттого, что их танки ушли так далеко, что в их поддержке с такого расстояния не было нужды. К тому же и дорога, по которой еще недавно осуществлялось непрерывное перемещение войск и техники, теперь почти опустела, разве что иногда проедет бронетранспортер в сопровождении десятка мотоциклистов, санитарная машина или пара танков, возвращающихся в часть после ремонта, так что вызывать огонь артиллерии на столь ничтожные цели не имело смысла. Можно было бы самим пальнуть разок-другой, но Вологжин верил: немцы вот-вот должны побежать назад, и тогда им этой дороги не миновать. Он так и ответил «Енисею» на его запрос.
Сотников вдруг заволновался:
— Товарищ майор! Товарищ майор!
— Что тебе? — спросил Вологжин, медленно выплывая из забытья.
— Танки! Наши танки! Тридцатьчетверки!
Вологжин рванулся:
— Где?
— На дороге! Шесть штук. Только… только они с крестами, — возбужденно шептал Сотников.
— Как то есть с крестами? — не поверил Вологжин, откидываясь на спинку сидения.
— Правда-правда! На башне и на броне.
— И что?
— Идут в сторону фронта. А сзади две немецких четверки.
— Трофейные, значит, — пробормотал Вологжин. И пояснил не то себе, не то Сотникову: — Фриц — он хозяйственный. Он ничего не бросит, что может сгодиться.
И вспомнил, как еще на Юго-Западном в сорок первом они захватили несколько немецких танков, вполне исправных и почти с полным боекомплектом, в то время как у наших бэтэшек не осталось ни одного снаряда, и пытались использовать их в бою, но комиссар полка, заметив это, так вздрючил комбата за это якобы преклонение перед вражеской техникой, что потом никому и в голову не приходило повторить подобное. А главное, что эти танки бросили, сделали немцам, можно сказать, подарок. Дурью маялись. А немцы, значит, используют, что можно использовать, и взрывают те наши танки, что требуют капитального ремонта. Умно воюют, сволочи, не то что мы, заключил Вологжин, но вслух не сказал ничего.
Ночью Сотников с осторожностью открывал командирский люк и они по очереди дышали свежим воздухом. Когда днем дышать становилось невмоготу, а привыкание то наступало на какое-то время, то отступало, Вологжин подумывал о том, чтобы вообще покинуть танк ночью, найти какое-нибудь укрытие, там и переждать, но его удерживала собственная беспомощность, незнание обстановки за пределами видимости из танка и движение по дороге, хотя и не столь оживленное, но не прекращающееся ни днем, ни ночью. Было слышно, как тарахтели подводы, подвывали моторами одиночные грузовики и танки, шла пехота — и тоже мелкими подразделениями. Наша артиллерия время от времени постреливала, но чаще всего налетали штурмовики, днем — большими группами, ночью — по одному, по два, выпускали осветительные ракеты и прочесывали дорогу пулеметами, пушками и ракетами, оставляя на ней то горящую цистерну, то дымящийся танк, то трупы солдат и лошадей. Иногда — и чаще всего днем и совершенно неожиданно — обнаруживались по соседству с танком забредшие сюда по каким-то своим надобностям небольшие группы немецких солдат, и тогда Сотников втягивал внутрь антенну и выдергивал из щелей гофрированные трубки.
На третий или четвертый день на самой вершине гряды, метрах в пятистах от того места, где стоял танк, немцы установили зенитную батарею, которая встречала огнем наши штурмовики и пролетающие мимо самолеты. Оттуда, особенно по ночам, были слышны чужие голоса, скрежет кирок и лопат, урчание машин, то наплывающие, то затихающие звуки музыки, производимые патефоном, а когда зенитки стреляли, даже жестяной звон выбрасываемых гильз. Вологжин сообщил «Енисею» об этих зенитках, и наши самолеты раза два обстреливали их и бомбили, но, видать, не слишком удачно, потому что после налета привычные звуки возобновлялись, как ни в чем ни бывало. А с утра на том месте, где стояли разгромленные немецкие батареи, вновь появились немцы и начали копать, только не поймешь, что и для чего.
В танке, между тем, кончались и вода, и еда. И неизвестно, сколько им еще ждать нашего наступления.
— Какой сегодня день? — спросил Вологжин привычным шепотом у своего товарища по несчастью, предварительно потрогав его рукой.
— А? Что? День? — встрепенулся задремавший Сотников. — Не помню, товарищ майор, — шепотом же ответил он. — По-моему, воскресенье.
— Я не об этом тебя спрашиваю. Число какое?
— Не знаю. Думаю, десятое или одиннадцатое.
— Как там у нас с водой?
— Одна фляжка осталась, товарищ майор. Пить хотите? Вы пейте, я не хочу.
— Я тоже не хочу, — соврал Вологжин и облизал сухим языком потрескавшиеся губы. — А сколько сейчас времени?
— Три часа семнадцать минут, — ответил Сотников, вглядевшись в командирские часы, отданные ему Вологжиным. И добавил: — Похоже, дождь собирается. Может, воды удастся раздобыть. Я вот все думаю-думаю и никак придумать не могу, как это сделать. Люк открывать нельзя, потому как фрицы близко, а не открывать, ничего нам не натечет.
— А ты попробуй открыть люк механика.
— Пробовал. Но только он так завален землей и камнями, что я чуть приподнял, а оттуда как посыплется, как посыплется…
— Хорошо бы, если бы дождь пошел ночью…
— Хорошо бы, товарищ майор. А только… Слышите гром? Слышите? Гроза идет. А до вечера еще далеко… Если фрицы попрячутся, я тогда каску выставлю…
— А что они сейчас делают?
— Окопы роют или что — уж и не знаю…
— А ты посмотри повнимательнее. Может, это саперы, — говорил Вологжин, ощупывая панораму. — Если саперы, то вооружены только винтовками. У саперов петлицы черные, на рукавах черные нашивки с молоточками. Не исключено, что они готовят позиции для противотанковых орудий. Если это так, значит, фрицы выдохлись, драпать собираются и выставляют заслоны. Смотри, Тимоша, внимательнее смотри. Это очень важно. И говори обо всем, что видишь.
— Это точно саперы, товарищ майор. Винтовки составили в козлы, часовые ходят, а сами раздетые по пояс. Здоровые, однако, гогочут… Слышите? Нет?
— Слышу.
— Офицер среди них ходит, погоняет… — докладывал Сотников. — Брустверы на север выводят, товарищ майор. По бокам окопы, а посредине квадрат.
— Вот-вот, Тимоха! Так оно и есть. Квадрат этот называется двориком, в нем размещают орудие. Значит, немного нам осталось ждать. Значит, наши дали им жару, драпать они, сволочи, собираются… — возбужденно говорил Вологжин, запрокинув голову, прислушиваясь к доносящимся снизу звукам, разделяя их и анализируя. — Нам бы еще ствол своего орудия прочистить банником: осколки там от гранаты, земля, песок. Разорвать ствол может при первом же выстреле.
— Я прочищу, товарищ майор. Ночью, когда наши подойдут, стрельба начнется, никто не увидит…
— Нет, бесполезно все это. Ты вот что, Тимофей. Ты вытащи снаряд из гильзы. Один всего снаряд. Отсыпь часть пороха. Заткни какой-нибудь тряпкой. Как только начнется, пальнем этой тряпкой — ствол и очистится.
— Здорово, товарищ майор! Но как же без прицела? Прицел-то разбит в дребезги.
— А так — через ствол прицеливаться будешь. Поймаешь цель и начинаешь ее вести через ствол орудия, если она, скажем, движется. Потом снаряд в казенник и выстрел. А если он, сволочь, стоит, так и того легче.
— Я освою, товарищ майор. Вот увидите. Я сообразительный. Не беспокойтесь.
— Да-да, Тимоха. Обязательно освоишь. Мы еще им покажем. Снарядов у нас полный комплект. Всего четыре штуки израсходовали… Ты гильзу освободи… гильзу-то… Они нас попомнят… Кровью умоются… кровью… — шептал Вологжин, и Сотникову показалось, что командир его впадает в беспамятство. В последние два дня, как раз в самую жару, с ним это случалось уже раза три-четыре.
Он нашел руку Вологжина — рука была вялой, неживой. Сотников испугался, смочил тряпицу драгоценной водой, приложил к лицу командира, затем разжал его рот и влил туда пару глотков. Вологжин всхлипнул, поперхнулся, но не закашлялся: долгое пребывание на грани жизни и смерти приучило их подавлять в себе любое желание, даже непроизвольное: кашель там или еще что, лишь бы не выдать своего присутствия.
— Что? Что такое? — спросил Вологжин, едва прекратились конвульсии тела, борющегося с кашлем.
— Попить я вам дал, товарищ майор: сознание вы потеряли. Испугался я, — оправдывался Сотников.
— Сам-то попил?
— Сам-то? Попил маленько, товарищ майор. Да мне и не хочется.
— Не ври. Пей давай! — приказал Вологжин. И, лишь услыхав, как Сотников сделал пару глотков из фляги, продолжил настойчивым шепотом: — Если я сознание потеряю или даже умру, это не имеет значения. Но ты не должен умереть, Тимоха. Ты должен жить. Там ждут наших данных. Для них очень важно знать, что тут делается…
Над головой будто взорвалась небывалая бомба или снаряд, и осколки от нее посыпались тяжелыми подпрыгивающими ударами куда-то на запад. И почти сразу же стемнело. Вологжин этого не видел, но он услыхал, что привычные звуки: стрекот кузнечиков, писк трясогузок, лязг лопат о каменистую землю — стали затихать, а затем исчезли окончательно.
— Что там? — спросил он у Сотникова.
— Фрицы побросали кирки и лопаты и подались в палатки. Там у них палатки, оказывается, стоят. А я сразу-то и не разглядел. Дождь, стал быть, вот-вот начнется, товарищ майор. Потемнело ужасно. Если что, я каску-то выставлю… Как вы считаете?
— Только с той стороны, где нет никого. Нам нельзя раскрыться никак… Столько терпели, столько ждали… Нет-нет, лучше совсем ничего не надо. Глупая случайность и — хана. Еще потерпим малость…
— А я, товарищ майор, это… Тут вот жестянка какая-то, так я ее высуну в щель-то, что накапает, то и в каску. Жестянку-то не заметят, товарищ майор. Куда им…
Вспыхнул голубоватый пульсирующий свет — и новый мощный удар грома расколол, казалось, землю и небо на мелкие кусочки. И тотчас же на броню обрушился ливень, и танк со всех сторон огородила плотная стена дождя.
Сотников приподнял крышку командирского люка, высунулся, огляделся — ничего не было видно ни внизу, где стояли палатки саперов, ни на дороге. Тогда он откинул крышку и, стоя по плечи под проливным дождем, подставил под его струи сразу две каски.
— Сотников! Ты чего? — забеспокоился Вологжин, почувствовав, как внутрь танка хлещет вода.
— Нет никого, товарищ майор! — крикнул, склонившись над люком Сотников. — И не видно ничего: ни мы их, ни они нас. Вы откройте свой люк. Сможете?
Вологжин помедлил, борясь с искушением, затем сдвинул запор и поднял крышку, и на него обрушились потоки дождя. Он ловил струи ртом, лицом, телом. В минуту он стал мокрым до нитки, но ощущение опасности ни на мгновение не покидало его, и он, едва почувствовав ослабление дождя, закрыл люк и сев на мокрое сиденье, дернул за штанину Сотникова.
— Все! Хватит, Сотников! Закрывай люк.
Тихонько звякнула крышка, и разочарованный голос Сотникова произнес:
— Еще бы пару минут, товарищ майор, каски были бы полными.
— Выставляй свою жестянку и набирай. Но смотри в оба.
Гроза пронеслась, но дождь не прекратился. Правда, не такой сильный, однако дорога по-прежнему пустовала, и саперы все еще сидели в своих палатках. Зато теперь мимо танка несся по промоине мутный поток воды. Он шумел, ворочал камни, камни ударялись в гусеницы, в катки, стучали в днище, точно просясь внутрь. Вода поднялась внизу, залив трупы погибших танкистов, она булькала, хлюпала, ворчала, вонь усилилась — до тошноты.
— Нижний бы люк открыть, — зашептал Сотников. — Смыло бы тогда все, чище бы стало, дышать легче…
— Почему нельзя открыть? — спросил Вологжин, восстановив в своей памяти конструкцию люка и его запоры.
— Выгнуло его, товарищ майор. Одним концом его как бы выдавило наружу, поэтому вверх ему дороги нет. Ломы нужны и кувалда, иначе никак.
— Ну, никак так никак. И говорить об этом нечего.
И все-таки после ливня дышать стало легче. А дождь, продолжавшийся какое-то время еще и по темну, то затихая, то припуская, позволил Сотникову наполнить водой две полуторалитровых фляжки.
— Ничего, жить можно, — бодрился Вологжин, хотя боль в глазницах возникла снова и с каждым часом все нарастала и нарастала.
Видать, началось воспаление, а что делать в таких случаях, он не знал. Но и ничего не делать было нельзя, и оставалось лишь снова прижечь раны водкой. И тогда он решительно содрал повязку и почувствовал, как по лицу его течет не то кровь, не то гной.
Сотников склонился над ним, стал вытирать под глазами марлевыми тампонами, и говорил, говорил, говорил, заглушая свой страх, свою неуверенность, но Вологжин, сжавшись в комок, с трудом сдерживая рвущийся из груди стон, не понимал ни единого слова.
Когда Сотников закончил чистку и наложил на глазницы тампоны, смоченные водкой, и прижал их новой повязкой, Вологжин, переведя дух, отпил из фляги несколько крупных глотков водки. В голову ему тут же ударил хмель, и все поплыло куда-то, и он сам поплыл, и казалось ему, что плывет он на противоположный берег Шексны, при этом совершенно голый, а на том берегу немцы, немцы, немцы…
Миновал еще один день, на этот раз пасмурный, с моросящим дождем. Впервые в танке стало холодно, и Вологжин пожалел, что поддался минутному настроению во время ливня, открыл люк и промок. Теперь в мокрой одежде было весьма неуютно. Сотников укутал Вологжина плащ-накидкой — стало вроде бы теплее.
«Енисей» их не беспокоил. Немецкие саперы по-прежнему вгрызались в каменистую землю у подошвы гряды, вдалеке бухали пушки. К концу дня по раскисшей после дождя дороге в обратную сторону, то есть на юг, поползли колонны машин с солдатами, легкие танки, орудия. Было хорошо слышно, как буксуют машины, кричат солдаты, воют моторы.
Сотников докладывал обо всем увиденном.
— Как ты думаешь, они отступают, — спросил Вологжин, — или совершают перегруппировку?
— Не знаю, товарищ майор, — не сразу ответил Сотников, и Вологжин словно увидел, как тот вздернул в недоумении свои мальчишеские плечи. — А только не похоже, чтобы драпали, товарищ майор. Да и пушки стреляют далеко — еле слышно.
— Значит, в одном месте фриц не прошел, будет пытаться прорваться в другом, — высказал свою догадку Вологжин и, вызвав «Енисея», коротко доложил обстановку.
«Енисей» долго не отвечал, затем среди треска и писка послышался далекий, едва различимый голос, который велел ждать и больше его не вызывать: он сам вызовет, когда понадобится. Это показалось Вологжину странным. В сердцах он выругался, но не вслух, а про себя: фрицы — вот они, бей их: никто не мешает, а они… они там, черт знает, о чем думают. Но привычка к дисциплине повиновения командам взяла свое. К тому же им там виднее — и в прямом и в переносном смысле слова. А ему тут…
Утром двенадцатого июля Вологжина разбудил слитный и все усиливающийся гул далекого боя. Вскоре там ревело уже без передыху, лишь изредка понижая тон, чтобы на фоне не прекращающегося гула можно было различить отдельные выстрелы танковых орудий и самоходок, взрывы снарядов, бомб, мин и чего там еще. Вологжин припомнил карту, расположенные на ней села и хутора, речки и отмеченные значками высоты, не шибко большие, однако в военном деле имеющие подчас огромное значение. Зная немецкую тактику прорывать фронт на сравнительно узкой полосе, он представлял, как наши атакуют немцев по флангам, немцы огрызаются, продолжая рваться вперед, и там-то, скорее всего, сейчас и разворачиваются главные события. Это должно быть не слишком далеко от них, но, если судить по звукам, очень даже порядочно, и может случиться так, что рации не хватит мощности, чтобы дотянуться до наших.
Вологжин разбудил Сотникова: ему показалось, что они что-то важное проспали, что день в разгаре, что рядом немцы, что одно дело слышать, но не видеть, а совсем другое… Но проснувшийся тотчас же Сотников сообщил, зевая, что солнце еще только-только взошло, что вокруг все спокойно, но там, где еще вчера ковырялись саперы, немцы устанавливают противотанковые орудия, дорога пустынна, небо затянуто низкими облаками, моросит дождь и день снова обещает быть холодным, что с помощью жестянки он набрал еще одну флягу воды.
Теперь они вдвоем вслушивались в далекий гул, каждый про себя гадая, что там может происходить. Ясно, что где-то там идет бой, потому что на артподготовку эта стрельба не похожа: у той совсем другой мотив, другие тона и октавы. Иногда, как порождение этого боя, над ними с воем пролетали самолеты. Чаще немецкие, и тогда зенитки, стоящие на вершине гряды, не стреляли. Если наши, били часто, остервенело, взахлеб. Но как только затихало рядом, тут же снова вспухал далекий гул, смещаясь то влево, то вправо, то возникая сразу в нескольких местах. Сотникову представлялось, что где-то вдали встали напротив друг друга сотни, если не тысячи, орудий, танков и самоходок и принялись палить, как на дуэли — кто кого перепалит.
Вологжину же чудилось нечто бесформенное: атаки, контратаки то в одну сторону, то другую. В сорок первом он проходил нечто подобное, когда, едва очухавшись после контузии, получил под свое командование танковую роту, с ней в составе Восьмого танкового корпуса сошелся на встречных курсах с двумя немецкими танковыми дивизиями. Боже, как тогда горели бэтэшки, как они горели! И не столько от огня немецких танков, сколько противотанковой артиллерии, появлявшейся всегда неожиданно. Правда, и фрицам тогда досталось тоже, но сказалось их превосходство даже не в технике, сколько в организованности, в умении взаимодействовать между собой всех родов войск, а в результате через несколько дней боев от Восьмого танкового корпуса не осталось почти ничего. Вологжина тогда ранило в плечо, экипаж успел покинуть горящий танк, его доставили в медсанбат, там перевязали, из медсанбата отправили в полевой госпиталь, а потом за Днепр, а по всему по этому он не попал в окружение, вылечился, получил танковый батальон и снова стал воевать… до следующего ранения.
Глава 12
В штабе фронта, расположенном северо-восточнее поселка Прохоровка, над картой склонились двое: командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин и представитель Ставки маршал Василевский.
— Наличными силами мы немцев не удержим, — признался после долгого размышления генерал Ватутин. — Первая танковая армия Катукова и Шестьдесят девятая армия Крюченкина с трудом сдерживают противника, который рвется к Прохоровке. У Катукова почти не осталось танков. У Крюченкина некоторые дивизии едва дотягивают до бригады. К тому же генерал Крюченкин явно не соответствует должности: его решения не поспевают за быстро меняющейся обстановкой, информация из штаба армии в штаб фронта не поступает иногда по нескольку часов. Ситуация, Александр Михайлович, как видишь, весьма сложная. Нам бы одну танковую армию и одну общевойсковую…
Маршал Василевский мучительно наморщил свой высокий лоб: просить у Сталина две армии ему явно не хотелось. Он вполне представлял себе, что ответит Верховный на такую просьбу: мол, вам сколько ни дай, все мало, воевать надо не числом, а умением, что тесное взаимодействие между пехотой, танками, артиллерией и авиацией до сих пор как следует не налажено. И будет прав. Потому что такие генералы, как тот же Крюченкин, делать этого так и не научились. И вообще, хороших командующих армиями не так уж много. Их, хороших-то, вообще раз-два и обчелся. А нехорошие более-менее хороши на дивизии, а на корпус уже не тянут. Между тем число дивизий и корпусов растет, иногда на них ставят преподавателей академий и даже училищ, которые разбираются в теории, но не способны применять ее на практике. Ко всему прочему, опережая немцев в количестве танков и авиации, мы явно отстаем от них в техническом отношении.
Александр Михайлович помял пятерней свой подбородок, глянул исподлобья на круглую, упитанную физиономию Ватутина, с коротким вздернутым носом, застывшую в напряженном ожидании.
Еще недавно, когда Ватутин служил в Генштабе, Василевский ходил под его началом. Теперь роли их переменились, однако некоторая зависимость от прошлого все-таки осталась. К тому же их связывали общие недавние ошибки и просчеты, допущенные во время осуществления наступательной операции под кодовым названием «Скачок». Теперь пришло время оправдывать полученные авансом высокие звания и награды… Впрочем, как не крути, а без существенного усиления Воронежского фронта немцев не остановить. И решение принимать не Ватутину, а ему, маршалу Василевскому. Ему же и выходить на Сталина.
— Что ж, Николай Федорович, пожалуй, ты прав, — промолвил Василевский, не отрывая взгляда от карты. — Надо только это как-то убедительно обосновать, — добавил он и только тогда посмотрел на Ватутина.
— Обоснуем! — воодушевился тот. — Я уже над этим думал. Вот смотри, Александр Михайлович. Мы нанесем удар по Второму танковому корпусу СС с двух сторон, зажмем их дивизии между реками Псёл и Северский Донец, отрежем от тылов и уничтожим. Немцы выдыхаются, у них большие потери в людях и технике, практически не осталось резервов. Надо только успеть сосредоточить общевойсковую и танковую армии западнее и восточнее Прохоровки. Оттуда и ударить всей их мощью. — Помолчал и далее с просительными интонациями: — Позвони товарищу Сталину, Александр Михайлович. Сам понимаешь: время дорого.
Сталин, выслушав Василевского, долго молчал. Затем спросил:
— А чем вы гарантируете, что на этот раз все получится так, как вы с Ватутиным запланировали?
— Товарищ Сталин, имея такие силы, мы ударим по уже весьма ослабленному противнику мощным танковым кулаком. Нам известно, что 4-я танковая армия генерала Гота в предыдущих боях потеряла более половины своих танков и артиллерии. При соответствующей поддержке 2-й воздушной армии генерала Красовского мы переломим ход сражения в свою пользу.
— Хорошо, — наконец согласился Сталин. — Свяжитесь с Коневым, договоритесь с ним о маршрутах и сроках выдвижения 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова и 5-й гвардейской армии генерала Жадова. И о районах их сосредоточения. Надеюсь, что на этот раз вы не позволите Манштейну и Готу обвести вас вокруг пальца.
— Не позволим, товарищ Сталин, — ответил Василевский и положил трубку. Затем, переведя дыхание, уже Ватутину: — Я сейчас свяжусь с Коневым, а ты, Николай Федорович, со своим начштаба продумайте все до мелочей. Кстати, где твой начштаба?
— Отослал в войска в качестве представителя фронтового командования.
— Это что же, ты и за командующего и за начштаба?
— Ничего, мне не впервой, — беспечно отмахнулся Ватутин.
Маршал Василевский лишь покачал головой. Да и что тут скажешь? Его самого Верховный тоже практически отстранил от руководства Генштабом, сделав штатным представителем Ставки. Теперь Генштабом за него руководит генерал Антонов, человек, конечно, способный, но… Выходит, что он, Василевский, оказался начальником без подчиненных. И неизвестно, чем это кончится.
* * *
7 июля в полночь выделенные Воронежскому фронту армии двинулись в районы сосредоточения. Танкистам предстояло пройти ускоренным маршем около трехсот километров, пехоте — чуть меньше ста, чтобы занять выжидательные позиции в отведенных местах, привести себя в порядок, подтянуть тылы и нанести удар всей своей мощью по зарвавшемуся противнику. А пока танкисты движутся под палящим солнцем в своих раскаленных железных коробках, задыхаясь от пыли, которую видно за многие километры, теряя по дороге технику из-за всяких поломок, останавливаясь перед мостами, которые строились для крестьянских телег, Ватутин должен удержать противника на слабо подготовленном третьем рубеже обороны: кто ж знал, что немцы до него доберутся? — и не пустить их к Прохоровке с ее железнодорожной станцией, армейскими складами, ремонтными мастерскими и госпиталями. Но удержать не получалось. Основные силы немцев, хотя и с трудом, продолжали двигаться в сторону Курска вдоль Обоянского шоссе с юга, вспомогательные — с юго-запада, грозя окружением обескровленным 69-й и 1-й гвардейской танковой армиям.
Все висело на волоске, все зависело от того, успеют ли резервные армии вовремя прибыть в район сосредоточения, занять позиции и изготовиться к наступлению, а поредевшие и уставшие войска сдерживать напор противника.
Обе армии двигались по разным дорогам днем и ночью. Немецкая авиация обнаружила многокилометровые колонны задолго до их подхода к месту назначения, однако не беспокоила: самолетов хватало только на то, чтобы бомбить обороняющиеся русские полки и дивизии.
Немецкие генералы, со своей стороны, понимая всю опасность, которая нависала над их войсками, спешили завершить окружение и выйти на оперативный простор. На этом просторе русские танковые части, так и не сумевшие приноровиться к немецкой тактике наступления, будут везде натыкаться на противотанковую оборону, подвергаться атакам с воздуха и, рано или поздно, обескровленные, будут запечатаны в очередном котле.
А ведь эта тактика, когда-то придуманная генералом танковых войск Гудерианом, в подробностях изложенная в специальном военном журнале, издававшемся в Берлине, следовательно, не представлявшая никакой секретности для советских генералов, заключалась в том, что танковое соединение в виде корпуса или группы корпусов, сопровождаемые механизированной пехотой и артиллерией, постоянно поддерживаемые авиацией, прорывает фронт противника на узком участке и устремляется в его тылы, имея в арьергарде обычные пехотные подразделения, закрепляющие захваченные территории и обеспечивающие фланги ударной группировки. Главное — четко отлаженное взаимодействие и наращивание инициативы. В случае с русскими — не давать им время на раздумье и многоступенчатые согласования, без чего они вообще воевать не способны.
Все решали уже не дни, а часы. Как для немцев, так и для русских.
Глава 13
К младшему лейтенанту Николаенко, копавшему окопы вместе со своим взводом на опушке леса, подошел командир стрелковой роты старший лейтенант Фоминых, приказал:
— Идем со мной: дело есть.
Николаенко воткнул лопату в бруствер, накинул на плечи плащ и, не спрашивая, куда и зачем, пошел вслед за командиром.
В жесткой листве дубов шелестел дождь. Сверху звучно капало. Со всех сторон в монотонный шум дождя вплетались чужеродные для леса звуки: озлобленная матерщина ездовых и храп обессиливших лошадей, рокот моторов, лязг гусениц, звон лопат, вгрызающихся в твердую почву. Колонны уставших людей продолжали прибывать, рассасываться, их место занимали другие, суетились штабные офицеры, кричали и грозились охрипшими голосами командиры; где-то отрывисто били пушки, иногда слышались даже пулеметы, — и это лучше всяких окриков подгоняло уставших людей скорее зарыться в спасительную землю.
Ротный и вслед за ним Николаенко прошли метров двести и увидели командира батальона капитана Борисова, стоящего под разлапистым дубом в окружении офицеров своего штаба.
Фоминых подошел, кинул руку к фуражке, доложил:
— Товарищ капитан, по вашему приказанию… — и, кивнув на Николаенко, закончил: — Командир взвода младший лейтенант Николаенко.
Капитан Борисов, окинув устало-ироническим взглядом из-под капюшона плащ-накидки тонкую фигуру офицера в грязных сапогах, со съехавшим набок командирским ремнем, оттягиваемым тяжелым пистолетом в кобуре, спросил:
— В армии давно?
— С октября прошлого года.
— Учился где?
— В Казанском пехотном училище, — ответил Николаенко и добавил: — По ускоренной программе.
— Воевал?
— Месяц на Северо-Западном… Потом ранение, ну и…
— Лет-то сколько?
— Девятнадцать.
Капитан Борисов, которому в свои двадцать семь казалось, что он уже прожил долгую жизнь, качнул головой, — мол, повоюй с такими сопляками, — и заговорил, тыча в карту пальцем с черным обломанным ногтем:
— Ладно, смотри сюда. Вот видишь: железка, будка обходчика, кустарник, противотанковый ров? Бери свой взвод и выдвигайся сюда — к оконечности противотанкового рва, имея слева железную дорогу. Там зароешься в землю. Чтобы к рассвету вас не было видно и слышно. Что такое сторожевое охранение, в училище проходил?
— Так точно, товарищ капитан, проходил, — ответил Николаенко.
— Вот и хорошо. Твой взвод назначается в сторожевое охранение батальона. Твоя задача — не дать немцам просачиваться в наши тылы, захватывать «языков», вести разведку, сеять панику, устраивать диверсии. Учти, что у фрицев служит много наших, то есть русских. Всякие там власовцы, казаки, хохлы и прочие. Может, и не так уж много, но имеются. Так ты ни на какие провокации не поддавайся и рот не разевай. И заруби себе на носу: со стороны реки Псёл к нам могут приблизиться только фрицы — и никто больше. Там у них плацдарм, там танковый корпус СС — лучшие войска Гитлера. Оттуда они и будут наступать. Усек?
— А если наша разведка? — спросил Николаенко. — Или кто-то, кто оказался в окружении? Что тогда?
— Если наша разведка, тебя предупредят. Я велю бросить к тебе провод. Твоя обязанность — всегда быть на связи. А таких, кто по каким-то причинам застрял на той стороне, много быть не может. Положишь на землю и пусть ползут к тебе по одному на брюхе. А там смершевцы разберутся, кто они такие. И учти: твоя жизнь и жизнь твоих бойцов зависят от того, как быстро вы зароетесь в землю. А еще оттого, насколько хорошо будешь вести наблюдение, чтобы вас голыми руками не взяли. Имей в виду: приказ за номером 227 остается в силе: ни шагу назад! Стоять насмерть! Все ясно?
— Так точно, товарищ капитан! — бодро ответил Николаенко. — Разрешите выполнять?
— Выполняй!
И младший лейтенант Николаенко, повернувшись кругом, затрусил к своему взводу.
Было около десяти вечера. Серый сумрак окутывал землю. По плащ-палатке младшего лейтенанта шуршали капли дождя. Его взвод, состоящий из пятидесяти восьми человек, наполовину из зеленой молодежи, наполовину из запасников лет сорока-сорока пяти, тяжеловатых на подъем, так и не успевших сбросить с себя лишний вес и встать вровень с молодежью, грудился на опушке леса. Окопы, которые они начали, дорывали уже другие. Вдали на высокой насыпи поблескивала тонкая нитка безжизненной железной дороги. Безжизненность эту подчеркивали валявшиеся под откосом бронированные вагоны и паровоз бронепоезда, попавшего под бомбежку. От леса к этой дороге, минуя окраину какого-то хутора, название которого Николаенко не запомнил, с низенькими саманными хатами, соломенными крышами, плетнями, вишневыми и яблоневыми садами, подсолнухами и окружающими хутор хлебными нивами, тянулся противотанковый ров, в некоторых местах прерывающийся по непонятным причинам.
На небольшом расстоянии вдоль этого рва бойцы стрелкового батальона воздушно-десантной дивизии рыли окопы. Хотя дивизия имела такое громкое название, мало кто в ней прыгал с парашютом и мог назвать себя настоящим десантником. Сам Николаенко парашюта в глаза не видел, в воздушно-десантную дивизию попал после госпиталя с необстрелянным пополнением, и хотя ему довелось повоевать всего месяц, считал себя бывалым воякой, знающим, почем фунт лиха, то есть научился не кланяться каждому снаряду и мине, различать на слух, откуда ведется огонь и чем он ему и его взводу грозит, а главное — как себя вести, если на тебя прет страшная сила, когда начинают трястись поджилки и сердце останавливается от страха, при этом зная и чувствуя всем своим телом, что на тебя смотрят твои бойцы, и ты не имеешь права показывать им свой страх. Несколько атак немцев на их позиции, устроенные на скатах небольшой возвышенности, несколько атак на позиции противника — и на этом его боевая практика была прервана разорвавшейся за его спиной миной из шестиствольного немецкого миномета, прозванного самоваром, и только теперь, спустя почти пять месяцев, этой практике предстояло продолжиться.
Построив свой взвод, Николаенко, преисполненный мальчишеской гордости, что именно ему и его взводу доверена комбатом такая ответственная задача, объяснил своим бойцам стоящую перед ними задачу, передав слово в слово все, что ему было сказано. Молодые бойцы слушали его внимательно, «старики» снисходительно, точно не веря, что этот мальчишка способен ими командовать так, как положено. Но Николаенко некогда было обращать внимание на то, как и кто на него смотрит. Он, повернув взвод направо, повел его к железной дороге, за которой, от будки обходчика, окапывались бойцы другого полка. Вот этот так называемый стык между двумя полками, считающийся особо уязвимым, и предстояло защищать и отстаивать взводу младшего лейтенанта Николаенко.
Вскоре стемнело настолько, что в двух шагах ничего не разглядишь. Развели в уже готовых углублениях несколько небольших костров в надежде, что немцы по такой погоде сидят в укрытиях, боясь высунуть наружу свой немецкий нос. Однако Николаенко на всякий случай выставил впереди два парных секрета — один поближе к железке, другой к оконечности противотанкового рва. В секреты назначил бойцов, уже понюхавших пороху и прошедших госпиталя.
По-прежнему моросил дождь. Иногда в небе вспыхивали голубые молнии, погромыхивало, дождь припускал, лил несколько минут, заполняя отрываемые окопы мутной водой, затем затихал, отдыхая. А бойцам, роющим окоп, отдыхать было некогда. Мелькали саперные лопатки, сгибались и разгибались фигуры людей, от которых валил пар. Сквозь монотонный шум дождя слышалось надсадное дыхание уставших людей, лязг металла, наткнувшегося на камень, сорвавшееся с губ крепкое словцо, шипение едва мерцающих костров.
Малая саперная лопатка удобна тем, что ее можно носить в чехле, при случае использовать в качестве оружия в рукопашной схватке. Но копать ею окопы — мука муковая: рубишь ею землю, как топором, согнувшись в три погибели, отковырял кусок — выбрасывать лучше руками. В училище Николаенко много покопал земли — до кровавых мозолей, чтобы, как говорили инструктора по устройству обороны, будущие командиры на собственной шкуре познали, каково это — копать окопы или окапываться в чистом поле, наткнувшись на стену огня, которую преодолеть невозможно. Но в госпитале мозоли сошли, в обороне, которую они готовили почти два месяца в ста километрах отсюда, он ничего не рыл, а только командовал своими бойцами. И вот эти обжитые окопы и землянки остались далеко отсюда, а ему приходится зарабатывать мозоли наново, хотя командиру копать вовсе не обязательно. Но время — его так мало, что лучше кровавые мозоли, чем кровавые раны от пуль и осколков. И Николаенко копал вместе со всеми. Однако время от времени он оставлял лопату, обходил будущие огневые позиции, проверяя, кто как работает. Люди, даже старики из пополнения, старались, подгонять их не было особой нужды.
Один из таких «старичков», которого все звали дядей Колей, фотограф из Алма-Аты, разогнулся, держась за поясницу, произнес:
— Командир, ты не волнуйся — зароемся так, что фриц мимо пройдет и не увидит. Тут мы его в спину и сфотографируем: клац-клац! — и Гитлер капут.
Пятеро молодых казахов оттуда же, все время жмущихся к дяде Коле, как цыплята к наседке, тоже перестали копать, и Николаенко даже в темноте почувствовал, что они улыбаются.
Глава 14
Чтобы вовремя оказаться на этом поле, на котором тебя могут убить или, в лучшем случае, снова ранить, они почти двое суток топали на своих двоих, сперва под палящим зноем в густой пыли, затем под проливным дождем, под близкие вспышки молний и раскаты грома, по раскисшей земле.
Николаенко ничего не знал о том, что им предстоит. Тем более о планах командования. Однако его знания, полученные в училище, и небольшой окопный опыт говорили ему, что для встречи с наступающим врагом надо хорошенько подготовиться, то есть знать лежащую впереди местность, определить ориентиры, пристрелять их, чтобы потом не жечь попусту патроны. Близкая канонада свидетельствовала, что немец приблизился к этому полю, к хутору с соломенными крышами, к этой желтеющей ниве, к зеленому бору значительно раньше, чем кто-то в каких-то наших штабах рассчитывал. Правда, есть надежда, что размокший жирный чернозем стреножит немецкие танки, а без танков их пехота наступать не любит. Но лето есть лето: дожди коротки, солнце горячее, часа два — и уже сухо.
Успеть, надо успеть! — вот все чувства и желания, владевшие в эти часы младшим лейтенантом Николаенко. Ни на что другое ни у него, ни у его бойцов не оставалось ни сил, ни времени.
Рыли всю ночь. Уже в четвертом часу начало развидняться, оставалось только подчистить, подровнять, выкопать ниши на случай бомбежки и артобстрела. Николаенко отошел к кустам, жидкой полосой протянувшимся метрах в ста от позиции, прикинул на глаз: получилось вроде бы не так уж плохо, то есть со стороны поля окопов почти не видно. Тем более что они располагались не взгорке. Надо только кое-где получше прикрыть брустверы ветками и высоким бурьяном.
Распределив один «максим» в центре, два ручных пулемета по флангам, два пэтээра расположив ближе к центру, выставив в окопах часовых, Николаенко разрешил взводу отдыхать. Тут как раз связисты подтянули провод, и он доложил ротному Фоминых, что ОП (огневые позиции) готовы, впереди все спокойно, взвод отдыхает. Хорошо бы людей покормить, а то все сухари да сухари… Досказать Николаенко не успел.
— Не терять бдительности, — приказал немногословный Фоминых и дал отбой.
— Есть не терять бдительности, — произнес Николаенко упавшим голосом, отдавая трубку телефонисту.
И вздохнул: начальство никогда о людях не думает. При этом начальство в представлении Николаенко выглядело как нечто неопределенное, сидящее где-то далеко от передовой, в хороших условиях, при кухне, кроватях, чистых простынях и прочих благах. Его, например, удивляло, что в госпитале существовало жесткое разделение в зависимости от звания и должности: рядовые отдельно в палатах на двадцать и более человек, младшие командиры тоже отдельно — в палатах человек на шесть-восемь, старшие — и того меньше, а генералы — так у них у каждого отдельная палата, сиделка, и даже питание не сравнишь ни с чьим. Младших командиров, от лейтенантов до капитанов, кормили наравне с рядовыми, разве что давали молоко или кефир; у тех, что постарше, питание было из другого котла, с другими приправами и прочим. Однако вслух об этом не говорили, никто не возмущался и не осуждал: и неприлично — вроде как из зависти, — и себе дороже. Но многие офицеры стыдились заходить в палаты рядовых или общаться с ними в стенах госпиталя.
— На передовой мы всегда рядом, иногда пьем из одной кружки, едим из одного котелка. А тут… — бросил как-то со злым недоумением лейтенант Солоницын, с которым Николаенко подружился за минувшую неделю.
— Да-да, я тоже… мне тоже как-то не по себе, — тут же подхватил Николаенко и огляделся опасливо.
С первых же слов, едва познакомившись, они почувствовали друг в друге что-то близкое, родное. Николаенко сразу же подметил правильную речь Солоницына, речь без обычного мата и всяких вводных слов, и он как-то незаметно подстроился под эту речь, тем более что она не была ему чужда: родители Николаенко были потомственными учителями и за речью своих детей следили. Но оказавшись в среде военных, он, помимо своей воли, довольно быстро перестроился, чтобы не выделяться: и матерился, и покрикивал, полагая, что без этого в армии никак нельзя.
Его новый приятель выделяться не стеснялся.
Затем выяснилось, что Солоницын — москвич, учился в институте, в прошлом году закончил ускоренный курс артиллерийского училища, на фронте командовал акустическими установками, которые по звуку определяют место расположения орудий противника, то есть человек образованный и на все про все имеющий свою точку зрения. У Николаенко своей точки зрения не имелось: не успел приобрести. Зато оба истово верили в мировую революцию, которая должна последовать вслед за победой над фашистами, верили в конечную победу коммунизма в мировом масштабе, обоим не нравилось, что в бесклассовом советском социалистическом обществе классы упразднены чисто теоретически, на самом деле существует дикое неравенство, и от этого в стране всякие неполадки и несправедливости.
— А погоны! А офицерские и генеральские звания! — продолжал все с тем же злым недоумением Солоницын. — Для меня само слово офицер с раннего детства означало лишь одно — враг. Офицерские батальоны, роты, полки! Корнилов, Деникин! Марковцы, каппелевцы! Все это чуждый и враждебный нам мир. И что же теперь? Мы, что, возвращаемся в мир волчьих законов, где каждый сам за себя? Так, что ли?
— А казаки? — спросил Николаенко.
— А что казаки? — передернул плечами Солоницын. — Казаки — совсем другое дело. Это особый народ, выпестованный историческими условиями развития России, народ вольный, свободолюбивый, давший нам Болотникова, Разина, Пугачева. Тут все понятно: у них была своя буржуазия, кулачество и прочее. Были свои бедняки. Шолохов в «Тихом Доне» это хорошо показал. В том числе и почему произошло Вёшенское восстание. Среди казачества всегда шла своя классовая борьба, и она должна была закончиться победой беднейших слоев без большой крови и ссоры с советской властью, — с уверенностью говорил Солоницын. — Но в эту борьбу вмешались люди, ничего не понимающие в природе казачества, вмешались и привели к трагедии целого народа, к напрасным жертвам…
И Николаенко ему вторил:
— Ты знаешь, Саша, я все понимаю и все, что ты сказал, поддерживаю. И уверен, что как только закончится война, так все и переменится. И наступит время, о котором мечтал Чернышевский. Помнишь? «Завидую внукам и правнукам нашим, которым посчастливится… нет! — кому суждено жить в России в тысяча девятьсот сороковом году…» И ведь перед войной мы действительно начали хорошо жить. В том смысле, что верили в будущее, дружили и прочее. Помнишь ведь?
— Еще как помню, Алексей! — воскликнул Солоницын. — И признаюсь тебе: именно за это я и воюю. Может, нам коммунизма увидеть не доведется, как не довелось увидеть Николаю Островскому и другим революционерам. Такая страшная война не может не внести свои коррективы. Ленин в восемнадцатом году полагал, что для построения коммунизма нам хватит лет десять-пятнадцать. Началась гражданская война, интервенция, голод. Однако перед войной народ получил грамоту и великую цель. Это тебе не рай после смерти, обещанный попами. Так что нынешняя война прибавит еще, скажем, лет десять или двадцать лишних. Но что коммунизм неизбежен, в этом я не сомневаюсь. В историческом плане десять лет — мгновение.
О чем только они не говорили! Все подвергалось их анализу и окончательной оценке. В том числе и ужасное начало войны. И договор с Гитлером. И половинчатое решение финского вопроса, который должен был закончиться победой советской власти в Хельсинки. Им все казалось простым и ясным, и было странно, как все это запутывается в неведомых московских кабинетах.
Николаенко из госпиталя выписался первым. С тех пор они переписываются. Но в письмах своих стараются острых вопросов касаться исключительно в завуалированной форме, как будто подвергают разбору некое художественное произведение Гоголя или Салтыкова-Щедрина, чтобы там, где на конверты ставят зловещую печать «Проверено цензурой», не смогли к ним прицепиться. Вот и недавно пришло письмо от Солоницына. Пишет, что воюет на Южном фронте, то есть совсем рядом, но не прямо пишет, а как бы вспоминая места, где довелось бывать до войны, что снова командует батареей, что получил орден Красной звезды и третью звездочку на погоны.
И вспомнил Николаенко по какой-то странной аналогии, что старший лейтенант Фоминых находится в приятельских отношениях с комбатом Борисовым, поскольку оба заканчивали одно и то же Казанское пехотное училище. Капитан наверняка именно у Фоминых спросил, кого бы он послал в сторожевое охранение, а ротный почему-то назначил Николаенко, хотя другими взводами командуют лейтенанты, то есть более опытные, чем он, младший лейтенант Николаенко, следовательно, Фоминых поступил по принципу: на тебе убоже, что мне не гоже.
И восторженное настроение, не отпускавшее младшего лейтенанта все это время, как-то само по себе угасло. Однако настроение настроением, а дело делом. Тем более что он просто обязан доказать всем, — и себе в первую очередь, — что как бы там ни было, а он не какой-то там мальчишка и своего шанса не упустит. Тут главное, чтобы все делать по правилам и в соответствии с обстоятельствами.
Глава 15
Дождь прекратился, но серая пелена облаков продолжала медленно тянуться над землей с северо-запада на юго-восток, а саму землю укутало тонкое покрывало тумана. Было прохладно. Между тем Николаенко приказал погасить костры: демаскируют.
— К хорошей погоде, — произнес стоящий рядом помкомвзвода старший сержант Мамаев, имея в виду стелющийся над полем туман.
— К лаптежникам, — поправил его Николаенко, оглядывая горизонт.
— Это уж как пить дать, — хохотнул Мамаев и вдруг встрепенулся, схватил Николаенко за рукав гимнастерки и, перейдя на громкий шепот:
— Смотри! Смотри, командир! Фрицы!
И действительно, вдали беззвучно, как бы вылепливаясь из тумана, появлялись едва различимые человеческие фигуры. Много человеческих фигур. Двигались они двумя шеренгами, то есть почти сомкнутым строем, но пройдя еще метров сто, начали рассредоточиваться, вытягиваясь в две плотные цепи, явно не подозревая о существовании взвода младшего лейтенанта Николаенко.
— Вот гады! А! Поспать не дают, — прошептал Мамаев. И стал считать: — Два, восемь… Мать моя родная, сколько их!
Фигуры медленно вырастали. И было их не больше сорока.
Тут со стороны кустарников, пригибаясь к самой земле, прибежали двое из секрета, спрыгнули в окоп, и один из них, по фамилии Угробин, доложил:
— Немцы, товарищ младший лейтенант! Сюда направляются…
— Вижу, — перебил Угробина Николаенко, и хотел отчитать его за то, что слишком поздно заметили, но передумал и приказал: — Занимайте свои места. — И тут же своему помощнику старшему сержанту Мамаеву: — Буди людей. Но чтобы тихо. — И добавил: — Без моей команды огня не открывать! Ни в коем случае! — И, подтолкнув Мамаева на левый фланг, сам пошел на правый, поднимая людей коротким приказом:
— К бою! — И уж потом предупреждал: — Не шуметь, без приказа огня не открывать. Не высовываться: немцы рядом.
По всей линии окопа зашевелились люди, иногда звякало оружие и тотчас же раздавалось шипящее:
— Тих-хо, мать вашу!
Вернувшись на свое место, Николаенко продолжил наблюдение за приближающимися немцами.
Тихонько задребезжал телефон. Телефонист протянул трубку, предупредив:
— Ротный.
— Взводный Николаенко слушает, — ответил Николаенко, прикрывая трубку ладонью и опускаясь на дно окопа.
— Спите там, что ли? — послышался резкий окрик Фоминых. — Фриц уже возле вашей позиции, а вы там…
— Немцев вижу, — перебил ротного Николаенко. — Взвод готов к открытию огня. Как только подойдут поближе…
— Как только они подойдут поближе, вы их не остановите! — сбавил немного тон Фоминых.
— Остановим, товарищ старший лейтенант, — заверил Николаенко и отдал трубку телефонисту, хотя ротный что-то еще бубнил по поводу открытия стрельбы. Но для Николаенко в эти мгновения не было над ним ни ротного, ни батальонного начальства, а были только вот эти фрицы, приближающиеся к позициям его взвода, и свои бойцы, которые должны открыть огонь только по его команде.
Надо заметить, что пока Николаенко отлеживался в госпитальных палатах для младшего офицерского состава, он как бы прошел школу усовершенствования этого самого состава, многому научаясь у более старших и более знающих товарищей. И ни то чтобы там читались лекции или специально кто-то делился своим опытом. Ничего подобного. Но соберутся в курилке, или в той же палате в ожидании уколов, обеда или ужина, и ни с того ни с сего заведется разговор о том, как кто-то попадал в какие-то отчаянные положения и как из них выпутывался. Иногда это были просто байки, но чаще всего разгорался спор, так ли надо было поступать или иначе, и почему, и вспоминались подобные же случаи. И кто-нибудь многоопытный скажет:
— Вот фриц, например, он всегда подпустит тебя на близкое расстояние, метров, скажем, на пятьдесят-шестьдесят, и врежет из всех видов оружия. И гранатой его не достанешь, потому что лежа далеко не бросишь, и назад драпать поздно, и вперед не попрешь, потому что он сразу же выбивает офицеров, а солдат без командира уже не солдат. И будет он лежать и гибнуть, и молить господа, чтобы пронесло.
И все с ним согласятся.
А немцы, между тем, уже вплотную приблизились к кустам терновника, не очень густым, от корня просвечивающим насквозь, но все-таки мешающим разглядеть ждущую их опасность. Поблескивали каски, винтовки с плоскими штыками. Чуть впереди шли двое, похоже — офицеры, хотя тоже в касках и по одежде не отличишь. Вот уже слышен шорох многих шагов. Вот офицеры миновали кусты терновника, и все, кто шел за ними, стали сбиваться в четыре группы, которые устремлялись в узкие проходы между кустами, а затем снова разворачиваться в цепи. Все это они проделывали молча, без всяких команд, как заведенные.
До них оставалось метров сто пятьдесят, то есть предельное расстояние для ППШ. Николаенко вдруг почувствовал озноб и даже будто неуверенность. В голове всплыли слова командира, что если подпустить ближе, то можно не остановить. А у него во взводе лишь девятеро успели понюхать пороху, остальные немцев и в глаза не видели, то есть могут драпануть или начать стрелять без команды, и мало ли что. Однако, стиснув до ломоты в скулах зубы, Николаенко продолжал ждать, и как только последние фрицы миновали кусты, он, набрав в грудь побольше воздуху, замер, отсчитывая шаги приближающихся врагов, и когда осталось метров семьдесят, крикнул высоким голосом:
— Огонь!
И враз ударили все четыре пулемета, зачастили винтовочные выстрелы, длинными очередями зашлись автоматы ППШ, ухнуло несколько гранат.
Но странно: немцы не упали на землю, не бросились врассыпную. Они замерли на мгновение, а затем те, кого не свалили первые же выстрелы, кинулись вперед. Молча, пригнувшись, стреляя от живота. Но ни один из них не добежал до окопа. Последний упал метрах в десяти, не успев бросить гранату, и она разорвалась в его руке.
И Николаенко, немного помедлив, крикнул:
— Прекратить стрельбу!
И по окопу понеслось в обе стороны веселое и нервное:
— Прекратить стрельбу! Кончай стрелять!
И стало так тихо, что кашлянуть — и то было как-то жутковато. Все смотрели на неподвижно лежащих немцев, точно не веря, что они по-настоящему мертвы, ожидая от них какой-нибудь пакости.
— Надо бы проверить, может, там кто живой, — неуверенно произнес Николаенко и посмотрел на своего помкомвзвода.
— Бу сделано, командир, — весело откликнулся Мамаев и рывком выбросил свое крепко сбитое тело из окопа. Стоя наверху, на виду у всех, крикнул:
— От каждого отделения — по два человека! Пойдем, славяне, глянем, кого мы тут накрошили. Слушай команду! Проверить покойничков, забрать оружие и документы! Если обнаружатся раненые, не добивать, тащить в окопы. Но держать ухо востро! А то они, гады, знаю я их! Айда, робяты! — и, махнув рукой, не снимая пальца с крючка автомата, пошел вперед. И другие тоже, кто вылез из окопа. Их даже оказалось больше, чем нужно, но Николаенко препятствовать не стал: пусть посмотрят, пусть поймут, что немец тоже из мяса и костей, что его тоже можно убить или ранить.
А сам стал докладывать командиру роты:
— Атака отбита, товарищ старший лейтенант. В том смысле, что все фрицы лежат перед ОП. Проверяем, сколько убитых, сколько раненых, выясняем, кто такие. Через полчаса доложу окончательный итог.
Через полчаса Николаенко докладывал:
— Уничтожен передовой взвод немецкого штрафного батальона. Сорок один человек. Среди них два офицера. Девять человек легко ранены, перевязываем. Все из дивизии «Дас Райх», Второй танковый корпус СС. Захвачены трофеи: автоматы, винтовки и прочее. Производим подсчет. С нашей стороны один убитый и двое раненых.
Под прочим Николаенко подразумевал немецкие ранцы с галетами, эрзац-шоколадом, патронами, гранатами и два ручных пулемета, полагая, что обо всем докладывать не стоит: самим пригодится. Тем более что на позиции они вышли, имея неполные комплекты патронов для автоматов и винтовок, ручных и противотанковых гранат, то есть всего на час хорошего боя.
— Молодец, Николаенко, — скупо похвалил старший лейтенант Фоминых. — За пленными и трофеями пришлю подводы. Но вы там не расслабляйтесь и бдительности не теряйте. Ожидается крупная атака противника. Не исключено, что будут танки.
Через какое-то время подводы привезли по два термоса с гороховым супом и перловой кашей со «вторым фронтом» — будто в награду за уничтожение немецкого взвода, а не уничтожили бы — то и не привезли бы. Более того, пришел сам комбат, капитан Борисов, выслушал рапорт, похвалил, обошел позиции, посмотрел на кучу винтовок и автоматов, походил среди трупов, трогая их ногой. Николаенко сопровождал комбата. Остановились возле подвод. Капитан Борисов спросил:
— Пулеметы были?
— Не было, — ответил Николаенко, не моргнув глазом.
— Ну и ладно, — кивнул головой комбат. И добавил, усмехнувшись, заставив Николаенко покраснеть не только лицом, но даже шеей: — Если бы были, я бы их поставил на правый фланг. — Потом велел: — Винтовки погрузи, десяток автоматов можешь оставить себе. Гранаты тоже: заработал. Трупы сбросьте в противотанковый ров, чтобы не мозолили глаза. И не воняли. — И, глядя, как на подводы укладывают раненых немцев и своих, добавил: — День будет жарким. Так что не расслабляйтесь. И берегите патроны: неизвестно, как дело сложится.
— Есть не расслабляться и беречь патроны, товарищ капитан, — будто эхо подхватил Николаенко.
— Ну-ну, поживем — увидим. — Пожал младшему лейтенанту руку и добавил: — Список отличившихся представь на награждение. Но не более десяти человек. — И ушел вслед за подводами.
А в окопе гремели и скребли в котелках ложки, стоял возбужденный шум людей, только что избежавших смерти, и не чудом, а удивительной выдержкой и расчетливостью командира взвода, который как-то сразу повзрослел в их глазах, — даже в глазах тех, кто успел повоевать, — и утвердился окончательно на своем месте. И Николаенко это почувствовал, и теплая волна благодарности к своему взводу поднялась в его груди. Однако он не позволил себе расслабляться, решив, что это так себе, семечки, а главное испытание ждет их всех впереди. И, обходя своих людей, мысль эту старался им внушить, чтобы тоже не расслаблялись.
Глава 16
Над позициями батальонов на небольшой высоте пролетела немецкая «рама». Затем вернулась назад, но уже значительно выше, и стала кружить, постепенно превращаясь в маленькую букашку. Потом завыло, и сразу же несколько снарядов разорвалось вблизи опушки леса. Через минуту еще, но теперь на окраине хутора. А потом пошло-поехало.
Николаенко поначалу смотрел, как вспухают черные разрывы, не достигая правого фланга его взвода, а все больше по линии противотанкового рва. Затем они стали накрывать и все пространство вокруг. Тогда он лег на дно окопа и втиснулся в нишу, вырубленную в боковой стенке. И весь взвод его, за исключением наблюдателей, втиснулся в подобные же ниши, из которых обязательно что-нибудь да торчало: нога, рука, винтовка или автомат. Полчаса или больше Николаенко пролежал в своей нише, вздрагивая от близких разрывов, пока эти разрывы не поползли в сторону железки.
Выбравшись из ниши и отряхнувшись, он глянул на поле и ужаснулся: по всему полю, давя желтеющие хлеба, двигались немецкие танки, точно диковинные жуки-скарабеи на запах конского навоза. И это были не все танки: новые выползали из-за невысокой холмистой гряды, поросшей кустарником, тоже выстраивались в некую линию и следовали за впереди идущими. Во главе клина ползли танки, каких Николаенко еще не видел вживую, а только на картинках, и это были те самые «тигры», о которых поговаривали, что их в лоб не берет ни одна советская пушка. И хотя Николаенко в прошлом уже встречался с немецкими танками, такого количества он еще не видывал, и у него возникло ощущение, что он отсюда живым уже не выберется.
А танки, рассредоточившись по полю, медленно надвигались на позиции батальонов. Именно медленно, а не как в прошлые времена, которые врезались в память Николаенко, то есть стремительно, вздымая снежные вихри.
— Чёй-то они, а? — спросил Мамаев, которого тоже изумило необычное поведение немецких танков.
— А черт их знает, — ответил Николаенко, сдвинув на затылок каску. — Думаю, что хотят раскрыть нашу оборону, где пушки, а где что. Или боятся мин.
— А наши-то — а? Тоже, значит, подпускают поближе, — хохотнул Мамаев. И добавил: — С тебя пример берут, командир. Небось, до командира корпуса дошло, как ты тут фрицев приголубил.
— Не я один, — нахмурился Николаенко. — Я и вообще-то один раз всего и выстрелил.
— А-а, не в том дело, сколько раз ты выстрелил, а в том, что мы вовремя стрелять начали. А чуть бы раньше или позже, может, и половины бы не приконтрили.
— Не думаю, — не согласился Николаенко. — Штрафники — им назад дороги нету. Но два пулемета и автоматы — много бы наших положили.
— Это точно, — легко согласился Мамаев, который был года на два старше своего командира, и еще недавно каждое приказание его встречал снисходительной усмешкой.
Николаенко не отрывал глаз от бинокля, доставшегося ему от убитого немецкого офицера. В бинокль танки выглядели еще более устрашающими. Он стал считать их, насчитал тридцать штук и сбился: танки маневрировали, постоянно перестраиваясь, лишь штук пять тяжелых двигались уступом впереди остальных, покачивая длинными стволами пушек. Но вот из-за косогора выползло десятка два или три бронетранспортеров, приблизились к последним танкам, с них посыпалась пехота и стала вытягиваться в две густые цепи.
— Вот почему они еле-еле ползли-то, — догадался Мамаев. — Ну, теперь держись.
И точно: танки взревели моторами, окутавшись сизым дымом, и прибавили ходу. Однако метров через триста-четыреста головной танк подорвался на мине и закрутился на месте, разматывая гусеницу. За ним еще два. И тогда откуда-то из-за железной дороги ударили «катюши». Огненные стрелы, прочертив дымные следы, врезались в землю, вздымая вверх черные султаны и белое термитное пламя. Через несколько мгновений вой реактивных снарядов покрыл все звуки, а поле вместе с холмистой грядой превратилось в кипящую огненно-черную лаву. Одновременно с «катюшами» из лощины, поросшей лесом, долбили и стапятидесятидвухмиллиметровые гаубицы. От их снарядов вздрагивала земля, черные комочки чернозема сыпались по стенкам окопа. От этой мощи у Николаенко возникло такое чувство, что теперь-то фрицам точно будет каюк, потому что в таком огненном аду вряд ли что может уцелеть.
Но «катюши» отыграли, замолкли гаубицы, от ударов чьих тяжелых снарядов закладывало уши, постепенно уплыл за железку дым и улеглась вздыбленная земля, лишь со стороны железки продолжали упорно бить несколько противотанковых орудий. И стало видно, как танки медленно пятятся назад, скрываясь за косогором, а десяток, не больше, горят там и сям, выбрасывая белесый дым. Зато от густых цепей пехоты мало что осталось.
— Здорово! — воскликнул Мамаев. — Силища какая, командир! Это им не к теще на блины ходить, мать их Гитлера вдоль и поперек! — И, глянув назад, воскликнул: — Смотри! Смотри! А у соседей-то!
Николаенко обернулся.
У соседей, что расположились за железной дорогой, судя по всему, дела складывались не лучшим образом. Было видно, как немецкие танки утюжат окопы, как там и сям по полю бегут наши солдаты, падают, вскакивают и снова бегут к хутору, откуда по танкам бьют «сорокопятки». И танков немецких на той стороне железки вроде бы поменьше, чем было здесь, и бронетранспортеров, однако что-то случилось — и обороняющиеся дрогнули и побежали. Правда, не все: кое-где в окопах оставались наши бойцы, они стреляли, бросали гранаты и бутылки, и два танка уже горели, вот и еще один загорелся, но основная масса танков и пехоты уже миновала окопы и стремительно приближалась к хутору. По ним от леса ударили наши пушки, черные кусты разрывов тяжелых снарядов вырастали там и сям, вот и еще загорелся немецкий танк, и еще чуть подальше, залегла пехота, оставшиеся танки начали пятиться, часто стреляя в сторону хутора, где уже горело ярким пламенем несколько хат…
— Воздух! — раздался истерический крик, и Николаенко увидел множество немецких самолетов, летящих на небольшой высоте.
— Ну ты скажи, как у них, однако, четко дело поставлено! — удивлялся Мамаев. — А наших соколов что-то я ни разу не видел. Спят, что ли, туды их за ногу?
Между тем почти над позициями взвода Николаенко с десяток «юнкерсов» начали падать вниз, заваливаясь на крыло, и Николаенко снова втискивался в свою нишу и вздрагивал от ударов тяжелых бомб, со страхом думая о том, что полутораметровый слой земли над ним может рухнуть на него и раздавить, если какая-нибудь бомба упадет рядом: вякнуть не успеешь. А пока заметят да отроют…
После длительной бомбежки и артиллерийского обстрела, после повторной атаки немецких танков и пехоты, батальоны десантников, опасаясь окружения, начали отходить к лесу. Но и здесь не задержались тоже, потому что где-то западнее немцам удалось прорвать нашу оборону, и то ли командованию фронтом стало понятно, что противник пытается взять в клещи 69-ю армию и приданные ей части, а по всему по этому следует выровнять линию фронта, то ли командир дивизии решил, что не стоит зря гробить свои батальоны. И батальоны один за другим стали покидать свои позиции, но исключительно те, у кого имелась связь с командованием полков или дивизий, а у кого не имелась или к кому не сумели добраться посыльные, те оставались на месте, с недоумением поглядывая на уходящих соседей. Немцы же, видя это, стали наседать, заговорила их артиллерия и минометы, и батальоны, застигнутые в чистом поле, стали разбегаться, все перемешалось и перепуталось.
Взвод младшего лейтенанта Николаенко, не получив никакого приказа, какое-то время оставался в своих окопах. Сержант Мамаев нетерпеливо дергал своего командира за рукав, кричал в самое ухо:
— Уходить надо, командир! Гля, что творится-то! Побьют ведь нас, побьют! Не за понюх табаку пропадем.
— Приказа не было, — вяло отбивался Николаенко, в растерянности оглядываясь по сторонам.
— Да откудова он придет, приказ-то этот! Откудова, мать их растак? — наседал Мамаев. — Связи-то нету! А наши — вон они! Вона уже где! Уходят!
Но Николаенко все медлил, надеясь, что или вот-вот восстановят связь, или кто-то прибежит и передаст приказ от командира роты. Но никто не бежал, никому не было дела до взвода младшего лейтенанта Николаенко. Может, и командира роты убило, и некому отдать этот приказ, а может статься, что его взвод оставляют специально, чтобы задержать фрицев и дать уйти остальным, понимая в то же время, что если бы стояла перед ним, командиром взвода, такая задача, то ее бы поставили письменно, а потому оставаться нельзя: действительно, побьют, и задерживать немцев нечем. Тем более что… вон они, фрицы-то, снова идут в атаку, но уже вдоль железки, где мин, судя по всему, нет, и все танки и бронетранспортеры теперь исключительно на позиции его взвода.
И Николаенко решился:
— Ладно, отходим, — произнес он, покривившись лицом точно от непереносимой зубной боли. И уже в полный голос: — Взвод! Слушай мою команду! Перебежками! В противотанковый ров! По рву — к лесу! Вперед!
И люди, даже не дослушав его команды, бросились ко рву. И Николаенко самым последним.
Им повезло: леса они достигли беспрепятственно, даже запасники. Но дальше дела пошли хуже. Почти одновременно с ними к лесу с другой стороны приблизились немцы, пришлось отстреливаться, бежать, натыкаясь на деревья, а затем уже и по открытой местности, и когда добежали до опустевших окопов возле хутора, то сил бежать дальше не осталось, люди задыхались и не могли стоять на ногах. Но главное, от взвода, состоявшего из зеленой молодежи и запасников, осталась одна молодежь: неуклюжим и тяжеловесным запасникам такие гонки оказались не под силу.
Им повезло еще раз: здесь, на краю горящего хутора, среди яблоневых садов, они застали противотанковый дивизион «сорокопятчиков», который остался без пехотного прикрытия. Вместе с этим дивизионом взвод Николаенко более часа отбивался от наседавших эсэсовцев, люди глохли от разрывов бомб, мин и снарядов, задыхались в дыму и пыли, но продолжали стрелять… пока были снаряды и патроны. В конце концов немецкие танки прорвались на позиции дивизиона и, раздавив оставшиеся пушки, двинулись в сторону какого-то села, видневшегося на взгорке. Лишившиеся орудий артиллеристы и остаток взвода Николаенко — общим числом около шестидесяти человек под командой старшего лейтенанта-артиллериста по фамилии Пивнев — вынуждены были отходить в ту сторону, где продолжали удерживать позиции другие полки и батальоны воздушно-десантной дивизии, но все так перемешалось, что отступающие то и дело натыкались на группы немецких гренадер, как правило с двумя-тремя танками или бронетранспортерами, действующих уверенно и, можно сказать, нагло в этом аду, как будто все они были заговоренными, так что один их вид вызывал у Николаенко такую лютую ненависть и злобу, что он готов был рвать их голыми руками и грызть зубами, но старший лейтенант Пивнев, человек, видать, бывалый, с орденом Боевого Красного Знамени на пропыленной и пропотевшей гимнастерке, командовал уверенно, на рожон не лез и людей своих в пекло не посылал. Тем более что патронов оставалось по нескольку штук на винтовку и по полдиска на автомат.
И все-таки ближе к вечеру они нарвались на гренадер, заметив их слишком поздно. Пулеметным огнем группа была рассеяна, Николаенко видел, как метрах в двадцати от него споткнулся на бегу старший лейтенант Пивнев, к нему кинулись двое артиллеристов, подхватили и поволокли к оврагу. А Николаенко с десятком бойцов был отсечен от оврага танками и пехотой, вынужден был то бежать, петляя из стороны в сторону, то ползти по измятому и опаленному огнем пшеничному полю, но не вперед, а назад, хотя никто из них не представлял, в какой стороне этот самый перед, а где зад.
Наконец они достигли глубокого оврага, благо все холмистое пространство было изрыто ими вдоль и поперек. Здесь, среди зарослей диких яблонь и терновника, уже таились десятка два бойцов из их дивизии, в пылу боя отбившиеся от своих частей. Было решено пересидеть до темноты, а дальше действовать по обстоятельствам.
Поскольку других офицеров не нашлось, Николаенко взял командование на себя. Первым своим приказом он назначил наблюдателей по одну и другую сторону оврага, чтобы не быть захваченными врасплох. Остальных рассредоточил вдоль более крутого ската оврага и разрешил отдыхать.
К ночи все начало успокаиваться, хотя то в одном, то в другом месте вспыхивала ожесточенная перестрелка и так же неожиданно обрывалась.
Похолодало, пошел дождь. Почти непроницаемая чернота окутала землю. И в этой черноте Николаенко повел людей, ориентируясь все по тому же оврагу, надеясь, что где-то там наверняка должны быть наши позиции. И точно, вскоре они услыхали движение массы людей, но что это за люди и куда они движутся, понять было невозможно. Чем ближе они подходили к невидимой во тьме дороге, тем явственнее звучали шаги множества людей, бряцало оружие, всхрапывали лошади, и только различив родной русский мат понукающих лошадей ездовых и злые команды командиров, Николаенко и его люди поняли, что добрались до своих, и пристали к одной из колонн.
Николаенко шел как в бреду. Горели натруженные ноги, оттягивал плечо немецкий автомат. Хотелось пить. Но больше всего одолевала усталость. Тело ныло, требуя упасть в траву и забыться, ничего не знать и ничего не слышать. Но какая-то сила гнала его вперед, как гнала она и сотни других красноармейцев и командиров. Иногда он вдруг приходил в себя и пытался понять, где он и куда идет. Тогда в тревоге окликал своего помкомвзвода Мамаева, и тот не сразу, но откликался:
— Тут я, командир, тута. И остальные тута.
— А куда мы идем? — беспокоился Николаенко.
— А черт его знает, куда! Куда все, туда и мы. Тут, похоже, вообще никто не знает, куда мы идем. Довоевались, мать их растак…
Негромкий, но требовательный голос оборвал рассуждения Мамаева:
— Стой! Кто такие?
— А вы кто такие? — вопросом на вопрос ответил Николаенко, будто выныривая на поверхность из полудремы, как, бывало, выныривал в детстве из теплой воды заросшего водорослями пруда.
— Капитан Угрюмцев, — ответили ему. И еще тише: — Командир роты сто восьмого заградотряда. Ваши документы, — и тусклый лучик фонарика уперся Николаенко в лицо.
— Не вижу, что вы капитан и командир роты сто восьмого заградотряда, — зло бросил Николаенко, услыхав, как сзади надвинулась на них темная масса людей и даже клацнуло несколько затворов.
— Вот мои документы, — ответил невидимый Угрюмцев, и лучик фонарика осветил его лицо, тусклые погоны и серую книжицу в левой руке.
Николаенко не стал разглядывать книжицу, потому что если этот Угрюмцев вовсе не Угрюмцев, а черт знает кто, то из книжицы этого не выяснишь. А он еще в госпитале слыхал, что в сорок первом на Украине и даже в сорок втором в задонских степях на перекрестки дорог выходили диверсанты или кто-то еще и, прикидываясь регулировщиками и представителями каких-то штабов, направляли отступавшие колонны совсем не туда, куда им было нужно, и эти колонны вскоре же попадали под бомбы немецких самолетов. Но этот капитан Угрюмцев вызвал у Николаенко доверие, и он представился:
— Командир взвода младший лейтенант Николаенко. Со мной семнадцать бойцов. Вот мои документы.
— И куда вы направляетесь? Где ваша рота, батальон? — не отставал капитан, в свете фонарика изучая офицерское удостоверение Николаенко.
— Честно говоря, не знаю, — ответил тот устало. — Куда все идут, туда и мы. Знаю лишь одно, что впереди должны быть новые позиции. Днем нам об этом говорили. Но за это время многое могло измениться… Надеюсь, товарищ капитан, на месте все станет ясно. Где-то там должно быть и командование нашего полка…
— Ваша дивизия сосредотачивается юго-западнее станции Прохоровка. От перекрестка повернете налево. Оттуда километра два, не больше. — И добавил: — Я сам из этой дивизии. Советую вам, младший лейтенант, поторапливаться.
— Мы и так уже вторые сутки только и делаем, что поторапливаемся, — съязвил стоящий рядом Мамаев, но Угрюмцев не обратил внимания на его слова.
— Проходите, товарищи, проходите, — произнес он, и Николаенко даже не увидел, а почувствовал, что капитан весь будто бы подобрался, насторожился и шагнул вперед. И люди за его спиной тоже.
А сзади все отчетливее слышался лязг танковых гусениц.
«Вот бы сесть на танк и доехать», — подумал Николаенко, различив в темноте силуэт приближающейся «тридцатьчетверки». Но на фоне звездного неба было заметно, что танк облеплен десантниками, так что лишнего места там вряд ли найдется. А за ним плотно один к одному двигались другие танки. И тоже с дисантниками.
Капитан встал на пути головного, посигналил фонариком. Однако это не возымело никакого действия. Прозвучали два предупреждающих пистолетных выстрела, и вдруг…
— Братва! Немцы! — закричал кто-то, и вся масса людей, заполонивших дорогу, качнулась в сторону.
Одна за другой рявкнули пушки, заговорили пулеметы, светящиеся трассы метались среди бегущих от дороги людей.
Кто-то схватил Николаенко за плечи и пригнул к земле. Почти в самое ухо врезался крик Мамаева:
— Командир, в канаву!
Мимо Николаенко, ревя моторами и разбрызгивая по сторонам огненные трассы и частые хлопки гранат, неслись немецкие танки и бронетранспортеры, неслись туда, где их никто не ждал.
Глава 17
К 11 июля перед командующим группы армий «Юг» генерал-фельдмаршалом Манштейном уже не стояла задача прорваться к Курску. Более того, северная группировка немецких войск, продвинувшись в сторону Курска всего на 12 км, уперлась в сильную оборону Центрального фронта, которым командовал генерал Рокоссовский, и дальше продвинуться не смогла. И уже 9 июля Гитлер приказал германским войскам возвратиться на исходные позиции, признав, таким образом, что операция «Цитадель» провалилась. Вопрос для Манштейна теперь заключался в том, как подчиненным ему армиям отойти на эти позиции, не понеся значительных потерь от наседающих русских дивизий. Манштейн полагал, что это возможно лишь в том случае, если нанести русским войскам максимальный урон в излучине реки Псёл, после чего захватить Прохоровку. Но армейская группа генерала танковых войск Кемпфа, наступавшая в сторону Прохоровки с юга, настолько ослабла за минувшие дни боев, что с трудом справлялась с поставленной задачей. Между тем, в состав группы входит 3-й танковый корпус, состоящий из трех танковых дивизий, усиленная отдельная танковая бригада, то есть более трехсот танков и самоходных орудий, плюс пехотная дивизия в количестве 18–20 тысяч солдат и офицеров. Не считая орудий, минометов и реактивных установок. Именно в районе Прохоровки армейская группа Кемпфа должна соединиться с частями 4-й танковой армии генерала Гота и, таким образом, замкнуть окружение советских войск, обороняющихся южнее и западнее Прохоровки.
Чтобы выяснить положение группы на месте, Манштейн решил провести совещание в штабе генерала Кемпфа и вечером 11 июля вылетел на станцию Дубно. Туда же он пригласил и командование 4-й танковой армии.
Связной самолет «Шторх» жался к земле, прикрываемый с воздуха шестеркой «мессеров». Хотя русские скоростные и хорошо вооруженные истребители «ЛАГГ-3» лишь изредка появлялись в тылу немецких войск, при этом избегая стычек с «мессерами» на низких высотах, однако осторожность не мешает, а фельдмаршал был противником всяких предсказуемых неожиданностей. Вот вдали показалась линия железной дороги, тянущаяся сквозь бесконечное кладбище разбитых и сгоревших вагонов и паровозов, машин, танков и обломков самолетов, как немецких, так и русских, пытавшихся в разное время бомбить как саму «железку», так и небольшую станцию, прилепившуюся к ней, отчего сама станция казалась частью огромного кладбища. А между тем здесь располагался штаб армейской группы «Кемпф», что для русских, узнай они об этом, явилось бы полной неожиданностью.
Попрыгав по неровностям наскоро сооруженной посадочной полосы, самолет подрулил к небольшой рощице и заполз под маскировочную сеть, натянутую между деревьями. Здесь же генерал-фельдмаршала ожидал «оппель» и бронетранспортер с охраной. Минут через десять, встреченный генералом Кемпфом, он входил в кирпичное станционное здание, наполовину разрушенное, но вполне пригодное для размещения в нем штаба.
Все приглашенные уже были в сборе и встретили командующего дружным выбрасыванием руки и согласованным выкриком «Хайль Гитлер!» Фельдмаршал Манштейн, вялым движением руки ответив на приветствие, занял свое место во главе стола, попросил принести крепкого чаю и открыл совещание вопросом, обращенным к генералу Кемпфу:
— Я хочу знать, генерал, сможет ли 3-й танковый корпус продолжать решительное наступление в сторону Прохоровки, принимая во внимание усталость ваших солдат и постоянно усиливающуюся мощь русских на ваших флангах. Нельзя сбрасывать со счетов и тот несомненный факт, что 9-я армия фельдмаршала Моделя окончательно встала на северном фасе Курской дуги, что тоже оказывает деморализующее влияние на психологию наших солдат. Надеюсь, вы понимаете, что от состояния ваших танковых дивизий, от их боевого духа зависит, продолжит ли движение в заданном направлении танковая армия генерала Гота, или ее придется уже сейчас повернуть на юг, навстречу вашему корпусу.
Генерал танковых войск Кемпф медленно поднялся со своего места, провел ладонью по «ежику» жестких волос на своей длинной голове. Мешки под его глазами говорили о том, что и сам он устал не меньше своих солдат. Несколько долгих секунд он собирался с мыслями, точно прислушиваясь к погромыхиванию артиллерии на подступах к пресловутой Прохоровке, которая уже несколько дней значится не только в донесениях наверх из его штаба, но, похоже, и всего Восточного фронта.
— Я не могу с полной определенностью ответить на ваши вопросы, господин фельдмаршал, — начал генерал Кемпф. — Все зависит от того, сумеем ли мы к завтрашнему утру захватить у русских высоты юго-восточнее Прохоровки, а самое главное — создать там противотанковую оборону, если иметь в виду танковую армию генерала Ротмистрова, которая сосредоточена севернее. Но если даже успеем, то надо иметь в виду огромное количество русской артиллерии, сосредоточенной в этом районе. Вся надежда на нашу авиацию. И еще — на неумение русских массировать огонь своей артиллерии на главных направлениях и несогласованность действий их командования. Но даже при самых благоприятных условиях, мы должны учитывать тот факт, что боевая сила моей группы иссякает, в танковых дивизиях осталось менее сорока процентов боеспособных танков, резервы израсходованы, а мой правый фланг находится под угрозой постоянно усиливающихся русских дивизий. Отсюда напрашивается вывод: необходимо с помощью противотанковой обороны обескровить русские танковые корпуса и только после этого, если хватит сил, предпринимать дальнейшие действия. Других решений я не вижу.
Следующим выступил командующий 4-й танковой армии генерал Гот. Он был краток:
— Предлагаю ограничиться задачей ранее запланированного окружения и разгрома соединений 69-й русской армии южнее реки Псёл согласованными ударами армейской группы генерала Кемпфа, с одной стороны, и танковой дивизии «Великая Германия» — с другой. С последующим выходом к Прохоровке. Этим мы лишим танковые корпуса генерала Ротмистрова свободного маневра, заставим их топтаться на изрезанном оврагами небольшом пространстве, предоставив нашей авиации и артиллерии уничтожать их на марше к нашим позициям.
На этом и порешили.
Непроглядная ночь окутала невысокие холмы, лесные массивы, жмущиеся к оврагам и лощинам, тихие речушки с топкими берегами, зарослями камыша и краснотала.
Назад, в ставку фронта, фельдмаршал Манштейн добирался на машине, решив проинспектировать кое-какие дивизии. Впереди группа мотоциклистов подсвечивала грунтовую дорогу, кортеж то и дело останавливали посты, в притемненном свете фар бронетранспортеров виднелись стволы зениток, окопы, солдатские каски. В стороне от дороги слышались звуки ударов по металлу, скрежет, голоса, мелькали огни фонарей. Время от времени навстречу попадались возвращающиеся после ремонта танки и самоходки, машины с боеприпасами и пополнением, цистерны с горючим. Ночь полнилась звуками, которые свидетельствовали о непрекращающейся жизни тыла, питающего передовые части. Иногда сверху доносился прерывистый гул летящих куда-то самолетов, затем издалека долетал тяжелый грохот бомбежки, ожесточенный лай зениток, там и сям среди звезд качались голубые столбы прожекторов.
Манштейн дремал, откинувшись на мягкое сидение, но и в дреме его не покидала тревога за завтрашний день, который должен решить задачи, подчас исключающие одна другую. Что русские заранее начали готовиться к немецкому наступлению, стало известно уже в мае. Если бы тогда же это наступление было осуществлено, успех был бы более весом, но кардинально изменить обстановку, сложившуюся после поражения под Сталинградом, все равно бы не удалось. Как ничего не изменит и сегодняшняя атака. Даже если удастся захватить Прохоровку и уничтожить несколько русских пехотных дивизий и пару танковых корпусов. Понимает это и командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин, и сидящие далеко от фронта Гитлер и Сталин. И если даже не понимают, то чувствуют нутром солдаты немецких дивизий. Но особенно сильны пораженческие настроения среди австрийцев, румын, венгров, итальянцев, словаков, которые разуверились в германской мощи. Тем более тех, кого набрали в разных оккупированных странах, таких как Франция, Бельгия, Чехия, Польша и прочие. И чем дальше, тем процесс этот будет стремительно усиливаться. А тут еще сообщение о высадке американцев в Италии. Следовательно, и туда потребуются именно немецкие дивизии, немецкие танки и самолеты. А это уже война на два фронта. Так что же делать? Конечно, продолжать сражаться. И убивать этих упрямых русских.
Справа, километрах в трех, вдруг загрохотало. Там и сям взлетали ракеты. Огненные трассы прочерчивали темноту. Слышались разрывы мин и снарядов, ружейная и пулеметная пальба. Желтые языки пламени горящих строений взметались к звездному небу.
Кортеж остановился: дорогу пересекала колонна машин.
Манштейн открыл глаза. Перед ним в тусклом свете фар возник человек и отрапортовал:
— Командир пехотного батальона 168-й пехотной дивизии майор фон Визе, господин генерал-фельдмаршал. Батальон ведет бой за деревню Кривцово. Часть батальона вышла к Северному Донцу и готовится к переправе на другой берег. Противник оказывает разрозненное сопротивление. Но оно усиливается по мере нашего продвижения вперед.
— Что русские? Как они воюют? — задал Манштейн дежурный вопрос.
— Есть части, которые бегут от наших танков и пехоты, господин генерал-фельдмаршал, — бойко ответил майор Визе. — Или сдаются в плен десятками и сотнями. В основном азиаты, недавно призванные в армию. Но в последние дни такие встречаются все реже. Что касается русских, то они стоят насмерть. Даже оставшись без патронов, дерутся трофейным оружием. Но мы сломим их тупое упорство, господин генерал-фельдмаршал.
— Хорошо, барон, — произнес Манштейн. — Передайте солдатам, что я благодарю их за упорство и воинское мастерство.
— Благодарю вас, господин генерал-фельдмаршал! — вытянулся майор, глухо щелкнув каблуками измазанных грязью сапог. — Мои солдаты хорошо знают свое дело. Разрешите следовать дальше?
— Да поможет вам бог, — пожелал Манштейн.
Глава 18
Северо-восточнее Прохоровки затаился среди яблоневых и вишневых садов, приткнувшись к холмистой гряде, небольшой хуторок, из которого были выселены все жители. Этот хуторок командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин выбрал для своего штаба. Ни сверху, ни со стороны не было заметно, что именно отсюда идет управление фронтом. Немецкие радиопеленгаторы не засекли отсюда ни одного радиосигнала, шастающие по прифронтовым армейским тылам разведгруппы, состоящие в основном из донских казаков-белоэмигрантов, еще на дальних подступах к хутору, который ничем не привлекал их внимания, натыкались на тщательно замаскированные засады, большая часть их гибла в скоротечной схватке, кое-кто сам становился «языком», остальные, обложенные со всех сторон, подрывали себя гранатами, да так, чтобы никто не мог их узнать.
Вот и сейчас где-то севернее хутора завязалась ожесточенная перестрелка. В ход пошли не только автоматы и гранаты, но и пулеметы.
Генерал Ватутин оторвал голову от карты, испещренной различными значками и надписями, прислушался. Умолк начальник разведки фронта генерал Виноградов, докладывающий последние разведданные. Но стрельба длилась недолго, и снова ночная тишина окутала прифронтовую зону.
Ватутин отпил из стакана крепко заваренный чай. Генерал Виноградов продолжил доклад:
— Последние разведданные свидетельствуют, что противник продолжает укреплять оборону вдоль Обоянского шоссе на флангах 4-й танковой армии генерала Гота и Армейской группы «Кемпф». Немцы устанавливают колючую проволоку, в иных местах в два и даже три ряда, производят минирование своего предполья на танкоопасных направлениях. Но самое главное — они заменяют на своих флангах наиболее боеспособные части на тыловые, перебрасывая артиллерию и танки на усиление 48-го танкового корпуса и 2-го корпуса СС, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Манштейн практически исчерпал все свои резервы. Об этом свидетельствует и тот факт, что он перебросил из-под Харькова танковую дивизию, которая прикрывала Донбасское направление. Передовые части этой дивизии в двух местах, здесь и здесь, — генерал показал на карте, — сегодня ночью форсировали реку Псёл, захватили плацдармы, оттеснив части 69-й армии к северу, наводят там переправы для танков и артиллерии. Таким образом, создалась опасность выхода во фланг нашим войскам…
— Какими силами располагает противник на этом направлении? — перебил генерала Ватутин.
— По предварительным оценкам — порядка пятисот танков и самоходок. Не считая артиллерии. Точно установлено, что в результате шестидневных наступательных боев в немецких танковых дивизиях 2-о корпуса СС осталось менее половины боеспособных единиц. Плюс крайняя усталость танковых экипажей…
— Почему вы докладываете о новой дивизии только сейчас? — вновь прервал генерала Ватутин. — Она, что, прибыла по воздуху?
— Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, товарищ командующий, — вскинул голову генерал. — Наша разведывательная авиация практически бездействует, ссылаясь на мощное воздушное прикрытие авиацией противника своей оперативной зоны. Наши армейские разведгруппы несут большие потери, подчас даже не успевают выйти на связь. А «языки», которые удается захватить, как правило, не выше командира роты, обладают весьма скудной информацией. Мы делаем все возможное…
— Они делают все возможное… — перебил генерала Ватутин с саркастической ухмылкой, передернув жирными плечами. — А противник, к вашему сведению, генерал, делает невозможное и добивается результатов. Ведь до чего дошло, — повернулся Ватутин к сидящим справа от него за длинным дощатым столом, накрытом холщевой скатертью, члену Военного Совета фронта генералу Хрущеву и представителю Ставки Верховного Главнокомандующего маршалу Василевскому. — Прошлой ночью, как мне только что доложили, немцы выдернули из постелей в нашем тылу в одном месте командира батальона, в другом — заместителя командира полка. При этом оба изволили почивать в нижнем белье. И, разумеется, со своими ППЖ. Дошло до того, что наши старшие офицеры блуждают в собственном тылу или оказываются в тылу у противника, попадают в плен вместе с секретнейшими документами… Это черт знает что такое! Это полнейшая расхлябанность и разгильдяйство! И все это оплачивается кровью рядового бойца и строевого командира. А вы, генерал… — Ватутин повернулся всем своим тяжеловесным корпусом к Виноградову и, задохнувшись от переполнявшего его гнева, несколько долгих мгновений изучал его холеное лицо, будто видел впервые, — А вы при этом ссылаетесь на нашу авиацию. С командующего воздушной армией генерала Красовского я спрошу, хотя заранее знаю его ответ: у нас де нет специальных самолетов-разведчиков, фотографическая аппаратура ни к черту, аэродромы расположены вдали от фронта и прочее в том же роде. Так что теперь? Сидеть, сложа руки? Прикажете воевать вслепую?
Генерал Виноградов молчал: сказать ему было нечего.
Молчал и член Военного Совета фронта Хрущев: с некоторых пор он старается не вмешиваться в чисто военные дела, уяснив на собственном горьком опыте, что мало что в этих делах смыслит, а каждое его вмешательство выходило ему же боком. Никита Сергеевич до сих пор не может забыть то унижение, которое испытал в кабинете Сталина после краха наступления под Харьковом в сорок втором году. Да и Ватутин не из тех, кто готов идти на поводу у своего ближайшего окружения. Но безответственности и разгильдяйства действительно через край, и здесь он кое-кому хвост постарается прищемить.
— Разведка — глаза и уши армии, — постарался сгладить конфликт маршал Василевский известной банальностью. — Однако уши у нее не должны быть ослиными, а глаза медвежьими, который, как известно, видит на некотором удалении лишь то, что движется. Я имею в виду тот случай, когда ваша разведка приняла фанерные макеты танков, выставленные немцами напоказ, за настоящие. Наконец, из вашего доклада, генерал, напрашивается вывод, что вы явно завышаете силы противника… так, на всякий случай. Я читал ваш предыдущий отчет и заметил, что данные, которые вы привели сегодня, расходятся с теми, на которых вы настаивали вчера. И это расхождение не похоже на уточнение, а, скорее всего, на ваши новые предположения. Между тем ваши предположительные данные неминуемо заставляют командование фронтом приходить к предположительным решениям. У меня к вам настоятельная просьба, генерал: постарайтесь за оставшееся время до начала операции получить от ваших подчиненных более точную информацию о противнике и его планах.
— Будет исполнено, товарищ маршал. Разрешите еще несколько слов?
— Да, прошу вас.
— Как мне донесли всего полчаса назад, немцы срочно готовят оборонительные позиции на захваченных сегодняшней ночью высотах. Данные эти проверяются и уточняются…
— Хорошо, генерал! — отмахнулся Ватутин, считающий себя здесь самым главным. — Мы вас не задерживаем. — И, едва разведчик вышел, заговорил, подводя итоги дня: — Итак, что мы имеем? Мы имеем такую ситуацию, что надо бы хуже, да некуда. Яснее ясного, что противник предвидел возможность нашего контрудара: скрыть от его разведки перемещение двух полнокровных армий — дело совершенно невозможное. Манштейну оставалось выяснить, где мы нанесем удар. И когда наши войска начали скапливаться севернее Прохоровки, он усилил нажим на обороняющиеся армии Крюченкина и Катукова, обескровленные в предыдущих боях. В результате мы лишились выгодных плацдармов для нанесения массированного удара сжатым кулаком по танковому корпусу СС. Более того, нам снова приходится брать у Ротмистрова еще одну танковую бригаду, чтобы удержать противника на северном берегу Псёла. Без контратаки на захваченные им плацдармы не обойтись. Необходимо связать эту новую дивизию по рукам и ногам, чтобы Манштейн не мог использовать ее для нанесения удара по нашему правому флангу. Боевые действия наших войск за минувшие дни со всей очевидностью доказали, что лишь активная оборона дает положительные результаты. Даже короткие удары наших танков и пехоты по наступающим войскам противника заставляют его топтаться на месте, а иногда и терять захваченные территории. Следовательно, чем дальше мы будем оттягивать контрудар по 2-му корпусу СС, тем больше у Манштейна шансов захватить Прохоровку и выйти на оперативный простор. Без атаки… без массированной атаки танковых корпусов мы так и будем идти на поводу у противника. Надо смять их оборону… тем более что за ночь они создать ее не смогут, — раздавить их артиллерию, расчленить танковые части противника, выйти на его тылы, отрезав тем самым от баз снабжения. Другого выхода я не вижу. Теперь все зависит от командующих армиями.
И Ватутин бросил карандаш на карту тем жестом отчаяния, который лишний раз подчеркивал, что коли так сложилось, как сложилось, то тут уж ничего не поделаешь.
В помещение заглянул начальник оперативного управления фронта и остановился в нерешительности, ожидая, когда командующий закончит свою речь.
Ватутин, заметив его, спросил:
— Что там у тебя, Василий Игнатьевич?
— Срочное сообщение из 69-й.
— Читай!
— Молния. Противник силами более пятидесяти танков с мотопехотой, при поддержке артиллерии прорвал фронт и движется на Корочу и Казачье. В то же самое время он прорвался через Северский Донец и вклинился в оборону 48-го стрелкового корпуса. По предварительным данным против армии действуют две-три танковые и две пехотные дивизии. Командование армии делает все возможное для отражения атак противника и ликвидации прорыва. Подписано: Крюченкин. Иванов.
— Час от часу не легче, — пробормотал Ватутин, отпуская начальника оперативного отдела. И, обращаясь к маршалу Василевскому: — Александр Михайлович, надо звонить товарищу Сталину. Крюченкин своими силами прорыв ликвидировать не в состоянии. Фронт помочь ему ничем не может: рядом нет ни танковых, ни артиллерийских подразделений. Пока они доползут, противник прорвет наш последний рубеж обороны. Я считаю, что самое оптимальное решение — взять у Конева два-три корпуса, в том числе хотя бы один механизированный.
Василевский и сам понимал, чем грозит для Воронежского фронта новый прорыв немцев на Прохоровском направлении. И без лишних слов приказал связать себя со Сталиным.
— Что там опять у вас стряслось, товарищ Василевский? — прозвучал в трубке сиповатый голос Сталина, настолько отчетливый, что Василевскому показалось, будто Верховный говорит из соседней комнаты.
Обрисовав обстановку, он замолчал, прислушиваясь к дыханию Сталина. При этом сам дышал едва-едва, точно боялся спугнуть благоприятный для себя и всех остальных ответ.
— Хорошо, — снова зазвучал близкий голос. — Обратитесь от моего имени к Коневу, пусть он срочно выдвигает на указанные вами рубежи стрелковый и механизированный корпуса. Держите с Коневым постоянную связь. Обо всем докладывайте в Ставку каждые два часа.
И в трубке все стихло. Затем женский голос произнес: «Конец связи».
Василевский глянул на часы: они показывали 2 часа 32 минуты. В помещении некоторое время висела давящая тишина, будто смерч или бомбежка пронеслись мимо, лишь опалив этот дом своим смертоносным дыханием.
— Я думаю, Александр Михайлович, — первым нарушил тишину Ватутин, — что начало контрнаступления надо перенести по крайней мере на восемь часов утра. Надо передать Ротмистрову, чтобы часть его танковых бригад начали в срочном порядке готовить оборону по дуге, охватывающей Прохоровку с юго-запада до юго-востока. Тоже самое передать и генералу Жадову. А там сама обстановка подскажет, какие еще меры надо будет принять, чтобы не выпустить противника из системы третьей линии армейских рубежей.
— Что ж, — заговорил, вставая и расправляя плечи, маршал Василевский. — Решение принято, будем проводить его в жизнь. Я, как и договорились, буду на КП у Ротмистрова.
И маршал, пожав руку Ватутину и Хрущеву, покинул неприметный домишко. Через минуту его «виллис», сопровождаемый усиленной охраной, растворился в ночной темноте.
Глава 19
Алексей Петрович Задонов только что прилетел с Центрального фронта, три дня назад начавшего наступление совместно с Брянским и Юго-Западным фронтами. Сообщив об этом в «Правду», он тотчас же получил приказ главного редактора газеты Поспелова перебраться на Воронежский фронт, где ожидаются большие события, долженствующие окончательно завершить разгром немецкой группировки, нацеленной на Курск с юга. Перед Задоновым была поставлена задача дать серию развернутых репортажей с места событий, в которых отобразить возросшую мощь Красной армии и полководческий талант ее командиров.
Алексей Петрович без всякого энтузиазма встретил это задание, по опыту зная, что в Москве всегда ожидают больших результатов от предстоящих событий, чем они оказываются на самом деле при ближайшем их рассмотрении. Так было под Сталинградом, где с окруженной немецкой армией возились почти три месяца, так было под Ржевом, где немцы были почти окружены, но никак не хотели дать окружить себя окончательно, и не было никаких оснований предполагать, что нечто подобное не повторится под Курском. Конечно, немцев побьют, как бивали уже ни раз, но какой ценой — вот в чем загвоздка. А цена эта ляжет невостребованным грузом в дневниках и записных книжках Задонова, и неизвестно, настанет ли когда-нибудь время, чтобы показать своему народу, какую цену он заплатил за свою свободу и независимость. Следовательно, какие-нибудь героические частности — это сколько угодно, а чтобы действительно отразить всю картину в целом — об этом и не думай. Впрочем, народу и без того тяжелее некуда, а бередить его истерзанную душу описаниями новых напастей — дело не только вредное для этого народа, но и опасное.
Алексей Петрович хорошо помнил, как измывались русские газеты в шестнадцатом году над своей армией, ее генералами и всеми институтами Российской власти, как рушилось в его еще не окрепшем сознании вера во все эти непременные атрибуты государства, как яд отвращения и сомнения отравлял душу молодого поколения интеллигенции, с каким отчаянием взирал на все это его отец, знавший о творящихся безобразиях больше многих и многих, как он то и дело восклицал: «Но так же нельзя, господа хорошие! Так ведь и до Стеньки Разина с Емелькой Пугачевым докличемся!» И ведь докликались. И проблема не в том, чтобы сейчас в той же «Правде» сообщать, как иной командир дивизии раз за разом гонит своих солдат на укрепленные позиции противника, без артиллерии, без авиации, без танков, точно решил истребить свою дивизию к чертовой матери — так она ему надоела. Этому командиру и еже с ним еще достанется от истории. Весь вопрос в том, когда именно. А хотелось бы, чтобы сразу же после победы, когда затихнут страсти и надо подводить итоги, имея в виду будущее, которое ведь тоже не обещает быть легким.
Летели почти всю ночь на бомбардировщике Пе-2. А ночи-то все еще короткие, и не дай бог оказаться в небе чистой голубизны один на один с каким-нибудь «мессером».
Алексей Петрович, на сей раз устроившись в кабине стрелка-радиста, пытался рассмотреть внизу хоть что-нибудь, но тьма была столь густой, а небо таким звездным, что лишь едва заметные отблески его в извилистых руслах рек могли указывать пилоту правильное направление. Но сколько коллег-журналистов Алексея Задонова залетало не туда, а иногда и к немцам, сколько их сбивали свои же зенитчики или ночные истребители, сколько гробились при посадке, об этом не знает никто, зато молва среди газетчиков увеличивала подобные случаи многократно, так что иногда, залезая в кабину «кукурузника» или, как в этот раз, в кабину стрелка-радиста «пешки», вспомнишь и бога, и черта, и всех святых.
Чем ближе подлетали к цели, тем виднее становились то в одном месте, то в другом зарницы артиллерийской пальбы. Иногда они охватывали довольно широкое пространство, но по этим зарницам, по светящимся нитям пулеметных трасс, которые то сходились, то расходились, тая в кромешной темноте, трудно было определить, где проходит линия фронта.
Самолет жался к темной земле, ища там спасения от занимающейся зари, малиновым пламенем, точно кровь сквозь бинты, пробивающейся из-под облаков по левому борту.
Алексей Петрович, сидя спиной к хвосту самолета под плексигласовым колпаком, не заметил, по каким таким признакам летчик определил место посадки. Но он различил по тряске, охватившей самолет, выпуск шасси. Вслед за этим, только как-то совершенно неожиданно, самолет ударился колесами о землю и заскакал по неровностям, сердито всхрапывая моторами. Наконец тряска прекратилась, самолет медленно покатил куда-то и встал. И тотчас же заглохли оба двигателя. Прошипел сжатым воздухом открывающийся фонарь кабины пилота. После этого и Алексей Петрович открыл свой фонарь, но еще подождал несколько минут, привыкая к тишине и покою.
Выбравшись на крыло, предварительно освободившись от бесполезного парашюта, все еще цепляясь рукой за холодный бок самолета и покачиваясь, Алексей Петрович огляделся, с облегчением различая признаки земной жизни. Над ближайшими холмами то ли всходила, то ли садилась оранжевая луна. После прошедших дождей земля парила, воздух был наполнен сладостными запахами хлебов, цветущего клевера, донника и полыни. В ночной темноте слышался прерывистый гул моторов и рев пропеллеров едва различимых самолетов. То там, то здесь звучали родные голоса, и казалось, что звучали они исключительно ради того, чтобы лишний раз утвердить в его сознании прочность земного существования, ради чего он, простой смертный, забирался в очередной раз в такое непредсказуемое сооружение, как самолет.
Подсвечивая синими фарами землю под самыми колесами, из темноты вылепился «джип», остановился в десяти метрах от самолета, и кто-то из него крикнул зычным голосом:
— Скажите, подполковник Задонов, спецкор газеты «Правда»… он не на вашем аэроплане прилетел?
— На нашем! На нашем! Вон он, на крыле стоит, мается! — ответил знакомый голос штурмана.
— Алексей Петрович! Товарищ подполковник! Мы за вами. Из политотдела фронта звонили.
— Сейчас, ребята, — ответил Задонов, почувствовав тепло благодарности к этому неизвестному ему человеку, осторожно подвигаясь к краю крыла и руками пытаясь нащупать, за что бы такое зацепиться, чтобы не свалиться вниз, хотя высота здесь не такая уж и большая.
Но тело самолета было гладким, никаких ручек и скоб нащупать не удавалось, а прыгать на смутно виднеющуюся внизу землю боязно: еще неизвестно, что там окажется под ногами. Да и не по годам ему такие прыжки. Но тут кто-то приставил к крылу стремянку, и посоветовал:
— Давайте вашу ногу, товарищ подполковник. А то промахнетесь еще. Да вы спиной встаньте к краю! Спиной! Вот та-ак… Вот-вот сюда ее, ногу-то, сюда. Да не бойтесь, стремянка прочная, выдержит.
Общими усилиями с почти неразличимым в темноте человеком Алексей Петрович достиг земли и утвердился на обеих ногах, шумно выдохнув воздух.
— Фу ты, господи! Наконец-то на земле. Правда, все еще качает. Спасибо, товарищ. Без вашей помощи я бы точно разбился в лепешку.
С этими словами Алексей Петрович нашел руку человека, видать из механиков, пропахшего бензином и маслами, и крепко ее пожал. Затем, уже по традиции, пожал руки летчику и штурману, поблагодарил их за удачный перелет и пожелал дожить до победы. И только тогда забрался в машину, плюхнулся на сидение и познакомился с представителем политотдела танковой армии — им оказался капитан Триммер. От него узнал, что ему, капитану Триммеру, приказано доставить подполковника Задонова в штаб командующего Пятой гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова и сопровождать его повсюду, куда товарищ Задонов пожелают поехать или пойти.
— Вы прилетели как раз вовремя, товарищ подполковник, — сыпал словами политотделец, спеша вывалить на голову известного журналиста и писателя все, что ему, капитану Триммеру, известно. — На восемь часов утра назначено наступление Пятой гвардейской танковой армии при поддержке тоже Пятой и тоже гвардейской общевойсковой армии генерала Жадова. Представляете, какая это силища! Немцам уж точно — не поздоровится.
— Вашими устами, капитан, да мед пить, — проворчал Алексей Петрович, которому хотелось одновременно и спать и есть. А тут — на тебе: с корабля на бал. — Или то, что вы мне сообщили, уже не является тайной? — спросил он, надеясь, что словоохотливый, как все политработники, капитан оставит его в покое.
— Да что вы, товарищ подполковник! — изумился капитан Триммер, наваливаясь на Алексея Петровича на повороте. — Наступление через полтора часа! Даже меньше! — поправился он, глянув на ручные часы. — А поначалу-то планировали на три часа. Так что если даже фрицы узнают о нем, они ничего поделать не успеют. Их раздавят, как тараканов! И потом, мне приказано информировать вас в общем и целом. А деталей не знает никто, кроме, разумеется, командующего фронтом генерала Ватутина.
— А-аа… Ну если что так, — зевнул Алексей Петрович, и в это время машину сильно тряхнуло, так что нижняя челюсть его, оставшаяся как бы без присмотра, от неожиданности подпрыгнула вверх и с такой силой клацнула зубами о зубы верхней, что если бы между ними оказался язык, он точно был бы перекушен и проглочен.
Постепенно развиднялось. Небо на северо-востоке посветлело. Продолжающая бесцельно висеть несколько южнее луна поблекла, вдали прорисовались горбатые холмы, стала виднее дорога, будто обсаженная черными грудами разбитых и сгоревших машин, танков, повозок, вздувшимися трупами лошадей и воронья над ними, могильными холмиками с фанерными пирамидками. По этой дороге, в каком-нибудь километре, двигалась колонна машин, волоча за собой облако бурой пыли.
— Ну, вот же гады так гады! — возмутился капитан Триммер и даже привстал в нетерпении во что-то вмешаться и что-то поправить. — Ну что делают! Ну, сколько ни говори, сколько ни талдычь одно и то же, от них, как от стенки горох. Ведь демаскируют же! Демаскируют! Эти тыловики, товарищ подполковник… Беда с ними, да и только! Набирают гражданских, а тем, как говорится, море по колено. А в результате… Ну вот, пожалуйста, здрасте вам! — и с этими словами капитан Триммер перегнулся через спинку сидения, вцепился рукой в плечо шофера и закричал: — Сворачивай! Сворачивай! Самолеты! Или не видишь?
И «виллис», подпрыгивая на кочках, метнулся к небольшой купе деревьев и кустов, с ходу врезался в их середину и заглох. А со стороны колонны нарастал рев моторов, дудукунье пушек, треск пулеметов и разрывы мелких бомб.
Алексею Петровичу не впервой попадать в подобные ситуации, и он не стал дожидаться команды капитана Триммера, выскочил из машины, отбежал от нее метров на сорок и упал в густые заросли донника. Через минуту рядом с ним приземлился и капитан Триммер.
Со стороны дороги слышались глухие взрывы и трескотня, судя по всему, горящих боеприпасов.
— Ну что, капитан, встаем или еще полежим? — спросил Алексей Петрович, переворачиваясь на спину, когда затих вдали гул самолетов.
— Могут еще вернуться, — неуверенно ответил тот.
— Давно воюете? — допытывался Задонов.
— Честно признаться, товарищ подполковник, еще и не воевал. Три месяца всего, как призвали из запаса. До этого преподавал в педтехникуме историю партии. Пока краткосрочные курсы, пока формирование, пока стояли в резерве… — И, помолчав: — А что, заметно?
— Заметно, — не стал деликатничать Алексей Петрович. Затем спросил: — Так что там по части остальных секретов? Или вы уже все выложили?
— Да я, честно признаться, не так уж много их знаю. Во-первых, потому, что, как вы изволили заметить, человек я не военный, а посему отличить секрет от несекрета могу весьма приблизительно.
— А во-вторых?
— Во-вторых, с нами, политотдельцами, не очень-то ими делятся.
— Да и то верно: зачем они вам?
— То-то и оно, что, не зная, что важно, а что нет, иногда, должен вам признаться, попадаешь впросак.
— Зато, если попадете в плен, нечем будет поделиться с фрицами.
— И это тоже верно, — согласился капитан Триммер, коротко хохотнув. — Однако многие из моих более опытных коллег обижаются: вести политработу в таких условиях весьма, мягко говоря, затруднительно. Впрочем, как я успел заметить, командиры батальонов, бригад, полков и даже дивизий информированы исключительно в рамках своих непосредственных задач. И когда у соседей случаются изменения в обстоятельствах, никто не знает, драпают соседи или их специально отводят, надо ли им помочь огнем или еще чем, или сидеть и сопеть в обе дырки, ожидая приказа. А приказы часто запаздывают или не поступают вообще. В результате окружение и гибель людей и техники. Вот и судите сами, как воевать в таких условиях, тем более вести политработу.
— Да, хреново, — согласился Алексей Петрович, садясь и оглядываясь. — А скажите, капитан, кроме меня там будут еще газетчики?
— Полно, товарищ подполковник! — радостно воскликнул тот. — И из «Правды» тоже есть. И из «Комсомолки». И из других. Событие ведь, можно сказать, мирового масштаба. А что, правду говорят, будто Центральный и Брянский фронты уже перешли в наступление? — спросил он.
— Перешли, — коротко ответил Алексей Петрович и, еще раз оглядевшись, предложил: — Пожалуй, можно продолжить наше путешествие, капитан. Но прежде еще один вопрос: вы не из немцев?
— Из них, товарищ подполковник, — ответил капитан Триммер, и Алексей Петрович заметил, как дрогнул его голос. — Но я уже сто раз проверялся и перепроверялся.
— Извините меня, капитан, но я не об этом. Сами знаете: поволжских немцев в сорок первом загнали за Кудыкину гору, немцев в армию практически не берут, а тут вы. Любопытно, знаете ли.
— Да-да, я вас хорошо понимаю, товарищ подполковник. Считайте, что мне повезло. Меня и мою семью выслали вместе со всеми в Казахстан, но и там ведь жизнь не стояла на месте. Не правда ли? Ну а когда, как я понимаю, с кадрами стало плохо, дошла очередь и до таких, как я.
— То-то же я смотрю: азиатов на передовой появилось — тьма тьмущая.
— Да-да, все по тем же причинам, — закивал головой капитан Триммер, явно проникаясь доверием к известному журналисту. — Тогда, если можно, вопрос: а вы, товарищ подполковник, сами давно в действующей?
— Начинал на линии Витебск-Орша-Могилев в июле сорок первого. А что, заметно?
— Еще как! — воскликнул капитан Триммер. — Вы так легко, не оглядываясь, что ли, на других, кинулись вон из машины, что я даже опешил. А я вот побоялся в ваших глазах показаться трусом.
— Ничего, капитан, это со временем пройдет. Не страх, разумеется, перед возможностью быть убитым, а перед тем, что о вас подумают.
Они поднялись и пошли к машине, возле которой возился шофер, подкачивая переднее колесо. Через несколько минут поехали, миновали разбомбленную колонну и обнаружили, что, несмотря на весь шум и грохот, самолетам удалось поджечь всего лишь одну машину, а две других повредить, и теперь возле них тоже возились шоферы, перекладывая ящики на другие машины. Среди них похаживал капитан в интендантских погонах, покрикивал и с опаской поглядывал на небо. Небо было чисто, но с запада наплывала хмарь, грозя дождем. Впереди там и сям погромыхивало, иногда довольно основательно, что говорило не о заурядной перестрелке, а о самых настоящих боевых действиях.
Еще через полчаса машину остановили перед оврагом четверо бойцов из войск НКВД во главе с лейтенантом и приказали свернуть под раскидистые дубы. Чуть в стороне наметанный глаз Алексея Петровича разглядел замаскированный в кустах «максим», прикрытые ветками небольшие окопы, а еще чуть дальше таились два английских танка «Черчилль».
Лейтенант тщательно проверил документы, переговорил с капитаном Триммером, затем куда-то позвонил, и лишь после этого машину пропустили. Но проехать далеко не удалось: задержали в небольшой дубраве в нескольких сотнях метров от села. Дальше пришлось идти пешком. При этом им настоятельно посоветовали при первых же звуках самолетов постараться быстрее спрятаться в первое попавшееся укрытие, чтобы не демаскировать расположенные в селе объекты.
Где-то за селом стреляли пушки. На фоне вполне посветлевшего неба чуть на взгорке виднелись две кирпичных трубы какого-то завода. Правее чернело что-то вроде ямы. В яму вела разъезженная дорога.
— Это что? — спросил у капитана Триммера Алексей Петрович, останавливаясь.
— Что именно вы имеете в виду, товарищ подполковник? — в свою очередь задал Задонову вопрос капитан.
— Я имею в виду вот это все, — повел рукой Алексей Петрович на окраинные домишки, разбитые паровозы и вагоны, железную дорогу, уходящую вдаль.
— А-а, это? Это село Прохоровка. А чуть севернее — село и станция Александровка. Они представляют почти одно целое. Нас заверили, что дальше Прохоровки немца мы не пустим, — с уверенностью закончил капитан Триммер, точно ему это пообещал сам командующий фронтом.
Они прошли с полкилометра. Вдали то ли продолжался, то ли заканчивался бой: иногда рвались мины, иногда прострочит пулемет.
— Там дальше — совхоз «Октябрьский», — пояснил капитан. Вчера он был у нас, но вечером немцы его захватили. Пехота вчера несколько раз пыталась отбить совхоз, и сегодня тоже пыталась, но, судя по всему, гитлеровцы там закрепились надежно. Пойдемте, товарищ подполковник, а то начнут стрелять, а тут ни одного окопа.
И они ускорили шаги.
Еще через какое-то время Алексей Петрович, встреченный громким одобрительным гулом своих коллег, пил крепко заваренный чай в просторной землянке политотдела 5-го гвардейского танкового корпуса, расположенной на южной окраине Прохоровки. До начала наступления оставалось чуть более часа. Можно было бы и поспать, но он решил продолжить выяснение обстановки, для чего выбрал заместителя начальника политотдела армии подполковника Рестовского.
— К генералу Ротмистрову вы сейчас не попадете, — говорил подполковник, человек сухой не только внешне, но и внутренне, про которых говорят: «от сих до сих». — К тому же у него в штабе находится маршал Василевский, — продолжал он. — Сами понимаете, армия уже заняла исходные позиции для контрудара по немецкой танковой группировке…
— Так наступление или контрудар? — перебил подполковника Алексей Петрович, остановив бег своей авторучки по странице толстого блокнота.
Подполковник замялся, с подозрением заглядывая в блокнот известного журналиста. Затем стал объяснять, чем контрудар отличается от наступления.
— В чем заключается разница между тем и этим, представление имею, — оборвал Алексей Петрович ровный поток слов политотдельца… — Простите, не знаю вашего имени-отчества?
— Макар Савич, с вашего разрешения, — после некоторой заминки ответил подполковник. Затем пояснил: — Я просто хочу вам напомнить, Алексей Петрович, что упоминание в газете звания и должности старших офицеров может иметь место исключительно с разрешения высшего командования.
— Макар Савич, Макар Савич! — пожурил подполковника Задонов. — Я с первых дней во фрунте, как говаривали наши незабвенные предки, и давно вызубрил, как раньше зубрили «Отче наш», что можно писать, а что нельзя. Так что если упоминать ваши данные не разрешат, останетесь в этом блокноте исключительно для истории… Итак, все-таки контрнаступление.
— Да, именно так. Потому что наступление готовится не три дня, как это имеет место в данном случае, а три и более месяцев. Что и показала Сталинградская операция по окружению Шестой армии генерала Паулюса. Тем более что гитлеровцы продолжают наступать в попытке захватить станцию Александровскую и село Прохоровку. Более того, становится вполне очевидным, что противник старается окружить часть наших войск в излучине реки Пена…
— И что из этого следует, Макар Савич? — спросил Алексей Петрович, уставившись в светлые глаза подполковнику Рестовскому с вниманием первого ученика.
— То есть, простите, как что из этого следует? Странный вопрос. Из этого следует, что командование фронтом спустило приказ, а мы его должны исполнять во что бы то ни стало… Кстати, я все это уже объяснял вашим коллегам.
— Простите, Макар Савич, но я привык пользоваться сведениями из первых рук. Мои коллеги — это нечто испорченного телефона. Так что вы уж не сочтите за труд объяснить мне, каким образом танковая армия собирается исполнять спущенный приказ?
Подполковник Рестовский свел белесые брови к переносице и заговорил скрипучим голосом:
— Одновременным ударом танковых корпусов и пехоты в самое, так сказать, осиное гнездо гитлеровцев, то есть по танковым дивизиям корпуса СС. А большего я вам сказать, к сожалению, не могу, — упредил он дальнейшие расспросы корреспондента, пояснив: — Не потому, что не хочу, а потому, что знаю лишь общее направление. Что касается деталей, так вы и ваши коллеги для этого сюда и приехали, чтобы увидеть все своими глазами, — закончил он и как бы застегнул лицо на все пуговицы.
— Ну что ж, — сдался Алексей Петрович. — Тогда, с вашего разрешения, пойду вздремну. Надеюсь, не просплю самого главного.
Глава 20
Представитель Генштаба подполковник Матов вышел из неприметной хаты на окраине села, огляделся. Увидев двух офицеров, торопливо идущих по пыльной улочке в сторону командного пункта армии, он, следуя инструкции, запрещающей появление на улице в светлое время суток вблизи командных пунктов более двух человек одновременно, решил пропустить их и только затем отправиться к дубраве, где его ожидала машина.
Офицер постарше своей увалистой походкой и осанистой фигурой напомнил Матову кого-то из сорок первого, но окликать и выяснять, кого именно и действительно ли из сорок первого, не имелось времени. Да и голова была занята совершенно другими проблемами.
Стоя под козырьком крыльца избы, покрытой соломой, Матов переваривал полученную в оперативном отделе информацию о положении 69-ой армии, которая весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь пятилась под ударами эсэсовских дивизий, прорывавших фронт то в одном, то в другом месте, из-за чего комфронта генерал Ватутин вынужден перенести начало контрудара с трех часов утра, как планировалось, уже даже и не на шесть, а на восемь. Лишь поэтому два офицера, прошедших мимо, не привлекли внимания Матова настолько, чтобы разбираться, где он видел одного из них.
Хотя уже рассвело, однако небо затянуто кучевыми облаками, следовательно, есть небольшая надежда, что самолеты противника вряд ли покажутся, и надо этим воспользоваться: до штаба 69-ой более тридцати километров кружных дорог, постов заградотрядов и армейских КПП, а подполковнику Матову сам начальник Генштаба маршал Василевский, только что прибывший с совещания в штабе фронта, приказал немедленно отправиться в эту армию, оценить тамошнюю обстановку и ежечасно докладывать в Ставку и лично ему, маршалу, о всяких возникающих ожидаемых и неожиданных обстоятельствах.
До начала контрудара оставалось еще порядочно времени. Однако надо было спешить, и Матов почти бегом кинулся к дубраве. Через несколько минут «виллис» с представителем Генштаба, шофером и тремя автоматчиками охраны на большой скорости выехал на дорогу и понесся в сторону пункта назначения, указанного на карте-трехкилометровке.
Между тем, Матов все еще не мог отойти от задач, поставленных перед командованием 5-й танковой и 5-й же общевойсковой армиями, которые казались ему до конца непродуманными, исходящими из боевой обстановки вчерашнего дня. А боевая обстановка менялась час от часу, требуя столь же быстрых решений со стороны командования фронта. Запаздывание с принятием решений слишком бросалось в глаза не только представителю Генштаба подполковнику Матову, имеющему право знать реальную обстановку как с нашей стороны, так и — предполагаемую — со стороны противника. Более того, в его обязанности входило анализировать приказы и действия командования армии, при которой ему приказано состоять, оценивать готовность и способность ее войск к исполнению этих приказов, и многое другое. Для этого он должен постоянно находится в гуще событий, наблюденные им факты и свои мысли излагать в письменной форме кратко, четко и доказательно, предоставляя их в Генштаб своему непосредственному начальнику, а также командующему фронтом генералу Ватутину и маршалу Василевскому, не подлаживаясь ни под одного из них.
До сих пор Матову это более-менее удавалось, и, надо думать, именно поэтому он уже дважды удостаивался высокой чести быть приглашенным на доклад к самому Сталину. Но работа, проведенная подполковником по анализу сложившейся в районе Прохоровки обстановки перед контрударом двух армий и двух корпусов сверх того, танкового и механизированного, требовала завершения и срочной отправки в Генштаб генералу Угланову подробного доклада. Конечно, наблюдения и выводы Матова уже не могут ничего изменить, как и доклады других представителей Генштаба, но какие-то коррективы в развитие предстоящих событий Генштаб и Ставка внести могут. В крайнем случае, его оценки лягут в основу анализа предстоящих событий и их результатов, какими бы они ни оказались, а выводы из них помогут Красной армии использовать полученный опыт и не повторять допущенных ошибок.
Трясясь и подпрыгивая вместе с машиной на разбитой дороге, Матов мысленно составлял отчет о проделанной работе, который с нетерпением ждет генерал Угланов. И главный вывод, который Матов считал обязанным довести наверх, это тот, что контрудар подготовлен плохо: командиры танковых корпусов и бригад, стрелковых корпусов и дивизий не имеют представления, с каким противником они встретятся — результат плохой работы разведки всех уровней; плацдарм, с которого начнется атака корпусов, изрезан оврагами вдоль и поперек, развернуться большой массе танков негде, маневр крайне ограничен, что признают все, от командиров танковых бригад до командующего фронтом. Более того, взаимосвязь между соседними подразделениями, между танкистами и пехотой, а тех и других с артиллерией не налажена, рекогносцировка на местности произведена по месту расположения противоборствующих войск вечером десятого и днем одиннадцатого июля, а за ночь противник продвинулся к самой окраине Прохоровки, захватив те пространства, на которых было удобно разворачиваться для атаки сотням боевых машин; артиллерия распылена по отдельным частям, не сведена в кулак на главных направлениях, патронов и снарядов по одному-полтора боекомплекта на танк, орудие и пехотинца, хотя практика показала, что надо не менее трех. И, наконец, последнее: аэродромы Второй воздушной армией генерала Красовского настолько удалены от линии фронта, что это становится чуть ли ни основным препятствием для эффективного действия наших истребителей, а связь с командованием авиационных подразделений так и не налажена должным образом в результате шестидневных боев, оставаясь в том же зачаточном состоянии. В результате всего вражеская авиация господствует в воздухе, нанося огромные потери нашим войскам, нарушая проводную связь, деморализуя необстрелянные полки и дивизии, командование которых иногда не способно предотвратить бегство рядовых и младших командиров с занимаемых позиций при одном появлении танков и пехоты противника.
Если исходить из всего этого, то есть если признать правоту оценок и выводов подполковника Матова, то контрудар с этих позиций необходимо отменить, встретить противника хорошо организованной обороной и контратаками по флангам наступающих эсэсовских дивизий. Но Матов понимал, что контрудар никто отменять не станет: слишком много в него было вложено надежд как со стороны командования Воронежским фронтом, так и Ставки, что новая перегруппировка танковых корпусов на виду у противника приведет к не менее тяжким последствиям. Не исключено, что Ватутин, Василевский и сам Ротмистров хорошо понимают, какому риску они подвергают танковую армию, единственное подобное однородное соединение в Красной армии, не имея ни опыта использования его, ни продуманного обеспечения и подготовки самого удара. Тогда на что они надеются? Скорее всего, на почти тысячу танков, которые, двигаясь лавиной, раздавят, несмотря на потери, вражескую оборону и все и всех, стоящих на ее пути. И не столь уж важно для командования фронтом, какая часть уцелеет и прорвется в немецкие тылы. Главное — результат: раздавить и прорваться. Все остальное потом. По-другому, то есть умно, без навала, мы воевать все еще не умеем. В этом все дело.
К такому нерадостному заключению пришел подполковник Матов в итоге тщательного анализа обстановки накануне решающих событий. Оставалось факты и эти заключения перенести на бумагу и отправить по спецсвязи в Москву.
И это еще не все из того, что он мог бы включить в свой анализ. Сверх того он мог бы добавить, что штаб Воронежского фронта практически обезглавлен тем, что его начальник генерал Иванов отправлен командующим фронтом Ватутиным в 69-ю армию в помощь командующему этой армией генералу Крюченкину, что сам маршал Василевский сидит на КП у генерала Ротмистрова, что, таким образом, по мнению Матова, аналитический аппарат фронта разорван на части, и это тоже может сказаться не в лучшую сторону в управлении войсками.
Очень хотелось Матову добавить и это самое «сверх того», но, во-первых, подобное добавление выходило за рамки его полномочий; во-вторых, он знал, что такое распыление продиктовано лично Сталиным, считающим, что нечего им, большим генералам, протирать штаны, сидя вдали от фронта, коли все время жалуются на слабую подготовку в профессиональном отношении многих генералов поменьше. А генерал Крюченкин, к которому ехал теперь Матов, и был из тех, кто не соответствовал своей должности даже в мирное время, что и отмечено в его «личном деле»: «…способен командовать полком, но не выше». Однако вся штука в том, что этот Крюченкин в гражданскую командовал конной дивизией, и ни где-нибудь, а в Первой конной армии, к нему хорошо относились как сам Буденный, так и Ворошилов, считавшие, что характеристика — это одно, а дело — совсем другое, что Крюченкин, хотя и горлопан и склонен к своеволию, делом доказал свою преданность революции и партии большевиков. Но одно дело — командовать конной дивизией в гражданскую войну, когда исход сражений решали именно массы, сходящиеся на поле боя штык в штык и сабля на саблю, и совсем другое, когда требуется маневр в первую очередь техникой, а во вторую — человеческой массой. Однако неповоротливая мысль генерала Крюченкина не поспевала за стремительными событиями, а постоянно рвущаяся связь командующего со своими войсками еще больше усугубляла и без того критическое положение, в котором находились корпуса и дивизии 69-й армии.
Наконец, подполковник Матов имел основание подозревать, что маршал Василевский, зная неуступчивый характер своего подчиненного, специально отправляет его хотя и на важный участок непрекращающегося ни днем, ни ночью сражения, но и не на самый главный. И это, скорее всего, потому, что Матов уже высказывал свои соображения в штабе армии, а на имя начальника штаба генерала Иванова подал докладную записку, так что и высказывания, и записка, судя по всему, дошли до маршала Василевского и в особый восторг его не привели. Еще Матов знал, что далеко не все его доклады с места событий доходили до генерала Угланова, теряясь в ворохе других докладов, из которых кто-то отбирал лишь то, что полагал необходимым подать наверх, то есть самому Сталину.
Правда, в системе подачи информации критические доклады порученцев Генштаба к решительной перестройке в руководящих кругах этого важнейшего органа не привели, но постепенно кое-что все-таки менялось, менялось со скрипом, иногда не в лучшую сторону.
С тяжелым сердцем ехал подполковник Матов к месту своего назначения. Конечно, он сегодня же отправит генералу Угланову свои соображения, и это, пожалуй, все, что он сможет сделать. Все остальное — потом, вслед за этим. Если, конечно, он не ошибается в своих оценках и прогнозах. Ведь не зря же говорят, что сверху виднее. Может, оно так и есть? А он лишь зря мутит воду?
«Нет, не зря!» — одернул себя Матов, заметив, что впереди что-то двигалось в облаках пыли, а что именно, не разберешь. Однако вынырнувшая из облаков «рама» сбросила вниз дымящие фиолетовым цветом шашки, обозначая тем самым, что движутся танки противника, то есть наши танки, и тут же снова нырнула в облака.
«Начинается», — подумал Матов с досадой на немецкую пунктуальность и нашу нераспорядительность. И точно: почти тотчас же ударила немецкая артиллерия, в низком небе протянули серые хвосты реактивные снаряды, и в облаке пыли стали взметаться гигантские кусты разрывов.
Подполковник Матов появился на командном пункте 69-й армии в тот момент, когда некоторые полки 92-й и 207-й дивизий, недавно пополненные новобранцами из Средней Азии, бросили окопы и стали в беспорядке отступать в тыл. Он видел еще на подъезде к командному пункту, как по открытой местности толпами бегут красноармейцы, иные бросая оружие, как их расстреливают немецкие танки и бронетранспортеры, как мечутся среди этих толп командиры, размахивая пистолетами, но ужас настолько поразил бегущих солдат, что вряд ли кто из них понимал, что делает и где их спасение.
К счастью, в это время из небольшой рощи выползли несколько «тридцатьчетверок». Два Т-70, вооруженных «сорокопяткой» и пулеметом, боязливо жались позади своих могучих собратьев. Танки сразу же открыли огонь по немецким танкам и бронетранспортерам. Вот встал один, другой, задымил третий, взорвался четвертый, остальные, отстреливаясь, начали пятиться. В районе покинутых окопов, где оставались наши бойцы, с фланга по немцам ударило чудом уцелевшее семидесятишестимиллиметровое противотанковое орудие, и отступление эсэсовцев тоже стало походить на бегство.
Генерала Крюченкина на КП не оказалось. Зато на месте оказался начальник штаба фронта генерал Иванов. Ему-то Матов и представился. Тот лишь коротко кивнул головой и снова припал к стереотрубе, хотя поле боя, на котором разворачивались события, видно было невооруженным глазом.
В углу, склонившись над телефонным аппаратом, кричал в трубку, закрывая другое ухо ладонью, какой-то подполковник:
— Генерала Крюченкина нет на месте! Нету, говорю я! Нету! Он в 48-ом стрелковом корпусе. У Рогозного! Да, именно там! Положение? Хреновое положение, товарищ Александров! Немец жмет. По нашим данным против нас действует около трехсот танков противника. Что? Я говорю: триста танков противника! Нет, сам я их не считал: авиаразведка считала… Что? Обстановка? Особенно трудное положение на стыке 48-го и 35-го корпусов. Немец форсировал Северский Донец, движется вдоль русла на Корочу! Намечается охват. Резервов нет! Нет ни одного танка, ни одного ПТО. Все в деле. Потери? Огромные потери, товарищ Александров! Просто убийственные. Нам крайне необходима поддержка авиации… Что? Не можем связаться… Нет связи с Красовским! — кричал во все горло подполковник, и Матов, зная, что подполковник разговаривает с маршалом Василевским, понял, какая нервозная обстановка, как бы в предчувствии событий более страшных, установилась в руководящих штабах. Было понятно, что пока не стабилизируется фронт, пока не остановят противника на этих рубежах, наступать Ротмистрову нет смысла. Но наступления никто не отменял. Да и вряд ли отменят.
Однако противник атаку не повторил. В километре от линии окопов бегущих красноармейцев встретили заградотряды и вернули их на место. На всем протяжении фронтовой дуги все стихло. Если не считать там и сям возникающей стрельбы между боевыми охранениями с обеих сторон. Тишина казалась подполковнику Матову напряженной и даже жуткой.
«Неужели все-таки начнут! — подумал он, прислушиваясь к телефонным переговорам офицеров штаба с командирами отдельных частей, в то же время торопливо заканчивая докладную записку для Генштаба. И тут же заключил неожиданно для себя самого: — А что же, собственно говоря, делать, если не контратаковать? Выбора-то, как ни крути, нет никакого».
Генерал Иванов оторвался наконец от окуляров стереотрубы, вытер скомканным платком взопревшее лицо и, ни к кому особо не обращаясь, произнес:
— Странно, однако. Похоже, фрицы приглашают атаковать нас… — и, повернувшись к Матову: — Вам не кажется, подполковник, что нас заманивают в ловушку?
— Кажется, товарищ генерал, — вскочил Матов. — И еще мне кажется, простите за дерзость, что вы обязаны сообщить об этом командованию, — закончил он, не отрывая неломкого взгляда своих серых глаз от лица начальника штаба фронта.
— Что ж, совет вполне разумный, — кивнул тяжелой головой генерал. И уже связисту: — Соедините меня с генералом Ватутиным.
Ватутин, выслушав своего начальника штаба, приказал:
— Я попрошу вас, Семен Павлович, напомнить Крюченкину, чтобы его дивизии зарывались в землю. Надо воспользоваться передышкой. Пока не проявляет активности и Второй танковый корпус СС. Если одноглазый группенфюрер Хауссер не атакует нас в течение ближайшего часа, мы, пожалуй, начнем сами. Москва нас поддержала. Ставка выделила нам для страховки два корпуса: стрелковый и механизированный. Эти корпуса разворачиваются у вас за спиной. Уверен, что в любом случае мы не позволим противнику вырваться на оперативный простор из системы нашей обороны. Что касается 48-го корпуса, то он должен атаковать во фланг 2-го танкового корпуса СС. Атаковать решительно и беспрерывно! — закончил Ватутин на высокой ноте.
Генерал положил трубку, спросил у Матова:
— Слышали, подполковник? Что скажете?
— Я должен еще раз повторить, товарищ генерал, что 5-я танковая армия плохо подготовлена к выполнению стоящих перед ней задач. Об этом я посылал на ваше имя докладную записку. В то же время я понимаю, что выбора у нас нет.
— А если понимаете, так чего же вы хотите? — проворчал генерал. — Мы на войне. К великому моему сожалению, до сих пор многие этого не понимают. А на войне как на войне: то ты навязываешь свою волю противнику, то он тебе. Пока мы все еще на вторых ролях. И ничего тут не поделаешь. Видели, как бежали наши, с позволения сказать, гвардейцы?
— Так точно: видел.
— Вот то-то и оно. Надеюсь, других объяснений не требуется.
И генерал Иванов приказал, чтобы его соединили с генералом Крюченкиным.
Глава 21
Младший лейтенант Николаенко лежал в воронке от снаряда или бомбы, довольно просторной даже для двух человек. Их и было двое, только второй был мертв, и от него уже немного пованивало. Но Николаенко за те дни, что он участвует в атаках или отражении атак противника, успел привыкнуть ко всему и старался не думать, хорошо или плохо то, что он видел и к чему быстро привык. Видимо, не думали и другие, стараясь делать свое дело в силу своего умения и опыта.
Уже вторую атаку полк гвардейской воздушно-десантной дивизии предпринимает в течение часа на хорошо укрепленные позиции гренадерского полка СС, который в сумерках минувшего вечера выбил десантников из совхоза «Октябрьский», а затем оттеснил их к самым окраинам села Прохоровка. И вторая атака, не поддержанная даже собственными орудиями и минометами, захлебнулась в крови, едва густые цепи гвардейцев вышли на открытую местность.
Николаенко лежал в воронке, понимая, что раньше или позже немцы стрелять перестанут, и если то, что останется от полка, не поднимут в новую атаку, то можно будет короткими перебежками вернуться в свои окопы. Опять же, при условии, что таковой приказ последует от командира роты, тому, в свою очередь, от командира батальона и так далее, а уж он-то, младший лейтенант Николаенко, в этой цепочке самый последний, и часто до таких, как он, приказы даже не доходят, теряясь где-то посредине. Или если его, Николаенко, того самого… Но об этом вообще лучше даже не вспоминать, а то, как говаривал сорокадвухлетний запасник из Алма-Аты фотограф дядя Коля Серегин, самый пожилой из нового пополнения, наклацаешь на свою голову. С теми, кто тогда из взвода смог вырваться из фактического окружения, дяди Коли не оказалось: может, убило, может, взяли в плен. И тех пятерых молодых казахов тоже. Но лучше бы убило, а то… Впрочем, и об этом тоже лучше не думать.
Младший лейтенант Николаенко лежал в воронке и ждал приказа. Или окончания артиллерийского, минометного и всякого прочего обстрела со стороны противника. Он был уверен, что дождется того или другого. Тут главное — не паниковать. Мертвый солдат, лежавший рядом с ним, ему не мешал. Солдат был не из его взвода, и даже не из его полка: другие полки их же дивизии еще вчера пытались отбросить немцев от Прохоровки. Но не отбросили: не хватило силенок. И Николаенко, не имея представления, зачем отбивать именно этот совхоз, когда отдали множество подобных совхозов, хуторов и сел за минувшие сутки, был почти уверен, что это всего лишь прихоть командира дивизии, продолжающего исполнять вчерашний приказ, гробя при этом зря своих солдат и офицеров. Важно, что немца, если еще не остановили окончательно, зато заставили топтаться на месте, воюя за отдельные холмы, хутора и совхозы-колхозы. Выдыхается немец, сообщил вчера штабной политработник, напутствуя полк в атаку, выдыхается, но все еще пыжится что-то доказать своему фюреру, который решил взять реванш за Сталинград. Шиш ему с маслом, этому фюреру! — закончил он, сложив комбинацию из трех пальцев под одобрительный смех слушателей.
Приказа, однако, все не было и не было, хотя обстрел явно пошел на убыль. И это было странно. И что теперь делать ему, командиру взвода? Самому вставать во весь рост и поднимать свой взвод? А если он остался единственным офицером из всего батальона? Что тогда? О том, чтобы поднимать взвод без приказа, тем более роту, а уж о батальоне и говорить нечего — подобное в голову Николаенко не приходило. Как это так, чтобы он, всего-навсего младший лейтенант, и такое? Хотя в газетах писали, что не только младшие лейтенанты, но иногда сержанты и рядовые проявляли инициативу в подобных случаях. И будто бы даже где-то там какая-то медсестра. И становились Героями Советского Союза, — кто посмертно, а кто с вручением и тому подобное.
И мысль Николаенко потекла в этом направлении.
Ну, предположим, он встал и крикнул: «За родину! За Сталина! Ура!» Предположим даже, что сразу же его не убило. Такое тоже случается, хотя и редко. Предположим далее, что поднял не только батальон, но и весь полк. А куда его вести? И как? Что надо взять совхоз и выгнать оттуда эсэсовцев, — это понятно: такая задача перед ними была поставлена с самого начала. Более того, комбат, — но уже не капитан Борисов, раненый при бомбежке, а его бывший начштаба старший лейтенант Увальников, — всем командирам роты указал ориентиры и сектора атаки на совхоз, а уж комроты, — и опять же совсем другой, потому что старлея Фоминых убило той же бомбой там же, на опушке леса, — а лейтенант Грушинский из третьей роты, — показал на схеме два дома на окраине совхоза, которые должен захватить взвод младшего лейтенанта Николаенко. Но даже при всем при этом Николаенко не знал, как ему поступать дальше, если бы он поднял батальон в атаку и что делать после захвата окраинных домов. Ведь не исключено, ко всему прочему, что поднимать совсем не обязательно и даже вредно. Скажем, командование поняло, что при таком сильном огне со стороны немцев надо этот огонь предварительно подавить артиллерией или авиацией, а уж потом пускать батальоны. И то в сопровождении хотя бы десятка танков и самоходок, потому что все сразу не подавить даже «катюшами», что-то да останется, и танки с самоходками тут были бы весьма кстати. Вот у немцев все именно так и построено. Потому что немцы…
В воздухе опять истошно завыло, заставив Николаенко еще плотнее прижаться к земле. Разорвавшаяся метрах в пяти упругим хлопком крупнокалиберная мина выбросила по сторонам визжащие осколки, упругой взрывной волной заложило уши, к горлу подступила тошнота, на Николаенко посыпалась земля, иные комки очень даже крупного калибра — они так больно били по телу, прикрытому лишь пропотевшей гимнастеркой, что Николаенко после этого взрыва еще долго лежал, ощупываясь и прислушиваясь к тому, что творится за пределами его убежища, и ни о чем не думал.
* * *
В это же самое время на командном пункте полка сошлись двое: командир дивизии полковник Небогатко, получивший взбучку от командира корпуса с угрозой отдать его, полковника, под трибунал, если его дивизия не вернет совхоз «Октябрьский», и командир стрелкового полка подполковник Ящурков, чей полк, уже потерявший в первой атаке более сотни убитыми и не счесть сколько ранеными, сейчас лежал в полукилометре от окраины совхоза под убийственным огнем противника, а все вместе — по цепочке сверху вниз — от командующего 5-й гвардейской армией генерал-майора Жадова.
И вот теперь полковник Небогатко разносил на все корки своего бывшего товарища по пехотному училищу, которое они одновременно закончили в начале двадцатых, а затем и по ускоренным курсам повышения квалификации для среднего комсостава, а затем и по академии. Однако в данном случае важен не только смысл, но и слова. Как раз ради этих слов Небогатко велел всем покинуть командный пункт полка, потому что с глазу на глаз можно не выбирать ни слов, ни выражений. И начал он, не выбирая ни того, ни другого, задыхаясь от гнева, не остыв еще от взбучки, полученной от командира корпуса:
— Ты что же это, мать твою растак! — подвести всех нас хочешь под монастырь? Почему они у тебя лежат? Попрятались, как вши в кальсоны, в рот, в нос, в хвост их и в гриву! Где твои комбаты? Под трибунал захотели? В штрафбат? Я вам устрою и то и другое! А тебе, Сашка… А ты у меня… — полковник в очередной раз задохнулся от гнева, и лицо его, красное от жары, стало почти багровым. Он кричал, брызжа слюной, катая упругие желваки на скуластом лице, и казалось, что вот-вот пустит в ход кулаки. — Ты у меня не отвертишься, душу твою растак! Я не посмотрю, что мы с тобой много лет хлебали из одного котелка! Думаешь отсидеться за моей широкой спиной? Не выйдет, подполковник Ящурков. Не-вый-дет! — И для пущей убедительности помахал пальцем перед носом бывшего друга. — Сейчас же поднять полк в атаку! — вскрикнул он, будто его укусила оса.
Подполковник Ящурков стоял навытяжку и, побелев лицом, неотрывно смотрел сузившимися, непонимающими серыми глазами на своего начальника. И едва тот выговорился, комполка с трудом разжал закаменевшие челюсти, и в наступившей тишине прозвучало хриплое и неожиданное:
— Я подниму полк в атаку, товарищ полковник, при двух условиях. Или ты обеспечишь эту атаку огнем артиллерии и минометов, или пойдешь в атаку рядом со мной. В любом другом случае я полк в атаку не пошлю. И можешь расстрелять меня сейчас, на этом самом месте, а гробить остатки своего полка ни за понюх табаку я не стану.
— Да т-ты… Да ты понимаешь, что такое несешь? — почти шепотом спросил Небогатко у Ящуркова. — Ты что думаешь, я струшу? Ты, командир Красной армии, отказываешься выполнить приказ своего непосредственного начальника и при этом еще набрался наглости ставить мне условия? Да т-ты-ыыы… Ты, что, не знаешь, что за нашей спиной целая танковая армия ждет, что мы проложим ей путь для глубокого прорыва обороны противника? Тебе артиллерию подавай? А куда ты загнал свою артиллерию перед атакой?
— Я никуда ее не загонял, товарищ полковник! Ее загнал начальник артиллерии дивизии — и об этом вам, как его непосредственному начальнику, должно быть хорошо известно. А батареи заблудились в темноте, потому что даже днем далеко не все командиры из последнего пополнения умеют ориентироваться по карте на местности. А теперь, когда я их вернул на прежнее место, оказывается, что у них нет снарядов и мин для поддержки атакующей пехоты. У них, видишь ли, снаряды и мины нужны для поддержки атакующих танков! — все сильнее заводился подполковник Ящурков, и голос его звенел отчаянным гневом в замкнутом пространстве КП. — Танки вам жалко, снаряды — жалко, а солдата вам не жалко, — товарищ полковник? — И вдруг, приблизив лицо к лицу своего бывшего друга, прохрипел сквозь сжатые зубы: — Ты что, сука, не знал, что посылаешь полк на верную смерть? Тебя чему учили в училище и в академии? Людей задаром гробить, мать твою растак! У меня в полку два ротных застрелились — нервы не выдержали. Ведь даже им, запасникам, стало ясно, что совхоз нам не взять при такой примитивной организации боя. Ты что, с-сука, не мог сказать об этом комкору? Что с тобой случилось, Колька? Или близкие генеральские звезды застили тебе глаза? — Подполковник Ящурков схватил стоящий на столе стакан с водой, выпил залпом, утерся рукавом и уже спокойно, как о решенном, заключил: — Я не стану поднимать полк в атаку, полковник Небогатко. Или пойдем поднимать вместе. Это мое последнее слово.
— Сашка, не дури, — тихо и устало произнес Небогатко и, оглядев блиндаж, ногой придвинул к себе табуретку и сел. Велел: — Садись, поговорим спокойно. Ты ведь знаешь, что я обязан сделать при отказе выполнить мой приказ. Но я этого делать не буду. У нас еще есть время. У нас с тобой всего… — Он вынул из кармана часы на цепочке, щелкнул крышкой, договорил: — Сейчас семь восемнадцать. У нас с тобой всего-навсего сорок две минуты. У танкистов приказ начать атаку в восемь. Давай обсудим спокойно. Артиллерию я беру на себя. У них действительно всего ноль-семь комплекта снарядов и мин. Этого не хватит даже на полчаса хорошего боя. Но, черт с ним, передовые позиции эсэсовцев мы накроем. А дальше… дальше все в твоих руках. Я, Сашка, тоже не только полковник, но и человек. А слышал бы ты, как честил меня комкор. Н-не-ет! Он матом меня не кры-ыл. Он с подковыркой, по-интеллигентски. А что он воевать не умеет — ты это знаешь? Что в его характеристике записано: «Способен к преподавательской работе, не годен командовать строевой частью» — ты это знаешь? И многие комдивы и даже комкоры имеют такую же характеристику — это ты знаешь? А Попова крыл на все корки командарм Жадов. Но уже по-простому, по-рабоче-крестьянски. А того, само собой, сверху. Операция под контролем Ставки. Тут умри, а сделай… — И уже спокойно: — У тебя есть связь с батальонами?
— Откуда? При такой плотности артогня никакая связь не устоит. Связистов я пошлю, но не раньше, чем заработает наша артиллерия.
— Хорошо, зови сюда своих гавриков. Начнем работать.
* * *
Младший лейтенант Николаенко снял пилотку и осторожно приподнял голову над валиком земли, окружающим воронку. И увидел в немецких окопах головы в касках. Много голов. Похоже, немцы сами собираются атаковать. Тоже, небось, боятся. В окопе сидеть — и то не сахар, а выйдешь на чистое, тут тебя и пулеметами, и минометами начнут крошить. Если они имеются в наличии, — сделал оговорку Николаенко. — И что в таком случае делать ему, командиру взвода? Поднимать взвод навстречу немцам? А эсэсовцы — это тебе не резервисты из Казахстана, едва научившиеся стрелять, не мальчишки из деревень и заводских окраин. Эти выдрессированы как цирковые медведи, эти драпать не станут. Да и здоровые все, что твои бугаи — не ниже метр семьдесят. Гренадеры, одним словом. Такого близко к себе подпускать нельзя: взденет на штык и не охнет. В такого надо стрелять с рук, с пяти метров, не поднимая винтовки. А автомат ставить на одиночные.
И тут над головой завыло. Да так густо, что Николаенко сразу же понял: свои. И головы в касках в окопах пропали, будто их там и не было, будто они померещились. Разрывы побежали между крайними домами совхоза, пластами сметая с крыш слежалую солому. А иные ухнули значительно дальше. Но в окопы — почти ни одного. Ясно, что бьют по площадям. Скорее всего, дивизионная артиллерия. От своей, от полковой, за минувшие сутки непрерывных боев мало что осталось. Значит, дали из резерва. Что ж, и это не плохо.
Отгрохотала артиллерия. Взметнулось там и сям еще два-три разрыва пушечных снарядов, выпущенных замешкавшимися артиллеристами, и — тишина.
Николаенко приподнялся на руках, окинул взглядом поле: на нем цепями, как шли в атаку, лежали неподвижные бугорки человеческих тел. Но полк все еще жил: из воронок показывались головы и тоже поворачивались то в одну сторону, то в другую. Со всех сторон доносились стоны раненых. «Вот сейчас бы, пока фрицы в себя не пришли, и атаковать», — подумал Николаенко. Но ниоткуда не раздалось никакой команды.
И тут опять завыло, загудело, застонало. Николаенко определил точно: «катюши». И тотчас же припал к земле. А та вздрогнула под ним и забилась будто в лихорадке. И тело Николаенко вздрагивало вместе с ней, и глохло, коченело, сжимаясь само по себе в комок.
Гвардейские минометы свое отработали, и до слуха младшего лейтенанта донесся рык множества танковых моторов.
Глава 22
Двадцатисемилетний командир танкового батальона майор Евгений Ножевой окинул взором свои «тридцатьчетверки»: двадцать две штуки, одна в одну, свежевыкрашенные в лопуховый цвет, они сдержанно порыкивали своими пятисотсильными дизелями в ожидании сигнала к началу атаки. Этот сигнал получит не только он, командир батальона, и командиры рот, у которых имеются приемо-передающие радиостанции, но и все остальные экипажи, имеющие рации только с приемным устройством. А совсем недавно не было и этого. Впрочем, совсем недавно много чего не было в танковых частях.
Кстати, за этими новыми танками комбат ездил на Уральский вагоностроительный завод сам. Не один, конечно, а с лучшими танкистами своего батальона, отличившимися в боях во время разгрома окруженной 6-й армии генерала Паулюса. И собственными глазами видел инженеров и рабочих этого завода: худых от недоедания, но с радостными лицами оттого, что видят тех, кто будет воевать на танках, сработанных их руками и, если так можно выразиться, мозгами. И ему, только что получившему майорские погоны и должность комбата, стало отчего-то стыдно за свои три ордена и две медали, и это в то время, когда фашисты отбросили наши войска от Харькова, взяли Белгород и Орел. Вот если бы он со своими танками тогда дошел до Днепра — тогда совсем другое дело. А то ведь не только не дошел, а драпал во все лопатки, чтобы не попасть в окружение, потеряв при этом почти все свои танки. Правда, «тридцатьчетверок» среди них было немного, да и те, за неимением горючего, он приказал взорвать. Но не все взрывали свои танки, иные просто бросили. Так ведь и те танки, взорванные и не взорванные, делали эти же люди, и скажи им сейчас, что на некоторых из них немцы намалевали свои кресты и бьют теперь нас из таких же вот наших пушек, еще неизвестно, как бы они посмотрели на его ордена и медали. Ведь не расскажешь им, с каким наслаждением он однажды всадил в борт «тридцатьчетверки», в самый крест, намалеванный на нем, подкалиберный снаряд, так что от взрыва боеприпаса отлетела башня, а корпус вывернуло наизнанку. Конечно, не сама «тридцатьчетверка» «сдалась в плен», но в того (или в тех), кто ее бросил или послал не туда, куда надо, не обеспечив снарядами или горючим, поддержкой артиллерии или авиации, не выстрелишь.
Нет, о таком этим людям рассказывать нельзя. И совестно, и язык не повернется. И он рассказывал им, как они били фашистов в придонских степях, как хорошо вели себя танки, сделанные их руками, как отскакивали от них снаряды, не говоря уже о пулях, и что он, майор Ножевой и его товарищи, присутствующие на митинге, только поэтому остались живыми и смогли приехать сюда, чтобы от всего сердца, от имени всех живых и погибших, сказать им спасибо и низко поклониться за их самоотверженный труд.
И майор Ножевой склонился в поклоне. И его товарищи последовали его примеру.
Женщины плакали навзрыд. Впрочем, и мужчины тоже, украдкой вытирая глаза рукавом.
Разве такое забудешь!
Между тем «отыграли» «катюши», и тотчас же в наушниках прозвучал условный сигнал к атаке: «Сталь!», «Сталь!», «Сталь!» — и батальоны 32-й бригады 29-го гвардейского танкового корпуса двинулись в атаку с так называемых «выжидательных позиций». То есть даже еще и не в атаку, а просто вперед — туда, где бригада развернется для атаки.
Еще вчера комбриг полковник Линев собирал командиров батальонов своей бригады и подробно им объяснил на подробной же схеме, составленной в штабе бригады, порядок следования бригад: в авангарде идет второй батальон майора Вакуленко, за ним первый и так далее — по графику, а замыкает колонну батальон майора Ножевого. Лишь при выходе за линию наших окопов бригада должна развернуться в линию и на полном ходу атаковать позиции противника у совхоза «Октябрьский» и господствующую безымянную высоту 252,2. Однако на этой подробной схеме не были указаны позиции противотанковых орудий противника, минные поля, если они имеются, и даже не все овраги, с которыми придется столкнуться танкистам, но это никого не обескуражило.
— Бригаде придется разворачиваться в линию на местности, зажатой между железной дорогой и оврагами. По не уточненным данным, ширина открытого пространства не превышает один километр. Разворачиваться придется на виду у противника. Положение, надо сказать, не из лучших, — признался полковник Линев. — Но выбора у нас нет. Следовательно, все маневры должны выполняться быстро и четко. К тому же командование сомневается, что противник, который лишь вчера вечером захватил совхоз «Октябрьский», сумел создать вокруг него сильную противотанковую оборону. Но что бы он там ни создал, я твердо уверен, что мы с поставленной задачей справимся с честью, как и положено гвардейцам. Главное — держать скорость и вести непрерывный огонь. Отсюда задача для командиров подразделений: все видеть, четко и вовремя отдавать команды своим подчиненным. Мы обязаны прорваться сквозь огонь ПТО, выйти на тылы и раздавить артиллерию фашистов к чертовой матери! За нами идет 31-я бригада, за ней все остальные, — закончил свой инструктаж полковник Линев, внимательно вглядываясь в молодые лица комбатов, стараясь понять, дошла до них или нет поставленная задача. Лица, однако, были сосредоточенными, но ни сомнения, ни страха он на них не заметил.
И никто ему не возразил, не задал вопроса. Да и чего тут возражать? О чем спрашивать? Чтобы такой силищей да не раздавить — быть такого не может. Только в их бригаде в атаку пойдет шестьдесят три Т-34, то есть шестьдесят три орудийных ствола и вдвое больше пулеметов. А всего в 5-й гвардейской танковой армии «тридцатьчетверок» почти шестьсот штук, да около трехсот Т-70, да полсотни самоходок. И в их числе десятка полтора стапятидесятидвухмиллиметровых. А овраги и все прочее — это препятствие для новичков. Здесь же собрались воины бывалые, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Правда, в батальонах много необстрелянной молодежи, но эта молодежь более-менее грамотная, все комсомольцы, и хотя в бой идут впервые, задора хоть отбавляй.
И все-таки осадок в душе майора Ножевого остался: идти в бой, ничего не зная о противнике, чревато непредсказуемыми сюрпризами. Про сюрпризы майор Ножевой знал не понаслышке, а на собственном опыте. Вот так же, без разведки и подготовки, с марша, их танковая бригада в августе тридцать девятого года атаковала японские позиции в далекой Монголии у реки Халхин-Гол, — и более половины танков сгорело вместе с экипажами. Он, майор Ножевой, командовал тогда танковым взводом и до сих пор не уверен, что комкор Жуков был прав, посылая танковую и броневую бригады в лоб на укрепленные позиции противника, практически без поддержки артиллерии и авиации. Но то дело прошлое, а предстоящее дело только разворачивается.
Майор Ножевой, стоял в башне своего танка и наблюдал, как из лесочка, примыкающего к селу Прохоровка, теряя по пути уже пожухлые ветки маскировки, медленно выползают танки второго батальона — одни «тридцатьчетверки». Они по одному выходили на узкую дамбу, разрезающую надвое длинный пруд неподалеку от кирпичного завода. Еще не успели первые танки миновать ее, как в воздухе на небольшой высоте появились два немецких самолета и сбросили дымовые шашки, предупреждающие своих о появлении русских танков: фиолетовые дымы высокими столбами, медленно смещались на юго-восток, покачиваясь и изгибаясь.
Второй батальон миновал дамбу, двинулся первый. И вот она, немецкая авиация, тут как тут. Около пятидесяти «юнкерсов» начали выстраиваться в карусель и, истошно воя, кинулись в атаку на медленно ползущие машины.
В наушниках прозвучал яростный крик полковника Линева:
— Первый батальон! Вас атакуют «лаптежники»! Скорость! Не плетитесь, как беременные бабы на сносях. Вперед, мать вашу в шестеренку!
Но танки продолжали плестись. Майор Ножевой мысленно подгонял своих товарищей, недоумевая, почему они не подчиняются его командам. Он понял причину их медлительности лишь тогда, когда его танк, возглавив третий батальон, выбрался на дамбу: даже при малой скорости дамба едва удерживала на себе стальные махины, пластами земли сползая из-под траков в зеленые от водорослей воды пруда.
Потеряв несколько танков при бомбежке, миновав первую и вторую линию окопов полков ВДВ, 32-я бригада снова стала выстраиваться в две колонны по одному, чтобы проследовать через два узких прохода в минном поле. Мины поставили десантники вчера вечером, а проходы сделали только сегодня утром, незадолго до атаки, опасаясь немецких танков. Известное дело: пуганая ворона куста боится. Танкистов встречали саперы, показывали проходы, отмеченные зелеными ветками среди созревающего пшеничного поля, расстрелянного артиллерией и авиацией.
«Час от часу не легче, — думал майор Ножевой, наблюдая всю эту неразбериху. — И ни одной зенитки, ни одного нашего истребителя — всех будто черти съели», — заключил он со злостью. И тут же сорвал ее на механике-водителе:
— Юдников, черт тебя подери! Давай скорость!
— Так наши впереди, товарищ майор, — огрызнулся Юдников, механик опытный, успевший дважды гореть в своей машине, с багровыми следами от огня на лице и руках.
Пока разворачивались, пока выстраивались в линию, снова налетели «юнкерсы», закружили над танками, точно осы, засыпая батальоны бомбами.
Только самолеты улетели, истратив то ли горючее, то ли бомбы, заработала артиллерия.
Под этим огнем выстраивались в линию. Выстроились. Прозвучала команда «Вперед!».
Понеслись. Ни то чтобы на полной скорости, однако километров до тридцати пяти все-таки разогнались. Уже, конечно, не шестьдесят три машины, а, дай бог, пятьдесят семь или восемь, но все еще силища. Со стороны должно выглядеть ужасно. И на фрицев должно подействовать соответствующим образом. А сзади вот-вот должна появиться 31-я бригада. У нее «тридцатьчетверок» всего штук тридцать, остальные — около сорока — Т-70. Но если 32-я пробьет брешь в обороне фашистов, то 31-ой останется только добивать.
Вдали показались первые дома совхоза «Октябрьский». Многие из них горели. Справа высота с белыми меловыми скатами. Слева насыпь железной дороги. И как-то все это пространство странным образом, чем ближе к цели, тем все уже и уже. Дистанция между машинами начинает постепенно сжимается, уже это и не линия, а черт знает что. Скорость танков снова начала падать.
В наушниках прозвучало:
— Держите дистанцию, мать вашу в шестеренку! Не толпитесь! Не сбивайтесь в стадо! Скорость давайте! Скорость!
А кой черт скорость, когда, ладно бы только воронки от снарядов и бомб, а то в них же пехота, свои люди! Машут руками, а сколько их, боже ты мой, которые и махать уже не могут! Сколько же их тут положили! Что же их теперь — давить?
Из воронки поднялся молоденький лейтенант, поднял руку, требуя остановиться. Подбежал, вскочил на броню, закричал:
— Я младший лейтенант Николаенко. Возьмите на борт!
— Один, что ли? — спросил Ножевой, высовываясь из люка.
— Нет, у меня взвод. Вернее, что осталось. Ну как?
— Давай твой взвод! — махнул рукой Ножевой, приказав по рации: — Я — Третий! Взять на борт десант.
Со всех сторон к танкам кинулось человек сорок — с винтовками, автоматами, ручными пулеметами, с сидорами за спиной и шинельными скатками в перехлест через грудь. В такую-то жару…
Двинулись дальше, чуть поотстав от головных батальонов.
И тут…
Это мгновение майор Ножевой запомнил на всю свою жизнь.
Как раз из-за кучевых облаков выглянуло солнце, осветив растерзанное и раздавленное пшеничное поле, засверкали снежной белизной ближние и дальние меловые обнажения холмов, их голые вершины, беленые дома с золотистыми крышами и черными провалами окон; только дым от горящих домов принял зловещую окраску, как бы о чем-то предупреждая. Но внимать этому предупреждению было недосуг. Более того, майору Ножевому стало казаться, что теперь-то их ничто не сможет остановить.
И в это мгновение скаты холма, стены домов, сараев, яблоневые и вишневые сады, свечи тополей как бы осветило на миг второе солнце: со всех сторон вдруг полыхнуло яркими вспышками орудийных выстрелов, и страшный грохот взорвал пространство. Майор увидел, как взрывались танки передней линии, подбрасывая высоко вверх тяжелые башни, как вспыхивали другие и замирали третьи, как крутились на одном месте, сматывая гусеницы, четвертые, и все больше черных дымов поднималось в небо похоронными столбами.
И в наушники тотчас же ворвались жуткие крики погибающих людей:
— Горим! О мать их Гитлера так и эдак!
— Братцы, погибаем! Прощайте!
— Суки! Сволочи! А-ааа!!!
— Куда вы нас загнали, паскуды гребаные? — это уже в адрес своего командования.
И чей-то почти детский голос:
— Ой, мамочка-ааа!
Выбросить на броню дымовые шашки! — прозвучала новая команда комбрига. — Не сбивайтесь в кучу. Огонь! Больше огня по огневым точкам противника!
Танки метались среди разрывов, пытаясь прикрыться гибнущими танками товарищей и из-за них стрелять по врагу, но немецкие орудия били, казалось, отовсюду, и негде было укрыться от их губительного огня.
Между тем дым от горящих танков и дымовых шашек, поднятая гусеницами и взрывами пыль начали затягивать все пространство, смещаясь к юго-востоку, и майор Ножевой решил, что этим можно воспользоваться и обойти совхоз слева, если удастся перевалить через насыпь железной дороги. И он, отдав приказ своему батальону, повел его пусть тоже в неизвестность, но не стоять же на месте, подставляя бока под орудия эсэсовцев, а там, за железкой, может статься, они и для фрицев могут оказаться неожиданностью.
Насыпь оказалась не столь высокой, какой казалась издалека, и танки ее легко преодолели и, — наконец-то! — смогли ринуться вперед на высокой скорости. Если смотреть по карте и верить разведданным, они вышли на место стыка двух эсэсовских дивизий. Если, к тому же, он плохо прикрыт, то можно прорваться в тыл. В шлейфе дыма и пыли прорвались. Однако возвращаться через железку в свою полосу наступления было практически невозможно: насыпь высокая и крутая. Но впереди дома совхоза «Комсомольский», а он тоже в полосе 29-го корпуса. Вперед ребята, черт не выдаст, свинья не съест!
Через сады ворвались в «Комсомольский», раздавили несколько противотанковых орудий. Между домами бронетранспортеры. Дави, ребята! Бей! Пулеметы, пушки — все в дело. А сверху — ай молодцы! — зацепились все-таки, усидели! — добавляет пехота младшего лейтенанта.
Майору Ножевому некогда оглядываться: он не только комбат, но еще и командир своего танка, наводчик орудия. Вертись, как хочешь. К тому же на его призывы откликнулись только два ротных и один взводный: один ротный пропал — то ли подбили, то ли еще что, у остальных рации только на прием. Заранее условлено, что они, имеющие полноценную связь, будут постоянно докладывать комбату обо всем, что увидят: два глаза — хорошо, а несколько — лучше. Но на танковой волне стоит такой галдеж людей гибнущих, растерявшихся, ошеломленных неожиданным отпором, что своих от чужих подчас невозможно отличить. Однако старый принцип «делай как я!» продолжал действовать. И тут же крик:
— Третий! Третий! Я Козлов! Слева танки противника!
— Всем-всем-всем! Я — Третий! Занимаем круговую оборону. Центр обороны — бывшая церковь. От нее первая рота — вправо, вторая — слева, третья — прикрыть спину. Быстрее, ребята! Быстрее!
Майор Ножевой высунулся из люка, огляделся. Немецких танков пока не видно из-за стелющегося над землей дыма.
— А нам что делать, товарищ командир? — прозвучал за спиной знакомый голос младшего лейтенанта.
— Занимать оборону, прикрывать танки от пехоты. Много людей осталось на броне?
— Да нет, товарищ командир, — надеясь, что танкист, одетый в комбинезон, на котором нет погон, назовет свое звание, чтобы для Николаенко не было никаких неясностей. Но тот не назвался, и младший лейтенант продолжил: — Как начали бомбить, мы посыпались, а потом кто успел — там не разобрать было, — радовался он, что наконец-то неизвестность закончилась, он все еще живой, и командир-танкист мужик вроде бы нормальный. А звание… да черт с ним, со званием!
Майор Ножевой едва успел поставить свою машину, въехав задом в сарай, как на площадь, постепенно проявляясь из дыма, медленно, будто нюхая воздух ноздрями набалдашника на конце длинного орудийного ствола, выползла несуразная махина «тигра». Его башня медленно поворачивалась в сторону церкви, за которой должна прятаться «тридцатьчетверка» командира первой роты лейтенанта Самойлова.
— Ну дайте ему кто-нибудь в бок! — не выдержал комбат, стрелять которому было бесполезно: у «тигра» лобовая броня под двадцать сантиметров, такую даже подкалиберным не возьмешь.
И едва успел произнести, как за церковью звонко рявкнула танковое орудие, и «тигр» будто осел на задние лапы, выдохнув из всех щелей густые струи дыма.
Глава 23
Маршал Василевский, покусывая нижнюю губу, следил за атакой гвардейских корпусов Пятой гвардейской танковой армии с наблюдательного пункта командующего этой армией генерала Ротмистрова, устроенного на втором этаже административного здания кирпичного завода. Маршал понимал, что наблюдает погром танковых бригад, которые оказались в западне полукольцом окружавшей их противотанковой обороны противника. Даже невооруженным глазом было видно, как густо и часто вспыхивают на склоне высоты орудийные выстрелы. Им также густо и часто вторят орудия из яблоневых и вишневых садов совхоза, из лесочка за противотанковым рвом, шестиствольные минометы и крупнокалиберные гаубицы. А сверху, сменяя друг друга, атакуют десятки «юнкерсов». Такая слаженность в действиях всех родов войск противника представлялась маршалу неожиданной, если иметь в виду, что немцы только вечером достигли этих рубежей и, следовательно, теоретически не могли создать прочной обороны всего за несколько часов. А в результате… вон они десятки и десятки наших танков, горящих на поле между железной дорогой и подножием увала, откуда немцы бьют и бьют по мечущимся среди огня и дыма еще живым огрызающимся машинам.
— Где наша авиация? — воскликнул генерал Ротмистров чуть ли ни плачущим голосом, глядя на Василевского сквозь круглые очки страдающими глазами. — Никак не можем связаться с Красовским. Черт знает что!
В углу, оседлав голову наушниками, кричал в микрофон капитан в погонах с серебристыми крылышками:
— «Сокол»! «Сокол!» Я «Ромашка»! Прием! «Сокол»! «Сокол»! Ответьте «Ромашке»!
Но «Сокол» не отвечал.
— Надо подавить немецкую артиллерию вон на той гряде, — показал пальцем в узкую амбразуру между заложенными мешками с песком оконными проемами маршал Василевский. — Где наша артиллерия? Почему молчит?
— Нет связи, — вытянулся перед маршалом майор, начальник связи армии. — Все узлы связи подавлены авиацией противника.
— Так восстановите! — повысил голос маршал.
— Все делается для того, чтобы восстановить, товарищ маршал, — еще сильнее вытянулся майор.
— Надо побыстрее вводить в бой вторые эшелоны, — произнес Василевский, поворачиваясь к генералу Ротмистрову. — Почему медлят бригады второго эшелона?
— Бригады уже движутся со своих выжидательных позиций, товарищ маршал. Как вам известно, мы не могли спрятать их вблизи от передовой. Пришлось разбрасывать по лесочкам да оврагам… — Ротмистров схватил трубку, протянутую телефонистом, пробормотав: «Извините, товарищ маршал — срочное сообщение!». С минуту слушал, что ему говорили, все более хмурясь, затем, вернув трубку: — Мне только что доложили, товарищ маршал, что танковые бригады на марше атакует авиация противника, — и замер с еще большим выражением страдания на худощавом лице.
Василевский, ничего не ответив, закусил губу, отвернулся и снова припал к стереотрубе. Но он не смотрел туда, где и так все было видно. Уткнувшись лбом в мягкое резиновое обрамление прибора, он, закрыв глаза, пытался представить, как могут развиваться события дальше, и что нужно сделать лично ему, представителю Ставки, чтобы повернуть эти события в нужную сторону. Ничего умного в голову не приходило.
Все с самого начала пошло не так, как было задумано им вместе с Ватутиным в штабе фронта. Создавалось ощущение, будто фельдмаршал Манштейн, командующий группой немецких армий, незримо присутствовал на их совещании, и теперь, заранее зная о планах советского командования, действует на опережение. Впрочем, и его положение сейчас превосходным не назовешь: окружить и разгромить советские армии в «Курском котле» немецкому командованию явно не светит, но две-три операции тактического масштаба оно провести рассчитывает и кое-чего, судя по всему, может добиться.
Однако Василевского более всего занимало не то, каким образом исправить положение, а что он скажет Сталину, если планируемый контрудар танковой армии окажется не столь эффективным, как ожидалось. Один лишь мрачный, исподлобья, взгляд Верховного, его удаляющаяся ссутулившаяся спина, затянутая в зеленый френч, стриженый затылок и шорох шагов по толстому ковру в мертвенной тишине кабинета приводили маршала в трепет, отнимая у него способность что-либо соображать. Он помнил этот взгляд и все остальное после неудачного наступления Юго-Западного фронта, и как он, недавно получивший маршальскую звезду и орден Суворова первой степени, закончив доклад о провале наступательной операции Воронежского и Юго-Западного фронтов под кодовым названием «Скачок», столбом стоял у стола в кабинете, где все было знакомо до последней детали, и ждал решения своей судьбы. А Верховный ходил по ковровой дорожке от стола к двери и молчал, и молчание это казалось начальнику Генштаба зловещим.
— Я не понимаю, — заговорил наконец Сталин, вернувшись от двери и остановившись напротив маршала. — Да, я не понимаю, — повторил он с нажимом, — как можно планировать наступательную операцию, не проработав все возможные варианты ее развития. Вы, судя по всему, оказались в плену излишне восторженного впечатления от нашей, скажем так, сравнительно неплохо проведенной операции «Уран». И вам показалось, что противник деморализован, что он будет плясать под вашу дудку, и его остается лишь бить и гнать, как говорится, в хвост и гриву. Для начальника Генерального штаба Красной армии такое отношение к своим обязанностям является непростительным верхоглядством. Ставка направляла вас на Юго-Западный фронт к Ватутину, человеку, как выяснилось, увлекающемуся, исключительно для того, чтобы вы контролировали его увлечения и не позволяли ему отрываться от реальности. Вы, что, до сих пор считаете Ватутина своим руководителем? — неожиданно спросил Сталин, вперив свой неподвижный взгляд в лицо маршала.
— Никак нет, товарищ Сталин! — дернулся тот, но Сталин вяло отмахнул рукой, точно возле его уха вился комар.
— Считаете, — отрезал он. — Это непростительно даже для бывшего студента, вставшего на самостоятельную дорогу, где должны использоваться полученные им знания от почитаемого им профессора. На этой дороге бывший студент должен развивать и углублять полученные знания, а не следовать тому, что морально обветшало. — И новый вопрос: — Так что же мы будем делать, товарищ Василевский?
— Я готов выполнить любое ваше приказание, товарищ Сталин, — вздернул подбородок маршал и замер так, будто его голову тянула вверх невидимая петля.
— Готовы — это хорошо, — кивнул головой Сталин и опять направился неспешной походкой к двери. И уже оттуда заключил: — Поезжайте к Ватутину и вместе с ним исправляйте свои ошибки. Надеюсь, что новых вы не наделаете.
Этот разговор с глазу на глаз произошел в апреле. Идет вторая декада июля. И что же? Что теперь отвечать Сталину? А главное — что делать? Делать сейчас, немедленно?
— Так что будем делать, Павел Алексеевич? — снова повернулся Василевский к Ротмистрову, оторвавшись от стереотрубы, надеясь, что тот, как танковый специалист с большим стажем, — впрочем, еще ни разу не комадовавший танковой армией в боевой обстановке, — подскажет приемлемый выход из создавшегося положения.
— Думаю, товарищ маршал, нам надо наращивать удар. Бригады второго эшелона на подходе. Через пятнадцать-двадцать минут они должны вступить в бой. Это, э-э… втрое увеличит количество танковых стволов, — споткнулся Ротмистров, только в это мгновение осознав, что втрое — это уже в прошлом, а в действительности все надо начинать сначала. Но отступать было некуда, и он продолжил: — Плюс батальоны мехкорпуса. Не могут фашисты выдержать такого удара, товарищ маршал.
Что-что, а он-то, командующий танковой армией, уже понимал, что контрудар может кончиться ничем, или, в лучшем случае, остановит немцев, не даст им захватить Прохоровку. А все потому, что контрудар готовился в спешке, с каким противником придется столкнуться, не знал никто, условия менялись едва ли ни каждый час. Тут бы перестроиться, имея в виду эти изменения, но куда там: комфронта Ватутин не привык менять свои планы.
Знал генерал Ротмистров, что он мог и должен был обо всем этом предупредить хотя бы маршала Василевского, и не потому, что маршал пребывал в неведении, а потому что предупреждение могло подтолкнуть командование к изменению своего решения. Но Ротмистров знал другое: это предупреждение может выйти ему боком в любом случае: и в случае победы, и в случае поражения. В последнем случае даже таким боком, что и не придумаешь: нарочно, мол, делал все, чтобы оправдать свои пророчества. Еще он знал, что Ватутину нельзя пятиться назад, как нельзя пятиться тому же Василевскому, поддержавшему перед Сталиным план контрудара. А удобно ли было развернуться сотням танков на ничтожном пятачке, смогут ли они набрать на нем атакующую скорость, это в конечном счете никого не интересовало.
Между тем, пока Василевский и Ротмистров, каждый думая больше о себе, безучастно взирали на происходящее, там, между железной дорогой и высотой 252,2, одна волна немецких бомбардировщиков сменяла другую, земля дыбилась и вздрагивала от удара тяжелых бомб. Едва самолеты заканчивали свою работу, начинали долбить пушки и минометы, затем появлялись новые пикировщики — и все повторялось сначала, то есть продолжалось фактическое истребление танковых бригад на глазах у тех, кто бросил их в эту мясорубку.
«И до чего же у них все рассчитано по минутам, — со злой завистью думал генерал Ротмистров. — А наших самолетов слыхом не слыхано, видом…»
Но тут — наконец-то! — появилась девятка наших истребителей, закрутилась в воздухе карусель, затем над головой пронеслись наши штурмовики и ударили… ударили, сволочи, по своим же танкам.
Опять из-за паршивой связи!
Глава 24
Алексей Петрович Задонов наблюдал за боем с крыши того же кирпичного завода. И ничего не понимал из того, что происходит. И его коллеги, толпящиеся возле нескольких стереотруб, хмурились и пожимали плечами: совсем не ту картину они ожидали увидеть.
Капитан Триммер, опекавший Задонова, — как, впрочем, и другие офицеры политотдела, прикрепленные к другим журналистам из центральных газет, — куда-то исчез, спрашивать, что происходит, было не у кого, да и вряд ли кто-нибудь из них готов был ответить на этот вопрос. Ну да, танковая армия, восемьсот боевых машин, более трех тысяч сидящих в стальных коробках людей — цифры весьма внушительные. Но где остальные, где наша авиация и артиллерия? И еще много «где и почему» толклось в голове Алексея Петровича, не находя ответа. Тогда на кой черт он перся на этот фронт? Какую такую развернутую информацию даст в редакцию «Правды», если он не видит контрнаступления танковой армии, а видит всего лишь частный бой? Может, даже и не сам бой, а всего лишь разведку боем. Или в этом состоит вся наша хитрость — ударить одной танковой бригадой по наиболее сильно укрепленному рубежу, а всей массой навалиться в другом месте, где ее, эту массу, никто не ждет? Тогда почему он, известный писатель и журналист, и многие его коллеги, тоже не менее знаменитые, сидят именно здесь, а не в том самом месте, где что-то вот-вот должно произойти?
И еще одна странность: если верно то, что им сообщили, — разумеется, «по секрету», — будто здесь же, на командном пункте танковой армии, на этом же этаже кирпичного завода, находятся сам Ротмистров и даже сам Василевский, то, следовательно, именно здесь и должны происходить главные события. Не может же наше командование настолько поглупеть, чтобы своим присутствием давать понять немцам, что… ну и так далее.
Алексей Петрович отстранился от стереотрубы: все равно ни черта не видно из-за дыма и пыли! — достал свою трубку и принялся набивать ее табаком.
В это время кто-то, открыв дверь, закричал:
— Наши! Наши подходят! — и закричал таким голосом, каким, должно быть, кричал матрос-бочковой с высокой мачты бригантины Колумба: «Земля! Земля!»
Все кинулись на крик из кирпичной пристройки, выскочили на крышу, покрытую рубероидом, и увидели наши танки, в клубах пыли несущиеся вдоль железной дороги по два в ряд. И всё — туда же, где среди дыма и вздыбливающейся земли отбивались остатки Тридцать второй бригады.
«Господи! Куда же ты их?» — прошептал Алексей Петрович, представив себе на миг, как там, на скатах высоты, да и везде вокруг чистого поля, на котором горели десятки наших танков, немецкие артиллеристы, надвинув на лоб свои рогатые каски, следят за приближающимися русскими танками через цейсовскую оптику. И от одного этого ему стало нехорошо, заныло под ложечкой, пересохло в горле, и даже ноги будто потеряли опору под собой, дрогнули и прогнулись в коленях.
Пошарив по кирпичной стене вялой рукой, Алексей Петрович медленно опустился на кирпичную же ступеньку. Откуда-то взялся капитан Триммер с какой-то ветхозаветной сумой, увидел Задонова, обрадовался:
— Видите, товарищ подполковник? Видите? Ну, теперь фрицы — держись! А как идут, товарищ подполковник! Как идут! Впервые вижу такой, можно сказать, марш…
— Марш смертников, капитан, — произнес Алексей Петрович и тут же, испугавшись: черт его знает, этого Триммера! — поспешил свести свои нечаянно вырвавшиеся слова к шутке: — Как это в Древнем Риме? Идущие на смерть, приветствуют тебя? Так, кажется?
Хорошо, что другие, занятые величественным видом несущихся мимо танков, не слышали его слов. Да и грохот стоял такой, что и капитан мог не расслышать.
Но Триммер расслышал, однако шутки не принял. Он, с изумлением глянув на сидящего Задонова, спросил:
— Вам плохо, Алексей Петрович? У вас лицо такое… такое бледное… Может, доктора? Или воды?
— Не суетитесь, капитан. Да, сердце что-то… не того. Но я сейчас пососу валидольчика, и все пройдет.
А танки все перли и перли. Вот они на ходу стали расползаться, но, не закончив перестроения, кинулись в самую гущу взрывов, дыма и пыли. И опять замигали вспышками скаты меловой гряды с возвышающейся над нею высотой 252,2. И рев, какого Алексею Петровичу не доводилось еще слышать, расползся по всему видимому пространству, волнами накатываясь на кирпичный завод, оглушая и заставляя коченеть беззащитное тело.
То же самое происходило и в полосе наступление Восемнадцатого танкового корпуса, который наступал левее, имея в виду окрестные хутора и села слева от совхоза «Комсомолец». Все новые и новые бригады волнами накатывались на рубежи противника, и откатывались назад, оставляя на поле десятки дымных костров.
Шел пятый час боя. Ротмистрову и Василевскому казалось, что еще чуть поднажать — и эсэсовцы не выдержат, побегут. Но эсэсовцы не бежали, бой медленно наползал на горящие дома совхоза «Октябрьский», подбирался к вершине высоты 252,2. В бой вступали новые силы: механизированные полки мехкорпуса, стрелковые полки Пятой армии генерала Жадова.
В полдень наконец появилась и наша авиация. Штурмовики, бомбардировщики и истребители обрушились на горящие избы совхоза, на высоты, и вообще на все, что двигалось и казалось летчикам достойной целью. Задание у них было одно — подавить артиллерию противника, но где находятся ее позиции, в полетном задании указывалось весьма приблизительно, а чтобы не ударить по своим, как ни раз случалось и за что их шерстили на всех уровнях, они бомбили и обстреливали с подстраховкой, то есть с явным допуском в сторону тылов предполагаемых позиций противника, а не по конкретным целям, часто не обращая внимания на указания корректировщиков, потому что случалось, и ни раз, что под корректировщиков подстраивались немцы и наводили наши самолеты на наши же войска.
И все, кто был на крыше, следили за действиями нашей авиации.
И тут за спиной Алексея Петровича раздался отчаянный крик:
— Да куда ж тебя черти несут? Идиот! Ну не идиот ли, мать твою в выхлопную трубу!
Задонов обернулся и увидел человека в летном обмундировании, с забинтованной головой, сквозь бинт проступала запекшаяся кровь. На синем комбинезоне измятые погоны с тремя звездочками. Он смотрел в небо, где схлестнулись наши истребители с немецкими, лицо его выражало отчаяние и муку. Алексей Петрович тоже внимательно посмотрел в ту же сторону, но ничего такого страшного не заметил, чтобы переживать с такими отчаянием и мукой: разобрать отсюда, где наши, а где не наши, ему, далекому от авиации, было практически невозможно…
А летчик, стукнув кулаком по раскрытой своей ладони, обернулся к Задонову, смерил его острым взглядом с ног до головы, спросил с нескрываемой ненавистью:
— Видите? Это черт знает что такое! Третий год воюем, а летунов готовят так, будто им не в бой идти, а начальству пыль в глаза пускать. Бочку — пож-жалуйста! Мертвую петлю — сколько хотите! А научить его драться по-настоящему… А-а! — махнул он рукой. Но, заметив недоумение во взгляде подполковника, пояснил: — У немца индивидуальная подготовка летчика-истребителя на высочайшем уровне! А у нас… Научат летать в строю — больше и не спрашивай. Коллективизм — это бомберам и штурмовикам нужен! А истребитель — работа штучная, можно сказать, ювелирная. Пока этому не научим, за каждый сбитый «мессер» будем платить тремя своими «яками». — И уже более спокойно, но с той же ненавистью в остром взоре: — Вы вот, как я понимаю, журналист, возьмите и напишите об этом. Да так, чтобы наших твердолобых начальников пробрало до самых печенок. Или кишка тонка?
Из мечущихся высоко в воздухе десятков юрких самолетов то и дело выпадало то по одному, а то и по два-три сразу и устремлялось вниз, таща за собой дымный хвост, а иногда распадаясь в небе на несколько кусков. И кто там был наш, а кто немец, поди разберись.
Алексей Петрович достал из своей командирской сумки плоскую флягу с коньяком, протянул летчику.
— Выпейте, старший лейтенант. Это все, что я могу для вас сделать.
К концу дня 12 июля в двух танковых корпусах, которые настойчиво пытались хотя бы дорваться до немецких позиций и раздавить артиллерию врага, осталось менее половины танков, способных продолжать бой; их и то, что удалось вытащить с поля боя, отвели в тыл залечивать раны. Результатом этих жертвенных атак стали окраины совхоза «Октябрьский» и высота 252,2, а совхоз «Комсомольский», с помощью танкистов майора Ножевого и немногих десантников, удалось освободить полностью и продвинуться на пару километров вдоль железной дороги. На этом силы танковых корпусов иссякли, резервов не осталось, утром следующего дня ожидалось, что противник возобновит наступление, и думать надо было лишь о том, как не допустить его к Прохоровке, удержать последний рубеж, прорвав который, противник мог беспрепятственно двигаться в сторону Курска.
Капитан Триммер, растерявший за день весь свой оптимизм, с виноватым видом предложил Задонову спуститься вниз, где его ожидает машина. Вниз спускались все, кто был на КП армии, который решено перевести в другое место, поскольку он мог быть захвачен противником и уж наверняка атакован авиацией.
Алексей Петрович, успевший выпить стакан водки и съесть полкотелка гречневой каши со свиной тушенкой, вяло махнул рукой, разрешая везти себя хоть к черту на кулички, лишь бы подальше от этого поля, на котором все еще продолжали дымить наши танки. Он видел, как шли к машинам, не глядя по сторонам, маршал Василевский и генерал Ротмистров, и думал, что Сталин наверняка задаст им такого перцу, что мало не покажется. Виденное не только потрясло его, а что-то сдвинуло в нем, обнажив давно угасшую неприязнь к нынешней власти, к этим генералам, для которых русский солдат не стоил ни копейки.
«Ну ладно — сорок первый, — думал он отнюдь не с пьяным озлоблением, безучастно наблюдая, как штабные офицеры и солдаты охраны таскают какие-то ящики и укладывают их в кузова „студебеккеров“, как связисты сматывают провода. — Неожиданность вторжения немцев, отсутствие опыта и все такое прочее — все это понятно и как-то оправдывает. А тут — все есть, и такая безответственность, такая бездарность, такое пренебрежение человеческими жизнями… Ах, сволочи, сволочи! Столько народу угробить не за понюх табаку…» И тянулся к заветной фляге, чтобы заглушить черную тоску, навалившуюся на него гранитною глыбой. И все остальные, судя по хмурым лицам и виновато опущенным глазам, чувствовали то же самое.
* * *
Поздно вечером на резервный командный пункт, куда перебрался штаб танковой армии, позвонил Сталин.
— Как идут у вас дела? — спросил он у Василевского, и по сварливому тону этого вопроса, Василевский понял, что Сталину уже доложили о неудачных атаках танковой армии Ротмистрова, и хотя внутри у него все сжалось от дурных предчувствий, голос его оставался бодрым и уверенным.
— Согласно вашим личным указаниям, товарищ Сталин, с вечера вчерашнего дня нахожусь в войсках Ротмистрова и Жадова на Прохоровском и южном направлениях, — бойко начал Василевский, поднаторевший на всяких докладах и отчетах перед Верховным, уверенный, что тот всех деталей знать не может, потому что негативные детали отсекаются в аналитическом отделе Генштаба. — По наблюдению за ходом происходящих боев и показаниям пленных делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери как в людских силах, так и особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Сегодня сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших Восемнадцатого и Двадцать девятого корпусов с большим количеством танков противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас эрэсы. В результате все поле боя в течении часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками. К сожалению, товарищ Сталин, потери у нас большие, ориентировочно — до пятидесяти процентов. Более точные цифры будут известны позднее. Но противник потерял значительно больше, товарищ Сталин. Однако, учитывая крупные танковые силы противника, которые постоянно подпитываются полнокровными танковыми дивизиями, которые перебрасываются с других участков советско-германского фронта, на завтрашний день перед войсками фронта ставится задача не допустить противника к Прохоровке, с тем чтобы в дальнейшем разгромить…
— Так что, так и не разгромили эсэсовцев? — перебил Василевского Сталин. — Мне доложили, что вы там бросили танковые корпуса на хорошо организованную противотанковую оборону немцев без всякой разведки и сопровождения артиллерией и авиацией.
— В отдельных моментах боя, товарищ Сталин, допускались и такие досадные положения. Но командование фронтом оперативно реагировало на эти промахи…
— Так, мне все ясно, — снова нетерпеливо перебил витиеватую вязь слов начальника Генштаба Сталин. — Потрудитесь подробно изложить на бумаге, почему две полнокровные армии так и не смогли переломить ситуацию. У меня к вам нет больше вопросов, товарищ Василевский.
Василевский положил трубку и вытер взопревший лоб большим клетчатым платком. Затем налил из графина полный стакан воды и выпил, не отрываясь.
Ротмистров во время всего разговора маршала с Верховным крутил колесики стереотрубы, пялился в сумрак наступившего вечера, все еще кое-где посверкивающего выстрелами и взрывами, и делал вид, что все остальное его не интересует.
Генерал понимал, что ничего другого маршал Василевский, спасая себя и Ватутина, — как, впрочем, и его, командующего танковой армией, — не мог доложить Сталину, наблюдая, как гибнет армия, созданная им, Ротмистровым, с таким трудом. Только встречное сражение, которого не было, может как-то оправдать такие потери танковой армии, а потери немцев — кто их станет считать?
Но война на этом не закончилась, и ему, генералу, предстоит завтра же все начинать сначала.
* * *
Сталин, закончив разговор с Василевским, некоторое время в молчании ходил по кабинету, затем, остановившись у стола, за которым сидели члены Государственного Комитета Обороны, заговорил:
— Вы все слышали. Василевский явно темнит. Я полагаю, что надо немедленно послать в штаб Воронежского фронта товарища Маленкова во главе комиссии ГКО. Необходимо самым подробным образом разобраться в объективных и субъективных причинах, которые привели к столь большим потерям боевой техники в полосе Воронежского фронта. И к столь незначительным результатам, чтобы в следующий раз ничего подобного не повторялось…
— Мне сегодня сообщили, — вклинился в паузу нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия, вдавив пальцем пенсне в горбинку своего носа, — что вчера там с поля боя сбежала почти вся дивизия, вместе со своим командованием. Заградотряды НКВД задержали более шести тысяч красноармейцев и командиров. Всех их вернули на передовую. Я приказал разобраться в допущенном безобразии…
— Комиссия Гока разберется заодно и с этим, — перебил Сталин наркома. — В состав ее обязательно ввести специалистов. Им необходимо оценить новую технику противника и внести соответствующие предложения по модернизации наших танков и созданию новых. Мы должны в кратчайшие сроки вернуть нашим танкам утерянное преимущество на поле боя. Что касается командующих фронтом и армиями, то приходится признать, что Суворовых и Кутузовых среди них не имеется. Что ж, приходится воевать с теми, кто есть. И, последнее: надо будет направить к Ватутину Жюкова. Что касается Василевского, полагаю, его необходимо направить на Южный фронт. Как не справившегося с возложенными на него обязанностями.
Члены ГКО согласно закивали головами.
Глава 25
— Товарищ маршал! — негромко окликнул Жукова офицер связи. — Москва на проводе.
— Жуков слушает, — произнес Георгий Константинович, беря трубку.
— Как идут дела на Брянском фронте? — зазвучал в трубке знакомый голос Сталина.
— Наступление началось по плану, развивается вполне успешно, товарищ Сталин, — ответил Жуков, не вдаваясь в подробности. — Замечено, что немцы стали снимать части с Центрального фронта. И даже с Воронежского.
— Это хорошо. Но в полосе наступления противника на Воронежском фронте дела идут не лучшим образом. Как доложил Василевский, сегодня в течение дня армия Ротмистрова в результате контрнаступления понесла большие потери. Она не способна к дальнейшему наступлению. Похоже, Ватутин так и не изжил в себе стремление к атакам огульного характера, которые допускал под Сталинградом и в Донбассе. Отправляйтесь завтра к Ватутину, посмотрите на месте, что можно и нужно сделать, чтобы исправить сложившееся там ненормальное положение. По прибытии доложите.
— Будет исполнено, товарищ Сталин.
Жуков положил трубку и в задумчивости посмотрел на карту. Собственно говоря, ничего неожиданного в полосе наступления немцев на Воронежском фронте не происходит. Беда в том, что Ватутин не подготовился к худшему, допустил дыры в построении своей обороны, предоставив тем самым противнику воспользоваться этими дырами. В результате элементарных просчетов, не выполнив задачу по уничтожению немецкой группировки, продолжает безоглядно растрачивать свои резервы.
Жуков в качестве Первого заместителя Верховного Главнокомандующего пользовался информацией, получаемой непосредственно из Генштаба наравне со Сталиным. Но это право не позволяло ему влиять на принятие решений Ватутиным, действия которого контролирует начальник Генштаба. Разве что иногда посоветовать что-то в тактичной форме. Если попросят совета. Но ни тот, ни другой его советов не спрашивал.
С самолюбивым и упрямым характером Ватутина, бывшего своего заместителя по Генштабу, Жуков столкнулся сразу же, едва вступил в должность в январе сорок первого. Все эти выпускники академий, — а Ватутин закончил аж целых две, — с высокомерием и недоверием смотрели на самоучку Жукова и ни то чтобы вставляли палки в колеса, но постоянно пытались оспорить и даже переиначить его решения. Пришлось в резкой форме указать «академикам» их место, потребовать неукоснительного выполнения его приказов, а советовать лишь в том случае, когда у них спросят. Затем, с началом военных действий, Сталин разогнал верхушку Генштаба по фронтам, и Ватутин уже в июне сорок первого оказался на Северо-Западном фронте: сперва в качестве представителя Ставки, затем осел там же начальником штаба, а его место в Генштабе — место начальника оперативного отдела — занял Василевский, человек более спокойный и покладистый. Из своего общения со штабистами Жуков сделал вывод, что даже весьма способные из них являются большими тугодумами, привыкшими иметь дело с картами и бумагами, когда над головой, что называется, не каплет. Когда же такой штабист становится военачальником, он, как правило, командует весьма неплохо до тех пор, пока все идет по разработанному им плану, а стоит противнику нарушить этот план, теряется и зачастую принимает опрометчивые решения. Между тем фронт требует от командующего держать руку на его пульсе, чутко улавливать любые изменения в его ритме, решительно и без промедления принимать необходимые меры. Так что если бы Сталин послал Жукова к Ватутину на Воронежский фронт, то, скорее всего, получилось бы так, что Ватутин стал бы у Жукова начальником штаба, а фронтом командовал бы Жуков. Теперь оба высоколобых штабиста собрались в одном месте, а в результате у двух нянек дитя без глазу: немцы всего за два дня прорвали оба рубежа обороны Воронежского фронта, вышли к реке Псёл, к слабо подготовленному третьему рубежу, нацелились на поселок Прохоровку и вот-вот вырвутся на оперативный простор. Отсюда торопливость и неподготовленность атакующих действий со стороны командования Воронежским фронтом, несогласованность между родами войск. А ведь совсем недавно, когда ожидание немецкого наступления на Курской дуге начинало кое-кому казаться напрасной потерей времени, Ватутин предложил самим начать наступление. И Сталин в конце июня, похоже, готов был склониться на его сторону. И что бы получилось из этого наступления? Ничего хорошего бы не получилось.
— Что ж, поедем к Ватутину, — произнес Жуков, заглядывая в глаза командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту Попову, человеку небесталанному, но большому любителю «зеленого змия», как бы спрашивая: «Тебе все ясно, Маркиан Михайлович?», и, не уловив в его ответном взгляде подтверждения своим мыслям, добавил скрипуче: — Продолжайте действовать по плану, помните о флангах, не оставляйте пехоту без поддержки артиллерии и авиации.
— Войска готовы драться, не щадя своей крови и жизни! — влез в разговор член Военного Совета фронта генерал Мехлис. — Войска выполнят приказ партии и товарища Сталина!
Жуков исподлобья глянул на Мехлиса, которого выносил с трудом, и вновь повернулся к Попову.
— Мы всё будем делать так, как намечено, Георгий Константинович, — заверил командующий фронтом, провожая Жукова к выходу.
Самолет с Жуковым сел севернее Прохоровки ранним утром 13 июля. Маршала встретил офицер оперативного отдела Генштаба, полковник Кудринский, который еще раз подтвердил трудное положение, сложившееся южнее и юго-западнее поселка Прохоровка. Из его доклада выходило, что в танковой армии Ротмистрова почти не осталось боеготовых танков. Правда, противник остановлен, но не уничтожен. Более того, противник, перегруппировавшись, начал нажимать на фланги, стараясь окружить противостоящие войска. И это при том, что в боях участвует лишь часть дивизий Второго корпуса СС и армейской группы «Кемпф».
Показав на карте, как все происходило, полковник замолчал.
— Так, — произнес Жуков. Затем добавил: — Этого следовало ожидать. — Спросил: — Где Василевский?
— На КП у Ватутина.
— Поехали.
На КП Жуков застал не только Василевского, Ватутина, но и командующего Степным фронтом генерала Конева. Молча пожав руки присутствующим, Жуков подошел к разложенной на столе карте, заговорил своим скрипучим голосом:
— Анализ наших ошибок и промахов, думаю, сейчас проводить не время. Давайте решать, что необходимо сделать, чтобы остановить и разгромить противника. В первую очередь хотелось бы знать, что нам известно о противнике и в каком состоянии наши войска. При этом прошу докладывать действительное положение дел, а не ваши фантазии.
Молча выслушав Ватутина, Жуков изложил свой план и через час уже звонил Сталину:
— Мы считаем, товарищ Сталин, что необходимо перебросить из состава Степного фронта пару танковых корпусов и не менее двух-трех стрелковых с тем, чтобы ударить во фланг Манштейну. Если иметь в виду успешное развитие наступления Брянского, Центрального и Западного фронтов, то немцы вот-вот должны побежать. Хочу обратить ваше внимание, товарищ Сталин, что наша авиация, несмотря на ее численное превосходство, не сумела завоевать господства в воздухе, она постоянно опаздывает с вылетами на штурмовку боевых порядков противника, бомбардировщики часто летают без прикрытия истребителями, аэродромы расположены слишком далеко от фронта, связь с наземными войсками осуществляется из рук вон плохо, отсюда частые удары по своим же войскам. Зависит это не только от нераспорядительности командования, но и от слабой подготовленности летного состава, танкистов, артиллеристов. Готовят спешно и кое-как, товарищ Сталин, — добавил Жуков, ожидая, что Сталин снова оборвет его, обвинив в повторяемости и высоком самомнении.
Но Сталин не оборвал, выслушал молча и не перебивая, хотя ответил далеко не сразу, а заговорив, четко отделял каждое слово друг от друга, что свидетельствовало о едва сдерживаемом раздражении:
— Что касается подготовки военных специалистов, о чем вы, товарищ Жюков, напоминаете слишком часто и слишком настойчиво, то вопрос этот решается. Для этого нужно время. Но дело не только в недостаточной подготовленности военных специалистов, которым доверяется боевая техника. В данном конкретном случае речь может идти о неумелом руководстве со стороны командования фронтом подчиненными ему войсками. За два дня боев потерять шестьдесят процентов бронетехники и при этом не суметь остановить немецкое наступление — такое могут допустить только самые бестолковые командующие. Что касается помощи Ватутину… Прикажите Коневу от моего имени передать вам из состава Степного фронта то, что вы считаете нужным. Заставьте Ватутина обращать постоянное внимание надежному прикрытию флангов его армий. Прекратите неподготовленные и необеспеченные контратаки танковых корпусов. Свяжитесь с командующим Второй воздушной армией Красовским и потребуйте от него в категорической форме решительно улучшить работу авиации. У меня все. Желаю успехов.
— Слышали? — спросил Жуков у стоящих рядом генералов.
Дернулся Ватутин.
— Я должен пояснить, Георгий Константинович, — начал было он, но Жуков рубящим движением руки заставил его замолчать.
— Пояснения и оправдания — это потом. А теперь давайте принимать срочные меры.
Решено было собрать всю наличную бронетехнику, какую только можно, и артиллерию из Первой и Пятой гвардейских танковых армий и отдельных корпусов и нанести удар во фланг наступающей немецкой группировке, перекрыв дороги питания войск противника, тем самым заставив его прекратить наступление на Прохоровку с целью окружения действующих против них советских армий и, в конечном счете, вынудить их отходить на исходные позиции. О том, чтобы разгромить, а тем более уничтожить танковую армию генерала Гота, речи уже не было.
Глава 26
Подполковник Матов со второй половины дня 12 июля находился безвылазно при штабе 48-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Рогозный. И оказался он здесь после того, как представился командующему 69-й армии генералу Крюченкину. Тот хмуро выслушал генштабиста, пожевал губами и произнес:
— С полковником Нечипуренко мы сработались. Надеюсь, сработаемся и с вами, подполковник… Или у вас на этот счет имеется другое мнение? — после паузы спросил он, недоверчиво сощурившись, почти с угрозой.
— Меня направили в вашу армию работать, товарищ генерал-лейтенант. Срабатываться не входит в мою задачу.
— Ну-ну, поглядим, — буркнул Крюченкин, и худое лицо его, с глубокими морщинами от носа к подбородку, брезгливо выпяченная нижняя губа, низкий лоб, то и дело складывающийся гармошкой, досказали Матову все остальное: он, генерал Крюченкин, никому не верит, потому что все только и знают, что надзирать и подсиживать, а он тут бьется, не имея ни танков, ни артиллерии, ни боеприпасов, ни обученных рядовых и командиров среднего звена, ни одного толкового командира корпуса или дивизии, без поддержки авиации — вообще без всякой поддержки с чьей либо стороны, и при этом от него требуют невозможного, а все неудачи непременно свалят на него же.
— Писать кляузы всякий может, а вы попробуйте, подполковник, влезть в шкуру хотя бы командира полка, который уже восьмые сутки не вылазит с передовой, тогда бы сразу запели по-другому. Или кишка тонка?
— Я выполняю приказ своего начальства, товарищ генерал, — ответил Матов, не опуская глаз под прицельным прищуром генерала Крюченкина. — Если мне прикажут возглавить полк, я приму этот приказ с удовольствием, — вытянулся Матов и даже прищелкнул каблуками начищенных до блеска сапог.
Генерал Крюченкин неодобрительно, почти с омерзением глянул на сапоги генштабиста, затем на свои, покрытые толстым слоем пыли, еще больше оттопырил нижнюю губу.
— К сожалению, подполковник, я не имею права приказывать офицерам Генштаба. Между тем в 48-м корпусе у генерала Рогозного штабная работа налажена… э-э… мягко говоря, неудовлетворительно. Я предпочел бы, чтобы вы находились именно там: и вам в удовольствие, и мне спокойнее.
— Я не возражаю, товарищ генерал. Но меня к вам послал маршал Василевский…
— А коли он самолично направил вас ко мне, — перебил Матова генерал, — то я имею, так сказать, полное моральное право рекомендовать вам отправиться в 48-й корпус. А с вашим начальством я этот вопрос улажу — можете быть спокойны.
— Разрешите выполнять вашу рекомендацию, товарищ генерал-лейтенант?
— Валяйте. А я прослежу, что вы там и как.
* * *
Генерал Рогозный, с которым Матов успел познакомиться в штабе армии в ожидании генерала Крюченкина, встретил Матова легкой усмешкой и настороженным взглядом исподлобья.
— А-а, это вы, подполковник, — произнес он, оторвавшись от блокнота, в котором что-то писал. Вырвав листок, отдал его юному офицеру в танкистском комбинезоне, пожелал:
— Постарайтесь найти штаб дивизии и вернуться назад. И передайте начштаба, чтобы через каждые два часа присылал посыльного с донесением.
Лейтенант неуклюже пристукнул каблуками, повернулся кругом и побежал к ожидающему его мотоциклу.
— Вот такая у нас связь, Николай Анатольевич, — продолжил генерал с едва заметной картавостью. — Противник буквально давит наши радиостанции артиллерией и авиацией, лишая нас связи. А наши радисты часто лупят открытым текстом. А почему, спрошу я вас? А потому, что растерявшемуся начальнику некогда ждать, пока его приказ зашифруют, отстучат на ключе, на месте расшифруют, тоже отстучат, здесь примут… Короче говоря, сказка про белого бычка! Впрочем, вы и сами все знаете. — Генерал нахмурился, видимо, пожалев о своем многословии. Затем перешел к делу: — Мне уже сообщили о том, что вы направлены к нам в помощь. Что ж, в помощь так в помощь. В чем, по-вашему, она должна выражаться? — и глянул на Матова с интересом к человеку, попавшему в неловкое положение.
— Прошу вас, Зиновий Захарович, использовать меня по своему усмотрению.
— Что ж, и на том спасибо. Для начала помогите моему начальнику штаба наладить отчетность: мой начальник штаба человек опытный, но у большинства его офицеров опыта нет, ему приходится тянуть за всех, из-за этого мы подводим командование. Да и самих себя.
И подполковник Матов приступил к выполнению новых обязанностей.
Действительно, штаб 48-го стрелкового корпуса был создан всего лишь месяц назад, собирали в него офицеров откуда только можно, многие вообще никогда не служили в штабах, иные, призванные из запаса, не имели никакой практики управления войсками в боевых условиях и зачастую не знали, как выполнять те или иные приказы командования. Матову приходилось каждому из них в деталях объяснять то, что известно даже командиру взвода, недавно закончившему училище, но объяснения его с трудом доходили до сознания людей, которые скорее чувствовали, чем знали наверняка, что немец жмет на флангах, пытаясь окружить корпус, что вряд ли кто-то из них сумеет вырваться из мешка, контуры которого все более отчетливо проявляются на штабных картах.
И действительно, все шло к этому. В отличие от района, где с утра началась контратака 5-й танковой армии генерала Ротмистрова против Четвертой танковой армии генерала Гота, на острие которой наступал Второй танковый корпус СС, в междуречье Северского и Липового Донцов, где дрались дивизии 69-й армии Крюченкина, в направлении Прохоровки с юго-востока наступала немецкая армейская группа «Кемпф», в состав которой входили два танковых корпуса и две-три пехотные дивизии, превосходившие противостоящие им наши войска по численности солдат и офицеров, по количеству танков и артиллерии, а главное — по боевому опыту, профессиональному умению, отлаженному взаимодействию всех родов войск. Утром 13 июля одна из танковых дивизий этой группы, совершив неожиданный маневр, форсировала реку Северский Донец и двинулась навстречу танковым дивизиям СС. Как планировалось в штабе фельдмаршала Манштейна, обе группировки должны соединиться у Прохоровки, окружив противостоящие им советские войска, ослабленные предыдущими боями. И хотя Гитлер, вполне осознавший, что задуманная им грандиозная операция «Цитадель» на Курской дуге провалилась, и уже 10 июля отдал приказ на возвращение своих войск на исходные позиции, Манштейну необходимо было обеспечить это возвращение таким образом, чтобы не позволить русским ударить им в спину и по флангам. Окружение и уничтожение хотя бы одного 48-го корпуса, занимавшего весьма удобную позицию для такого удара, фельдмаршала вполне бы устроил, и он, как заправский шахматист, стремящийся к ничьей в проигранной партии, маневрировал на тесном пространстве своими полками и дивизиями, которые, создавая преимущество то в одном, то в другом месте, прорывались глубоко в тылы русских, заставляли их тратить свои резервы, которые готовились совсем для других целей.
Утром вчерашнего дня и здесь, в междуречье, в атаку на немецкие позиции шли стрелковые батальоны при поддержке танков, и тоже с задачей вернуть утраченные вчера территории, но эти атаки планировались Ватутиным как вспомогательные, чтобы не дать противнику перебросить свои силы туда, где наносился главный удар. Как и западнее Прохоровки, здесь тоже наступавшие стрелковые батальоны встретили хорошо организованную оборону противника, и успеха их многочисленные атаки практически не имели. Между тем командующий фронтом генерал Ватутин требовал от командующих армиями и корпусами атаки не только не прекращать, но усиливать, привлекая к ним все имеющиеся силы и средства, заверяя, что у них в тылу скапливаются новые корпуса, привлеченные из Степного фронта, которые вот-вот нанесут удар по флангам противника. Увы, и сил и средств у обороняющихся оставалось все меньше и меньше, их не хватало даже для того, чтобы удерживать занимаемые позиции, а новые корпуса следовали к пунктам назначения пешком, подвергаясь беспрерывным бомбежкам немецкой авиации.
Во всем этом подполковник Матов разобрался довольно быстро. Как и в том, что корпус генерала Рогозного уже не способен к активным действиям. И когда спросил у командира корпуса о его планах, генерал долго молчал, затем, как всегда, исподлобья глянув на прикомандированного к нему штабиста, ответил, пожав плечами:
— Тут, по-моему, и без моего ответа вам должно быть ясно, что мы можем продержаться не более двух-трех дней. Тем более что прикрывающие наши фланги войска Пятой танковой, лишившиеся почти всех своих танков, то и дело отходят, не выдерживая давления противника. При этом, заметьте, они, как правило, не ставят нас в известность о своих великолепных маневрах. Противник, естественно, этим пользуется. Следовательно? Следовательно, мы должны успеть проскочить в ту горловину намечающегося мешка, которая еще не затянулась окончательно. А вы как считаете?
— Я целиком и полностью согласен с вашей позицией, товарищ генерал, — ответил Матов. — И полагаю, что отход дивизий корпуса надо начинать готовить немедленно. Более того, спрямление фронта позволит дивизиям вашего корпуса уплотнить оборону. Меня смущает лишь тот факт, что командующий фронтом против такого шага.
— И что прикажете делать? — вскинул голову генерал Рогозный и впервые посмотрел на Матова не исподлобья. — Прикажете принести корпус в бесполезную жертву? Вот вы на моем месте как бы поступили?
— Я поступил бы точно так же, товарищ генерал.
— Вот и прекрасно. Поэтому я бы вас попросил, Николай Анатольевич, заняться подготовкой к выходу из мешка, — закончил Рогозный.
— Есть заняться подготовкой, товарищ генерал! — вскинул голову Матов, понимая, что именно ему придется уходить из мешка одним из последних, прикрывая отступление войск корпуса.
С некоторых пор Матов все более чувствовал себя этаким Пьером Безуховым, наблюдающим со стороны сражение, не имея права вмешиваться в его ход даже тогда, когда к тому имеются все предпосылки. При этом в инструкции черным по белому записано: представитель Генштаба имеет право не только наблюдать, оценивать и докладывать тем, кто его послал, но и помогать командованию советом и делом, если в том возникнет необходимость. Однако генерал Угланов всякий раз предостерегал Матова от опрометчивого вмешательства в события, ибо, во-первых, со стороны не всегда виднее, а во-вторых, что еще важнее, можно оказаться тем крайним, на кого могут свалить все неудачи. Поэтому Матов взял за правило знакомить своих «подшефных» с замечаниями, отправляемыми им в Генштаб. Немедленную пользу это приносило далеко не всегда, более того, он частенько слышал недвусмысленные реплики в свою сторону, что, мол, этот умник приехал, увидел, настрочил и уехал, а поставь его на их место, обделался бы как последний штафирка.
Что тут поделаешь: к штабным вообще, а к представителям Генштаба в особенности, у строевых командиров еще с екатерининских времен сложилось почти враждебное отношение. Матов знал, что должность офицера Генштаба для особых поручений необходима, что таковых насчитывается чуть больше сотни, что они так же рискуют жизнью, как и все прочие, и ответственность на них лежит преогромнейшая. Не исключено, что со временем эта должность отпадет за ненадобностью, однако он пребывает в нынешнем времени, а оно чревато тем, что строевые командиры, опасаясь за свою шкуру, довольно часто выдают желаемое за действительность, напуганные прошлыми репрессиями. И понять их можно вполне.
И все-таки пора переходить на живое дело. Вот вернется в Москву и напишет рапорт генералу Угланову. Тем более что разговор с ним на эту тему уже имел место, и генерал не возражал в принципе, просил только повременить.
— Обождите немного, — говорил он, поглядывая на своего подчиненного поверх очков с той нескрываемой любовью и надеждой, с какой может смотреть учитель на своего весьма способного ученика. — Пройдет еще какое-то время, все придет в норму, предпосылки к этому налицо, и я, Николай Анатольевич, с большим удовольствием отпущу вас в армию. Уверен, что получив опыт работы в Генштабе, научившись анализировать события и делать соответствующие выводы, вы станете прекрасным командиром дивизии, а после небольшой практики, и корпуса. К тому времени, надеюсь, и те, кто будет командовать непосредственно вами, тоже чему-то научатся, и вам не придется вступать с ними в конфликты по любому поводу.
— И когда, по-вашему, Константин Петрович, наступит это время? — спросил Матов, уверенный, что для этого нужны годы и годы, что идеальных условий вообще не может быть в принципе, а порядок зависит не от воли отдельно взятых людей, а от степени образованности народа, его культуры и прочих факторов, которые создаются постепенно, на протяжении поколений. Правда, армия, как особый организм, где все регламентируется приказами на основе обобщенного опыта, может и должна опережать время, однако люди есть люди, а этот материал поддается изменениям с большим скрипом и часто теряет накопленный годами опыт в результате какой-нибудь общественной пертурбации.
Но Матов ничего из тех мыслей, что сложились в его голове за минувшие месяцы войны, излагать своему начальнику и наставнику не стал — обо всем этом уже говорено и переговорено — и теперь терпеливо ждал ответа на свой вопрос.
— Я полагаю, — ответил генерал Угланов после некоторого раздумья, — что к концу этого года вы вполне можете рассчитывать на продолжение службы строевым командиром. — И, нахмурившись, уткнулся в бумаги.
Глава 27
Жаркий и душный вечер 14 июля опускался на меловые холмы. Грохот боя постепенно затихал, распадаясь на отдельные очаги. Между тем на командном пункте 48-го стрелкового корпуса, разместившегося в неглубокой балке, поросшей молодым дубняком и тополями, не прекращалась напряженная работа. Бойцы роты охраны рыли щели в каменистой почве, устраивали огневые позиции для зениток и пулеметов, натягивали маскировочные сети над передвижными радиостанциями, особенно заметными с воздуха своими размерами. Штаб корпуса за минувший день несколько раз менял место дислокации, подвергаясь налетам немецкой и даже своей авиации, так что дело доходило до того, что и по самолетам с красными звездами на крыльях начинали стрелять не только наши зенитки, но и бойцы, сидящие в окопах, наслышанные о коварстве фашистов, которые используют советские самолеты, даже не замазав на них красные звезды.
— Вот видите, Николай Анатольевич, в каких условиях нам пьиходится воевать, — с неизменными усмешкой и картавостью говорил генерал Рогозный после очередного налета краснозвездных Илов. — Наши бойцы уверяют меня, что в этих самолетах сидят немецкие летчики. О том, что противник используют наши трофейные танки и артиллерию, это известно всем. Но на тех танках все-таки кресты, а тут звезды. — Помолчал немного, качнул лобастой головой. — Все дело в отвратительной связи. На большинстве наших самолетов нет радиостанций, нашим сигнальным ракетам летчики не верят. Впрочем, сегодня утром и немецкие самолеты так врезали по своим, что любо-дорого. А все потому, что пока самолеты летели, наши отступили, немецкая пехота заняла их место… Как говорится, поспешишь, сам себя насмешишь. — И, грустно улыбнувшись: — Разведка доносит, что противник собирается атаковать наши позиции и этой ночью. Идет перегруппировка. А что у вас в арьергарде?
— Собрали все оставшиеся орудия и снаряды — набралось по четверти боекомплекта. Мы договорились с комдивом Говоруненко, что с наступлением темноты проведем короткую атаку на позиции противника на стыке двух его дивизий. По данным наших разведчиков, немцы ослабили фронтальные части, перебрасывают основные силы на фланги. Судя по всему, они именно завтра намерены завязать «мешок» в районе села Малое Яблоково. Надо спешить, Зиновий Захарович.
— Мы спешим, Николай Анатольевич. Дивизии уже готовы к маршу. Обозы с ранеными уже пришли в движение. Порядок с вашей помощью определен, все лишнее будет уничтожено. За помощь моему штабу большое спасибо. Отход начнем в тот самый момент, как только вы начнете атаку… Кстати, вы ужинали?
— Да, спасибо, и пообедал, и поужинал. Всем бойцам и командирам раздали оставшееся продовольствие и боеприпасы…
— Очень хорошо. И еще один вопрос, если не возражаете: откуда у вас такая предусмотрительность?
— Учился на своих и чужих ошибках, — поскромничал Матов.
— Тогда отдохните часок — и за дело, — подвел итог разговору генерал Рогозный. — В дивизию пойдет машина с боеприпасами. Она вас захватит.
Генерал поднялся, встал и Матов. Они молча пожали друг другу руки.
Штаб корпуса расположился в палатках, выгоревших на солнце до белизны. Их тоже накрыли продранными во многих местах маскировочными сетями, и теперь из-под них слышались голоса штабных офицеров, пытающихся связаться с дивизиями и полками. От палаток то и дело отъезжали мотоциклы с колясками: очередной офицер, не докричавшись до своих подопечных, уносился в ночь искать штабы и устанавливать связь. В небольшом окопчике на краю балки был оборудован НП, таращились вдаль рогатые стереотрубы. В километре отсюда, в низине, шел бой, вспыхивали зарницы выстрелов, переплетались трассы пулеметных очередей, но все это без той ожесточенности, какая наблюдалась весь минувший день.
Матов присел на земляной выступ, расстегнул ворот пропыленной и пропитавшейся потом гимнастерки, откинулся спиной к прохладной стенке только что вырытого узла связи. Тело отчаянно просило покоя, усталость и желание спать отодвинули куда-то вдаль все остальные чувства. Однако стоило Матову закрыть глаза, как из звенящей тишины стали вылепливаться немецкие танки и неумолимо надвигаться на КП, причем само КП располагалось среди голого поля, никем и ничем не защищенное. И никто по этим танкам не стрелял, да и танки не стреляли тоже, в полной уверенности, что передавят всех гусеницами. Он слышал ругань командиров в телефонные трубки, пытающихся как-то повлиять на события, он снова и снова видел бегущих толпами красноармейцев, порывался сам чем-то помочь офицерам штаба, но почему-то никак не мог вспомнить что-то такое единственное, что сразу же решило бы все проблемы.
Матов не знал, сколько он спал, и спал ли вообще, неожиданный короткий артналет разбудил его. Он не сразу открыл глаза, прислушиваясь.
— Ну, я подбегаю и гляжу: фриц-то мой притворился мертвым, а ведь только что бежал как угорелый и, стал быть, запыхался, грудь ходуном так и ходит, так и ходит — проник в сознание Матова чей-то захлебывающийся молодой голос. — Ну, я ему, известное дело: «Штеен зи бите! Хальт! Хенде хох!» И так далее! А он, сука, лежит и ни в зуб ногой…
— Подполковник Матов у вас обретается? — оборвал рассказчика голос бархатистого тембра, как-то не вяжущийся с этим едва устроенным убежищем.
— Есть такой, — откликнулся Матов.
Тонкий лучик фонарика уперся Матову в лицо.
— Николай, дружище! Это я, подполковник Агареев! Не узнаешь? — и в сумраке блиндажа возникла невысокая фигура несколько полноватого человека, луч фонарика описал дугу и уперся в широкое улыбающееся лицо.
— Игнат? — изумился Матов. — Ты-то здесь какими судьбами? А я слышу — знакомый голос, но поверить никак не могу…
Они обнялись, хотя до этого никогда ничего подобного с ними не случалось, похлопали друг друга по плечам.
— А я только что он Рогозного, — рассказывал Агареев. — Он велел мне захватить подполковника Матова. Я, естественно, спрашиваю, не тот ли, что из Генштаба? Оказывается, тот самый. И вот, будьте любезны: ты и собственной персоной! — хохотнул Агареев, слегка отстранившись от Матова.
— А ты, что, рассчитывал встреть метафизическое отражение моей материальной сущности?
— Представь себе, нечто в этом роде. В конторе встречались раз в месяц: то ты где-то, то я, а тут — извольте радоваться! Поневоле ударишься в метафизику.
— Так куда ты меня должен захватить? — спросил Матов, окончательно проснувшись.
— То есть как — куда? В дивизию! Я сюда приезжал для связи. А в дивизии временно командую полком. Правда, от полка осталось меньше двух батальонов, но знамя сохранилось, следовательно… Впрочем, по-моему пора ехать, — спохватился Агареев, глянув на светящийся циферблат часов. — Я на полуторке, в ней снаряды для сорокопяток, патроны, мины, — перешел он на серьезный тон. — По дороге поговорим.
— Да-да, поехали, — согласился Матов, одергивая гимнастерку.
— Понимаешь, Николай, — рассказывал Агареев, когда они забрались в кузов полуторки, уселись на штабеле ящиков, и машина тронулась, подсвечивая дорогу синими фарами. — Надоело мне перекладывать бумажки из одной папки в другую. Ведь я все-таки боевой офицер, в управление резервов Генштаба попал случайно и, как предполагал, на пару месяцев, пока не затянутся операционные швы. А получилось — почти на целый год. Эдак и квалификацию можно потерять. Подал очередной рапорт по команде и — не поверишь! — на другой же день получил назначение на Воронежский фронт. Восьмого июля прибыл в штаб фронта, там меня хотели пристроить к себе, я взбунтовался, и меня сунули к Рогозному. А тот переправил меня в 275-ю дивизию к полковнику Говоруненко начальником штаба полка. На этой почтенной должности пробыл два дня, бомбили нас отчаянно, фрицы во время атак не раз доходили до самого КП, потери среди офицеров ужасные, ротами командуют сержанты. С тех пор в моем круглом лице сошлись почти все полковые должности. И, знаешь, держимся, не бежим. И не потому, что я такой умный. Вовсе нет. А потому, что зарылись в землю по самую маковку — это раз, люди за время боев многому научились, стали воевать грамотнее — это два. Со снарядами, правда, туговато, да и с патронами, а тут затишье, и, как я понимаю, не к добру. Вот я и решил сам наведаться в штаб корпуса. Рогозный сказал, что ты у нас в дивизии вроде как заместителем комдива…
— Да, что-то в этом роде. Уж больно ваша дивизия широко разбросана, связь между левым и правым флангом неустойчивая, а нам прикрывать выход корпуса из мешка. Да и самим выходить надо организованно, собравшись в кулак.
— Мешок — это серьезно?
— Серьезнее некуда.
— Да-а, дела-ааа. То-то ж я смотрю, фрицы у нас притихли, а на флангах жмут и жмут. Понятно, им совсем не с руки выталкивать нас из мешка… Как ты думаешь, Николай, вырвемся?
— Думаю, что вырвемся. Надо только правильно распределить роли между полками.
— А ты, Николай, не боишься… не смерти, нет! Я имею в виду плен. Все-таки офицер Генштаба…
— Боюсь. Надеюсь, однако, что не попаду.
— У нас тут… может слыхал? — начальник политотдела 10-го танкового корпуса, начштаба бригады, следователь и кто-то там еще, имея на руках штабные документы, напоролись на немецкую разведку. О том, что там произошло, знает лишь шофер, успевший выскочить и скрыться. Но что случилось с остальными, так и осталось тайной. И все это в нашем тылу, средь бела дня…
— Смотри, накаркаешь, — ответил Матов. — Или прикажешь вернуться?
— Да нет, что ты! — воскликнул Агареев. И пояснил: — Извини, Николай. Нервы. Честно признаюсь — боюсь. А тут, понимаешь, семья нашлась… Я-то думал, что она в оккупации, а она в Златоусте. Жена у меня молодец: сразу почувствовала, чем дело пахнет, не стала дожидаться, как другие, подхватила детей и давай бог ноги. Как уж ей это удалось, еще не знаю. Главное — удалось. А так хочется повидаться…
— Ничего, черт не выдаст, свинья не съест, повидаемся. Не ты один такой, — заключил Матов, и до самого штаба дивизии они ехали молча, вглядываясь во тьму и сжимая в руках автоматы, думая каждый о своем.
Прежде чем атаковать село, расположившееся на взгорке, Матов посоветовал командиру полка подполковнику Агарееву пустить вперед усиленную разведку, а двум батальонам начать атаку под прикрытием артогня.
— Своих постреляем, товарищ подполковник, — засомневался Агареев. — Да еще в темноте.
— Не постреляем. — И, обращаясь к командирам батальонов, посоветовал: — Объясните командирам рот и взводов, чтобы не сбивались в кучи и держали дистанцию не ближе ста метров от линии огня, дайте им ориентиры на местности, и все пойдет хорошо.
Разведгруппы двинулись вперед по загубленному пшеничному полю, когда на западе медленно затухала вечерняя заря. Хотя небо еще было ясным, однако на земле уже сгустилась темнота, и разведчики исчезли в ней, не пройдя пятидесяти метров.
Матов вместе с Агареевым вглядывался в темноту. Время тянулось медленно. Далеко за спиной погромыхивала артиллерия.
Через двадцать три минуты ожил полевой телефон.
Агареев схватил трубку, Матов вторую, подключенную параллельно. Приглушенный голос докладывал:
— Мы уже в окопах. Никого нет. Двигаться дальше?
— Минуточку, — произнес комполка и, прикрыв трубку рукой, с надеждой посмотрел на Матова.
— Передайте им, пусть возвращаются, — ответил тот на немой вопрос комполка. — Мы слишком шумели, и немцы догадались, в чем дело. Дайте сигнал к отходу и остальным группам. — Глянул на часы. — Через двадцать минут артподготовка. Огонь перенести на тылы. Батальонам атаку не начинать. Сообщите комдиву. Я полагаю, что через час мы можем начать отход.
Но приказ на отход от командира корпуса поступил лишь черед два с половиной часа. Дивизия начала отход тотчас же. Полк Агареева отступал последним. Немцы не преследовали.
В широкую лощину стали спускаться уже засветло. Чем дальше, тем лощина уже, переходя в глубокий овраг с крутыми склонами. На флангах, метрах в двухстах от него, двигались роты сторожевого охранения. В той стороне, где расположилось село Малое Яблоново, и где, если верить карте, имелся выход из оврага, слышались звуки боя: отрывистые выстрелы танков, пулеметные очереди, разрозненная ружейная стрельба.
Матов шел во главе полка рядом с Агареевым. Чем дальше, тем уже овраг и круче его поросшие кустами скаты. Все чаще стали попадаться брошенные машины с открытыми капотами, повозки без колес, испорченные пушки. Иногда они преграждали дорогу, замедляя движение колонны. Люди с опаской поглядывали на меловые скаты оврага, ускоряли шаги.
Вдруг впереди, справа, зазвучали выстрелы. Отрывисто тявкнула танковая пушка. Матов по звуку определил: немецкая пятидесятимиллиметровая с удлиненным стволом. А это означало лишь одно: немцы вот-вот окажутся на краю оврага. Почти сразу же стрельба разгорелась и слева. Матов поднял руку, останавливая движение полка.
— Спешить надо, — воскликнул подполковник Агареев.
— Поздно, — ответил Матов. — Бери свой батальон и быстро наверх. Ты направо, я налево. Здесь нас постреляют, как зайцев. Действуй по обстоятельствам. Но лучше всего — атаковать. Все решают минуты. Давай, Кондрат. Ни пуха. — И хлопнув товарища по плечу, Матов кинулся ко второму батальону, замыкающему колонну. Поднялся на скат оврага, чтобы его было видно, и во весь голос:
— Товарищи бойцы! У нас нет выбора — только атаковать! Или нас перестреляют, или мы прорвемся и тем самым поможем своим товарищам! Действовать решительно! Наверху разворачиваемся в цепь! Приготовить гранаты. У кого автоматы — вперед. Пэтээрщики — во вторую линию! За мной, товарищи! — И Матов первым полез наверх, цепляясь за ветки кустов.
А стрельба уже накрывала овраг торжествующим треском немецких автоматов, взрывами немецких гранат, захлебывающимся гулом их крупнокалиберных пулеметов и гулом голосов людей, попавших в смертельную западню.
Оставался последний рывок, когда Матов сквозь кусты и высокую полынь увидел метрах в пятидесяти от себя немцев, спрыгивающих с бронетранспортеров. И, упершись ногой во что-то прочное, нажал на спусковой крючок автомата. Почти одновременно с ним рядом длинными очередями зашлись еще несколько. Коротко тявкнуло противотанковое ружье, заспешил длинными очередями ручной пулемет.
Матов оглянулся: люди густо лезли наверх, помогая друг другу. Он видел их ожесточенные лица и, как ему показалось, слышал в этом грохоте и стоне их запаленное дыхание. Глотнув побольше воздуху, крикнул, срывая голос:
— В атаку! За мной! Ура! — и выбросил свое тело наверх.
Что было дальше, Матов помнит смутно: бег, стрельба, лица врагов, искаженные ненавистью и страхом, удар в грудь и — темнота. Очнулся — над ним среди прозрачной голубизны плывут такие милые, такие родные, такие белые облака, среди облаков раскачивается чье-то широкое лицо, серое от пыли, с черными полосами пота от висков к подбородку. Откуда-то доносятся звуки боя, но они тонут в шорохе шагов, бряцании амуниции. Он хотел спросить, чем все кончилось, но носилки тряхнуло, тело охватила острая боль, и Матов, теряя сознание, все же успел услыхать:
— Осторожнее, черти! Не трясите: человека несете, а не мешок с картошкой.
Глава 28
Прерывистый гул далекого сражения не затихал даже ночью. В той стороне, где были наши, и слева тоже, по ночам полыхали зарницы орудийной стрельбы. Всю ночь на разных высотах гудели самолеты, летящие то в одну сторону, то в другую, по небу шарили прожектора, стучали зенитки, громовыми раскатами расплывались в ночной темноте близкие и дальние бомбежки, пульсировали зарева пожаров.
Майор Вологжин слышал только звуки. О том, что можно увидеть глазами, ему рассказывал Сотников. Но видел он немногое.
С наступлением темноты на дороге движение танков и машин значительно усилилось: одни двигались в ту сторону, где шли бои, другие назад.
— Ох, сколько их, товарищ майор, — шептал Сотников и возбужденно теребил рукав комбинезона Вологжина. — Передать надо, чтобы наши накрыли их артиллерией.
Вологжин помнил приказ не выходить самому на связь, и теперь не знал, что ему делать. Действительно, накрыть колонны немецкой техники огнем артиллерии и «катюш» представлялось настолько необходимым, что можно нарушить и приказ. Но оставалось сомнение, что рация, рассчитанная на связь до десяти километров, будет услышана, а артиллерия дотянется сюда своими снарядами. И себя они выдадут, и тогда немцам не составит труда их обнаружить.
Однако он включил рацию и долго вслушивался в эфир, наполненный тресками, шумами и немецкой речью. И ни одного слова по-русски. Разве что одинокий девичий голос монотонно повторял числа какого-то кода, неизвестно, кому предназначенного.
— Нет, Тимоха, слишком далеко наши — не услышат. Подождем. Думаю, теперь не долго осталось.
Миновал еще один день, и еще. Вологжин все чаще впадал в беспамятство. Из еды осталось лишь несколько сухарей, а воды — всего полфляги. Сотников время от времени давал своему командиру по глотку, а пил ли он сам, у Вологжина не оставалось сил даже выяснять. Но однажды Вологжин очнулся в состоянии удивительной отчетливости своего восприятия действительности. Он снова слышал пиликанье сверчков, писк трясогузок, но самое главное — услыхал звуки не столь уж далекого боя. И со страхом почувствовал, что проспал, прозевал самое главное, ради чего они терпели в танке столько дней и ночей. И еще ему показалось, что он остался в танке один, что Сотников ушел, бросив своего командира, решив, может быть, что тот умер.
Вологжин протянул руку и с облегчением нащупал плечо Сотникова.
— А? Что? — послышался хриплый голос.
— Ты ничего не слышишь, Тимоха?
— Слышу: стреляют, товарищ майор. — И пояснил: — Так уже второй день, как стреляют. Я вас будил-будил, а вы никак не просыпаетесь. Я и воды вам давал, а вы все никак и никак, — жаловался Сотников.
— А немцы? Что ты видишь?
— Отступают, товарищ майор. Все отступают и отступают. Слышите — танки? Слышите?
— Слышу, — неуверенно ответил Вологжин, потому что с головой его началось что-то непонятное: в ней возник гул, треск и что-то еще, и это шло изнутри, заглушая все остальные звуки. Даже голос Сотникова.
А тот настойчиво тряс его за плечо и что-то говорил в самое ухо. Тогда Вологжин лбом нащупал обрамление панорамы и несколько раз ткнулся в нее, пытаясь избавиться от шума, возникшего в голове. И шум стал стихать. И он услыхал шепот Сотникова:
— Надо передать нашим, товарищ майор, что мы живы. Что немцы тут рядом. И все остальное. Товарищ майор! Товарищ майор! — тормошил он Вологжина.
— Да-да, — соглашался Вологжин, с трудом натягивая на голову шлемофон. Натянув, попробовал вызвать «Енисей», но язык его не слушался, он бессильно шевелился во рту сухим бесполезным комком.
Тогда Сотников забрал у него шлемофон и сам стал вызывать «Енисея». И тот откликнулся тут же, будто только и ждал вызова «Байкала». И слышно его было превосходно.
— По дороге наблюдаю усиленное движение колонн танков и мотопехоты в сторону фронта и машин в обе стороны! — слышал Вологжин ликующий голос своего товарища по несчастью. — Координаты те же. Жду указаний. Прием. — И, повернувшись к Вологжину: — Они совсем рядом, товарищ майор! Слышно так хорошо, что просто и не знаю, как сказать!
— Хорошо, — прохрипел Вологжин. И посоветовал: — Будь внимательным.
«Енисей» не отвечал долго. Вологжин представил, как сообщение Сотникова идет по инстанциям, доходит до самого верха, то есть до командующего фронтом, и тот…
— «Байкал» слушает! — вдруг обрадовался Сотников, и даже голос его стал звонче.
— Тимоха, — хрипел Вологжин, представляя, о чем сейчас будет говорить «Енисей», — дергая Сотникова за рукав. — Смотри в оба.
— Смотрю, товарищ майор. Смотрю!
Тяжелый снаряд разорвался далеко: видимо, били по старым координатам, имея в виду переправу через речушку.
— Справа… то есть слева пятьсот, — не слишком уверенно сообщил Сотников. — Или шестьсот. Плохо видно, товарищ майор, — пожаловался он.
Новый снаряд разорвался слева от дороги почти в расположении противотанковых орудий.
— Четыреста справа, — дал поправку Сотников, и Вологжин, превратившись в слух, с удовлетворением кивал головой.
Третий снаряд разорвался рядом с дорогой, хотя и далековато от танка.
— Есть попадание! — сообщил Сотников.
Какое-то время слышался лишь низкий, утробный гул танковых двигателей. Затем загрохотало. То ближе, то дальше взметались вверх огненные кусты, их становилось все больше и больше, пока все видимое из танка пространство не затянуло дымом и пылью, сквозь которую прорывались лишь слабые сполохи разрывов.
Артиллерийский налет продолжался минут пятнадцать.
Сотников молчал. Вологжин его не тревожил. Потом началась бомбежка. Сперва послышался густой визг падающих бомб, затем побежали разрывы, земля забилась судорожной дрожью, дрожь эта передалась танку, и в нем, в самом низу, где лежали разлагающиеся трупы, что-то жалобно забренчало — так жалобно, что Вологжин даже замер, прислушиваясь. Забеспокоились мухи.
А Сотников, возбужденно подпрыгивая на своем сидении, кричал Вологжину в самое ухо:
— Во дают, товарищ майор! Во дают! — Снова припадал к щели, и Вологжин сквозь грохот бомбежки слышал его захлебывающийся голос: — Так им, гадам! Так! Еще врежьте! Во дают! Во! Во! — и звучал радостный, не сдерживаемый смех.
И тихое жалобное бренчание.
И Вологжин думал: «Если даже нас сегодня убьют, то и тогда… не зря… нет, не зря мы тут… потому что… а как же иначе… то-то и оно…» И грудь его окутывало чем-то теплым, и боль отступала, и он верил, что будет жить долго-долго. И даже видеть.
Бой, между тем, приблизился настолько близко, что вдалеке стали различимы немецкие танки и самоходки, которые пятились и стреляли куда-то, по невидимым Сотникову целям. По ним тоже стреляли, а время от времени над полем боя пролетали наши штурмовики, тоже стреляли и бомбили, затем появлялись немецкие самолеты, в воздухе гудело и трещало, там и сям на землю падали, таща за собой дымные хвосты, поверженные самолеты, иногда вспухали белые купола парашютов.
После полудня показались вдалеке «тридцатьчетверки» и КВ, медленно и осторожно подвигающиеся вперед.
— Наши! — громким шепотом сообщил Сотников.
— Ты приготовил холостой выстрел? — спросил Вологжин.
— Приготовил, товарищ майор.
— Давай к орудию, — приказал Вологжин и даже сам удивился, что голос его как бы выправился, и язык, хотя и царапал небо, однако уже не казался чем-то чужеродным, мешающим не только говорить, но и дышать. — А я буду подавать снаряды.
Они с трудом, но все-таки поменялись местами.
— Разворачивай башню на немецкие орудия. Бери на прицел ближайшее, — приказал Вологжин.
— А если заметят?
— Теперь это не имеет значения. Если полезет пехота, используешь курсовой пулемет. Но думаю — не полезет: им сейчас не до нас.
Со скрипом и хрустом башня стала поворачиваться. И Вологжин, весь превратившись в слух, почувствовал знакомое волнение в ожидании начала боя. Руки его шарили по головкам снарядов, покоящихся в специальных брезентовых карманах по бокам башни, а внутренним взором своим он видел распадок и подножие гряды, вдоль которой стояли немецкие орудия, искореженные деревья небольшой рощицы, дорогу, уходящую вдаль, небо, видел наши танки и перебегающую пехоту…
Он услышал, как Сотников послал в казенник ствола гильзу, лишенную снаряда, и как она звякнула тоненько, жалобно, как решительно лязгнул затвор. Нет, не зря он учил танковые экипажи взаимозаменяемости. Вот и пригодилось.
— Готово, товарищ майор!
— Что фрицы?
— Ведут огонь по нашим танкам.
— Ну, как говорится, с богом. Огонь!
Глухо ударил выстрел. Даже и не выстрел, а что-то вроде выдоха.
— Открой затвор, глянь в ствол. Как там?
— Чисто, товарищ майор. И пушка как на ладони.
— Что фрицы?
— Ничего. Похоже, не заметили.
— Осколочный? — спросил Вологжин, с трудом вытащив снаряд из кармана и, задавив стон, подал его Сотникову.
— Так точно, товарищ майор! Осколочный! — весело ответил Сотников. И его веселость стала передаваться Вологжину, увеличивая его силы.
— Давай! — выдохнул он.
Глухой звон уходящего в казенник снаряда, лязг затвора.
— Ну, бога их мать, Гитлера и всех прочих! Огонь! — скомандовал сам себе Сотников.
Рявкнуло орудие, резануло по глазам, Вологжин непроизвольно прижал к ним руки. Прохрипел:
— Наводи на второе.
— Есть наводить на второе, товарищ майор! В дребезги! Пушку аж перевернуло вверх тормашками! — кричал Сотников восторженно, в полный голос.
— Заряжай!
— Есть заряжать! Огонь!
После четвертого или пятого выстрела откуда-то по танку начала стрелять самоходка. Стреляла болванками, те ударяли в крутой каменистый скат, разбрызгивая каменное крошево, и оно градом осыпало танк.
— Смотри, Сотников, чтобы пехота к нам не подобралась, — забеспокоился Вологжин. Ему, как никогда, хотелось жить и, быть может, видеть: наука ведь не стоит на месте, что-нибудь придумает.
— Самоходка… где она? Ты ее видишь? — спросил он.
— Нет, товарищ майор, не вижу. Но она где-то за дорогой, за подбитым танком прячется… — И тут же испуганно: — Немцы, товарищ майор. Человек пять. Лезут сюда…
— Так чего ж ты мямлишь, тетеря рязанская? Наводи на них орудие! Пулемет! Огонь! Жги их, в душу их мать! Снаряд! — и, не сдерживая стона от охватывающей все тело боли, совал в руки Сотникову снаряд.
Тот, действуя ножными спусками, прижал пехоту к земле пулеметным огнем, затем нажал педаль орудийного спуска. Ахнуло, еще раз почти под самым носом, перед внутренним взором Вологжина вспыхнуло яркое пламя, оно обожгло тело и тут же сменилось темнотой.
По броне танка стучали. Вологжин медленно приходил в себя, не понимая, где он и что с ним. Он вспомнил вспышку и подумал, видел ли он ее или это что-то другое.
За танковой броней перестали стучать, и кто-то сказал:
— Да мертвые они все, товарищ капитан. Вы понюхайте, какая вонь оттуда прет — ужас просто. А мухи… Фу ты, черт, сколько их!
— Надо открыть люк.
— Как же его откроешь? Взорвать разве что…
— Не выдумывай, Чеботарев. Они час назад еще вели огонь… Не могли они погибнуть. Не имеют права. Давай раскопаем люк механика-водителя. Может, он открыт. Или снизу подлезем.
Вологжин хотел что-то сказать, но губы не разжимались, язык не ворочался. Тогда он стал шарить слабыми руками по броне башни, но ничего не находил, да и не знал, что ищет. Все минувшее, как и настоящее, казалось кошмаром, из которого нет выхода. Он протянул руку туда, где должен сидеть наводчик — рука уткнулась в неподвижное тело. Вологжин напряг память, но память ему ни о чем не говорила. А рука между тем нащупала другую руку, совершенно холодную. И тут опять в мозгу вспыхнуло — и он вспомнил: Сотников! Сотников должен быть живым. А он мертв. И не только потому, что холодная рука, — чего не бывает! — но более всего потому, что рука была мертвой. И на него вдруг навалилось такое горе, такое страшное, что он задохнулся и замычал от этой подлой несправедливости, потому что… потому что лучше бы убило его, Вологжина, — он и без того наполовину труп, — чем этого жизнерадостного мальчишку, проведшего с ним в замкнутом пространстве почти две недели, задыхаясь от вони, от невыносимой жары и жажды, от мух, от невозможности выбраться и почти стопроцентной возможности умереть в этом аду.
— Там кто-то живой, товарищ капитан, — послышался все тот же голос, и голос этот показался знакомым, как и голос капитана, который крикнул:
— Эй! Ребята! Кто там живой? Свои это. Капитан Тетеркин. Откройте люк, если можете.
Вологжин с трудом дотянулся до запорного рычага, долго не мог сдвинуть его с места. Наконец рычаг подался, но толкнуть крышку сил не осталось, и он тяжело задышал и закашлялся.
— Вологжин! Товарищ майор! Вы это?
— Я, — прохрипел Вологжин.
— Мы сейчас! Сейчас мы! — засуетились снаружи голоса.
Затем лязгнуло железо — и крышка люка откинулась. Вологжину показалось, будто стало светлее. И кто-то сказал голосом начальника штаба:
— Товарищ майор! Андрей Филиппович! Бож-же ты мой! Что они с вами сделали…
Глава 29
Жуков летел в Москву по вызову Сталина. У трапа самолета перед вылетом ему передали письмо от командующего Пятой гвардейской танковой армией генерала Ротмистрова. Жуков принял конверт, покрутил его и сунул в карман. Что мог писать ему Ротмистров? Ничего, кроме оправданий своим бездумным, самонадеянным распоряжениям. Во время их встречи Жуков высказал генералу все, что он думал о его методах командования армией. Ротмистров тогда даже не пытался возражать. Да и что он мог возразить? Что выполнял приказ командующего фронтом? Но командующий фронтом не командовал танковой армией, а лишь ставил ей задачу. Что маршал Василевский не отменил приказ на атаку немецких позиций после того, как стало ясно, что задача таким образом выполнена быть не может? Но маршал Василевский тоже не командовал армией. Ротмистрова извиняло лишь то, что немцы, хотя к Прохоровке все-таки прорвались, но дальше западной окраины не прошли. Однако остановили их дальнейшее продвижение ни столько самоубийственные атаки танковых бригад и корпусов на подготовленные позиции врага, сколько стойкая оборона пехоты. Тем более что он, Жуков, прибыв на Воронежский фронт, хотя и не отменил приказ Ватутина, зато наладил более четкое взаимодействие танков с пехотой и артиллерией, подтянул авиацию.
И все-таки не это заставило повернуть назад немецкие танковые дивизии, а многочисленные прорывы немецкого фронта армиями Центрального, Брянского и Западного фронтов, которые окончательно похоронили попытку Гитлера повернуть ход войны вспять танковыми ударами под основание Курского выступа.
Усевшись в кресло самолета, Жуков все же достал письмо Ротмистрова, надел очки, вскрыл и стал читать отпечатанные на машинке страницы.
Ротмистров писал:
«В танковых боях и сражениях с 12 июля по 20 августа 1943 года 5 Гвардейская Танковая Армия встретилась с исключительно новыми типами танков противника. Больше всего на поле боя было танков Т-V („Пантера“), в значительном количестве танки Т-VI („Тигр“), а также модернизированные танки Т-III и Т-IV…»
«Ну, это ты, брат, врешь, — подумал Жуков с кривой усмешкой. — „Тигров“ и „пантер“ и сотни не наберется, а ты — больше всего. Ну не можем мы без вранья, хоть режь», — заключил он и побежал глазами дальше по строчкам письма:
«Командуя танковыми частями с первых дней Отечественной войны, я вынужден доложить Вам, товарищ Сталин, что наши танки на сегодня потеряли свое превосходство перед танками противника в броне и вооружении…»
Все это Жуков уже знал. Да и самому Ротмистрову были известны технические характеристики новых немецких танков, следовательно, он не должен был, не имел права атаковать противника в лоб, не считаясь с вполне предсказуемыми последствиями. Прозрение, оплаченное большой кровью.
И дальше Жуков лишь скользил по строчкам:
«…при столкновении с перешедшими к обороне немецкими танковыми частями мы, как общее правило, несем огромные потери…
Немцы… уже не испытывают былой танкобоязни на полях сражений…
Ныне танки Т-34 и КВ потеряли первое место, которое они по праву имели среди танков воюющих стран в первые дни войны…»
Дальше шла таблица сравнительных характеристик и просьба надавить на конструкторов, чтобы они сделали к концу сорок третьего года новые танки, превосходящие танки противника.
Жуков сложил письмо и сунул в конверт, решив передать его Сталину. Но не потому, что Сталин всего этого не знает, а потому, что лишний раз ему напомнить не повредит. В конце концов, только от Верховного зависит, какими у нас будут танки, пушки и самолеты.
Жуков вошел в кабинет Сталина и остановился возле стола, за которым сидели некоторые члены Политбюро и наркомы оборонных отраслей. В кабинете было сумрачно, шторы закрыты наглухо, в люстре горело лишь несколько лампочек, хотя за окнами вовсю светило солнце.
— Проходите, товарищ Жюков, — произнес Сталин от окна. И добавил: — Садитесь.
Жуков сел рядом со Ждановым.
— Мы тут с товарищами обсуждаем некоторые проблемы восстановления промышленных предприятий на освобожденных нашими войсками территориях, — заговорил Сталин. — Нам надо в кратчайшие сроки увеличить выплавку стали, производство других материалов, чтобы, в свою очередь, увеличить производство танков, самолетов и другого вооружения. Послушайте, товарищ Жюков, вам это будет полезно. Продолжайте, товарищ Ванников.
Жуков слушал. Действительно, интересно. Но его волновали совсем другие проблемы, которые надо решать не завтра, когда в Донбассе заработают новые заводы, а сегодня, сейчас, потому что наступление Красной армии продолжается, ей, для успеха этого наступления, нужны все те же танки, самолеты, а главное — люди, готовые грамотно ими управлять…
— Вооружать нашу армию безусловно нужно во все больших количествах, — прервал размышления маршала голос Сталина. — Но нам нужно обратить особое внимание на подготовку кадров. Вот товарищ Жюков требует увеличить срок подготовки летчиков, танкистов, артиллеристов. Да и пехотинцев тоже. Он считает, что надо создавать резерв кадров этих профессий… Воевать числом легче, но пора переходить на более высокую ступень военного искусства. Тогда и танков понадобится меньше, и самолетов… Я правильно выразил вашу мысль, товарищ Жюков?
— Так точно, товарищ Сталин! — отчеканил Жуков, вставая. И добавил: — Я получил письмо от командующего Пятой гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова, который на опыте боев в районе Прохоровки пришел к выводу, что наши танки утратили свое лидирующее положение…
— Что наши танки устарели, мы это знаем, товарищ Жюков, — перебил маршала Сталин. — Я еще до «Курской дуги» получил письмо от товарища Ротмистрова. Но танки танками, а командование командованием. Методы ведения боя некоторыми нашими танковыми начальниками устарели тоже. Генерал Ротмистров в боях под Прохоровкой показал себя весьма самонадеянным командующим танковой армии. А командующий фронтом генерал Ватутин не подготовил должным образом ввод танковой армии в сражение, не обеспечил ее поддержкой других родов войск, не проконтролировал действия товарища Ротмистрова. Мы отметили эти упущения Ватутина и Ротмистрова в приказе Ставки и направили на место боев комиссию Гоко во главе с товарищем Маленковым. Она разберется. Но если генерал Ротмистров и дальше будет так расточительно тратить материальные и людские ресурсы, его придется отстранить от командования армией.
Сталин замолчал, отошел от окна и остановился посреди кабинета.
— Конечно, в наших газетах и по радио мы не говорим об этих упущениях наших генералов, — продолжил он. — У советского народа и без того много трудностей, чтобы мы еще заставляли его негодовать и расстраиваться из-за этих упущений. В конце концов, враг не осуществил тех целей, на которые рассчитывал, начиная сражение на Курской дуге. Войска Красной армии уже на подступах к Днепру. Пусть наш народ порадуется нашим победам. Хотя эти победы и куплены излишне большой кровью. Я думаю, что наши генералы сделают соответствующие выводы из предыдущего опыта… Что касается новых танков, то они уже производятся. Например, модернизированная «тридцатьчетверка» с новой пушкой калибра 85 миллиметров. Кстати, товарищ Жюков, — повернулся Сталин к маршалу, ткнув в его сторону зажатой в руке трубкой. — Вы читали в «Правде» очерк писателя Задонова о подвиге майора Вологжина?
— Нет, товарищ Сталин, не успел. Но я слыхал об этом майоре в штабе Ватутина. С ним, если мне не изменяет память, был еще один из членов экипажа…
— Майор Вологжин как раз и совершил свой подвиг на одном из опытных образцов этого танка. И дал объективную характеристику ее поведения в бою. Подвиг майора Вологжина — это не только подвиг человеческого духа, — продолжил Сталин наставительно, медленно шагая вдоль стола. — Это еще и подвиг профессионала высокой выучки. Завтра во всех газетах будет опубликован указ Верховного Совета о присвоении майору Вологжину звания Героя Советского Союза. Рядовому Сотникову — посмертно. Имея в нашей Красной армии таких командиров, таких красноармейцев, мы не могли не переломить ход военных действий на советско-германском фронте, хотя эти действия поначалу складывались не в нашу пользу. И мы переломили этот ход в свою пользу. Таких командиров, таких рядовых, таких коммунистов, комсомольцев и беспартийных, как майор Вологжин и рядовой Сотников, у нас много. Надо только правильно использовать их знания и самоотверженность при исполнении воинского долга. С такими командирами и рядовыми бойцами мы не можем не победить немецко-фашистских захватчиков. И мы победим. Даже если союзники вообще не откроют второго фронта.
Глава 30
Лето перешагнуло свою середину. Над белорусскими лесами, точно курьерские поезда, проносились короткие грозовые ливни, иногда с градом, а когда облака уплывали на восток, освобождая солнце из своего плена, на землю опускался зной, густой от испарений воздух наполнялся звонами и стонами комаров, слепней и прочей кровососущей нечисти. Лишь в глубоких землянках держалась прохлада, и люди без нужды старались их не покидать.
Радистка партизанской бригады, голубоглазая девчонка по имени Светлана и по фамилии Светланина, в которую были влюблены почти все штабные командиры и рядовые, независимо от возраста, хотя вокруг было полно других женщин, лишь год назад закончившая среднюю школу в Ульяновске и там же шестимесячные курсы радисток, каждую ночь, когда в атмосфере, насыщенной радиоволнами, несколько стихали вой и треск грозовых разрядов и вопли на разных языках, ловила Москву и записывала последние сводки Совинформбюро. Записи отдавала комиссару бригады Афанасию Тихову, бывшему инженеру одного из могилевского заводов, тот размножал их на гектографе и рассылал по деревням и ротам.
В сообщениях говорилось об ожесточенных боях Красной армии с немецкими войсками, особенно — в районе Курска, назывались отдельные населенные пункты, вокруг которых гремели танковые сражения, и с каждым днем возрастающее напряжение в голосе диктора Московского радио сообщало это напряжение всем, кто слушал этот голос или читал записанные сводки.
— Ну, что там? — спросил Тихов, вглядываясь в мерцающую шкалу настройки рации, склоняясь над плечом Светланы Светлановой, вдыхая волнующий запах ее льняных волос. — Еще полминуты, товарищ комиссар, — шепотом отвечала радистка, точно боялась громким голосом напугать невидимую радиоволну, несущуюся сюда сквозь облака, над полями сражений, над холмами и речными долинами. И пошевелила худеньким плечиком, пытаясь оттеснить комиссара. — Вы мешаете мне записывать! — громким шепотом возмутилась она. — Отодвиньтесь, пожалуйста.
Комиссар, которому едва перевалило за тридцать, отодвигался, но не настолько далеко, чтобы не чувствовать волнующий запах волос юной радистки, так напоминавший ему запах волос его молодой жены, а более всего — шестилетней дочери.
Семья Тихова эвакуировалась на восток в первых числах июля, когда бои шли уже недалеко от Могилева, а поезд, на котором ехал в эвакуацию с оборудованием завода сам Тихов, разбомбили немецкие самолеты в нескольких километрах от Орши. Потом неожиданно появились немецкие танки, плен, побег из лагеря, скитание по лесам, партизаны.
И ни то чтобы у Тихова существуют какие-то тайные намерения относительно радистки. Ничего подобного. А притягивает его к ней ее еще нераспустившаяся юность, испуганно-изумленный голос, голубые глаза и то, что она здесь, хотя могла бы сидеть где-нибудь по ту сторону линии фронта, в абсолютной, как всем отсюда кажется, безопасности. Но нет — сама напросилась к партизанам и делит с ними вот уж скоро год все невзгоды лесной жизни. Ее берегут, хотя она не единственная радистка в бригаде, есть и еще одна, москвичка лет тридцати пяти, но именно Светланина окружена всеобщим обожанием, и поэтому каждый мужчина, приближающийся к ней слишком близко, рискует вызвать к себе всеобщее презрение и осуждение.
— Есть! — воскликнула радистка, и мягкий карандаш в ее тонких пальцах засновал по бумаге, оставляя на ней непонятные крючки и волнистые линии.
Комиссар прильнул ухом к наушнику на голове Светланы, почти перестал дышать, вслушиваясь в едва различимый голос, распространяющийся над землей во все стороны от Москвы.
«В последний час! — вещал этот голос. — Провал немецкого наступления в районе Курской дуги! Измотав немецкие танковые и механизированные дивизии и корпуса активной обороной на заранее подготовленных рубежах, перешли в наступление войска Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов. Оборона противника прорвана во многих местах. В прорыв введены танковые и моторизованные подразделения Красной армии, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, стремительно продвигаются на Запад, уничтожая живую силу и технику врага… Освобождены десятки городов и сотни населенных пунктов Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской и других областей, временно оккупированные немецко-фашистскими поработителями…»
Порхал по бумаге карандаш, комиссар, забыв о дурманящем запахе девичьих волос, всматривался в ученическую карту Европейской части СССР, ему хотелось петь и плясать от радости, будто это он нанес немцам поражение и входил сейчас в освобожденные города и села.
— Ах, черт! — воскликнул Тихов, когда отзвучал в наушниках торжественный голос диктора. — Даже не верится! Это черт знает, как здорово!
Откинулся брезентовый полог, и в небольшом помещении, где стояли две радиостанции, появилась вторая радистка, заспанная, со следами подушки на лице.
— Что случилось? — спросила она, убирая волосы под косынку.
Тихов, наконец-то нашедший, на кого выплеснуть свой восторг, подскочил к ней, обхватил руками за плечи, расцеловал, закружил.
— Наши побили немцев под Курском! Ах, Татьяна Валентиновна! Это же черт знает что такое! Это же такой праздник, такой праздник! Теперь погонят, помяните мое слово! Еще как погонят!
Отпустил женщину, склонился над Светланой.
— Ну что? Расшифровала?
— Сейчас, товарищ комиссар. Еще две строчки.
А Татьяна Валентиновна надела наушники, послушала окончание какой-то новой песни и уж хотела было выключить станцию, как диктор объявил: «Продолжаем чтение очерка писателя Алексея Задонова о подвиге советских танкистов, которые в невыносимых условиях для человеческого существования, отрезанные от своих, окруженные врагами, продолжали свято выполнять свой воинский долг. Читает народный артист Советского Союза Николай Мордвинов». И вслед за этим зазвучал знакомый голос, не раз слышанный Татьяной Валентиновной в театре имени Моссовета: «Утро разгоралось медленно, но Вологжин, мучимый болью…», да только Татьяна Валентиновна дальше слушать не стала, опасаясь лишнюю минуту нагружать аккумуляторные батареи. К тому же упоминание имени Алексея Задонова вызвали в ее душе давно потускневшие картины редких встреч с этим человеком, а более всего — ожидания этих встреч без всяких надежд на будущее.
Пока она училась на радистку, получила от Задонова два коротких письма с фронта. Письма были наполнены юмором, точно Алексей Петрович на минуту отвлекся от своей работы, которая представлялась Татьяне Валентиновне как бесконечное писание всяких заметок и репортажей, где юмор был неуместен. Отвечать на письма, которые по тону и содержанию могли адресоваться любой женщине, Татьяне Валентиновне было совершенно нечего. Но и не ответить она не могла. А когда начала писать, увлеклась, и письмо получилось большим — на нескольких страницах, — хотя и бестолковым. И это было единственное письмо, которое она написала Задонову и отправила на Большую землю с оказией. Да и о чем еще писать? Та, мирная, жизнь исчезла, а в новой ее жизни фамилия Задонов лишь иногда мелькала на страницах газет и никак не связывалась в ее голове с тем Задоновым, в объятиях которого она находила редкое успокоение.
Глава 31
Командир партизанской бригады «Мстители» Александр Петрович Всеношный возвращался из Москвы, где три дня при главном штабе партизанского движения проводилось совещание командиров крупных партизанских отрядов, бригад и даже соединений из отдельных партизанских отрядов, бригад и прочих формирований. На совещании была поставлена задача: в связи с начавшимся наступлением ряда советских фронтов партизанские отряды должны парализовать немецкий тыл одновременными диверсиями на всех железных дорогах, взрывая мосты, нарушая связь, нападая на станции, уничтожая гарнизоны, пуская под откос поезда, громя ремонтные базы и прочие тыловые части противника, оставляя, таким образом, немецкую армию на голодном пайке. Партизанам была обещана помощь оружием и боеприпасами, продовольствием и медикаментами, каждый отряд предполагалось обеспечить радиосвязью с Большой землей. Затем на подмосковном полигоне показали действие новых образцов мин для подрыва рельсов, уничтожения подвижного железнодорожного состава.
На этом же совещании многим партизанским командирам были присвоены очередные звания и вручены награды. Особо отличившимся награды вручали в Кремле. Не обошли стороной и старшего лейтенанта Всеношного: ему присвоили звание подполковника, вручили ордена Боевого Красного знамени, Отечественной войны третьей степени и Красной Звезды — сразу за два партизанских года.
Это были самые счастливые мгновения в жизни Александра, если не считать встречи со своей женой, встречи столь неожиданной, что он не поверил собственным глазам, когда увидел ее, едва переступив порог номера гостиницы.
— Мне сказали, что ты должен приехать с фронта, — говорила она, когда первые волнения от встречи улеглись. — Но что они не могут гарантировать, что ты приедешь в назначенное время. Сказали ждать — я и ждала. Даже на минуту отлучиться боялась.
— А мне сказали, — торопился Александр поделиться с ней своими переживаниями, — что жить буду в двухместном номере. Я спросил: с кем? А мне: там увидите. Я подумал: с каким-нибудь командиром, вроде меня… — Он запнулся на мгновение, потому что им запретили раскрывать перед кем бы то ни было род своей деятельности, но, встретив понимающий взгляд жены, продолжил уверенно: — И администратор как-то странно посмотрела на меня, когда регистрировала, а коридорная, когда я попросил ключи, предупредила: вас там давно ждут. Я еще подумал: с какой стати? А оказывается — ты.
И теперь, сидя в самолете, под гул его моторов, Александр Всеношный еще и еще раз переживал все, что с ним произошло в Москве, переживал без мыслей, без слов, отдельными картинами, наползающими друг на друга: изумленное лицо жены, когда он вошел в номер, первые поцелуи, бессвязные восклицания… затем Кремль, куда их привезли вечером, великолепные залы, седенький Калинин, коробочки с орденами… новое изумление жены, когда увидела его с орденами и погонами, салют в честь освобождения Белгорода, всеобщий восторг и ликование… или так ему казалось, что всеобщий, оттого, что в нем самом все ликовало и пело, потом прощание с женою, аэродром, взлетающие один за другим самолеты, — и он глупо улыбался теперь в темноту, благо, никто видеть его не мог.
Иногда Александр дремал под гул моторов, но и в дреме видел одно и то же. Потом пришло изумление другого рода: столько пришлось пережить за эти два года, столько вынести — и все для того, чтобы случилось то, что случилось?.. Впрочем, конечно, не для этого, то есть не ради орденов и прочего. И даже не ради встречи с женой. Но и ордена, и встреча с нею — все это закономерный итог двух минувших нелегких лет…
Вспомнились первые бои, долгая дорога на восток через немецкие тылы, гибель товарищей; суровая и полуголодная зима сорок первого-сорок второго годов, налаживание связи с другими отрядами, с подпольным райкомом партии, а через райком — с Большой землей; создание партизанской бригады почти в две тысячи человек, установление контроля над обширным районом, бои с карателями. И так уж получилось, что именно он, Александр Всеношный, всего лишь старший лейтенант, оказался во главе этого движения на одном из небольших островков советской земли. В других местах отрядами командовали майоры и даже полковники, как, впрочем, вчерашние бригадиры или председатели колхозов, сержанты и даже женщины без всякого звания и военного опыта, а здесь — он, старший лейтенант. И это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. А теперь вот почему-то кажется. Но это, скорее всего, от самомнения, непростительного для коммуниста и командира.
Всеношный снова улыбнулся сквозь полудрему: сейчас он готов был простить себе все, что угодно, а не только мимолетное самомнение.
Внизу показались костры, сложенные конвертом, взлетели, пересекая «конверт» с угла на угол, четыре условные зеленые ракеты — самолет сделал круг и пошел на посадку. Закончив пробег до конца взлетного поля, самолет развернулся, остановился, не выключая моторов, техник самолета открыл дверь, опустил трап, тиснул руку Всеношному и еще четверым молчаливым пассажирам, которые следовали в соседний отряд, а кто они и с каким заданием, никому знать не положено.
К самолету бежали люди с носилками, вскачь неслись телеги.
Молчаливые пассажиры отошли в сторону, чтобы не мешать разгрузке самолета и погрузке раненых. Через полчаса самолет взревел моторами, покатил в темноту, и вскоре рокот его стал удаляться, пока над лесом снова не повисла ночная тишина.
Погасли костры, над полем опустилась серая дымка тумана. Пахло дымом и сгоревшим бензином. Вокруг чернел непроницаемой стеной лес. На востоке проступила малиновая полоса, хотя небо все еще оставалось темным и колючие звезды по-прежнему перемигивались между собой о чем-то своем, звездном.
Все было не просто знакомым и привычным, но и до боли родным. Всеношный облегченно вздохнул: вот он и дома.
Но что-то все-таки переменилась. Скорее всего, в нем самом: нет уж былой обреченности, что вот, мол, не повезло дойти до своих, что они там воюют, а ты здесь… хотя ты здесь, разумеется, тоже воюешь, но это не то, это все пустяки, потому что война — это фронт, там все и решается, а здесь… — и все в этом же роде. А главное — неизвестность: как там на тебя смотрят, как отнесутся к тебе после победы. Теперь он знал, что участь войны решается не только там, но и здесь, потому что война идет и за линией фронта, и не шуточная, что без этой войны фронту было бы труднее, а немцам легче и проще, что теперь, когда все так налаживается, дело пойдет веселее, земля под ногами оккупантов загорится по-настоящему. И никто не скажет, что ты эти годы просидел в немецком тылу, выбрав себе легкую долю. За легкую долю ордена не дают, звания через несколько ступеней не присваивают.
Из полумрака вылепились конные, топот копыт затих в десяти шагах. Вот передний соскочил на землю, и Всеношный узнал в нем своего заместителя — старшего лейтенанта Кобыленко, а в другом всаднике — по неуклюжей посадке — комиссара Тихова. И улыбнулся: они еще не знают, что один из них уже не старший лейтенант, а майор, другой не комиссар, а замполит в звании капитана. Ну и ордена, медали… И не только им, но и десяткам других командиров и рядовых.
На другой день в базовом лагере партизанской бригады «Мстители» состоялось торжественное построение, митинг и вручение погон и наград. Надо было видеть, как радовались люди — до слез, особенно бывшие военнопленные, наслышанные о том, что на Большой земле таких, как они, не жалуют, держат под подозрением и даже отправляют в лагеря. А оно вон как: награды, повышение званий, то есть признание их равноправными воинами Красной армии, признание их заслуг в борьбе с врагами.
— Ну, держись, фриц! — заметил капитан Тихов, увидев в глазах командира взвода младшего лейтенанта Юркова слезы, когда Всеношный, вручив ему погоны старшего лейтенанта, прикреплял на грудь сразу два ордена: Красной Звезды и Отечественной войны. А этот Юрков дважды бежал из лагеря, а побывавших там не жаловали ни здесь, в немецком тылу, ни за линией фронта.
И вообще строй партизан заметно изменился. И не только блеском орденов и медалей, новенькими погонами командиров, советскими автоматами, но и выражением лиц, сиянием глаз, осанкой. Даже те из партизан, — стариков, женщин и подростков, — кто никогда не знал армейского строя, тянулись вместе со всеми, и впервые под кронами сосен и елей звучали аплодисменты, отбиваемые шершавыми ладонями, зато искренние в своей великой радости.
«Ишь ты, — думал Филипп Васильевич Мануйлович, поглядывая на своих преобразившихся бойцов, выгибая колесом грудь с орденом Боевого Красного Знамени на потертом пиджаке. — Прямо, скажи-ка, точно из бани». Он был бы не прочь покрасоваться и в погонах, но погоны дали не всем, а только бывшим командирам Красной армии, да и то через одного. Видать, там, где побывал Всеношный, знают про всех, кто и как здесь воюет. И про него, Филиппа Мануйловича, тоже. И хотя он понимал, что это знание идет от того же Всеношного и его штаба, однако ему очень хотелось, чтобы оно было как бы дано свыше… не от бога, нет, в которого он давно не верит, а откуда-то оттуда, где восседают Сталин и все его ближайшие сподвижники. И это чувство причастности к одному делу всех и каждого в огромной стране, имя которой Россия, грело его душу и поддерживало в нем сознание, что его Володька погиб не напрасно в свои совсем еще юные годы.
После митинга и награждения партизанские роты прошли парадом перед командованием бригады, а затем состоялось совещание всех командиров, на котором выступил человек в форме полковника. О нем было сказано, что это человек с Большой земли. Ни имени, ни фамилии названо не было. Полковник очень подробно рассказал о положении на фронтах, в Европе и в самой Германии, во всем остальном мире, и по его словам получалось, что Германия выдыхается, что ее силы уже далеко не те, что во всем мире нарастает сопротивление оккупантам, что близок час окончательной победы, хотя за нее еще придется платить и кровью и человеческими жизнями.
Но ни Филиппа Мануйловича, ни остальных партизан это нисколечко не пугало.
Главное же заключается в том, как сказал этот полковник, что Красная армия стала во много раз сильнее, организованнее и опытнее, чем была в начале войны, что советский тыл дает ей столько и такое оружие, сколько и какое требуется для победы. И это, конечно, было правдой, которую Филипп Мануйлович чувствовал по себе и по своим людям: тоже ведь не сразу воевать научились, и тоже это умение досталось дорогой ценой.
— Вы — часть великой всенародной армии, — сказал полковник, — и от ваших усилий зависит, как скоро враг будет изгнан с нашей многострадальной земли и добит в своем собственном поганом логове.
Через несколько дней бригада, почти в полном составе, оставив на месте лишь заслоны, вышла на большую диверсию. Часть партизан мелкими группами рассредоточивалась вдоль железной дороги Могилев-Орша от Орши до Копыси, большая часть выдвигалась к железнодорожной станции, расположенной на правом берегу Днепра, напротив этого самого города Копысь, первые поселенцы которого когда-то облюбовали берег противоположный. В операции должны принять участие и другие партизанские отряды, так что почти все железные дороги от Орши до Могилева, и дальше во все стороны окажутся под ударом партизан.
Акция назначена в ночь на 3 августа. Как предполагал подполковник Всеношный, с этого дня и начнется операция «Рельсовая война», о которой говорили в Москве, призванная разрушить всю систему перевозок и снабжения немецкой армии в период летне-осеннего наступления советских фронтов.
Глава 32
Роте Филиппа Васильевича Мануйловича отведен участок железнодорожного полотна в полтора километра длинной. Здесь железная дорога разрезает холмистую возвышенность, рельсы лежат меж двумя высокими скатами, и как раз в этом месте рота должна подорвать железнодорожный состав, а затем взорвать и сжечь все вагоны. Расчет строился на том, что разбирать завалы немцам придется особенно трудно: взорванный поезд под откос не сбросишь, каждый вагон придется поднимать краном, грузить и увозить. И паровоз тоже. А задача диверсии в том и состоит, чтобы прекратить движение эшелонов по этой ветке на как можно больший срок.
До этого Филиппу Васильевичу со своим отрядом подобные операции проводить не доводилось, тем более на таком сложном участке. Но еще до того, как командир бригады Всеношный улетел в Москву, Филипп Васильевич под руководством опытных инструкторов почти две недели тренировал своих бойцов на похожей местности скрытному подходу к железной дороге, занятию позиций по прикрытию групп подрывников, различным вариантам атак на взорванный поезд в зависимости от того, что из себя этот поезд представляет и сколько может иметь охраны. Не исключался и воинский эшелон, и порожняк. Конечно, хорошо бы подорвать бронепоезд, который весьма досаждал партизанам, но это уж как повезет. Значит, догадался он, еще тогда Всеношный знал, что предстоит его бригаде и готовил ее к такой масштабной операции. Главное, чтобы сама операция была проведена в определенный интервал времени, а подрыв железнодорожного полотна произведен в разных местах и, если повезет, уничтожение какого-нибудь поезда совпал с атакой бригады на железнодорожную станцию Копысь.
Несколько дней разведчики следили за дорогой, изучали график движения поездов, охранного бронепоезда, дрезин, маршруты пеших и конных патрулей. И Филипп Васильевич побывал на своем участке дороги вместе с командирами взводов и минерами. На брюхе излазили весь участок, наметили места минирования, позиции для пулеметов, противотанковых ружей и минометов, место сосредоточения роты, пути подхода и отхода, и много еще чего, что может и не пригодится, но иметь в виду надо обязательно.
От всего этого, как казалось Филиппу Васильевичу, у него голова вот-вот расколется на мелкие части. Даже в должности председателя колхоза ему не приходилось иметь в виду всякие варианты и постоянно держать их в голове: там все шло как бы само собой, зависело лишь от природы и усердия колхозников. А тут природа в счет не бралась, тут в счет брались совсем другие обстоятельства, и даже не столько возможные ответные меры немцев, сколько нечто фантастическое, чего и придумать на трезвую голову почти невозможно. При этом каждому взводу придется действовать самостоятельно, хотя и по единому плану, но одно дело — составлять планы, совсем другое — их выполнять. Уж что-что, а это-то Филиппу Васильевичу известно доподлинно: не зря он и в райкоме партии штаны протирал, и в колхозе председательствовал.
Рота вышла к дороге перед закатом, затем взводы, ведомые своими командирами, разошлись на свои участки и затаились. Филипп Васильевич находился со вторым взводом — как раз посредине.
Операция назначена на предрассветные часы: в это время как со стороны Орши, так и со стороны Гомеля проходили первые поезда. В основном товарняки, везущие лес, уголь, скот, металлолом — добычу и отходы войны. Только с рассветом начинали движение воинские эшелоны, но в это же время усиливалось и патрулирование дороги.
Ближе к полуночи над лесом пронеслась гроза, небо опрокинуло на землю потоки воды, вспенило ручьи. Под покровом грозы Филипп рискнул начать минирование полотна нажимными минами, присланными с Большой земли.
Саперы и бойцы охранения съехали на задах по мокрой траве к дороге и пропали в темноте. Тускло вспыхивали фонарики, прикрытые брезентовыми накидками, вырывая из мрака кусок рельса и две-три шпалы. Шумел дождь, время от времени вспыхивали молнии, но ничего, кроме падающей вниз стены дождя да смутных силуэтов деревьев противоположного склона, они не освещали.
На минирование ушло совсем немного времени. Сколько, Филипп Васильевич определить не мог, но на тренировках большинство подрывников укладывалось в полторы-две минуты, вряд ли они сейчас копались дольше, однако и эти две минуты тянулись бесконечно долго.
Закончив работу, люди полезли наверх, но это оказалось не так-то просто сделать: на мокрой траве, покрывающей скаты ущелья, ноги скользили, иные бойцы скатывались вниз, достигнув самого верха, так что одним приходилось пользоваться ножами и саперными лопатками, других вытаскивали с помощью длинных слег.
Но и этот этап остался позади и не был обнаружен охраной, в числе которой было много и бывших пленных из красноармейцев, согласившихся, — кто волей, а кто и неволей, — служить немцам. Одеты они были в немецкую форму, но без погон, командирами всех степеней были немцы.
Только тогда, когда все приготовления были закончены, Филипп Васильевич перевел дух. Рядом, вторя мужу, судорожно вздохнула жена, уговорившая взять ее на операцию. Да и почему бы не взять? Многие бабы взяли оружие и воюют не хуже мужиков. А Настасья стреляет так, что дай бог иному снайперу: с трехсот метров в консервную банку попадает девять раз из десяти. А сам Филипп Васильевич разве что четыре-пять раз. Иные и того хуже. Оно так метко и ни к чему: человек — не банка, палец ему отстрели — и уже не вояка. И все-таки, когда надо, чтоб наверняка, Настасья не подведет. А снять вражеского пулеметчика в бою — великое дело.
Гроза отгремела, ушла на восток, лишь слабые зарницы мерцали в темном небе да шумел притомившийся дождь. Медленно тянулось время.
Ближе к рассвету дождь прекратился. Повисла тягучая, как патока, тишина. Ни лист не шелохнется, ни зверь, ни птица не подаст голоса. Точно все вымерло окрест или затаилось в ожидании новой грозы, еще более страшной.
Вот со стороны Орши послышался шум мотодрезины. Из-за поворота выплыло желтое пятно и потекло, выхватывая из темноты серебристые нити рельсов и темные гребни шпал.
Филипп Васильевич опустил голову в высокую траву. Даже дышать стал медленнее, точно боялся, что немцы его услышат.
Рокот дрезины проплыл мимо, Филипп Васильевич поднял голову и проводил взглядом ее темный силуэт на фоне желтого пятна, согбенные фигурки немцев, припавших к пулеметам.
Погромыхивание и рокот дрезины затихли вдали. Еще через какое-то время со стороны Орши же послышался тяжелый гул приближающегося поезда. Сперва за поворотом возникло слабое свечение, оно разгоралось вместе с усиливающимся гулом, затем сквозь сумрак прорвался яркий сноп света: три желтых глаза таращились во тьму, со страхом вглядываясь в тонкие нити рельсов. Что тащил за собой паровоз, видно не было, окутываемое темнотой, дымом и паром, зато впереди он толкал две открытые платформы, груженые камнем.
Поезд катил не быстро, щупая рельсы фарами и передними вагонами.
Филипп Васильевич ощутил за своей спиной движение — это выходили на позиции бойцы его роты. Рядом шлепнулся в траву Перевозчиков, слева и справа заклацали затворы.
Филипп Васильевич положил перед собой немецкие гранаты, связанные по три в одно целое телефонным проводом. Приподнялся, опершись на левую руку, примерился. Шевелились бойцы — тоже готовились, примерялись.
Платформы с камнем проплывали мимо, стали видны железные крыши вагонов с вентиляционными трубами, перемежаемые открытыми платформами, на которых горбились, опустив длинные зачехленные стволы, тяжелые танки: поезд вез какую-то танковую часть, а это значит, что боя не миновать. У нутро Филиппа Васильевича на мгновение похолодело.
Проплыл мимо паровоз. За ним потянулись вагоны, окна иных тускло светились. Возле танков на платформах торчали часовые.
Филипп Васильевич считал вагоны. Мина должна взорваться под паровозом: она, если верить минерам, рассчитана на его вес. Где заложена эта мина, он знал: там, где позиции третьего взвода. Потом — или одновременно — взорвутся еще четыре мины, установленные с замедлением, с интервалами в три-четыре вагона. Эти мины усилены пятикилограммовыми зарядами тола, чтоб уж если рвануло, так все вдребезги. Но рванут ли — это еще вопрос.
Мимо катили и катили вагоны, а мины все не взрывались и не взрывались. У Филиппа Васильевича спина взмокла от напряженного ожидания: ему казалось, что мины так и не взорвутся, что он провалил операцию, и не будет ему прощения ни от командования, ни от товарищей.
Взрыв прогремел неожиданно. Взрывная волна пронеслась по ущелью, пригибая к земле травы. Филипп Васильевич, оторвав голову от пахнущей дымом травы, приподнялся, чтобы швырнуть гранаты на крышу ближайшего вагона. И тут же увидел, как метрах в тридцати справа полыхнуло пламя, вслед за тем дрогнула земля от еще более сильного взрыва, и он, боясь, что гранаты взорвутся у него в руках, швырнул их вниз, видя в то же время, как взрывной волной приподнимает сразу два вагона, как что-то отрывается от них и летит вверх — и в это мгновение его точно бревном садануло и отшвырнуло назад.
Очнулся Филипп Васильевич — в голове гудение и треск. Он с трудом оперся на трясущиеся руки, мотнул головой — гудение и треск не только не стихли, но усилились, принимая все более четкое звучание. И Филипп Васильевич догадался, что гудение — от поврежденного паровоза, а треск — это выстрелы.
Он пошарил вокруг себя — автомата не было. «Вот, черт, — подумал он. — Докомандовался. Стыдоба да и только».
Кто-то склонился над ним, крикнул в ухо:
— Ранен? Куда?
— Оглушило, — ответил Филипп Васильевич, не узнавая и своего голоса тоже. — Ни черта не соображаю. И не вижу.
— Ничего, пройдет. Полежите, товарищ командир, а я погляжу, — произнес другой голос.
«Кто бы это мог быть?» — пытался угадать Филипп Васильевич, почему-то уверенный, что первым рядом с ним должен оказаться комиссар Перевозчиков.
Человек быстро обшаривал тело Филиппа Васильевича, спрашивал:
— Тут болит? А тут?
И Филипп Васильевич догадался, что это фельдшер Ильяшевский, прибившийся к отряду осенью сорок второго.
— Что там? — спросил Филипп Васильевич, когда из ущелья полыхнуло пламенем и новый взрыв встряхнул, казалось, не только землю, но и небо. Затем взрывы последовали один за другим, то приближаясь, то удаляясь, но значительно слабее.
— Наши фрицев добивают, товарищ командир. Страсть божья, сколь их там понабито.
Снова загремели взрывы, но не сильные.
«Рельсы рвут вправо и влево от поезда, — догадался Филипп Васильевич. — Пожалуй, пора и отходить…»
Сверху скатился еще кто-то. На этот раз Перевозчиков.
— Ну, как дела, Василич?
— Нормально. Оглушило малость. Сейчас очухаюсь. Что там?
— Добиваем. Вагоны горят, снаряды рвутся, немногие солдаты, какие остались, драпанули на ту сторону. Рельсы в обе стороны уже подорвали. Пора уходить.
— Пора. Давай ракеты, комиссар.
Филипп Васильевич хотел спросить, как там Настасья, как дети, но не спросил: в бою они такие же бойцы, как и все, и не должен командир их выделять. Он попытался встать, но с первого раза не получилось: тело валилось на сторону, ноги не держали. К нему подошли, подхватили под руки, повели. Рядом шел Перевозчиков, рассказывал:
— Пятерых пленных взяли. Одного офицера. Оружие кой-какое. Потери с нашей стороны пока не ясны. Но всех собрали: и убитых, и раненых. Дойдем до места, там посчитаем.
— А я вот, — печалился Филипп Васильевич, — высунулся с дуру. Мне б подождать чуток…
— Не расстраивайся, командир: все хорошо. Вернемся на базу, баньку затопим, попарим с веничком — все пройдет. Главное — вломили фрицам по первое число. Почухаются теперь.
— Оно так, а я вот… Экая невезуха.
И опять в голове: где же Настасья?
А Настасьи все не было и не было, и дурные предчувствия начали одолевать Филиппа Васильевича. Он не выдержал, спросил у Перевозчикова:
— Как там Настасья? Как мои ребята?
— Ребята все целы. А Настасья Еремеевна… — Перевозчиков замялся, потом отрубил: — Несут твою Настасью, Филипп. Раненая она… Пуля в живот. Перевязали, в лагере врачи посмотрят…
— Где? Где она?
— Впереди.
Филипп Васильевич отстранил помощников, заспешил по тропе в голову колонны, раздвигая людей, будто слепец, вытянутыми руками. Он шел, стиснув зубы, спотыкаясь о корни деревьев, о кочки, но не падая, а лишь клонясь вперед и тяжело дыша. Перевозчиков едва поспевал за ним.
С кустов и деревьев капало, в голубом тумане, просвечиваемом косыми лучами утреннего солнца, плыли бронзовые стволы и верхушки сосен, черные ели, поникшие березы, угрюмые кусты можжевельника.
Чуть в стороне от дороги толпились люди. Среди них его трое сыновей: Петр, Никита, Станислав. Они расступились, и Филипп Васильевич обессиленно опустился перед носилками на колени. На него глянули до каждой черточки знакомые серые глаза жены, искаженные болью.
— Настасьюшка, — прошептал он, склоняясь к ее лицу. — Как же это ты?
— Я офицера свалила, — прошептала она спекшимися губами. Он уж на насыпь влез, еще б чуток, и сбежал бы. Не сбежал. Лежит там, на насыпи…
В голосе ее Филиппу Васильевичу послышалось недоумение и печаль. Подумал: «Немца жалеет, что ли?» Но не спросил, а только погладил ее пылающее лицо.
— Ты молчи, молчи, Настасьюшка. Вот принесем в лагерь, там доктора — они вылечат.
— Не вылечат уж, — прошептала она в ответ. — Помру я, видать. Ты, как война кончится, женись на Лизавете: она с детства по тебе сохла, с ней тебе хорошо будет. И детям тоже… — И вдруг вцепившись одной рукой в отворот куртки мужа, заспешила словами, глотая твердые согласные: — Детей, детей береги, Филя! Кровинушек моих… Сколько ж можно их под пули посылать: дети еще, дети… Фи-и-ля-ааа! — И уронила руку.
— Вставай, председатель, идти надо, — произнес кто-то над ухом. — Может, еще донесем.
Филипп Васильевич тяжело поднялся на ноги и пошел, держась за носилки. За спиной кто-то всхлипывал время от времени, Филипп боялся оглянуться: ему нечего было сказать своим сыновьям.
Конец тридцать седьмой части
Часть 38
Глава 1
По небу ползли серые облака. Иногда припускал дождь, иногда в разрыве облаков неожиданно проглядывало солнце. С деревьев капало, блестела листва. Сидящие на ветках кустов воробьи при появлении солнца начинали громко чирикать. Ласточки в полете жались к земле.
Сталин, выйдя во втором часу пополудни на крыльцо своей дачи, глянул на небо, спросил у стоящего рядом с раскрытым зонтиком в руках начальника охраны генерала Власика:
— Что синоптики говорят о погоде?
— Облачно с прояснениями. Временами дождь, товарищ Сталин.
— Ладно, поехали в Кремль, — и Сталин, спустившись с крыльца, шагнул на подножку машины, внес в ее чрево свое тело, сел на заднее сиденье, откинулся на мягкую спинку, уткнул подбородок в грудь. И сразу же мыслями перекинулся туда, где уже почти месяц идут ожесточенные бои. Успокаивало лишь то, что там, на юге, где после Курского побоища перешли в наступление сразу несколько советских фронтов, находится Жуков, с его умением верно оценивать быстро меняющуюся обстановку и принимать верные решения, с его неумением или нежеланием приукрашивать наши успехи и принижать действия противника.
Захлопали двери машин, и кортеж, покинув кунцевскую дачу, вырвался на Рублевское шоссе и, разбрызгивая лужи, понесся к Москве.
Москва все еще жила на военном положении. По улицам ходили патрули, в проулках таились аэростаты заграждения, в скверах и на площадях стояли зенитки, прохожих было мало, машины встречались редко, ползали полупустые трамваи и троллейбусы.
На Калининском проспекте саперы разбирали еще дымящиеся руины дома, куда ночью попала бомба. Поодаль виднелись две пожарные машины и одна «Скорой помощи», в которую санитары запихивали носилки с чем-то, прикрытым белой простыней. Рядом сиротливо грудилось несколько женщин с детьми. Все это промелькнуло, точно кадры кинохроники, и Сталин, нахмурившись, задернул на окне занавеску.
Немцы еще стояли в двухстах с небольшим километрах от Москвы, для их бомбардировщиков это чуть больше получаса лета. Хотя вокруг Москвы создано плотное кольцо противовоздушной обороны, хотя ни один самолет не минет огня многочисленных зениток, а сотни истребителей новейших конструкций разбросаны по десяткам аэродромов, хотя в небе постоянно дежурит множество самолетов, а в системе раннего предупреждения используются английские радиолокационные станции дальнего обнаружения воздушных целей, отдельным немецким самолетам время от времени удается прорываться к столице, чаще всего ночью, и сбрасывать на нее свой смертоносный груз.
Не далее как два дня назад несколько бомб упало на противоположной стороне Москвы-реки, и Сталину пришлось снова перебраться в подземный кабинет. Он понимал, что сбить на подступах к Москве или отогнать абсолютно все самолеты противника невозможно. Тем более что ночью они летают на предельной высоте и бомбят, как ему доложили, ориентируясь по блеску реки, вспышкам контактных проводов трамвайных и троллейбусных линий, свечению сталелитейных цехов. Единственная возможность окончательно прекратить налеты фашистской авиации — отогнать немцев от Москвы как можно дальше. Но с тех пор, как они, спрямляя фронт, сами ушли из Ржевско-Вяземского апендикса, Западный и Калининский фронты продвинулись вперед незначительно и до сих пор не могут сокрушить оборону противника. Похоже, командующие этими фронтами генералы Соколовский и Еременко вообще не способны использовать имеющиеся в их распоряжении силы на полную мощь. Но заменить их пока неким: лучшие генералы командуют южными фронтами, сейчас именно там решается вопрос освобождения Донбасса, промышленного потенциала которого так не хватает стране для борьбы практически со всей промышленностью Европы. Да и внимание самого Сталина приковано к югу, где наступил, судя по всему, тот перелом в войне, который подготовлялся все предыдущие годы отступлений и перемалывания живой силы и техники врага — и своей, разумеется, тоже — в ожесточенных оборонительных сражениях.
Но это ровным счетом ничего не значит. Надо заставить Соколовского и Еременко идти вперед, взламывая оборону противника, тем более что живой силы, артиллерии, авиации и танков у них значительно больше, чем у немцев. Чего у них меньше, так это ума и решительности. Но если Еременко хорошенько «накачать», вдохнуть в него отвагу, он лоб расшибет, а стоящую перед ним стену все-таки протаранит. Лучше сегодня заплатить двойную цену, чем допустить, чтобы в результате продвижения к Днепру южных фронтов образовался слишком большой разрыв с фронтами северными и немецкие армии нависли бы над ними этаким балконом с возможностью удара в спину.
Вой сирен воздушной тревоги отвлек Сталина от размышлений. По улицам бежали люди и скрывались в бомбоубежищах, на станциях метро.
Генерал Власик вопросительно глянул на Сталина, обернувшись к нему всем своим плотным телом.
Сталин, встретившись с вопрошающим взглядом своего телохранителя, отвернулся и продолжил смотреть в окно.
Впереди показались затянутые маскировочными сетями башни и купола Кремля.
Спустившись в подземелье, Сталин приказал Поскребышеву вызвать к себе исполняющего обязанности начальника Генштаба генерала армии Антонова.
Алексей Иннокентьевич Антонов вошел в кабинет, остановился в трех шагах от стола, за которым сидел Сталин, щелкнул каблуками, резко кивнул ухоженной головой потомственного интеллигента, негромко произнес:
— Здравия желаю, товарищ Сталин.
— Здравствуйте, товарищ Антонов, — медленно и будто с усилием выговорил Сталин, выходя из-за стола и протягивая руку. Затем спросил: — Как у нас идут дела с овладением так называемым «Смоленским коридором»? Не получится ли так, что южные фронты уйдут далеко вперед, обнажат свои фланги, а Гитлер ударит нам в тыл?
— Очень может быть, товарищ Сталин, если мы сами предоставим ему такие условия, — быстро ответил Антонов, точно ожидал именно такого вопроса. — Поэтому мы планируем наступление Западного, Калининского и Северо-Западного фронтов к середине августа, как только там закончится формирование соответствующих войсковых ударных группировок.
— Мне известно, что у Соколовского и Еременко достаточно сил для прорыва немецкой обороны, освобождения Смоленска и выхода на линию Витебск-Орша-Могилев. Тем более что Гитлер забрал у группы армий «Центр» все, что можно было забрать, и перебросил эти дивизии на юг. У немцев там почти не осталось танков и авиации. Что, по-вашему, нужно еще Соколовскому и Еременко для успешного наступления?
— Мы считаем, товарищ Сталин, что им нужно добавить пару дивизий бомбардировочной авиации и несколько артполков прорыва из резерва Главного командования, чтобы довести количество стволов на километр фронта в районе прорыва хотя бы до ста двадцати.
— Что ж, добавить можно. Но надо проследить, чтобы командование названными фронтами использовало наиболее эффективно имеющуюся в их распоряжении артиллерию и авиацию. До сих пор, насколько нам известно, их артиллерия больше бьет по площадям, а не по разведанным очагам сопротивления противника. Потом пехота наступает на неподавленные огневые средства. Особенно это касается Западного фронта. Скажите, товарищ Антонов, Генштаб оказывает влияние на командующих фронтами в этом отношении? Или вы лишь констатируете факты безобразного использования предоставленных генералам сил и средств, которые нам даются с таким трудом?
— Я уже имел честь докладывать вам, товарищ Сталин, — заговорил генерал Антонов все тем же ровным голосом, — что командующий артиллерией Западного фронта генерал Камера часто пускает планирование огня своей артиллерии на самотек, передоверяя его нижестоящим командирам. По-моему, он не сделал соответствующих выводов из тех ошибок, на которые указывалось ему на прежних должностях.
— Я помню о вашем докладе, товарищ Антонов, — сказал Сталин, поведя рукой с зажатой в ней трубкой. — И помню, что генерал Камера обещал исправить свои ошибки. Исправлять свои ошибки — не такое простое дело, товарищ Антонов, как это может показаться на первый взгляд. Предоставим ему еще один шанс. На этот раз — последний. Но там не только Камера плохо исполняет свои обязанности. Командующий фронтом Соколовский тоже не блещет инициативой и разнообразием приемов. Генштаб должен взять под особый контроль эти фронты. Я хотел бы, чтобы офицеры Генштаба, бывая на передовой, глубже вникали в существо дела и не верили на слово командирам, какой бы пост они ни занимали.
— Именно на это мы и нацеливаем своих офицеров, — товарищ Сталин.
— Хорошо, товарищ Антонов. Держите меня в курсе всех событий. И проследите, чтобы подготовка к наступлению названных фронтов была закончена к сроку.
— Будет исполнено, товарищ Сталин, — произнес генерал Антонов, снова резко кивнул головой, повернулся и пошел из кабинета.
Сталин подождал, когда за генералом закроется дверь, вызвал Поскребышева, спросил:
— Берия ждет?
— Ждет.
— Пусть заходит.
Лаврентий Павлович Берия с величавостью внес свое массивное тело в кабинет Сталина, прижимая к бедру красную папку.
Сталин повел рукой, показывая на стул, спросил:
— Отправил Михоэлса с Фефером?
— Отправил, — ответил Берия.
— Смотри, это — твои люди, ты за них и в ответе.
— Никуда они не денутся, товарищ Сталин. Что Михоэлс, что Фефер чувствовать себя лучше, чем в Москве, не смогут нигде. А убедить евреев Америки, что евреям в СССР живется не хуже, лучше этих двоих не сможет никто. Больших денег они из американских толстосумов не вытрясут, но хотя бы заложат основы на будущее.
— Будущее, это будущее. А валюта нам нужна сейчас, — проворчал Сталин. — Чем больше выклянчат, тем лучше. Но главное, чтобы евреи, занимающиеся созданием атомной бомбы, делились с нами своими секретами. А делиться они будут лишь тогда, когда поймут, что обладание такой бомбой одной из стран приведет к мировой катастрофе. Тогда всем будет плохо: и евреям, и русским, и папуасам.
— Мне это понятно, товарищ Сталин. И в беседе с посланцами, хотя я и не раскрывал им существа дела, однако нацеливал на то, что Америке с Советским Союзом лучше жить в мире.
— Ну и правильно. Американцы даже подозревать не должны, что нам известно о том, что делается у них в Лос-Аламосе. Пусть думают, что мы в своей берлоге только и умеем, что лапу сосать. И ни в коем случае не связывайтесь с членами американской компартии. Их рвение помочь нам похвально, но в данном случае бесполезно и даже опасно. Все тамошние коммунисты находятся под наблюдением спецслужб, через них они могут выйти на наших агентов и поставить под подозрение наших информаторов из числа ученых-атомщиков.
— Разумеется, мы держимся от них подальше, но они буквально бомбардируют наше посольство предупреждениями о разработках сверхмощного оружия. Точных сведений у них нет, и толку от их предупреждений никакого.
— Хорошо, что ты это понимаешь, — кивнул головой Сталин. Затем, глядя вприщур в глаза Берии: — По Москве ходят слухи о перспективах создания еврейской республики в Крыму? Откуда у евреев эта блажь?
— Точно не скажу, но могу предположить, — на замедлил с ответом Лаврентий Павлович, — что они решили, будто после выселения из Крыма татар, греков и болгар полуостров станет как бы бесхозным. Отсюда и эта блажь. Я думаю, что препятствовать ее распространению в данной ситуации было бы неразумным…
— Почему?
— Я прозондировал почву и выяснил, что Михоэлс с Фефером повезли эту… э-э… идею в Америку в надежде, что тамошние евреи поддержат ее своими финансами. Мировое еврейство давно бредит о создании самостоятельного еврейского государства. Они бы предпочли иметь его в Палестине, но англичане вряд ли уступят им этот лакомый кусок. Мне кажется, мы могли бы на этом деле сыграть, получить под идею еврейского Крыма от американских евреев немалые деньги… — произнес Берия и замолчал на полуслове.
Сталин подумал, что идею эту мог московским евреям подкинуть и сам Берия… с прицелом на будущее. На свое будущее, разумеется. Тем более что в двадцать четвертом году в связи с расселением евреев из-за черты оседлости и попытки приобщить их к крестьянскому труду, в Крым было переселено несколько десятков тысяч, однако от этих поселений почти ничего не осталось: евреи если и занимались сельским хозяйством, то исключительно руками наемных рабочих из местных жителей, сдавали землю в аренду или спекулировали ею (НЭП был в самом разгаре), а сами жили в городах, занимались торговлей и ремесленничеством. Однако идея создания Еврейской советской республики в Крыму возникла именно тогда, в Цэка разгорелись жаркие споры, евреев обвинили в желание сесть на все готовенькое и нежелание осваивать новые земли, утверждать там советскую власть. Тогда еврейская фракция в Цэка большинства голосов не получила, и только через десять лет к этому вопросу вернулись снова, в результате чего была создана Еврейская автономная область на Амуре, в составе Хабаровского края. Но мало кто из евреев туда поехал, так что новые земли осваивали в основном русские да украинцы.
Возвращаясь к столу, Сталин решил, что, действительно, нынешней болтовне этой не стоит пока мешать, но обязательно выявить зачинщиков, их планы и связи с заграницей. А там будет видно. Он остановился возле стола, раскурил трубку, несколько раз пыхнул дымом, заговорил, но совсем о другом:
— А теперь вот что. Организуй-ка мне поездку на Калининский фронт. Часа за два, за три предупреди Еременко, чтобы был на месте. О том, с кем будет встреча, ни слова. Ну да не мне тебя учить.
— Опасно, Коба, — промолвил Берия, переходя на доверительный тон, пытаясь отговорить от этой затеи Сталина. — Немецкая авиация часто шныряет по ближайшим нашим тылам. Глупая случайность — и…
— А ты сделай так, чтоб было безопасно! — вспылил Сталин. — Или в твоей богадельне разучились это делать?
— Хорошо, все будет сделано, как ты хочешь, — пошел на попятный Берия. — Один только вопрос: киношников и фотокоров брать?
Сталин задумался на несколько мгновений. С одной стороны, вроде бы надо взять, потому что наверняка найдется немало злопыхателей, которые будут обвинять товарища Сталина в том, что он всю войну просидел в бомбоубежище, ни разу не побывав на фронте. С другой стороны — плюнуть и растереть: Верховному Главнокомандующему вовсе не обязательно бывать на фронтах, тем более что и без него есть кому. Даже Кутузов командовал Бородинским сражением, находясь на почтительном расстоянии от самого сражения. И это правильно. Потому что картины одного-двух сражений ничего не дают Верховному для понимания характера войны как таковой. Ему положено мыслить совсем другими категориями. Отсюда вывод: фотокоры и киношники лишь дадут злопыхателям в руки крапленые карты, подтверждая, что вот, мол, Сталин, опасаясь за свой авторитет, все-таки побывал в одном-двух местах в районе боевых действий, никак не повлияв на эти действия. На каждый роток не накинешь платок.
— Обойдемся без фотокоров и борзописцев, — подвел черту под свои размышления Сталин. — Я не стрелять туда еду.
Берия согласно кивнул головой, хотя совершенно не понимал, зачем Сталину ехать на фронт. Тем более на Калининский. Тем более к Еременко, которого и Сталин, и сам Берия ставили не слишком высоко.
Глава 2
Через два дня после разговора Сталина с Берией на разбитом бомбежками полустанке, примерно в двадцати километрах от Ржева, остановился товарный поезд, груженый строительными материалами. Из вагонов посыпались красноармейцы с черными погонами, с эмблемами саперных и железнодорожных войск. Эшелон разгрузили, и он ушел на восток. Вслед за ним пришел другой эшелон. С него сгрузили зенитки, машины, несколько танков и броневиков, ящики с патронами и снарядами, походные кухни, палатки. Все это быстро рассосалось в окружающих полустанок лесах и затаилось, лишь в ближайших окрестностях появились усиленные патрули, иногда даже с собаками. А на полустанке саперы что-то строили, железнодорожники прокладывали новую ветку, работы не прекращались даже ночью. За несколько дней было возведено станционное здание, украшенное резными наличниками на окнах, и деревянная платформа, не слишком длинная, но довольно широкая и весьма основательная. С той и другой стороны платформы были устроены съезды для машин, годные и для танков, правда, не самых тяжелых. Станционное здание и платформу выкрасили зеленой краской, остатки сгоревших изб небольшой деревушки, некогда примыкавшей к полустанку, убрали, воронки от бомб и снарядов засыпали, дорожки расчистили и посыпали желтым речным песком, рядом с основной веткой пролегла запасная, которая уходила в лес по узкому просеку и там обрывалась земляной насыпью и П-образной загородкой из массивных бревен.
И вот в один из дней первой половины августа, незадолго до рассвета, на обновленном полустанке, оцепленном солдатами внутренних войск, остановился поезд из десятка крытых товарных вагонов, с двумя паровозами, — один спереди, другой сзади. Поезд остановился напротив платформы. Тотчас же двери товарных вагонов поехали в стороны, из них выползли две закамуфлированные легковые машины. Немного погодя из одного из них вступило на платформу человек пять, среди них выделялась низкорослая фигура Сталина. Приехавшие тотчас же расселись в машины. К ним присоединилось еще несколько, и вся кавалькада направилась по весьма неплохой дороге, тянущейся через лес, а поезд, запыхтев, съехал на запасную ветку и затаился среди сосен и елей.
Еще не взошло солнце, когда машины въехали в небольшую деревню, состоящую из двух десятков изб, чудом уцелевших среди бушевавших вокруг нее боев. Как выяснили оперативники госбезопасности, в деревне стояла какая-то немецкая тыловая ремонтная часть, солдаты и офицеры ютились в этих избах вместе с их хозяевами, в основном стариками, женщинами и детьми, за два года и те и другие притерлись друг к другу, и когда немцам пришла пора уходить, они оставили деревню в полной сохранности. Случай редкий, не типичный, однако имеющий место быть, и офицеры госбезопасности каждого жителя по сто раз допрашивали и передопрашивали, передавая один другому, однако никакой измены или сотрудничества с оккупантами не обнаружили, разве что желание беззащитных людей выжить во что бы то ни стало.
Машины остановились возле избы, стоящей почти в середине деревенской улицы. Изба отличалась от других своей не броской аккуратностью: стояла ровно, смотрела через заросли сирени и жасмина на небольшую деревенскую площадь тремя маленькими окошками с голубыми наличниками, жестяным петухом над коньком крыши и скворечником. Правда, если приглядеться, краска на наличниках во многих местах облупилась, но и та, что осталась, делала окошки наивно жизнерадостными и праздничными. Особенно на фоне доцветающего жасмина.
Из машины, остановившейся напротив калитки, выбрался Сталин в светло-зеленом кителе, таких же штанах и фуражке с матерчатым козырьком. И, разумеется, в сапогах. Сталин огляделся по сторонам, посмотрел в небо, задрав голову, где барражировали наши истребители, прислушался к далекой стрельбе орудий и пошел к предупредительно открытой калитке. Затем проследовал через чистый зеленый двор с недавно скошенной травой по песчаной дорожке, взошел на крыльцо и скрылся за дверью. Машины тотчас же разъехались и спрятались под дровяными навесами в ближайших дворах. Лишь офицеры охраны маячили там и сям, но и те жались к избам, стараясь не особенно мозолить глаза. Впрочем, мозолить их было некому: деревня точно вымерла.
В избе Сталина встретила пожилая крестьянка, опрятно одетая, в цветастом фартуке и ситцевой косынке. Она степенно поклонилась Сталину, произнесла напевно, никак Сталина не называя, то ли не узнав его, то ли ей запретили его называть:
— Милости просим, — и при этом повела рукой в сторону чисто вымытого и выскобленного стола.
— Здравствуйте, — произнес Сталин, — с любопытством разглядывая хозяйку. Прошел к столу, снял фуражку, сел на лавку, спросил:
— Вы одна тут живете?
— Почему одна? — удивилась хозяйка. И пояснила: — Семья у меня: старик, сноха, трое внуков. Мужика-то ее, снохи то есть, сына нашего, в армию забрали еще в сорок первом, как, значит, война началась, так с тех пор ни слуху ни духу. Да и от других двух сынов тоже. Бог знает, живы ли, нет ли, — покосилась в угол, где перед несколькими иконами теплилась лампадка, сдержанно вздохнула.
— Как при немцах-то, худо было? — спросил Сталин.
— У нас-то еще ничего, хорошие немцы попались, а в других деревнях совсем худо было. А как уходили, так почитай все и пожгли. А жителей — кого побили, кого с собой угнали. Война — чего ж в ней хорошего? — И спохватилась: — Что это я все лясы-балясы точу, а вы, поди, с дороги-то проголодались, у меня и самовар давно уж готов.
И засуетилась, расставляя на столе чашки и блюдца.
— Спасибо, — поблагодарил Сталин. — Есть я не хочу, а чаю… чаю — что ж, чаю можно. С удовольствием попью. — И спросил: — Заварка-то у вас есть? — Пояснил: — Чаю теперь и в Москве не так просто достать. Я вот самый главный, так мне достают… по блату. Сейчас скажу, чтоб принесли. — И усмехнулся в усы.
— Да ничего, товарищ Сталин, мне уже дали служивые, так что заварка имеется. А так мы все больше всякие травы завариваем: зверобой, иван-чай, мята. Липовый цвет тоже хорошо. И земляничный. Наши предки жили без чаю, и ничего, обходились. И мы не баре: проживем.
— А где ж домашние-то?
— Так это… пошли по грибы. Нынче лисичек пропасть. Опять же, колосовики встречаются, маслята. Как-нибудь проживем, — повторила она с той покорностью судьбе, которую наблюдал Сталин у простого люда в годы своей молодости.
— А что колхоз? Не восстановили еще?
— А кому ж его восстанавливать-то? Некому. Ни мужиков, ни баб — всех война побрала. Кто в партизаны подался, кого в неметчину угнали. Оно б и посеять можно чего-ничего, так семенов нету. И лошади ни одной не осталось. Коза была, так ее наши же солдатики и съели. — Испугалась, поправилась: — То же ж ведь люди. Опять же, на голодный желудок много не навоюешь. Вот Мурка, — показала женщина на свернувшуюся у печки серую кошку, — и вся наша живность.
На крыльце затопало. Дверь отворилась, заглянувший в нее генерал Власик произнес:
— Еременко, товарищ Сталин.
— Пусть заходит.
Власик посторонился, и в горницу вошел генерал Еременко, широколицый и сам весь широкий, остановился, переступив порог, вытянулся, увидев Сталина, закричал своим визгливым голосом:
— Товарищ Верховный Главнокомандующий!..
— Не ори! — отмахнулся Сталин. — Хозяйку напугаешь. Садись. Чай будем пить. Заодно и поговорим.
Глава 3
Командующего Калининским фронтом генерала армии Еременко вызвали по телефону прямой связи с Генштабом еще ночью и велели быть с рассветом на двадцать пятом километре — от Ржева, разумеется, — Московской дороги.
Еременко, привыкший к тому, что указания из Москвы надо выполнять, не спрашивая, что и почему, спросил только о том, что нужно иметь при себе.
— План командующего фронтом на предстоящее наступление и соответствующие карты. Остальное на месте. — И положили трубку.
«Василевский или Антонов, — решил про себя Еременко. — Или еще кто. Если б Жуков, тот бы не темнил, нагрянул бы неожиданно, как снег на голову. Ну да ништо — прорвемся. Чай не впервой», — успокоил он себя.
Однако, увидев генерала Власика, Еременко почувствовал, что в нем все обрывается, а по желобку между лопатками потекли холодные ручейки, рубашка вмиг стала мокрой от пота, ибо где Власик, там и Сталин, а Сталин — это… И хотя ему, Еременко, недавно вручили вместе с другими орден Суворова первой степени за Сталинград, и вроде бы после этого он ни в чем не опростоволосился, — если не считать долгих и кровопролитных боев на Таманском полуострове, — и Сталин, напутствуя его на новую должность после лечения, был вполне доброжелателен, следовательно, и опасаться за свою судьбу не было причин. Однако появление Сталина в полосе Калининского фронта, ничего хорошего ему, Еременко, не сулило. Тем более что, начиная с апреля, когда Еременко был назначен сюда командующим, фронт себя ничем не проявил, то есть если и двигался вперед, то движение это измерялось иногда даже не километрами, а метрами.
Понадобилось несколько долгих мгновений, прежде чем Еременко пришел в себя, заметив, что Сталин настроен весьма миролюбиво. Да и по генералу Власику можно было бы определить, что тебя ждет: милость или совсем наоборот, но от страха Еременко в единый миг утратил спасительную свою наблюдательность и только при звуках голоса Сталина обрел ее снова. А уж он-то, Еременко, знавал Сталина всякого: и доброго, и злого, попадал под жестокий разнос и презрительную ухмылку, которая похуже мордобоя, и всякий раз выкручивался. Но все это случалось в Москве, в кремлевском кабинете. А тут Сталин — и в тридцати верстах от передовой. И почему именно у него, у Еременко? Ведь Калининский фронт должен наносить лишь вспомогательный удар, главный же возлагался на Западный. Поневоле потеряешь голову.
Усевшись напротив Сталина, Еременко выложил на стол папку с картами и, замерев, уставился маленькими, слегка раскосыми хитрыми глазками на Верховного, излучая восторг и восхищение всем своим мясистым лицом.
Хозяйка поставила перед ним чашку с чаем, вышла в сени, то есть исполнила все, что велел ей мордастый генерал с большими рабочими руками.
— Ну, рассказывай, как ты собираешься овладеть «Смоленским коридором», — велел Сталин, после того как в полном молчании выпито было по чашке чая.
И Еременко, поначалу путаясь, затем вполне обретя дар речи, стал рассказывать, какими силами, где и как собирается прорвать немецкую оборону, при этом не преминув пожаловаться на недостаток артиллерии, снарядов, продовольствия и авиации.
Сталин еще вчера все это выслушал от генерала Антонова, но не прерывал командующего фронтом, который оперировал не только подчиненными ему армиями, но и корпусами и даже дивизиями, слушал, покуривая трубку и почти не глядя на карту, иногда одобрительно кивая головой.
Когда Еременко закончил доклад и отер платком взопревший лоб, Сталин заговорил, как бы дополняя доклад Еременко:
— Нам крайне нужны Смоленск и Орша не только для спрямления линии фронта. Нам нужно лишить немцев этих важных узлов железных и других дорог. А еще важно отогнать немцев подальше от Москвы. Но это не значит, что надо посылать наши войска под пулеметы и минометы противника. Все узлы сопротивления немцев должны быть заранее разведаны до мельчайших подробностей. Тогда и снарядов понадобится меньше. Учтите: недобитый враг — самый опасный враг.
Сталин помолчал, набивая табаком трубку. Молчал и Еременко, с подобострастием глядя на Сталина.
— Под Сталинградом вы проявили себя неплохо, — снова заговорил Сталин. — Хотя, как мне докладывали, на правый берег наведывались редко…
— Так товарищ Сталин! — взвизгнул Еременко. — Что ж туда ездить, когда оттуда никакого управления фронтом быть не может! Не на экскурсию же…
— Иногда и на экскурсию съездить полезно. Хотя бы для укрепления духа в подчиненных вам войсках. Ну да кто старое помянет… На Таманском полуострове вы тоже проявили себя неплохо. И в обороне и в наступлении. Опыт у вас имеется. Используйте его на все сто процентов — и результат не замедлит сказаться. Мы надеемся, что ваши войска глубоко вклинятся в оборону противника, создавая угрозу окружения его смоленской группировке войск, — заключил Сталин, поднимаясь из-за стола.
Вскочил и Еременко.
— Верховное Командование Красной армии и лично вы, товарищ Сталин, можете полностью рассчитывать на то, что войска фронта с честью выполнят ваш приказ! — вскрикнул он, побагровев лицом.
Чем-то все-таки нравился Сталину этот генерал, хотя особыми талантами и не блистал, но зато всегда выражал восторг и желание разбиться в лепешку, а приказ товарища Сталина выполнить. Да и откуда их взять, талантливых-то? Настоящий талант редкость, и не только в военном, но и в любом другом деле. Как раньше говаривали: за неимением гербовой приходится писать на простой. Еременко как раз из таких — не гербовых.
— Что ж, будем надеяться, что так оно и будет, — произнес Сталин, и едва заметная насмешливая ухмылка тронула его губы.
Они вместе покинули избу, тотчас же к калитке подкатила машина Сталина, он пожал Еременко руку, пожелал успехов, сел в машину, и кавалькада тронулась в обратный путь.
А генерал Еременко еще какое-то время стоял у калитки и смотрел на дорогу, над которой еще висела легкая желтоватая пелена пыли, и ему очень хотелось ущипнуть себя, точно все это ему приснилось.
Наступление левого крыла Калининского фронта началось, как и планировалось, 13 августа. Но прорыва не получилось. Войскам пришлось буквально прогрызать немецкую оборону, неся большие потери. Бои шли до октября, войска продвинулись почти до самой границы Белоруссии и здесь встали, перейдя к обороне. А еще какое-то время спустя, генерала Еременко перевели в Крым командовать Крымской армией. Был снят — после жестких выводов комиссии ГКО — с должности командующего Западным фронтом генерал Соколовский, работавший когда-то начальником штаба этого же самого фронта у Жукова. У бывшего своего начальника он взял его непреклонную жесткость командования подчиненными войсками, но не взял жуковского умения. Не помог Соколовскому лучше воевать даже Мехлис в качестве члена Военного совета фронта. Да и Мехлис после крымской катастрофы растерял свою самоуверенность, в дела командующего не вмешивался, знал свой шесток. Полетели со своих постов другие генералы. К тому же фронты были переименованы в соответствии с новыми задачами — в Прибалтийские, Белорусские, Украинские. Новые задачи требовали других исполнителей. А задачи эти прежде всего сводились к тому, чтобы в этом, 1944 году, изгнать захватчиков с территории СССР, решить с союзниками будущее Европы и всего мира.
Глава 4
На небе ни облачка. Только где-то высоко-высоко, за гранью синевы, видна прозрачная белесая рябь, за которой начинается нечто для человека недосягаемое и непостижимое. В этой белесой ряби плавает белесая же луна, скособоченная так, будто у нее одна сторона перевязана темным платком по причине зубной боли.
Алексей Петрович Задонов крутит головой то направо, то налево, выворачивает ее назад, и ему всякий раз кажется, что там, у горизонта, в северо-западной его части, что-то такое промелькнуло и пропало в голубоватой дымке. Он с напряжением всматривается в эту дымку, однако не замечает никакого движения, спохватывается, поворачивает голову в другую сторону, на юго-запад, где дымка, наоборот, розоватая, до слез вглядывается теперь туда, но при этом ему кажется, что вот сейчас, когда он отвернулся, из той, голубоватой, уже несется им наперерез пара немецких «мессеров», разворачивается, заходя им в хвост, и через несколько секунд походя расстреляет их тихоходный убогий самолетишко. И почему-то нет сил снова повернуть голову на северо-запад: уж если они все-таки там появились, то пусть все это произойдет неожиданно.
Однако желание жить сильнее страха и обреченности, и голова сама, помимо воли, вертится из стороны в сторону.
Уже и шея болит от напряжения, и в глазах рябит, а этот летчик, фамилию которого Алексей Петрович не расслышал из-за шума заводимого мотора, ведет себя настолько легкомысленно, будто летят они не по немецким тылам, а где-нибудь у себя в Подмосковье: лётчик — таких в насмешку называют лёдчиками, то есть им не людей, а лёд возить, — ни разу не оглянулся, не посмотрел ни влево, ни вправо, голова его неподвижна, как у истукана, и лишь руки едва шевелятся, поворачивая штурвал.
Может, он впервые летит за линию фронта? Может, не знает, кого везет в своем драндулете?
Алексей Петрович клянет себя на чем свет стоит, что вызвался полететь к этому полковнику Петрадзе, танковая бригада которого вырвалась вперед и по немецким тылам катит теперь прямиком к Минску. Попробуй-ка найди ее в этих лесах! А если найдешь, где садиться? То-то и оно! Вот всегда у него так: не подумает, поддастся эмоциям и только потом начинает оценивать положение, которое можно было бы предусмотреть заранее.
В то же время Алексей Петрович, когда страх отпускает его, по-мальчишески гордится своей безрассудной смелостью. Он уже полон предвкушением того, какой выигрышный материал даст в газету и как будут завидовать ему его коллеги.
«Кукурузник» то прижимается к верхушкам деревьев, то, когда позволяет пространство, летит над самой дорогой, чуть не касаясь ее колесами: летчик, видать, и сам не хуже Алексея Петровича понимает, что ждет их, если появятся немецкие самолеты. С другой стороны, летя так низко, не имея практически никакого обзора, танковую бригаду не найти. Она и сама небось не слишком-то старается высовываться, редко выходит на связь, прет по проселкам, отстаивается в лесах.
Через какое-то время «кукурузник» стал то и дело взмывать вверх метров до двухсот, так что у Алексея Петровича даже челюсть отвисала и внутренности опускались на самое дно. Но, едва придя в себя, он вновь находил в себе силы обшаривать глазами бесконечные лесные массивы, рассекаемые там и сям едва приметными дорогами, просеками, речушками, пятнаемые запущенными полями и сгоревшими деревнями. Иногда глаз ухватывал едва заметное движение, но кто там, внизу, свои или немцы, разобрать не получалось. Может, и свои, да только Алексей Петрович не успевал ничего толком рассмотреть, как самолет камнем падал вниз, и уже внутренности подкатывались к самому горлу, а челюсти так сжимало, что ныли зубы.
Какие-то дымы появились на горизонте. Горело что-то жирное — солярка или бензин. Летчик кинул «кукурузник» к земле и пошел на дымы. Низкое утреннее солнце светило им в спину; впереди и чуть сбоку, перепрыгивая через деревья, кусты, бугры и овраги, пугающе стремительно неслась изменчиво-разлапистая тень самолета, и Алексей Петрович, уже не однажды попадавший во всякие передряги на фронтовых дорогах, сжался на заднем сиденье, живо представляя себе, что от него останется, если они врежутся в землю или в дерево.
Дымы вырастали, и вот уже стало угадываться пространство, свободное от леса. Потом деревья неожиданно расступились, «кукурузник» взмыл вверх и будто завис на одном месте — и перед ними открылась жуткая картина дикого погрома: догорающие изуродованные самолеты и аэродромные постройки, раздавленные зенитки, там и сям будто напоказ раскиданные неподвижные человеческие тела, а само поле аэродрома густо разлиновано параллельными следами танковых гусениц.
— Они уже здесь прошли! — крикнул летчик, показывая рукой вниз на скособочившуюся тридцатьчетверку, из моторной части которой все еще вился черный дым. — Каких-нибудь пару часов назад.
Алексей Петрович не столько расслышал, сколько догадался, что прокричал ему летчик, и поспешно покивал головой: ему показалось, что летчик, легкомысленно оборотясь к нему, вот-вот воткнет самолет в верхушку стремительно набегающего дерева.
Минут через пятнадцать полета, следуя вдоль проселка с отчетливо отпечатавшимися следами танковых траков, они оказались над болотистой поймой безымянного ручья, через которую по свежей лежневке перебирались танки. Покачивая крыльями, «кукурузник» сделал пару кругов над поймой, поднялся повыше, и отсюда Алексей Петрович разглядел впереди небольшое поле или поляну, несколько изб и притаившиеся на опушке темные мохнатые глыбы, курящиеся сизоватыми дымками.
Летчик облетел поляну и решительно повел самолет на посадку. Под самыми крыльями промелькнули вершины сосен, машина будто провалилась вниз, с маху ткнулась колесами в землю и запрыгала по кочкам, отчаянно скрипя и громыхая. Не добежав каких-нибудь двадцати метров до черной бани, «кукурузник» замер перед грядками цветущей картошки, последний раз взревел мотор, чихнул и заглох.
По тропинке от ближайшей избы к самолету бежали ребятишки, вокруг них с лаем носилась лохматая собачонка. Ребятишки не добежали шагов десяти, встали в рядок, уставились на самолет светлыми, как небо, глазами.
Держась за распорки, Алексей Петрович выбрался на крыло. Его обступила глухая, какая-то ватная тишина, хотя тут и там взревывали танковые двигатели, выбрасывая густые облака смрадного дыма, хрипло лаяла собака, бегая чуть поодаль от самолета, кричали солдаты, скатывая по бревнам со «студебеккера» черные бочки, а откуда-то издалека доносились бухающие удары, будто артель кровельщиков-великанов крыла железом гигантскую крышу.
Алексей Петрович оглядывался и вслушивался в звуки, которые все более и более выщелушивались из ватной упаковки, впитывал их всем своим существом, запоминая, что, кто и как стоит или движется, и радовался тому, что долетел, что вот сейчас встанет на твердую землю. И не спешил это делать.
Он медленно и с ощущением чуть ли ни возвращения к жизни с того света приходил в себя после полета, после всех пережитых страхов, мнимых и действительных, становясь тем Алексеем Задоновым, собкором газеты «Правда» и писателем, — а для себя как раз наоборот: сначала писателем, а потом уж собкором и всем остальным, — которого знали командующие многих фронтов и армий, знали министры и даже сам Сталин.
Среднего роста, явно склонный к полноте, но растерявший лишние килограммы за годы войны, с некоторой барственностью в движениях и взгляде глаз цвета гречишного меда, одетый с иголочки, с орденом Красной Звезды и оранжевой нашивкой за ранение над правым карманом кителя и четырьмя орденскими колодочками — над левым, Алексей Петрович Задонов стоял на крыле самолета и снисходительно оглядывал всю эту суету, казалось, возникшую исключительно по случаю приземления «кукурузника» в расположении движущейся по немецким тылам танковой бригады.
Вдыхая всей грудью сладкий аромат июньского раннего погожего утра, Алексей Петрович медленно стащил с головы шлемофон, бросил его на сиденье самолета, отыскал в кабине свою фуражку, но надевать не стал. Свежий ветерок шевелил его русые волосы, уже подернутые сединой, теплым дыханием обдавал моложавое лицо, глядя на которое Задонову с трудом можно было дать его сорок пять лет.
Алексею Петровичу вовсе не обязательно было лететь в тыл, рисковать собою, но вся жизнь его состояла из сплошных противоречий, из постоянных преодолений собственной лени, трусости, в которой он то и дело уличал себя и боялся, чтобы его не уличили другие. Потому-то, когда в штабе танковой армии у ее командующего возникла необходимость послать в бригаду полковника Петрадзе связного, Алексей Петрович, присутствовавший при этом, неожиданно для себя вызвался на роль этого самого связного и так горячо доказывал важность для его газеты и читателей репортажа о нашем глубоком танковом прорыве немецкой обороны, что уговорил-таки генерала-танкиста, на котором лежала ответственность за жизнь знаменитого писателя и журналиста, и сам поверил в эту важность.
И вот он на месте. Первое, что отметил Алексей Петрович, все еще продолжая стоять на крыле самолета, так это совершеннейшее спокойствие и деловитость красноармейцев, даже какое-то легкомыслие к своему положению, — к положению воинской части, оказавшейся в глубоком тылу противника. А ведь совсем недавно одна лишь возможность оказаться в подобном положении повергала людей в уныние, а иногда и в панику, и уж во всяком случае вызывала желание немедленно вырваться из окружения. И лезли, как слепые, на пулеметы, на танки, гибли в неистовом желании оказаться среди своих, а многие, исчерпав эту неистовость в бесплодных атаках, поднимали вверх руки с чувством обреченности и безразличия к своей судьбе. Затем было неистовство боев в обороне под Москвой и Сталинградом, и не только там, но и по всему фронту, были провалы и победы, и в конце концов эти люди превратились в… не то чтобы профессионалов, а, скорее всего, в чернорабочих войны, для которых она стала привычным и надоедливым делом. Миновало то время, когда в военкоматы выстраивались очереди зеленой молодежи, когда она рвалась на передовую, едва научившись стрелять из винтовки. Теперь никто никуда не спешил и не рвался. Во всяком случае, подобный романтизм Алексей Петрович наблюдал все реже и реже. А радовались люди возможности оказаться в тылу на переформировке, помыться в бане, отоспаться и не думать о том, что завтра снова возвращаться туда, откуда можно не вернуться вообще: ни на новую переформировку, ни в тыл, а остаться при дороге в неглубокой могиле, в лучшем случае — с фанерной пирамидкой и фамилиями, выведенными на ней химическим карандашом, в худшем — в полузасыпанном окопе после взрыва бомбы или снаряда.
Да, все эти перемены наблюдал Алексей Петрович в этих людях — и в самом себе с особым пристрастием — и знал, как тяжело, с какими неимоверными трудностями они — и он сам — менялись день ото дня в ходе боев, чтобы стать такими, какими он их видел теперь.
Отметив эти разительные перемены в психологии бойцов Красной армии, Алексей Петрович тут же и решил, что эти перемены и есть то самое важное, тот стержень, вокруг которого он должен будет построить свой первый репортаж о начавшемся наступлении в Белоруссии летом сорок четвертого, что только ради этого стоило рисковать, что именно вот это ни из какого штаба не увидишь. И чувство гордости, почти восхищения самим собой обдало теплом душу Алексея Петровича и даже на миг заволокло глаза.
Из осинника, давя кусты, выполз бронированный колесно-гусеничный немецкий штабной вездеход с белыми крестами по бортам и на покатом радиаторе и, переваливаясь на неровностях, пополз к самолету.
Алексей Петрович на мгновение замер, вглядываясь в этого безобразного камуфлированного жука, потом обозрел сверху лица людей, невесть откуда взявшихся и столпившихся возле самолета, все еще как бы не слыша их голосов. Но нет, это были русские лица, и даже если не русские, то есть узкоглазые или крючконосые, но все равно свои, родные, и голоса, прорываясь сквозь еще не умолкший в ушах гул самолета, тоже звучали по-русски, а уж мат — это ни с чем не спутаешь, это только наше и ничье больше.
Вездеход подрулил к «кукурузнику», остановился, из него на землю соскочили два автоматчика в плащ-накидках, какие носят — больше для шику — полковые разведчики, и еще один — невысокий, квадратный, в черном комбинезоне без знаков различия, в танковом шлеме. Он решительно подошел к крылу самолета и взялся за него рукой, глядя снизу вверх на Алексея Петровича.
— Подполковник Ланцевой! — представился невысокий квадратный танкист, небрежно кинув руку к съехавшему набок шлемофону. И добавил: — Замкомбрига по политчасти. А вы из корпуса?
— Я? — не понял Алексей Петрович. — Я из газеты. — И, сообразив: — Ну да, и из корпуса тоже. Скорее, из армии. У меня пакет к полковнику Петрадзе от командующего армией. — И стал спускаться на землю.
— Полковник Петрадзе сейчас на гатях, — уточнил подполковник Ланцевой, подавая Алексею Петровичу руку. И спросил, заглядывая ему в глаза: — Над немецким аэродромом пролетали? Видели, как мы их разделали? Никто даже взлететь не успел. Как снег на голову!
— Да-да, — подтвердил Алексей Петрович. — То-то мы летим-летим, а немецких истребителей не видно. Даже как-то не верилось.
— Считайте, что мы ради вас постарались, — хохотнул подполковник. — Больше сорока самолетов как корова языком! А? — И опять выжидательно уставился на Алексея Петровича. Но поскольку тот в нерешительности переминался с ноги на ногу, напористо спросил: — Простите, не расслышал вашего имени-отчества.
— А-а, да! — спохватился Алексей Петрович и полез в карман за удостоверением.
— Да я не о том! — замахал руками подполковник Ланцевой. — Что я не вижу, что ли, что вы свои!
— Задонов, Алексей Петрович, — представился Алексей Петрович, пожимая руку подполковника Ланцевого. — Из газеты «Правда».
— Во как! Значит, и в «Правде» уже про нас известно?
— Хорошо воюете, говорят… Вот и аэродром тоже… — Алексей Петрович не договорил: самолетов там, как ему показалось сверху, было штук двадцать, а то и того меньше.
— Да уж пора научиться, — небрежно бросил подполковник. И предложил: — Поедемте, я вас комбригу представлю.
Глава 5
Алексей Петрович распростился с летчиком, записал на всякий случай его фамилию: Сур Трофим Игнатьевич, капитан. Приятное, умное русское лицо опытного человека и пилота, так что если бы Алексей Петрович как следует разглядел его перед посадкой в самолет, не паниковал бы до такой степени. Впрочем, никто этого не видел…
Вместе с подполковником Ланцевым он забрался в вездеход, где сидели три автоматчика во главе с сержантом.
Машина тронулась, прошла между двумя домами, выкатила на пустынную улочку, повалив угол плетня.
Возле плетня старуха в черном платке, держа в руках католическое распятие, перекрестила вездеход широким крестом и что-то пробормотала вслед.
— Запуганный народ эти белорусы, — заметил Ланцевой. — И что примечательно: в деревнях ни одного мужика, никого из молодежи: ни парней, ни девок. Старики да дети. То ли попрятались, то ли в партизанах. Вторую такую деревню встречаем, чтобы целая, а то почти одни головешки.
— Почему же запуганные? — удивился Алексей Петрович. — Самые партизанские места.
— Ну да, конечно, только мы партизан еще не встречали, — поправился Ланцевой.
— Много танков потеряли? — спросил Алексей Петрович.
— Если не для печати, то почти четверть. И главное, не столько от немцев, сколько всякие поломки. Да и механиков-водителей, чтобы с опытом, не так уж много. В основном молодежь, из пополнения. Но пока катим.
С обеих сторон вдоль лесной дороги, которая отродясь не видывала такого движения, прячась в тени деревьев, стояли танки и самоходки, «студебеккеры» с цистернами, с прицепленными противотанковыми пушками, зенитными полуавтоматами, кухнями, с ящиками боеприпасов, цистернами с горючим, с пехотой, густо занавешенные еловыми лапами и всякими ветками, так что сверху казались лохматыми глыбами, а снизу — чем-то маскарадным, шутовским, невсамделешным. Вокруг некоторых танков возились чумазые механики, слышался стук железа по железу…
Из этого тесного многообразия техники опытный глаз Алексея Петровича выхватил несколько немецких «пантер», «тигров» и «фердинандов», выделяющихся своими резко обрубленными контурами и дульными набалдашниками, тупорылых машин с бронированными кузовами, из которых торчали спаренные стволы «эрликонов» — скорострельных зенитных установок швейцарского производства.
— Идем на полном самообеспечении, — похвастался подполковник Ланцевой. — Комбриг у нас мужик хозяйственный. Вон, даже немецкие зенитки прихватили. А чего? Никто не знает, как оно обернется. Прем напропалую. Вчера вечером нарвались на немецкую танковую колонну. А у них ужин. Ну что пожгли, а что взяли тепленьким. Бедному Ивану все по карману. Теперь у нас впереди немецкие танки идут — для маскировки. Умора! — И тут же, будто спохватившись: — А вы давно из Москвы? Как там она? Живет?
Алексей Петрович не успел ответить, а подполковник Ланцевой уже перескочил на другое. Видать, привык слушать только самого себя. Или спешил выговориться перед столичным газетчиком, чтобы тот, описывая подвиги бригады, подал их так, как этого хотелось замполиту.
— Сейчас вот переправимся, зальемся горючкой и вперед! — возбужденно говорил он. — До Минска-то всего сто километров! Представляете? Как снег на голову! Они и пикнуть не успеют. Только бы нас куда-нибудь в сторону не повернули, — полувопросительно глянул Ланцевой на своего пассажира.
Алексей Петрович пожал плечами, делая вид, что ему не известно содержание пакета, хотя, напутствуя его, ему сказали в штабе армии — так, на всякий случай, если с самолетом что случится, — что Петрадзе должен повернуть на юго-запад, через Шацк и Узду выйти на Столбцы и по возможности захватить железнодорожный и шоссейный мосты через Неман.
Полковник Петрадзе оказался высоким и неожиданно грузноватым для танкиста человеком. Двухдневная щетина обметала его еще моложавое широкое лицо до самых глаз, так что казалось, будто лицо вымазали сажей. Прочитав бумагу, он протянул ее своему замполиту, только после этого взгляд его черных глаз помягчал, и он энергично встряхнул руку Алексея Петровича.
— Опять не повезло, — произнес он смеясь. — Думал: возьму Минск, поставят мне памятник, как князю Багратиони, люди будут приходить и говорить своим детям: смотри, вот стоит грузин Тенгиз Петрадзе из Кутаиса, он освободил столицу братской Белоруссии. А? Так хорошо думал. Не получилось. Ладно, будем брать Столбцы. Послушайте, подполковник, почему Столбцы? Не знаете?
— Я думаю, что как только возьмете эти Столбцы, — откликнулся Алексей Петрович, непроизвольно улыбаясь, — так сразу же выясним, почему у них такое название.
— Вы хотите остаться с нами? — спросил полковник Петрадзе, глядя, как по гати, переваливаясь с боку на бок, медленно ползет немецкая трофейная самоходка, утапливая в болотную жижу бревна и ветки.
— У меня задание редакции: написать очерк о вашем рейде по тылам немцев, — соврал Алексей Петрович, зная по опыту, что скажи он, что оказался здесь по собственной инициативе, Петрадзе может и заартачиться: не любят воинские начальники брать на себя ответственность за людей из чужих ведомств, за которых могут спросить. Впрочем, не отправит же он его назад…
— Ну, если задание, тогда поедем. Только это не рейд по тылам, а прорыв, наступление. Вот как они нас в сорок первом, так теперь и мы их. И еще: чур, не высовываться.
Алексей Петрович, смеясь, поднял вверх руки. Впрочем, он и не собирался высовываться: времена, когда надо было доказывать свою храбрость, миновали, репутация у него и так вполне подходящая для фронтового корреспондента, а опыт говорил, что убивают не всегда тех, кто впереди.
И они покатили. Алексей Петрович ехал все в том же вездеходе, только теперь на его бортах были намалеваны кособокие красные звезды, сквозь которые проступали белые кресты. Вездеход двигался где-то в середине колонны, между двумя грузовиками с пехотой. Жара, пыль, вонь отработанного бензина и солярки. И полная неизвестность.
Время от времени далеко впереди вдруг возникала стрельба, отрывисто тявкали танковые пушки, им гулко вторили самоходки, колонна замирала, молодые солдаты в машинах вытягивали шеи, пытаясь что-то разглядеть, проходило минут десять-двадцать, стрельба затихала, звучали команды, взревывали моторы, голубоватая дымка окутывала проселок, в этой дымке причудливо струились солнечные лучи, и движение возобновлялось.
Иногда стрельба возникала сбоку, и довольно близко. И опять молодые солдаты на идущей впереди машине тревожно вытягивали в сторону стрельбы тонкие мальчишеские шеи, блестя из-под тяжелых касок испуганными глазами.
У Алексея Петровича стрельба особой тревоги не вызывала: за три года войны он научился по характеру стрельбы определять, что там происходит: немцы ли атакуют, наше ли фланговое сторожевое охранение столкнулось с какой-то группой, и, наконец, кто кого одолевает. Спокойно вели себя и разведчики, сопровождавшие Алексея Петровича.
Раза два миновали свои же танки, застрявшие по причине какой-то неисправности, возле них ремонтные летучки и злые танкисты, ковыряющиеся в моторах. Все одно и то же, одно и то же…
И через какое-то время Алексей Петрович почувствовал себя безмерно уставшим. Сказывался и пережитый полет, и плотный завтрак с крепчайшим трофейным ромом, которым угостил его подполковник Ланцевой. Глаза закрывались сами собой, голова клонилась на грудь, и если бы не тряска и болтанка, Алексей Петрович спокойно бы уснул. Но приходилось крепко держаться за скобы, беречь голову и все остальное. Какой тут сон!
Где-то к полудню вкатили в крупное село. У темных изб темные неподвижные изваяния баб и стариков; ребятишки бегут за медленно движущимися машинами, крича от восторга. В центре деревни чадит тупорылый грузовик, вокруг него несколько убитых немцев, один раздавлен танковыми гусеницами и превращен во что-то бесформенное. Из кабины грузовика свешивается наружу, за что-то зацепившись, молоденький немецкий офицер, с пальцев его руки, полусжатых в кулак, все еще капает кровь, будто офицер сжимает какую-то склянку, и кровь — не кровь, а краска из этой склянки.
Алексей Петрович, слышавший минут за двадцать до этого отдаленную стрельбу, слышавший ее сквозь дрему и не придавший ей никакого значения, теперь равнодушно глянул на убитых немцев и вспомнил, — как о чем-то небывшем или выдуманном им самим, — как в июле сорок первого в этих же местах, только юго-восточнее, он сам мог оказаться убитым или раздавленным немецкими танками, неожиданно ворвавшимися в деревню, где никто эти танки не ждал; вспомнил, как бежал огородами к лесу, петляя словно заяц, и что ему казалось, будто немцы всюду и стреляют они исключительно в него, Алексея Задонова, русского писателя. Вспомнил, как плутал по лесу, не выпуская из потного кулака бесполезный пистолет, как ночевал у ручья, вздрагивая от каждого шороха, как ели комары лицо и руки, прожигали тело сквозь гимнастерку и штаны слепни и оводы, как было жалко самого себя, как, поддавшись минутному малодушию, материл последними словами советскую власть, большевиков, Ленина, Сталина, главного редактора «Правды», своего отца, который так и не решился уехать из России сразу же после революции, а ведь была возможность, и звал дядя Константин, брат отца, уже устроившийся в Канаде…
А потом, когда наткнулся на своих, пробивающихся на восток, — батальон с остатками других батальонов и полков под командованием светлоголового майора Матова, недавнего выпускника академии имени Фрунзе, — как-то забыл и о своем малодушии, и о своих страхах и проклятиях, подтянулся, слился со всеми, ибо нельзя было не подтянуться и не слиться: майор Матов держал подчиненных ему людей крепко, не давал места ни панике, ни унынию, и при всякой возможности атаковал встречающиеся немецкие колонны и части, и всегда, если даже приходилось отступать, отступал организованно, с боем, так что у его бойцов, как и у самого Алексея Петровича, возникало ощущение, что они все эти бои выиграли, а уж фрицев накрошили во много раз больше, чем потеряли своих.
Сержант-автоматчик по фамилии Лахтаков, сидевший рядом с водителем, вдруг встрепенулся, открыл дверцу и на ходу выскочил на дорогу. Он подбежал к убитому немецкому офицеру, дернул его за плечо — офицер вывалился из машины на пыльную дорогу, сержант повозился с ним и бегом догнал вездеход, медленно двигающийся в общей колонне. Сев на сиденье, обернулся к Алексею Петровичу и, глядя на него в упор дерзкими черными глазами, показал пистолет «вальтер».
— Хотите, товарищ подполковник? Хорошая, между прочим, штука. Получше нашего ТТ будет.
— Спасибо, сержант, но у меня есть, — отказался Алексей Петрович, но не потому, что на рукоятке пистолета все еще виднелась плохо стертая сержантом кровь, а потому, что, действительно, у него уже имелся «вальтер», подаренный командиром одной из армейских разведрот, и «вальтер» этот, покоясь в заднем кармане галифе, мял сейчас ягодицу Алексея Петровича.
— Ну, как хотите, товарищ подполковник. Подарю своему ротному, — отвернулся сержант и принялся разглядывать снятые с офицера швейцарские часы.
Едва колонна выбралась за село, как откуда-то сбоку, подпрыгивая и вихляясь по неровностям обочины, вынырнул «виллис» и, лихо развернувшись и чуть не врезавшись в вездеход, покатил рядом. С переднего сиденья поднялся в рост уже знакомый Алексею Петровичу лейтенант, адъютант подполковника Ланцевого.
— Товарищ подполковник! — крикнул он. — Замполит просят вас вперед! Там концлагерь наши освободили! — И, не дожидаясь согласия Задонова, приказал водителю вездехода:
— Давай за мной!
Вездеход съехал на обочину, прибавил газу и пошел вслед за «виллисом» обгонять колонну машин и танков, то и дело издавая подвывающий сигнал, так не похожий на сигналы наших машин.
Глава 6
Минут через десять бешеной тряски свернули на плотно укатанную щебеночную дорогу. Лесной массив ушел назад, уступив место перелескам, широким полям, где там и сям колосилась рожь, зеленели овсы, кустилась в бороздах картошка, и странно было видеть это в тылу у немцев, хотя чего ж тут странного? — люди должны жить, следовательно, питаться, кормить тех же партизан и все остальное, а немцы здесь или советская власть — какое это имеет значение! И тем не менее картина мирно зеленеющих полей вызывала недоумение, — у солдат даже большее, чем у Алексея Петровича, — и он про себя отметил, что надо будет задуматься над этим фактом, который почему-то всем кажется противоестественным.
Алексей Петрович оглянулся. По дороге в тучах пыли ползли вперемешку танки, машины. Картина была привычной, если не считать того, что колонна эта двигалась по немецким тылам, далеко оторвавшись от остальных частей фронта.
На миг у Алексея Петровича защемило сердце: он вспомнил, как вот так же вскоре после Курского побоища наши танковые клинья двинулись к Днепру, а немцы неожиданно подсекли эти клинья под основание, и если не повторилось то, что часто повторялось в сорок первом и втором годах, то исключительно потому, что сила уже была на нашей стороне, только силой этой не все большие воинские начальники умели пользоваться с наибольшей эффективностью. Не устроят ли немцы нечто подобное и с танковой бригадой полковника Петрадзе?
Там, куда двигалась колонна, километрах в двух впереди, на пологом холме, возвышающемся над лесными массивами, виднелся какой-то поселок с тремя кирпичными трубами и полуразрушенной церковной колокольней. Там что-то горело, черный дым клубами поднимался в небо, а на высоте, может, метров в триста сбивался на сторону воздушным потоком и тек широкой пеленой на юго-восток. Со стороны поселка слышались редкие отрывистые выстрелы, но иногда вдруг словно кинут пригоршню гороха о фанеру, еще и еще.
Там шел бой, но какой-то вялый, ленивый, и не было ясно, чем этот бой закончится.
Алексей Петрович отвернулся и стал смотреть вперед. В той стороне, куда свернули «виллис» и вездеход и куда уходил укатанный щебеночный проселок, не раздавалось ни звука. По обеим сторонам проселка тянулись мертвые вырубки с одинаковой высоты пнями и лишь кое-где с низкими кустиками малины. Казалось, что вырубки специально поддерживались в таком мертвом состоянии, очищались и пропалывались, чтобы ни деревца здесь больше не выросло, ни кустика, а редкая поросль малины лишь усугубляла этот удручающе мертвый пейзаж.
Дорога и вырубки вдоль нее тянулись почти до горизонта идеально ровными полотнищами и упирались в высокий, видный даже издалека серый забор с башенками по краям, будто там находилась древняя сторожевая засека. Хотя до этой засеки было еще порядочно, но Алексей Петрович почувствовал что-то до боли знакомое, о чем не хотелось помнить, но что всегда жило в нем и время от времени тревожило мрачными ночными видениями.
Забор рос на глазах, и минуты через три они подъехали к воротам, распахнутым на обе стороны, со сторожевыми вышками над ними, такими же вышками по краям забора.
— А ведь это еще с до войны осталось, — негромко проговорил сержант, оглянувшись на Алексея Петровича, будто ища у него поддержки. — Точно такой лагерь в Сосногорске, на Урале. Ну, как две капли. Во дела-то…
Алексей Петрович не ответил. Ответить, значит вступить в разговор и наверняка выяснить, что сержант сидел за что-то в каком-то там Сосногорском лагере, или охранял его, — совершенно лишняя и ничего ему, Алексею Петровичу, ни как журналисту, ни как писателю, не дающая информация. В Сосногорске он не был, а в Березниках в тридцать первом был по заданию редакции «Гудка», писал очерк о перековке сознания вчерашних врагов советской власти под воздействием коллективного труда, — и этого опыта ему хватит на всю жизнь, то есть опыта писания того, о чем писать не хочется, опыта, противного собственной сущности, но который, быть может, спас его от чего-то более страшного, уже давно витавшего в ту пору в воздухе.
Впрочем, в эту минуту Алексей Петрович вспомнил не то чувство отвращения и неуверенности, с каким он когда-то приступал к работе над очерком и как оно сменилось вдохновением, — чувство это давно притупилось и стерлось в памяти от частого, быть может, повторения, — а как неожиданно встретился в Березниках с приятелем своего старшего брата Льва инженером Петром Степановичем Всеношным, какое жуткое впечатление на него произвел этот еще недавно цветущий и уверенный в себе человек, и как он примерял его судьбу на самого себя.
А еще именно там у него с Ирэн возникла странная любовь, которая то притягивала их друг к другу с непонятной силой, то с такой же силой отталкивала. В тридцать четвертом Ирэн пропала, и несколько месяцев Алексей Петрович ничего не знал о ней, жил в ожидании чего-то страшного и непоправимого. Потом пришло известие из маленького поселка Адлер, что приткнулся на берегу Черного моря километрах в тридцати от Сочи, что Ирэн умерла и что была она беременна — на последнем месяце.
Ах, как давно это было!
Да, лагерь в Березниках внешне был похож на этот лагерь. Значит, еще и на Сосногорский. Видимо, он действительно остался с тех времен, и немцы лишь использовали его под лагерь для военнопленных. Не исключено, что его построили немцы, что существовал какой-то единый проект лагерей, принятый как у нас, так и у них: ведь тогда, в двадцатых и даже в начале тридцатых, пока к власти не пришел Гитлер, многое строилось именно по немецким проектам, под руководством немецких же инженеров.
«Спаси меня, всевышний, от всяких аналогий!» — мысленно взмолился Алексей Петрович, боясь нарушить свое душевное равновесие, установившееся где-то после Курского сражения, вглядываясь в вырастающую перед ним арку ворот с какой-то готической надписью.
Вырвавшийся из ворот навстречу вездеходу гул многочисленной толпы отвлек Алексея Петровича от воспоминаний, от желания прочесть надпись на арке, заставил приподняться на сидении и впиться взглядом в рассеивающуюся пыль, поднятую катящим впереди «виллисом».
Вездеход остановился сразу же за воротами, и взгляду Алексея Петровича открылась просторная площадь, запруженная людьми, одетыми кто во что: в полосатую или серую арестантскую робу, с нашивками на спине, груди и рукавах, но в большинстве — в красноармейскую форму, только без погон и ремней, почти без головных уборов, очень многие — босиком.
Их было тысячи две, от силы — две с половиной, и на первый взгляд они походили на окруженцев июля-августа сорок первого: таких же поизносившихся, исхудалых и обросших, одичалых и потерявших уверенность в себе, которых еще не успели экипировать и поставить в строй. Пройдет несколько дней, их сводят в баню, выдадут обмундирование, и они станут похожи на настоящих солдат. А пока… пока надо объяснить, как все это будет происходить, да заодно рассказать о текущем моменте.
В сорок первом Алексею Петровичу доводилось присутствовать при таком перевоплощении толпы в воинскую часть, и часто возникало удивление, смешанное с восхищением, как эти люди, потерявшие воинский, а иногда и человеческий облик, умудрились не рассеяться по лесам, не осесть по деревням, не сдаться немцам, сохранить единство воли и цели, пробиться к своим, потому что не каждой попавшей тогда в окружение воинской частью командовали офицеры, похожие на майора Матова. Но то были совсем другие толпы, отличающиеся от этой даже внешне. То были толпы вооруженных, хотя и смертельно уставших, оборванных и оголодавших людей, которым для перевоплощения в воинскую часть достаточно было построиться в колонну. А эти…
Глава 7
Толпа стояла к Алексею Петровичу спиной и с напряженным вниманием вслушивалась в речь подполковника Ланцевого, которую он выкрикивал с высокого деревянного помоста, огороженного перилами. Иногда по толпе будто проходила судорога, раздавался сдержанный гул не то ропота, не то одобрения.
Алексей Петрович выбрался из вездеходца и огляделся: колючая проволока в три ряда, вышки, — правда, уже без охранников, — длинные бараки, административный корпус, а забор только с лицевой стороны, со стороны ворот, чтобы от дороги не было видно, что скрывается за этой засекой. Немцы ничего, похоже, здесь не изменили. Разве что воздвигли непонятное сооружение посреди площади из трех бревен буквой «п», с вделанными в перекладину крючьями. В военных городках к таким же крючьям цеплялись канаты и шесты, лазая по которым, красноармейцы набирались сил и сноровки. Но в лагере для военнопленных…
Сразу же за забором на некотором расстоянии от толпы стояли два танка: зеленая тридцатьчетверка и пятнистый немецкий Т-IV, из открытых люков выглядывали танкисты. А еще «студебеккер», заполненный красноармейцами, казавшимися одинаковыми из-за одинаковых касок, сидоров за спиной и торчащих в одну сторону автоматных стволов.
Алексей Петрович приблизился к толпе и почувствовал запах гниения, тлена, густо исходивший от человеческих тел. Запах был настолько силен, что к горлу Алексея Петровича подступила тошнота. С трудом проглотив комок, он вгляделся в стоящих перед ним людей. И непроизвольно зажмурился.
Впервые в Алексее Петровиче его писательская сущность, привыкшая всегда и во всем видеть лишь натуру для описания и осмысления, не подала свой иронически-насмешливый голос, будто захлебнувшись тошнотой сущности плотской. Впервые в его голове не шевельнулось ни единой мысли, впервые его тело парализовало нечто более сильное, чем страх, отвращение или сострадание. Казалось бы, чего-чего он только не повидал в своей жизни — как просто жизни, так и связанной с его журналистской профессией, которые шли, не соединяясь, параллельно друг другу, — каких только ужасов не насмотрелся на войне. И вроде бы привык ко всему. Ан нет, оказывается, еще не все видел, не все знает, не все пережил.
Кто-то тронул его за рукав. Чей-то тихий голос спросил:
— Вам плохо?
Алексей Петрович открыл глаза и встретился с глазами человека, из глубины которых, как показалось Алексею Петровичу, на него смотрела сама Смерть, смотрела с любопытством и ожиданием. Такого взгляда не было даже у отца, сжигаемого чахоткой, незадолго до смерти. Не так смотрели на него в медсанбатах умирающие от ран, не те были глаза у дезертира, стоящего на краю выкопанной им самим могилы под дулами карабинов расстрельного отделения.
— Нет-нет, ничего! — поспешил отвести свой взгляд Алексей Петрович, но встретился с такими же взглядами других. А еще эти облезлые, как у бездомных кошек, затылки, тонкие шеи с проступающими позвонками и острыми кадыками, оттопыренные большие и прозрачные уши, узкие плечи, будто оттянутые вниз непомерной тяжестью, длинные плети рук с широкими ладонями, и почти у всех кожа покрыта язвами, коростой…
— На вас лица нету, — пояснил все тот же человек, продолжая смотреть на Алексея Петровича все тем же неживым взглядом.
— А-а, ничего, ничего, — торопливо ответил Алексей Петрович и, чтобы как-то отвлечься от этих взглядов, полез в карман за портсигаром.
Теперь уже десятки глаз смотрели на него, следили за каждым его движением. Однако в них, в этих глазах, не чувствовалось ни желания закурить, ни радости от того, что пришла долгожданная свобода. Они просто смотрели на него, на его руки, смотрели без любопытства, без зависти, без желаний, как может смотреть животное, но не всякое животное, а… а черт знает какое!
Алексей Петрович спохватился, почему-то покраснел и протянул им свой портсигар.
— Закуривайте, товарищи! — и нечто осмысленное, нечто подобие улыбки появилось на этих неживых лицах только оттого, что он назвал их товарищами.
Они брали папиросы аккуратно, двумя пальцами, предварительно обтерев руки о гимнастерки или штаны, нюхали папиросы, рассматривали их, как вещь незнакомую или напрочь забытую. Когда осталась в портсигаре последняя, чья-то рука в красной коросте замерла над ней и не решилась взять.
— Берите, берите! — воскликнул Алексей Петрович. — У меня есть еще! — и полез в свою полевую сумку, где хранился запас папирос «Казбек», которыми он разжился в штабе армии.
— А скажите, товарищ подполковник, — спросил тот, что подошел к нему первым, — что теперь с нами будет?
— Как что? — не понял Алексей Петрович, отдавая в чьи-то руки зажигалку, и через силу заглянул в глаза спрашивающего: там, в глазах, похоже, что-то изменилось: они ожили, в них появился интерес. — А-а, вы вот о чем! — И, стараясь придать своему голосу уверенность и искренность, проговорил: — Вылечат, естественно, кого вернут в строй, кого на гражданку, к семьям. А что же еще?
Он говорил, но видел, что они не очень-то ему верят. Да и он сам себе не верил. Потому что, по слухам, естественно было нечто другое. По слухам, освобожденных военнопленных отправляли в фильтрационные лагеря, а потом — и далеко не всех — в действующую армию, а многих офицеров — в штрафные батальоны. И чтобы уйти от этой скользкой темы, Алексей Петрович спросил:
— А вы давно в этом лагере?
— Кто как. Но в основном — недавно, — ответил все тот же человек. И пояснил: — Те, что в сорок первом, те почти все вымерли. Или их отправили в райх… в Германию то есть, — поправился он и с испугом глянул на Алексея Петровича, а тот отметил про себя, что Германию он называет по-немецки: «райх», а не по-русски: «рейх». — Даже от сорок второго здесь нет почти никого. В основном — конец сорок третьего и начало сорок четвертого. Правда, пригнали тут месяц назад сотни две из Прибалтики, так те почти все из сорок первого.
— А вы?
Только теперь Алексей Петрович как следует разглядел этого человека: ему было вряд ли больше двадцати пяти, но выглядел он, как, впрочем, и все остальные, стариком: кареглаз, широкоскул, с правой стороны нижней челюсти, судя по глубокой впадине, почти нет зубов, на щеке шрам, скорее всего, от осколка, с этой же стороны и ноздря как бы поддернута, лицо в красных язвах, голова в струпьях.
Алексей Петрович побывал как-то — еще до войны — в лепрозории, что в Астраханских степях, так там примерно то же самое. Только без этой худобы.
— Я-то? — переспросил скуластый. — Меня в марте взяли. Под Мозырем…
Он говорил короткими фразами, с придыханием, будто ему не хватало воздуха, будто разговор отнял у него последние силы, и Алексей Петрович с ужасом подумал: «Это за… март, апрель, май, июнь, — посчитал он, — это всего за четыре-то месяца человек превратился в труп!» И тут же снова вспомнил Петра Степановича Всеношного в Березниковском лагере: тот через полгода был не лучше. И весь покрыт фурункулами. А еще блокадников Ленинграда зимы сорок второго года…
А скуластый, переведя дыхание, продолжал:
— Разведка боем. Ворвались в окопы. Дальше не помню. — И заключил: — По-всякому в плен попадают… — Передохнул, спросил: — А вы, простите, товарищ подполковник, не по интендантской части? — Фраза оказалась слишком длинной, скуластый человек задохнулся и часто задышал открытым ртом.
Алексей Петрович догадался, что стоит за этим вопросом, да и форма его, полученная совсем недавно в Москве, сшитая по новой армейской моде, существенно отличалась от того, во что были одеты остальные командиры бригады, хотя бы и тот же подполковник Ланцевой, и что довелось, скорее всего, видеть этому татарину до пленения. Так что на интенданта Задонов походил вполне.
Он улыбнулся.
— Нет, товарищи, я не из интендантов и не из… — он хотел сказать: «и не из Смерша», но не решился. — Я журналист, из «Правды». И очень рад, что мне выпало стать свидетелем вашего освобождения из плена. (Потом, после долгих размышлений, он, перечисляя подвиги танкистов, вставит в репортаж лишь одну мимолетную фразу, что, мол, бригада полковника Петрадзе освободила два лагеря с военнопленными, но и эту фразу вычеркнет редактор.)
Его последние слова вызвали среди тех, кто его окружал, оживление, на лицах появились улыбки, будто встреча с корреспондентом «Правды» сулила им немедленное возвращение к прежней жизни без всяких последствий за попадание в плен.
Скуластый, скупо улыбнувшись, зажал папиросу в кулаке, вытянулся, произнес:
— Разрешите представиться: старший лейтенант Долгушин. Из Москвы… Жил на Стромынке… Как там Москва, товарищ подполковник?
— Стоит, — улыбнулся Задонов. — Были небольшие разрушения, теперь все починили, поправили. Правда, затемнение еще не отменили, но Москва живет уже почти по-довоенному.
— Да-а, увидеть бы, — мечтательно вымолвил Долгушин.
— Увидите, — уверенно пообещал ему Алексей Петрович.
Между тем признание в своем корреспондентстве как бы предоставило Задонову право и на более щекотливые вопросы. Его особенно заинтересовал несомненный факт, что в этом лагере собраны практически одни русские, или, если точнее, славяне, потому что поговаривали, будто немцы узников своих лагерей разделяли по национальному признаку.
— В этом лагере, что же, одни русские? — спросил Алексей Петрович оглядываясь, чтобы вопрос прозвучал как бы между прочим: увидел, удивился и спросил — ничего особенного.
Ответил все тот же старший лейтенант Долгушин, действительно нисколько не удивившись вопросу корреспондента:
— В основном русские. Немцы сразу же, как наши попадают к ним в плен, отделяют от основной массы мусульман — этих направляют в мусульманские батальоны, прибалтов — этих к своим, пусть там разбираются, западников — тоже отдельно, ну и кавказцев — само собой. Из наших, из русских, вербовали к генералу Власову…
— И что же? Я имею в виду последствия этой селекции…
— Кто ж его знает, товарищ подполковник. Тут о себе самом не знаешь, что сказать. А чтобы о других… — И вновь Долгушин тяжело задышал, закашлялся, прижимая ладонь к горлу.
Алексей Петрович деликатно отвернулся и огляделся по сторонам. Бывшие пленные смотрели на него с ожиданием, в то же время прислушиваясь к тому, что говорил с трибуны подполковник Ланцевой:
— … вслед за нами идут основные силы Красной армии, и тогда вопрос о вашей дальнейшей судьбе решится по всей форме, — выкрикивал Ланцевой, поворачиваясь из стороны в сторону.
— А что охрана? — спросил Алексей Петрович, чувствуя неловкость и за свой шикарный новенький китель, и за необоснованные надежды, которые читались в глазах этих людей, — надежды, как ему казалось, связанные с ним, Алексеем Задоновым.
Бывшие военнопленные, столпившиеся вокруг него и сосредоточенно дымящие папиросами, тоже оглянулись, словно вопроса об охране лагеря перед ними до этого и не стояло.
— Так что охрана… — произнес высокий длиннолицый человек в серой брезентовой куртке. — Сбежала. Только вон, — и он кивнул на кучу полураздетых трупов возле административного здания, — эти только и не успели.
— А вон те? — спросил Алексей Петрович, показывая на ровные ряды совершенно голых трупов у колючей проволоки.
— Это наши. Сегодня утром каждого десятого. Децимация называется. Последнюю неделю они нас почти не кормят, а стреляют… — и говоривший махнул рукой. Остальные покивали головой в знак согласия. И все это так спокойно, так естественно, будто речь шла не о смерти, а о чем-то малозначащем, несущественном, не имеющем к ним никакого отношения.
Алексей Петрович онемел, он расхотел спрашивать, хотя они по-прежнему смотрели на него с ожиданием; он лишь тупо озирался по сторонам, не находя, за что зацепиться взглядом. Ведь он мог оказаться среди них, мог вот так же привыкнуть к чужой смерти, к равнодушному ожиданию своей. Неужели в нем не осталось бы ни желания славы, ни хотя бы желания увидеть, как оно все будет после войны?
В это время подполковник Ланцевой закончил свою речь каким-то, видимо, указанием, толпа зашевелилась, пришла в движение, поначалу медленное и будто бы неупорядоченное, но постепенно все убыстряющееся. Она обтекала Алексея Петровича, оказавшегося в центре человеческого водоворота, он ловил на себе короткие и настороженные взгляды, и вот они выстроились по периметру плаца, в центре которого находился помост и бревенчатая арка с железными крючьями, выстроились так, как, судя по всему, их строили здесь каждый день, с той лишь разницей, что среди них теперь виднелись люди с немецкими автоматами и винтовками, а перед каждой колонной на земле стояли пулеметы, снятые, скорее всего, с вышек.
Замершие ряды, да два офицера на помосте, да ряды раздетых трупов у забора, да куча, но уже внешне других трупов, у административного корпуса, — только тогда Алексей Петрович охватил взглядом всю эту картину и догадался, что арка была вовсе не спортивным сооружением, а виселицей, и ему показалось, что бывшие военнопленные выстроились затем, чтобы стать свидетелями и участниками новой казни, а он, Алексей Задонов, торчащий будто шпынь посреди голого плаца, и есть тот — обреченный на казнь. И хотя это было не так, совсем не так, ноги у Алексея Петровича будто приросли к каменистому плацу, во рту пересохло, а в глазах поплыли огненные мухи.
«Я когда-нибудь умру от одного только представления собственной смерти», — вяло подумал он.
Раздалась команда, ряды заключенных заколыхались, строй за строем потянулся вон из лагеря, и Алексей Петрович медленно вернулся к действительности.
Подошел подполковник Ланцевой, а с ним незнакомый капитан в общевойсковой форме, тонкий, как тростинка.
— Ну, как, видели? Успели поговорить? Будете писать? — закидал Ланцевой вопросами Алексея Петровича. И только потом представил: — Капитан Ярешко, из Смерша.
— Вам бы журналистом быть, — польстил снисходительно Алексей Петрович Ланцевому, снова становясь обычным Алексеем Задоновым, то есть жизнелюбом и ерником, успевшим заметить, что замполит очень любит, когда отмечают его способности и заслуги, и по всегдашней привычке решил разыграть чужую слабость. — Уж больно вы падки на вопросы. От начальства, небось, попадает?
Подполковник Ланцевой хохотнул обрадованно, как бы подтверждая догадку Алексея Петровича насчет начальства. Но тут же посерьезнел и, предупреждая вопросы Алексея Петровича, пояснил, кивнув в сторону проходящих колонн:
— Уводим в лес. Брать с собой не можем, оставить здесь тоже нельзя: мы уйдем, а тут снова немцы… Вот капитан берет их под свою опеку.
Капитан поднял скучающий взгляд к безоблачному небу.
— А как же с питанием? Да и одеты они…
— Ну, с питанием что-нибудь подбросим, так не оставим. Здесь, в лагере, кое-что, говорят, есть, да в поселке соберем. А с одеждой — так не зима ведь, как-нибудь перекантуются. Это ж ненадолго: за нами идет корпус, за ним армия. — И уже жестко: — Не надо было в плен попадать.
При этих словах подполковника Ланцевого капитан Ярешко бросил внимательный взгляд на Алексея Петровича, будто ожидая от него возражения.
— С вашего разрешения, — насмешливо произнес Алексей Петрович, слегка склонив голову в сторону капитана, — я загляну в бараки. Для, так сказать, уяснения общей картины.
— Я вами не командую, — произнес капитан хриплым баском, кинул руку к фуражке и пошел к машине, подрагивая ягодицами.
— Да, вы вот что, — будто извиняясь за нелюбезность смершевца, просительно заговорил подполковник Ланцевой. — Вы только особенно здесь не задерживайтесь. Да и-и… советую проявлять разумную осторожность: тут можно и заразу какую-нибудь подхватить. Сами видели, какие они…
— А как вот с этими? — спросил Алексей Петрович, показывая на ряды трупов у колючей проволоки. — Так и оставите?
— А что прикажете делать? — в свою очередь задал вопрос подполковник Ланцевой. — Бригада через час будет далеко от этого места, авиаразведка сообщает, что немцы стягивают в направлении прорыва свежие части. Нам задерживаться нельзя. Им… (кивок в сторону колонны военнопленных) — тоже. Сейчас надо думать о живых. — И заторопился: — Так я поехал, а вы догоняйте.
Через полчаса вездеход покидал лагерь, колонна бывших военнопленных уже втягивалась в лесной массив, и лишь хвост ее все еще шаркал между полотнищами вырубок.
И Алексею Петровичу показалось, что это не пеньки стоят вдоль дороги, а одеревеневшие человеческие обрубки, сама же колонна уходит куда-то, где ее ждет точно такая же участь. На мгновение у него возникло желание догнать колонну, что-то сделать для этих людей или, по крайней мере, что-то предотвратить, но желание было мимолетным, как многие другие подобные желания, и даже, может быть, не желание вовсе, а сожаление о собственном бессилии при ясном понимании неотвратимости происходящего.
«А что прикажете делать?» — повторил он про себя слова подполковника Ланцевого, усаживаясь в вездеход. Приказать было нечего.
Глава 8
До Столбцов танковая бригада полковника Петрадзе, усиленная стрелковым батальоном и артиллерией, не дошла километров десяти, наткнувшись на небольшую речушку с топкими болотистыми берегами. Единственный деревянный мост, через который дорога шла напрямик к Столбцам, был взорван. К тому же с той стороны реки разведку обстреляли из пулеметов и минометов.
Быстро темнело. С запада надвигалась туча, брюхо ее пульсировало сполохами молний. Перед тучей, золотясь в лучах уже спрятавшегося за нее солнца, кружила «рама», что-то выглядывая на земле.
Танки, машины — все втянулось в лесную чащу, оставив песчаный проселок пустынным, изрытым глубокими колеями.
Разведчики приткнули вездеход между двумя могучими соснами и принялись натягивать на него брезентовый тент. Из проезжавшей мимо походной кухни раздобыли несколько котелков горячей пшенной каши с американской свиной тушенкой, внутри вездехода под тентом зажгли крохотные лампочки, присоединив их к аккумулятору, раздвинули металлический стол, накрыли его белой скатертью, оказавшейся под сидением в железном ящике, на скатерть поставили котелки, кружки, две бутылки трофейного шнапса.
— Товарищ подполковник! — обратился к Алексею Петровичу сержант Лахтаков. — Прошу к столу… пока горячее.
Алексей Петрович оторвался от своего блокнота, куда записывал впечатления насыщенного событиями дня. Вообще-то он рассчитывал, что за ним пришлют от полковника Петрадзе, но, видать, комбригу было не до корреспондента. И подполковнику Ланцевому тоже.
— Что ж, к столу так к столу, — произнес Алексей Петрович, закрывая блокнот.
— Если хотите умыться, так я могу слить, товарищ подполковник, — предложил Лахтаков. И пояснил: — Тут вода вроде бы рядом, а только до нее не так-то просто добраться: топко. Однако мы две канистры воды принесли на всякий случай.
— Да, умыться не мешает, — согласился Алексей Петрович и, выбравшись из машины, снял китель, повесил его на сук и стал стаскивать с себя пропотевшую и пропылившуюся рубаху. На потное тело тотчас же набросились комары. — Лейте, сержант, пока меня не съели! — воскликнул он, похлопывая себя ладонями по белому телу.
Вода была студеной, пахла болотом и бензином. Алексей Петрович тер ладонями грудь и живот, бока и шею, ухал, кряхтел от удовольствия, и ему казалось, что вместе с водой с него стекает не только пыль и пот, но и усталость.
Сержант набросил на Алексея Петровича вафельное полотенце, совершенно чистое и даже, похоже, накрахмаленное. Вытираясь им, Алексей Петрович заметил черный штамп с орлом и свастикой и лишний раз подивился тому, как немцы умеют даже в условиях войны поддерживать комфорт и блюсти личную гигиену. И не только офицеры. Правда, исключительно в более-менее сносных условиях. А зимой под Москвой, потом под Сталинградом он видел их завшивевшими, в чирьях и коросте…
Когда впятером расселись за столом на откидных бортовых лавках, выпили по полстакана шнапса, гроза добралась и до них, обрушив на тент потоки воды под ослепительные вспышки молний и неистовые раскаты грома.
— Как бы нам тут не застрять! — стараясь перекричать гул дождя, стоны деревьев и почти не умолкающую небесную канонаду, поделился Алексей Петрович своими опасениями с разведчиками.
— Ништяк, товарищ подполковник! Прорвемся! — кричал ему почти в самое ухо сержант Лахтаков. — За ночь саперы гати наладят, рванем на Столбцы на третьей скорости.
Алексей Петрович представил себе, как под этим ливнем, в темноте, освещаемые лишь вспышками молний, саперы валят деревья, волокут их по болоту, укладывая одно к другому, чтобы к утру по этим хлипким переправам могли пройти танки и машины.
А сержант уже протягивал ему следующие полстакана, и Алексей Петрович, мысленно махнув рукой: все равно дождь, гроза и ночь, ничего, следовательно, не предвидится интересного, — пил наравне с солдатами, ел кашу из одного котелка с сержантом, и не запомнил, как очутился на надувном матрасе под пятнистой плащ-накидкой.
Уже засыпая, он слышал голос подполковника Ланцевого, спрашивающего о нем, и голос сержанта, докладывающего, что товарищ корреспондент поужинали и теперь спят.
Алексея Петровича разбудили голоса. Снаружи слышались чавкающие по мокрой земле шаги. Кто-то, остановившись рядом с вездеходом, произнес с явной завистью:
— Вот Матушка-Расея: дрыхнет себе без задних ног, хоть тепленькими бери. Даже часовых не выставили…
— Да, энти, видать, сорок первого не нюхали, — произнес другой голос, сиповатый и какой-то еще более чужой и даже, как показалось Алексею Петровичу, враждебный.
Он открыл глаза. Целлулоидное оконце в брезентовом пологе светилось солнечным светом, сноп желтых лучей освещал спящих на откидных скамейках разведчиков, закутанных с головой в плащ-накидки. Слышался густой храп, сонное бормотание и звучная капель где-то около самой головы.
Алексей Петрович откинул пятнистую ткань, сел на надувном матрасе, к горлу подступила легкая тошнота, но он проглотил ее, принялся с ожесточением тереть лицо, голову и уши ладонями, приводя себя в чувство. Голова была тяжелой, при каждом движении в ней что-то тупое пыталось продавить черепную коробку. Нащупав сапоги, он стал обуваться, лениво поругивая себя за то, что позволил себе напиться до скотского состояния.
А вокруг вездеход продолжали чавкать осторожные шаги и слышаться приглушенные голоса.
Вот шаги замерли возле машины, одна часть полога слегка сдвинулась, в образовавшуюся щель хлынул яркий утренний свет, вместе с ним в машину заглянул обросший многодневной щетиной человек в немецкой пилотке, пошарил по вездеход глазами, встретился взглядом с Алексеем Петровичем, кашлянул, спросил не слишком уверенно:
— Простите, товарищ… э-э… командир. Где бы нам начальство какое найти? А то ходим тут, все спят, как убитые, и ни одного офицера.
— Начальство? — переспросил Алексей Петрович, ничего не соображая. — Начальство — оно где-то впереди. А вы, собственно говоря, кто будете?
— Да мы-то… — замялся спрашивающий, и у Алексея Петровича заныло в груди от дурного предчувствия. — Мы-то… Да вы одевайтесь, товарищ командир, мы вас тут рядышком подождем.
Голова в немецкой пилотке пропала, узкая щель погасла, Алексей Петрович крепко зажмурился и тряхнул головой.
Послышались удаляющиеся шаги, чей-то хрипловатый голос спросил:
— Ну, что там?
— Там какой-то подполковник, кажись. Одеваются. Счас выйдут.
Тот же хрипловатый голос, негромко, но властно, скомандовал:
— В колонну по четыре… станови-ись! — Подождал малость, пока утихли шаркающие и топающие звуки, бряцание оружия, и несколько громче: — Нале-е-е… ву! Равняйсь! Сми-иррна! — Снова пауза, и уже на падающей ноте: — Вольно!
Алексей Петрович, с тревогой прислушиваясь к этим командам, натянул-таки сапоги, стал выбираться из вездехода, прихватив свой китель. По пути к боковой дверце он несколько раз встряхнул кого-то, завернутого в пятнистую накидку, но человек лишь замычал, просыпаться явно не желая.
Выбравшись на волю, Алексей Петрович зажмурился от яркого солнца, ударившего из-за деревьев прямо ему в лицо, отвернулся и увидел колонну людей человек в пятьдесят, стоящую чуть поодаль, на небольшой полянке, подбегающих с разных сторон и вливающихся в эту странную колонну еще несколько человек.
Люди были одеты в серого сукна тужурки, перепоясанные брезентовыми ремнями, в такого же цвета штаны, обуты в короткие немецкие сапоги, на головах пилотки, по форме немецкие, но чем-то от них и отличающиеся, а сбоку на пилотках темные следы от сорванных нашивок; и на рукавах тоже, и над левым карманом. И все вооружены немецкими автоматами.
«Власовцы», — обожгла Алексея Петровича запоздалая догадка, пока он, оглядываясь по сторонам, натягивал на себя китель и застегивал пуговицы плохо слушающимися пальцами.
А кругом стояли танки и машины, по всему лесу звучала капель, курился туман, и в его голубовато-золотистой плоти тонули другие танки и машины, стволы сосен и елей; ярко вспыхивали на солнце, упорно пробивающемся сквозь деревья и туман, игольчатые звезды щедро рассыпанных по лесу алмазов.
Иногда кто-то вынырнет из тумана, справит малую нужду под сосной и снова нырнет в туман, ничуть даже не поинтересовавшись, что это за колонна такая, что за люди.
Командовал колонной коренастый человек лет сорока, с лицом, изборожденным глубокими морщинами. Он стоял чуть впереди, наособицу, и вежливо ожидал, пока Алексей Петрович справится со своим кителем. Когда же это наконец произошло, повернулся к колонне, резко бросил:
— Равняй-йсь! Смир-рна! Равнение направо! — И пошагал к Алексею Петровичу строевым шагом, приложив к пилотке руку и вскинув небритый подбородок.
— Товарищ подполковник! Вверенное мне подразделение в количестве пятидесяти восьми человек добровольно переходит на сторону Красной армии. В боевых действиях против Красной армии участия не принимали. Доложил бывший капитан Красной армии Сорванцов. Какие будут распоряжения, товарищ подполковник?
— Распоряжения? Я, собственно… Впрочем, вольно!
Офицер-власовец повернулся кругом, скомандовал:
— Вольно! — опустил руку и снова повернулся к Алексею Петровичу лицом.
В его серых, умных, близко посаженных глазах Алексей Петрович не заметил ни страха, ни покорности, одно лишь нетерпение и некоторое недоумение, что подполковник ведет себя как-то не совсем так, как бы должен себя вести строевой офицер Красной армии.
Колонна качнулась, по ней прошел легкий гул и замер.
Алексей Петрович стоял без фуражки, без портупеи, стоял, прижав руки к бедрам и лихорадочно соображал, что же ему делать, отмечая в то же время, что куртка на капитане Сорванцове промокшая, штаны тоже, значит, ночь провели под открытым небом, под дождем, что ноги у Сорванцова кривоватые (может, служил в кавалерии), тело плотное, сильное, сквозь облепившую его мокрую одежду проступают лепешки грудных мускулов, под рукавами бугрятся широкие бицепсы, и не попади он в плен, как знать, может, командовал бы сейчас в Красной армии полком или дивизией.
И тут Алексей Петрович сзади себя услыхал изумленный возглас сержанта Лахтакова:
— Мать честная! Так это ж власовцы!
Обрадовавшись, что наконец-то он не один и можно часть ответственности переложить на другого, Алексей Петрович обернулся на этот возглас и произнес, стараясь вложить в свой штатский голос хоть какие-то командирские интонации:
— Товарищ сержант! Разыщите, пожалуйста, подполковника Ланцевого или же комбрига. Пожалуйста, побыстрее. И доложите… Пожалуйста! — уже тверже добавил Алексей Петрович, увидев, как с машин, разбуженные громкими командами, стали спрыгивать солдаты, как открывались танковые люки, из них выглядывали чумазые танкисты, как из редеющего тумана появлялись все новые и новые красноармейцы… Они молча, кто с удивлением, кто с любопытством, а кто и с нескрываемой враждебностью рассматривали невесть откуда взявшихся в гуще спящей бригады людей в чужом обмундировании, с чужим оружием, обступая этих людей плотной массой.
Кто-то из разведчиков протянул Алексею Петровичу фуражку и портупею с кобурой. Поблагодарив, Алексей Петрович натянул фуражку на голову, перепоясался и сразу почувствовал себя увереннее.
Где-то вдалеке прозвучала короткая очередь крупнокалиберного пулемета. Все головы, как по команде, повернулись в ту сторону, новой стрельбы не последовало, и головы точно так же вернулись в нормальное положение. Все чего-то ждали. Ждали и власовцы, переминаясь с ноги на ногу и стараясь не смотреть на окружающих их соотечественников.
Капитан Сорванцов, что-то такое поняв, приблизился к Алексею Петровичу, спросил негромко:
— Простите, товарищ подполковник! Прикажете положить оружие?
— Да-да! Конечно! Конечно! — поспешно согласился Алексей Петрович. Он хотел добавить что-то еще, как-то оправдать, что ли, свое поспешное согласие, но капитан Сорванцов уже зычно, на весь лес, отдал команду:
— Первая шеренга… два шага вперед… арш! Ор-ружие… по-о-оло-жить!
Первая шеренга шагнула вперед, остановилась, сняла через голову автоматы, положила у ног, принялась торопливо расстегивать пояса с висящими на них подсумками с запасными рожками, с немецкими кинжалами, саперными лопатками и гранатами. Несколько секунд слышался шорох, осторожный лязг металла. Но вот первая шеренга перестала кланяться, вытянулась, сделала два шага назад, пропустила следующую. И снова шорох, лязг, земные поклоны.
Когда все четыре шеренги положили оружие, капитан Сорванцов вынул из кобуры «парабеллум», взял его за ствол и протянул Алексею Петровичу. Тот принял оружие, повертел его в руках, оглянулся, кому бы отдать, кто-то из разведчиков, стоящих сзади, протянул руку, и он вложил пистолет в эту руку.
— У меня в сумке, — произнес Сорванцов, снимая через голову немецкую офицерскую сумку, — карты района, на которых обозначено расположение всех немецких частей, мостов, оборонительных позиций и так далее. Вот, возьмите.
— Нет, — отстранил сумку Алексей Петрович. — Лучше будет, если вы сами отдадите ее командованию.
Нарастающий ропот в окружающей власовцев солдатской массе, как показалось Алексею Петровичу, не сулил власовцам ничего хорошего. Наверное, надо бы приказать всем разойтись по своим местам, но Алексей Петрович ни разу никем не командовал, вообще не умел говорить громко и властно, а ни одного строевого офицера, который наверняка знает, что делать в таких случаях, не видать, хотя они где-то рядом, но не высовываются, то ли потому, что и сами не знают, что надо делать в подобном случае, то ли потому, что уверены: неизвестный им подполковник и так делает все, что положено.
А капитан Сорванцов стоял в трех шагах от Алексея Петровича и явно ждал каких-то распоряжений.
— Да, капитан, — заговорил Алексей Петрович, и Сорванцов приблизился к нему еще на шаг. — Я, понимаете ли, всего лишь военный корреспондент и, право, ни разу не имел случая, так сказать… А вы не могли бы мне ответить на один вопрос?
— Я весь к вашим услугам, товарищ подполковник.
Гул и ропот сразу же стихли, все головы повернулись к Алексею Петровичу и командиру власовцев.
— Да, у меня вот какой вопрос… — замялся Алексей Петрович под напряженными взглядами сотен пар глаз. — Впрочем, это не так уж важно, это еще успеется…
— Я готов ответить на любой ваш вопрос, товарищ подполковник! — громко и с явным вызовом произнес Сорванцов, резко повернулся к Задонову спиной, стремительно вышел на середину, снял свою пилотку, обнажив почти совершенно седую голову.
Алексей Петрович догадался, что бывший капитан хочет вот сейчас и именно перед этой солдатской массой оправдаться или, по крайней мере, объяснить, почему он, русский человек и русский офицер, и его подчиненные, тоже русские же люди, оказались в стане врага, надели на себя чужую форму, почему они стоят сейчас не в ряду как молодых красноармейцев, так и тех немногих ветеранов, кто отступал от границы, дрался, выстоял под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, кто не поднял руки вверх и теперь шел назад, отвоевывая свою землю, и только поэтому вынудил предателей сложить перед ними свое оружие, полученное из рук ненавистного врага.
Но едва догадавшись о желании Сорванцова, Алексей Петрович догадался и об остальном: выступление бывшего капитана могут расценить как пропаганду антисоветских взглядов, может быть даже, как провокацию, и именно он, подполковник Задонов, станет причиной всего этого безобразия. В нем заговорил журналист, привыкший оценивать каждое слово с политических позиций, быть самому себе цензором и редактором, и этот многоопытный журналист испугался до неприятного холодка в животе и мурашек по спине, но не знал, как остановить Сорванцова.
— Да, мы бывшие власовцы! — громко и зло, на весь лес выкрикнул Сорванцов. И спросил с вызовом: — Хотите знать почему?
— Ничего мы не хотим! — крикнул кто-то из окружающих власовцев солдат. — Неча нам лапшу на уши вешать! И так все знаем!
— Не хотите? А я вам все-таки скажу. Лично я попал в плен, оглушенный взрывной волной. И многие из них (взмах рукой за спину, где стояли его солдаты) дрались до последнего и попали в плен не по своей воле. А потом концлагеря, голод, унижения, близкая смерть. — Сорванцов взмахнул рукой, как бы отсекая всякие возражения: — Да, мы хотели жить! Но к Власову мы пошли не для того, чтобы воевать против своих, а чтобы выжить и при первой же возможности вернуться к своим. Чужих, действительно продавших родину, мы сами прикончили. И немцев…
— О-отста-ави-ить! — раскатисто прозвучал за спиной Алексея Петровича властный голос подполковника Ланцевого. — По-о машина-ам! Пригото-овиться к движению-у!
Алексей Петрович вздрогнул и обернулся, но подполковник Ланцевой, даже не взглянув в его сторону, прошел мимо, сопровождаемый старшим лейтенантом-смершевцем, а десятка два автоматчиков уже оцепляли колонну власовцев.
Солдаты поспешно разбегались, лезли на машины, на танки; зазудели стартеры, утробным танковым рыком наполнился лес, сизые дымы слились с редеющим туманом и поплыли вверх.
Подошел сержант Лахтаков, небрежно кинул руку к пилотке.
— Товарищ подполковник! Вас просит к себе комбриг.
— Да-да! Конечно, — откликнулся Алексей Петрович, не в силах оторвать взор от колонны власовцев и ее командира.
Кого-то напомнил ему Сорванцов из прошлого… Алексей Петрович покопался в своей емкой памяти и вспомнил: командарма Блюхера, у которого он когда-то брал интервью. Такой же крепкий голыш, обкатанный непогодами, и также смахивает на Кудияра-разбойника.
Алексей Петрович забрался в вездеход, где все уже было прибрано и ничто не напоминало о вчерашней попойке. Едва он уселся и схватился рукой за скобу, как машина рванула с места и пошла петлять между деревьями, выбираясь на дорогу.
«Надо было, — запоздало думал Алексей Петрович, глядя по сторонам, — спросить у Сорванцова, откуда он родом, есть ли семья… А впрочем, не все ли равно».
— Как вы думаете, товарищ подполковник, что с ними будет? — нарушил молчание сержант Лахтаков и с любопытством поглядел на Задонова хитрющими серыми глазами.
— Не знаю, — пожал плечами Алексей Петрович: ему не хотелось разговаривать.
— Кокнут, — уверенно заявил сержант. — Я когда доложил замполиту, что власовцы, мол, на нашу сторону перешли, дак он как обрезал: «Не перешли, — говорит, — а сдались». Вот так-то. А у нас приказ: пленных не брать… Кокнут, как пить дать кокнут. Дак вить оно и верно: власовцы — власовцы и есть. Они, товарищ подполковник, лютее немцев воюют: деваться-то некуда.
Алексей Петрович удрученно покивал головой.
— А замполит наш — мужик ничего, — вдруг объявил сержант Лахтаков, склонившись к Задонову. — Нормальный мужик, товарищ подполковник, — добавил он для убедительности.
Алексей Петрович глянул в плутоватые глаза сержанта, увидел в них сочувствие и догадался, что тот имел в виду, благодарно кивнул ему за эту успокоительную нотку.
Подъезжали к гатям. Их было две, одна от другой метров на сто. По ним уже перебирались танки. На той стороне четыре немецких тупорылых грузовика, густо увешанных ветками ольхи, образовали квадрат; из низких кузовов торчали спаренные стволы «эрликонов». На этой стороне, над кустами лозняка, шевелили, будто принюхиваясь, тонкими хоботами наши скорострельные зенитки.
Высоко в небе плавала «рама».
Вдалеке разгорался бой.
Полковник Петрадзе сидел на обрубке березы, ел из котелка, зажатого между колен, свободной рукой прижимая к уху наушник от рации. Рядом стояла «тридцатьчетверка», возле которой суетились танкисты. Заметив подъезжающий вездеход, полковник помахал призывно рукой, что-то при этом крикнув веселое, но крик его потонул в реве танковых двигателей.
Вездеход остановился, Алексей Петрович выбрался из него, подошел к полковнику, тот встал, протянул руку. Спросил:
— Завтракали?
— Спасибо, позавтракал, — ответил Задонов.
— Говорят, вы там разоружили целую роту власовцев, — произнес Петрадзе, широко улыбаясь.
— В этом нет моей заслуги, Тенгиз Георгиевич, — ответил Алексей Петрович и в свою очередь задал вопрос, мучивший его с той минуты, как он пообщался с бывшим капитаном Удальцовым: — А что будет с ними?
— С власовцами-то? — переспросил Петрадзе. — А что прикажете с ними делать? Награждать?
— Но они все-таки перешли сами. У их командира, бывшего капитана Удальцова, имеются документы этого района, карты с дислокацией немецких частей…
— Вот как! — удивился Петрадзе. И, обернувшись, крикнул: — Чулков!
— Я здесь, товарищ полковник! — вырос точно из-под земли молодой лейтенант в танкистском комбинизоне.
— Быстро к Ланцевому! Командира власовцев ко мне! И скажи замполиту, чтобы ничего пока не предпринимал! Одна нога здесь, другая там!
Взревел мотоцикл, лейтенант почти на ходу вскочил в коляску, и мотоцикл, виляя между деревьями, исчез из виду.
Глава 9
— Так что там у вас за документы? — спросил Петрадзе, когда вернувшийся мотоцикл остановился рядом с «тридцатьчетверкой», а из коляски выбрался Сорванцов, спросил так, будто они уже виделись.
— Они у лейтенанта, товарищ полковник! — ответил Сорванцов.
— Чулков!
— Я!
— Где документы?
Чулков подошел, стал вынимать из сумки карты, разворачивать и по одной давать их полковнику.
— Объясните мне, что тут, — обратился Петрадзе к Сорванцову.
— Вот здесь у них проходит линия обороны, — стал объяснять капитан. — Здесь стоит танковый батальон. Двадцать шесть танков, среди них пять «тигров», восемь «пантер» пять «фердинандов». Вот здесь, за рекой, батальон гренадер, правда, едва половинного состава. Здесь батарея стадесятимиллиметровых орудий, здесь, в городе, штаб укрепрайона. Командует полковник Штюрмер. В самом городе расквартированы два пехотных батальона из резервистов по четыреста человек каждый. А также охранная рота, саперная рота, зенитный дивизион. Мосты охраняются повзводно. На вооружении пулеметы, зенитки, противотанковые орудия.
— А вы чем у немцев занимались?
— Наша рота была как бы слита с охранной ротой, — ничуть не смутившись, стал рассказывать Сорванцов. — В роте народ самый разный. Есть чехи, хорваты, словаки. Есть даже русские — из казаков, перекинувшихся к немцам. Нашей ротой командует бывший подполковник Красной армии Хвостов. Он перешел к немцам в сорок втором под Харьковом. Вчера два взвода из нашей роты под моей командой послали в помощь батальону СС, который блокировал деревню Сосновицу, захваченную партизанами. Батальон в основном состоит из латышей, но есть французы, бельгийцы и черт его знает кто еще. Командный состав исключительно из немцев. Мы, семнадцать человек, которым я доверяю полностью, хотели там же, в Сосновице, перейти к партизанам. Я послал к ним своего человека, сержанта Романенко, чтобы договориться, как, где и когда. Но он в темноте заплутал и вышел на латышей. Они его схватили и, хотя он уверял их, что был послан в разведку, они не поверили и передали его в штаб. Я как раз находился в штабе батальона и присутствовал при этой передаче. При мне же они его и начали допрашивать. А меня обезоружили и как бы арестовали. Но тут партизаны стали прорываться или совершили вылазку — не знаю. Короче, началась стрельба. Я воспользовался этим, схватил автомат, который лежал на столе, двух офицеров убил, еще кого-то, кто подвернулся под руку, мы с Романенко выскочили из хаты, прибежали к своим, перебили там тех, кто служил немцам на совесть, остальные согласились идти вместе с нами. Затем атаковали с тыла штаб батальона и ушли в лес. Решили найти партизан и соединиться с ними, а наткнулись на вас. Документы эти я захватил в штабе батальона. Такая вот история, товарищ полковник.
— Что ж, звучит красиво. А до этого где воевали?
— До этого мы проходили переподготовку в Карловых Варах. Это в Чехии. Нас готовили для войны в горах. Большинство из роты до этого воевали против югославских партизан. Нас, кто лишь недавно записался во власовцы, включили в эту роту. Полный курс мы не закончили, и весь батальон перебросили сюда. А здесь рассовали по разным частям и гарнизонам. После того, как целый батальон власовцев перешел к партизанам, немцы перестали им доверять…
— И что прикажешь с вами делать? — спросил полковник Петрадзе. — У меня тут ни следователей, ни прокуроров нет, устанавливать, кто, что и как — некому. Вот ты на моем месте как бы поступил?
— На вашем месте? Если бы это случилось до моего плена, то, скорее всего, приказал бы расстрелять. А теперь, когда прошел через… Впрочем, решать вам, товарищ полковник. Как решите, так и будет… Хотя, честно говоря, умирать от своих — не хочется. Лучше бы в бою, от немцев. У нас с ними свои счеты…
— Армия — не для сведения счетов, — возразил Петрадзе, ероша пальцами свои густые усы.
Сорванцов стоял, смотрел вверх с отрешенным видом.
Алексей Петрович не вмешивался в разговор, но он видел, что Петрадзе колеблется. Да и то сказать, что он может решить? Таскать бывших власовцев за собой? Так еще неизвестно, как все обернется и не перекинутся ли они еще раз на сторону немцев. Но Сорванцов Задонову нравился. Судя по всему, и Петрадзе тоже.
Сорванцов же и предложил выход:
— Разрешите, товарищ полковник?
— Ну?
— Я не знаю, какая стоит перед вами задача, но знаю, что без захвата мостов через Неман и блокирования дороги на Минск вам все равно не обойтись. Если вы вернете нам оружие, я проведу своих бойцов к мостам и, пользуясь знанием пароля на сегодняшний день, постараюсь мосты захватить и удержать до вашего подхода. Вы при этом ничего не теряете, даже если мы вернемся к немцам, то есть если я вам все это наплел. Ну что такое взвод в такой драке? Ерунда! Я понимаю, что вам может влететь от командования, если так именно и случится. Но поверьте мне, советскому офицеру, который почти три года сражался с фашистами… — Сорванцов, заметив ухмылку на лице полковника Петрадзе, вскинул голову: — Вы что думаете, я не знаю, как относятся к власовцам в Красной армии? Очень хорошо знаю. И навряд за те восемь месяцев, что я в плену, отношение это изменилось. И все-таки я решился пойти в армию Власова. Пошел, чтобы выжить и принести своей родине какую-то пользу. И я не один такой в моем взводе. Что касается других, кто пошел с нами, но которых мы не посвящали в свои планы, то с ними разберемся потом… если останемся живы.
— А что говорят о нас немцы?
— Что говорят в штабах, не знаю. Но среди младших командиров и солдат ходят слухи, что фронт прорван, что в сторону Минска движутся танковые и механизированные корпуса. В том числе и в нашу сторону. Среди солдат, особенно среди тех, кого немцы привлекли в свою армию со стороны: чехов там, словаков и прочих, — царит тихая паника. Сражаться за великую Германию им не с руки…
— Мда, задал ты мне задачку, капитан, — проворчал полковник Петрадзе. — Но если все так, как ты говоришь, если карты твои не врут, то мы можем тут здорово немцам насолить. Очень здорово. — И, обратившись к Задонову: — Ну как, товарищ журналист, поверим капитану?
— Я бы поверил, товарищ полковник, — ответил Алексей Петрович.
В это время подъехал «виллис», с него соскочил полковник Ланцевой, выражение лица его было решительным и даже сердитым. Он подошел, спросил, точно выстрелил:
— Что случилось? — и посмотрел подозрительно сперва на Алексея Петровича, затем на капитана Сорванцова.
— А случилось то, что… отойдем в сторонку, — предложил Петрадзе, вставая.
Они отошли шагов на десять.
— Я решил послать их к немцам, чтобы захватили хотя бы один из мостов через Неман, — заговорил Петрадзе в полголоса. — Сами мы ударим севернее Столбцов, а одна рота — вдоль Немана. То есть как раз наоборот, как мы до этого планировали.
— Ты с ума сошел, Тенгиз?
— Э-э, генацвали! Я с ума не сошел. Я… — как бы это тебе объяснить? — я поверил этому капитану. Вот поверил — и все. Глазам его поверил. И пусть потом меня судят. Я сам, как тебе известно, был в плену целых две недели. Бежал, пришел к своим — и мне поверили. Не сразу, но поверили. Почему я не должен верить этому капитану? Пусть идет со своими людьми и возьмет хотя бы один мост. Как только он его возьмет, так к нему на помощь подойдет вторая танковая рота старшего лейтенанта Завалишина. А мы на Столбцы ударим с севера. Красиво будет, генацвали!
— Ну, смотри, Тенгиз: под твою ответственность.
— А ты, что, Николай, умываешь руки?
— Как тебе могло прийти в голову такое, Тенгиз? Мы с тобой не первый год воюем…
— А раз так, значит, и решили вместе: пусть идет.
— Что ж, пусть идет.
Они вернулись к танку. Петрадзе снова уселся на бревно, поманил к себе Сорванцова, похлопал рукой по бревну, произнес:
— Садись, дорогой. Расскажи, как будешь действовать.
— Мне бы пару машин, товарищ полковник. Немецких. У вас есть, я видел. Мы бы напрямик двинули к мостам. Ближе к нам — шоссейный. Рядом с мостом — переезд. Возле него шлагбаум и первый пост. Одна машина останавливается, другая едет к железнодорожному мосту. Командовать второй группой будет старший лейтенант Ягников. Схема обороны мостов одинакова, что здесь, что там. Оба моста заминированы. Захват надо производить одновременно…
— Постой. Два моста захватить сразу — не реально. Всякие случайности исключать нельзя. Да и людей у вас мало. Остановимся на шоссейном. Итак, что дальше?
— Согласен. Начальник охраны моста находится в доте. Там же машинка для взрыва моста. Дот расположен на той стороне дороги у самого моста. Дот добротный, бетонированный. От шлагбаума до дота примерно полторы сотни метров. В доте не более пяти человек. Телефон. Начальник охраны меня знает. Сегодня должен быть лейтенант Сладчик. То ли чех, то ли словак. Минуем шлагбаум, останавливаемся, я иду в дот. Со мной двое. Пятерых-то мы уговорим. Постараемся без шума. Затем оставляем в доте своих и едем на ту сторону. Порядок там такой: на этой стороне пропускают, звонят на ту сторону, чтобы тоже пропустили. Как только машины останавливаются там, из этого дота производим захват зениток и орудий. Зениток на каждой стороне по две, орудий тоже. Расчетов там нет: они, как правило, находятся в землянках. Возле зениток и орудий только часовые. Короче говоря, если действовать быстро и решительно, захват моста пройдет минут за пять. Схема отражения атаки на мост мне известна. Все там по минутам и секундам рассчитано. Но это, если попытка захвата идет со стороны. Захват моста изнутри не предусмотрен.
— Ну а если на мосту уже знают, что случилось возле села Сосновица? Они вас всех постреляют раньше, чем вы начнете действовать.
— Вряд ли немцы предупредили всех. К тому же им не выгодно: другие могут задуматься…
— Понятно. Как мы узнаем, что мост захвачен?
— Можно дать ракету…
— Не годится. Вот что… Чулков! — окликнул Петрадзе своего адъютанта, не поворачивая головы.
— Я здесь, товарищ полковник, — выступил тот из-за спины…
— Вот что, лейтенант. Бывшие власовцы пойдут захватывать мост. Нужен кто-то из наших для связи. Приказывать не могу, только добровольно.
— Разрешите идти мне, товарищ полковник.
— Иди, сынок. Возьми рацию и радиста. Будешь держать связь со мной.
— Будет исполнено, товарищ полковник.
— Тогда, как говорится, с богом!
Глава 10
Группа старшего лейтенанта Завалишина, имея в своем составе танковую роту и роту пехоты, артиллерийскую и минометную батареи, сосредоточилась на опушке леса вблизи от дороги, ведущей к мостам через Неман. На эту опушку вышли окольными путями, чтобы колонну не было видно со стороны мостов. Алексей Петрович Задонов упросил полковника Петрадзе отпустить его с этой группой: его властно тянуло туда, к мостам, куда пылили по дороге две машины с бывшими власовцами под командой бывшего капитана Красной армии Сорванцова.
До моста отсюда чуть больше километра совершенно открытой местности: поле желтеющей то ли пшеницы, то ли ржи, затем овраг с деревьями по краям, и еще одно поле, а справа, за оврагом же, деревня с католическим остроугольным храмом.
В бинокль хорошо видно, как машины приближаются к мосту. Старший лейтенант Завалишин, еще совсем молодой, но, судя по уверенности действий, прошедший хорошую школу войны, стоял рядом с Задоновым, следил за машинами невооруженным глазом, грыз веточку березы: нервничал.
— Давно воюете, товарищ старший лейтенант? — спросил Алексей Петрович, любуясь со стороны его стройной фигурой, устремленной вперед, чуть прищуренными серо-голубыми глазами, загорелым лицом со щегольской полоской усов, пшеничными волосами, черными вразлет бровями и девичьими ресницами. Печорин да и только.
Старший лейтенант быстро глянул на Алексея Петровича, пожал плечами, не зная, как ответить на заданный вопрос.
— С Курской дуги, — ответил он. — Там ранили, пять месяцев по госпиталям, с тех пор вот держусь. А что? Что-нибудь не так?
— Да нет, все так, — улыбнулся Алексей Петрович. — И как вам кажется: удастся захватить мост?
— Кто его знает… То есть я в том смысле, что захватить удастся, но целым или взорванным, зависит от них. — И он кивнул головой в сторону машин, подъезжающих к мосту. Затем поднес к глазам бинокль. Алексей Петрович тоже.
В бинокль был виден шлагбаум, небольшое приземистое строенье возле него, расхаживающего взад-вперед часового с винтовкой. Были видны зенитки, щитки и стволы орудий, укрывшиеся за барьерами из мешков с песком, часовые возле них.
Машинам с бывшими власовцами оставалось не более двухсот метров до переезда, и в это время к мосту с другой стороны приблизилась колонна машин, в кузовах солдаты, к машинам прицеплены длинноствольные пушки. Колонна остановилась, затем въехала на мост. Остановились, не доезжая до развилки метров сто, и машины с нашей стороны.
— Ох, не завидую я Чулкову, — произнес Завалишин и покосился на Задонова.
— Да, я тоже не хотел бы оказаться на его месте, — согласился Алексей Петрович. — Но мне кажется…
В это время из стоящей в кустах лещины тридцатьчетверки окликнули Завалишина:
— Чулков на связи!
И старший лейтенант сорвался с места и кинулся к танку.
Алексей Петрович, не отрываясь от бинокля, услыхал:
— Да! Понял! В нашу сторону? Это точно? Хорошо, встретим! А как же вы?
Между тем бронетранспортер, возглавляющий колонну, уже миновал мост. Вот он достиг развилки и повернул направо. За ним головная машина. У Алексея Петровича даже во рту пересохло, как только он понял, куда направляется колонна. А сзади уже звучали команды:
— Минометчики — к бою! Занять позиции!
— Артиллеристы — к бою!
И в это время со стороны Столбцов, окраина которых виднелась на взгорке, загрохотало. И грохот этот становился все гуще, все яростнее.
— Наши пошли! — воскликнул Завалишин, остановившись рядом с Задоновым. — Теперь закрутится.
— А что вам передал Чулков?
— У них заминка. Просит поддержать огнем.
— И что вы собираетесь делать? — спросил Алексей Петрович.
— Подождем колонну и врежем по ней.
— А если они начнут занимать позиции за оврагом?
— Так пока они начнут… Однако, не похоже…
— А наши что-то не движутся. Как встали на обочине, так и стоят…
— Колонну пропускают…
— Кажется, на передней машине что-то с мотором… Маскировка?
— Возможно.
Бронетранспортер въехал на мост через овраг.
— Ну что, товарищ подполковник? Покажем фрицам, где раки зимуют?
— Показывайте, лейтенант. Ни пуха вам, ни пера. Не буду вам мешать.
— Только вы куда-нибудь в сторонку, пожалуйста, передвиньтесь: пушки начнут палить — оглохнете. Да и мало ли что…
— В сторонку — это я могу, товарищ старший лейтенант. Мне бы норку поглубже, — засмеялся Алексей Петрович, не отрывая взгляда от моста, который миновали замыкающие колонну два чешских танка…
А за спиной лязгала сталь, раздавались команды, на опушку, ломая кустарник, выдвигались орудия, в стороне порыкивали танковые моторы.
Глава 11
Передвигаясь от дерева к дереву, Алексей Петрович занял наблюдательную позицию неподалеку от танка ИС, длинный ствол которого, увенчанный набалдашником, понюхав воздух влево-вправо, замер, и до Алексея Петровича донесся приглушенный голос командира танка:
— Осколочный! Дистанция… Прицел… Ждать команду!
В это время машины с власовцами, пропустив колонну, достигли шлагбаума и остановились. Вот из кабины передней кто-то соскочил на землю — похоже, капитан Сорванцов, — вот из кузова спрыгнуло еще человек пять-шесть, затем обе машины рванули вперед, послышались далекие выстрелы, одна из машин остановилась возле позиции зенитных орудий, с нее посыпались солдаты, другая понеслась через мост, прямо из ее кабины стрелял пулемет по мечущимся человеческим фигуркам на той стороне, — и у Алексея Петровича защемило сердце.
Между тем головной бронетранспортер и несколько машин уже миновали мост через овраг.
И тут же ударили наши пушки. А четыре «тридцатьчетверки» вырвались из лесу и устремились к мосту. На дороге началась настоящая кутерьма: одни машины уже горели, другие пытались развернуться, но дорога была слишком узкой, а кюветы по обе стороны дороги были такими глубокими, что никакая машина преодолеть их не могла. Из кузовов выпрыгивали солдаты, одни бежали к оврагу, пытаясь там найти спасение от рвущихся снарядов, другие в поле, а на дороге, в кюветах и около лежали те, кто никуда не успел.
Однако Алексей Петрович видел все это боковым зрением, неотрывно таращась в бинокль, пытаясь понять, что происходит на мосту. Ясно было одно, что неожиданности у бывшего капитана Сорванцова не получилось. Возможно, охрану моста насторожили звуки боя, доносящиеся с севера; возможно, их предупредили о том, что произошло в Сосновице. Во всяком случае, первая машина так и не достигла противоположного берега: встреченная огнем одного из зенитных орудий, она вспыхнула в каких-нибудь десяти-двадцати метрах от него, и лишь несколько человек успели спрыгнуть на мост и укрыться за стальными фермами.
Неожиданно ударила танковая пушка, так что у Алексея Петровича зазвенело в ушах, — и на насыпи у моста по ту сторону реки взметнулся куст дыма, пронизанный черными стрелами. Затем еще и еще. А «тридцатьчетверки» уже врезались в колонну машин, отбрасывая их в кюветы, сквозь грохот разрывов и стрельбу пушек то и дело прорывались пулеметные очереди. Вот вслед за передовой четверкой двинулись и другие танки, облепленные десантниками, а пушки продолжали бить по колонне и прикрывающим ее двум танкам, которые метались по хлебному полю, оставляя на нем безобразные борозды. Вспыхнул один танк, другой спрятался за него, прикрылся дымом. «Тридцатьчетверки» продолжали утюжить колонну уже за мостом через овраг. А у моста через Неман горел уже и второй грузовик, и что-то дымилось еще, перебегали с места на место люди, падали, вскакивали, снова бежали: похоже, там шел бой, и не шуточный.
— Товарищ подполковник! — окликнул Задонова комроты Завалишин, высунувшись по пояс из башни танка. — Я оставляю вас на попечение командира батареи. До встречи у моста! — Исчез в башне, упала крышка люка, и танк, рванувшись с места, попер напрямик через поле.
Артиллеристы еще какое-то время вели огонь по левому берегу, затем орудия стали цеплять к машинам, а по мосту через Неман уже двигались наши танки. Алексею Петровичу помогли забраться в кузов второго «студебеккера», и минут через пятнадцать он был уже около моста. Внизу, под откосом, сидели на траве пленные. Неподалеку в ряд складывали трупы бывших власовцев. Их было человек двадцать. Капитан Сорванцов лежал на правом фланге.
— Он хотел погибнуть от рук врага, он и погиб так, как хотел, — ответил лейтенант Чулков на молчаливый вопрос Задонова. И пояснил: — Уже после того, как мы захватили капонир.
— Как это все произошло? — спросил Алексей Петрович.
— Когда мы подъехали к КПП, один из власовцев вдруг побежал к мосту с криком: «Измена! Измена!» Ну, его, само собой, свалили одной очередью. Тут все всполошились. Машины рванули к мосту, зенитки и орудия мы захватили сразу же. Правда, возле капонира произошла заминка, но сам капитан кинулся к растерявшимся немецким офицерам, крича им что-то и размахивая руками. Они, видать, ничего понять не могли, а он, когда добежал, бросил в их гущу гранату. Тут и остальные подоспели. Но дот мы взять не успели. Немцы или кто там был, заперлись изнутри и встретили наших огнем из амбразур. Вот капитан там и погиб… у дота. Тут наши развернули орудия и саданули по дверям дота. Ну и, конечно, вышибли их. Дот захватили. А нам с радистом Огрызковым капитан сразу же приказал укрыться в капонире, как только его захватили. И охрану приставил. Сказал своим: «Сами умрите, а они должны остаться живыми». Это мы то есть. Такая вот история, товарищ подполковник. — И спросил, заглядывая в глаза Алексею Петровичу своими тоскующими глазами: — Будете писать?
Алексей Петрович понял, что врать этому лейтенанту нет никакого смысла, и произнес, покачав головой:
— Сейчас — нет. Но когда-нибудь — непременно.
— Я тоже так думаю, товарищ подполковник… Извините, конечно.
— Ну что вы, лейтенант? Все нормально.
— Вот и я об этом же говорю, — оживился Чулков. — Знаете, товарищ подполковник, этот Сорванцов, как мне кажется, сам искал смерти. Он мне так и сказал: «Это, — сказал, — видать, мой последний бой». — И вдруг признался: — У меня, товарищ подполковник, отца нет. Я его вообще не помню. И, знаете, подумал что?.. Я подумал, что хотел бы иметь такого отца, как капитан Сорванцов. Нет, честное слово! Только вы не подумайте чего такого! Я — комсомолец. И вообще. А это такой человек, что ему как-то сразу веришь, как-то вот даже прикипаешь душой. Да. Вы извините, может я что не так говорю…
— Мне этот Сорванцов тоже сразу же понравился, — признался Алексей Петрович.
— Он и на полковника Петрадзе произвел впечатление, — обрадовался Чулков. И добавил: — Даже на замполита.
К ним подошел старший лейтенант Завалишин и, весело блестя глазами, сообщил:
— Наши уже в Минске. А у нас приказ: во что бы то ни стало удержать мост. Жаль, железнодорожный захватить не удалось.
И все глянули вдоль реки: в полукилометре виднелись каменные быки и провалившийся между ними ажурный стальной пролет.
— Хорошо, что этот взяли, — произнес Чулков.
— Это точно. Пленные говорят, им сообщили, что русские колонны идут под прикрытием немецких танков. Так что они вряд ли нас к себе подпустили бы. Удержать, конечно, не смогли бы, а мост взорвали бы — это как пить дать.
Пленные неподалеку от насыпи копали длинную могилу.
Глава 12
Среди тех примерно двухсот человек, что месяц назад пригнали из Прибалтики в лагерь под Столбцами, находился и бывший капитан второго ранга Ерофей Тихонович Пивоваров, попавший в плен в тихое, солнечное, безмятежное утро 22 июня 41-го года. С тех пор, вот уже три года, тянется его плен.
До сентября 42-го Ерофей Тихонович работал на хуторе у одного литовца, затем строил и восстанавливал дороги, в 43-м работал на лесоповале, потом на тарном заводе — вместо литовцев, которые служили в территориальных частях, воевали на стороне немцев под Ленинградом или в зондеркомандах против белорусских партизан. Он мог бы бежать, но немцы были предусмотрительны: за каждого беглеца расстреливали десятерых пленных. Да и куда бежать? Беглецов вылавливали не немцы, а литовцы и латыши: они знали свои леса, голодным далеко не убежишь, а на первом же хуторе тебя изобьют, свяжут и передадут полиции.
В апреле сорок четвертого их собрали в один из лагерей под Каунасом и партиями разогнали кого куда. Пивоваров оказался в Белоруссии, на лесозаготовках. Вот тут-то многие и стали бредить побегом, наслушавшись от попавших в плен недавно, что советская власть бывших пленных не жалует, особенно тех, кто на немцев работал, вольно или невольно помогая им в борьбе со своим народом. Так что бежать к партизанам — это могло бы как-то снять часть вины за то, что остался жив. Но система круговой поруки была та же: не побежишь, если знаешь, что за тебя лишат жизни и последней надежды твоих товарищей.
Впрочем, бегали. А немцы стреляли. А пойманных — вешали. А потом, когда стали доходить слухи и приближении фронта, пленных перестали кормить. Поили же гнилой болотной водой. И через несколько дней все покрылись гнойными язвами, коростой, стали выпадать зубы, волосы, дыхание сделалось гнилостным, воздуху не хватало. Людей начал косить тиф, дизентерия. Среди пленных шли разговоры, что вода заражена специально.
Немцам показалось и этого мало: за неделю до освобождения они ввели так называемые децимации: ежедневно утром и вечером отсчитывали каждого десятого и тут же, на плацу, расстреливали. Без объяснения причин. Видать, получили приказ избавиться от пленных. Тут бы и бежать, да ноги от голода и болезней еле двигаются…
Пивоваров бредет где-то в хвосте колонны. Никто их не охраняет, никто не погоняет. Свернули в лес, на узкую просеку, вытянулись в цепочку. Люди стали разбредаться в поисках земляники, иногда попадались сыроежки; ели заячью капусту, пастушью дудку, молодые побеги папоротника, жевали сосновую смолу. Иные ложились и не вставали, не в силах идти дальше. И провожали пустыми глазами проходивших мимо. Никто ослабевших не подбирал, никто никому не помогал. Скорее всего, потому, что не знали, куда идут, с какой целью, да и сил оставалось лишь на то, чтобы с трудом волочить собственные ноги.
Солнце уже садилось, когда вышли к ручью. Здесь и остановились. Уже горели костры, дымили походные кухни; какие-то угрюмые бородачи с немецкими автоматами бродили среди бывших пленных и будто высматривали кого; несколько красноармейцев держались кучкой во главе со своим капитаном чуть в стороне от пленных, ни во что не вмешиваясь.
К вечеру Пивоварову достался на двоих с бывшим майором-пехотинцем по фамилии Ржа котелок чего-то зелено-бурого. Помимо какой-то травы там было пшено, иногда попадались волокна мяса. Ели медленно, подолгу ворочая во рту кисловатую кашицу.
Время будто остановилось. Что-то произошло в них за те два-три дня после освобождения: то ли болезни доконали, то ли сломался в них какой-то стержень, державший их на ногах и не дававший согнуться. Может быть потому, что как только заботу о них взяли на себя другие — все в них опустилось, перестало сопротивляться.
Прижавшись друг к другу спинами и укрывшись с головой немецкой шинелью, Пивоваров и майор Ржа погрузились в долгий полуобморочный сон, прерываемый нуждой да очередным приемом пищи — все того же супа. Иногда вдруг все приходило в движение, и Пивоваров с майором порывались тоже куда-то не то идти, не то бежать, но почему-то никак не могли отделиться от куста можжевельника, под которым нашли приют в самом начале. Так продолжалось бесконечно долго: день сменялся ночью, зной проливными дождями и холодом, досаждали комары, слепни, мухи.
Однажды Пивоваров услышал стрельбу, будто бы даже и совсем близкую, но она не вызвала у него, как и у всех остальных, ни страха, ни желания что-то предпринять. Прошло еще какое-то время, люди зашевелились и потянулись куда-то, и вслед за всеми, с огромным трудом преодолев свою слабость, побрел и Пивоваров. А майор Ржа остался под кустом можжевельника.
Долго ли он шел, Ерофей Тихонович не помнит. Но однажды открыл глаза и разглядел плывущие над головой вершины деревьев, уходящие ввысь стволы, клочки голубого неба. Не сразу догадался, что его несут. С трудом сместив зрачки, увидел раскачивающегося красноармейца в пилотке, с красным, распаренным от жары лицом. И удивился: было ужасно холодно, дул пронизывающий ветер, сыпало снежной колючей крупой, снег попадал за воротник, обжигал тело, сотрясал его беспрерывным ознобом. «Ну да, они ведь несут, поэтому им жарко», — подумал Ерофей Тихонович и снова впал в забытье.
Следующее его пробуждение состоялось среди ночи. В уши ворвался разноголосый храп, стоны, бормотанье, вскрики — и Пивоваров догадался, что он опять в лагерном бараке, в плену, что свобода, красноармейцы, майор Ржа ему пригрезились. Но на этот раз Пивоваров не впал в забытье, а долго лежал и думал… ни о чем, то есть ему казалось, что он думает, а на самом деле это были не мысли, а отрывочные видения из его бывшей жизни. Видения сменяли одно другое, наплывали друг на друга, картины детства смешивались с картинами плена, и всякий раз палец шарфюрера Рильке упирался в грудь и слышалось отчетливое: «Цейн!» А потом выстрел.
Прошел, пожалуй, месяц, прежде чем Ерофей Тихонович стал выходить из барака. Он садился вместе с другими выздоравливающими на солнечной стороне на бревно, прижимался спиной к теплым доскам и замирал в блаженной истоме. Это был все тот же лагерь, из которого его освободили и увели в лес, но теперь на вышках стояли красноармейцы, ворота были закрыты, дорожки подметали немцы, они же выносили из бараков трупы, складывали их на подводы и куда-то увозили, сопровождаемые красноармейцами. Немцы же разносили суп и кашу, разливали по кружкам чай, водили или возили больных на перевязки и процедуры, мыли их, подсовывали под них утки и судна, меняли пеленки, кормили и поили. И никто этому не удивлялся, все принимали это как должное.
А еще через полмесяца, когда Ерофей Тихонович вполне окреп, его вызвали на первый допрос. Молоденький младший лейтенант записал с его слов всю его историю, начиная с 22 июня 1941 года по 28 июня 1944-го, то есть до той поры, когда в лагерь ворвался немецкий танк с красными звездами, а за ним уже русский. Записав, он дал прочитать написанное Ерофею Тихоновичу и попросил расписаться. Через два дня Пивоварова выспрашивал уже другой офицер, на этот раз с двумя звездочками на погонах. Снова Ерофей Тихонович подробно рассказывал о себе, снова читал написанное и расписывался на каждой странице, отмечая про себя многочисленные грамматические ошибки, но не решаясь их исправить. И еще раз его вызывали, и еще.
Потом была медицинская комиссия. Через несколько дней после нее на лагерном плацу собрали человек двести, посадили на машины и под конвоем отвезли на станцию, рассовали по теплушкам, закрыли двери и повезли… неизвестно куда. Везли долго, с долгими же остановками, привезли на какой-то полустанок, приказали выгружаться, будто они были не людьми, а одушевленными предметами, которые ни на что не годны, а выбросить нельзя. Здесь их посадили на машины и повезли. И привезли к баракам, окруженным колючей проволокой, с вышками и солдатами на них, а все это окружала бурая степь с бурыми же холмами на горизонте. Слух прошел, что это лагерь, но лагерь особый — фильтрационный. Отсюда одних на фронт, других… Пивоварову очень хотелось оказаться в числе первых и не хотелось попасть в категорию других. Да и всем остальным, как ему казалось, тоже.
Глава 13
Филипп Васильевич Мануйлович придержал лошадей: перед ним лежала небольшая речушка, заросшая камышом и кустарником, с топкими берегами, но моста, по которому год назад он со своим отрядом, спасаясь от преследовавших карателей, переправился на эту сторону, не было, лишь обуглившиеся опорные столбы сиротливо торчали на этом и том берегу, да виднелись полуобвалившиеся окопы, заросшие травой и густыми побегами ивняка и черемухи.
«Экая невезуха, черт бы их всех побрал!» — выругался про себя Филипп Васильевич, имея в виду немцев — в первую очередь, себя самого в придачу и еще неизвестно кого, потому что в прошлом году, уходя от наседающих карателей, они этот мост за собой сожгли, и, видать, никто его восстанавливать не стал.
Весь обоз из двух десятков подвод с бабами и детишками на них остановился вслед за своим командиром и председателем колхоза. Редкие мужики да подростки, а больше все бабы потянулись от телег к голове обоза, чтобы получить указания, что делать.
«Боже ж ты мой, — думал Филипп Васильевич, с привычной печалью вглядываясь в изможденные лица своих односельчан и колхозников, — и как теперь жить будем?» Будущее представлялось неясным, тяжелым, хотя, конечно, недавнее прошлое было еще тяжелей.
Обоз лужевцев уже с неделю пробирался в родные края, то есть с тех самых пор, как Красная армия в конце июня разгромила немцев под Витебском, освободила Оршу и пошла на Минск, и многие партизанские отряды оказались в ее тылу. Но партизанская бригада «Мстители» не стала дожидаться прихода Красной армии и, повинуясь приказу сверху, двинулась на запад, громя на своем пути гарнизоны противника, взрывая мосты и пуская под откос поезда. С бригадой ушли все наиболее боеспособные мужчины, на месте остались лишь пожилые да подростки, которые и должны были охранить от врагов баб и ребятишек целого района, вернее, того, что от него осталось.
Ушел с бригадой самый старший из сыновей Филиппа Васильевича, Станислав, ушла старшая дочь, семнадцатилетняя Настя, выучившаяся на медсестру при партизанском госпитале, так что возвращался Филипп Васильевич лишь с самыми младшими: с семилетним Пашкой, четырнадцатилетним Петром, да двумя дочерьми: тринадцатилетней Серафимой и одиннадцатилетней Катериной, оставив в чужой земле свою жену, сына Никиту и многих родственников. И так в каждой семье. Считай, лишь третья часть населения деревни Лужи возвращалась теперь на пепелище, чтобы все начинать сызнова.
Особенно трудной выдалась для партизанского района и бригады «Мстители» под командованием подполковника Всеношного зима с сорок третьего на сорок четвертый год. После того, как Красная армия побила немцев под Орлом и Курском, весь фронт двинулся на запад, и до самого декабря сорок третьего не затихали бои. В сентябре далекий гул артиллерии приблизился настолько к партизанскому району, что казалось: еще немного — и освобождение раскинет свои крыла над линией Витибск-Орша-Могилев, кончатся все муки и начнется возвращение к родным пепелищам, но гул артиллерии постепенно затих, партизанский район оказался в ближайшем прифронтовом немецком тылу, он сидел у них как бельмо в глазу, как раковая опухоль, всегда готовая раскинуть метастазы во все стороны, и немцы начали самое большое наступление на этот район за все время его существование. Они бросили против бригады не только артиллерию, но танки и самолеты, и хотя партизаны получали с Большой земли оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и пополнение живой силой, хотя при хорошей погоде наша авиация бомбила немецкие позиции, пособляя обороняющимся, но даже сейчас, когда весь этот кошмар остался позади, Филипп Васильевич — да разве он один! — не может взять в толк, как они умудрились выстоять и не погибнуть все до единого. Наверное потому, что смерти уже никто не боялся: ни взрослые, ни дети, и все, кто мог держать оружие и стрелять, держали его и стреляли. Даже девчонки-малолетки. Потому что и они понимали: лучше погибнуть, стреляя, чем тебя убьют за просто так, а перед тем распнут в каком-нибудь сарае, сдерут заживо кожу… В такую окаянную пору дети взрослеют втрое быстрее, чем в обычной жизни.
— Здесь пока станем лагерем, — произнес Филипп Васильевич, оглядывая свое войско, все еще вооруженное, потому что шли по лесам, где блуждали, пытаясь вырваться из окружения, немцы, власовцы, остатки эсэсовских батальонов, состоящих из националистов-западников всех мастей, но в основном из латышей, литовцев и эстонцев. — Будем строить мост. Первый взвод выставляет часть людей для охраны лагеря, остальные, свободные от службы, вместе со вторым взводом заготавливает бревна. Хозвзвод устраивает лагерь и все прочее. Ну, как всегда. Завтра с утра положить настил. Нам осталось три-четыре перехода — и мы дома.
Филипп Васильевич подумал-подумал, но ничего больше не придумал, что сказать своим людям, и никто не проронил ни слова в ответ на его распоряжение: и так всем было ясно, потому что не впервой вставали лагерем и устраивали переправы, каждый знал, что и как делать, несмотря ни на возраст, ни на что другое.
«Спешить надо. Ох, спешить надо», — думал между тем Филипп Васильевич, понимая, что все сроки сева и посадки хоть чего-нибудь давно миновали, да и сеять и сажать нечего. Одна надежда на грибы да ягоды, да на лесного зверя. Была, правда, еще слабая надежда, что государство поможет с озимыми, хотя рассчитывать на многое нечего: везде одно и то же, да и война еще не кончилась. Однако пища пищей, а крыша над головой к близящейся зиме еще важнее. Но и зря подгонять своих уставших сельчан он не хотел: день-другой ничего не решают, а впереди трудностей и без того хватит с избытком.
Пока одни возились с устройством лагеря, Филипп Васильевич собрал несколько мужиков и баб из хозвзвода, забрали с одной из телег много раз чиненный бредень, мужики разделись до исподнего и полезли в воду пытать рыбацкого счастья. Вскоре на берегу трепыхалось рыбье серебро из окуней да карасей, плотвы да щурят, язей да налимов и сомов-подростков. Бабы да девчонки все это тут же чистили, сваливали в котлы, варили уху, приправляя ее прибрежными травами да кореньями.
А чуть в стороне тюкали топоры, скрипели пилы, ухали падающие сосны. Сорокалетний кузнец Савелий Сосюра, хромоногий от рождения, командовал строителями моста, отмеряя аршином бревна, готовые к отесыванию для настила. Дымили костры, бродили по поляне стреноженные лошади. Немецкие битюги волокли бревна к мосту, неторопливо переступая лохматыми ногами. Зудели комары, кидались на разгоряченные тела слепни и оводы.
Когда солнце опустилось за темный сосновый гребень и длинная тень легла на затихающий лагерь, Филипп Васильевич, проверив секреты в обе стороны, спустился вниз по течению реки, разделся до нога и, сверкая белыми ягодицами и ногами, вошел в парную воду, пахнущую болотом. Через несколько минут рядом с его одеждой появилась женская фигура, постояла немного в раздумье, тоже разделась и тоже вошла в воду, разгребая ее руками. Они сошлись на мелководье, женщина молча обвила шею Филиппа Васильевича, прижалась к нему всем телом, уткнулась головой, повязанной косынкой, в его плечо, зашептала что-то бессвязное.
— Ну, что ты, Лизавета? Что ты? — говорил Филипп Васильевич, гладя ее упругую спину и плечи. — Не изводи себя понапрасну.
— Дети твои на меня смотрят с укоризной, будто я виноватая в гибели их матери.
— Знаю я, знаю. Что ж тут поделаешь? Свыкнется — слюбится. Да и Настасья… уж год, как ее нету… она ж перед смертью наказывала, чтоб женился на тебе. И дети слыхали эту ее последнюю просьбу.
— Ах, Филя! Ах, боже мой! Мне и сладко и страшно, и не знаю, что думать. А люди говорят, будто накликала я гибель на Настасью твою, наговором заняла ее место.
— А ты меньше слушай глупые бабьи судачества. Нет в том ни твоей, ни моей вины. Война… чтоб ей ни дна, ни покрышки!
Они еще немного поплескались в парной воде, затем Филипп Васильевич вынес на берег притихшую Лизавету, бережно опустил на раскинутое рядно.
— Я тебе еще рожу сыновей, — шептала она, успокоенная. — И дочерей тоже. Я молодая и сильная.
Действительно: была Лизавета намного моложе покойной Настасьи, с шестнадцати лет она, едва закончив семь классов, сидела в правлении колхоза, вела все дела, и когда председателем стал Филипп Мануйлович, такой, по ее разумению, правильный и честный, так к нему присохло ее сердце, что ни на кого глядеть не могла, никакие женихи не сумели перебить ее единственную на всю жизнь любовь. Но не было до нее дела Филиппу Мануйловичу, женившемуся по любви и потому безмерно преданному своей жене. Неизвестно, чего ждала Лизавета и на что надеялась, глядя со стороны на чужое счастье. И вот — дождалась, трепеща от сопровождающего ее повсюду страха, саднящей душу вины своей и сжигающего молодое тело страсти.
И долго еще звучали над притихшей водой и камышами тихие стоны и торопливый шепот.
Как и предполагалось, на другую сторону речушки переправились ближе к полудню следующего дня. На этот раз мост не сжигали, и, миновав его, все оглядывались и оглядывались на белеющий ошкуренными бревнами настил с аккуратными перилами, то ли ожидая погони, то ли не веря до конца, что едут по мирной земле, не сулящей никаких неожиданностей.
Отдохнувшие лошади тянули легко, тележные колеса весело тарахтели, подпрыгивая на корневищах деревьев заросших за минувшие годы просек. Вовсю светило солнце, куковали кукушки, перепархивали с ветки на ветку птичьи выводки, возились в траве дрозды, попискивали синицы. Иногда на пути встречались сгоревшие деревни, в иных робко завязывалась новая жизнь: тюкали топоры, шваркали пилы, бродили по лугу чудом сохранившиеся лошади и коровы, бабы и ребятишки провожали обоз тоскливыми глазами, мужики с настороженностью вглядывались в проходящих мимо людей, тая от постороннего глаза оружие.
Филипп Васильевич подходил к мужикам, делился махоркой, расспрашивал о дороге, переправах через речушки и ручьи. Настороженность спадала, бабы, случалось, тащили детям кринки с молоком. Из разговоров выяснялось, что на дорогах кое-где одно время пошаливали бог знает кто такие и почему, но в последнее время не слыхать, однако смотреть надо в оба: береженого бог бережет; сообщали, что советская власть себя уже проявляет: намеднись наведывались из района, записывали, кто и что, обещали помощь.
Но больше случались деревни, похожие на заброшенные кладбища, только без крестов и могильных холмиков. И Филипп Васильевич поневоле задумывался, как встретят их родные пепелища, оставшиеся от деревни Лужи.
Глава 14
Впереди обоза, метрах в двухстах, движется одинокая пароконная телега, а на той телеге разведчики. Во главе их однорукий старшина Емельян Лапников, присланный для пополнения партизанской бригады с Большой земли в декабре прошлого года, в одном из боев потерявший руку да так и оставшийся при отряде лужевцев в качестве инструктора-подрывника. Происхождением Лапников с Алтая, из переселенцев, перед войной служил в милиции, в сорок первом попал в особый разведывательно-диверсионный батальон, был знающим и умелым бойцом и, несмотря на молодость, пользовался в отряде авторитетом. С ним частенько советовался и Филипп Васильевич, если дело казалось ему трудным и не сулящим успеха: Лапников всегда находил выход.
Бывший старшина лежал на свежескошенной траве, копна которой, перетянутая веревкой, возвышалась над лошадьми, помахивающими длинными хвостами. Рядом с ним умостился пятидесятилетний Данила Епифанович Кочня, правил повозкой сын председателя четырнадцатилетний Петруша. Со стороны казалось, будто едут обыкновенные селяне, но не видные со стороны же лежали под рукой немецкие автоматы и немецкий же ручной пулемет со снаряженной лентой. Тут, с одной стороны, сказывалась привычка к оружию и постоянной опасности, не до конца осознанный факт, что фронт ушел далеко на запад, с другой — они все еще были партизанским отрядом, боевым подразделением, продолжая жить по законам войны. Вот когда доберутся до места, тогда и… Что будет тогда, никто не знал, а четырнадцатилетнему Петруше казалось, что он всю жизнь только и делал, что воевал наравне со взрослыми, а потому мирная жизнь представлялась ему лишь передышкой между боями. И он вглядывался в сумрак окружающего леса с привычной настороженностью, готовый схватить лежащий рядом автомат и открыть огонь по любой едва проявившей себя опасности.
Лишь старый Данила, обросший седой клочковатой бородой, прикрывающей уродливый шрам на правой скуле, равнодушно пялился в чистое небо, покусывая пресную травинку пырея, и, казалось, ни о чем не думал. Да и то сказать: о чем тут думать? Думай не думай, а прошлого не воротишь, прожитых годов тоже, как не воскресишь погибших. А Данила Епифанович потерял всё и всех: старых отца и мать немцы убили еще в сорок первом, сожгли вместе с деревней, жена погибла в том же году во время нападения карателей на лагерь лужевцев, два сына ушли в армию в начале войны, и никаких известий от них не имелось, третий сын-малолетка погиб зимой прошлого года. А вместе с ним и снохи Даниловы и внуки — все были убиты в одной из деревень, куда прорвались каратели зимой этого года. Осталась у него единственная надежда на то, что уцелеет хотя бы один из сыновей, вернется после войны в родную деревню, женится и наплодит новых внуков, чтобы не прервался род Кочней, вошел бы в новую жизнь детским смехом и детскими слезами. Впрочем, и сам он, Данила Кочня, еще не настолько стар, чтобы не подобрать себе какую-нибудь из подходящих для этого дела вдову.
Ехали молча, говорить было не о чем. Да и партизанская жизнь приучила к тишине, к тому, чтобы чутко прислушиваться к ее постоянной изменчивости.
— Петруша! — тихо окликнул подростка Лапников.
— Слышу, дядя Емельян, — отозвался тот и, нащупав лежащий в траве под рукой автомат, опустил флажок предохранителя.
— Что там? — спросил Данила Кочня, не меняя позы.
— Пока не видать, — ответил Лапников. — Сойки беспокоятся. Слышишь? И, похоже, пилят.
Кочня сел, всмотрелся прищуренными светлыми глазами в пронизанный солнечными лучами узкий коридор просеки, произнес задумчиво:
— Похоже, завал. И, похоже, старый, нами устроенный, когда драпали от карателей.
— Похоже, — подтвердил Лапников, хотя среди лужевцев его тогда не было. — И, похоже, разбирают.
— И кто?
— Черт его знает, кто, — произнес Лапников и поднес к глазам немецкий бинокль. И тут же опустил, заметив короткий всплеск света. — Кто бы ни был, а быть в полной боевой. — Пояснил: — Нас засекли, в бинокль разглядывают.
И свесил с задка белую рубаху — знак своим, что впереди опасность.
— Ишь, черти! — изумился Кочня, поерзал немного, устраивая поудобнее пулемет.
— Не суетись, дед, — посоветовал Лапников. — Мы просто селяне. Мы — дома, на своей земле. Давай закурим. Но если засаду устроили шатуны… — И махнул рукой: в засаду верить не хотелось.
Закурили. Сизый дымок поплыл над копной, оставаясь позади, зацепившись за еловые лапы.
Завал приближался. Уже видно нагромождение бронзовых стволов, уходящих в обе стороны от просеки в глубь леса, свежие пропилы. Если бы завал разбирали местные, они бы не таились, пользовались бы не только пилами, но и топорами. Впрочем, откуда здесь местные? Местных или побили каратели, или угнали с собой отступающие. Сколько едут последние два дня, а ни одной целой деревни: партизанский край, прифронтовая полоса. Ну и… бинокль. Конечно, бинокли не редкость, но больно уж все как-то не так. Хотя вполне возможно, что и местные, и тоже остерегаются: береженого бог бережет.
Лошади встали перед перегородившей просеку валежиной. До завала оставалось метров тридцать.
И тут настороженную тишину разорвал хриплый голос из-за завала:
— Эй! Кто такие?
— А вы кто? — вопросом на вопрос ответил Лапников.
— Вот счас пальнем по вас, узнаете, кто такие.
— Пальнуть дело не хитрое, — встрял в перекличку дед Кочня, — да только мы безоружные, нам пальнуть нечем. Да и чего палить-то? Немец ушел, в кого теперь палить? Не в кого. Все свои.
— Знаем мы этих своих, насмотрелись… А ну слазьте с телеги! — велели из-за завала. — И руки в гору. Поглядим, какие вы свои.
— Так мы и так собирались слазить: вишь, валежина, мать ее. Не пройти, не проехать.
Первым с телеги стал спускаться дед Кочня. Но не сбоку и не спереди, а сзади. Там он принял от Лапникова пулемет, повесил на торчащую из копны слегу. Помог спуститься старшине. У того позади за поясом пистолет, за голенищем сапога граната.
Старшина отряхнул солдатские галифе от прилипшей травы, поправил ремень, расправляя складки на вылинявшей гимнастерке, поправил фуражку с красной звездой и пошел к завалу вразвалочку, попыхивая самокруткой и позванивая медалями на выпуклой груди.
Вот он остановился, поставил ногу на лежащий отпил, спросил насмешливо:
— Ну где вы там прячетесь, аники-воины? Или медвежья болезнь напала?
Над завалом показался пожилой небритый человек в расстегнутом брезентовом дождевике, с немецкой винтовкой в руках, ствол которой смотрел куда-то в небо. Из-под дождевика виднелся черный пиджак, серая рубаха-косоворотка, поверх пиджака болтался потертый бинокль.
— Никак и впрямь свои? — произнес он, разглядывая старшину. — А документ какой-никакой имеется?
— А какой тебе документ нужен, папаша? — удивился Лапников. — Могу показать красноармейскую книжку, хотя я уже не красноармеец по причине своей инвалидности, а паспорта еще не получил, — и дернул полупустым рукавом гимнастерки. — Мне тоже интересно знать, кто вы такие и что здесь делаете.
— Мы-то? Мы-то детдомовские, — замялся было человек в дождевике. — Домой возвращаемся.
— И где этот ваш дом?
— От Новолукомля недалече будет.
— Так вы что, с ребятней, что ли?
— А с кем же еще? С ней самой. Семнадцать человек осталось от всего детдома. Да одна воспитательница. Ну, и я сам, завхоз этого дома. Охримич моя фамилия. Остальные кто погиб, кого в неметчину угнали… А вы кто?
— Мы тоже домой движемся. Партизанили. На Смоленщину идем. Тут недалече уже.
Из-за завала показались две ребячьи физиономии, уставились с любопытством и страхом на старшину. Тот кашлянул, точно ему в горло песок попал, сплюнул окурок, придавил подошвой сапога, потом помахал над головой рукою. Тотчас же от повозки отделился Кочня, двинулся к завалу. Но без пулемета. Петруша Мануйлович встал на повозке, замахал обеими руками.
— Чегой-то вы размахались-то? — с опаской спросил человек в дождевике, переложил винтовку с руки на руку — и детские мордашки тут же исчезли.
— Не бойтесь, — успокоил Лапников. — Своим даем знать, чтоб не опасались. — Пояснил: — Сзади обоз идет, целая деревня. Вернее сказать, что от нее осталось.
Подошел Кочня, снял картуз, вытер рукой плешивую голову, спросил:
— Свои, что ли?
— Свои. Детдомовские.
— То-то ж я и вижу: позади завала вроде как ребятня возится.
Сзади нарастал скрип и громыхание телег, фырканье лошадей, приглушенные голоса. Подошел Филипп Васильевич, тоже поинтересовался, кто да что. За ним уже напирали бабы. С той стороны над завалом, как грибы, появлялись все новые и новые детские мордашки. В основном лет десяти, и все больше девчушечьи. Но тут же с боков выросли два подростка с немецкими автоматами и молодая женщина с винтовкой.
— Та-ак, — произнес Филипп Васильевич, сбил на затылок картуз и стал подниматься на завал.
Оказавшись на его вершине, покачал головой, разглядывая противостоящее войско. Среди зарослей молодого сосняка таились лошади и подводы.
— Вот что, — заговорил он, повернувшись боком и к тем и другим. — Я есть командир бывшего партизанского отряда и председатель колхоза. Зовут меня Филипп Васильевич Мануйлович. Мы возвращаемся домой, поскольку немца погнали на запад и надо начинать мирную жизнь. Завал мы сейчас разберем, дорогу откроем. А пока надо устраиваться на ночь, потому как, похоже, собирается гроза… — Повернулся к детдомовцам и спросил: — Есть возражение с вашей стороны?
— Нету возражениев, — ответил за всех бывший завхоз.
— Тогда за дело.
Глава 15
У костров собралось все население лесного становища, доедали жареную рыбу и кашу. В отблесках уходящего дня виднелись телеги, над которыми раскинулись шатры из немецкой прорезиненной ткани, жующие траву лошади, палатки и шалаши. Сизый дым поднимался к верхушкам сосен, растекался между стволами.
Солнце поглотила наползающая с запада туча. Погромыхивал еще неблизкий гром, пульсировали всполохи молний. В лесу быстро темнело.
У штабного костра напротив Филиппа Васильевича сидели завхоз детдома, воспитательница, еще совсем молодая женщина, и два подростка, не расстающихся с автоматами, — все сосредоточенно и угрюмо смотрели на огонь. А по бокам свои: кузнец Сосюра, старшина Лапников, дед Кочня, Лизавета, командир хозвзвода Евдокия Горобец, другие бабы и мужики.
Воспитательница рассказывала:
— Как немцы заняли Минск, так нам и дали команду на эвакуацию. Было у нас несколько лошадей и подвод, на них погрузили, что могли, усадили маленьких и пошли. Железную дорогу уже бомбили вовсю, так мы пошли лесами, стороной от больших дорог, надеялись, что Красная армия вот-вот соберется с силами и погонит немцев назад. Была у нас карта, ученическая. С ней мы часто ходили в дальние походы с ребятами из старших групп, учились ориентироваться в лесу, наносили на эту карту деревни и дороги. Поэтому поначалу шли уверенно, держа направление на восток, надеялись, что выйдем к Орше, а там уж решат, идти нам дальше или оставаться. Главное, думали, чтобы нам через большие реки не переправляться. Шли с нами и другие беженцы, но не так уж много. Большинство направлялись в сторону железной дороги, надеялись на поезда.
— Поначалу нас преследовали пожары. Особенно по ночам было видно, как на западе поднимается зарево и становится все ярче. Потом зарево стало расти южнее и севернее, и самолеты немецкие летели над нами куда-то дальше, и оттуда слышались бомбежки. Потом и впереди стали возникать зарева пожаров. Выходило, что мы со всех сторон окружены этими пожарами. Но все-таки продолжали двигаться на восток, на что-то надеялись…
Завхоз и сурового вида подростки с автоматами молча слушали воспитательницу, иногда согласно кивая головой.
— Удивительно, но мы дошли до самой Рудни, — продолжала Антонина Семеновна мерным голосом, в котором иногда слышалось это самое удивление, что все, ею описываемое, выпало им на долю, но они все еще живы. — Там нас немец и прихватил. Они сразу же выяснили, кто мы такие, выделили нам здание школы, выдали продукты, назначили управляющего своего, из местных, а нашего директора куда-то увезли, так мы его больше и не видели: Аркадий-то Иванович был человеком партийным, и они, видимо, откуда-то прознали об этом… Нас, взрослых, воспитателей и учителей, обслуживающего персонала было двадцать три человека. Некоторые пошли с детдомом вместе со своими семьями. Ну, живем в школе, вроде все ничего, а тревожно. Через несколько дней появились немецкие врачи. Стали вести осмотр, брали кровь на анализ… — ну, как и у нас бывало при профилактическом обследовании, — и каждому на руке ставили метку с группой крови. Потом смотрим, школу колючей проволокой огораживают. Однажды приехала машина с красным крестом, в ней другие врачи. Стали вызывать в отдельную комнату для взятия крови. Крови у детей брали так много, что они не могли стоять на ногах от слабости. Даже разговаривать не могли. И у нас, у взрослых, тоже взяли кровь. По литру, не меньше. Многие сознание теряли. Одна женщина умерла: сердце не выдержало. Поняли мы, для чего немцам нужны, что еще одно-два таких взятия крови — и мы трупы. А кормили, между тем, хорошо и даже молоко давали: значит, мы еще были им нужны. Дети, так те восстанавливались быстро, взрослые тяжелее. И все понимали, что через какое-то время приедут за новой порцией крови. А что делать, не знаем. Правда, часовых возле школы нет, но ворота заперты, неподалеку какая-то немецкая часть стоит, там часовые ходят. Стали мы подзывать местных жителей, говорить им, в какую беду попали. Стали им маленьких через проволоку отдавать. За одну ночь более сорока человек у нас забрали. Люди на нашу беду оказались отзывчивыми. Но немцы откуда-то пронюхали про это, арестовали всех наших мужчин, увезли. Как выяснилось потом — в концлагерь для военнопленных. Апанас Григорьевич сбежал, про остальных ничего не знаем, — вздохнула рассказчица и сунула в костер несколько щепок, будто ей света не хватало для продолжения.
— Да, мужчин забрали, — снова заговорила она, — и мы как без головы остались: не знаем, на что решиться. А главное, возле ворот полицай теперь всю ночь дежурит, внутри, возле парадного, другой. Среди тех, кто взял у нас маленьких, была одна девушка, комсомолка, Анна Метелицына. Ее немцы потом повесили. Так вот, она и предложила нам бежать в лес. А ее, оказывается, надоумил Апанас Григорьевич, который вернулся, чтобы нам как-то помочь. День назначили, вернее, ночь, в середине августа это было… Сговорились мы напоить полицаев. Устроили что-то вроде вечеринки, пригласили того, что внутри. А уж он второго. Подсыпали в водку снотворного. И как только они уснули, через окно, чтобы не видели немцы из части, которая напротив, вылезли, а уж снаружи местные комсомольцы в проволоке проход сделали, ну мы все и ушли. Представляете? Более сотни человек. До сих пор не могу взять в толк, как это они нас проворонили. И ушли мы в лес. Ночи-то уже подлиннее и потемнее стали. Всю ночь шли. И, представьте себе, никто из детей не хныкал, не просил отдыха. Старшие помогали младшим, каждый что-нибудь делал для других по мере своих сил… Я этого никогда не забуду… — И Антонина Семеновна вытерла тыльной стороной ладони свои сухие глаза.
— За два дня, пока нас не обнаружили, — продолжила она при общем молчании, — мы прошли пять деревень, и везде нас кормили, забирали ослабевших и самых маленьких. Все женщины, у кого были свои дети осели в этих деревнях, так что нас осталось совсем немного — человек сорок. А тут опять немцы. Стали они нас нагонять. И мы разделились на три группы. Нашей группе повезло. Двум другим… Одну, уж точно, немцы окружили и взяли, потом загнали в сенной сарай и сожгли. Можно сказать, на наших глазах. Потому что мы, петляя, к вечеру вышли к этому сараю, а там уже все кончилось… одни головешки… Про другую группу так ничего и не слыхали. Может, им удалось спастись. Не знаем. А мы через неделю пристали к одной глухой деревушке: уже холода начались, дожди… В этой деревушке пробыли какое-то время, а потом ушли в лес, чтобы не накликать на нее беду, вырыли там землянки. Потом нас взяли к себе партизаны, мы два года жили с ними, а в конце прошлого года каратели стали окружать те места, партизаны прорвались и ушли, и немцы пошли за ними, а мы остались на запасной базе, про которую никто ничего не знал, так вот и просидели там до самого конца. Правда, многие из старших детдомовцев тоже стали партизанами, а вот эти двое, Саша Ничай и Дима Семичев, оставались нашей охраной…
Над головой вспыхнула молния, осветив притихшие деревья, лошадей и палатки, и тотчас же небо треснуло и обрушилось вниз всей своей невидимой твердью, которая пронеслась по невидимым желобам и упала где-то рядом. Вслед за громом загудели сосны, упали первые капли дождя.
— Не знаю, может, ваш детдом и сохранился: мы в тех краях не бывали, — заговорил раздумчиво Филипп Мануйлович, пуская из ноздрей табачный дым. — А только немец, отступая, ничего после себя не оставлял. А пуще немцев злобствовали эсэсовцы из чухонцев. После них даже печных труб не оставалось. Кошек, собак — и тех убивали. О людях я и не говорю. Ну, придете вы на место, а там что? Полная разруха. А потому предлагаю присоединяться к нам, — продолжил Филипп Васильевич. — Детей по семьям разберем. Я сам возьму кого-нибудь в свою семью, другие тоже. Замест своих детишек, что погибли… Не уберегли, значит… да… Придем на место, поставим какое-никакое жилье. Главное — зиму перезимовать, а там легче будет.
— Так-то оно так, — не согласился завхоз Охримич, — но там родная сторона, там наши корни. Опять же, государство поможет, потому как детдом, а к вам пристанем, никакой помощи не жди.
— И это верно, Апанас Григорич, — согласился Филипп Васильевич. — Но детдом — он детдом и есть. А тут семья. Пусть и не родная, а роднее родной может получиться. Народ у нас настрадался, чужую беду сердцем понимает, заботой не оставит. Это я со всей ответственностью вам говорю, как председатель колхоза и член партии. Конечно, насильно мил не будешь. Кто не хочет, пусть идет, а кто захочет… Я про этих речь веду, Апанас Григорич.
— Да и мы понимаем, Филипп Васильевич. Как не понять: тоже ведь натерпелись. Не дай и не приведи… А только на нас с Антониной Семеновной ответственность за каждую детдомовскую душу, с нас спросится, куда подевали тех или других.
— Бумагу напишем, что принимаем в свой колхоз на усыновление или там на удочерение, — робко вставила Елизавета. — Со всей ответственностью за детей перед советской властью. У нас и печать сельсоветовская имеется. И колхозная…
— Ох, и не знаю даже, что делать, — сокрушался завхоз. — Как думаешь, Антонина Семеновна?
— Надо с детьми посоветоваться, Апанас Григорьевич, — ответила воспитательница, и Филипп Васильевич догадался, что она в этом осколке детдома одна из главных, если не самая главная. Даже, может быть, главнее завхоза, но держится почему-то в тени. — Усыновление — об этом многие мечтают, — продолжила Антонина Семеновна без тени сомнения. — Особенно девочки. Может, задержимся на денек? — глянула вопросительно на Филиппа Васильевича, предложила: — Пусть ваши женщины познакомятся с детьми, может, кто и согласится.
— И то верно, — поддержал завхоз воспитательницу.
Только через день оба обоза разъехались в разные стороны, хотя детдомовский обоз состоял всего из двух одноконных телег. Население будущей деревни Лужи увеличилось на целых одиннадцать человек: на восемь девочек от семи до десяти лет и на двух мальчишек по девяти. Всех их разобрали по семьям, потерявшим кого-то из своих детишек. Взял мальчика себе и Филипп Васильевич. И звали мальчонку Владимир. И даже чем-то походил он на погибшего сына: такой же белобрысый и круглоголовый.
Еще через два дня обоз лужевцев въезжал в Валуевичи.
Города, который когда-то казался им большим и чуть ли ни центром вселенной, не было. На том месте, где он когда-то располагался, где были улицы, переулки и главная площадь, лежало безжизненное пространство, изрытое глубокими воронками и окопами, там и тут скалились вывернутыми наружу бревнами блиндажи и огневые точки, горбились груды кирпича на месте купеческих лабазов, церкви, синагоги, домов прошлых богатеев и местной власти. В этих кучах кое-где копошились старики и бабы, выбирая кирпичи и бревна, из уцелевших блиндажей торчали железные трубы, из труб повевало дымком, на лужайке тихо, без криков, возилась ребятня.
Обоз проследовал, не задерживаясь, сквозь руины районного центра, спустился к реке. Мост, который они когда-то сожгли, лежал, пересекая реку, наклонившись в одну сторону, сдвинутый с места, скорее всего, паводком. По нему давно, видать не ездили. Можно было бы остановиться на ночь, но все так рвались домой, что часа за два укрепили настил, подперев его стояками, и уже в сумерках по затравяневшей дороге въехали в мертвую деревню, некогда называвшуюся Лужами.
Три года они не были здесь. За три года пожарище заросло бурьяном, березняком и осинником, исчезла улица и переулки, лишь кое-где остатки труб пялились в небо мертвыми кукишами. Да гукал сыч в полутьме, окликая мертвых.
Глава 16
Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел СССР, заместитель Верховного главнокомандующего Красной армии, стоял в почтительной позе сбоку от стола, вынимал из папки бумаги, клал одну за другой перед Верховным главнокомандующим Сталиным, и тот, бегло пробежав бумагу глазами, подписывал ее в углу красным карандашом.
За этим же столом, но сбоку, сидел Лев Мехлис, бывший нарком Госконтроля СССР и бывший же заместитель председателя Совета народных комиссаров, вызванный в Москву за новым назначением. Он молча посматривал на Сталина и Берию и от нечего делать играл толстым красным же карандашом, вращая его между пальцами. Его аскетическое лицо не выражало ничего, кроме плохо скрываемой скуки: он не знал, зачем Сталин вызвал его с фронта, ждал разъяснений, не испытывая при этом ни волнения, ни каких бы то ни было затруднений, хотя не все шло гладко на Четвертом Украинском фронте, где Мехлис исполнял обязанности члена Военного совета, так что Сталин мог предъявить ему множество претензий. Однако это обстоятельство ничуть не удручало Льва Захаровича: он умел выкручиваться из любых положений, умел свалить свою вину на других с такой беспардонной наглостью, что Сталин, считающий, будто перед ним никто не может врать и лицемерить, принимал объяснения Мехлиса за чистую монету, а когда правда всплывала наружу, время бывало упущено и, опять же, находился очередной козел отпущения. Да и Мехлис — он рядом давно, предан, исполнителен, не слишком умен, зато лучше его мало кто умеет так подгонять тех, кто и умен, и знающ, но не слишком расторопен в исполнении воли Верховного.
На очередной бумаге, положенной Берией, Сталин задержал свой взгляд несколько дольше, рука его с карандашом опустилась, он поднял голову, глянул вприщур на своего заместителя по Государственному Комитету Обороны, спросил глуховатым, размеренно-замедленным голосом:
— А ты уверен, что они не сбегут к немцам еще раз? Тем более что это люди, которым, как ты здесь пишешь, нельзя доверить командные должности в Красной армии…
— Не сбегут, товарищ Сталин, — уверенно ответил Берия, сверкнув стеклами очков. И пояснил: — Не те времена. К тому же несколько батальонов мы испытали в деле при прорыве немецкой обороны в полосе Первого Белорусского фронта. Рокоссовский отзывается о них хорошо.
— И что, никто не сдался в плен? Ведь они не дураки и вполне понимают, что их посылают на верную смерть. А сдаться в плен — все-таки шанс остаться в живых.
В тоне Сталина не было ни осуждения, ни желания спорить, это был тон человека размышляющего вслух.
Берия, очень хорошо изучивший Хозяина, сменил тон с официального на доверительно-дружеский:
— Перед тем как направить этих людей в штрафные батальоны, мы тщательно их проверяем в фильтрационных лагерях. К тому же у них и в этом случае остается шанс выжить и вернуться к семьям. А сбегут к немцам, так мы их и там достанем. Я это учел…
— По-моему, Лаврентий, ты слишком либеральничаешь с этими… с позволения сказать, людьми, — неожиданно заговорил Мехлис, перебивая Берию. — Их надо было расстреливать там же, в немецких лагерях. А ты возишься с ними, народные деньги на них тратишь…
Сталин покосился на Мехлиса, усмехнулся, прикрыв усмешку рукой, как бы поправляющей усы, однако ничего не сказал.
— Кого надо, товарищ Мехлис, тех мы расстреливаем, — обрезал Мехлиса Берия. — А кого можно использовать для дела, тех используем для дела. НКВД тоже умеет считать народные деньги.
— Хорошо, Лаврентий, — согласился Сталин и добавил: — Исключительно под твою личную ответственность.
И подписал приказ о формировании еще десяти отдельных стрелковых штрафных батальонов из бывших офицеров Красной армии, либо освобожденных из фашистского плена, либо оставшихся в немецком тылу и по каким-то причинам не приставших к партизанам. Подумал немного, зачеркнул слово «штрафных», сверху написал «штурмовых», положил бумагу на другие, уже подписанные.
— Все?
— Нет, не все, товарищ Сталин, — ответил Берия, складывая бумаги в папку.
Сталин открыл коробку с табаком «Герцеговина флор», стал молча набивать трубку, искоса поглядывая на своего заместителя.
— Что у тебя еще?
— Есть данные, что некоторые командующие фронтами приписывают именно себе заслуги в поражении немцев и в победном наступлении Красной армии. Такая тональность звучит в их переговорах между собой, а также на различных фронтовых совещаниях…
— Я никогда не доверял генералам, — влез бесцеремонно Мехлис. — Особенно маршалам. Каждый маршал корчит из себя Наполеона.
Берия взглянул на Мехлиса, перевел взгляд на Сталина, заговорил снова, подчеркнуто обращаясь к Сталину и не замечая Мехлиса:
— С другой стороны, товарищ Сталин, среди фронтового младшего офицерского состава, в основном из вчерашних студентов и всяких там интеллигентов, наметилось либеральное поветрие относительно будущего России, как они выражаются в своей переписке. Одни из них считают, что после победы внутренняя политика должна измениться коренным образом в сторону либерализации и отхода от догматизма. Другие, наоборот, полагают, что отечественная война советского народа должна перерасти в войну революционную, осуждают введение погон, установление союзнических отношений с Англией и Америкой, роспуск коммунистического Интернационала, даже новый гимн Советского Союза, то есть целиком и полностью становятся на точку зрения Троцкого.
— Своего рода возрождение декабризма, однако направленного не вперед, а назад, в прошлое, — вымолвил Сталин будто самому себе, но Берия услыхал, поддержал осторожно:
— Очень похоже, товарищ Сталин.
— Кто эти люди по национальности?
— В основном русские. Но есть и евреи, хотя и немного…
— Их и не может быть много, — усмехнулся Сталин. — Много евреев в тылу, а не в действующей армии…
— Совершенно верно, — врезался в разговор Мехлис сварливым голосом. — Но все евреи, находящиеся в тылу, имеют соответствующую броню, поскольку работают на оборону. И работают ничуть не хуже, а чаще лучше неевреев. Между тем сам факт настроений, отмеченных НКВД… — Мехлис не закончил фразы, остановленный предостерегающим жестом Сталина, нервно передернул плечами, поправил очки, вдавив их в переносицу двумя пальцами, и стал похож на сову, которую ослепили ярким светом.
Сталин на Мехлиса не взглянул, повел рукой с зажатой в ней трубкой, заговорил, глядя на висящую на стене большую карту Советского Союза, утыканную разноцветными флажками:
— Сползание к мелкобуржуазным настроениям, с одной стороны, и к троцкистскому левачеству, с другой, в определенных кругах общества неизбежно, как неизбежно и то, что мы обязаны в зародыше пресекать всяческое отступление от большевистской, марксистско-ленинской идеологии, как враждебное не только нашей партии, но и народу. Попустительство таким настроениям может привести к лавинообразному скатыванию к буржуазной морали, к ее бездушному и бездуховному началу. Об этом никогда нельзя забывать, — и, повернувшись к Берии, глянул ему в лицо, спросил: — У тебя все?
— Теперь все, товарищ Сталин.
— Зато у меня не все. Как ты собираешься использовать тех немецких военнопленных, что уже взяты нашими войсками в Белоруссии?
— Мы изучаем разнарядки от наркоматов. Но уже сейчас ясно, что большую часть надо направить в Донбасс для восстановления промышленных предприятий. Остальных — на лесоповал. Стране нужен лес.
— Стране действительно очень нужен лес, — раздумчиво произнес Сталин. — Но народу еще больше нужно другое — чувство законного удовлетворения от побед Красной армии. Я думаю, что часть пленных надо провести через Москву… скажем, по Садовому кольцу. Пусть москвичи посмотрят на этих вояк, которые хотели поставить их на колени. Пусть русский народ почувствует, что нет силы, которая бы могла ему противостоять в открытом бою.
— Будет исполнено, товарищ Сталин.
— Кстати, ты выяснил национальный состав немецких войск?
— Выяснил, товарищ Сталин. — Берия раскрыл папку, вынул листок, положил перед Сталиным. — Это последние данные, которые получены аналитическим управлением НКВД.
— Прочитай, а мы с Мехлисом послушаем.
— Из общего количества военнопленных на сегодняшний день немцы и австрийцы составляют почти две трети, — начал то ли читать, то ли пересказывать написанное Берия, слегка согнувшись над столом. — Третья часть приходится на румын, венгров, французов, итальянцев, финнов, бельгийцев, чехов, поляков и представителей других государств и народов Европы. Из этого сброда французов больше всего — больше четверти.
— Почти как в двенадцатом году, — негромко, будто про себя, произнес Сталин. — Поход двунадесяти языков…
Берия молчал, смотрел на Сталина, ждал.
— Что там еще? — Сталин поднял голову.
— На стороне немцев воюют дивизии СС, полностью скомплектованные из добровольцев по национальному признаку. Из Скандинавии — дивизия СС «Нордланд», из Бельгии — дивизия СС «Лангемарк», из Франции — дивизия «СС» «Шарлемань»… Есть дивизии и бригады «СС» из эстонцев, латышей и литовцев, которые сражались против нас или участвовали в карательных акциях против партизан и населения оккупированных территорий…
— Эти дивизии, товарищ Сталин, только по названию добровольческие, — перебил Берию Мехлис. — На самом деле туда загоняли людей под страхом смерти. Нам хорошо известно, товарищ Сталин…
Мехлис встал и, упираясь костяшками пальцев в стол, смотрел на Сталина не отрываясь, даже не мигая, подавшись к нему всем телом, будто гипнотизируя его. Лицо его, изборожденное резкими морщинами, дергалось одной стороной, кривился узкий рот.
— Нам хорошо известно, — повторил он с нажимом, — что рабочий класс капиталистических стран Европы был поставлен под ружье силой и обманом, злобной клеветой на Советский Союз, разнузданной нацистской демагогией, отвратительным антисемитизмом. Вся эта статистика, товарищ Сталин, не стоит выеденного яйца. Она не отражает существа дела, классовой наполненности исторической действительности, которая открыта и обоснована великим Марксом, развита гениальным Лениным и вами, товарищ Сталин. Товарищ Берия слишком увлекся формальной статистикой в ущерб классовому содержанию нашей эпохи.
Мехлис замолчал, сел, было слышно, как тяжело, с натугой он дышит: после трагических событий сорок второго года в Крыму он стал еще более ожесточенным и нетерпимым, поговаривали, что и с нервами у него не все в порядке.
На какое-то время в кабинете повисла тишина.
Берия, так и не закончивший фразы, ждал, как воспримет Сталин столь наглую выходку Мехлиса. Сталин пару раз пыхнул дымом, повел рукой, заговорил:
— Армия, которую гонят в бой палкой, ненадежная армия. Такая армия не смогла бы одерживать победы в ожесточенной и кровопролитной войне. Такая армия не способна к ожесточенному сопротивлению, какое мы наблюдаем сегодня. Из всех народов, которые подверглись германской агрессии, лишь русские и сербы оказались наиболее стойкими. Они не сложили оружия и продолжают драться, несмотря на огромные жертвы. Французы, бельгийцы и прочие приняли германскую оккупацию покорно и с охотой пошли служить в ее армию. Мехлис прав только в одном: эту статистику нельзя обнародовать. Пусть она останется для историков. Они разберутся. Потом. Когда-нибудь. А нам приходится заниматься реальной политикой, имея в виду реальных людей. Кстати сказать, под Сталинградом мы прорывали оборону противника именно в тех местах, где ее держали румынские, итальянские и венгерские войска. Это и есть учет всех реальностей для достижения стратегических целей.
Берия положил листок в папку, слегка перегнулся в пояснице, и стало видно, что его военный костюм скрывает непропорционально короткие ноги и удлиненное туловище.
— Ты у кого, Лаврентий, шьешь свои костюмы? — Сталин смотрел на наркома насмешливыми глазами, попыхивая трубкой.
— В спецателье. Где и все, товарищ Сталин, — насторожился Берия. — Что-нибудь не так?
— Нет, все так. Хороший костюм. А хороший костюм призван скрывать наши недостатки, как красивая фразеология скрывает некрасивые мысли…
— У меня нет таких мыслей, товарищ Сталин, — выпрямился Лаврентий Павлович, слегка отвернув голову и опустив обиженно уголки губ.
— А никто и не говорит, что они у тебя есть, — бесцеремонно влез в разговор Мехлис. — Товарищ Сталин в данном случае рассуждает чисто теоретически.
— Товарищ Мехлис и на этот раз прав, — снова усмехнулся Сталин. И спросил: — Кстати, Лаврентий, как продвигаются дела с расследованием предательства со стороны чеченцев, ингушей, крымских татар и других народов?
— Специальные комиссии работают на местах, собирают материалы. Немецкие прихвостни и пособники тщательно скрывали следы своих преступлений, не оставляя свидетелей. Выявляем отдельные элементы, которые участвовали в карательных мероприятиях немцев против партизан, против русского населения кубанских и терских станиц. Нами захвачены кинодокументы, доказывающие, что перечисленные вами народы немцев встречали хлебом-солью, дарили бурки и горские кинжалы офицерам «СС», направляли верноподданнические петиции Гитлеру, выступали не только проводниками в горах, но и в качестве членов активных боевых формирований. Большинство предателей ушло с немцами, воюют в спецподразделениях «СС» против партизан Югославии, Италии и других стран. Есть там и отдельный казачий корпус, и отдельные мусульманские батальоны и бригады. В последнее время замечено появление отдельных частей из этих предателей в рядах немецкой армии на ряде участков советско-германского фронта. В плен, как правило, не сдаются. Но тех немногих пленных из названных народов мы привозим на места их преступлений и проводим дознания. Остались кое-какие недобитки в горах. Мы проводим прочесывание местности, но людей не хватает. Используем курсантов военных училищ, но от них мало проку.
— Для курсантов военных училищ это хорошая школа… Но затягивать с очисткой территорий нельзя: переселенцы на Северный Кавказ должны работать и чувствовать себя в безопасности. Это вопрос не только политический, но и экономический.
— Мы понимаем, товарищ Сталин. С Северного Кавказа в основном всех элементов, замешанных в сотрудничестве с немцами, выслали еще весной. На очереди крымские татары.
— Между прочим, руками этих подонков истреблены тысячи и тысячи евреев, — снова влез Мехлис, и очки его сверкнули праведным гневом.
— Евреи — лишь незначительная часть тех жертв, которые понесли русский, украинский и белорусский народы, — негромко возразил Сталин. Посмотрел на Мехлиса недобро сощурившимися глазами, добавил: — А на совести товарища Мехлиса погибших русских и представителей народов Средней Азии в Крымской операции в сотни раз больше, чем всех евреев, погибших на фронте с начала войны. — И, вяло махнув рукой: — Я вас больше не задерживаю…
Берия попятился, несколько шагов прошел задом, затем боком, у двери снова повернулся лицом к Сталину, открыл ее, вышел, закрывать не стал.
Мехлис, поднявшись со стула, медлил, вопросительно глядя на Сталина, нервно жевал губами: ему явно хотелось возразить, оправдаться, но он не решался, зная, что Сталин может грубо оборвать, унизить. А тот снова возился с трубкой и не обращал на Мехлиса никакого внимания, будто того уже и не было в кабинете.
Мехлис передернул плечами и тоже вышел.
В «предбаннике» его окликнул секретарь Сталина Поскребышев:
— Вам, товарищ Мехлис, надлежит явиться в политуправление РККА за новым назначением. — И тут же стал кому-то названивать.
Пока Берия и Мехлис шли по ковровой дорожке к двери, Сталин искоса смотрел вслед то одному, то другому. Он хорошо знал обоих, знал, что движет их поступками. Может быть, снова перетряхнуть наркомат внутренних дел? Подсунуть Берии того же Мехлиса в заместители? Соперничество обнажает человеческие характеры и устремления… Особенно среди евреев, дорвавшихся до власти. Эту черту их характера всегда полезно использовать. А Берия — мегрел, мегрелы считаются грузинскими евреями. И в аппарате у него полно мегрелов… Про них в Грузии говорят: «Мегрел не скажет: „Украл коня“. Скажет: „Конь меня унес…“»
Впрочем, нет: пусть так все и остается до конца войны. Там будет видно. Одно несомненно: преданные лично товарищу Сталину люди могут быть более опасны, чем откровенные враги. Недаром слова «преданность» и «предательство» одного корня.
Глава 17
Нажав кнопку вызова, Сталин вышел из-за стола. Дверь тотчас же открылась, заглянул Поскребышев.
— Пригласи ко мне порученца, — произнес Сталин. — И приготовь чаю… Покрепче. — И неспешно направился к отдельному столу, стоящему чуть в стороне, на котором разложены подробные топографические карты фронтов.
Дверь раскрылась шире, в кабинет стремительно вошел высокий, широкоплечий полковник в приталенном зеленом кителе, синих бриджах, хромовых сапогах. В левой руке, прижатой к бедру, коричневая папка, правая отмахивает сдержанно и напряженно. Да и вся его стройная фигура, круглое — типично русское — лицо, с мягкими светло-русыми волосами, выражает скрытое напряжение, какое бывает у студентов, приближающихся к столу строгого экзаменатора.
Полковник остановился в двух шагах от Сталина, произнес на одном выдохе:
— Товарищ Верховный Главнокомандующий…
Сталин слегка приподнял левую руку с дымящейся в ней трубкой, шагнул навстречу полковнику, глядя ему в серо-голубые глаза своими рыжеватыми глазами, протянул правую руку и, пожимая руку полковника, произнес глуховатым голосом:
— Здравствуйте, товарищ Матов. Надеюсь, вы успели отдохнуть с дороги?
— Так точно, товарищ Сталин, успел, — ответил полковник Матов, и было заметно, как напряжение отпускает его: бледное лицо порозовело, дышать он стал свободнее.
— Вот и хорошо. Какое впечатление сложилось у вас от посещения фронта?
— Общее впечатление от наступления Первого Белорусского фронта весьма благоприятное, товарищ Сталин. Хотя отмечаются определенные сложности в продвижении войск по сильно пересеченной местности, которые можно было бы избежать. Особенно это касается танковых и механизированных войск.
— Что вы имеете в виду, товарищ Матов?
— Имеется в виду, что танковые подразделения движутся в основном по дорогам, а именно там немцы организовали сильные узлы сопротивления. Отсюда неоправданно большие потери материальной части и личного состава сопровождающих танки пехотных подразделений. И это при том, что практически везде в таких случаях имелись условия для фланговых охватов и удара с тыла.
— Покажите мне на карте, товарищ Матов, где, в каких местах возникали подобные сложности, — предложил Сталин, жестом приглашая Матова к столу.
Они склонились над картой, и Матов, взяв толстый красный карандаш, лежащий здесь же, на карте, стал показывать, в каких пунктах у наступающих войск возникали те или иные затруднения, каким образом командование выходило из этих затруднений, не давая оценки ни самим затруднениям, ни действиям командования.
Сталин слушал молча и таким же карандашом отмечал пункты, указанные полковником, медленно кивал головой.
Когда Матов закончил свой доклад и ответил на множество уточняющих вопросов, Сталин вдруг неожиданно спросил:
— Что вы можете сказать о нынешнем влиянии Генштаба на ход боевых операций в масштабах фронта?
— Насколько я понимаю, товарищ Сталин, роль Генштаба в нынешних условиях сводится к координации действий фронтов, исходящей из общей обстановки на советско-германском фронте и военно-политической обстановки в Европе и мире. Я исхожу из того факта, что непосредственное руководство войсками фронтов практически полностью перешло в руки их командующих. Ну и, разумеется, контроль за исполнением директив Ставки…
— Вы считаете это правильным?
— Я уверен, что сама жизнь подсказала именно такие изменения во взаимоотношениях Генштаба с действующей армией, — отчеканил полковник Матов.
Поскребышев внес поднос с чашками, двумя чайниками, сахарницей, пирожками и булочками, поставил на край стола.
— Угощайтесь, товарищ Матов, — повел Сталин рукой и, положив трубку, налил из одного чайника, из другого, положил кусочек сахару, взял с подноса блюдце с чашкой, перешел к другому концу стола, помешивая ложечкой в чашке.
Матов, поблагодарив, последовал его примеру.
Сталин молчал, рассматривая карту, пил чай мелкими глотками. Заметив, что полковник тоже, как и он, не притронулся к пирожкам, посоветовал, произнося слова с несколько усиленным грузинским акцентом:
— Ви кушайте, товарищ Матов, не берите пример с товарища Сталина. Ви молоды, ви должны хорошо кушать. Тем более что это очень вкусные пирожки.
Матов поблагодарил, взял пирожок.
Допив чай, Сталин отошел от стола, пошел к двери. Матов следил за ним глазами, стоя у стола, не понимая, почему Верховный Главнокомандующий задал ему эти вопросы, ему, который в системе Генштаба играет далеко не ведущую роль. Его задача — проконтролировать выполнение решений Ставки на том или ином участке фронта и доложить своему непосредственному начальнику. Разумеется, он информирован о положении на советско-германском фронте значительно шире любого командующего армией и даже иного командующего фронтом. Разумеется, у него есть свое собственное мнение на те или иные события, но его мнение интересует лишь его непосредственного начальника. Да и того далеко не всегда.
Это был третий вызов Матова к Сталину. Первый состоялся в начале ноября сорок первого, когда готовилось окружение немецких войск под Сталинградом. Тот, первый, вызов в Кремль был неожиданен не только для Матова, но и для его непосредственного начальника генерал-майора Угланова. Да и для заместителя начальника Генштаба генерала Антонова. Каждый из них этот неожиданный вызов их подчиненного Верховным Главнокомандующим связал с самим собой, с какими-то оплошностями и упущениями по службе. Но ни тот, ни другой даже не решился инструктировать майора Матова, боясь оказаться в ложном положении.
Все оказалось очень просто: Сталин хотел получить информацию из первых рук, информацию подробную, свежую, не замутненную никакими расчетами и соображениями. Матов оказался одним из первых, кто проторил дорогу в кабинет Верховного. Одних Сталин вызывал чаще, других реже, третьих всего лишь по одному разу. Последний раз Матов был у Сталина в чине подполковника весной сорок третьего. Сталин интересовался моральным состоянием наших войск, совсем недавно отброшенных мощным контрударом противника, вынужденных во второй раз оставить Харьков. С тех пор Верховный, как показалось Матову, еще больше постарел, волосы на его голове поредели, в них прибавилось седины, он располнел, когда же наклонял голову, явно выделялся второй подбородок. И до этого неспешные движения Верховного стали еще более замедленными, он подолгу молчал, вглядываясь в карту, что-то прикидывая в уме, зато вопросы его говорили о том, что Сталин многому научился за эти годы поражений и побед, он теперь свободно ориентировался на карте, различные значки и стрелки, кружочки и квадратики не вызывали у него былых затруднений.
Сталин вернулся к столу, глянул на Матова оценивающим взглядом, неожиданно спросил:
— Какие у вас отношения со своим новым начальником?
— Нормальные, товарищ Сталин. Отношения, продиктованные воинским уставом и делами службы.
— Это хорошо, что вы защищаете своего начальника. Но мне известно, что вы подали рапорт с просьбой отправить вас в действующую армию…
— Так точно, товарищ Сталин. Но это не имеет отношения к делам моей службы.
— Если мне не изменяет память, вы закончили академию имени Фрунзе в сорок первом…
— Так точно, товарищ Сталин.
— И войну, помнится, вы начали комбатом?
— Так точно, товарищ Сталин, — подтвердил Матов, глядя сверху вниз на Верховного.
— Как я понимаю, вам, товарищ Матов, хочется вернуться в действующую армию?
— Хочется, товарищ Сталин.
— Что ж, проверить на практике опыт, накопленный в Генштабе, желание вполне объяснимое. — Сталин поднял голову, пытливо глянул в серо-голубые глаза полковника. — Вы ведь долгое время работали с генералом Углановым?
— Так точно, товарищ Сталин.
— Кстати, как здоровье генерала Угланова?
— Он выписался из госпиталя и сейчас находится в Чите, занимается вопросами формирования новых воинских подразделений.
— На какую должность в действующей армии вы рассчитываете, товарищ Матов?
— Могу командовать батальоном, полком…
— Дивизию потянете?
И снова вопрос был неожиданным, потому что на дивизию Матов не рассчитывал, самое большее — на полк или на должность начальника штаба дивизии. Но на него в упор смотрели желтоватые глаза Сталина, сомневаться или отказываться от предложения самого Верховного он не имел права.
— Так точно, товарищ Сталин, потяну, — ответил Матов, поколебавшись разве что мгновение.
— Мне нравится ваша уверенность, товарищ Матов, — удовлетворенно кивнул головой Сталин. — Поезжайте к товарищу Угланову, примите участие в формировании своей дивизии, а потом — на фронт. Уверен, что вы оправдаете доверие командования и не подкачаете в боевой обстановке.
— Благодарю вас, товарищ Сталин, за оказанное доверие! Служу Советскому Союзу! — выпалил полковник Матов.
— Очень хорошо, товарищ Матов. Желаю вам успехов на новом поприще.
Сталин подошел к полковнику, протянул ему руку. Пристально глянул в глаза. Он знал, что полковник, кем бы он ни стал в будущем, это внимание к себе запомнит навсегда и судить о нем, о Сталине, будет всегда по этой с ним встрече, следовательно, у товарища Сталина еще на одного ревностного сторонника стало больше. Не отпуская руки полковника, Сталин произнес:
— Передайте привет генералу Угланову от товарища Сталина. Ми всегда помним, что товарищ Угланов бил особенно полезен Красной армии в первие, самие трудние годы войны.
— Непременно передам, товарищ Сталин. Разрешите идти?
— Хорошо… Идите, товарищ Матов. Еще раз желаю вам успехов.
— Благодарю вас, товарищ Сталин, за доброе пожелание.
Матов повернулся через левое плечо кругом и быстро вышел из кабинета.
* * *
Когда за полковником закрылась дверь, Сталин снял трубку ВЧ-связи с командующими фронтами. Негромко произнес:
— Соедините меня с Рокоссовским.
Командующий Первым Белорусским фронтом будто ожидал звонка, тотчас же взял трубку.
— Как дела, товарищ Рокоссовский? — спросил Сталин.
— Наступление вверенного мне фронта идет строго по графику, товарищ Сталин, — зазвучал в трубке знакомый голос маршала. — А в некоторых местах даже с опережением графика.
— Это очень хорошо, товарищ Рокоссовский. Одно плохо, что в графике, утвержденном Ставкой Верховного командования Красной армии, — не спеша и не меняя интонации, говорил Сталин, — не предусматриваются такие большие потери танков и другой боевой техники. Некоторые ваши подчиненные почему-то боятся оставлять в своем тылу гарнизоны противника. Мы, товарищ Рокоссовский, считаем, что пора избавляться от психологии сорок первого года. Тогда и потери в танках и живой силе будут значительно меньше. Учтите это пожелание Ставки, товарищ Рокоссовский.
С этими словами Сталин положил трубку, уверенный, что не только смутил командующего фронтом своей осведомленностью, но и понудил его к более решительным действиям. А Сталину очень были нужны крупные успехи Красной армии в этом летнем наступлении: имея такие успехи, легче будет разговаривать со своими союзниками на предстоящей Ялтинской конференции.
Сталин ожидал от этой конференции многого, видел будущее устройство мира совершенно на других основаниях, и в этом мире роль Советского Союза, России должна быть ведущей, если не решающей. Опыт, к тому же, говорил ему, что союзникам доверять нельзя, на них можно рассчитывать лишь в том случае, когда им это выгодно. А выгодно им, в конечном счете, иметь ослабленную Россию, целиком и полностью зависимую от них. Допустить это он не имеет права. Потомки простят ему многое, только не это. А что касается народов Европы… Что ж, перед войной ошиблись, полагая, что начало войны против СССР поднимет эти народы — и в первую очередь пролетариат — на защиту государства рабочих и крестьян. Народы не поднялись, пролетариат тоже. Более того, выяснилось, что европейские народы по-прежнему, как и сотни лет назад, смотрят на Россию, на русский народ как на своего естественного и извечного врага, победить который и подчинить себе считается исторической необходимостью, даже предопределенностью, непременным условием выживания европейских народов и европейской цивилизации. Так тем настойчивее надо работать, чтобы внушить народам Европы совершенно другие мысли и представления о Советском Союзе, о России.
Думая так, Сталин не был уверен, что это возможно: побежденные никогда не испытывают признательности к победителям. А народы Европы должны испытывать чувство униженности и неудовлетворенности от итогов заканчивающейся войны, победа в которой по праву должна принадлежать России, русскому народу. Однако чувства — это одно, практическая политика — совсем другое. А практическая политика требует исподволь готовиться к худшему, держать порох сухим и ни к кому не идти на поклон. Народы, как и их правительства, уважают только силу.
Глава 18
Весна в этом году выдалась поздней. Уже апрель, а морозы, снегопады и метели идут рука об руку, точно решили не пускать весну в нашу деревню. Но снег снегом, мороз морозом, а в школу идти все равно надо. Потому что, как сказал папа, в детстве не выучишься, потом не наверстаешь и не станешь настоящим человеком. И я стараюсь, очень стараюсь, чтобы стать настоящим человеком. А еще потому, что наша учительница Анна Федоровна дает мне специальные задания на дом за второй и даже за третий класс, я все задания выполнил, и мне самому хочется услышать от не похвалу.
— Вставай, Витюшка, в школу пора, — шепчет мама, гладя меня по голове. — Вставай, маленький, а то опоздаешь.
Я с трудом разлепляю глаза, приподнимаюсь. Тускло светит керосиновая лампа, поскрипывает от мороза изба, все затянуто липкой паутиной сна. К тому же два дня подряд был такой снегопад, такая бесновалась пурга, что ничего не видно в двух шагах, и мама сама сказала вчера вечером, заглядывая в замерзшее окно, что и завтра в школу я не пойду. А то мало ли что.
Видя, что я проснулся, она спустилась с приступков печи на пол, осторожно загремела заслонкой, затем по поду печи и загнетке прошаркал чугунок с кашей. Звуки эти расплываются в застоявшемся воздухе избы, обволакивают меня мягкими пеленами — я падаю на подушку, вдыхаю неистребимую кирпично-гляняно-известковую пыль и снова проваливаюсь в торопливо-пугливый сон.
Мама возвращается, голос ее сердит:
— Вставай! Вставай, сынок! Сколько раз надо говорить тебе одно и то же? И на дворе тихо. Пурги нет, луна светит вовсю. А то, не дай бог, отстанешь от ребят и опоздаешь.
Я с трудом выкарабкиваюсь из сна на поверхность и сползаю с печи, ополаскиваю лицо холодной водой, сажусь за стол, ем пшенную кашу, выпиваю стакан козьего молока, потому что у нас еще с прошлого года появилась настоящая коза, и завидую сестре, которая спит и горя не знает: в школу ей не идти.
Потом я одеваюсь. Сперва шерстяные чулки, потом штаны, потом еще одни штаны, потом рубашки и толстый свитер, потом мамин шерстяной платок, поверх всего кофту, перешитую из маминой же на мой рост, а сверх всего нечто похожее на кафтан, только короткополый, сделанный из байкового одеяла с шелковой подкладкой из маминого платья. Голову мама повязывает мне своей косынкой, потом шерстяным шарфом, потом на нее натягивает шапку, тесемки завязывает под подбородком, через плечо вешает холщовую сумку с тетрадками и книжками, с двумя шаньгами и маленькой бутылочкой молока — предмет зависти и насмешек моих одноклассников. Все, я готов в школу. Вернее, к дороге к ней.
Мы вместе с мамой выходим в сени. Стены и потолок в сенях искрятся в свете лампы от инея, пол повизгивает под ногами. Здесь, перед дверью, происходит закрепление на валенках лыж. Наконец я беру в руки палки, мама открывает дверь, помогает мне спуститься с крылечка. Впрочем, спускаться я могу и сам: снега так много, что он скрыл ступеньки, и я сразу же оказываюсь на сугробе, наметенном за два дня беспрерывной пурги.
Деревня спит. Ни огонька, ни звука. Не видно и моих товарищей: то ли уже ушли, не дождавшись меня, то ли еще не вышли.
— Ну, ты иди, сынок, иди, — торопит мама, стоя на крыльце и кутаясь в платок. — Иди, мой мальчик, иди. А то опоздаешь.
Мама ужасно боится опозданий, и часто ее разговоры о чем-либо содержат всякие примеры опозданий кого-нибудь куда-нибудь и печальных последствий, связанных с этими опозданиями. Может быть, отсюда у меня привычка приходить вовремя и даже чуть раньше, но ни в коем случае не опаздывать. И даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости.
Я отталкиваюсь палками и выползаю на улицу. На душе тревожно. С темного неба смотрят звезды, перемаргиваются, тонкий серпик месяца в пуховом чепце висит высоко, хотя обычно он уже цепляется своими рожками за зубчатую гряду леса, чернеющего в той стороне, откуда течет река Чусовая. Улица переметена сугробами, то твердыми, как лед, на которых разъезжаются мои самодельные лыжи, то рыхлыми, как пыль, в которую ноги проваливаются чуть ни по колено. И ни единого следа: ни лыжного, ни пешеходного, ни санного. Наверное, мама разбудила меня слишком рано. А все оттого, что папы уже несколько дней нет дома: он уехал в город Чусовой по каким-то своим делам и увез с собой часы. Мама боится, что пурга застала его в пути, и все эти дни, когда мы и носа не высовывали на улицу, она «не находит себе места».
Я прохожу всю деревню, заваленную снегом чуть ли ни по самые крыши, и останавливаюсь на берегу реки. Сама река лишь угадывается более темным и крутым противоположным берегом. Подняться на тот берег на лыжах самостоятельно мне еще не удавалось ни разу — только с помощью Тольки Третьякова, который ходит вместе со мной в первый класс, хотя ему уже десять лет. Но это в том случае, если я успеваю выйти из дому вместе со всеми: деревенские и ходят на лыжах быстрее, и держатся друг за дружку, а я среди них как был чужим, так и остался, хотя жидом меня уже не дразнят. Да и то лишь потому, что я два раза жестоко подрался с Федькой и Пашкой. Борисовские, однако, время от времени меня поколачивают — все за то же самое. Правда, они поколачивают и других эвакуированных, но реже, потому что те не сопротивляются. А я отбиваюсь, сколько могу, пока меня не втопчут в сугроб. При этом тот же Толька Третьяков и все остальные третьяковские стоят рядом и равнодушно наблюдают, как меня втаптывают.
Не могу сказать, что мне больно, зато обидно — до слез, до зубовного скрежета и желания самому бить всех подряд, чтобы кричали от боли и страха. Но их много, а я один, и моей звериной ожесточенности на всех не хватает.
Поначалу я жаловался маме, она приходила в школу, с кем-то говорила, плакала, но из ее заступничества получилось совсем не то, на что она рассчитывала: бить меня стали еще чаще. И я перестал жаловаться. Более того, я привык к этим потасовкам и, как только натыкался на ватагу мальчишек, уже сам кидался на кого-нибудь из тех, кто поближе, кидался с такой яростью, что это на какое-то время огорошивало моих противников, но затем они наваливались на меня всей кучей и, пыхтя от усердия, завершали свое дело, которое не вызывало у них ни радости победы, ни удовлетворения — ровным счетом ничего, будто они выполняли скучное, но необходимое домашнее задание.
Однажды очередная потасовка началась на глазах Тамары Земляковой, и она, не раздумывая, кинулась на мою защиту. Это, пожалуй, единственный раз, когда мои враги позорно разбежались, так и не завершив свое нападение. Но, странное дело: я почему-то совсем не обрадовался Томкиному вмешательству. Скорее всего, потому, что предвидел более жестокую схватку в следующий раз. И точно: впервые мне разбили нос и посадили под глазом синяк. На этот раз вмешался мой папа, и меня на какое-то время оставили в покое. Затем все началось… вернее, продолжилось по заведенному обычаю.
В классе я — первый ученик. Я бегло читаю, знаю наизусть несколько длинных стихотворений из Пушкина, Лермонтова и Некрасова, без труда слагаю и вычитаю до ста. Всему этому меня научила мама в долгие зимние вечера, хотя сама она закончила лишь два класса церковно-приходской школы, читает с трудом, чтение для нее есть «сущее наказание» и чуть ли ни причина многих человеческих несчастий. Поэтому она так настойчиво учила меня читать, чтобы я занимался этим делом самостоятельно и больше к ней не приставал.
За первое полугодие мне выдали грамоту и подарили толстую книжку сказок Пушкина с картинками — единственному из всего класса. Одноклассники завидуют мне и дразнят меня «прохвессором», хотя мало кто из них знает, что это слово означает. Я тоже не знал, пока мне не объяснил папа. С воплями: «Бей прохвессора!» они и кидаются теперь на меня. От всего этого я начинаю ненавидеть школу, учительницу, которая постоянно хвалит меня и ставит всем в пример, чаще других вызывая к доске, чтобы я показал, как надо правильно читать и решать задачки на сложение и вычитание. Я не понимаю, чем это плохо и почему за это надо бить.
Мама объясняет нелюбовь ко мне моих сверстников тем, что она, эта нелюбовь, идет от отцов и матерей этих мальчишек, недовольных вторжением чужих людей в их устоявшуюся жизнь, их незажившими обидами со стороны властей, тем, наконец, что мы — городские, а городских не любят нигде. И это мне тоже не понятно: в книжках, которые я читаю, ничего похожего нет, а если кого-то и бьют, то беляков и буржуев, и не деревенские, а пролетарии всех стран. А мой папа — пролетарий, и мама — тоже, потому что они работали на заводе, а не в конторе. И какие еще там незажившие обиды, от каких таких властей? Не от советской же власти, которая самая справедливая на свете, а от царской и буржуйской.
Наша классная учительница, старая рыхлая женщина, говорила моей маме, что меня хорошо бы перевести во второй класс, потому что мне не интересно в первом, но во втором классе мальчишки еще старше меня, еще сильнее, там все надо начинать как бы заново, а к нынешнему своему положению я уже привык. Я испугался — и мама не решилась меня переводить. Да и папа против.
— Если переводить, то надо было после первой четверти, а сейчас поздно, — говорит он. — Вот вернемся в Питер, там все будет по-другому.
«Уж скорее бы вернуться», — думаю я, оглядываясь: не появится ли кто-нибудь из моих спутников. Нет, ни сзади, ни спереди — никого. И кажется, что в избах, по самые крыши засыпанных снегом, никто не живет, потому что все померли по какой-то причине, и только моя мама и сестренка еще живы, но ничего не знают о случившейся беде.
Глава 19
У последней избы я сворачиваю на дорогу вдоль Чусовой. И неожиданно обнаруживаю свежие следы от санных полозьев, а кое-где попадаются темные ошметки сена: видать, кто-то очень рано, еще ночью, ездил за сеном к дальним зародам.
Дорога вдоль реки длиннее вдвое, зато не нужно подниматься на высокий и крутой берег. И вообще с некоторых пор я лучше и увереннее чувствую себя, когда хожу в школу один: не надо ни за кем гнаться, спотыкаясь и падая, нет того чувства зависимости от других, которое сковывает и что-то отнимает, ничего не давая взамен. Я, конечно, не понимаю всех этих тонкостей, но всегда рад, когда опаздываю или ухожу раньше других. А домой после школы я почти всегда возвращаюсь длинным путем, потому что на этом пути стоит папина кузня, и поэтому преодолеваю свой путь почти всегда в одиночестве.
А кузня…
Вот я открываю дверь, на меня пышет жаром, в полумраке раскачиваются две тени, сопят меха, раздувая пламя, бухает тяжелый молот, которым машет дядя Трофим, потому что он самый сильный, даже сильнее моего папы, ему звонко вторит молоток, и дядя Трофим радостно кричит, завидев меня:
— Гаврилыч, мотри-ка, твой ученик пришел!
Папа достукает молотком железку, сунет ее в бочку с водой, снимет фартук, подойдет ко мне, спросит:
— Ну, как? — спросит он. — Много двоек получил?
— Сто штук! — весело отвечу я.
— Ни с кем не подрался?
— Не-а, — совру я, чтобы не огорчать папу.
— Ничего, — скажет папа. — За одного битого двух небитых дают. Давай обедать.
И мы, как всегда, сядем обедать вокруг большого ящика, на ящике большая глиняная миска, в ней щи. Мы по очереди таскаем деревянными ложками щи из миски, заедая черным домашним хлебом. Потом из той же миски едим кашу. И щи, и каша такие же, как дома, но в кузне обедать куда интереснее и вкуснее. Пообедав, я буду стучать молотком по полоске железа, стараясь выковать из нее саблю, самую острую на свете. Правда, молоток маленький, да и полоска холодная, не нагретая в горне, поэтому и сабля у меня не получается так быстро, как если бы я ковал ее по-настоящему. Но папа к горну меня не подпускает: мал еще, однако ковать не препятствует. Я упорный, железка подается под ударами моего молотка, и когда-нибудь я свою саблю выкую. Тем более что в кузне я забываю обо всех обидах, вижу себя большим и сильным, мне некого бояться, и никто не смеет тронуть меня даже пальцем.
Иногда домой я возвращаюсь вместе с папой и дядей Трофимом на санях, но чаще всего ухожу один, пока не стемнело. Потому что мне надо успеть сделать уроки. Особенно по чистописанию: с этим у меня хуже всего.
Да только сегодня папы в кузне не будет, потому что он в городе, и я, скорее всего, домой пойду вместе со всеми. Если меня подождут.
Ну и ладно.
Я ползу по дороге — одной лыжей по санному следу, другой по целине. Идти тяжело, потому что большая отдача, и я часто падаю, хотя лыжи натерты воском. Но вот и мостик через овраг. Со всех сторон стоит густой елово-пихтовый лес, деревья закутаны в белые шубы по самые макушки. Ни звука. Лишь скрипит снег под моими лыжами и палками, да белое облако пара от дыхания окутывает лицо, наращивая вокруг него воротник из инея.
Я не заметил, как санный след повернул в сторону от Чусовой. Да и по сторонам не смотрел: что толку смотреть, когда почти ничего не видно. Даже санный след — и тот едва виден. Мне бы с него не сбиться — и то хорошо. Я очнулся лишь тогда, когда понял, что иду-иду, а папиной кузни все нет и нет. И куда ни глянь, все поле и поле, а лес с обеих сторон отступил куда-то вдаль.
И тут впереди, совсем близко, я разглядел темную громадину зарода сена, похожего на большущий сарай, огороженный жердяным забором. Несколько раз мы с папой ездили сюда за сеном для лошадей, работающих и живущих при кузнице. Это так далеко, что даже на лошади ехать надо долго-предолго.
В Борисове и окрестных деревнях с некоторых пор вообще очень много лошадей. Это все военные лошади, которых ранили на фронте, потом подлечили и отправили на поправку к нам. Эти лошади сильно отличаются от местных: они рослые, норовистые, иногда злые, а председатель нашего колхоза с прошлой осени запрягает в свою повозку вороного жеребца по кличке Черт, и когда тот несется по улице, задрав и скособочив оскаленную морду, все разбегаются по сторонам. На этом Черте, надо думать, ездил самый большой красный командир и рубил немецких гитлеров направо и налево. Может, сам Буденный. А теперь вот наш председатель, на красного командира совсем не похожий.
Я стою возле зарода и не знаю, что делать. То есть я, конечно, знаю, что надо поворачивать назад, но я знаю также, что назад — это до самой реки — очень и очень далеко. А я уже устал брести одной ногой по полозу, другой по целине. И наверняка опоздаю в школу. А главное, все не светает и не светает, хотя обычно, когда я подхожу к кузне, начинает развидняться, и река видна, и дорога, и лес. А тут сколько иду, все темно и темно. И месяц едва-едва приблизился к кромке далекого леса.
Я всхлипываю от жалости к самому себе и поворачиваю назад.
И тут откуда-то издалека до слуха моего долетел призывный волчий вой. Я остановился, замер, отогнул шапку, выставил наружу ухо.
Волчий вой мне не в диковинку. Он часто звучит по ночам вокруг деревни, а когда мы идем в школу деревенской ватагой, вой иногда подбирается к нам так близко, что начинает казаться, будто волки где-то рядом, вон за теми кустами. Третьяковские мальчишки не боятся этих воев, и я к ним постепенно привык тоже. А однажды я даже встретился с волком в лесу, но это было летом. Волк кружил на противоположной стороне лесной поляны, где я собирал землянику, иногда подпрыгивал в густой и высокой траве, а я, устав сидеть на корточках, поднялся, увидел его, стоял и смотрел, замерев от неожиданности и любопытства.
Мне говорил Толька Третьяков, что если встретишь волка или медведя, то надо закричать очень громко и сердито, потому что звери боятся человеческого голоса, но язык у меня точно отнялся, и я не мог произнести ни звука. Да и волк был совсем не страшный, а какой-то домашний и веселый. Может, это и не волк даже, а чья-то собака, убежавшая в лес на охоту. И так интересно смотреть на нее (или на него), когда он (или она) занят своим делом и даже не подозревает, что ты на нее (или на него) смотришь…
И все-таки это волк. Хотя бы уже потому, что хвост у него трубой, а не кренделем, как у собак. Потом волк тоже замер, поднял голову и посмотрел на меня. Так мы смотрели друг на друга какое-то время. Волк несколько раз наклонял голову, как будто ему было совсем не интересно на меня смотреть, и что-то нюхал, а потом повернулся и тихонько потрусил к лесу, на опушке остановился, обернулся, еще раз глянул на меня и скрылся из глаз.
И с медведем я тоже встречался, когда мы с мамой ходили к оврагу за малиной. Мы собирали малину, я ушел чуть вперед, потому что стало скучно собирать малину на одном и том же месте, и вдруг за кустами кто-то как зачавкает, как засопит…
— Эй! — негромко окликнул я этого кого-то.
Чавканье и сопение прекратилось, и тут над кустами поднялась большая лохматая голова и уставилась на меня маленькими удивленными глазками. Я, конечно, сразу же догадался, что это медведь. Самый настоящий, хотя видел медведя только на картинках. А еще в цирке, но это было так давно, что я мог и позабыть, какой он, настоящий медведь. А медведь стоял так близко, что видны были травинки, застрявшие у него между огромными когтями передних лап, мокрый нос, на котором сидел комар. Медведь ухнул, почти хрюкнул по-поросячьи, опустился, и я услыхал, как трещат кусты, увидел, как они шевелятся, и шевеление это отодвигается все дальше и дальше в лес. Медведь уходил, а я продолжал стоять столбом, даже не успев испугаться.
Только когда все стихло, закричал:
— Мама! Медведь!
Однако мама решила, что медведя я выдумал.
Но то было прошлым летом, а сейчас зима, и волки, говорят, зимой совсем другие — голодные и злые, а медведи зимой спят. Однажды волк даже забрался в овчарню к дяде Трофиму, проломив крышу, так что дяде Трофиму пришлось стрелять в этого волка из ружья. Но вместе с волком он убил и свою самую большую овцу. С волка и овцы сняли шкуры, дядя Трофим сдал их в кооп, купил водки, мужики пили водку и заедали ее жареной овечиной, капустой и солеными грибами. Это случилось в прошлом году… Ну да, как раз в феврале, на день Красной армии. А сейчас на дворе уже этот год и март. То есть весна. Но здесь, на Урале, весны еще нет: она застряла на юге, где тепло, не бывает пурги и солнце светит каждый день.
Я продолжаю стоять возле изгороди вокруг зарода и слушать, но кругом так тихо, как бывает только во сне. Уже и ноги начали мерзнуть от неподвижности, и ухо прихватывать морозом. Наверное, волчий вой мне померещился. Надо идти.
И тут, уже более отчетливо, до слуха долетел новый далекий вой, начавшийся тоненько и неуверенно, а закончившийся толсто и сердито. Ему почти сразу же откликнулось еще несколько воев, но уже поближе, а когда они стихли, раздался басовитый вой, с хрипотцой, о котором Толька говорил, что так воет матерый. Вой этот прозвучал откуда-то сбоку, и так близко, будто волк затаился где-то рядом. Этот вой подхлестнул меня пуще всякой хворостины.
Я кинулся к зароду, где сено раскрыто сегодняшней ночью. Первое желание — зарыться в сено как можно глубже. Я принялся дергать сено, но оно было такое плотное, такое слежалое, что выдергивались лишь маленькие клочки. Тогда, сбросив лыжи, я полез на зарод в том месте, где сено уже брали и оно осело, образовав пологую горку. Лезть было трудно из-за глубокого снега, покрывшего зарод, но я все-таки одолел эту гору. Забравшись на нее, я понял, что и волки тоже смогут сюда забраться: не так уж это и высоко. Во всяком случае, мое убежище отсюда не казалось мне безопасным. И я полез на самый верх по толстой жердине, с помощью которых укрепляют зарод, чтобы его не разметало ветром. Помнится, летом я никак не мог забраться на зарод по такой же жердине, хотя одет был легко, босые ноги мои цепко держались за ее шершавую кору, но силенок не хватило одолеть даже половину пути. А тут не успел оглянуться — и я уже наверху.
Внизу снег, темная полоса далекого леса и волчий вой, вверху месяц и звезды. И никого на всем темном свете: только я да невидимые волки. Я устроился возле вертикальной жердины, обхватив ее ногами и руками, разворошив слежалый снег, из которого теперь торчала лишь моя голова. Уж сюда-то волки не заберутся.
А вой не умолкает. Он становится все ближе и ближе. Вот показалось, будто что-то шевелится в серой мгле. То здесь шевельнется, то там. Зубы мои отстукивают барабанную дробь, тело сотрясает крупная дрожь. Как у лошади, когда ее жалят слепни.
И вдруг из полумрака вылепилось что-то неожиданно огромное, на волка никак не похожее. Это огромное фыркнуло по-лошадиному, а потом проворчало голосом дяди Трофима:
— Но-о, балуй, дохлятина!
— Дя-дя-дя-дя Тро-тро-тро-фим! — едва слышно продребезжал я замерзшими губами.
— Эй, кто там? — удивился дядя Трофим. — Никак Витюшка? Ты пошто туда забрался?
— Во-во-лки-ки-ки-и…
— Да когда ж ты успел туда залезть-то?
— Не знай-ю-ю-у-у-у, — почти по-волчьи провыл я сверху.
— Слазь давай.
Я обрадовался, отцепился от жердины и тут же свалился вниз вместе с сугробом снега, провалившись в него с головой, как в воду.
Дядя Трофим выволок меня из сугроба, и только теперь я почувствовал, что промерз насквозь, даже дышать — и то могу едва-едва.
— Принимай, Марья, своего ученика, — говорил дядя Трофим моей маме, стаскивая меня с воза. — Еще б малость — и замерз бы. Эх, жисть наша — копейка…
Меня раздели, натерли самогонкой, гусиным жиром, закутали в шубу и положили на горячую печь. Но и после этого я не чувствовал тепла, все мне казалось, что я стою голяком на морозе и вот-вот превращусь в сосульку.
Почти месяц я провалялся в горячке. За этот месяц к нашим избам подступила весна: закапало с крыш, оттаяли окна, расчирикались воробьи. Но все это продолжалось недолго: снова завьюжило, ударил мороз, на стеклах появились узоры, похожие на перья жар-птицы, а раньше никаких узоров не было, а была толстая и мохнатая заиндевелая бахрома. Зато солнце стало ярче и теплее, синички тренькают так весело, что и самому хочется потренькать, а зимой они часто залетали к нам в сени и очень пугались и пищали, когда кто-нибудь открывал дверь.
Иногда ко мне заходит Толька Третьяков, рассказывает, что делается в школе. Я помогаю ему решать домашние упражнения по арифметике. А он все удивляется, каким таким макаром я умудрился уйти в сторону, да еще так далеко — аж до самых зародов.
— Этак бы тебя волки точно сожрали бы, — всякий раз говорит он со знанием дела одно и то же. — Они по весне страсть какие голодные бывают. Морозку нашего сожрали, окаянные. Уж был бы Митька дома, он бы им показал, а мне тятька ружья не дал… — Толька пошмурыгал носом, добавил: — Робяты наши тебе привет передают. Баили, что драться боле не станут. И прохвессором дразниться тоже. Жалеют. И Анна Степанна тебя жалеет. И девки тоже. Мы теперь вместе в школу ходить будем. Ты не беспокойся: вместе-то оно лучше. Так-то вот.
Я отвернулся, чтобы Толька не видел моих слез. Потому что как только меня начинают жалеть, так тут же и слезы.
Глава 20
Папа вернулся из города — и не один: он привез с собой гостей. Самых настоящих. Дядю и тетю. Тетя оказалась папиной сестрой, которую зовут так же, как и нашу маму, — тетя Мария, а дядя оказался ее мужем. Дядю зовут дядей Павло Дущенко, потому что он хохол из Константиновки и приехал к нам, чтобы уговорить папу поехать в эту самую Константиновку, где много-много всяких заводов, яблок, вишен и абрикосов.
— Ты сообрази, Гаврилыч, — говорил дядя Павло на каком-то странном, хотя и вполне понятном языке, когда они с папой выпили водки, — где вам буде крашче: у Ленингради, чи у нас, у Донбаси. У Ленингради сырость и холод, для чахоточных дюже даже вредный климат, а у нас климат здоровый, фруктов та усякой овощи — ишь, не хочу, диты там расти будут як на добрих дрожжах. Построимо вам хатыну, дадимо огород. При твоем-то среднем образовании ты у нас у начальниках ходить будешь, а не просто работягой. Скоро наши, константиновськие то исть, уси домой зачнуть збираться заводы восстанавливать, твои руки там ой как сгодятся.
Мне тоже захотелось в Константиновку. Она казалась огромным садом, где растут сплошные яблони, вишни и неведомые мне абрикосы, а люди говорят на таком странном языке. А маме почему-то в Константиновку не хочется, ей хочется в Ленинград, где ничего не растет. Но дядя Павло Дущенко все-таки уговорил и маму, а потом уехал, оставив нам тетю Марию с четырехлетним сыном Мишкой, чтобы нам не было скучно.
Наконец и к нам пришла настоящая весна. Она растопила снег, превратила его в вешнюю воду, вешняя вода утопила луга, лес в низинах, дороги. Даже в овраге воды стало столько, что она снесла мост, несколько деревьев и большой валун на той стороне. Теперь папа на работу в свою кузню ездит с дядей Трофимом на его лодке, потому что так быстрее: река сама несет их вниз по течению, не успеешь оглянуться — вот она и кузня. И домой тоже на лодке, но долго, потому что против течения.
По причине половодья мы опять не ходим в школу.
И опять, как и в прошлые весны, вокруг нашей деревни появилось столько всяких птиц, что их и за сто лет сосчитать никак не возможно. Утки и гуси, лебеди и журавли, кулики и цапли — все это большими стаями населило все окрестные луга, озера и саму реку Чусовую, все это кричит, галдит и стонет, то взлетая с шумом, чтобы лететь дальше, то опускаясь. И не поймешь, то ли это одни и те же, то ли какие другие. И как же интересно на все это смотреть, слушать и представлять себе, что и ты можешь стать птицей, если очень захочешь, и сможешь полететь вместе с журавлями вдаль, где еще интереснее, чем у нас в Третьяковке. И мне очень хочется захотеть, только я не знаю, как.
Однажды все деревенские мужики взяли ружья и собрались на охоту. И папе тоже дали ружье. И даже Тольке Третьякову, хотя он еще и не мужик. И меня тоже взяли на охоту. Только без ружья, а с нашим Бодей, который лягнул меня в позапрошлом году. Бодю запрягли в плоскодонку, меня посадили на него верхом и сказали, чтобы я ездил по лесу и пугал уток, которые прятались от мужиков среди деревьев и кустов, где тоже стояла вода. Править Бодей я умею — не в первый раз. Я даже возил на нем дрова из лесу, пока папа пилил их там с дядей Трофимом.
Но сперва я развез мужиков по засадам на островках. Одного туда, другого сюда, третьих еще тудее-сюдее. И Тольку Третьякова тоже. А уж потом стал ездить и пугать уток. Утки пугались нас с Бодей, сердито крякали, взлетали, мужики палили в них из ружей, а я ездил на Боде и собирал уток сачком на длинной палке и бросал их в лодку. Иногда утки оказывались на дереве, но чаще всего в кустах, куда Бодя очень не хотел идти. Мы с ним испугали очень много уток и гусей, но мужики убили совсем немного, хотя выбабахали из ружей столько патронов, что из них можно было убить сто немецких гитлеров. Зато когда набабахались, собрались вокруг костра, на котором жарили уток, каждый мужик принялся хвастаться, что он убил уток больше других. И мой папа тоже, но это все потому, что мужикам было интересно хвастаться после того, как они выпили много-много самогонки и съели несколько уток за один присест. И я ел вместе с ними за один присест, но не хвастался, потому что не пил самогонку и не стрелял уток. А Толька Третьяков тоже выпил, но чуть-чуть, и тоже стал хвастаться, но его никто не слушал. Только я один.
Потом, когда мужики «перестали вязать лыко», они посадили меня на Бодю, сами забрались в лодку, и я повез их в деревню, где их ждали бабы. Мужики так устали после самогонки и уток, что уснули в лодке, и я их чуть не утопил, потому что Бодя влез в яму, лодка зацепилась за корягу и накренилась. Но я сильно хлестнул Бодю хворостиной, он вылез из ямы, а лодка, хотя и черпнула воды, но не утонула, и мужики, хотя и промокли, но даже не проснулись. Их разбудили бабы, когда мы въехали в деревню и остановились под старыми липами напротив нашей избы. Бабы долго шумели на мужиков, мужики кряхтели и плевались. Бабы развели мужиков по избам, Толька Третьяков пошел сам, мама и тетя Маруся увели нашего папу вместе с двумя утками и одним гусем и положили его спать. А я спать лег сам, потому что устал и совсем не хотел есть: так я объелся этих жареных уток за один присест.
Глава 21
Через несколько дней, когда спала вода, меня позвал Толька и сказал, что, если я хочу, то мы вместе с ним можем пойти на охоту сами по себе, потому что… потому что от Митьки пришло письмо, в котором он пишет, что он жив-здоров, получил боевое крещение и медаль «За отвагу».
— Вот, — сказал я. — А ты говорил: Митька-постре-ел, Митька-постре-ел. А он, оказывается, вовсе и не пострел. Потому что пострелам медали не дают.
Толька почесал свой затылок, вздохнул и сказал:
— Кто ж его знал, пострел он или не пострел. Однако, не орден же, а всего-навсего медаль. Медали там, небось, всем дают.
Я не знал, всем или не всем, и решил спросить папу, когда он придет с работы. После чего обул свои новенькие сапоги, которые сшил мне папа, намазал их гусиным жиром, и мы пошли с Толькой на охоту. Я даже маме не сказал, куда мы идем, потому что стал большим, и мама теперь совсем не боится, что я утону или уйду куда-нибудь и заблужусь. А мне, после того как я залез на зарод, уже ничего не страшно. Тем более с Толькой.
У Тольки и на этот раз оказалось самое настоящее ружье. Митькино. И он его не без спросу взял, а потому что тоже большой и все понимает.
И мы пошли с ним в луга — это за озером, если все идти и идти по берегу Чусовой, и придешь в эти самые луга. Здесь летом много земляники, по краю сосняков водятся маслята, здесь всякие птицы устраивают свои гнезда, можно набрать яиц и испечь их на костре. Здесь водятся журавли, у которых яйца крупнее курицыных. И даже — гусиных. Прошлой весной мы набирали здесь целые лукошки всяких яиц. Но из гнезда никогда не брали все яйца, самое большее — половину. Это у куличков и уток. А у гусей и журавлей — если в гнезде больше двух.
— Птица, если у ней все яйца забрать, может помереть от тоски, — сказал Толька. — Тогда и птиц не останется. Тогда — бяда-ааа. А у них и лиса берет яйца, барсук берет, енот тоже берет, а кабан, если наскочит, так все перероет — страсть! Ну, еще медведь. Тоже охочий до яиц. Всякая тварь есть хочет, — заключал он знающим голосом. — А тут еще человек — шутка ли… Вот закончу два класса, запишусь в охотники, — мечтательно произнес Толька. — Шибко люблю я это дело — хлебом не корми. — И добавил: — Ты держись за меня, Витек: я тебя всему обучу, что в тайге мужику надобится.
— Уедем мы скоро, — сказал я с грустью, вспомнив про дядю Павло Дущенко из Константиновки.
— Жалко, — опечалился Толька. — Я бы тебя научил…
— Я приеду, — пообещал я. — Вырасту и приеду.
— Приезжай, — согласился Толька. — Мы с тобой на медведя пойдем: ты — бедовый.
По ближайшему лугу ходили журавли. Они ходили важно, иногда подпрыгивали на месте, иногда что-то клевали в жухлой траве.
— Это они лягушек едят, — пояснил Толька. — Лягушки у них — первейшая еда.
Мы стояли в густом ельнике и смотрели на журавлей.
Вот с неба на луг спустилось еще несколько штук, и все журавли закричали, замахали крыльями, запрыгали.
— Ишь, радуются, — сказал Толька. Вздохнул и добавил: — Люди так радоваться не умеют. Мой тятька, когда радуется, бороду чешет. — Помолчал малость, велел: — Ты стой здесь, а я подкрадусь и стрельну, — и принялся утыкивать себя пучками сухой травы, а я ему помогал. Утыкавшись, Толька взвел курок, присел, потом встал на четвереньки и пошел к журавлям, очень похожий на… не поймешь на кого.
Однако журавли его быстро разглядели, но тоже не поняли, на кого он похож, а все смотрели, подпрыгивали и вскрикивали. Два журавля пробежали немножко и взлетели, описали над поляной круг и сели сбоку от Тольки. Совсем близко. И стали его разглядывать. И тогда Толька вскочил, поднял ружье и ка-ак баба-ааахнет! Все журавли закричали разом, запрыгали и полетели. А один полететь никак не мог, потому что Толька поранил ему крыло. Он бегал, припадая на одну ногу, и тоже кричал. Жалобно так кричал, что мне стало его ужасно жалко. А Тольке журавля не было жалко нисколечко. Он побежал к нему, догнал и стукнул его ружьем. Но не убил, потому что журавль вдруг как подпрыгнет, как клюнет Тольку, и одним крылом как стукнет его, так что Толька даже упал.
Я сперва не знал, что мне делать, а потом понял: надо бежать и спасать Тольку от журавля. И я побежал. А бежать трудно: трава высокая, полеглая, ноги в ней путаются, а еще всякие ветки, ямы с водой… Но я все-таки добежал, да Толька уже сам встал на ноги, перезарядил свою одностволку и опять как бабахнет в журавля — тот упал и помер, потому что дробь попала ему прямо в голову.
— Дробь мелкая оказалась, — оправдывался Толька. — А то б я его с первого раза…
Мы развели костер. Я собирал хворост, Толька ощипывал журавля.
— И скажи, сколько на нем всякой живности водится, — удивлялся Толька. — И блохи, и клещи, и воши — и где он только их берет?
Толька вертел журавля над огнем, горело перо, и тот из красивой и гордой птицы быстро превращался в сине-фиолетовую лядащую курицу с длинными ногами и шеей. Вскоре он лишился и этого своего отличия. Есть такую курицу как-то не очень-то и хотелось. Однако я ел, потому что изрядно проголодался. Да и вообще в ту пору мы ели все, что было съедобным: какие-то корешки, травы, пойманных в силки дроздов. Картошка да квашеная капуста были основной нашей пищей, мясо мы видели редко, встав из-за стола, всегда чувствовали себя не слишком сытыми, хотя и отдувались от переполненности желудков.
Над нами просвистела стайка чирков, Толька вскочил, схватив ружье, но чирки пролетели, а других больше не было, и он снова сел. Затем, когда мы наелись, дал мне ружье и сказал, чтобы я стрельнул, если что полетит. А только ничего не летело и не летело. Мы встали, и тут опять, но уже не чирки, а гуси. Я вскинул ружье, зажмурился и как бабахну — чуть не упал. А гуси загалдели и полетели дальше.
— Эх, ты, город, — опечалился Толька. — Даже в гуся попасть не сумел. — И забрал у меня ружье.
Половину журавля я принес домой. Мама приняла от меня обуглившийся сверху кусок птицы, завернутый в холстину, покачала головой.
— А я уж и не знала, где тебя искать. Хорошо, люди видели, как вы уходили с Толиком к озеру. Надо же предупреждать, сынок.
— А ты бы не пустила, — сказал я и насупился.
— Почему же не пустила бы? Пустила бы. В школу-то пускаю. А ты думаешь, сердце у меня не болит? Еще как болит. Да что тут поделаешь? Учиться надо. Я вот совсем неученая… Так это когда было-то? При царе.
— Я больше не буду без спросу, — сказал я и опять едва не заплакал: так мне стало жалко мою маму.
Глава 22
Вода утекла в дальние страны, через овраг положили новый мост, и мы снова пошли в школу. Теперь в школу стало ходить даже весело: идешь по дороге, а кругом птицы поют, дятел стучит, кукушка кукует, рябчики перепархивают с ветки на ветку, тетерев таращится на тебя красным глазом, в небе плавают коршуны и ястребы и пищат капризными голосами, как слепые котята. Идешь по дороге и забываешь, куда идешь и зачем.
Однажды мы вот так шли с Толькой Третьяковым, шли себе и шли. Остальных подвода подобрала, а мы с Толькой не поместились. Вот идем мы, идем, то заглянем в гнездо дрозда, в котором сидит дроздиха и смотрит на тебя черненьким глазочком и даже не моргнет, чтобы ее не заметили; то в гнездо мухоловки, в котором рядом с маленькими яйцами лежит одно побольше — кукушачье, но ужасно похожее на мухоловкины. Мухоловка, в отличие от дроздихи, вспархивает с гнезда и начинает пищать и прыгать по веткам чуть ли ни у самого носа: мол, лови меня, лови, а гнездо не трогай. А мы и не трогаем. Нам только посмотреть.
У Тольки Третьякова особый нюх на гнезда: остановится, послушает и скажет: там гнездо такой-то птички, а там такой-то. Это он по голосам их различает и по голосам же определяет, далеко от своего гнезда сидит птичка, или рядышком. Так мы шли с Толькой и пришли в школу. А там уже уроки идут во всю, и школа почему-то закрыта изнутри. Может, она всегда так закрывается, но раньше я как-то не замечал этого, потому что до этого я в школу не опаздывал ни разу. На много раньше приходил — это случалось часто, но чтобы опаздывать…
Я подергал ручку — не открывается. Постучал.
Дверь открылась и показался большой и сердитый бородатый дядька-истопник. И дядька этот сказал сердито же:
— Это что же вы? А? Третий урок уже идет, а они только пожаловали… Вот я вас к директору!
Толька дернул меня за рукав и вскрикнул испуганным голосом:
— Бежим!
Я сообразить ничего не успел, как ноги мои сами вынесли меня со школьного двора, и через несколько минут мы очутились на краю села. Сквозь редкие деревья небольшого перелеска виднелась папина кузня, откуда слышался перестук молотков. И я обреченно пошел на этот перестук: не прятаться же мне по кустам — такое в голову не приходило.
— Что так рано? — спросил папа, завидев меня. Он в это время только что закончил подковывать лошадь.
— Мы опоздали, — честно признался я. — А школа закрыта. Вот мы и…
— Так, — сказал папа таким голосом, какого я еще не слыхивал. — Иди-ка сюда.
Я подошел. Он схватил меня за руку, перегнул через колоду, и той же веревкой, какой путал лошадиные ноги, отхлестал меня по заднице.
Я орал. И потому, что больно, и потому, что все это так неожиданно: меня еще ни разу папа не наказывал таким образом.
— Марш в школу! — приказал папа, отпуская меня. И ушел в кузню.
И я побрел в школу, размазывая по лицу слезы. Толька брел следом.
В школу мы, конечно, так и не пошли. Я не представлял себе, какими глазами буду смотреть на свою учительницу, какие насмешки предстоит вынести от мальчишек, а главное — директор школы. Он ходил по школе в старом военном пиджаке, один из рукавов которого заправлен в карман, и сердито смотрел на нас, учеников, будто это мы виноваты в том, что немецкие гитлеры отстрелили ему руку. Пусть лучше папа еще раз отдерет меня своей веревкой… раз ему так хочется.
Мы забрались с Толькой на холм позади села, и оттуда наблюдали, как по улице ездят телеги, ходят мужики и бабы. Вот проехал дядя Кузя на своем Серко, вот прокатил на рессорной двуколке председатель колхоза, натягивая вожжи, чтобы Черт не унес его куда-нибудь не туда; вот проехала шагом еще какая-то телега с незнакомым возницей, а в телеге человек в серо-зеленом военном плаще и шляпе. Телега прокатила через все Борисово до самой кузни и остановилась. Человек в шляпе выбрался из телеги и скрылся в кузне.
Потом побежали школьники: закончились уроки.
Мы с Толькой спустились с холма, обошли кузню стороной, снова вышли на дорогу и побрели домой. Я представлял себе, как папа спросит меня, был ли я в школе, и еще раз отлупит меня веревкой.
— Не боись, Витек, — утешал меня Толька. — Меня тятька давеча еще пуще порол — вожжами! — и то ничего. А вожжами шибче больней, чем веревкой.
Но все обошлось. И лишь потому, что опять приехал дядя Павло Дущенко. На этот раз чтобы забрать нас насовсем и отвезти в свою Константиновку. И мы стали собираться. И оказалось, что собирать особо и нечего — все поместилось в два мешка. А в остальные мешки картошка и другие продукты, потому что, как сказал дядя Павло, ехать нам долго — неизвестно сколько. А есть надо.
Пока мы собирались, закончились занятия в школе. Мне дали похвальную грамоту и набор учебников для второго класса. И весь класс хлопал в ладоши, когда мне все это давал директор школы одной своей рукой. И даже улыбался. Наверное потому, что ему, как сообщил кто-то по большому секрету, выписали какое-то такое лекарство, от которого рука может вырасти снова.
Под липами напротив нашего дома собрались все ребятишки деревни Третьяковки. Мы расселись на двух бревнах, молчали. Никто не знал, что нужно говорить, когда кто-то уезжает насовсем. Тем более в какую-то Константиновку. Кто-то вспомнил, что и здесь, на Урале, есть село с таким же названием, но там ни яблоки, ни вишни, ни тем более диковинные абрикосы не растут.
— Это другая Константиновка, — сказал я.
И все согласились, что, конечно, другая: не поедут же городские из деревни в деревню же, когда можно жить и в Третьяковке.
Мне было грустно. Даже не знаю, почему. Может, потому, что лишь совсем недавно мы все подружились, и уже никто не обзывал меня, не дразнил. А главное — меня не трогали и борисовские. Отчасти потому, что им это надоело, но больше всего потому, что третьяковские стали за меня заступаться, то есть хватило одного раза, когда они ввязались в потасовку — и все мои противники оказались поверженными. А еще потому, что я привык к Третьяковке, привык к реке, лесу, полям, лугам и оврагам. Чуть ли ни с каждым местом связаны какие-то воспоминания: там встретился с волком, там с медведем, там видел лисицу или зайцев, там мы водой выгоняли из нор огромных рыжих хомяков… да мало ли что произошло за почти три года жизни в этой деревне, вдали от всех городов. И вот теперь надо начинать жизнь сначала.
Поневоле загрустишь.
Пришел папа со своим фотоаппаратом-лейкой, похожей немного на гармошку, и сфотографировал всех нас на память. Едва мы поместились в папином фотоаппарате.
Потом были проводы. Такие же грустные, как будто нас провожали на войну, как провожали Митьку Третьякова. Мужики и бабы пили водку, ели гусятину и баранину, пели грустные песни и даже плакали. Особенно бабы. И тетка Настасья, которая иногда стригла меня, потому что у нее на всю деревню имелась стригательная машинка, но так больно, что мама потом достригивала меня овечьими ножницами. И старая-престарая бабка Анисья, в доме которой мы жили, плакала тоже. А мы, мальчишки и девчонки, сидели на бревнах, сосали леденцы, целый кулек которых привез из Чусового дядя Павло. И не плакали. А я рассказывал им про Константиновку, где растут всякие яблоки, груши, вишни и абрикосы. А еще дыни и арбузы, огромные помидоры и огурцы. И кукуруза, очень похожая на еловую шишку.
Глава 23
Нас привезли на телеге в город Чусовой, где трава и деревья черны от копоти. Только теперь мы приехали одни, а не так, как когда-то приезжали из Ленинграда — много-премного. А тетя Лена Землякова с Тамарой и Сережкой в Константиновку не поехали, потому что там надо восстанавливать заводы, а тетя Лена восстанавливать не умеет, поэтому собирается вернуться в Ленинград. Они нас проводили до околицы, поплакали и долго махали руками нам вслед. И тетя Груня с дядей Кузьмой. А я махал им в ответ, так мне их всех было жалко. И себя тоже: можно ведь жить и без абрикосов и кукурузы.
Мы приехали опять на ту же станцию, только теперь здесь стояло много-много паровозов и всяких вагонов, и много народу ходило взад и вперед, и не только тети, но и невоенные дяди, а столиков, за которыми записывали, кого куда, не было. И вообще все здесь было не так, как тогда, в сорок первом. Может, потому, что шел уже год сорок четвертый, что на дворе не осень, а весна, и мне уже восемь лет и семь месяцев.
Я думал, что мы опять поедем в пассажирском вагоне, в котором приехали сюда, но нас поместили совсем не в пассажирский вагон, а в теплушку. А теплушка — это такой деревянный вагон с маленькими окошками на самом верху: два окошка с одной стороны и два с другой. Зато двери здесь всего одни и очень большие, как ворота; и они не просто открываются, а ездят на колесиках. И теплушка эта совсем не теплая, а вся в щелях и дырках, ночью в ней холодно, а когда поедем… Мама говорит, что, может, и не доедем, а замерзнем по дороге. А папа сказал, что как-нибудь доедем, не баре.
Народу в теплушку набилось — пропасть: не пройти, не проехать. Везде полати, полати, полати — в три этажа. Только полати эти называются нарами. Посредине вагона буржуйка и туалет — будочка такая из брезента, а в полу дырка, рядом большущий бак с водой и стол. Вокруг стола лавки. Целый день галдеж, стук и грохот. Мужики стучат молотками — устраиваются, затыкают щели в стенах вагона. Нас с Людмилкой запихнули на третью нару и сказали, чтобы мы не путались под ногами. Мы лежим или сидим на наре и смотрим вниз и на другие нары, где лежат и сидят другие мальчишки и девчонки. Одни постарше, другие помоложе, третьи так-сяк. Но разговаривать ни с кем не хочется.
Рядом с нашей теплушкой еще много всяких теплушек. Там тоже стук и грохот. А есть и пассажирские вагоны, но они, как сказал папа, для начальства. В Борисове был только один начальник — председатель колхоза, который ездил на Черте, а здесь вон аж сколько всяких начальников — целые пассажирские вагоны. И я через маленькое окошко пытаюсь разглядеть хотя бы одного начальника, но никого, похожего на нашего председателя колхоза, не разглядел. Разве что иногда дядю Павло Дущенко, который тоже едет в пассажирском вагоне. Наверное, потому, что городские начальники совсем другие. Как дядя Павло.
И вот мы все стоим и стоим. И день стоим, и два стоим и никуда не едем. Иногда едем, но совсем недалеко — на другой путь, а потом стоим опять. Уже и мужики стучать перестали, но всё еще неизвестно, когда это кончится и когда мы наконец поедем в далекую Константиновку. Время от времени мы спим, время от времени мама кормит нас шаньгами с молоком, потому что больше ничего нету, время от времени она выводит нас гулять на свежий воздух, но везде так грязно и свежий воздух так плохо пахнет, потому что под каждым вагоном большие кучи, которые никто не убирает, что гулять совсем не хочется.
Но однажды я проснулся — вагон раскачивается, скрипит, стучат колеса и будто спрашивают: «Вам куда? Вам куда? Вам куда?» «В Константиновку», — отвечаю я колесам. «Надо же, надо же, надо же!» — удивляются они. «А вот и надо!» — подлаживаюсь я под их непрерывный перестук и пытаюсь пристроить голову так, чтобы ее не слишком мотало по подушке. Судя по всему, мы едем в Константиновку, а не на другой путь: на другой путь так долго не ездят. Надо бы спросить у кого-нибудь, но спрашивать не у кого: все спят.
В вагоне темно, лишь в самой середке мотается фонарь под потолком, мерцает огонь в буржуйке, кто-то сидит возле нее, согнувшись, и тоже мотается из стороны в сторону, но не падает. Смутно выступают из полумрака нары, угадываются чьи-то головы, ноги. Пахнет дымом. Издалека доносится сиплый гудок паровоза. Вот застучало по железной крыше, все чаще и чаще: дождь.
«Спи давай! Спи давай!» — сердятся колеса. И я засыпаю.
Еще раз я проснулся — мы стоим. Кругом разговаривают люди. Кто-то ищет свою шапку и ругается вполголоса. В другом конце вагона плачет маленький ребенок. Какая-то тетя сказала сердито:
— Да закройте же вы дверь, наконец! Дует.
Дверь поехала и закрылась. Стало темно.
— Ничего не видно! — сказал другой женский голос прямо под нами. Потом спросил: — Ната, ты куда дела кухонный ножик?
— В ящике лежит, — ответила Ната таким приятным-приятным голоском, что у меня во рту сделалось сладко, точно в него положили медовую конфету под названием «подушечка», которые привозил в Третьяковку дядя Павло Дущенко.
Я свесился со своей верхней нары и заглянул туда, откуда раздался Натин голосок. Но внизу темно, видно только, как какая-то тетя сидит на корточках и роется в ящике.
— Да вот же он, мама! — произнес все тот же медовый голосок. — Сверху лежит.
— Совсем глаза не видят, — пожаловалась тетя и задвинула ящик под нары.
И тут опять поехала дверь, стало светло, и я увидел Нату.
Она сидела на нижней наре, подобрав под себя ноги, держала в руках какую-то тряпицу и шила. Видны были ее плечи, белокурая головка, видны были руки, а больше ничего. Но я упорно смотрел на нее и ждал, и внутри у меня что-то творилось необыкновенное. Я даже дышал едва-едва. И откуда она взялась, эта Ната? До вчерашнего вечера ее не было. Совсем не было. Ни под нами, ни во всем вагоне. Просто удивительно, откуда она взялась.
И тут Ната подняла голову, посмотрела на меня сквозь очки и сказала своим медовым голосом:
— Привет, малыш! Как спалось?
Я смотрел на нее и не мог произнести ни звука. Я вообще еще не видал таких… таких… не знаю даже, как сказать, каких именно. Сказать «девчонок»? — совсем не то. «Женщин»? — еще более не то. «Баб»? — язык не поворачивается. «Девушек»? — я не знал, что такое девушки, потому что в книжках говорилось про девок или про барышень. А может, я не заметил, когда про девушек, потому что не все места читаю внимательно, а только те, где война и путешествия. Однако я знал, что девушек положено любить взрослым дядям, чтобы на них жениться, жить-поживать и добра наживать. Поэтому они представлялись мне чем-то вроде царевен или добрых волшебниц. Во всяком случае, в Третьяковке и в Борисово девушки отсутствовали. А эта Ната была одновременно и царевной, и волшебницей, и еще не знаю кем, а только хотелось на нее смотреть и смотреть и бесконечно слушать ее медовый голос. И даже очки нисколько ее не портили.
— Ты что — немой? — засмеялась Ната. И смех ее был еще медовее.
— Нет, — помотал я головой.
— А как тебя зовут?
— Витя.
— А меня Ната. Наташа то есть. Ты спускайся вниз — поболтаем. А то ужасно скучно.
Я стал спускаться по перекладинкам, специально приделанным для спуска и подъема, и чувствовал, что руки и ноги мои — как бы и не мои. Как будто я их отморозил, сидя на зароде сена, а внизу не Ната, а волки.
Спустившись, я уселся на нижнюю нару подальше от Наты и сперва уставился на ее руки, потому что в глаза ее, большущие, как не знаю что, и синие-пресиние, как небо в нашем окошке, в лицо ее, такое необыкновенно приятное, смотреть было совершенно невыносимо. И когда я нечаянно заглядывал в ее глаза, меня обдавало жаром, как в парной бане, когда на каменку плеснут воды. И почему-то хотелось плакать.
— Ты всегда такой бука? — спросила Ната.
Я кивнул головой.
— Нехорошо быть букой.
Я снова кивнул головой.
— Ты в школу ходил?
Еще кивок.
— В какой класс?
— В первый.
— Такой маленький?
Я набычился еще сильнее.
— И совсем я не маленький. Я «Как закалялась сталь читал».
— Да что ты говоришь? Удивительно! Сам читал?
— Сам.
— А что ты еще читал?
Я стал перечислять прочитанные мной книжки.
— Боже мой, сколько ты уже прочитал! — удивлялась Ната своим медовым голосом. — Я и половину этого не прочитала.
— Неправда, — не поверил я.
— Правда, — произнесла она без всякой печали, как будто речь шла о том, что она не ела никогда таинственные абрикосы.
— А ты в каком классе училась? — постепенно приходил я в себя.
— В девятом.
— И не читала?
— Кое-что читала, что по программе положено. Да и то не целиком, а в книжке для чтения.
— А почему? — не унимался я, все еще не в состоянии поверить, чтобы такая девушка — такая красивая и с таким медовым голосом, да еще в очках, — не читала и половины того, что прочитал я.
— Потому что потому, — сказала Ната. — Много будешь знать, быстро состаришься.
— И нет, — решительно не согласился я. — Быстро старятся те, кто много спит и мало работает.
— Гениальная мысль! Сам придумал?
— Нет, в книжке вычитал.
— А в какой?
— Не помню.
— Что же ты так: читаешь, а не помнишь?
Я отвернулся: такая красивая, а такая вредная. Будто я виноват, что не помню. А может, и правда — сам выдумал? Но сам я могу выдумывать всякие истории, но не гениальные мысли.
— Ты чего — опять надулся? Обиделся? — спросила Ната и, придвинувшись ко мне, заглянула мне в глаза своими синими глазами.
Я помотал головой.
— Вообще-то, если серьезно, то читать мне много нельзя, — с печалью в голосе сказала она. — У меня минус четыре.
— Это как? — спросил я.
— А вот так, — сказала Ната. — У нормальных людей по нулям. Бывает, что человек хорошо видит вдали, но очень плохо вблизи. У меня как раз такой недостаток зрения: близорукость называется.
— А очки?
— Были хорошие очки, да разбились. А эти — плохие.
— А ты к доктору сходи, — посоветовал я, вспомнив, что тетя Лена ходила к доктору в Борисове, чтобы он выписал очки для Тамары, у которой тоже что-то было не так с глазами. И доктор выписал ей очки, но Тамара носила их редко, потому что они были не те, что надо.
— А где он, доктор? Нету докторов: все на фронте, — сказала Ната.
— Вот кончится война, тогда и сходи.
— Обязательно схожу. Ты лучше расскажи мне что-нибудь из книжки.
— Из какой?
— Из какой хочешь.
— Про Дерсу-Узала хочешь?
— Хочу. А кто это такой? Я что-то не слыхала. Он, что, герой гражданской войны?
— Нет, он был гольдом, а потом его убили.
— А кто такой гольд?
— Это люди. Они живут в Уссурийской тайге.
— А-ааа…
И я стал рассказывать. Но не успел я рассказать о самой книжке, как пришла мама и велела мне идти умываться и завтракать. И все вокруг тоже стали завтракать. И Ната со своей мамой. Только они на своей наре внизу, а мы на своих, то есть на маминых-папиных. Я не видел, что ели Ната со своей мамой, но мы ели картошку в мундирах с солью, хлебом и квашеной капустой. И все вокруг хрумкали и чавкали, а я искоса посматривал на Нату, но не потому, что мне было интересно, что они там едят, а… а просто голова моя сама время от времени поворачивалась в ту сторону.
— Витюшка, — сказала мама. — Что ты все крутишься и крутишься? Ешь нормально, как все едят.
Я опустил голову и стал есть нормально. Как все.
Не помню, как мы ехали и что творилось вокруг: все мое внимание поглощала Ната. Даже ночью, проснувшись, я сразу же вспоминал о Нате, свешивался вниз и пытался в темноте разглядеть ее, однако видел лишь смутные очертания ее тела, проступавшие сквозь одеяло. Но чаще всего поверх одеяла лежал полушубок — и тогда кроме этого полушубка я ничего рассмотреть не мог. Однако верил, что под ним Ната, что она никуда не делась, и завтра я опять ее увижу и услышу ее медовый голос.
Однажды я рассказывал Нате какую-то книжку. Я не помнил эту книжку во всех подробностях, как, впрочем, и всякую другую, зато помнил отдельные эпизоды, почему-то врезавшиеся мне в память. А еще я плохо запоминал имена героев, поэтому, рассказывая книжку, присочинял кое-что от себя, так что это была уже совсем другая «книжка», мало чем похожая на прочитанную. Однако меня это не смущало. Да и Нату тоже, потому что кое-какие книги она все-таки читала, помнила их лучше меня и, слушая мои пересказы, трепала меня по голове и говорила со смехом:
— Ну и выдумщик ты, Витюшка.
Я замолкал, но она тут же подбадривала:
— Это ничего, у тебя получается. Рассказывай дальше. Мне нравится.
И я рассказывал дальше.
Поезд стоял на полустанке, было холодно, по крыше барабанил дождь, за тоненькими стенками вагона вздыхал ветер, время от времени вдали нарастал тяжелый гул, долетал требовательный и нетерпеливый хриплый гудок паровоза, и мимо проносился очередной воинский эшелон в сторону фронта. И все больше танки и американские машины «студебеккеры» на открытых платформах. Составы были бесконечными, их тащили обычно по два паровоза ФэДэ — иногда по семьдесят-восемьдесят вагонов сразу.
— Ты не замерз? — спросила Ната и, не дождавшись ответа, предложила: — Лезь ко мне под полушубок: здесь теплее.
Я осторожно придвинулся к ней. Она приподняла край полушубка, велела:
— Ну что ты? Ложись рядом! — и сама придвинула меня к себе, подоткнув полу полушубка мне под бок. — Вот так будет лучше, — сказала она довольным голосом. — А то я в тепле, а ты на холоде.
Я лежал и едва дышал. Ната была так близко, что ближе просто не бывает. Даже запах ее волос наплывал на мое лицо вместе с отдельными белокурыми волосками, легкими, как осенняя паутинка.
— Ну, рассказывай! Чего ж ты замолчал?
Я попытался продолжить, но у меня ничего не получалось. Даже голос — и тот стал каким-то не моим, и слова едва протискивались сквозь одеревеневшие губы.
— Ты, наверное, устал и замерз, — сказала Ната. — А я, дура, заставляю тебя рассказывать. Погрейся немного и поспи, — и она, повернувшись ко мне, прижала меня к себе обеими руками и стала шептать мне какую-то колыбельную песенку, точно я был совсем маленьким. В душе моей что-то сопротивлялось этому, и все же я покорно отдавался тем необычным ощущениям, какие наплывали на меня, окутывая с ног до головы, вместе с ее медовым голосом, теплым телом и ласковыми руками, скользящими по моей спине и голове. Правда, на ней было много всяких одежек, и на мне не меньше, но я не чувствовал эти одежки совершенно. Мне даже показалось, что Ната стала как бы частью меня самого, и теперь это будет длиться вечно. Единственное, чего я не знал, так это куда девать свои руки. Как бы я их не положил, они обязательно касались Натиного тела, и от этих прикосновений кожу мою пронзали молнии, а телу становилось так жарко, что хоть на мороз.
— Тебе тепло? — коснулись ее губы моего уха, а щека ее прижалась к моей щеке.
— Да, — едва слышно ответил я.
— И мне тоже тепло, — сказала Ната, и тоже тихо-тихо. — И ты такой горячий — как печка. — И тихонько засмеялась мне в ухо. И добавила, неизвестно к чему: — Это хорошо, что ты еще такой маленький и ничего не понимаешь. — И вздохнула.
А мне показалось, что я сейчас умру. Но тут же я вспомнил одного дядьку военного, только без погон, и что Ната частенько сиживает с ним возле буржуйки, и они о чем-то разговаривают. Больше, правда, разговаривает военный, а Ната слушает и смеется, но я никогда к ним не подхожу, а лежу у себя на верхней наре, засунув голову под подушку, чтобы не слышать ни голоса этого дядьки, ни Натиного смеха. Мне одновременно хочется и плакать, и выскочить на ходу из поезда и идти куда-нибудь — куда глаза глядят. И даже туда, куда не глядят. Я ненавижу этого дядьку, мне не хочется ни есть, ни пить — ничего не хочется, а только чтобы Ната всегда была рядом и слушала только мои пересказы прочитанных книжек, прижимала меня к себе и гладила мои волосы своими легкими руками.
Глава 24
Я проснулся — в вагоне темно. И он не раскачивается, не скрипит, колеса не стучат. Окно под самым потолком светится красноватым светом, как светится разверстый зев буржуйки, в которой дотлевают последние угли. Жарко, душно, воздух пропитан запахами давно не мытых человеческих тел, храпом, бормотанием, всхлипами, стонами. Дверь открыта, в нее виден кусочек поля, затянутого туманной дымкой, розовое небо.
Вагон спит. Спит внизу Ната, и не под полушубком, а под тонким одеялом, поверх которого лежат ее тонкие и длинные обнаженные руки. Белеют худенькие плечи со съехавшими на сторону бретельками ночной рубашки, белеет круглое колено, выглянувшее наружу, белеет белокурая головка, почти слившаяся с подушкой, так что кажется, будто Ната спит, погрузив голову в белую пену. Все это так удивительно красиво, так чисто, что я не чувствую никаких угрызений совести оттого, что разглядываю Нату, хотя в этом разглядывании таится что-то стыдное.
На других спящих мне смотреть не хочется. За долгие дни пути я уже привык к тому, что куда ни взгляни, везде лежат люди: мужчины и женщины, дети и старики, и каждый спит так, точно вокруг никого нет, точно они спят в отдельных спальнях. И в этом есть что-то такое, что заставляет меня отворачиваться и не смотреть по сторонам. А на Нату я смотрел бы и смотрел, потому что Ната… потому что она совсем не такая, как все остальные люди.
Снаружи, за стеной вагона, какая-то женщина сказала, длинно зевая:
— Боже мой, какой ужас, какой ужас…
Этот голос заставил меня оторваться от созерцания спящей Наты и насторожиться.
Женщине ответил другой женский голос:
— Вот, смотри и запоминай: это война и есть. Мы ее не видели, а она вот какая.
— Как же не видели? — удивился первый голос. — А бомбежки! Уж как нас бомбили, как нас бомбили — век не забуду.
— Мы уехали раньше: нас не бомбили, — произнес второй голос. — Но такого и вы не видели.
Мне ужасно захотелось посмотреть, что там такое видят эти две женщины, и я стал потихоньку спускаться. Нащупав ногами свои ботинки, я всунул в них ноги и, стараясь не смотреть на Нату, которая, повернувшись во сне, почти сбросила с себя одеяло, побрел к выходу, стараясь ступать как можно тише.
Остановившись в дверях, я смотрел на раскинувшиеся в обе стороны поля, на оранжево-желтую зарю, на темный лес вдалеке, на розовые холмы с обнаженными вершинами, плывущие на волшебном ковре из розового тумана, на какие-то уродливые кучи вдоль железной дороги, на заросшую камышом тихую речку, на стаи ворон, лениво пересекающие зарю, на покосившиеся столбы и оборванные провода. Тянуло с полей сладковатым запахом, какого я еще не знавал. Иногда этот запах перебивало свежей струей воздуха, и тогда к горлу подступала тошнота. Я вдруг ощутил всем телом своим неподвижную тишину, окутавшую мир, такую же, в какую я вслушивался с замиранием сердца совсем еще недавно, случайно оказавшись на старом Третьяковском кладбище. Но в той тишине разливался призывный покой, а в этой — ожидание чего-то тревожного и мне, мальчишке, совершенно непонятного.
Женщины ушли, тишина поглотила их голоса, а я все еще не разглядел того, что их так взволновало. И уж повернулся было, чтобы возвратиться на свою нару, когда одна из нелепых куч зацепила мое внимание.
Я пригляделся. То были танки. Диковинные такие танки, каких я еще не видывал: с резко выступающими бортами, с тяжелыми башнями, длинными стволами пушек с дырявыми набалдашниками на концах, безвольно склонившимися до самой земли. Они стояли, как попало, иные даже без башен и гусениц, иные как бы вывернутые наизнанку неведомой чудовищной силой. Впрочем, в этих кучах сбились не только танки, но и пушки, и машины, и еще какие-то куски железа непонятного назначения. А потом я разглядел на танках кресты — черные с белым, уже подернутые ржавчиной. Значит, это немецкие танки, побитые нашими танками. А наших танков не видно ни одного. Значит, они побили и поехали дальше. Вот здорово! Вот молодцы!
«Странные женщины, — подумал я. — Что ж тут ужасного? Это ж немецкие танки, а не наши. Так им, гадам, и надо. Мы же все видели наши танки: и в Чусовом на станции — вон сколько было наших танков, и в эшелонах, которые нас обгоняют, и в кино, когда к нам в Третьяковку приезжал дяденька, вешал на стенку соседской избы белую простыню и показывал на ней войну: как едут вперед наши танки с красными звездами и бегут в атаку наши красноармейцы с красными флагами. Хотя о том, что звезды и флаги красные, можно было только догадываться. Во всяком случае, все мы знали, что скоро наши танки побьют все танки немецкие — и кончится война».
Рядом кто-то прошаркал по деревянному полу вагона и остановился за моей спиной. Я услышал прерывистое сиплое дыхание, и по этому дыханию узнал дядьку военного, с которым часто разговаривает Ната. Я знал, что зовут этого дядьку Аркадием, но в голове моей имя это не произносилось и даже не подразумевалось: он был просто дядькой, который часто отнимал у меня Нату, мою Нату, и поэтому не заслуживал ни имени, ни фамилии — ничего вообще. Я даже не повернулся на его дыхание: так я ненавидел и презирал этого дядьку.
— Вот, брат ты мой, — сказал этот дядька своим противным сиплым голосом, — какая, значит, ситуация. Это, брат, тебе не книжки читать и рассуждать про всякие ужасы. Это, брат, война. А война — это смерть, это, так сказать, когда человек заживо горит в этих коробках, орет благим матом и выхода никакого не имеет ни в какую сторону. Тут хоть маму зови, хоть господа бога, хоть тресни от крика, — никто не услышит и не поможет.
Дядька говорил, и получалось, что он жалел этих самых немецких гитлеров, которые горели в немецких танках. И говорил он коряво, и чем дольше говорил, тем больше я радовался: такой дядька не может понравиться Нате, он совсем не умеет говорить и не понимает даже, как надо говорить правильно.
А еще он говорит неправду: ничего подобного о войне нет ни в книжках, ни в газетах, ни по радио, ни в кино, значит, нет и на самом деле. На войне люди сражаются, совершают героические подвиги, а если умирают, то с криком «Ура!» и «За Родину, за Сталина!» Но это наши красноармейцы так сражаются и кричат, а не немцы, потому что у них Гитлер, а не Сталин. Даже странно было бы, если бы немцы стали кричать: «За родину, за Гитлера!» С чего бы это вдруг им так кричать? Как будто мы пришли в их Германию, как будто там, в Германии, стоят вдоль дорог наши побитые ими танки. А этот дядька просто трус и паникер, о которых передавали по радио, поэтому так и говорит.
Неужели про это же самое он говорит с Натой? Нет, пожалуй, не об этом: Нате это не может быть интересно. Уж я-то знаю. Наверное, он говорит с ней про любовь. И я не буду теперь рассказывать Нате о войне, а что-нибудь… что-нибудь тоже про любовь, хотя это совсем неинтересно, и даже стыдно, но она — девушка, можно сказать — барышня, а все девушки и барышни, если вспомнить, что о них пишут в книжках, мечтают о любви и замужестве. Может, Ната и не такая, может, она и не мечтает, но ей должно быть интересно, раз об этом пишут в книжках.
Я совсем запутался в своих рассуждениях, но продолжал стоять и смотреть на поля и холмы, которые все светлели и светлели, освобождаясь от тумана, и в то же время покрывались черными оспинами, длинными уродливыми щелями, серыми комочками и стаями ворон, взлетающими и садящимися в разных местах.
Вот холмы из розовых стали желтыми, сбоку у некоторых из них выступили белые скалы, как выступают внутренности из рыбьего живота, если на него хорошенько надавить. Вдали обозначились низенькие строения, голубые дымы над ними висели неподвижными облачками, черные пальцы печных труб тянулись к небу.
— Здесь, брат, сказывали, такая свалка была, что чертям страшно… — бубнил надо мной сиплый голос. — Я, значит, на Центральном фронте воевал, в пехоте, там потише было, а тут как раз, это самое, Воронежский фронт стоял, здесь, значит, оно и было — в смысле, это самое, такая вот кутерьма. Немец попер, и мы, в газетах писали, поперли тоже. И — кто кого. Жуткое это, брат, дело. Тут человек себя не помнит от страха и не видит ничего, потому что, так сказать, психология. И в ком этого страха меньше, кто раньше обретет зрячесть, тот и наверху. У нас тоже ходили стенка на стенку, тоже народу полегло видимо-невидимо, но тут поболе будет, тут он, немец-то, шел до конца, тут ему и надавали, тут он и надорвался… И наших тут страсть сколько побито было. Потому что немец — он с умом воевал, а мы все больше дуриком. Народу много, чего его жалеть… народ-то этот? Бабы народят еще. Да-а… А теперь что? Теперь соберут все это железо и в переплавку. Отвоевались, мать их в немецкую душу…
Я поднял голову и посмотрел на дядьку. Не такой он и старый, если смотреть вблизи, то есть не старше Митьки Третьякова, которого взяли в армию в сорок втором году. Но лицо у него… такое лицо не должно нравиться Нате: серое, нижняя челюсть кривая, разрубленная красноватым шрамом, щека втянута внутрь, волосы на голове редкие, с сединой, сбоку белая плешь. Вот разве что медали — их у него три штуки, и одна медаль — Орден Славы, но звенят они как-то жалобно, особенно когда он наклоняется, будто жалуются, что не тому, кому надо, достались. А еще у него гвардейский значок и три желтеньких полоски — за ранение. Уж это-то нам, мальчишкам, было известно от тех мужиков, которые, покалеченные, возвращались домой.
Дядька свернул из газеты «козью ножку», почиркал кресалом, закурил и закашлялся. Сплюнув в дверь, долго хрипел, держась рукой за грудь.
— Вот, брат, какая штука, — произнес он непонятно о чем. — Врачи, мать их… Мда… А тебе жить будет хорошо: ни войны, ни еще каких происшествий — живи и радуйся. Да-а… Ценить надо. Учиться. Я вот всего четыре класса одолел — и ни в зуб ногой. Теперь что? Лопата и — бери больше, кидай дальше. А здоровье уже не то: война. Вот Наталья — совсем другое дело: закончит, значит, среднее образование, станет врачом или учительницей. За кого она пойдет? Ясное дело, не за меня. А жаль: хорошая девчонка, жалостливая. Но я тоже… я тоже, брат, не промах: пойду учиться в вечернюю школу, потом в институт, чтобы, стал быть, соответствовать. Это, брат, очень важное дело — соответствовать. А то что? А то самое и есть, что жена с высшим образованием, а муж без всяких понятий — никакого соответствия…
За спиной просыпался вагон. Люди кашляли, сморкались, громко зевали. Я обошел дядьку и вернулся в свой отсек. Натина мама сидела на постели и расчесывала свои волосы. Ната лежала, но не спала, а, заложив за голову тонкие руки, смотрела в потолок. Вернее сказать, в нару, на которой спал я. Но сейчас меня там не было. Сейчас я стоял и смотрел на Нату.
— Доброе утро, — произнес я вежливо, потому что никто меня не замечал.
— Доброе-то доброе, а только вот стоим и не едем, — ответила Натина мама. Она всегда так отвечала, будто у нее зубы болят.
— Витюш, ты что там делал? — спросила Ната.
— Смотрел, — ответил я.
— А что там?
— Танки.
— Танки? — удивилась Ната. — А что они там делают?
— Ржавеют. Это немецкие танки, — пояснил я и полез к себе наверх.
Мне было обидно за Нату, что она выйдет замуж за этого Аркадия, что сам я еще маленький и не могу ее защитить от него. Ведь это когда еще будет, что он станет инженером и будет соответствовать? О-ё-ёй когда! Он тогда совсем станет стариком. И это будет совсем неправильно, что он на ней женится. И зачем вообще жениться? Ерунда все это. Лично я буду революционером. Как Павка Корчагин. И умру молодым, чтобы не жениться. Мне и цыганка нагадала, что я умру молодым. Ну и пусть. Тогда все пожалеют, что я умер. И мама, и папа, и Ната. Все-все-все.
И тут в вагоне что-то случилось: кто-то вскрикнул, кто-то заголосил — и народ повалил вон из вагона. И мой папа, и моя мама, и Ната со своей мамой. И я вслед за всеми. Потому что интересно же узнать, что там такое приключилось.
А там ничего такого не приключилось: там были все те же кучи немецких танков и пушек, а еще каски, а еще кое-где дохлые немецкие гитлеры, не убранные еще с прошлого года.
— И почему их не убирают? — спросил кто-то из толпы, стоящей вдоль нашего вагона, но тихо так спросил, точно боялся испугать дохлых гитлеров. И вдоль других вагонов тоже стояли люди и молча смотрели на покрытые шрамами поля и кучи танков вдоль железной дороги, и прибитые к земле трупы.
— Заминировано, — сказал дядька Аркадий своим сиплым голосом. — И добавил: — Тут мин понатыкано — за сто лет не соберешь.
— Ну уж ты скажешь, — сказал какой-то другой дядька. — Вот кончится война, вернутся наши и разминируют.
— До этого еще дожить надо, — произнес кто-то.
А дядька Аркадий подтвердил:
— Кто доживет, а кто и нет.
— Ви эти упаднические хазговохы бхосьте! — закричал вдруг еще какой-то дядька испуганным голосом, точно ему наступили на ногу. — Такие хазговохы есть паникехство и пхедательство!
И все сразу вдруг приуныли и втянули в плечи свои головы, будто что свалилось сверху и сейчас как бабахнет. Только я не приуныл и не втянул, потому что не понял, с чего вдруг расшумелся какой-то дядька.
— А заткнись ты, мурло не нашего бога! — вдруг рассердился дядька Аркадий. — Много ты понимаешь в паникерстве и предательстве. Тебя здесь не было! — выкрикнул он своим сиплым голосом, будто и ему тоже наступили на ногу. — Ты этого и близко не нюхал, чтоб рассуждать про наши разговоры!
— Ты мне не тыкай! — взвизгнул дядька, который выступил против упаднических разговоров. — Ты еще молод мне тыкать. Думаешь, если нацепил на себя медали, так и пхаво такое получил тыкать? Я тебе покажу, как тыкать! Ты не знаешь, на кого тыкаешь! — все сильнее заводился этот дядька. — Ты у меня на коленях пхосить пхощенье будешь, щенок недобитый…
В толпе загудели сердито…
И тут вдруг что-то как шлепнет, кто-то как ахнет, все как загалдят, кто-то как закричит испуганно, но мне ничего не было видно за взрослыми спинами. Я только слышал, как кто-то говорил, захлебываясь словами:
— Успокойтесь, Марк Абрамыч, успокойтесь! Видите, товарищ раненый, нервный, он за свои поступки не отвечает…
— Ответит, — произнес все тот же голос, который назвали Марк Абрамычем, но уже без прежней звонкости и уверенности. — Еще как ответит. Хаспустились, понимаете ли, за войну. Все им тепехь нипочем. Ничего, товахищ Сталин наведет похядок, еще поглядим…
Тут кто-то засмеялся. И еще и еще. А кто-то сказал негромко, но сердито:
— И правильно врезал. Таких не только бить, давить надо.
— Ты не очень-то, — посоветовал еще кто-то впереди меня.
— А чего? Все так и будем оглядываться? — возразил сердитый голос. — Наши вот здесь полегли, чтоб эти танки в металлолом превратить, а эти по тылам околачивались. Погоди, эта сволочь еще на шею нам сядет — не стряхнешь.
— Мы тоже по тылам околачивались…
— Я три заявления подал, чтоб на фронт отпустили… Воевал бы не хуже других. А он, видишь ли, медали ему не понравились… Ты их заработай, медали-то эти, а потом говори…
Тут мама взяла меня за руку и увела в вагон. Я, правда, слышал еще, как кто-то уговаривал народ разойтись и не шуметь, потому что мины, и есть даже такие мины, которые взрываются от громкого шума.
Глава 25
Я умылся и вернулся на свое место. Мама стала готовить завтрак, а Наты с ее мамой все не было и не было. И моего папы тоже.
И я тихонько спросил у мамы, чтобы никто не слышал:
— Мам, а почему они заругались?
— Опять ты за свое? — проворчала мама и оглянулась. — Не твоего ума это дело. Вырастешь, сам все узнаешь и поймешь.
— В книжках ничего про это нету. — пояснил я и поскреб свою голову, остриженную под ноль.
— И правильно, что нету. Научила тебя читать на свою голову, — вздохнула мама, нарезая хлеб. И добавила для большей убедительности: — Вон Миша, мой племянник, из-за книжек умом тронулся. А ты говоришь…
Но я уже ничего не говорил, хотя не мог понять, почему мама научила меня читать «на свою голову», если из-за книжек можно «умом тронуться», зачем посылала меня в школу, если я мог заблудиться, замерзнуть, если меня даже могли съесть самые настоящие волки?
С этими взрослыми — просто беда: ничего толком объяснить не могут. Но самое удивительное, что они уверены: когда я стану взрослым, то непременно все пойму сам. Как же, держи карман шире! Скорее всего, когда я вырасту, то совсем ничего понимать не буду. Взрослые и ссорятся между собой чаще, и ругаются, и дерутся, а если бы все понимали, то ничего этого не было бы. Наверное, только одни писатели все понимают и все на свете знают, но я еще не видел ни одного живого писателя. А хорошо бы спросить у него и про тронувшегося умом дядю Мишу, и про Марка Абрамыча, и про дядю Аркадия, и про Нату. Нет, про Нату, пожалуй, не надо. И про себя я у него тоже спрашивать не стану, потому что про себя спрашивать стыдно и не нужно: про себя я и так все знаю сам.
Мы заканчивали завтракать, когда они появились: Ната и ее мама. Ната плакала, прижимая к лицу ладони и вытирая глаза косынкой. У меня даже кусок застрял во рту, когда я увидел, что она плачет.
— Перестань, — тихонько, чтобы не слышали другие, говорила Натина мама. — Как тебе не стыдно! И кто он тебе? Никто. Не пришей кобыле хвост.
Ната мотала головой и всхлипывала, а у меня внутри все изнывало от жалости к Нате и оттого, что плачет она, скорее всего, по этому противному дядьке Аркадию, который ведет упаднические разговоры. Он и со мной вел такие же разговоры, и правильно на него заругался… этот, который Марк Абрамыч.
— Господи, — сказала Натина мама, обращаясь к моей маме, потому что моя мама сидела к ней ближе всех и все видела и слышала. — И до чего же война народ довела: сплошной ужас!
— И не говорите, — согласилась моя мама. И тут же ввернула свое любимое: — Господи, и когда все это кончится?
Но никто не знал, когда все это кончится, поэтому никто ничего и не сказал. Даже мой папа. Не говоря уже о господи. Но тут пришел проведать нас дядя Павло Дущенко и сказал на своем удивительном языке:
— И шо за народ такый… перелякатый? Скризь перелякатый народ! — вот что сказал дядя Павло Дущенко. — Як, скажи, з глузду зъихав…
Никто ничего не понял. Кроме папы. Папа все понял и хотел что-то сказать дяде Павло, но тут загудел наш паровоз, и в вагоне все закричали. Закричали и те, что еще оставались на путях, продолжая глазеть на кучи танков. И полезли в вагоны. Вагон дернулся, лязг буферов прокатился до самого хвоста состава, и мы поехали. А дядя Павло Дущенко остался в нашем вагоне.
Ната перестала плакать, но лицо ее было опухшее и не такое красивое, как всегда. Я не понимал, что же все-таки произошло и почему Ната плакала, если дядька Аркадий для нее — не пришей кобыле хвост? Но спросить об этом было некого. Я только чувствовал жгучую обиду: я ей, Нате, столько книжек рассказал, а она расплакалась из-за какого-то дядьки Аркадия, который… Вон он сидит у печки и курит свою «козью ножку»… И ничего с ним не случилось, и ни с кем не случилось тоже. Разве что с Марком Абрамычем, которого, оказывается, дядька Аркадий треснул по его мурле. Хотя, конечно, это очень плохо, когда ведут упаднические разговоры. Вот и в книжке про Павку Корчагина тоже иногда вели такие разговоры некоторые несознательные товарищи, так Павка всегда выступал против и даже за револьвер хватался. Может, этот Марк Абрамыч тоже читал про Павку Корчагина, потому и выступил. Только про медали он выступил неправильно и очень обидно.
Так и не решив для себя, что правильно, а что совсем наоборот, и не пересилив нанесенную мне Натой обиду, я забрался наверх, устроился у самого окошка и стал смотреть на все, что проплывало мимо. А мимо проплывало все одно и то же: изрытые поля и холмы, колья с колючей проволокой, где целой, а где смятой и разорванной, поваленные телеграфные и электрические столбы, иные висящие на проводах, кучи танков — и даже наших, советских, что уж совсем удивительно, остатки каких-то строений. И вороны, вороны, вороны… И нигде не видно ни одного живого человека. Ну, нисколечко.
И много-много дней мы все ехали и ехали мимо танковых куч, извилистых окопов, колючей проволоки, сиротливых печей вместо деревень, мимо развалин, бывших когда-то вокзалами, поселками и городами, мимо покрывшихся ржавчиной разрушенных заводов, мимо обрушенных мостов, мимо валяющихся под откосом вагонов и паровозов, мимо крестов и пирамидок со звездочками, мимо пленных немцев, ковыряющихся в развалинах, и охраняющих этих пленных красноармейцев с винтовками и собаками, мимо убогих базарчиков, на которых ничего не купишь, а можно только что-то на что-то поменять, и мама поменяла на катушку ниток две банки ряженки и кусок сала. Нас обгоняли воинские эшелоны, мы пропускали на восток санитарные поезда. Колеса стучали, вагон скрипел, паровоз гудел, а где-то впереди ждала нас таинственная Константиновка с ее абрикосами, вишнями и яблоками…
С каждым днем Ната все уходила и уходила от меня к своему Аркадию. Ее уже не интересовали мои рассказы, иногда она вообще не замечала меня по целым дням, и я мучился, не зная отчего, не находил себе места, слонялся по вагону, задирался с мальчишками и прослыл в вагоне хулиганом. Папа пообещал меня выдрать как сидорову козу, но не это вдруг утихомирило мой взбунтовавшийся норов, а тот факт, что Наты и ее мамы вдруг не стало. И дядьки Аркадия тоже. Были еще вечером, а утром на их месте пусто. Оказывается, ночью мы проезжали мимо города со сладким названием Изюм, и они там сошли. Ната даже не разбудила меня и не попрощалась со мной — и это было самым обидным. И я дал себе клятву никогда и ни с какими девчонками, — а с девушками, так тем более, — не водиться и не обращать на них внимания. С меня хватит.
Но непонятное чувство утраты еще долго не покидало меня, я часто останавливался и оглядывался, завидев белокурую головку, и сердце мое громко стучало и не сразу могло успокоиться.
Глава 26
И вот в один… совсем, между прочим, не самый прекрасный день, потому что шел дождь, мы приехали в эту самую Константиновку. И была эта самая Константиновка совсем не такой, какой ее описывал нам дядя Павло Дущенко и какой она мерещилась мне по ночам: ни яблонь, ни вишен, ни абрикосов, а одни сплошные развалины на месте бывших заводов, грязь и лужи, одинокий трамвай, ползущий вдоль железной дороги, вкось и вкривь стоящие столбы, тучи ворон и галок… — все такое жалкое, что хоть вой. И везде ковыряются пленные немцы. Правда, кое-где белеют одетые в белое какие-то невысокие деревья, а от высоких деревьев там и сям виднеются лишь низкие пеньки, иные очень даже толстые, потому и деревья на них должны были расти высокими.
Дядя Павло Дущенко притащил откуда-то тачку, свои вещи мы сложили на нее, где лежали уже дядины вещи, и папа с Дущенко потащили эту тачку в гору.
Мы шли мимо развалин кирпичных домов с левой стороны и серо-зеленого парка за изломанной чугунной решеткой — с правой. Потом парк и развалины кончились, начался базар, кончился и он, и пошли низенькие избы, и мы притащились к избе, слепленной из глины, с глиняным же полом, маленькими окошками, какими-то уродливыми деревцами, иные так и в белых цветочках, а под ними и везде вокруг, куда ни посмотришь, лебеда и молочай. Избу здесь почему-то зовут хатой. Наверное, потому, что она из глины, а не из дерева.
И мы стали жить в глиняной хате.
К счастью, в хате мы жили не слишком долго. Папа поступил работать на завод, где сам директор завода назначил его начальником цеха. Здесь, в папином цехе, из доменных шлаков делали серые кирпичи, на пилораме пилили на доски бревна, доски сушили в специальных сушилках, потом из досок делали двери, рамы для домов и всякие другие полезные вещи. Все это везли к новостроящимся домам, которые навостроили пленные немцы.
К осени мы переехали в новенький двухэтажный дом, построенный из папиных кирпичей, и зажили в двухкомнатной квартире на втором этаже: в одной комнате я с Людмилкой, в другой папа с мамой. В квартире была кухня с плитой, в которой горел уголь, ванная с душем и туалет, так что не надо было идти на мороз, если тебе приспичило. А еще во дворе стоял длинный сарай со многими дверьми, за одной из дверей которого с висячим замком вскоре поселился наш собственный белый поросенок, а в деревянной клетке устроились наши собственные желтые гусята. А еще под домом располагался подвал, в котором стояли наши бочки в ожидании огурцов и помидоров. А еще у нас появился огород, на котором мы посадили всякую всячину. А вокруг обвалившиеся окопы, вдалеке немецкий танк и хвост какого-то самолета.
Я вместе с мамой тяпал сухую серую землю железной тяпкой, вытяпывая из нее вредный молочай и осот, которые душили нашу фасоль, кукурузу, помидоры и огурцы. На других огородах все это уже успело вырасти большим, а у нас оставалось маленьким-маленьким, и нам, чтобы оно росло, приходилось ходить с тачкой к роднику, брать там воду и поливать жалкие зеленые кустики с поникшими листьями.
Между тем мы жили все лучше и лучше, потому что папа наш стал большим начальником. У нас то и дело появлялись «американские подарки» со сгущенным молоком, яичным порошком, кукурузой в банках, сосисками, бобами и другими вкусностями, каких я до этого не пробовал. Еще недавно у нас ничего не было, только то, что по карточкам, а тут сразу стало так всего много, что одно объядение.
Особенно мне полюбилось сгущенное молоко. Возьмешь маленький гвоздик и молоток, сделаешь две ма-аленькие дырочки одну напротив другой и сосешь эту сгущенку, балдея от удовольствия. И ни то чтобы мама не давала нам эту сгущенку, а так было интереснее и вкуснее. Тем более что этими сгущенками были уставлены все подоконники.
Но все это появилось потом. А пока мы только въехали в свою квартиру — мы и еще другие итээровцы — так теперь нас называли. И сам дом назывался итээровским. В отличие от других домов, где жили простые работяги. Мальчишки из рабочих домов всегда ходили шайкой, были грязны и оборваны, ругались скверными словами и курили, точно взрослые. Мы с ними не дружили. Мама так и сказала:
— Нечего тебе водиться со всякой шпаной. Мало тебе доставалось в Борисове? Мало? Вот то-то и оно.
Со шпаной мы не водились, но, вообще говоря, это шпана с нами водиться не хотела, играла в свои игры и посматривала на нас, эвакуированных, свысока: мол, драпанули от войны, а теперь приехали тут распоряжаться.
Пленных немцев шпана не любила, и я ни раз видел, как она забрасывала идущую колонну камнями, а красноармейцы, с винтовками и собаками, только грозились шпане, но понарошку, потому что тоже не любили этих «недобитых фашистов». Я тоже их не любил, но бросать в пленных камни не мог: мне их было жалко. Не камни, конечно, а пленных. Потому что были они совсем не страшные, а жалкие и несчастные.
Напротив нас, на нашем же этаже, поселился Марк Абрамыч, у которого была широкая жена тетя Клара, толстуха-дочь по имени Сима, которая училась в шестом классе, и сын Левка, здоровый такой носастый парень, ученик девятого класса. Но это я потом узнал, кто где учится и кого как зовут, а пока я помнил только одно: это тот самый Марк Абрамыч, который накинулся на дядьку Аркадия за его упаднические разговоры…
На нашем же этаже поселились Ярунины, и у них был мальчик моих же лет по имени Игорь. С этим мальчиком мы подружились и сидели потом в школе за одной партой. Ярунины тоже эвакуированные, но не в деревню, а в сам город Чусовой. И ехали в Константиновку вместе с нами. Только в другом вагоне.
А этажом ниже жил другой мальчик, которого звали Ваня Голубев, и был этот Ваня калекой: одна нога короче другой. Зато он играл на скрипке и каждое утро шкандылял куда-то со своей скрипкой, одетый в чистенький костюмчик и белую рубаху. Про Ваню рассказывали, что он с мамой жил при немцах, и они, немцы, заставляли его играть на скрипке, чтобы им было весело. А он взял однажды и сыграл «Интернационал», но немцы ничего плохого ему не сделали за это, а даже дали шоколадку.
Мы с Игорем смотрели на Ваню, как на какую-то диковинную зверушку, которая до этого жила в зоопарке, а теперь живет среди нас. Ее, эту зверушку, можно было бы и погладить, и поговорить с ней, но отчего-то боязно, и мы всегда замолкали, когда из подъезда выходил Ваня, и молча провожали глазами его ныряющую тоненькую фигурку.
В итээровском доме было много ребятишек моего и около моего возраста. Постепенно из них составилась целая ватага. Этой ватагой мы стали осваивать окрестности. Первой освоенной нами окрестностью стали огромные развалины из красного кирпича — бывшая школа имени героя Советского Союза летчика Леваневского, мрачно чернеющая по ночам наискосок от нашего дома. Мы быстро освоили эти развалины и даже отваживались ходить по рельсам на большой высоте над грудами битого кирпича, труб и всяких железяк. Если оттуда свалишься, то костей не соберешь — это уж как пить дать. И наши мамы этого очень опасались. Но они были так заняты, что мы поневоле стали беспризорниками и могли шляться везде, куда захочется.
Чуть дальше высился еще один кирпичный скелет, еще больших размеров, чем наша школа, — там, говорили, до войны был театр. В этом бывшем театре хозяйничала шпана, к которым — по прошествии времени — мы лишь иногда ходили в гости. А они к нам. В период коротких перемирий. Но чаще мы с ними воевали. Однажды мне даже пробили камнем голову, и я ревел, но исключительно потому, что текла кровь, а больно совсем не было. Больно стало, когда мне мазали голову йодом, но тогда я крепился и молчал — «как партизан». Так сказал дядя доктор, который и мазал мне голову.
После этого ранения меня долго не выпускали на улицу, но затем все пошло по-старому: развалины, войны, найденные в развалинах патроны, снаряды и прочие интересные вещи. Уж и не помню, откуда мы прознали о том, как обращаться с этими вещами. Но мы с ними обращались осторожно и со знанием дела. Патрон, например, можно воткнуть пулей в специальную дырку в доске, приставить к нему гвоздь, обмазать все это глиной, сверху подвесить кирпич на веревочке, спрятаться, а потом веревочку отпустить — раздавался выстрел или даже взрыв, пуля ударяла в толстую железку и сплющивалась, патрон взлетал вверх вместе с гвоздем. Иногда патрон был большим и тяжелым — тогда бахало очень сильно и вверх летел не только патрон, но и много чего еще.
Однажды, играя в войну в наших развалинах, мы раскопали немецкий пулемет МГ с патронной лентой, но попользоваться им не успели: кто-то из нашей ватаги разболтал о нашей находке — и пулемет у нас отняли большие мальчишки.
Потом — это случилось осенью — кто-то нашел противотанковую гранату. Сами мы побоялись с ней иметь дело, потому что не знали, как она бабахает, но слышали, что очень сильно — даже танк может разбабахать на кусочки. Тут не знаешь, куда прятаться: вдруг она сможет и любую стенку разнести на кусочки. И мы пригласили одного очень знающего мальчишку лет двенадцати.
— А, это ерунда, — сказал этот мальчишка, повертев в руках тяжелую гранату. — Мы сейчас ее разрядим.
Он сел на край железобетонной плиты, перекрывающей подвал школы, и принялся перочинным ножом ковырять гранату.
— Тут главное, — объяснял мальчишка нам, сгрудившимся вокруг него, — запал вытащить. Тогда она совсем безвредной становится…
И в это время что-то как зашипит…
Мальчишка испугался и бросил гранату вниз, в подвал, и откинулся назад, однако ноги откинуть не успел, а мы шарахнулись в сторону.
И тут как рванет, аж уши совсем заложило и ничего не стало слышно. Даже как кричал этот мальчишка, у которого оторвало обе ноги. С тех пор мы ко всяким патронам и прочим снарядам относились еще более осторожно и, прежде чем дернуть за веревочку, уходили подальше и хоронились за самую толстую стену.
А потом… потом наступила осень. Сперва поспели абрикосы и вишни, потом яблоки «белый налив»… Нет, сперва были огурцы и помидоры, потом круглые дыни «колхозница» и «дубовка», молочная кукуруза, очень вкусная, если ее сварить и есть с солью, а уж потом все остальное. А может быть, что-то первее, а что-то вторее: за одно лето во всем сразу не разберешься. Да мы и не разбирались: все, что давали, сметали мгновенно и еще посматривали, нет ли где еще.
А уж потом пришла пора снова идти в школу.
Глава 27
Школа находилась на отшибе, неподалеку от величественных развалин универмага, окруженных пирамидальными тополями, будто часовыми, охраняющими развалины. Дальше простиралась степь, разрезаемая меловым оврагом, за горизонт уходили огороды, слева лежал поселок под названием «Шанхайка», справа пыльная дорога, вдали еще какие-то домики, то есть хатки. Универмаг, школа, другие развалины были когда-то центром рабочего поселка имени товарища Фрунзе, но началась война — и ничего не стало: ни поселка, ни его центра. А школа сохранилась. Ее только починили маленько, и… добро пожаловать. Именно так и было написано над входом в школу большими белыми буквами на красном полотне по-русски, а пониже еще очень смешно по-украински. Правда, никто не смеялся.
А выше полотна с надписями висел портрет товарища Сталина в зеленом кителе и маршальских погонах. Сталин смотрел вдаль, на крыши мазанок, на вишневые и яблоневые садочки, на растущие день ото дня за железной дорогой заводские трубы, на «нижнюю» степь с тихими ставками, ивами и камышом. А куда же ему еще смотреть? Не в сторону же «верхней» степи, похожей на пацанячье колено, в царапинах и ссадинах, с бородавкой немецкого танка. Совсем неинтересно смотреть в эту сторону. И правильно, что он туда не смотрел, а смотрел, куда надо.
Я как-то попробовал нарисовать Сталина с газетного портрета. Мама сказала, что похож. «Как вылитый», — сказала мама. И я стал рисовать разных Сталинов. И Ленинов тоже. И до того дорисовался, что с закрытыми глазами мог очень похожий профиль нарисовать того и другого. И даже на спор. А папа, посмотрев на мои рисунки, сказал, что для того, чтобы рисовать Ленина-Сталина, надо иметь разрешение, а то кто-нибудь подумает, что я рисую на вождей карикатуры, и тогда его, папу, посадят. Я испугался и перестал рисовать вождей.
Но меня почему-то тянуло рисовать лица, и я переключился на Пушкина и других поэтов и писателей: уж за них-то, наверное, папу не посадят. Пушкин и Горький у меня особенно хорошо получались. А вот мама не получалась. Потому что на картинке портреты Пушкина и Горького можно разделить на клеточки, а маму нельзя. А без клеточек у меня не получается. Зато танки, самолеты и просто человеков я могу рисовать и без клеточек. Жаль только, что ни красок у меня нет, ни цветных карандашей. Так, огрызки какие-то. Да и бумаги нет тоже, и рисовать приходится на чем попало: на фанере, картоне, на газетах, на серой оберточной бумаге, в которую в магазине заворачивают всякие всякости. Вот и в школу я пошел, а в сумке ни одной тетрадки. И ни только у меня — ни у кого. Поэтому мы и пишем в классах мелом на грифельных досках, а домашние задания — в самодельных тетрадках из газетных листков. При этом мама так подбирает эти листки, чтобы на них было поменьше заголовков и всяких фотографий: тогда на тексте лучше виднеются чернильные буквы.
Впрочем, нас это не очень-то огорчает. Что касается меня, то больше всего меня огорчает украинский язык. Я никак не могу взять в толк, зачем придумали такой язык, который так смешно уродует язык настоящий, то есть русский? И зачем украинцам нужны буквы в виде палочек с одной точечкой наверху и даже с двумя? И почему у них нет буквы «ы», хотя звук имеется, но обозначается он буквой «и», которая читается то как «и», то как «ы»? И нет буквы «г», то есть она есть, но читается как искаженная «х». Я никак не могу привыкнуть к этой глупости. А местные меня дразнят: «Гришка-гад, подай гребенку: гниды голову грызут», при этом «г» произносят так, будто хотят сделать у меня в голове дырку. Но им почему-то не нравится, когда я, в отместку, произношу то же самое, но на их манер: «Хришка-хат, подай хребенку, хниды холову хрызут».
Несмотря на эти стычки с коренными константиновцами, меня ни разу не поколотили, хотя в классе детей этээровцев, тем более эвакуированных, немного, а все больше работяг из нижних домов и мазанок. А это, говорит мама, самая настоящая шпана. А они вовсе не шпана. Просто они были «под немцем», а мы не были. И опять я ничего не понимаю: были-не были — какое это имеет значение? Зато здесь меня не дразнят ни жидом, ни прохвессором. Жидами одно время дразнили двоих еврейчиков, их постоянно шпыняли, а одного даже поколотили за что-то, но после того, как родители этой шпаны были предупреждены, что их дети за хулиганство будут исключены из школы, а родители выпороли своих чад как сидоровых коз, дразнить еврейчиков и шпынять перестали. Перестали дразнить и меня, потому что я, сам того не заметив, стал тоже говорить «х» вместо «г». И, наконец, я уже дрался то с одним, то с другим из этой «шпаны». А это совсем не то, когда тебя просто колотят.
Вот и сегодня предстоит такая драка с Мытьком Казаченко, очень задиристым хлопцем. Этот Мытька сидит сзади меня и все время стреляет из трубочки горохом мне в голову. Впрочем, не только мне. Сегодня я не выдержал и на переменке дал ему в ухо. Нас разняли — и теперь предстоит драка по правилам.
Драться с очередным моим обидчиком мы идем к универмагу. С моей стороны выступает только Игорь Ярунин, а кольцо зрителей и болельщиков состоит исключительно из «шпаны», но это меня не смущает: и на Урале было почти то же самое. Зато здесь дрались всегда один на один, лежачего бить запрещалось, драка заканчивалась, если кому-то разбивали нос или губу.
Прибыв на место, все сложили в сторонке свои сумки с книжками и тетрадками, мы с Казаченкой встали в середину круга, кто-то подал сигнал пронзительным свистом. И как только прозвучал сигнал, я кинулся на обидчика, выставив вперед свои кулаки.
Я всегда кидался на обидчиков с такой яростью, что даже пацаны, старше меня и сильнее, не выдерживали и пасовали. При этом я всегда норовил попасть противнику в нос. Спасовал и Казаченко: он лишь бестолково отмахивался от меня, получил удар в нос, и все сразу закричали, что драка закончена. Однако, для меня не все драки заканчивались так быстро и легко. Но все равно я ни разу не был бит, хотя и приходил домой с синяками. Более того, после двух-трех таких драк я подружился со «шпаной», и мы часто после уроков ходили в меловую балку, отдирали там чистые куски «крайды» и жевали эту маслянистую массу, находя в этом какое-то удовольствие. А еще в овраге можно было пострелять из настоящей немецкой винтовки, которую «шпана» прятала в одной их пещер на приличной высоте, там где делают норы стрижи. Был в этом тайнике и немецкий автомат «шмайссер», но без патронов.
Сегодня дрались две пары, и едва драки закончились, мы все, и победители и побежденные, пошли за овраг, в холмистую степь. Осень стояла солнечная, не жаркая и не холодная, ни то что на Урале, в синем прозрачном воздухе летала паутина, из норок вылезали тарантулы и грели на солнце свои лохматые спины с желтоватыми крестами. Мы пошли к немецкому танку, одинокой глыбой черневшему в голой степи, залезали внутрь, заглядывали в ствол пушки, дергали за всякие ручки, представляя себя партизанами и еще бог знает кем. Затем долго стояли возле шоссе, наблюдая, как мимо с ревом проносятся «студебеккеры», кузова которых зачехлены зеленым брезентом. Можно стоять так и час, и два, а машины будут все катить и катить, и, кажется, что не будет конца и краю этой колонне, направляющейся на фронт, туда, где наши все еще дерутся с немецкими фашистами.
У многих моих новых товарищей погибли отцы, а старшие братья или сестры угнаны в Германию. Мы по-разному смотрим на «студебеккеры», на войну, на немецкий танк, на пленных немцев, на все, что нас окружает. Но эта разность заключается больше всего в том, что они знают что-то такое, чего не знаю я, а я — чего не знают они.
Насмотревшись на машины, мы наломали высохших будыльев кукурузы, среди которых попадались забытые початки-недозрелки, и не выщипанные птицами побуревшие шапки подсолнечника, развели костер, жарили на нем кукурузу и семечки, и рассказывали, кто как жил все эти годы.
«Шпана» очень любит слушать мои рассказы, в которых действительность перепуталась с выдумкой: про тайгу, в которой водятся всякие звери, про речку Чусовую, где плавают огромные рыбины и бьют по ночам хвостом с такой силой, что могут перевернуть лодку, про охоту на уток и журавлей, на тетеревов и куропаток, про то, как меня чуть не съела целая стая голодных волков, и если бы не моя находчивость, то и съела бы, про встречу с медведем, которого я напугал своим громовым криком, и он как побежит, как побежит, про саблю, называемую «наполеоновской нагайкой», которой можно разрубить даже… даже танк, если очень сильно размахнуться. Правда, я уже знал из книг, что такое нагайка и кто такой Наполеон, но мне так нравилось сочетание этих не сочетаемых слов, что я никак не мог от них отказаться. И слушателям моим они не казались странными.
Я врал вдохновенно и самозабвенно, и сам верил в то, что тут же выдумывал. Я останавливался лишь тогда, когда у меня начинал заплетаться язык, а картины, которые я представлял в своем воображении, начинали тускнеть и подергиваться пеплом.
«Шпана» так рассказывать не умела, хотя их жизнь в оккупации была куда насыщеннее моей действительными опасностями и страстями. В свою очередь мои новые приятели рассказывали о том, как жили при немцах, рассказывали мне одному, потому что каждый из них знал все эти истории назубок. При этом для них важны были самые незначительные детали: кто во что был одет, чем были вооружены немцы и полицаи, сколько их было, что говорили и в какой последовательности совершали те или иные поступки, в будний день или в воскресенье что-то такое случалось. И спорили, когда рассказчик бывал не слишком точен. Спорили до хрипоты, чуть ни до драки. И, лишь установив истину, рассказчик продолжал монотонно излагать событие, точно плохо выученный урок. А едва он заканчивал, как меня снова просили рассказать что-нибудь из моей жизни на Урале или в Ленинграде.
Когда моя фантазия истощалась, я брал сюжеты из прочитанных книг, переделывал их на свой лад и выдавал за действительность, бывшую со мной или с кем-то, кого я хорошо знал и, таким образом, мог поручиться, что все, рассказанное будто бы другим, чистая правда. «Шпана» книг не читала, да и библиотеки тогда в Константиновке не было, школьные учебники распределялись таким образом, чтобы одним учебником могли пользоваться трое-четверо. У меня был личный комплект учебников, подаренный в школе перед отъездом, но и они стали общими, ими пользовался Игорь Ярунин и еще одна девочка по имени Оксана, жившая в нашем доме.
Учился я легко, хотя память у меня была слабой. Приходилось затверживать по многу раз какие-то правила, и если их периодически не повторять, то затверженное скоро улетучивалось из головы, как вода из открытой банки, поставленной на солнце. Когда я подрос и научился из книг брать что-то полезное для себя, я узнал, что память можно натренировать, а узнав, стал заучивать самые разные тексты, вплоть до философских. А уж стихи — тут и говорить нечего. Увы, память мою эта зубрежка не укрепила, во всяком случае, настолько, чтобы, прочитав один раз какую-то страницу, тут же ее и пересказать слово в слово.
Труднее всего давался мне украинский язык. По существу, это был язык иностранный, потому что в Константиновке все говорили на русском, но на таком русском, в котором кое-что было и от украинского, разве что иногда встретится какая-нибудь бабка из отдаленной деревни, да и у той язык не чисто украинский, а как бы весьма основательно обрусевший. Жил бы я среди чистопородных хохлов, усвоение языка шло бы куда быстрее. Но чего не было, того не было, и я из неудов не вылезал. Впрочем, аборигены константиновские от меня мало чем отличались. Да и учителя не слишком старались привить нам «ридну украинську мову», потому что и сами в обиходе ею не пользовались. И это шло не откуда-то сверху, а исключительно снизу, из удобства общения между людьми. Даже дядя Павло Дущенко все реже вставлял в свою речь украинские слова, а его сын Михаил и вообще говорил только по-русски.
Глава 28
Первой в нашей квартире по утрам просыпалась черная тарелка репродуктора, висевшая на стене. Она начинала хрипеть и кашлять, откашлявшись, замолкала, зато теперь слышалось тиканье часов, как если бы папины часы приложить к уху: «Тик-так! Тик-так!» Проходило еще какое-то время, и тарелка издавала звуки, как будто где-то ездят автомобили, вякают клаксоны, звенят трамваи, возникают и пропадают голоса людей. И наконец все покрывал громкий и торжественный бой курантов, шесть раз отбивал время колокол и звучал Гимн Советского Союза.
Я не мог без дрожи в груди и слез слушать звуки этого нового гимна. Он был даже лучше «Интернационала», потому что в нем пелось о том, что я уже знал, что происходило на моих глазах:
Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов, Великий, могучий Советский Союз! Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил. Мы армию нашу растили в сраженьях, Захватчиков подлых с дороги сметем! Мы в битвах решали судьбу поколений, Мы к славе отчизну свою поведем!И после каждого куплета припев:
Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надежный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведет!Подходил к концу сорок четвертый год. Наша Красная армия освободила почти всю территорию нашей страны, и каждый день по радио передавали, из каких городов она изгоняла фашистских захватчиков. Но впереди была очередная военная зима, и мама целыми днями вязала теплые носки для наших красноармейцев и командиров. И когда их набиралось много, она складывала их в фанерный ящик и относила на почту, чтобы эти носки попали прямо в окопы, где очень холодно и даже от дождя спрятаться негде. Уж я-то знаю: в степи много всяких окопов, и все без крыши над головой. Были в этих ящиках и мои рисунки. И даже стихи:
Пусть товарищ красноармеец Бьет фашистов как умеет, Чтобы в будущем году Вы закончили войну.Или еще такие:
Пусть вас мамины носки Отвлекают от тоски, Чтобы было вам теплее, Воевалось веселее.На рынке все больше появлялось калек, которые просили милостыню. Когда мы ходили на рынок покупать хлеб, мама всегда давала хлеба тем калекам, у которых позванивали медали. Но хлеба на всех не хватало, даже и с медалями, потому что нам тоже нужен хлеб, чтобы есть суп, а денег папиных едва-едва хватает, чтобы, как говорит мама, затыкать дыры. Тем более что «американские подарки» папа приносил не так часто. Впрочем, по сравнению с другими мы жили, можно сказать, хорошо. Слушая маму и глядя на калек, я думал, что когда вырасту, то непременно буду зарабатывать много денег, чтобы хватало на всех калек, даже и без медалей: так мне их было жалко.
Сегодня воскресенье, в школу не идти, я лежу в своей постели, читаю книжку, которую дал мне почитать Игорь Ярунин. Книжку эту написал писатель Горький, называется она «Детство» — это про то, как давным-давно жил мальчик со злым дедушкой и доброй бабушкой и как дедушка сильно отлупил его, как меня когда-то папа, только папа меня отлупил веревкой, а мальчика Алешу дедушка драл мочеными вицами, а потом пожалел его и стал учить читать. А в школу он не ходил, потому что это было в старые времена, то есть еще при царе, а теперь все совсем по-другому, и все дети ходят в школу. Очень интересная книжка. И очень мне было жалко этого мальчика Алешу Пешкова, который потом, когда вырос, стал писателем Горьким. Но он жил давно, когда еще меня не было на свете, а умер, когда я только-только родился.
Дверь в нашу комнату приоткрыта, я слышу, как мама разговаривает на кухне с тетей Марией, папиной сестрой, которая так рано-рано пришла к нам, чтобы пожаловаться на дядю Павло Дущенко.
— Устала я с ним, Маня, — говорит тетя Мария. — Извелась. Он все по бабам да по бабам. Иногда по нескольку дней дома не ночует, а скажешь ему что поперек, так кулаки в ход пускает. И кричит: я тебя, кричит, из грязи вытащил, облагодетельствовал, а ты тут мне еще будешь указывать, как мне жить… И все в этом роде. Я уж молчу, а на сердце-то, сама понимаешь, тоска. А тут еще свекровь, чтоб ей пусто было. Каждым куском хлеба попрекает… Уеду я от них…
— А сын как же? — пугается моя мама.
— А что сын? Меня все равно свекровь к нему почти не подпускает. Он меня и за мать-то не считает…
— Как же так? — еще больше пугается моя мама.
— А вот так. Ты, говорит, не наша, чужая, говорит, приблудная. А какая же я приблудная? Я что — под забором найденная? Я бы и без них прожила за милую душу. Уговорил он меня, улестил: поедем, говорит, со мной, у нас рай, а не жизнь будет. Скользкий он человек, Маня. Ты Васе-то скажи, чтобы он с ним не очень-то якшался: подведет он его под монастырь, Васю-то: доверчивый он, братец-то мой…
Тут загремела отодвигаемая табуретка, прошаркали мамины шаги — и дверь закрылась. И весь этот разговор на кухне каким-то удивительным образом переплелся с тем, что я читал, точно это вышло из книги, тайком пробралось на нашу кухню, и там заговорило голосами мамы и тети Марии, хотя на самом деле они вовсе не мама и тетя Мария, а мама Алеши Пешкова и его бабушка.
Глава 29
Главный технолог сталелитейного завода Петр Степанович Всеношный обходил заводские цеха, которые уже покинуло большинство эвакуированных в сорок первом из Донбасса рабочих и специалистов. Теперь на их месте работали новые люди, в основном молодежь из ремесленных училищ и женщины, которых донбассовцы обучили своему ремеслу, и не просто обучили, а сделали из них специалистов.
Обратная эвакуация проходила в несколько этапов. Чтобы не снижать темпы производства и качество литья, специалисты заменялись учениками постепенно, те какое-то время работали под их присмотром, теперь работают самостоятельно, а их наставники едут сейчас на родину, где все надо начинать сначала.
Петру Степановичу выпала обязанность проводить реэвакуацию, как он когда-то проводил эвакуацию своего завода из Константиновки. Но тогда уезжали не только люди, но и сам завод: его станки, машины, механизмы, оборудование — все, что можно было увезти. Нынче уезжали только люди, создавшие новый завод почти на голом месте и все три года дававшие танковым и артиллерийским заводам литые башни, траки, колеса, части корпусов, станины для пушек и многое другое. Теперь даже ему, главному технологу завода, трудно поверить, что все это они сумели поднять за каких-то три месяца. Скажи ему об этом до войны, он назвал бы такого человека сумасшедшим. Но никто ему тогда ничего такого не мог сказать уже хотя бы потому, что никому и в голову не пришли бы подобные идеи. А они оказались не просто идеями, но и реальной жизнью.
Боже мой, какие муки готов претерпеть и какие подвиги способен совершить русский народ, когда возникает в том жестокая необходимость! Какие силы в нем таятся до поры до времени, неведомые никому — и самому народу тоже! А ведь надо суметь эти силы пробудить, заставить их работать. Так неужели только сами муки и способны вызвать к жизни эти силы? Это и в нем, Петре Всеношном, существовали подобные силы, хотя он их в себе даже не подозревал. А теперь вот не осталось почти ничего: все высосали дни и ночи каторжного труда, все вложено в эти цеха, в этих людей. И как же трудно все это отрывать от сердца, бросать как бы на произвол судьбы, хотя, конечно, все это не так и никакого «произвола судьбы» нет, а есть другие люди, молодые и сильные, которые поведут дело без тебя — и наверняка лучше, чем это делал ты. Но до сих пор это было его делом, его и сотен других, кто катит нынче в теплушках или прикатил уже в разоренную войной Константиновку.
Петр Степанович проходил по работающим цехам, как делал это минувшие годы изо дня в день, и люди привыкли к его высокой и сутулой фигуре и почти не замечали ее, если все шло хорошо. Кому-то эта фигура казалась праздной среди этого грохочущего в дыму и пламени движения, точно ей нечем занять себя, вот она и бродит, не находя себе места. Но большинство рабочих и техников знало, что лишь последний год этот сутулый человек почти ни во что не вмешивается, а год и два года назад, когда многое не ладилось, часто шел брак, только от этого человека зависело, как все исправить и направить в нужное русло. И когда этого человека арестовали и он не появлялся в цехах более месяца, дело пошло еще хуже, и только с его возвращением снова стало налаживаться, пока не приняло законченную и устойчивую форму. Конечно, упорядочение производственного процесса не от него одного зависело, а от многих других факторов, а более всего от преодоления неустройства, спешки, ненужных понуканий, от невозможности достичь всего сразу на многих других производствах, связанных друг с другом технологической цепью, но на этом заводе — более всего именно от главного технолога Петра Степановича Всеношного, и то обстоятельство, что он теперь был как бы и не нужен, являлось его несомненной заслугой и даже победой над хаосом первых месяцев становления производства.
Иногда Петр Степанович останавливался и некоторое время смотрел, как работает тот или иной человек, подходил то к рабочему, то к сменному мастеру или начальнику участка, перекидывался несколькими словами, пожимал руки и шел дальше, стараясь не слишком отвлекать на себя внимание работающих людей. Его провожали взглядами и тут же забывали о нем — будто и не было.
Закончив обход, Петр Степанович вышел во двор и присел под жестяной грибок курилки. Огляделся беспомощно. Низкие — по причине экономии строительных материалов, времени на постройку и сохранения тепла — красные кирпичные корпуса вытянулись двумя параллельными рядами, земля между ними засыпана плотным и толстым слоем шлака, пронизана рельсами — ответвлениями железнодорожной ветки. Дымят низкие трубы, вспухают подернутые красноватым пламенем дымы из раскаленных вагранок и мартенов. На всем лежит жирная копоть. Редкие ели и березы, посаженные весной сорок второго, стоят без листьев и без хвои: деревья не выжили, задохнувшись отравленным воздухом, а люди не только выживали, но и работали. И дальше уходят такие же корпуса, но других заводов, составляющих кузницу всесокрушающего оружия Красной армии. А чуть в стороне — старые корпуса еще демидовской железоделательной мануфактуры, встроенные в общую производственную цепь. Над ними возвышаются невысокие горы, поросшие хмурыми елями, между которыми тут и там горят осенними кострами березы и осины.
Раннее солнце поднялось между двумя вершинами, осветив пронзительным светом и заводские корпуса, и тянущиеся вверх дымы, и рабочий поселок на покатом склоне горы — всё приземистые бараки да рубленные избы. Четвертая осень вступала в свои права на глазах у Петра Степановича, четвертое бабье лето уплывало в шорохе опадающей листвы и криках перелетных птиц.
Ныло сердце — и оттого, что близилось расставание с заводом, но более, что рядом с ним таилась в кармане поношенного пиджака страшная весть, которая пришла три дня назад в виде тонкого листка извещения о том, что капитан Иван Петрович Всеношный, командир артиллерийской батареи, пал смертью храбрых 20 августа 1944 года в бою под городом Сандомир, отбивая атаку немецких танков, и что похоронен в братской могиле на главной площади города.
Более месяца кружила где-то похоронка, а они с женой жили, как ни в чем не бывало, и думали, что сын их жив. Тем более что последнее письмо от Ивана, бодрое и даже несколько легкомысленное, пришло всего лишь две недели назад. И жена Петра Степановича тотчас же ответила сыну, потому что незадолго до его письма пришла весточка из Харькова от жены Ивана, пережившей вместе с дочерью немецкую оккупацию. И невестке сообщили, что жив Иван, воюет, и адреса послали обоим, чтобы переписывались между собой. И это происходило тогда, когда Ивана уже не было в живых.
А может быть, все-таки жив? Мало ли что случается на войне: убили одного, а приняли за другого, а тот, другой, ранен и лежит в госпитале и не может по причине ранения дать о себе знать. Сколько таких, воскресших из мертвых, все еще живы, все еще воюют, а иные и отпущены домой по ранению и непригодности к военной службе. Так что лучше пока не сообщать о похоронке ни своей жене, ни невестке: и без того пережили столько, что иным на десять жизней хватит и останется.
Было и еще одно письмо, давнишнее, от старшего сына Александра. Пишет Александр, что три года провоевал командиром партизанской бригады в Белоруссии, что теперь, когда Белоруссия освобождена, назначен начальником погранотряда в звании подполковника, что собирается выписать к себе семью, но пока обстановка не позволяет этого сделать. А что за обстановка такая, не написал, вот и гадай теперь, хорошо это или плохо, что сын вроде бы уже не на фронте. Слухи ходят, что и немцев много осталось в нашем тылу, и власовцев, и всяких националистов, и бог знает еще кого.
Петр Степанович вспомнил начало тридцатых, когда он после досрочного освобождения из Березниковского лагеря вынужден был уехать из Харькова в Константиновку, и как пробовали его привлечь в свои ряды тамошние «самостийники»; вспомнил маленького следователя по фамилии Дудник, поверившего ему и не ставшего раздувать «дела», и то неожиданное облегчение, когда стало известно об аресте «группы украинских националистов, провокаторов, наймитов международного империализма, шпионов и диверсантов» — именно так о них писали в газетах.
Как давно это было и как много событий в стране и вокруг самого Петра Степановича произошло за эти годы. А главное событие — война, которая, судя по всему, идет к своему завершению. И вот — гибель младшего сына, которого он любил больше остальных своих детей: именно потому, что младший и последний. Теперь никогда он его не увидит, не увидит его застенчивую улыбку, не услышит его голос.
Петр Степанович всхлипнул, судорожно втянул в себя воздух, торопливо отер рукавом заслезившиеся глаза, огляделся: не увидел ли кто его слабости, не услышал ли нечаянно вырвавшегося всхлипа? Но никому не было до него дела, да и народу почти не видно: все в цехах, разве что грузчики загружают в вагон какие-то детали, да несколько женщин, копавших траншею, отдыхают, опершись о лопаты, и судачат о своем, женском.
Петр Степанович закурил новую папиросу. Он чувствовал себя бесконечно усталым и лишенным чего-то такого, что еще недавно поддерживало его силы, не давало впадать в уныние и маловерие, — даже тогда, когда арестовали его за, якобы, вредительство: брак литья тогда доходил до шестидесяти процентов, но, конечно, не по причине вредительства, а по той же самой спешке. Слава богу, где-то наверху разобрались, надавили на местное НКВД, Петра Степановича выпустили и вернули на прежнее место. А через полгода наградили орденом «Знак Почета».
Глава 30
Докурив папиросу, Петр Степанович тяжело поднялся с лавки и побрел к заводоуправлению.
На втором этаже он толкнул дубовую дверь в кабинет с табличкой «Главный технолог П. С. Всеношный», хотя там уже распоряжался другой человек, бывший его заместитель Косачов, человек молодой и самонадеянный.
«Надо будет забрать табличку с собой… на память», — подумал Петр Степанович. Поморщился, вспоминая: — «И первый кусок конвертерной стали, который лежит на моем столе. Косачову они все равно не нужны», — заключил он.
Из-за стола сбоку от двери поднялась секретарша, молодая девица из местных, с льняными, легкими как пух, волосами, лишь недавно закончившая курсы машинисток-стенографисток. Она заменила секретаршу, работавшую до нее с самого начала и лишь недавно уехавшую в город Изюм, расположенный недалеко от Константиновки.
Испуганно глянув на Петра Степановича, секретарша поправила сбившийся на лоб локон и виновато улыбнулась.
— Здравствуй, Клавочка, — произнес Петр Степанович ласково.
— Доброе утро, товарищ Всеношный, — ответила Клавочка.
— Сиди, чего вскочила? — проворчал он. И спросил: — У себя?
— У себя. Только что пришли.
Кивнул удовлетворенно головой и открыл знакомую до мельчайших подробностей дверь.
Новый главный технолог завода говорил по телефону. Вернее сказать, слушал, что ему говорили, и поддакивал:
— Да. Да. Понимаю. Понимаю… — И вдруг сорвался на крик: — Нет, это вы не понимаете, что задержка с ремонтом обжиговой печи может обернуться для нас настоящим срывом всего задания партии и правительства! Я не собираюсь покрывать ваше разгильдяйство. Вы еще неделю назад обещали на парткоме закончить ремонт к десятому октября. А сегодня уже тринадцатое! Меня не касаются ваши проблемы: у меня своих предостаточно! Я буду вынужден поставить вопрос ребром перед дирекцией и парткомом! Да! Я не угрожаю! Я предупреждаю, товарищ Бакалавров. Нарушение технологического процесса целиком ляжет на вашу совесть. Все!
Пока Косачов говорил, Петр Степанович опустился на стул, достал папиросу, но закуривать не стал, слушал Косачова и думал. Думал о том, что замдиректора по капстроительству Бакалавров сущий пройдоха, что он всегда обещает явно невыполнимое, а потом изворачивается в поисках всяких препон, которые устраивают ему другие, что ему, Всеношному, в таких случаях на партком ссылаться было не с руки по причине своей беспартийности… даже тогда, когда ему вручили второй орден — орден Трудового Красного Знамени — и намекнули, что теперь-то он может и в партию вступить. И Петр Степанович подумал было, что, пожалуй, действительно можно и вступить, но потом вспомнил прошлое и как придется ему все это свое прошлое объяснять в различных партийных инстанциях и на партийных собраниях… и могут еще и не принять — и к чему ему такое унижение на старости лет? Тем более что никакой потребности в своей партийности не чувствовал. Что он — лучше от этого работать станет? Знаний ему прибавится? Авторитета? В должности повысят? Ничуть не бывало. Пусть молодежь идет в партию, пусть она чего-то там добивается и что-то меняет в этой жизни. А с него хватит и того, что есть.
— Вот, Петр Степанович! — начал Косачов, положив трубку и пригладив обеими руками свои вечно взъерошенные волосы. — Этот Бакалавров — с ним совершенно невозможно работать. Я до райкома партии дойду, но этого так не оставлю.
— Да-да, разумеется, — вяло согласился Петр Степанович. — Человек он, конечно, вздорный и необязательный, но на строительстве завода… сами знаете: того нет, этого нехватка, а он как-то выкручивался, как-то умудрялся… Хотя, конечно, тогда все так работали, все из кожи вон лезли…
— Время уже не то, Петр Степанович, — поучительно вставил свое Косачов. — Не то время, чтобы выкручиваться и умудряться. Плановое хозяйство: есть план, изволь выполнять. А то что же получается? А получается анархия и ничего больше.
Петр Степанович поднялся, произнес просительно:
— Я чего к вам зашел, Евгений Захарыч… Я зашел к вам проститься. Завтра уезжаем. И у меня к вам просьба: табличку с двери и вот этот кусок стали… кхм… прикажите завернуть, то есть как-нибудь так вот… — и Петр Степанович сделал округлый жест рукой. — Знаете ли, все какая-то память… об этом времени…
— Обязательно, Петр Степанович! О чем речь! Сейчас же и распоряжусь! На прощальный вечер принесу. Я понимаю…
И снова, уже в коридоре, Петр Степанович опять всхлипнул, но на этот раз и сам бы не смог сказать, от чего именно: участие ли, неожиданно проявленное Косачовым, так подействовало, прощание ли со своим кабинетом, в котором столько всего было, годы ли сказываются, или все вместе взятое, попробуй-ка разберись. Ясно одно, что он ослаб физически и душевно, что ему остается лишь доработать свой срок и уходить на пенсию — всего-то четыре года осталось, всего-то четыре. А когда-то этот срок казался ему и Левке Задонову недостижимым. И Левка таки его не достиг: сгинул Левка в тридцать седьмом, даже брат его, знаменитый писатель, ничего не смог поделать, чтобы спасти старшего брата. Или испугался что-то делать. Или, во что не хотелось верить, Левка действительно оказался в чем-то замешан. Да и время такое было, что и сам не знаешь, чего бояться, а чего нет.
Прощальный вечер для отъезжающих устроили в заводской столовой после дневной смены. Присутствовали начальники цехов, дирекция, члены парткома, профкома, комитета комсомола — всего человек пятьдесят. До этого дважды устраивали проводы для отъезжающих рабочих и технического персонала. И тоже с выпивкой, заливным судаком, лосятиной и боровой птицей. Вспоминали сорок первый, как мокли под дождем в недостроенных цехах, мерзли при первых морозах, как ютились по избам местных жителей, в землянках и наскоро сколоченных бараках, как болели дети, не хватало хлеба… — всего не хватало, о чем тут говорить? Вспомнили, как приехала комиссия НКВД и наркомата тяжелой промышленности, как начали шерстить всех подряд за отставание, срыв сроков строительства, низкое качество стали и литья, таскать по кабинетам, грозить трибуналом и прочими карами, и как после того, как директор завода дозвонился до Сталина, всех проверяющих точно корова языком слизнула, однако дело пошло куда как стремительнее, а в результате, хоть и с опозданием на полмесяца, завод заработал и продукция пошла. Значит, страх перед карой тоже сыграл свою роль.
У многих — и у Петра Степановича тоже — блеснула на ресницах слеза, а когда он вспомнил, что в нагрудном кармане у него лежит «похоронка», то чуть не разрыдался, и только присутствие жены удержало его от этой непозволительной слабости.
Глава 31
Только к концу октября четыре вагона с последними эвакуированными прибыли в Константиновку. Вагоны маневровая «Кукушка» оттащила на заводской путь, к полуразрушенной эстакаде, возле которой собралось человек двести встречающих. Гремел духовой оркестр, полоскались на свежем ветру кумачовые лозунги и транспаранты. Люди выбирались из вагонов, их встречали радостно улыбающиеся знакомые и родные лица, их тискали, качали, точно они вернулись бог знает откуда, откуда обычно не возвращаются, будто их уже похоронили, а они взяли да воскресли из мертвых.
Когда первые объятия и поцелуи иссякли, приезжие стали оглядываться, не узнавая своего завода: одни сплошные руины, среди которых там и сям высились остатки кирпичных стен, искореженная арматура, стальные балки и конструкции подвесной дороги, смятые башни теплообменников. Правда, кое-что уже было построено, что-то строилось и что-то даже работало, но общая картина была более безрадостной, чем ожидалась. И везде на развалинах и строительстве копошились пленные немцы в серых своих мундирах и коротких сапогах, охраняемые вооруженными красноармейцами и собаками.
Приезжие, впервые увидевшие немцев так близко, смотрели на них во все глаза, точно пытались понять, как эти люди могли совершить то, что они совершили, и почему от этих совсем не страшных, а, скорее, жалких людей им пришлось бежать за тысячи километров от родного дома, терпеть на новом месте всякие муки, работать до изнеможения, до обмороков, чтобы заставить этих немцев сдаться Красной армии и ковыряться теперь на этих развалинах.
На эстакаде, оставшейся еще с тех времен и почему-то особенно запомнившейся Петру Степановичу, сооружено что-то похожее на трибуну; туда провели Петра Степановича и еще несколько вернувшихся с ним рабочих и техников. Здесь был директор завода, парторг, председатель профкома и еще несколько человек, вернувшихся в Константиновку в начале лета, а также городское начальство, Петру Степановичу совершенно не знакомое. Здесь тоже вернувшихся тискали и целовали, будто не чаяли с ними встретиться, но все как-то уже не так, как внизу. Однако Петр Степанович впервые простил власти эту нарочитость, понимая, что она, власть, может, каждый день кого-то встречает-провожает, выказывая свою радость исключительно по идейным и политическим соображениям. Да и сам он имел к этой власти некоторое касательство, хотя в таких мероприятиях участвовать ему еще не доводилось.
Первый секретарь городского комитета партии, в офицерском кителе, но без погон, с двумя рядами орденских колодок на груди, приблизился к краю эстакады и поднял руку.
Смолк оркестр, затих гул толпы. Стало особенно отчетливо слышно, как ухает железо по железу, трещат отбойные молотки, круша кирпичные глыбы, тарахтит дизельный компрессор, как где-то за возводимой каменной стеной визжит циркулярная пила. Рабочие звуки наплывали со всех сторон, и Петр Степанович представил себе, как по длинной цепочки заводов, вытянутой вдоль железной дороги, уходящей на север к Харькову и далее на Москву, а на юг к Ростову-на-Дону и в другие места, копошатся тысячи и тысячи людей, постепенно возрождая былую индустриальную мощь Донбасса. И в груди у него опять, в который уж раз, вспучилось что-то горячее и подступило к самому горлу. Он вспомнил, как покидал этот завод на мотодрезине, как ухали взрывы, приводя в негодность то, что нельзя было увезти, и хотя он так и не увидел результатов этих взрывов, однако был уверен, что они приведут именно в негодность, но не разрушат завод до основания, до безжизненного нагромождения камня и железа. А это сделали вон те люди в серых шинелях, ковыряющиеся в нагромождении развлин.
— Наша страна, наша армия выстояла в страшной борьбе с заклятым врагом благодаря вашему самоотверженному труду! — выкрикивал секретарь райкома сиплым от бесконечного говорения голосом. — Мы возродим промышленную мощь Донбасса, поднимем из руин нашу Константиновку, вместе с вами сделаем ее еще краше, еще счастливее, чем она была до войны. Слава вам, труженики завода! Вы с честью пронесли сквозь тяжелейшие испытания звание советского человека, патриота своей социалистической родины!
Всеношные получили квартиру в поселке имени товарища Фрунзе, в новом двухэтажном доме. Квартирка не бог весть что, но директор обещал, что через годик будет построен дом улучшенной планировки, и там Всеношным дадут квартиру побольше. Тем более что Петр Степанович загодя предупредил директора, что с ним будет жить дочь с двумя детьми, муж которой, тоже врач, погиб в сорок первом где-то под Киевом во время бомбежки. Лучше, конечно, в отдельных квартирах, но так, чтобы поближе — в одном подъезде, скажем, или в соседних домах. А пока все пятеро расположились в двух комнатах среди голых стен. Ничего, и не такое приходилось терпеть. Главное, есть крыша над головой, тепло, светло и, как говорится, мухи не кусают. Остальное потом…
Через несколько дней Петр Степанович впервые обходил территорию завода в качестве главного технолога. Собственно говоря, производства еще не было, строились только корпуса, но уже по новой планировке, с учетом достижений науки и техники. Теперь перед заводом не стояла задача, чтобы в кратчайшие сроки дать фронту необходимую военную продукцию. Такую продукцию ему дают Урал и Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. От Донбасса требовалось настраиваться на продукцию мирную, и подготовиться к ее выпуску быстро, но основательно. На плечи Петра Степановича легла ответственность контролировать эту основательность, не отступая ни на йоту от проекта, разработанного одним из московских НИИ. Но не отступать было нельзя, потому что и проект был сырой, и многих дефицитных материалов не хватало, особенно проката нужных профилей, которые приходилось на ходу заменять на другие, а со станками, механизмами, электромоторами так просто беда: фронт забирал практически весь выплавляемый чугун, сталь, алюминий, медь, оставляя на все остальное крохи. Даже металлолом, собираемый на полях сражений в виде разбитой своей и немецкой техники, не вполне удовлетворяет потребности военной промышленности.
Все это Петр Степанович знал хорошо, но знал он и другое: он один из тех руководителей завода, с которых спросят в первую очередь, если утвержденные планом сроки не будут выполнены по всем пунктам. А как Сталин умеет спрашивать со своих наркомов, а те, в свою очередь, по цепочке вниз, Петру Степановичу напоминать не надо: прошел огонь и воду, и медные трубы, так что избави бог проходить их еще раз.
Побывав в строящихся цехах, Петр Степанович под конец добрался до самого угла заводской территории, где располагались складские помещения, котельная и прочие подсобные производства. Он шагал мимо столярного цеха, где делали оконные рамы, двери и канцелярскую мебель, мимо сохнущих на солнце кирпичей из отходов доменного производства. Кирпичи лежали длинными рядами прямо на утрамбованной земле. Многие имели неровные края и углы. Петр Степанович несильно ткнул один из кирпичей носком своего ботинка — и тот рассыпался так, как рассыпается кусок сахара под действием влаги, превратившись в горку шлака, поблескивающую чешуйками битого стекла. Конечно, этим кирпичам предстоит еще термообработка, но и до нее они должны иметь некую прочность, необходимую для транспортировки и укладки. А тут практически никакой прочности. Вспомнилось, как еще в тридцатых, но на другом заводе, тоже делали кирпичи из шлака, но на цементной основе. И тоже качество этих кирпичей было низким. НКВД обвинило начальника цеха во вредительстве, и тот загремел по пятьдесят восьмой еще и как троцкист и шпион, и, разумеется, враг народа. А было ли там шпионство и вредительство, или просто несовершенство технологии, теперь уже и не скажешь.
— Послушайте, товарищ! Где можно найти начальника цеха? — обратился Петр Степанович к одному из рабочих, выкладывающему из тележки на землю очередную партию кирпичей.
— Это Мануйлова, что ли?
— Да, Мануйлова.
— А он там, в машине: пилораму чинит.
Петр Степанович презрительно хмыкнул, передернул полными плечами, подошел к замершей под навесом пилораме, вокруг которой возилось несколько рабочих с измазанными руками и лицами.
— Мне бы начальника цеха, — произнес он, поздоровавшись с рабочими.
— Гаврилыч! Тут к тебе пришли.
Между станинами рамы поднялась такая же измазанная фигура человека в черном комбинизоне. Человек провел рукавом у себя под носом, оставив на лице грязный след, спросил недовольно:
— Кому я еще понадобился?
— Да вот, главный технолог.
— А-а. Подождите, я сейчас: гайку только закручу.
И Мануйлов снова нырнул в бетонную траншею, в которой тускло светила электрическая лампочка.
Петр Степанович отошел в сторонку, сел на лавочку, закурил папиросу, подумал с неприязнью: «Этот Мануйлов, видать, полагает, что гайка подождать не может, а главный технолог завода может, потому что…»
Петр Степанович остановил свои рассуждения, чувствуя, как в нем нарастает глухое раздражение, а в груди начинает все чаще стучать сердце, будто просясь наружу. А зачем? Зачем ему из-за всякой чепухи тратить свои нервы? В конце концов, у него действительно есть время, а с этого Мануйлова спрашивают план, и ему, видать, сам черт не брат, если мешает этот план выполнять. Ладно, покурим и подождем. Но на будущее будем иметь в виду.
Минут через пять к нему подошел Мануйлов, вытирая ветошью измазанные отработанным маслом руки. На голове лоснящийся от масла же картуз, такая же, хоть выжимай, спецовка. На начальника цеха он совершенно не похож, а, скорее, на ремонтника. Правда, в эвакуации, когда пускали заводы, начальники цехов частенько вкалывали наравне с рабочими, но то время прошло, нынче от начальника требуется четкая организация производственного процесса, а не ковыряние в неисправных механизмах.
Петр Степанович о Мануйлове не знал практически ничего. Да и видел его лишь однажды на совещании у директора завода. Начальник производства строительных материалов — так громко именовался этот цех — сидел в дальнем углу, во время совещания отмалчивался, когда до него дошла очередь, огласил по бумажке перечень необходимых запчастей, без которых могут встать пресса и барабаны для смешивания шлаковой массы с необходимыми компонентами. И тут же сел. Был этот Мануйлов угловат, угрюм и, похоже, не слишком уверен в себе. Впрочем, Петр Степанович тогда не обратил на него особого внимания: ни до того было. Да и относился его цех к побочному производству, от которого зависело разве что строительство жилья и подсобных помещений. Не о том в тот раз болела у Петра Степановича голова.
— Кирпичи у вас слабоватые, — начал Петр Степанович сварливым голосом, стараясь, однако, как-нибудь поделикатнее разобраться в этой проблеме. — Вы соблюдаете дозировку смеси?
— Какой там! — махнул рукой Мануйлов. — Жидкого стекла стекольный завод дает мало, приходится добавлять размолотое стекло, а оно начинает держать только после обжига. Вот и трясемся над каждым кирпичом, дышать на них боимся. Ведь план никто с нас не снимает. Дай тыщу кирпичей в день — и хоть тресни. К тому же пресса маломощные. Но после обжига они довольно крепкие: проверяли. Строители в очередь стоят. Опять же — пилорама. Собрали ее из остатков немецкой… — И пояснил: — Немцы при отступлении погрузили ее в вагон: хотели вывезти, а наши поезд разбомбили. По винтику собирали. Там шестерни из легированной стали были, от тех шестерен одни кусочки остались, а мы их сделали из У-8. Вот зубья у них и летят, нагрузки не выдерживают. Заказали нормальные шестерни в Куйбышеве, да пока еще не пришли.
— И все равно… Простите, не помню вашего имени-отчества…
— Василий Гаврилович.
— А меня — Петр Степанович. Будем знакомы.
— Очень приятно.
— Взаимно. Так я вот о чем, Василий Гаврилович. Не дело начальника цеха подменять собой ремонтных рабочих.
— Да я понимаю. Что вы думаете, не понимаю? Очень хорошо понимаю, — закипятился Василий Гаврилович. — А только у меня ни одного специалиста-механика нет. Набрали людей из грузчиков, штамповщиков — с бору по сосенке. Вот и приходится. Не смотреть же мне, как они там тычутся, будто слепые котята в мамкину титьку.
— А вы что, работали на пилорамах?
— Нет, не доводилось. А только, скажу я вам, механизм он и есть механизм. Надо только мозгами хорошенько пошевелить.
— До этого-то вы кем работали?
— Модельщиком на Кировском. Потом на Металлическом. Это в Ленинграде. А в эвакуации кузнецом. В колхозе. Приходилось ремонтировать все, что ломалось. А вообще-то у меня образование среднее, вот мне и сказали: бери производство, налаживай и давай кирпичи. И пиломатериалы. Вот я и налаживаю…
— Хорошо, — сказал Петр Степанович, поднимаясь. — Я постараюсь вам помочь.
Говоря так, Петр Степанович имел в виду, что вместе с ним из эвакуации возвратилось и несколько классных механиков, пока еще не занятых на производстве. Пусть у Мануйлова пока поработают.
Они пожали друг другу руки, и Петр Степанович пошел дальше, туда, где строили отстойник для использованных жидкостей.
Василий Гаврилович проводил главного технолога недоверчивым взглядом: все обещать горазды, да не все свои обещания выполняют.
Глава 32
Едва сутулая фигура главного технолога скрылась из виду, как рядом с Мануйловым на лавочку опустился Петр Дущенко, работающий на заводе завскладом. Он отер клетчатым платком лысеющую голову и полное лицо, запыхтел, точно бежал по какой-то срочной надобности.
— Чего это к тебе Всеношный приходил? — отдышавшись, спросил он равнодушно. И, не дожидаясь ответа: — Ходит везде, вынюхивает, как, скажи, делать ему нечего. Дюже принципиальный человек этот Всеношный. В каждой дырке затычка. Мало его в лагерях обламывали. Дюже вредный человек. Ты, Гаврилыч, держи с ним ухо востро, не поддавайся на его ласки. Такый чоловик так приласкае, що потим год кашлять будешь.
— Да я ничего, — произнес Василий Гаврилович, гася папиросу о край лавки. — Мое дело телячье.
— То так, то так. Мы людыны малэньки, нам бы гроши да харчи хороши, — осклабился Дущенко. И тут же, понизив голос: — Я к тебе чего пришел, Гаврилыч. Ты мне тыщу кирпичей не выделишь? Но так, чтобы без разнарядки и накладной. Я ж знаю, что у тебя сверхплановые имеются. Ты, главное, не вноси их в отчетность. А когда они придут ко мне на склад, я сам разберусь, что с ними делать. И тебя отблагодарю. Понимаешь, один важный человек из району дюже просил насчет кирпичей. Хату себе строит или еще что. Надо бы уважить. И досок сороковки… Полы там, потолки… А, Гаврилыч?
— Откуда я тебе возьму тыщу? Лишние бывают, но это брак, а товарный кирпич весь на учете. Тем более — доски. Это тебе не гвозди: в кармане не унесешь.
— Ну ты, Гаврилыч, даешь! — взмахнул короткими руками Дущенко. — Доски у тебя из нестандартного бревна? Из нестандартного. Списал на горбыль — вот тебе и доски. И кирпич тоже на брак списать можно. Ты еще этого дела не знаешь, опыта у тебя нету, а я все дыры прошел, все щели. И скажу тебе, как своему родственнику, что щелей этих и дыр больше, чем у нищего в штанах. В эти дыры можно все, что хочешь, протащить, даже завод, и никто не увидит. Надо только ходы знать. И выходы.
— А рабочие? Они что, по-твоему, безглазые? Они все видят: не булавки какие-нибудь.
— Вот чудак! Право слово, чудак ты, Гаврилыч. Рабочему что надо? Деньги. А какие у него деньги? Так, тьфу, а не деньги. Ему за такие деньги стараться нет никакого смыслу. Тебе за сверхплановый кирпич денег все равно не дают, хоть ты тресни на своей ударной работе. А я тебе живые деньги дам, ими ты любой рот заткнешь, любые глаза сделаешь слепыми. Народ — он, знаешь, дурень: ему пожрать, выпить да бабу в темном закутке потискать, — частил громким шепотом Дущенко, клонясь к уху Василия Гавриловича и орошая его слюной. — Конечно, случаются среди них принципиальные люди, но это такие люди, которых пыльным мешком в детстве по голове трахнули. Ужас, как я не люблю принципиальных: вред от них и ничего больше. Да только среди твоих работяг принципиальных нету. Я их всех наскрозь вижу и знаю, как облупленных.
Василий Гаврилович хмуро смотрел в сторону: чем дальше, тем больше не нравился ему его новый родственник. Черт навязал на голову такого. И надо же так случиться, чтобы Мария умудрилась откопать его среди миллионов других мужиков. Ведь Константиновка от Валуевичей — это ж как небо от земли. В Москве, говорит, случайно познакомились… Впрочем, говорун Дущенко знатный: кому угодно мозги запудрит. Вот и его, Василия, уговорил поехать в Донбасс. А чего хорошего в Донбассе? Жара, пыль да копоть. А когда пустят все заводы, дышать нечем будет. Питер для чахоточных плох, а это место еще хуже.
— Так что, Гаврилыч? — терял терпение Дущенко. — Помогать мы должны друг другу: на то и родственники. А если каждый сам по себе, пропадем.
«Ты-то не пропадешь, — думал Василий Гаврилович, не отвечая на вопросы родственника. — Помогать — это когда невмоготу, когда хоть караул кричи, а у тебя все имеется, да все тебе мало, потому что в три горла жрать хочешь». Но вслух он этого сказать не мог. Вслух надо было сказать что-то другое, чтобы и не обидеть, не оттолкнуть, потому что… и дело здесь не в сестре, а… Все-таки он, этот Дущенко, много ему, Василию, помог: и с квартирой, и с мебелью, и с работой, и продукты достает, и одежку. Пронырливый, все достать и обтяпать умеет. А может быть, и правда: так и надо жить, как живет этот Дущенко? Действительно: кто считает эти кирпичи? Кто считает доски? Никто не считает, кроме начальника производства стройматериалов и завсклада. А у него, у Василия, дети… У Витюшки недавно кровь носом пошла. Врачи говорят: малокровие. А отчего? Мало калорий и витаминов. На кукурузной каше много калорий не наберешь. Поросенок еще только растет, гуси еще только жиреют. Как раз к празднику поспеют. Есть соленые огурцы и помидоры. И это все. Иногда Дущенко подкинет «американские подарки», но на них тоже далеко не уедешь.
— Я подумаю, — произнес Василий Гаврилович, ненавидя самого себя за эти слова и зная, что этими словами он от Дущенко не отделается, что рано или поздно придется дать ему и кирпич, и доски, то есть не вносить в отчетность часть того и другого.
— Вот и добре, — обрадовался Дущенко. — Я ж всем говорю, что Василь Гаврилыч Мануйлов — мужик умный, знающий, толковый. Всем говорю. А ко мне прислушиваются, потому что я не последний человек в нашем городе. Да-а. Дущенко все знают, Дущенко всем нужен.
Он встал, тиснул Мануйлову руку своею пухлой, но сильной ладонью, пошел, переваливаясь с боку на бок, тяжелой походкой довольного собой человека.
Василий Гаврилович угрюмо посмотрел ему вслед и, сплюнув тягучую слюну, воровато огляделся по сторонам.
Конец тридцать восьмой части
Часть 39
Глава 1
Павел Кривоносов в это утро проснулся раньше обычного. Он открыл глаза и покосился в сторону окна, хотя и без того было ясно, что нет еще и пяти часов: маленькое окошко, задернутое кружевной занавеской, робко ощупывало комнату розоватым светом утренней зари, постепенно вытаскивая из ее черных углов скудную обстановку: железную кровать, сундук, круглый стол с гнутыми ножками, невесть откуда оказавшийся здесь, составленные вместе две лавки, на которых спал мальчишка. Но в первую очередь заря высвечивала розовое пятно, расплывшееся на давно не беленом потолке, которое походило на след плохо вытертой крови, будившее в Павле поначалу воспоминания о фронте и госпиталях, затем — желание вытереть его мокрой тряпкой, но тряпка висела на перекладине крыльца, наверняка — сухая, и желание пропадало само собой.
Снаружи не доносилось ни звука. Лишь тихое сопение женщины, лежащей рядом, нарушало плотную тишину, да тиканье древних ходиков на стене, в окошке которых застряла лупоглазая кукушка. Затем издалека послышался гул приближающегося поезда, и Павел по тому, как вздрагивала под ним кровать и все сильнее дребезжала на полке посуда, определил, что поезд воинский, тяжело груженый, следовательно, идет с востока, скорее всего, на Саратов. Судя по сводкам Информбюро, наши на юге продолжают наступление, и оно требует все новых танков, орудий и бойцов.
Поезд долго и однообразно отстукивал колесами стыки рельсов мимо полустанка, тяжело вдавливая шпалы в неподатливый гравий. Когда гул его стал уходить в тишину, растворяясь в ее неподвижности, Павел прикрыл глаза и несколько минут лежал, надеясь уснуть. Но сон не возвращался. Тогда он приподнялся на локте, откинул одеяло, сел, осторожно перебрался через неподвижное тело женщины, натянул на себя штаны, затем, обмотав ноги портянками, сунул их в сапоги, вышел из комнаты прямо на ветхое крылечко и привычно огляделся.
Перед ним в полусотне метров пролегали две железнодорожных колеи: одна сквозная, другая запасная — от одного семафора до другого. Справа торчала загогулиной труба водокачки, но сама водокачка отсутствовала: вода в трубу поступала из артезианской скважины, да только на полустанке редко останавливались поезда, и паровозы не заправлялись чистейшей водой, самотеком поднимающейся из глубин земли. Почти рядом с трубой сиротливо темнела бесполезная будка обходчика. Несколько пирамидальных тополей, дикий вишенник да колючие кусты терна окружали дом, похожий на барак, убогие пристройки к нему, в которых держали овец и кур, двух коров, двух же лошадей, одна из которых по штату принадлежала оперуполномоченному НКВД старшему лейтенанту Кривоносову. За пристройками начинался огород, чуть в стороне в густой оправе из камыша лежал небольшой пруд с жирными карасями, за прудом стояло несколько юрт, в которых жили семьи казахов, паслись верблюды и небольшая отара овец.
А вокруг лежала бурая степь с островками серебристого ковыля и солончаков, с грядой пологих холмов, уходящих в туманную даль, с черными провалами оврагов, рассекающих гряду, с редкими купами каких-то кустов и деревьев. Казалось, что все это существует вопреки здравому смыслу, изнывая от ненужности и скуки в ожидании часа, когда все перевернется и начнет жить по-другому. Или не начнет и исчезнет, не оставив следа. Над всем этим висело такое же однообразное небо, такое же молчаливое и такое же скучное. И так же скучно парил в этом небе беркут, брели на север по срезу горизонта неутомимые сайгаки, брели туда, где висели по утрам и пропадали к полудню редкие облака.
Кривоносов потянулся, зевнул, плюнул, целясь в дальние холмы, но плевок пролетел не больше метра и пал в густую серую пыль, свернувшись в темный комочек.
«Э-э, черт бы их всех!» — подумал Павел, имея в виду все, что его окружало. Затем тяжело сошел с крыльца, завернул за угол дома и помочился на рубчатый ствол тополя. Он все не мог привыкнуть к этому однообразию и скуке, к безделью, к своему неопределенному положению. Конечно, пока идет война, со всем этим можно мириться и не требовать большего, но жизнь ведь проходит — вот в чем дело! — и ни одной минуты нельзя будет вернуть и прожить заново.
Павел оказался на полустанке случайно: заболел предыдущий оперуполномоченный, само известие о болезни пришло как раз тогда, когда Павел сидел в кабинете начальника кадров окружного управления НКВД, ожидая назначения на новую должность. Он два дня назад выписался из госпиталя, где лечился после ранения в Сталинграде, раны затянулись, но еще болели, особенно по ночам, врачи признали его ограниченно годным.
— Должность там сержантская, — сказал кадровик, — но под рукой никого. Поезжайте, отдохнете, подлечитесь, а там посмотрим.
Павлу было все равно, лишь бы не болтаться без дела, и он с первым же ремонтным поездом, который останавливается возле каждого столба, выехал на полустанок, называемый «85-й километр».
Женщину, рядом с которой он только что спал, два года назад сняли с поезда вместе с пятилетним сыном, оставили на полустанке по причине неизвестного заболевания и опасения заразить других. Женщина была из Воронежа, мужа в первые же дни войны забрали в армию, он прислал ей одно единственное письмо, а ее письма возвращались назад с пометкой «Адресат не найден». Женщину поместили в казахской юрте, болезнь оказалась не заразной, она выздоровела и застряла на полустанке, помогая обходчику или дежуря у телефона.
Она была недурна собой, черные продолговатые глаза ее, наполненные непониманием и тоской, при первой же встрече остановились на Павле с ожиданием и надеждой, а мальчонка так и потянулся к Павлу, точно узнал в нем своего отца. И через некоторое время женщина с сыном перебралась на казенную жилплощадь Кривоносова. Они зажили вместе, деля его кровать, офицерский паек и все, что Кривоносов раздобывал у казахов-кочевников, набредавших на их полустанок в поисках воды: лишь здесь на многие километры полынной степи имелась артезианская скважина, доступ к которой должен проходить под неусыпным наблюдением оперуполномоченного во избежание возможных провокаций, диверсий и других непредвиденных обстоятельств.
Всё в ту военную пору было временным и неопределенным: и положение Павла, и этой женщины с ее сыном, и всей страны. Неопределенность их сожительства заключалась еще и в том, что сидение Павла на полустанке, хотя и продолжалось больше года, рано или поздно должно кончиться, не исключено, что объявится муж этой женщины, а пока не случилось ни того, ни другого, почему бы и не жить вместе, если вместе и надежнее, и сытнее, и приятнее.
Как раз сегодня должны подойти к полустанку кочевники со своими овцами, верблюдами и лошадьми. И сегодня же с рабочим поездом ожидается передача месячного сухого пайка на всех работников полустанка, детей и иждивенцев. Правда, иждивенцем числится лишь один человек — мать обходчика Славина, энергичная старуха лет семидесяти, на которой держится все хозяйство полустанка, все дети, да и взрослые в том числе. Впрочем, на сожительнице Павла тоже: на ней лежит обязанность помогать старухе и учить детей грамоте, поскольку до школы слишком далеко, а зимой, к тому же, и опасно: метельные и буранные дни идут чередой друг за другом, растягиваясь иногда на недели.
Только у Павла никаких видимых обязанностей. Разве что на мохноногой монгольской лошадке доехать до моста через пересыхающую уже в мае речушку и посмотреть, не заложили ли диверсанты под этот мост какую-нибудь пакость. Иногда он ездит вместе с обходчиком Славиным, мужиком угрюмым и неразговорчивым, на дрезине с ручным приводом, иногда с ремонтной бригадой путейцев. Смотреть, собственно говоря, не на что. Да и что делать в этой степи диверсантам? Может, и есть чего, да надежнее в городах, где можно затеряться среди людей. Или в лесах. Но Кривоносов инструкции, составленные в управлении, выполняет по всем пунктам и каждый свой шаг заносит в специальный журнал — начальству придраться не к чему. С одной стороны, инструкции для того и пишутся, чтобы их выполнять; с другой, если без замечаний со стороны начальства, то, глядишь, до самого конца войны можно просидеть на этом полустанке, ничем особо не рискуя. Да и хватит с него: и навоевался, и шрамов на теле не счесть, и ордена имеются, и медали.
Иногда Дарья, сожительница его, начнет разглядывать его тело, сплошь покрытое шрамами, и заплачет от жалости. После ее слез самому себя становится жалко до чертиков и ни на какую войну возвращаться не хочется.
За год безделья Павел располнел и обленился, некогда легкая походка стала тяжеловатой, плотное тело его, на котором при всяком движении играл каждый мускул, заплыло жиром, редкий волос на голове выгорел, на кирпичном неподвижном лице лишь серые глаза светились настороженным светом, каким светится небо в предчувствии грозы.
Глава 2
Пока Павел умывался, затем поил и чистил свою кобылу по кличке Айта, проснулось и остальное население полустанка, задымила летняя кухня, а ребятня уже заняла место за столом под камышовым навесом. Затем на пару минут притормозил ремонтный поезд, начальник поезда самолично передал по описи мешки с продуктами, рабочие с поезда, в основном женщины, набрали воды из скважины, — вода здесь отменная и даже, поговаривают, лечебная, — и поезд покатил дальше: менять кое-где шпалы, подсыпать кое-где гравий, ликвидировать сужения-расширения колеи. Да мало ли что надо делать, чтобы дорога продолжала работать в том же перенапряженном режиме, на какой она не была рассчитана при строительстве.
Завтракал Павел с Дарьей и ее сыном Антошкой. На завтрак пшеничные лепешки, по куску сайгачьего мяса, чай с молоком — обычно с солью, но сегодня с кусковым сахаром, который Павел расколол на мелкие кусочки. Завтрак проходил в молчании. Даже Антошка — и тот помалкивал, болтая под столом босыми ногами. Дарья поглядывала на Павла своими продолговатыми глазами, и были в ее взгляде покорность и удивление, которые Павел не мог себе объяснить.
В десять часов он оседлал Айту, приторочил сзади баян в кожаном футляре и поехал в степь навстречу кочевникам. Основная его задача — выяснить, не прилепился ли к семье Кыжытаевых кто-нибудь посторонний. Потом на смену одной семьи подойдут другие — и так будет продолжаться с неделю, если раньше срока не зарядят осенние дожди. С дождями в степи снова на какое-то время оживут речки и ручьи, наполнятся пруды, зазеленеет трава, исчезнет нужда кочевникам идти к артезианской скважине, и у Павла останется лишь одна забота — гоняться по степи за дрофами и стрелять сурков, мясо которых напоминает зайчатину. Но из револьвера много не настреляешь.
Низкорослая кобылка рысит знакомой тропой, легко перебирая своими короткими ногами, поэтому на ней почти не трясет, и Павел дремлет в седле, лишь изредка открывая глаза и поглядывая по сторонам. Солнце висит над степью белым шаром, от него все еще истекает иссушающий зной, в нем струятся облизанные ветрами и дождями макушки холмов, далекие стада сайгаков, бурые воронки вихрей, возникающих из ничего и в ничто уходящих.
Раньше Павел, оглядывая степь, не переставал изумляться тому, что в этой пустоте живут люди, живут сотни и тысячи лет, ничего в ней не меняя и никуда не стремясь. Сейчас он уже ничему не изумляется, принимает все как должное и неизбежное, но лично для него временное и ненужное.
Кобылка споткнулась о сурчиную нору, Павел дернулся, откидываясь назад, выпрямился и огрел кобылку плетью. Та вскинула голову и перешла в стелющийся намет. На гладком темени холма Павел остановил ее бег, плотно натянув поводья. Он всегда здесь останавливался: отсюда вся степь — как на ладони на многие версты и во все стороны. Собственно, дальше ехать и ни к чему: во-он они, кочевники, верстах в пяти-шести от него. В бинокль видна плотная отара овец, сероватым пятном переливающаяся с места на место, небольшой косяк лошадей, конные пастухи поодаль, а еще ближе десятка два верблюдов, груженых кочевым скарбом, вышагивают степенным шагом, поднимая ногами легкую пыль. Переднего верблюда ведут в поводу, между горбами малые детишки, старики, женщины, иные верхом на лошадях. Знакомая картина. Можно пересчитать всех по пальцам и возвращаться на полустанок. Но по инструкции Павел должен убедиться, что все члены семьи Кыжытаевых, значащиеся в его списке, имеются в наличии и чужих нет никого. Поговаривали, что где-то к одной из казахских кочевых семей под видом родственника прилепился диверсант — из казахов же, побывавших в немецком плену, — и что-то там взорвал. Или пытался взорвать. Было это или нет, однако Кривоносов знал: начальство любит вероятное облекать в форму имевшего место и на этом примере воспитывать своих подчиненных. Кривоносов сам имел когда-то подчиненных и тоже частенько использовал такой воспитательный прием: на молодых подобные байки действуют безотказно. А там поди знай, было или не было, зато обостряет бдительность. Потому что война.
Павел спустился с холма вниз, слез с лошади возле одинокой ветлы и пустил кобылку пастись, а сам, сняв гимнастерку, постелил ее на траву в тени дерева, вынул из футляра баян, всунул руки в ремни, склонил голову к мехам и повел тихонько грустную мелодию русской народной песни о том, как «в той степи глухой умерал ямщик». Играть на баяне Павел научился в госпитале, еще в тот первый раз, когда получил ранение от бежавшего с золотого рудника зэка. Оказалось, что у Павла очень даже хороший слух, а хозяин баяна лежал с ним в одной палате. Выписавшись из госпиталя, Павел купил себе баян и почти не расставался с ним, разве что в тех случаях, когда тащить его с собой было никак нельзя. В заградотряде он играл по вечерам, когда стояли в Камышине, уходя в свободные часы на берег Волги, в Камышине его и оставил, в надежде, что вернется. Вернуться не пришлось. Новый баян, значительно голосистее прежнего, приобрел в Чкалове на толкучке, с ним и поехал на полустанок «85-й километр».
Павел играл, глядя затуманенными глазами в степную даль, исходя в тоске одинокой своей душою, размягченной мелодией до такой степени, что хотелось биться головой об землю, кричать, плакать и еще бог знает что делать с собой, но он только крепче стискивал зубы и стонал утробой своей, повинуясь плачущим на все голоса ладам.
На людях он играл редко, и то после изрядного подпития.
— Тебе звонили из управления, — сказала Дарья, едва Павел переступил порог своей квартиры. — Просили срочно позвонить.
Павел покрутил ручку телефона, назвал телефонистке номер, стал ждать. Наконец издалека донесся едва слышный голос, пришлось напрягать слух и по нескольку раз переспрашивать. Выяснилось, что на его место направляется сержант госбезопасности, ему, Кривоносову, надо сдать этому сержанту дела и явиться в управление. И на этом — все.
Павел повесил трубку, дал отбой и опустился на лавку.
Дарья смотрела на него, теребя в руках вафельное полотенце, в черных продолговатых глазах ее ожидание и мольба.
— Вот так-то вот, — произнес Павел, избегая ее взгляда. — Кончился мой санаторий: вызывают за новым назначением. А куда пошлют, не знаю.
— А как же я? — тихо спросила Дарья. И уточнила: — А как же мы с Антошкой? Куда же нам теперь?
Будто Павел знал, как и куда.
— Как только выяснится, сразу же позвоню, — пообещал Павел. — А там видно будет.
Он знал, что видно не будет, потому что могут из управления прямым ходом отправить к черту на кулички, не дав ни дня на что-либо другое, не имеющее отношения к делу. Была бы Дарья его женой, тогда другое дело, а так… Позвонить он, конечно, позвонит, но этим, скорее всего, и закончатся их отношения. Разве что попытаться вызвать ее на новое место службы. Но, опять же, кто она ему? Случайная попутчица, прилепившаяся к одинокому мужику. В городе она на него и не взглянула бы. Хотя, как знать: мужиков нынче и в городе недобор.
Павел глянул на стенные ходики: четырнадцать-тридцать. Мотодрезина с его сменщиком будет через два часа. Еще часа через два-три пойдет назад, то есть как только появится окно в беспрерывном потоке воинских эшелонов. И все кончится. И не будет ни степи, ни казахов, ни этих стен, ни этой кровати, ни стола, ни лавок, ни этих ходиков. Конечно, что-то будет, но совсем другое.
Павел хлебал щи с сайгачиной, смотрел в стол. Дарья собирала его вещи. Антошка в углу возился с черепахой, кормил ее листьями капусты, поглядывал на Павла материными угольными продолговатыми глазами.
Сержант оказался молодым парнем, но уже хлебнувшим фронта: орден Красной звезды и три медали сияли и звенели на его выпуклой груди, желтели две нашивки за ранение. Он осторожно спустился с приступков дрезины, встал, опираясь на палку, недоверчиво огляделся, точно сомневаясь, туда ли попал. Вслед за ним на землю сошли молодая женщина и две девочки лет трех-четырех. Сверху подали мешки и чемоданы, корзины и узлы. Машинист предупредил, что у Кривоносова всего сорок минут.
Павел оглянулся на Дарью, стоящую чуть поодаль, что-то дрогнуло в нем, и он коротко бросил:
— Собирайся, поедешь со мной.
Дарья охнула и кинулась в дом.
Глава 3
Почти три дня Павел с Дарьей и ее сыном добирались до Чкалова, бывшего Оренбурга. Сперва до Актюбинска на перекладных, потом в Актюбинске втиснулись в вагон пассажирского поезда Ташкент-Москва. Кривоносову еще повезло: начальник местного отдела госбезопасности вошел в его положение и выписал проездные документы на троих. А мог и не выписать: мало ли кому взбредет в голову таскать за собой чужих жен, выдавая их за своих. Но дело, конечно, не только в доброте и отзывчивости начальника, а в том, что наши войска гонят фашистов в хвост и гриву, и уже почти на всем протяжении фронта вышли к государственной границе — отсюда и смягчение режима перемещения граждан с одного места на другое. Вот и ташкентский поезд битком набит возвращающимися в Москву «вакуированными»: артистами, музыкантами и прочим невоенным и мало полезным для войны людом. И среди них прорва евреев.
Впрочем, Павел их особо не выделяет из общей массы спешащих на запад возвращенцев: для него все люди на одно лицо. А евреи ничего плохого ему не сделали. В Сибири, где жил Павел, их вообще не было, а если и встречался какой-нибудь из них, то от прочих почти не отличался. Другое дело, когда их много собирается в одном месте. Тогда они становятся не просто заметными, а весьма от других отличимыми своей горластостью и желанием показать свое отличие. Впрочем, и другие нацмены ведут себя таким же образом, как бы давая понять, что их много и они друг друга в обиду не дадут. Но Павел знал, что все это от страха. И если копнуть поглубже, до самого нутра, то там можно найти и такое, за что можно отправлять всех скопом куда-нибудь подальше — туда, куда Макар телят не гонял.
В Чкалове Павел, оставив Дарью с сыном на вокзале, сразу же отправился в управление госбезопасности. Там поначалу его хотели определить в один из фронтовых отделов Смерша, но медкомиссия забраковала, и ему предложили ехать в Сталино представителем этого же самого Смерша во вновь формируемую воинскую часть: туда требовался человек — помимо всего прочего — с боевым опытом. Пока шло оформление, Павел надеялся, что ему вернут звание капитана, но об этом речи так и не возникло, а самому поднимать вопрос о восстановлении было не по себе. Зато он выпросил два дня для устройства жены и ребенка.
— А вы разве женаты? — удивился начальник отдела кадров.
— Больше года вместе живем, — не стал вдаваться в подробности Павел.
— И кто ваша жена?
— Учительница по физике и математике в старших классах.
— Грамотные люди и нам нужны, — сказал кадровик. И посоветовал: — Найдите квартиру, а потом приведите вашу жену к нам. Если у нее анкета в порядке, возьмем к себе. Если нет… Учителя везде нужны — устроится.
Павел нашел комнатушку в частном доме на одной из улочек неподалеку от Пугачевской крепости, поместил в нее Дарью с сыном и скудным их скарбом, а на другой день привел Дарью в управление.
Дарья от кадровика вернулась через час.
— Анкеты заполняла, — пояснила она. — Собеседование проходила. Сказали, что вызовут, велели ждать. — И показала карточки — детскую и иждивенческую.
У Павла оставался до отъезда еще один день. Весь этот день они втроем провели в Зауральской роще. Купались, жарили шашлыки из сайгачины, валялись на солнце и старались не думать о войне, о разлуке и о том, как долго она может продлиться. Антошка из пустых раковин улиток раскладывал на песке одному ему ведомые фигуры, сам с собой разговаривал и не обращал на взрослых никакого внимания. Павел то дремал, уткнув лицо в ладони, то, лежа на спине, смотрел на плывущие в синеве легкие облачка. Иногда ему вспоминалось прошлое, но все как-то разрозненно, точно это было не его прошлое, а кого-то другого: отец верхом на лошади или у костра, ночные звуки обступившей со всех сторон тайги, поселок, угрюмые лица тамошних жителей, лагерь, заключенные, погони, схватки, последний бой в Задонской степи в составе заградотряда, но не сам бой, а такое же, как здесь, небо, только со дна окопа… Иногда промелькнет лицо матери — и не лицо даже, а белая косынка, надвинутая почти на глаза, толстая коса, спадающая на грудь, а само лицо ускользало, уходило в тень, не вспоминалось. Не вспоминалась и война: там было все одинаково, каждый день походил один на другой, и все их покрывала усталость. Эта усталость жила в Павле по сей день. Из-за нее у него никаких желаний, ни печали, ни радости. И Павел знает, почему так: нет уверенности, что все это не повторится вновь.
Что-то сказала Дарья. Павел открыл глаза, посмотрел на нее с удивлением. Странно: не было ее всю его жизнь, потом она появилась: вышла из-за дома и встала, опустив руки вдоль тела, точно ждала его долгие годы, а теперь не может признать, он ли это или кто-то другой? Он так и не спросил у нее, что она подумала, увидев его, сошедшего с рабочего поезда. А что он тогда подумал? Кажется, ничего. Глаза ее ему понравились… нет, удивили: черные, продолговатые, а в них ожидание. Конечно, не его она ждала, но других-то не было.
— Я говорю, что ты обещал Антошке сделать ему лук…
— Да-да, обещал, — согласился Павел и посмотрел на Антошку: в глазах у мальчонки такое же, как у матери, светящееся из темноты зрачков ожидание. Наверное, и у него, у Павла, в детстве было то же самое: и жизнь была неласковой, и отец с матерью больше занимались другими, чем собственным сыном.
Павел сел, взял с куска холстины, которая служила им скатертью, финку, попробовал лезвие, тяжело поднялся.
— Ну что, парень, пойдем искать тебе лук.
— Пойдем, — тихо согласился Антошка, но без той радости, какой ожидал от него Павел. Видать, и малец устал от жизни: тоже ничто его не радует, ничто не огорчает.
Павел, обходя кусты ракитника в поисках подходящей палки, вспомнил, что ни разу не слышал, как Антошка смеется. Ни разу. Разве что улыбнется, но так грустно, точно наперед знает, что ничего веселого ему предложить не могут. Впрочем, и плачущим не видел тоже. Да и не очень-то Павел обращал на мальчишку внимание, и тот жил рядом, тихий и почти незаметный, точно знал, умудренный недетской мудростью, что взрослым не до него.
И тут что-то перехватило у Павла дыхание — и он надолго замер возле куста, глядя невидящими глазами в его зеленый сумрак. И в груди защемило, и сердце забилось неровно — такого с ним еще не случалось.
— Такие, брат, дела, — произнес он и откашлялся, пытаясь вытолкнуть из горла липкий комок. — Я тоже, брат, жил в твои годы, как тот гриб на опушке: то ли кто сорвет, то ли кто затопчет. А если разобраться, то ничем-то мы ни перед людьми, ни перед богом не виноваты. Да-а…
Мальчишка молча смотрел на Павла, и Павлу даже показалось, что тот все понимает, хотя навряд: в его годы не столько понимают, сколько чувствуют. А чувствовать Антошка может лишь одно: он дяде не нужен, и все эти слова не для него, а для дяди же.
Павел нахмурился и отвернулся. Наклонив ветку толщиной с палец, попробовал ее на упругость, затем несколькими сильными движениями отделил ветку от комля. Теперь он все делал молча, продолжая, однако, рассуждать с самим собой, как бы оправдываясь перед мальчишкой: «Вот, брат, и со мной так же: сорвали с места, гонят черт знает куда — в Сталино. Значит, в Смерше работать — не вполне здоров, а в строевой части — милости просим. Вот так оно всегда: кто в тылу всю войну просидел и дальше сидеть будет, а кто с фронта, по ранению или с вечной памятью. И опять на фронт же: опыт им, видишь ли, понадобился».
Впрочем, хотя Павел ворчал, но он был совсем не против фронта или тех, кто оставался в тылу. И не потому, что ему хотелось на фронт или он был равнодушен к собственной жизни, а потому что — приказ. Для Павла приказ, как для верующего святое благословение. Или даже выше: коли сам берешься приказывать, умей выполнять приказы других. Иначе — анархия. И вообще, если бы не мальчонка… точнее, мать этого мальчонки, он бы и не ворчал. Все дело в Дарье. Зацепила она его чем-то. И не ласками по ночам, не судьбой своею, и не глазами печального ожидания, а… А кто знает, чем привлекает нас та или иная женщина? Никто не знает. Но объяснить пытается каждый. Одни — продолжением рода человеческого, другие — сродством мужской и женской души, третьи… Да только объяснять ничего не надо. Объясняют преступление, а все остальное — естественно и объяснения не требует.
Лук получился хороший. В этом деле Павел кое-что смыслил: таежные якуты научили его делать луки — бесшумное оружие охотников и браконьеров. Он даже увлекся, стараясь сделать лук таким, чтобы он походил на настоящее оружие. Даже на огне закалил его концы, слегка загнул их, и лук стал напоминать рога буйвола, что значительно повышало упругость. И перестарался: мальчонка оказался слаб для такого лука, он едва-едва оттягивал тугую тетиву, и стрела падала, не пролетев и пяти шагов. И Павел потерял интерес и к мальчонке, и к луку.
Домой вернулись на закате. Хозяйка дома, согнутая ревматизмом в дугу шестидесятилетняя старуха, угостила стерляжьей ухой, словоохотливо пояснила:
— Брательник мой, Акинфий, в рыбачьей артели состоит, иногда балует сестрицу-то, а я внучат подкармливаю. Внучата-то мои, слыш-ка, служивый, на заводе вкалывают, старшему-то, Ванюшке, еще и шашнадцати нетути, младшенькому, Федюшке, четырнадцать в октябре стукнет. Прошлой весной на фронт сбегал. Как, значит, похоронка на отца пришла, так и убёг. Пымали и возвернули. А мать-то ихняя, невестка моя, на железке вкалывает смазчицей, по неделям дома не вижу. Нонче все так: война окаянная. Чтоб у энтих немцев ихнии матери такими же горючими слезьми умывались, какими наши бабы нонче плачут… Помогни нам, ос-споди… — И Старуха закрестила под столом свой тощий живот, вздыхая и кланяясь тарелкам с рыбьими костями.
Поезд на Саратов уходил за полночь. Дарья провожала до двери. Зябко куталась в пуховый платок. Не плакала, не голосила, как делают иные бабы при таких вот проводах. То ли от нечувствительности, то ли оттого, что когда-то выплакала все свои слезы, и на Павла их уже не осталось. Попробуй-ка, разбери этих женщин…
Лишь час назад Павел с неистовством терзал ее тело и все никак не мог оторваться, зная, что это, скорее всего, в последний раз. Дарья молча сносила его жестокое неистовство, лишь постанывала в железных объятиях, то сжимаясь в комок, то выгибаясь и растягиваясь, видно, понимая, что так оно и должно быть, потому что в последний раз.
Потом Павел молча пил чай на дорожку, а Дарья, отодвинувшись в тень, молча же следила за каждым его движением. И не поймешь, о чем думает она в эти последние их минуты под одной крышей. Может, давно ждала его отъезда как избавления, может, привыкла свою боль носить в себе самой и ни с кем ею не делиться.
В дверях Павел задержался, хотел спросить, будет ли она его ждать, но не спросил, а лишь пообещал, что свой офицерский аттестат будет высылать ей, потому что там он ему совершенно не нужен. Она согласно кивнула головой, тихо прошептала:
— Спасибо. — Огляделась, увидела баян, стоящий под лавкой в углу, спросила: — А баян… баян ты не берешь?
— Нет: таскаться с ним… Пусть Антошка учится. А я себе еще раздобуду.
И все. И больше Дарья ни о чем его не спросила. Да и о чем спрашивать? Не в гости к теще на блины едет, на войну, а война… С нее не спросишь: она ничего не дает, она только отнимает.
Павел шагнул в темноту, закрыв калитку, оглянулся: женский силуэт неподвижно темнел в желтовато-мутном проеме двери. Он махнул рукой, подбросил за плечами вещевой мешок и пошагал в сторону железнодорожного вокзала.
Глава 4
Подполковник-кадровик, человек лет пятидесяти пяти, с гладким отечным лицом и блестящими набриолиненными волосами, плавными движениями перебирал лежащие перед ним бумаги. Переворачивая страничку, он бросал на сидящего напротив молоденького лейтенанта короткие взгляды поверх очков, будто все еще сомневался, что перед ним сидит как раз тот человек, сведения о котором собраны в лежащих перед ним документах.
— Красников Андрей Александрович, — бубнил подполковник, скользя глазами по строчкам, — двадцатого года рождения… так-так-так… морская пехота… в боях с первых дней… личное мужество… авторитетом товарищей… орден Красной Звезды, медали, член ВКП(б)… оборона Севастополя… офицерские курсы… — И вдруг: — А сколько времени вы находились на оккупированной территории?
Лейтенант Красников, несколько дней как выписавшийся из госпиталя и еще до конца не избавившийся от последствий контузии, усыпленный бессвязным бормотанием кадровика, вздрогнул, нахмурил высокий бледный лоб, слегка сощурил серые глаза, пытаясь понять, что стоит за этим вопросом.
— Так там же все написано, — неуверенно произнес он, кивнув на лежащие перед подполковником бумаги, лихорадочно пытаясь вспомнить, сколько же, действительно, времени он находился на территории, занятой немцами.
Ему столько раз задавали этот вопрос, — и чтобы по дням и часам, — что он должен бы сложить в голове какую-то картину своего недавнего прошлого и придерживаться ее в последующих случаях. Но всякий раз ему казалось, что очередное официальное любопытство к его окруженческому прошлому — оно уж точно в последний раз, и старался поскорее обо всем забыть. Да и о чем помнить? И зачем? Будто он тогда думал, что придется отчитываться и оправдываться, будто он не воевал, а отсиживался в тылу, будто все, что он делал, происходило исключительно по его воле.
Красникова столько раз проверяли и допрашивали, что он должен бы знать ответы наизусть, а он всякий раз терялся и мучительно вспоминал, понимая, что затяжкой ответа может вызвать подозрение спрашивающего.
И, правда, сколько же это длилось — под немцами? Месяц? Год? Тогда ему казалось — вечность.
— Там написано, — еще раз повторил Красников и поднял скучающие глаза на портрет Сталина над головой подполковника.
— Ну да, ну да, тут написано. Как же, как же! — закивал головой подполковник. — С сентября по декабрь сорок первого… Это что же, три месяца, чтобы дойти от Симферополя до Севастополя? — Подполковник откинулся на спинку стула и с изумлением уставился на лейтенанта.
— Меня уже проверяли, — отрезал Красников.
Подполковник несколько смешался, поморгал подслеповатыми глазами.
— Прошу прощения, лейтенант, вы меня не так поняли: я не в том смысле, а, если так можно выразиться, чисто по-человечески… Любопытно, знаете ли… — И вдруг, подавшись к Красникову, заговорил доверительно: — Понимаете, сам я — из Хабаровска, месяц всего, да. Воевать не пришлось да и… и не придется, а сорок первый — здесь столько неясного…
Выпрямился, суетливо достал портсигар, раскрыл, протянул Красникову. Закурили. Подполковник заговорил снова, разгоняя дым обеими руками:
— Видите ли, по профессии я историк, преподавал в Хабаровском педагогическом, думаю со временем написать книгу. Отсюда и мое любопытство. Но если вы не расположены… Я, кстати, заметил, что все, кто прошел сорок первый, не расположены к откровенности. Вы уж извините.
Красников присмотрелся к подполковнику и заметил, что в этом человеке, действительно, есть что-то от преподавателя: он вполне бы смотрелся на кафедре Московского университета где-нибудь в тридцать девятом-сороковом году. Во всяком случае, в нем не было ничего от настоящего военного.
— Сорок первый… — выдавил наконец из себя Красников. — Это, товарищ подполковник, такой год, что о нем и в самом деле вспоминать страшновато. Я, например, до сих пор не верю, что выжил. А насчет неясности… Так вряд ли вам кто-нибудь разъяснит толком. Это было… как бы вам объяснить? Это как в боксе: выходишь на ринг, должен пожать сопернику руку, а он, вместо пожатия, тебе в челюсть — и ты в нокдауне: вроде все видишь, все слышишь, а соображаешь… почти ничего не соображаешь. А потом, когда придешь в себя, мало что помнишь.
— Да-да, я понимаю! — воскликнул подполковник. — Но живое свидетельство, согласитесь… Кстати, вы учились в Московском университете…
— Да, неполных два курса, — предваряя вопросы подполковника, перебил его Красников. — Потом пограничное училище в Одессе — по комсомольской путевке. Ну и — война.
— А кто у вас преподавал?
Красников назвал несколько фамилий университетских преподавателей, и каждую фамилию подполковник встречал широкой улыбкой человека, получившего весточку от старых друзей. Потом спохватился:
— Нуте-с, документы у вас в порядке. — Поморгал глазами и, будто извиняясь: — Э-э, сами понимаете: бдительность и тому подобное. Да-а, такое вот дело… Кстати, у вас имеются какие-нибудь пожелания?
— В каком смысле?
— В смысле прохождения службы.
— Воевать, вы хотите сказать?
— Ну да, разумеется! — опять смешался подполковник и, сняв очки, принялся протирать их замшей с излишним старанием.
Красников улыбнулся снисходительно, пожал плечами: до сих пор о его желаниях не спрашивали. Да у него их, признаться, и не было. То есть были, конечно, но они не зависели от места и рода службы, они были постоянны: выспаться, помыться в бане, поесть. В госпитале он вроде бы выспался; не в бане, но все-таки мылся совсем недавно, а ел всего час назад. Нет, никаких желаний пока не имелось.
Подполковник, между тем, снова водрузил на широкий нос очки, достал из ящика стола зеленую папку, открыл ее, держа так, чтобы Красников не мог заглянуть, заговорил сочувствующе, как говорят старые профессора, прежде чем поставить студенту «неуд»:
— Да, я вполне понимаю ваши затруднения, лейтенант. Могу предложить несколько частей на выбор. Тут есть одна… э-э… на формировании. Так что у вас будет возможность и отдохнуть, и окончательно подлечиться. Если желаете…
— Я согласен, — кивнул головой Красников.
— Прекрасно. Часть эта формируется в Сталино. Вот вам предписание, распишитесь, пожалуйста, и, как говорится, ни пуха, ни пера.
Подполковник поднялся, вскочил и Красников. Приняв документы и пожав влажную вялую ладонь подполковника, Красников повернулся и вышел из кабинета. Только в коридоре он вздохнул всей грудью и с хрустом расправил широкие плечи: беседа с подполковником произвела на него тягостное впечатление, она напомнила о недавнем прошлом, еще о чем-то, о чем не хотелось вспоминать, и он, не зная, отчего это вдруг стало так тяжело на сердце, заспешил скорее вернуться к той жизни, которая была ему понятна до последнего взгляда и последнего вздоха.
Глава 5
Приехав в Сталино, бывшую Юзовку, Красников долго плутал среди развалин, разыскивая часть, обозначенную в его предписании. Даже встреченный патруль ничего об этой части не слыхивал.
«Что за черт!» — недоумевал он, оглядывая унылые развалины, успевшие кое-где порасти лебедой и крапивой, с протоптанными по ним дорожками. Может, в комендатуре ему дали неправильный адрес? Невероятно, чтобы воинская часть так себя засекретила, что никакие признаки не указывали бы на ее существование. Как ни засекречивай, а все что-то да не спрячешь от постороннего глаза: должно на виду стоять КПП, должны вокруг части ошиваться солдаты и офицеры, должно обнаруживаться какое-никакое движение, наличие массы людей. Даже если эта часть только начинает создаваться. Нет, положительно здесь что-то не так.
Красников присел на глыбу кирпича, закурил и принялся методично осматриваться, начав с противоположной стороны улицы. Вон в том полуразрушенном четырехэтажном доме воинской части быть не может: возле дома возятся ребятишки, на протянутой меж двух тополей веревке сушатся латаные простыни, линялые рубахи, майки, трусы. Справа от него и слева дома разрушены еще больше, у них не осталось ни одной целой стены. Судя по всему, этот квартал подвергся массированной бомбардировке: всюду, куда ни глянь, видны воронки от тяжелых бомб. Скорее всего, наша же авиация и бомбила, потому что Сталино лежит на пересечении важнейших коммуникаций, и немцы гнали через него и технику, и войска во все стороны, где Красная армия затевала очередное наступление. Удивляться здесь не приходится. Удивительно другое: как в этом аду сумели выжить люди, откуда они берут силы, чтобы жить, работать, растить детей?
Правее, ближе к пересечению двух некогда широких улиц, о которых ему говорили в комендатуре, тоже не наблюдалось ни малейшего признака воинской части. Там стояли остатки трехэтажных домов с черными глазницами окон. Местами на них сохранилась штукатурка, выкрашенная в желтый цвет. Похожие дома есть и в Москве, и в Одессе, их начали строить незадолго до войны. У этих домов очень толстые стены, которые с трудом берут даже 76-миллиметровые противотанковые пушки, поставленные на прямую наводку. Такие дома немцы превращали в настоящие крепости, и сколько наших солдат полегло под их стенами…
Так, следовательно, на той стороне воинской части быть не может. Посмотрим, что у нас на этой…
Красников повернул голову и увидел двух мужчин лет этак тридцати, которых еще пару минут назад не было. Они стояли в тени, отбрасываемой остатком стены, и пялились на него, лейтенанта Красникова. В их позах было что-то деланное, наигранное и в то же время весьма решительное.
Красникову уже приходилось слышать о том, что в тыловых городах расплодились банды уголовников, которые грабят и часто убивают офицеров, у которых водятся деньжата и трофейные вещицы, да и обмундирование по нынешним временам на рынке стоит немалых денег. И когда среди раненых в госпиталях заходили разговоры о бандитах, приговор им всегда выносили один: стрелять на месте без всяких судов и волокиты.
С точки зрения этих двоих, если они действительно уголовники, лейтенант Красников представлял несомненный интерес: новые яловые сапоги, габардиновые галифе и гимнастерка, почти новая офицерская шинель, да еще вещмешок, в котором наверняка тоже что-нибудь имеется.
Страха, однако, Красников не испытывал. Более того, если это уголовники, то даже интересно, как они себя поведут.
Солнце, между тем, склонилось к горизонту, его диск, слегка затянутый дымкой, коснулся уродливых развалин на противоположной стороне улицы. Хотя на исходе был сентябрь, жара и духота стояли почти июльские, разве что ночи стали прохладнее. Небо над головой, еще по дневному белесое, уже задергивалось рябью высоких полупрозрачных облаков. В Крыму это бы означало приближение ветра и ненастья, а что означает здесь, знает разве что один бог, если таковой существует.
Лейтенант отвернулся от тех двоих, продолжая, однако, чувствовать их присутствие. Сидеть здесь долее не имело смысла: надо или продолжать поиски, или возвращаться на станцию, а это совсем не близко.
Докурив папиросу, Красников придавил окурок подошвой сапога, поднялся и увидел, как те двое, отделившись от стены, решительно направились в его сторону. Судя по тому, как они уверенно лавировали среди глыб кирпича и торчащей во все стороны арматуры, как легко перепрыгивали с одной глыбы на другую, это были сильные и здоровые люди, каким-то непонятным для Красникова образом сумевшие увильнуть от армии и фронта. Не исключено, что и оружие у них имеется — ножи уж во всяком случае.
Поколебавшись несколько секунд, Красников сунул руку в задний карман галифе и вытащил оттуда маленький никелированный бельгийский браунинг, весело блеснувший на солнце. Он демонстративно передернул затвор, посылая патрон в казенник ствола, и сухой металлический щелчок громко разнесся среди безмолвных развалин.
Двое остановились метрах в десяти от него, в нерешительности принялись жевать торчащие изо рта папиросы и перекидывать их из одного угла рта в другой. Делали они это почти синхронно, и Красников, глядя на них, не удержался от улыбки.
Один из них, пониже ростом и поплотнее, выплюнул окурок, произнес сюсюкающе:
— Эй, сьлюжбя, продьай пьюшкю!
— А ты валяй на передовую, там их — лопатой греби, — ответил Красников, продолжая улыбаться: ему все это казалось каким-то глупым розыгрышем, пошлым спектаклем.
— Та вин блефуе, — хрипло произнес другой, высокий и сутулый, с рубленым красным шрамом поперек лба. — Цэ не пушка, цэ зажигалка. Бачилы мы фраерив.
Теперь Красников не сомневался, что перед ним уголовники, а может, и самые настоящие бандиты. Однако связываться с ними ему не хотелось. Он отвык от гражданки, не знал существующих порядков. Наконец, это дело милиции или еще кого там — вылавливать дезертиров и всякую шпану. Хотя, если по совести, рука у него бы не дрогнула: одни воюют, а эта сволочь… Нет, он их просто попугает.
И Красников от бедра, лишь слегка согнув руку в локте, выстрелил в узкий промежуток между этими двумя. Выстрел прозвучал слабо, но его повторило и усилило эхо, а пуля вжикнула как всякая любая пуля, ударила в кирпичи за спиной бандитов и, срикошетив, взвизгнула, будто жалуясь на бессмысленность своего полета…
— Тю, сказывся! Мы ж тильки пошуткуваты хотилы…
Красников повернул пистолет в сторону говорящего.
— Все, гражданин начальник! Все! Бувайте здоровы! — сразу перешел на русский высокий, и оба, повернувшись, зайцами запрыгали среди развалин и скрылись в каком-то провале.
Красников поставил пистолет на предохранитель, сунул его в карман.
Этот миниатюрный браунинг он добыл в августе прошлого года, в одном из боев. Тогда, после Курского побоища, о котором в армии ходили легенды, южные фронты сдвинулись с места и покатили на запад. Кому как, а полку, в котором воевал Красников, везло: серьезных боев чуть ли не до самого Днепра не выпадало, все больше стычки с отступающими и не успевающими закрепиться небольшими группами немцев и румын. Во всяком случае, так ему, командиру взвода, казалось со своей взводной колокольни.
Города, поселки, села и деревеньки — все это мелькало, мелькало, не задерживаясь в памяти. Так же вот сходу ворвались в какой-то городишко — целый, не разрушенный, чудом каким-то уцелевший между катками войны, прокатившимися справа и слева. Белые хатки, окруженные вишневыми садами, прогибающимися под тяжестью перезревших ягод; пыльные улочки с лебедой-подорожником, треск автоматов, хлопки гранат, отрывистые тявканья танковых пушек, заборы, подворотни… бросок влево, бросок вправо, кирпичная школа на пустыре, зеленые свечи тополей, окна, заложенные мешками с песком, захлебывающийся лай пулемета — обычная, раз за разом повторяющаяся кутерьма скоротечного боя.
Помнит Красников, как сразу же за взрывом противотанковой гранаты, высадившей парадную дверь, он вскочил в темный и заполненный дымом и пылью вестибюль, потом коридор, а навстречу немец с автоматом в руке, но ствол автомата смотрит вниз, и у Красникова ТТ тоже стволом вниз… однако он лишь на мгновение раньше — просто кисть повернул и выстрелил.
А потом еще одна дверь и — на тебе: за столом генерал! Самый настоящий.
Красников едва переступил порог, как у него из-под руки вынырнул солдат его взвода, и автомат на того генерала. И убил бы, не успей младший лейтенант подбить ствол кверху. Тракнула короткая очередь в потолок — только белая штукатурка посыпалась на генерала, но сам он с места не сдвинулся, позы не изменил: как сидел за столом, так и остался сидеть. И только когда ворвавшиеся отдышались и несколько пришли в себя, медленно поднялся из-за стола, вынул из кобуры пистолет и положил его на стол — сдался, значит, на милость победителей.
Больно уж красивая штучка лежала на столе перед генералом и вся так и сверкала в лучах солнца, как какая-нибудь драгоценность. Младший лейтенант и его солдат несколько секунд, как завороженные, смотрели на эту безделицу, и генерал тоже глянул, понимающе усмехнулся, расстегнул ремень портупеи, снял кобуру, вложил в нее пистолет и протянул русскому офицеру.
— Принимать майн презент, герр лёйтнант. Ви спасать моя жизнь. Данке шён. Спа-си-бо! — твердо выговаривая каждое слово, произнес генерал, не выходя из-за стола.
Конечно, пистолет и так бы достался Красникову, но получить его не просто в качестве трофея, а как подарок, презент, было и приятно и памятно. Поэтому Красников так дорожил этим пистолетом и, дважды попадая в госпиталя, сумел сберечь его в нарушение всех правил и инструкций, которые предусматривали обязательную сдачу всякого оружия, тем более трофейного.
Едва неизвестные скрылись из глаз, Красников закинул вещмешок за плечо, взял шинель на руку и пошел к дому напротив, возле которого, оставив свои игры, сбилась в стайку худющая ребятня и смотрела в его сторону. Красников подошел, спросил с наигранной веселостью человека, который никогда не имел дела с детьми и поэтому не считает, что их можно принимать всерьез:
— Вы чего, мальчиши, надулись, как мыши на крупу?
Мальчиши никак не откликнулись на его слова, не приняли его веселого тона.
— Дядя, а вы зачем стреляли? — спросила девочка лет семи в длинном, до щиколоток, платье из мешковины.
— Я стрелял? — смешался Красников под испытующими детскими взглядами, не сразу уходя от наигранного тона. — Да вот дяди попросили стрельнуть, я и стрельнул… Вы лучше вот что мне скажите, ребята, — уже вполне серьезно заговорил он, — нет ли тут поблизости какой-нибудь воинской части. А то я все обошел, а найти никак не могу.
— Это где солдаты? — спросил мальчонка с цветными заплатами на коротких штанишках и ветхой рубашонке, из которой торчали грязные руки и такая же грязная тоненькая шея.
Другой, постарше, лет двенадцати, ткнул его в бок, произнес угрюмо:
— А вам зачем?
— Да понимаешь, какое дело, — уже обращаясь только к этому мальчишке, выделяющемуся среди остальных почти взрослой солидностью, продолжал Красников, — в комендатуре мне сказали, что эта часть находится на пересечении Первомайской и Советской, а я все обошел и — без толку.
— Дядя, а вы шпион? — девчушка смотрела на него со странной смесью любопытства и страха.
— Почему шпион? Разве шпионы такие бывают?
— Быва-ают! — уверенно подтвердила девчушка. — Они всякие бывают. У нас дядько Грицько — уж на что смирный человек, а и тот оказался шпионом.
— Не болтай, дура! — прикрикнул на нее солидный мальчишка. И уже Красникову: — Вы ее не слушайте: городит невесть что. Глупая еще. А вы и вправду в комендатуре были?
— Конечно, правда.
— И документы имеются?
— А как же! — уже совсем серьезно ответил Красников, чувствуя, как щемящая тоска охватывает душу. — Да у меня их недавно патруль проверял вон на той улице! — показал он рукой в сторону разбитых домов, еще не решив, показывать этим ребятишкам документы или нет.
— Я видел, — подтвердил один из мальчишек.
Солидный мальчишка кивнул головой и потеплел взглядом.
— Тут есть одна часть, — заговорил он доверительно. — Вон за тем забором! Во-он виднеется! Вы как школу пройдете, так она там и есть.
— Это которая школа?
— А вон, стена у нее красная, — показал мальчишка и добавил с сожалением: — Я в ней до войны учился.
— Понятно. Ну, спасибо вам, — поблагодарил Красников и шагнул было в указанном направлении, но остановился, скинул вещмешок, торопливо развязал тесемки, достал пакет с леденцами, протянул ребятишкам. — Угощайтесь.
Ребятишки подходили робко, двумя пальцами осторожно брали по конфетке, тихо благодарили.
Леденцы Красникову выдали в продпункте вместо сахара, и он почти их не трогал. Когда к нему приблизилась девчушка в длинном платье из мешковины, он сунул ей в руки весь пакет, увидел ее широко распахнутые глазенки-вишенки и, чувствуя, что сейчас расплачется, быстро, не оглядываясь, пошел по направлению красной стены, которая когда-то была школой.
Глава 6
Никогда бы Красников не обратил внимания на этот забор, никогда бы не предположил, что за ним находится воинская часть. Он уже проходил мимо этого забора, слепленного бог знает из чего: тут и куски труб, и арматуры, и части проржавленных железных кроватей с блестками никеля, сползающего чешуей, и колючая проволока — все только для того, чтобы хоть как-то отгородиться от мира. И не скрывалось за этой убогой огорожей ничего, кроме все тех же развалин. Разве что небольшая расчищенная площадка, назначение которой трудно определить, безжизненной плешью выделялась среди каменного и железного лома и зарослей лебеды и крапивы.
Не утруждая себя поисками калитки или ворот, Красников пролез в дыру, и едва приметная тропинка привела его к спуску в подвал. А дальше широкая лестница с бетонными ступенями, укрепленными металлическим уголком, перила по обе стороны. Перила выглядели нелепо, однако лестница была чисто выметена, площадка перед лестницей — тоже, и чуть в стороне — куча мусора. Внизу виднелась железная дверь, на первый взгляд массивная и тяжелая. Над дверью, когда глаза привыкли к полумраку, Красников разглядел надпись, сделанную зеленой масляной краской на бетонном перекрытии: «В/ч 17015» — как раз та самая часть, которая значилась в его предписании.
— Фу ты, черт! — с облегчением вырвалось у Красникова, когда он прочитал эту надпись: слишком свежа в памяти была стычка с теми двумя, которые, к тому же, исчезли где-то неподалеку отсюда, может, точно вот в таком же подвале.
Нарочито громко стуча подкованными каблуками по железной окантовке ступеней, Красников спустился вниз, потянул на себя ручку железной двери. Дверь открылась легко, без ожидаемого ржавого скрипа, и первое, что увидел лейтенант, это красноармеец-дневальный с красной повязкой на рукаве. Тот сидел на табурете и спал, облокотившись о тумбочку и подставив под голову ладонь. Над ним на стене висела керосиновая лампа. Огонек в лампе коптил и едва освещал самого дневального да часть бетонной стены и низкого потолка. Видно, керосина в лампе — кот наплакал.
Красников подошел к стене, снял лампу, поболтал — точно. Дневальный раскрыл глаза, поморгал, вскочил на ноги, уставился испуганными глазами на лейтенанта.
— Керосин-то у вас хоть имеется? — спросил Красников, вешая лампу на гвоздь.
— Так точно, товарищ лейтенант, керосин имеется! — запинаясь ответил дневальный.
— Так в чем же дело? Заправьте лампу!
— Есть заправить лампу! — Дневальный помялся немного, потом спросил: — Разрешите узнать, товарищ лейтенант, по какому вы делу?
— Направлен в вашу часть, — ответил Красников и, помедлив, протянул красноармейцу свое офицерское удостоверение. — Начальство ваше где находится?
— По коридору вторая дверь направо! — ответил дневальный, возвращая удостоверение.
— Хорошо, спасибо. А спать на посту я вам не советую.
Красников более внимательно пригляделся к дневальному, который стоял перед ним, переминаясь с ноги на ногу. На вид ему было лет сорок, виски в серой седине, под глазами мешки, лицо землистое, худое, глаза… затравленные какие-то были у этого красноармейца глаза, хотя в них явно светился ум и даже что-то вроде благородства.
— Да, спать я вам на посту не советую, — еще раз повторил Красников. — Здесь поблизости околачивается какая-то шантрапа. Мало ли что.
— Хорошо, я постараюсь, — совсем не по-военному ответил дневальный, но Красников на этот раз удержался от замечаний и пошел по темному коридору, стараясь не давать воли нарастающему беспокойству.
За второй дверью направо тоже горела керосиновая лампа, но горела ярко и чисто, без копоти. Лампа стояла на столе, за которым сидел человек в накинутой на плечи шинели с майорскими погонами. Майор пил чай из алюминиевой кружки, держа ее в ладонях. От кружки поднимался пар и окутывал лицо майора. В большом и пустом помещении, где кроме длинного дощатого стола, железной двуспальной кровати, накрытой серым солдатским одеялом, нескольких разномастных стульев и табуреток и железного ящика в темном углу ничего не было, держалась закисшая прохлада и сырость.
Майор сидел во главе стола, боком к двери и, когда Красников открыл дверь, повернул к нему скуластое, курносое лицо, выжидательно сощурился.
— Разрешите, товарищ майор?
— В-вход-ди, — ответил майор, заметно спотыкаясь на согласных.
— Лейтенант Красников! Прибыл для дальнейшего прохождения службы.
— Л-лад-дно, не т-тянись. П-прис-саживайся. Д-давай б-бум-маги. Ч-чаю хочешь?
— С удовольствием.
— В-вот к-кружка, в-вот ч-чайник. Наливай и п-пей. Сахар, х-хлеб — уг-гощайся.
Майор принял от Красникова документы, наметанным глазом просмотрел бумаги. Только после этого слегка приподнялся на стуле, протянул руку, представился:
— М-майор Лев-ваков, Н-ник-колай П-порфирьевич. Эт-то т-так, на всякий случ-чай… — И тут же с досадой: — В-вот ч-черт! Ник-как не м-могу к з-ззз-аиканию п-привыкнуть. Б-бесит!
— Мне это знакомо, — посочувствовал Красников. — Сам с полгода спотыкался. Думал, так и останется.
— И ч-что д-делал, ч-чтобы п-прошло?
— Н-ничего. Да и что делать? Сказали в госпитале — петь! Да когда там! — махнул рукой Красников и смущенно улыбнулся.
— Д-да т-ты п-пей! Не стесняйся. Н-нашел-то нас б-быстро?
— Пришлось поплутать немного, — ответил Красников все с той же улыбкой.
— Ч-чег-го улыб-баешься?
— Да самого тянет позаикаться, — и рассмеялся, изучающе глядя на майора.
Майор тоже засмеялся.
— М-можешь… в п-порядке под-ддд-халимажа. Б-был в окружении?
— Был. Почему спрашиваете?
— Любопытствую. Д-да ты не тушуйся. Я сам от границы до Ельни, потом от Ельни до Вязьмы, а от Вязьмы до самого Нарофоминска. Только выцарапаемся, дух переведем, а нас опять то в бок, то в зад, то в зубы. Напрыгались. Почему и спрашиваю: если и ты этого добра хлебнул, значит, свой человек. А то некоторые умники думают, что если побывал в окружении — паникер, трус, чуть ли не предатель, — все более распаляясь, словно продолжая неоконченный с кем-то спор, говорил майор, почти не заикаясь. — А все эти умники в сорок первом где были? По тылам прятались. То-то и оно.
— Да, я это знаю, — сдержанно подтвердил Красников, не понимая и не одобряя горячности майора Левакова.
— Про что я и г-говорю… Ну, ладно. Р-роту п-потянешь?
— Командовал уже.
— Тогда возьмешь вторую. Людей п-пока нет, ждем со дня на день. Квартировать б-будешь в соседнем помещении. Там сейчас лейтенант Николаенко. Вот с ним. Устраивайся, одним словом. А завтра разб-беремся.
Красников допил чай, поднялся.
— Разрешите идти, товарищ майор?
— Иди, иди! Да ты без церемоний. Тем более, когда чай с командиром пьешь. В строю — другое дело.
Майор говорил словами Чапаева из довоенного фильма, и Красникову это не понравилось: командиры, старающиеся быть запанибрата с подчиненными, не внушали ему доверия.
Впрочем, время покажет.
Красников взялся за ручку двери, когда майор спросил с некоторым подозрением:
— А ч-что, лейтенант, воп-просов у тебя никаких?
— Пока никаких, Николай Порфирьевич.
— Ну и п-правильно: утро вечера мудренее.
Красников вышел в полутемный коридор и заметил, что свет из-за угла стал более ярким, — значит, дневальный налил-таки в лампу керосина. Лейтенант постоял немного, привыкая к полумраку и прислушиваясь. Но кроме шаркающих шагов дневального за углом, не различил ни единого звука. Пройдя немного в глубь коридора, Красников скорее угадал, чем увидел, такую же железную дверь в стене, нашарил ручку, потянул на себя. Густая, непроницаемая темнота глянула на него из раскрытой двери, и чей-то недовольный голос проворчал:
— Ну, чего там опять?
— Лейтенант Николаенко? — спросил Красников, продолжая стоять в дверях.
— Ну, Николаенко.
— А я — лейтенант Красников. Только что прибыл в вашу часть. Майор Леваков меня к вам направил.
— А-ааа… А я думал… Подожди, я сейчас свет зажгу.
Скрипнула кровать, послышалось чирканье отсыревших спичек, приглушенная матерщина. Наконец спичка загорелась, осветив молодого парня в нижнем белье, раскрытую кровать, еще какие-то едва проступающие из темноты предметы.
Лейтенант Николаенко потянулся к столу, на котором стояла плошка с фитилем, поднес к фитилю спичку.
— Вот такое у нас освещение, — ворчал он при этом. — Ча-асть… Какая там к черту часть! Вся часть — Леваков, я да два красноармейца. Керосиновых ламп — и то две. Оружия — у Левакова пистолет, а у меня — ломик под кроватью. Кухни нет, из горячего — один чай, и тот надо на костре греть. Такие-то вот, брат, дела… Ну, проходи, давай знакомиться. Фамилию мою ты уже знаешь, а зовут меня Алексеем, — и Николаенко, придерживая сползающие подштанники одной рукой, другую протянул Красникову, шагнул ему навстречу с широкой улыбкой на худощавом мальчишеском лице.
Вскоре Красников уже знал, что Николаенко здесь всего пятый день, что он тоже из госпиталя, что это у него третье ранение, что каждый раз повоевать удается не более месяца, а больше по госпиталям, что поэтому всего лишь лейтенант и наград у него — орден Красной Звезды да две медали, что ему двадцать лет, что до этого воевал на Первом Украинском, а до Первого Украинского — на Воронежском, как раз под Прохоровкой, где наша Пятая танковая в атаке на хорошо подготовленные немецкие позиции потеряла столько танков, что просто ужас, а теперь это называется великим танковым сражением; что сам родом из Харькова, что пехотное училище закончил в сорок втором на Урале, что там у него родители — в эвакуации, имеется невеста — зовут Настей, что майор Леваков — мужик вроде ничего, но темнит насчет будущего формирования, что оба красноармейца — бывшие зэки, которых отпустили из колонии для искупления вины перед родиной за какие-то там грехи, следовательно, батальон этот, скорее всего, штрафной; что, наконец, неподалеку отсюда расположено женское общежитие, в котором живут мобилизованные из России на восстановление города и заводов, и там есть очень даже симпатичные кадры, и, если Красников не против, они завтра же туда и сходят, чтобы завести знакомства, а то одному идти как-то не с руки.
Все это Николаенко выпалил одним духом: видать, душа у него нараспашку, заглядывай в нее, кто хочет, и он еще не нарвался на такого, кто может эту его откровенность использовать в свою пользу и во вред самому Николаенко. Красников был лишь на два года старше своего нового знакомого и сослуживца, однако с высоты этих лет смотрел на Николаенко как на мальчишку, которого жизнь еще не била и не ломала. Поэтому о себе он сообщил нарочито скупо и без всяких рассуждений относительно своего прошлого.
Уснули они далеко за полночь, и будущее казалось им, несмотря ни на что, вполне определенным и ясным.
Глава 7
В бараке уже прозвучала команда «отбой», когда дневальный выкрикнул:
— Пивоваров! На выход! В канцелярию!
Бывший капитан второго ранга Ерофей Тихонович Пивоваров, услыхав свою фамилию, снова принялся наматывать на ноги обмотки. Уже около двух месяцев он носит эту — с позволения сказать — обувь, но все никак не привыкнет быстро с ней управляться. Обувшись, он влез в просторную гимнастерку, заспешил к выходу, беспомощно одергиваясь.
Посыльный из канцелярии курил возле дневального. Увидев Пивоварова, спросил с брезгливой гримасой на толстых слюнявых губах:
— Ты, что ли, Пивоваров?
— Так точно.
— Какого хрена телишься? Жди тебя тут! А начальство ждать не любит. Или не знаешь? Чего молчишь? Ну, топай давай вперед!
Пивоваров заложил руки за спину, и они, выйдя из барака, пошли в сторону канцелярии, к низкому кирпичному строению возле КПП, где на столбе, раскачиваясь под ветром, светила единственная лампочка.
Накрапывал дождь, ветер гнал по земле кустики перекати-поля, и те, как большие ежи, то бесшумно скользили в темноте, то вдруг замирали или кружились на одном месте, будто гоняясь друг за другом, сцеплялись, превращаясь в косматый комок, потом срывались и пропадали за углом барака, чтобы на смену появились новые. Завтра утром специальная команда под бдительным присмотром будет отдирать их от густой сетки колючей проволоки, сносить в кучу и жечь. Завтра утром…
На угловой вышке включили прожектор. Голубой луч, пронзаемый вспыхивающими каплями редкого дождя, побежал по крышам бараков, осветил плац, трибуну, — точно такую же, как в немецком лагере в Белоруссии, — столбы, колючую проволоку, нашарил Пивоварова с посыльным, задержался на них, заскользил дальше, поймал еще две сгорбившиеся фигурки и потух.
— Тьфу, мать их растак! — выругался посыльный. — Понаставили на вышки чичмеков, того и гляди даст в тебя очередь. И не спросишь, потому как народ темный, отсталый, никакой сознательности. Азияты, одним словом. Всякий раз, как осветит, так жуть берет: никто ж не знает, чего он там себе думает. Шмальнет — и все, и поминай, как звали.
Тон посыльного уже не был таким презрительно-грубым, а скорее даже заискивающим. Ясно, что не только вышкарей боится, но и Пивоварова тоже. А Пивоваров шел и думал, зачем он опять понадобился следователю. Что вызывал его именно следователь, он не сомневался: капитан контрразведки «Смерш» Акимов имел привычку допрашивать своих подопечных по ночам. До утра продержит под ярким светом пятисотсвечовой лампы и, не дав ни минуты вздремнуть, отправит на работы вместе со всеми, а ночью, обязательно после отбоя, снова на допрос. Сам выдрыхнется днем и всю ночь как огурчик. А лагерник с ног валится — ничего.
У Пивоварова позади несколько серий таких допросов: в самом начале, когда его только привезли сюда, потом недели через две, потом через неделю. И всякий раз одно и то же: как попал в плен, с кем, кто и как себя там вел, в каких лагерях сидел, почему не бежал, когда завербовало гестапо или абвер, с какой целью, с кем связан? Вопросы задавались разные, суть оставалась одна: признайся, что ты агент, что ты враг, что выжил не случайно…
В длинном, узком и ярко освещенном коридоре множество дверей. И почти возле каждой сидит караульщик: значит, не одного Пивоварова сегодня тащат на допрос, значит, не зря поговаривают о какой-то комиссии, приехавшей в лагерь будто бы для пересмотра дел. Может, Пивоварова и не к следователю, а к кому-то из этой комиссии? Пивоваров подтянулся, пробежал пальцами по гимнастерке — там, где должен быть ремень, но ремень в лагере не положен, и уронил руки.
Все-таки его привели к уже знакомому кабинету. В кабинете ничего не изменилось с тех пор, как Пивоварова допрашивали здесь последний раз. Только привинченной к полу железной табуретки не было: кто-то из заключенных, рассказывали, вырвал ее и пытался убить капитана Акимова. И сам капитан Акимов тоже, похоже, нисколько не изменился, будто они виделись с ним только вчера: сухая фигура язвенника с желтым лицом, редкими волосами, маленькими ушками и тонким длинным носом, спускающимся до самой губы.
— Вот, привел, — произнес посыльный, пропуская Пивоварова в кабинет, развязно облокотившись о притолоку и отставив ногу в хромовом сапоге, словно перед ним сидел не капитан, а такой же ефрейтор внутренних войск, как и он сам.
— Ладно, ступай, — кивнул Акимов, мельком глянув на Пивоварова.
Посыльный лениво повернулся и вышел за дверь.
Акимов сидел за столом и что-то писал в амбарную книгу. Он всегда, когда к нему приводили на допрос, что-то писал, словно писанина и была его основным занятием, словно он заранее знал, что будут отвечать допрашиваемые, и сам допрос — лишь пустая формальность, которую зачем-то требует соблюдать начальство.
Писать и не замечать подследственного Акимов мог бесконечно долго — психологический прием, который он использовал постоянно и который поначалу раздражал Пивоварова своей очевидной бессмысленностью. Придумывать что-то новенькое этот Акимов то ли был не способен, то ли не считал нужным. А может, в этом постоянстве проявлялось то превосходство над подследственным, которое давало капитану его положение. Он только не знал, что Пивоваров, как и большинство ему подобных, слишком научился ждать, чтобы обращать внимание на такие мелочи: почти три года немецких и два месяца своих лагерей научили его этому тяжелому, но нехитрому ремеслу.
Капитан Акимов пишет, склонив голову набок, прикусив верхнюю губу желтыми кривыми зубами. Настольная лампа под железным колпаком освещает нижнюю часть его гладко выбритого лица. Сегодня он почему-то не включает свой прожектор…
И только Пивоваров об этом подумал, как Акимов протянул руку и щелкнул рычажком. Яркий свет ударил Пивоварову в лицо и как бы отбросил от него все остальные предметы. В том числе и смершевца. Пивоваров медленно повернул голову в сторону и чуть прикрыл глаза — никто не заорал на него, не заставил смотреть прямо: что-то сегодня все не так.
Бывший капитан второго ранга Пивоваров стоит в четырех шагах от стола, стоит, чуть скособочившись, заложив руки за спину. На его лице — лице безмерно уставшего человека — видна каждая морщинка под глазами и на лбу. Светло-карие глаза Пивоварова давно потускнели и провалились, так что едва мерцают из-под нависших бровей. Он стоит и смотрит в темный угол, щурится от яркого света. Он стоит и ждет, хотя давно устал ждать, устал жить. Остались привычка, инерция. Или еще что-то. Это всего-то в тридцать шесть неполных лет.
Время от времени Пивоварова занимает вопрос, почему человек тянется к жизни, хотя жизнь становится невыносимой, а смерть — по здравому рассуждению — выглядит предпочтительнее? Собственно, этот вопрос занимал не его самого, а соседа по нарам еще там, в немецком лагере под Мемелем. Сосед его, Ефим Морозов, на гражданке был психологом, преподавал в Каунасском университете, куда в сороковом был переведен из Ленинградского, на войну призван на другой же день, назначен политруком роты, в плен попал на третий, даже ни разу не выстрелив: оружие выдать не успели.
«После войны, — говорил он, — обязательно напишу книгу о психологической приспособляемости человека к экстремальным условиям бытия. Жажда жизни инстинктивна, она возникает в нас тогда, когда мы еще находимся в утробе матери. Человек рождается в муках в прямом смысле этого слова, и при родах мучится не только мать, когда растягиваются мышцы ее тела, раздвигаются кости, чтобы пропустить плод, но и само рождающееся существо. И так, в сущности, всю жизнь. Трагизм — стержень существования человечества, всего живого. Шекспир, пожалуй, лучше других сумел отразить эту важнейшую сторону человеческого бытия. Нет, это, знаете ли, проблема не только исключительно земная, но и космическая. Человек рождается, чтобы умереть, человечество — чтобы погибнуть. В пламени рождаются миры, чтобы в пламени же перелиться в нечто другое, но повториться вновь и вновь…»
Увы, Ефиму Морозову книгу эту уже не написать: немцы откуда-то прознали, что он бывший «комиссар», и повесили его на лагерном плацу. Это случилось, кажется, в октябре. Только вот число… Впрочем, это не важно. Значит, три года назад.
Пивоваров переступил с ноги на ногу, покосился на следователя: тот продолжал усердно скрипеть пером, время от времени макая его в чернильницу-непроливашку. Сам следователь находился в тени, и на свету шевелились лишь его узкие руки с длинными пальцами, которые существовали как бы сами по себе… Нет, пересмотром дела здесь не пахнет. Пересмотр дела — это в комиссии. Впрочем, окончательные решения по делу выносили и без нее: время от времени собиралась партия в десяток-другой человек, получала новое обмундирование, документы и отправлялась на фронт — кто в старом звании, кто без звания в штрафной батальон; или другая партия, но в том же лагерном обмундировании, загонялась в крытый грузовик, туда же конвойные с собаками, и в трибунал. Это уж как кому выпадет: орел или решка.
Да, в октябре сорок первого… Потом, после гибели Морозова, Пивоваров каждую свободную минуту, — если не думал о семье, которая осталась в Лиепае, и неизвестно, что с нею сталось, — мысленно развивал запавшую ему в душу тему о психологической приспособляемости и тоже, как Ефим Морозов, рисковал заглядывать в будущее.
«Да-да, — думал Пивоваров, вспоминая лекции по марксистской диалектике, — все идет по спирали. По Лобачевскому нет параллельных прямых. Следовательно, тело, вышедшее из одной точки, рано или поздно вернется в ту же точку и вновь соединится с остальными телами. И так без конца, ибо начало и конец всегда соединены. Как рождение и смерть. Как страдание и счастье. И чем сильнее страдание, тем необходимее счастье…»
Пивоваров всеми силами старался отвлечься от действительности и, хотя усталость и желание спать, как последствие перенесенной болезни и недоедания, брали свое, и он время от времени как бы проваливался в темноту, однако, качнувшись на затекших ногах и выпрямившись, вновь ловил кончик ускользающей мысли. Он представлял себе, как выйдет на свободу — должно же это случиться когда-нибудь! — как обложится книгами по психологии и, чем черт ни шутит, сделает то, что не суждено было сделать его товарищу по несчастью. Он расскажет в этой книге…
Скрипнул стул под капитаном Акимовым, Пивоваров вздрогнул и глянул в его сторону. Мысли опять смешались. «Пишет гад, все пишет, — подумал он равнодушно, без злобы. — Неужели этот вот человек, это вот ничтожество на сегодня первая и последняя инстанция, которая решает не только мою судьбу, но и тысяч других людей, повинных лишь в том, что они все еще живы?!»
Все страшные три года немецкого плена Пивоваров боялся хоть чем-то навлечь на себя малейшее подозрение в нечестности, в малодушии, в измене долгу, а оказывается — все зря. Разве что своим существованием он спасает кого-то от подобной же участи. Как это дед говаривал? — дай бог памяти: «Не отрекайся от судьбы своей, ибо Господь на всех делит поровну». Как же, поровну! Это с ним-то, капитаном Акимовым? Сейчас и бог, и судьба, и движение планет, если они влияют на жизнь отдельных людей, — все соединилось вот в этом человеке с узким аскетическим лицом садиста и маньяка, существующего в каком-то собственном мире, в котором нет места бывшему капитану второго ранга Пивоварову, бывшему члену ВКП(б), бывшему командиру и члену партийного бюро бригады сторожевых кораблей. Но почему — бывшему? Разве его лишали звания? Исключили из партии? Судили? И ведь вот этот… этот Акимов — он же наверняка тоже член партии, он тоже офицер, хотя и не Красной армии, а НКВД или госбезопасности! Но офицер же! И наверняка тоже, как и Пивоваров, выходец из рабочих или крестьян. Как же так?
Пивоваров вдруг почувствовал, что мысль его поворачивает в такую сторону, что если и дальше рассуждать в этом направлении, то можно до того дорассуждаться, что потеряешь всякую опору в жизни, и тогда никакие инстинкты самосохранения не уберегут тебя от отчаянного шага, как не уберегли многих, бросившихся на проволоку или на конвоира, под колеса вагонетки или сунувших голову в петлю.
Мысли о том, что в стране и в партии что-то делается не так, и раньше приходили Пивоварову в голову, но ни разу они, эти мысли, не приближались так близко к тому порогу, через который он решил когда-то до поры до времени не переступать. Там, за этим порогом, было нечто, и это нечто вполне реализовалось в образе капитана Акимова, и какими бы словами этот маньяк не оправдывал своего существования, в основе этого существования, мерзость, мерзость, мерзость… Конечно, эта мерзость напрямую не связана с партией и советской властью, не есть их производная, но она существует и, следовательно, все-таки как-то связана…
Пивоваров крепко сжал челюсти и кулаки за спиной, чтобы остановить страшный своей неуправляемостью поток мыслей, и даже тихо застонал от напряжения, — не столько физического, сколько душевного. Не думать, ни о чем не думать. Его дело — ждать. Только ждать, и ничего другого.
Пивоваров давно стоит с закрытыми глазами и не замечает, что Акимов, откинувшись на спинку стула, наблюдает за ним внимательными, но ничего не выражающими глазами. Разве что скуку. Впрочем, разглядеть лицо капитана Акимова совершенно невозможно: оно, словно стеной, отгорожено от взора подследственного ярким светом пятисотсвечовой электрической лампы.
Пивоваров стоит и едва заметно раскачивается из стороны в сторону.
— Так ты так и не вспомнил, какое задание получил от своих хозяев перед тем, как ваш лагерь освободила Красная армия? — вкрадчиво спрашивает капитан, и Пивоваров, приходя в себя, долго моргает красными веками и таращится в ту сторону, где сидит следователь. — Отвечай! — вскрикивает Акимов.
— Нет, не вспомнил, — устало говорит Пивоваров после продолжительного молчания.
— А зря. Мы тут получили на тебя кое-какие новые данные. И эти данные не сходятся с легендой, которую разработали для тебя в абвере.
Пивоваров пожал плечами: Акимов уже не впервой использует этот трюк.
— А как фамилия полковника-власовца, который вербовал тебя в РОА?
— Он не представлялся. Вы это спрашиваете в десятый раз. Не надоело?
— Молчать! Сколько надо, столько и буду спрашивать! В карцер захотел? Так я могу устроить. Из-за таких подонков, как ты, немцы пол-России захватили! Таких, как ты, вешать надо без суда и следствия, а мы с тобой возимся, доказательства собираем, народным хлебом кормим! Вот шлепну тебя на этом месте…
— Сам ты подонок, — тихо говорит Пивоваров. Он вдруг почему-то решает, что это последний разговор с капитаном Акимовым: что-то сегодня все не так, как в предыдущие допросы — нет у смершевца уверенности, что ли. — В бою я тебя не видел, — продолжает он. — Там бы ты полные штаны наложил. Здесь ты герой, дерьмо собачье.
Произнеся все это, Пивоваров однако не почувствовал того облегчения, которое ожидал. Сколько раз он мстительно предвкушал, что придет день, — не может не придти! — и он выложит этому капитану все, что о нем думает. А там будь что будет. И вот высказался. А толку? Мелко все это и не достойно человека и офицера. Да и сам он, Пивоваров, если не считать того первого своего боя с немецкими самолетами на рассвете 22 июня 1941 года, больше не воевал. И все, что он, Пивоваров, сказал сейчас смершевцу, никому не нужно, даже самому Пивоварову. А если смотреть на этот поступок с точки зрения психологии приспособляемости, то надо признать, что он дошел до ручки и инстинкт самосохранения над ним не властен. Глупо, разумеется, столько терпеть и ждать и сорваться именно сегодня, когда для этого нет никаких поводов.
Пивоваров ждал вспышки гнева, ждал, что вот сейчас раскроется боковая дверь и оттуда явятся костоломы. Но Акимов на его слова лишь побарабанил пальцами по столу и криво усмехнулся.
— Нет, я тебя не шлепну, — произнес он, растягивая слова. — Я вижу: ты на это как раз и рассчитываешь. Меня не проведешь: тертый калач. Пусть тебя лучше немцы шлепнут. Может, и ты напоследок хотя бы одного из них… хоть какую-то пользу принесешь своему народу, который тебя учил, кормил… С паршивой овцы, как говорится…
— То есть… — Пивоваров почувствовал, как сердце сжалось, провалилось куда-то, забилось неровными толчками. Он забыл об усталости, о сосущем чувстве голода, о бессильной ненависти к сидящему за столом ничтожному человечку, отгородившемуся от него ярким светом. Голос Пивоварова сел, и он полушепотом спросил: — Это что же, капитан, новый способ издевательства?
— Ошибаешься. Хватит вас задарма кормить. Поди-ка повоюй. Не все же честным людям кровь свою проливать. И ваша поганая сгодится. Но помни: твоя семья в ответе, если ты еще раз нарушишь долг, изменишь присяге…
— Семья? — перебил смершевца Пивоваров. — Она цела? Что вы о ней знаете?
Дверь отворилась, заглянул все тот же посыльный, произнес:
— Вторая требует человека.
Капитан Акимов выключил рефлектор, протянул посыльному папку, проскрипел:
— Моя бы власть, Пивоваров, я бы тебя все-таки шлепнул… Иди пока…
Вслед за посыльным Пивоваров прошел в самый конец длинного коридора. Ждущие своей очереди у других кабинетов провожали его тоскующими взглядами.
Во втором кабинете сидели трое за длинным столом: подполковник и два майора. Посыльный папку положил перед подполковником. Один из майоров, указав на стул возле стола, произнес будничным голосом:
— Садитесь, Пивоваров.
Пивоваров сел, не поблагодарив.
Подполковник листал его «дело».
— Что ж, — произнес он, долистав до корки. — Ничего компрометирующего за вами нет. Если не считать вашей способности в течение трех лет, так сказать… Мда… Вернуть звания мы вам не можем. Зато можем предоставить вам возможность искупить, так сказать, на поле боя… — и пока говорил, пристально, с прищуром, вглядывался в лицо Пивоварова, точно надеясь найти там нечто, что позволило бы ему изменить свое решение.
— Вы имеете в виду штрафбат? — спросил Пивоваров.
— Именно, — ответил подполковник.
— А у меня есть выбор?
— У вас — нет. Выбор имеется у нас. И мы выбрали штрафбат.
— Я согласен, — ответил Пивоваров.
— Мы нисколько не сомневались в этом.
— У меня только один вопрос… если разрешите.
— Да.
— Капитан Акимов упомянул о том, что моя семья будет в ответе, если я…
— Что касается вашей семьи, то нам о ней ничего не известно. К сожалению… Но в вашей анкете указано, что ваша жена по профессии учительница…
— Она не учительница. Она врач-педиатр.
— Да? Впрочем, это не столь важно. Попробуйте через наркомат здравоохранения, — посоветовал подполковник.
Пивоваров кивнул головой, то ли соглашаясь, то ли благодаря: он все еще не мог поверить, что эти люди, принявшие относительно него решение направить его в штрафбат, являются уже не просто членами комиссии, но и как бы товарищами по борьбе, по общей судьбе, которая свела их не зависящими от них обстоятельствами. Он не испытывал к ним ни малейшей благодарности, не испытал бы ее даже и в том случае, если бы они вернули ему звание и направили по прежнему месту службы: слишком высокая стена была возведена между ними этими обстоятельствами и она все еще разделяла их, не пропуская его на ту сторону, и тот факт, что подполковник лишний раз проверил Пивоварова, будто бы перепутав профессию его жены, подтверждал это вполне наглядно.
И он спросил, вставая:
— Я могу быть свободен?
— Да, — ответил подполковник. — Вы можете возвращаться в барак. Пока. — И добавил: — Искренне желаю вам успеха.
— Благодарю, — ответил Пивоваров, повернулся и вышел.
Глава 8
Пивоваров вышел в темноту ночи и долго стоял, привалившись спиной к кирпичной стене канцелярии, не в силах поверить в случившееся, хватая широко раскрытым ртом парной воздух степи, слегка окропленной заблудившимся дождем. В темноте звучали шаркающие шаги, потом в круге света появлялись люди, поднимались по ступенькам и скрывались за дверью. Но до Пивоварова с трудом доходил смысл происходящего вокруг него, его мысли были поглощены тем, что сказал капитан о семье. Знает он что-то о ней или это просто способ воздействия? И правду ли сказал подполковник, что им ничего не известно?
Семья — это все, что оставалось у бывшего капитана второго ранга Пивоварова, все, на что он мог рассчитывать в будущем, единственное прочное и незыблемое — его любовь к жене, его тоска по ней, ее любовь к нему. Он не допускал ни малейшего сомнения в этой прочности и надежности. Препятствием перед конечной точкой его маршрута, где якорь корабля мог бы крепко и навечно вцепиться в грунт, могла стать только гибель жены и детей.
Еще в немецком плену он кое-что слышал о трагическом походе кораблей Балтфлота из Таллина в Ленинград, о гибели многих боевых кораблей и транспортов с эвакуированными. Он был уверен, что и его семья была там. Но удалось ли ей достичь Ленинграда? А если удалось, осталась ли она в окруженном городе или путь ее пролег дальше на восток? Где искать ее? Пока Пивоваров месяц приходил в себя после болезни, он успел написать и разослать по разным адресам десятка два писем. Но до наркомата здравоохранения не додумался. Где бродят его письма? Куда пришел ответ хотя бы на одно из них? Как бы там ни было, но если правда, что его отправят на фронт, он сможет продолжить свои поиски. А это, судя по всему, правда: подполковнику не было смысла его обманывать. Да и слухи… не зря же они так упорно держатся о том же самом, не зря таким смирным был сегодня капитан Акимов…
Всю ночь Пивоваров ворочался с боку на бок, то впадая в забытье, то пяля в темноту широко раскрытые глаза. Он вздрагивал от каждого звука за стенами барака и внутри его, напряженно прислушивался, и всю ночь слышал шарканье то удаляющихся, то приближающихся шагов.
Утром, после завтрака, на лагерном плацу выкликнули человек двести, сбили их в отдельную колонну. Заместитель начальника лагеря по идеологическому воспитанию произнес речь. Все в этой речи соответствовало действительности: и долг перед Родиной, и воинская честь, и многое другое — и все было неправдой, потому что слушали эту речь не только две сотни избранных, но и около полутора тысяч остающихся.
Прозвучала команда, и колонна двинулась к выходу из лагеря, провожаемая тысячеглазым тоскливым взглядом. Дать бы оружие всем — какая это страшная для врага сила! Какая могучая энергия ненависти и мщения, задавленного человеческого достоинства не находит выхода, остается втуне! Вся вина большинства из этих людей заключается в том, что они оказались застигнутыми врасплох, неподготовленными, часто даже безоружными перед лицом смертельной опасности. Есть, конечно, здесь и трусы, и паникеры, и предатели, но еще ой как надо разобраться, почему человек струсил, запаниковал, бросил оружие, — если оно у него было, — поднял вверх руки. А разбираться не спешат, часто — не желают.
Вот мелькнуло лицо подполковника-артиллериста. Пивоваров частенько работал с ним в одной бригаде. Подполковник попал в плен, как и сам Пивоваров, в первые же часы войны. Артиллерийский полк, которым он командовал, находился в летних лагерях неподалеку от границы, и подполковник был оглушен в палатке одним из первых же немецких снарядов, разорвавшихся в то раннее утро, а очнулся в колонне пленных на руках у своих солдат. Для него, офицера, всю свою сознательную жизнь готовившегося к защите Родины, воскресенье 22 июня стало началом трагедии, которая не закончилась и по сей день.
А вон его провожают тоскующие глаза старшего лейтенанта Бражникова. Бражников пошел к Власову, то ли поддавшись на уговоры, то ли из желания выжить и, как он уверял, с надеждой при первой же возможности перейти к своим. К своим он перешел, но перед тем участвовал в боях против югославов и греков, перейти к которым боялся, потому что, когда тебя гонят в бой, то или ты убьешь, или тебя убьют, и он убивал тоже, может, не всех подряд, но кто же поверит тебе, что ты был не таким, как все, и поэтому партизаны власовцев, сдающихся в плен, в живых не оставляли.
Но чем может помочь своим товарищам по несчастью, остающимся в лагере, бывший капитан второго ранга Пивоваров, которому из милости разрешили умереть с оружием в руках? Только тем, чтобы умереть с оружием в руках. Тогда те, от кого зависит судьба сотен и тысяч людей, ничем перед Родиной не провинившихся, увидят это и поймут, как они не правы.
Пивоваров шагал в строю и впервые за последние годы не чувствовал отупляющей силы, заключенной в слитном трамбовании земли одновременно десятками и сотнями пар ног. Он шел в строю, но еще не ощущал свободы. Ему все казалось, что стоит им дойти до ворот — и там непременно что-то случится, что-то такое, что отбросит их назад, как отбросило его назад в Белоруссии, сразу же после освобождения, и он — да и не только он один — озирался по сторонам, пытаясь удостовериться, что нет такой силы, которая помешала бы им пройти лагерные ворота. И чем ближе колонна подходила к КПП, тем сильнее напрягалось все его существо.
Мимо медленно проплывали бараки с выцветшими лозунгами на дощатых стенах, призывающими добить фашистского зверя в его собственном логове, отдать все силы для достижения победы над заклятым врагом, быть активными, бдительными, сознательными… Но для Пивоварова весь смысл этих лозунгов сводился лишь к одному — миновать КПП, выйти за колючую проволоку. Что будет дальше — штрафной батальон для офицерского состава или что-то другое — не имело значения. Зато ничего не будет, пока они топчут посыпанную крупным песком территорию лагеря.
Но вот колонна остановилась перед КПП, раздалась команда: «Справа по одному, марш!» — и впереди настороженные лица солдат и офицеров охраны, поблескивающие штыки, скрипучие половицы в узком проходе, руки, обшаривающие тело, сонные щупающие глаза… Еще одна дверь — и Пивоваров на негнущихся ногах спускается по дощатым ступенькам…
Всего три ступеньки! Сколько раз он спускался и поднимался по ним! А чаще — в общем строю проходил через широкие ворота! Неужели в последний раз?
Здесь же, за воротами, им выдали «книжки красноармейца», сидоры с трехдневным сухим пайком, ватники, рассчитали на четыре взвода и над каждым взводом поставили по пехотному младшему лейтенанту, видимо, только что из училища. Здесь же ожидали шесть «студебеккеров». Их рассадили по машинам, еще раз пересчитали по головам.
Они сидели на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, и покорно ждали, пока закончится передача их из одного ведомства в другое. Наконец незнакомый старший лейтенант, принявший их на свое попечение, поднялся на подножку головной машины и, держась за открытую дверь, озабоченно оглядел колонну. Взмах руки — взревели моторы, и машины тронулись.
До самой станции Пивоваров, как и многие другие, все оглядывался и оглядывался назад, словно ждал погони, еще не веря, что это окончательно. Ему казалось, что выпустили их по недосмотру, по чьей-то минутной прихоти, и вот сейчас кинутся исправлять ошибку. Но дорога сзади была пустынна, и только пыль, поднятая машинами, клубилась над ней, медленно уносимая вдаль.
По сторонам дороги бежала глинистая степь с мягкими линиями холмов на горизонте, раскрашенная в бурые и охристые тона. От дождя, прошедшего ночью, не осталось и следа. Только из лощин струился вверх плотный, насыщенный парами воздух, и в его потоках далекие холмы меняли свои очертания, то отрываясь от земли, то снова припадая к ней, да степной беркут кружил над холмами, поднимаясь все выше и выше, пока не превратился в точку. По этой степи когда-то проносились орды кочевников, устремляясь на заход солнца. Их передовые дозоры вымахивали на холмы, из-под руки оглядывали степь: не пылит ли где опасность, нельзя ли чем поживиться…
Степь дышала теплом позднего бабьего лета и свободой. Пивоваров глубоко втягивал в себя воздух этой свободы, хотя он ничем не отличался от воздуха за колючей проволокой: все те же запахи сухой пыли и горькой полыни, нагретых солнцем, человеческого пота давно не мытых тел.
Глава 9
Почти в то же самое время, когда Пивоварова с товарищами по несчастью везли по осенней степи, в полутора тысячах километрах отсюда вот-вот должна была произойти встреча бывшего генерала Красной армии Андрея Власова с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, который с лета 1944 года стал командующим войсками резерва, а еще раньше — министром внутренних дел Германии, то есть встреча с одним из самых влиятельных людей Третьего Рейха.
Самолет с Власовым и бывшим полковником царской армии Сахаровым, который еще недавно командовал карательным батальоном СС в Белоруссии, сопровождаемые немецкими офицерами, поднялся затемно с одного из берлинских аэродромов и взял курс на восток. Внизу лежала темная земля с темными на ней городами, лишь реки да озера едва мерцали в голубом свете однобокой луны. Но чем дальше на восток, тем ярче разгоралась в небе багровая заря.
— Подлетаем, — произнес кто-то из немецких офицеров, отвлекая Власова от попыток представить встречу с Гиммлером, темы их разговоров и в каком тоне они должны будут вестись.
Он глянул в круглое окошко, но внизу, кроме лесов, рассеченных просеками на одинаковые квадраты, и без всякой системы извилистыми ручьями и речушками, кроме редких хуторов, окруженных клочками полей и лугов, ничего не было видно. Но вот вдали, отливая багровым светом зари, возникла неподвижная поверхность озера, показались шпили кирх и черепичные крыши городка Ангербург, где незадолго до вторжения немецких армий в Советский Союз Гитлер выступил перед генералами вермахта со своим планом оккупации России до Урала. Он напутствовал своих генералов, а через них подчиненных им солдат и офицеров вермахта, как вести себя по отношению русского народа, как, впрочем, и всех прочих «варваров», населяющих эту страну: «Убивай их! Порабощай их! Депортируй их! Эксплуатируй их!» — выкрикивал фюрер, размахивая кулаками, ни секунды не сомневаясь, что германский народ имеет на это полное право. И генералы с удовлетворением кивали своими высоколобыми головами.
Власов давно добивался встречи с Гиммлером через своих немецких советников, зная, однако, что тот лично к нему, Власову, относится весьма пренебрежительно, если не сказать — враждебно. И это лишний раз подтверждало его прошлогоднее выступление перед группой высших армейских офицеров вермахта с обзором военного и политического положения Германии. Походя рейхсфюрер СС затронул и проблему так называемых «русских добровольцев», высказал свое отношение к генералу Власову: «На генерала Власова возлагались огромные надежды, — заявил он. — Эти надежды были не так хорошо обоснованы, как считали многие. Я полагаю, нас ввели в заблуждение неверной оценкой славян вообще. Любой славянин, любой русский генерал, оказавшийся в нашем плену, начинает болтать байки, приятные для нас, немцев, когда мы заставляем его говорить, — тем более, если в достаточной степени затронем его тщеславие. И господин Власов не является исключением. А между тем он постоянно занимается пропагандой своих абсурдных взглядов среди русских военнопленных и русских рабочих, занятых в нашей промышленности, — и это крайне меня удивляло. Более того, он даже читал нам, немцам, лекции — и тоже в исключительно абсурдной манере. В этом я усматриваю величайший скандал. Конечно, на внешний мир мы можем вести пропаганду и применять любые средства, которые нам понравятся. Ибо справедливо любое средство, которое эксплуатирует эти дикие народы и позволяет, чтобы русский умирал вместо немца. Это справедливо перед богом и человеком. Однако происходит такое, чего мы допустить не можем. Господин генерал Власов разглагольствует с чрезвычайной гордостью, которая присуща русским и славянам, заявляя, что Германия не может победить Россию! Он набрался наглости утверждать, что Россию можно победить только силами самих русских. Обратите внимание, господа! Этот приговор смертельно для нас опасен! Появляется какой-то русский, какой-то дезертир, который, может быть, позавчера был учеником мясника, а вчера — генералом, которого сделал Сталин, и который сегодня читает нам лекции с дерзостью славянина, утверждая, что Россию победят только русские. Этот человек одним только этим утверждением показывает, что он за свинья. И это в то время, когда население рейха выросло до 120 миллионов человек, границы его расширились на восток более чем на 500 километров. Эти земли дают нам огромное количество продовольствия, они дают сырье для нашей промышленности и рабочую силу. И все это добыто с помощью нашей великолепной, никем не превзойденной пехоты. Утренняя, обеденная и вечерняя молитвы германской армии должны начинаться словами: „Мы победили врага! Мы, германская пехота, победили всех врагов в мире! И никто не устоит перед нашим напором!“»
Власову подсунули как раз эту часть речи рейхсфюрера: мол, знай свой шесток. И этот кусочек речи произвел на Власова двойственное, но в любом случае удручающее впечатление. С одной стороны, утверждать, что германская пехота победила всех врагов, когда Красная армия вышла к Днепру, глупо с любых точек зрения. С другой стороны, это показывает, что руководство Германии продолжает надеяться, что сумеет одержать победу, ничего не меняя в своей стратегии, и хотя оно использует русских добровольцев везде, где заблагорассудится, однако создание русской армии под его, Власова, командованием, не допустит. Если не произойдет нечто из ряда вон выходящее, то есть если не клюнет Гитлера в задницу жареный петух. Следовательно, все, чем соблазняли его немецкие советники, как правило, выходцы из России, сплошная ложь.
С той поры, как Власов ознакомился с этим суждением Гиммлера о себе, миновал год, Красная армия продолжала наступать, ее войска уже стояли невдалеке от границ Третьего Рейха, Румыния повернула оружие против немцев, восстала Словакия, союзники высадили десант в Нормандии, и у Власова появилась надежда, что в столь катастрофическом положении Гитлер может — и даже обязан — пойти на компромисс. Генерал стал рассылать письма всем, от кого хоть что-нибудь зависит в этой проклятой стране, полагая, что личная встреча именно с Гиммлером может все переменить решительным образом, тем более что в самой Германии кое-что уже стало меняться в отношении к восточным рабочим: нарукавный знак «Ост» у них был заменен на повязку с цветами национальных флагов, «добровольцам» предоставили равные права с немецкими военнослужащими, их подразделения получили название Русской освободительной армии. Так что еще один-два шага в этом же направлении, и в руках Власова может появиться вполне реальная «своя армия». Он соберет под трехцветный флаг Российской империи не менее двух миллионов солдат, и если их вооружить современным немецким оружием, такая армия двинется вперед, засыпая окопы советских войск листовками с призывом свергнуть деспотический режим Сталина и установить в стране подлинную демократию. Начнется братание с частями Красной армии, в которой большинство солдат и офицеров в тайне ненавидит Сталина, сопротивление ее прекратится, и через несколько месяцев он, Власов, войдет в Москву, провозгласит свободное государство, порвет с немцами и заключит союз с Англией и Америкой.
Увы, время шло, его надежды таяли с каждым днем, оставаясь пустыми мечтами. И вдруг — приглашение на встречу с самим Гиммлером. Почти разуверившийся во всем, Власов воспрянул духом, и теперь ехал на эту встречу… нет, не с возродившимися надеждами, а с уверенностью на возможное чудо. Главное, получить армию, а когда за твоей спиной будет стоять двухмиллионная армия, разговаривать с тобой станут по-другому. Тогда можно будет начать свою игру с западными союзниками, да и, на худой конец, можно будет хотя бы громко хлопнуть дверью.
Самолет, между тем, вдруг накренился и резко пошел вниз — весьма не лишняя предосторожность, если иметь в виду, что линия фронта проходит отсюда всего в шестидесяти километрах, и советские самолеты частенько залетают сюда, что-то высматривая, наверняка зная, что где-то здесь, неподалеку от городка Ангербург, укрывается среди лесов ставка самого Гитлера.
Неожиданно совсем близко возникло озеро. Стремительно понеслись навстречу прибрежные кусты и камыш, темная рябь воды, с которой взлетали, оставляя пенный след, стаи напуганных ревом моторов уток, затем мимо замелькали сосны и ели, колеса ткнулись во что-то твердое, и самолет покатил, вздрагивая на неровностях. Вот он в последний раз взревел моторами и замер под пологом деревьев и маскировочных сетей. Открылась дверь. Подали трап. Власов спустился по ступенькам, выискивая глазами Гиммлера, но того видно нигде не было. Зато вдоль трапа замерли офицеры СС в черной форме и, как только Власов спустился на землю, вытянулись, выбросив вперед и вверх руки в нацистском приветствии, — и это было обнадеживающим предзнаменованием.
Власов расправил плечи, вздернул голову, увенчанную генеральской фуражкой времен Первой мировой войны, блеснули стекла его круглых очков, полыхнули кровью отвороты генеральской шинели.
Какой-то там штурмбан-бим-бомфюрер щелкнул каблуками и доложил, что машина ждет гер генерала для следования дальше. И точно: чуть в стороне стояли четыре «опеля», размалеванных зелено-желтыми пятнами и полосами. И там тоже неподвижными болванами торчали эсэсовцы. Перед Власовым распахнулась дверца одной из машин, кто-то поддержал его долговязую фигуру под локоток, он опустился на мягкое сидение. С другой стороны сел полковник Сахаров. Захлопали двери других машин. Заныли моторы. Тронулись.
На выезде с аэродрома их ждал эскорт из мотоциклистов и бронетранспортеров, набитых солдатами. В душе генерала возникла торжественная мелодия марша «Прощания славянки». К горлу подступил комок, глаза защипало. Да, не зря он писал письма в разные инстанции, обивал пороги кабинетов разных чиновников и генералов. Свершилось! Он дождался своего часа! Остается только подписать документы и начать объединение различных националистических группировок и, одновременно, мобилизацию всех соотечественников, способных носить оружие. И тогда… Нет, лучше не загадывать… Кстати, какое нынче число? 19.09.44. Мда, числа эти ни о чем не говорят. То ли дело 14–41! Впрочем, они лишь поманили отрадным будущим и будто надсмеялись над его, Власова, надеждами. Все временно, недолговечно, заставляет жить одним днем.
Ехали около часа. Миновали несколько КПП. Остановились у высоких стальных ворот в зеленой железобетонной стене забора с колючей проволокой по верху. Ворота раздвинулись в обе стороны, машины въехали на территорию и по извилистой дороге с густо стоящими по сторонам огромными соснами покатили в глубь леса. Солнце едва взошло над невысокими холмами, подступающими к самому озеру, его лучи пронзали туман, скопившийся среди деревьев, все было зыбким, клубилось вместе с туманом, будто стремясь оторваться от земли и улететь.
Через минуту показалось неказистое одноэтажное строение, окруженное тщательно замаскированными колпаками ДОТОв с черными узкими щелями.
Снова щелканье каблуков, выбрасывание рук с короткими выкриками «Хайль!» Власов в ответ не спеша прикладывал руку к фуражке, с каждым шагом и с каждым движением своего тела насыщаясь своей значительностью в глазах самой Истории. Что бы там ни случилось, а он свое имя в истории оставит.
Полковник Сахаров шагал слева от Власова, отстав от него на полшага. Этот уже весьма пожилой человек, некогда сражавшийся с красными под командованием Деникина и Врангеля, бывший офицер императорской гвардии, служивший при ставке Николая Второго, искоса поглядывал на Власова с тем презрением, с каким в те давние годы командовал летучим отрядом лихих рубак, для которых зарубить человека, будь то солдат, женщина или даже ребенок, не представляло никаких затруднений и не вызывало никаких душевных мук. То же самое было совсем недавно и в Белоруссии, и везде, где доводилось наводить порядок его карательному батальону. Бывший полковник Сахаров все еще не насытил своей ненависти к так называемому народу, к этому быдлу, возомнившему себя черт знает кем. Он и самого Власова с удовольствием поставил бы к стенке: тоже ведь из быдла. Или даже повесил бы за то, что тот когда-то служил у красных и, следовательно, способствовал изгнанию полковника и ему подобных со своей земли. Не исключено, что этот час наступит. И очень даже скоро. Не может не наступить.
Гиммлер встретил Власова, стоя посреди огромного зала, выполненного в готическом стиле, освещенного мягким электрическим светом, льющимся из глубоких ниш — как на некоторых станциях московского метро. Даже не верилось, что этот зал расположен глубоко под землей. По его стенам развешаны картины, на которых запечатлены страницы германской истории, начиная с первых битв с римлянами и заканчивая битвами на полях России. А в промежутках между картинами стояли скульптуры, знаменующие собой все ту же историю. Здесь же под стеклом хранились французские, английские, польские и всякие иные знамена покоренной Европы, в том числе и красные знамена разгромленных и плененных советских полков и дивизий, и даже знамя какой-то пионерской организации с портретом юного Ленина на нем. Естественно, здесь не было и намека на поражение под Москвой, пленение Шестой армии Паулюса, разгрома немецких армий под Курском, в Белоруссии, на Днепре. Немцы, — как, впрочем, все, везде и всегда, — тешили себя только победами. И сам Гиммлер, стоящий посреди зала, как бы олицетворял эту воинственную историю.
Власов, оставивший свою шинель и фуражку на вешалке у входа в подземелье, одетый в новую генеральскую форму, сшитую в лучшем берлинском ателье, при широких погонах с двуглавыми орлами, шел по малиновой ковровой дорожке, и когда до рейхсфюрера оставалось пять-шесть шагов, Гиммлер сделал три шага навстречу, протянул руку и произнес с неким подобием улыбки на узких губах, пожимая руку Власова:
— Я рад, господин генерал, что наконец-то имею возможность встретиться с вами и обсудить ваши проблемы. Надеюсь, что вы извините мне имевшиеся задержки и те ошибки в наших отношениях, которые были допущены в прошлом по вине недальновидных посредников, оказавшихся между нами.
— Благодарю вас, господин министр, за добрые слова, — ответил Власов, слегка кивнув головой, как это делали офицеры из дворян, не забывшие этикета, отметив при этом, что рейхсфюрер все свел к проблеме как бы самого Власова. Однако он слишком долго готовился к этой встрече как сам с собой, так и со своими помощниками, чтобы менять хотя бы одно слово в своей речи, вызубренной наизусть. И он продолжил с теми же «славянскими наглостью и гордостью», которые так не нравились еще недавно Гиммлеру: — Я рад приветствовать одного из умнейших и достойнейших руководителей Германии. В свою очередь, в моем лице вы имеете представителя русской армии, который первым нанес поражение немецким войскам в битве под Москвой. Теперь я готов использовать весь свой опыт и свои полководческие способности для победоносного завершения войны в качестве верного союзника великой Германии. Если, разумеется, руководство Германии перестанет смотреть на нас, русских, как на унтерменшей, не способных ни на что положительное в своей деятельности.
Пенсне Гиммлера блеснуло настороженным блеском на его одутловатом лице, но Власов шел ва-банк, решив раз и навсегда поставить все точки над «и», чтобы между ним и Гиммлером не оставалось никаких недомолвок.
— Вы, господин генерал, судя по всему, имеете в виду мою книгу «Дер унтерменш», — заговорил Гиммлер сочувствующим голосом, беря Власова под руку и начав таким образом неспешное движение вдоль стен зала, иногда останавливаясь напротив той или иной картины или скульптуры, словно набираясь от них сил для явно неприятного разговора с этим долговязым унтерменшем. — Должен вам пояснить, что унтерменши имеются не только в России, но и в самой Германии. Как и в любой другой стране. Разница между Германией и вашей родиной в этом вопросе заключается в том, что мы своих унтерменшей держим под замком, а в России недочеловеки обладают властью. Однако я уверен, господин генерал, что ваша помощь позволит достичь подобного же разворота ситуации и в России. Но меня в данной ситуации, господин генерал, интересует один вопрос: имеете ли вы достаточно веские основания полагать, что русский… а лучше сказать — советский народ… доверяет лично вам настолько, чтобы на этом строить свою политику на длительную перспективу?
Власов ожидал, что такой вопрос будет ему задан. Но даже самому себе он не знал, как на него ответить. Однако от этого ответа зависит многое. Если не все.
— Я не могу гарантировать, господин министр, что в данных условиях за мной последует даже половина так называемого советского народа, — заговорил Власов, распаляясь и убыстряя свою речь, боясь, что его прервут и не дадут договорить до конца. Однако Гиммлер слушал его внимательно и терпеливо, иногда кивая головой, то ли соглашаясь, то ли подбадривая. — Но в сорок первом и даже в сорок втором я мог рассчитывать на поддержку большей его части, — продолжал Власов. — Однако должен с прискорбием заявить, что вы, немцы, упустили свой шанс, поведя с русскими войну на истребление. И Сталин воспользовался этим, объявив войну против вас отечественной войной, призвав к патриотизму и объединив, таким образом, большую часть русского народа единой целью. Но что сделано, господин министр, то сделано. Исходя из этих реалий, я заявляю со всей ответственностью, что могу завершить войну против Сталина при условии, что мне позволят возглавить русскую освободительную армию, которую я поведу в наступление на Москву. Более того, господин министр! — воскликнул Власов. — Я могу закончить войну по телефону, договорившись с моими друзьями, воюющими по ту сторону фронта, которые так же ненавидят Сталина, как и ваш покорный слуга. Освобождение Советского Союза от сталинизма явится спасением и для Германии, господин министр. Для этого необходимо стянуть в одно место на Восточном фронте все русские добровольческие подразделения, подчинить их русскому командованию и ударить в сторону Белоруссии, рассечь Красную армию на две части, выйти на ее тылы и бросить механизированные подразделения на Москву. Уверяю вас, господин министр, что больших сражений с большими жертвами не будет. Как только по ту сторону фронта поймут, что мы идем в качестве освободителей, на нашу сторону станут переходить дивизии, корпуса и даже армии. Именно таким я вижу исход нынешней войны. Повторяю, что такой исход станет благоприятным исходом и для Германии, — заключил свою длинную и весьма путанную речь Власов.
— Что ж, в этих ваших заявлениях есть что-то весьма необычное, господин генерал, — после недолгого молчания заговорил Гиммлер. — В перспективе это вполне возможно. Для начала же я предлагаю — и с этим согласен наш фюрер — сформировать первые две дивизии из русских добровольцев. Для этого привлечь тех, кто находится в наших лагерях для военнопленных. Что касается восточных рабочих, занятых в промышленности, то с этим придется повременить: мы не можем остановить работу наших заводов по производству вооружений. В то же время я хочу вас уведомить, что фюрер присваивает вам, господин генерал, звание генерал-полковника. От того, как быстро вы сформируете эти две дивизии, зависит все остальное. Вам надо показать себя в деле. Слова и планы — это лишь слова и планы. Только дело есть мерило наших слов и желаний. А теперь я приглашаю вас, господин генерал-полковник, отобедать со мною, а затем обсудить кое-какие детали.
Власов, вдохновленный своими речами и благосклонностью Гиммлера, после его слов несколько потух, догадываясь, что судьба его решена заранее, и не здесь, а в штабе Гитлера, посему спорить с Гиммлером совершенно бесполезно.
За столом он провозгласил здравицу в честь фюрера германского народа, выразил надежду, что как у германского народа, так и у русского еще есть время решительно изменить ситуацию в свою пользу.
Гиммлер одобрительно кивал головой и, в свою очередь, высказался в том духе, что время еще есть, что Германия вот-вот начнет использовать новое оружие небывалой силы, и что генерал-полковник Власов поведет свои войска совместно с германской армией к решительной и окончательной победе над зарвавшимися врагами.
За это и выпили. Но пили маленькими рюмками немецкий шнапс, а Власову хотелось стаканами, чтобы заглушить тоску, навалившуюся на него от почти четырехчасовых разговоров, закончившихся почти ничем.
Уже сидя в самолете, он дал-таки себе волю. Вместе с полковником Сахаровым пили из горлышка, почти не закусывая, под равнодушные взгляды германских офицеров.
Глава 10
Перед лейтенантом Красниковым, выстроившись в четыре шеренги, стояло сто двадцать человек. Это и была его вторая рота — три взвода по сорок бойцов. Красников шел вдоль строя и вглядывался в лица людей, с которыми ему скоро предстоит идти в бой. Он был, пожалуй, самым молодым среди этих солдат (не считая еще более молодых, совсем юных младших лейтенантов, командиров взводов) и немного знал уже, что они из себя представляют: в основном — бывшие офицеры, изредка — сержанты и рядовые, все — бывшие пленные и окруженцы. Некоторые воевали до плена, кое-кто, бежав из лагеря для военнопленных, сражался в партизанских отрядах, иные успели повоевать в Красной армии сразу же после освобождения, но подавляющее большинство знало только одно: колючую проволоку немецких — концентрационных — и наших — фильтрационных — лагерей. Многие из них попали в плен в той страшной неразберихе сорок первого и даже еще сорок второго годов, когда неизвестно, где фронт, а где тыл, и существуют ли они на самом деле. Среди них множество тыловиков — всяких интендантов, работников штабов, служб, мастерских, обозников, связистов. Они первыми оказывались под гусеницами прорывавшихся в наши тылы немецких танковых клиньев, неподготовленные, часто просто неспособные к сопротивлению.
Красников вполне отчетливо представлял их тогдашнее положение, потому что сам побывал в окружении и видел раздавленные немецкими танками наши тылы; затем участвовал в наступлении уже наших войск и видел немецкие тылы, застигнутые врасплох уже нашими глубокими прорывами их обороны. И хотя, что там ни говори, а в немецкой армии порядка больше, но тылы есть тылы, что у нас, что у них, и противостоять мощному потоку войск противника они не в состоянии. Все спасение тыловика в бегстве, но и убежать просто так он не может: на нем висит какая-то служба, имущество, склады, бумаги, печати, секреты, которые он обязан либо эвакуировать, либо уничтожить, а в результате ничего не успевает сделать, потому что не было приказа, транспорта или еще чего-то, и вместе со своим хозяйством попадает в лапы противника.
Не побывав в их шкуре, можно болтать о долге и присяге, но на практике все это оборачивается элементарным желанием выжить.
Лейтенант Красников шел вдоль строя и испытывал странное, ранее незнакомое ему чувство неловкости и даже вины перед этими людьми, словно это он сам месяцы и месяцы держал их вдали от фронта, подвергая унизительным проверкам и допросам, будто это он сам не вернул им звания и должности. Если бы он не познал на собственной шкуре, что такое окружение, — а ему казалось, что он познал это полной мерой, хотя и не такой, как стоящие перед ним люди, — то он наверняка и смотрел бы на них по-другому, то есть так, как смотрят, например, иные из командиров взводов, недавно закончивших училище и еще не нюхавших пороха.
Нет, лейтенант Красников не подвергал сомнению необходимость тщательной проверки бывших пленных и окруженцев, но это должно делаться — по его мнению, которое он, впрочем, никому не высказывал, — как-то не так, и не мог поэтому не сочувствовать людям, сознающим свою невиновность. В конце концов, он и сам мог оказаться в их шкуре, то есть на годы застрять за линией фронта, затем оказаться под следствием, ему просто повезло: не застрял и не оказался, хотя допрашивали и распрашивали не единожды. Ему повезло, а им нет — вот и весь сказ.
Лейтенант Красников шел вдоль строя и вглядывался в лица стоящих перед ним людей. И люди смотрели на него — одни с надеждой, другие с угрюмым недоверием, третьи с детской умильностью, будто узнали в нем сына или брата, о котором целую вечность не имели никаких известий. Но держалось в их взглядах и нечто общее — привычная покорность, затравленность; редко кто выдерживал взгляд командира роты, а встретившись с ним глазами, человек съеживался, стараясь ничем не привлекать к себе внимания.
В молодом лейтенанте они все еще продолжали видеть воплощение зла, которое сопутствовало им слишком долго и выступало в роли молодых же лейтенантов и капитанов, таких же решительных и самоуверенных, как и их ротный. Для них он оставался человеком, осуществляющим надзор; он волен поступить с каждым из них так, как ему заблагорассудится, потому что прощение за прошлое еще не наступило, и не известно, наступит ли вообще, а у этого лейтенанта огромные права по отношению к ним, и неизвестно, как он будет ими пользоваться.
Они не роптали, они принимали свою судьбу как должное, успев привыкнуть или приучить себя к мысли, что все сущее, — как плохое, так и хорошее, — имеет право на существование. Все эти люди были грамотными людьми, многие из них читали Гегеля и Фейербаха, Маркса и Ленина и полагали, что жизнь во всем ее многообразии подпадает под законы, открытые этими гениями мысли и духа. Если что и вступает в противоречие с этими законами, то — по известному правилу — лишь подтверждает их незыблемость. С точки зрения этих законов их нынешнее положение и весь путь, пройденный ими, вполне оправданы и объяснимы: в большой политике, как и в истории вообще, когда речь идет о судьбах миллионов и миллионов, о судьбах народов и государств, судьба отдельного человека ничего не значит. Она может попросту не учитываться, хотя для отдельно взятого человека такое к себе отношение наверняка может казаться несправедливым. Эти люди, силой обстоятельств поставленные в строй рядовыми красноармейцами и подчиненные молоденькому лейтенанту, знали о жизни больше, чем он, их командир, и понимали, что их знания и опыт ничто по сравнению с той властью над ними, которой он обладает.
Лейтенант Красников шел вдоль строя, вглядывался в лица и пытался понять, как ему вести себя с этими людьми. Вообще говоря, письменные инструкции на этот счет он прочитал и расписался в том, что ему все ясно и он будет следовать им неукоснительно. Более того, командир батальона майор Леваков недавно собирал всех офицеров и сообщил им, что при их участии формируется особый штурмовой батальон, что офицерам этого батальона даны права и привилегии, предусмотренные для командного состава штрафных рот и батальонов: год считается за три, повышенный оклад, возможность более быстрого продвижения по службе, получения очередного звания и более высоких наград, но в то же время им придется воевать вместе со своим батальоном и воевать на самых опасных участках фронта. Перечислив все это, он предупредил, что они имеют право подать рапорт о нежелании воевать в составе такого батальона, что в их распоряжении не более часа и что рапорт не повлечет за собой никаких последствий дисциплинарного характера. А поскольку никто не выразил этого своего нежелания, остальная часть выступления Левакова свелась к подробному инструктажу, то есть к разъяснению письменных инструкций.
Вслед за Леваковым выступил только что прибывший в батальон на должность замполита капитан Моторин, мужик лет под сорок, с длинным, узким лицом и близко поставленными маленькими глазами. На его габардиновой гимнастерке красовались ордена Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звезды и три медали, причем одна — «За отвагу», а это не только говорило о том, что перед ними боевой офицер, но и как бы подтверждало правоту его слов.
— В свете вышеизложенного командиром нашего батальона, — уверенно говорил капитан Моторин, несколько растягивая гласные, — наша задача, товарищи офицеры, заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки завершить формирование батальона и его подготовку к предстоящим боям. При этом я хочу еще раз особо подчеркнуть, что мы не просто пехотное подразделение, а отдельный, я бы даже сказал, особый штурмовой стрелковый батальон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следовательно, вы должны по-большевистски решать стоящие перед вами задачи. Железная твердость и непреклонность — вот что от вас требуется. Вы знаете, что вам придется командовать бывшими офицерами. Бы-вши-ми! — Моторин поднял вверх указательный палец. — Что это значит? Это значит, что партия и правительство не считают возможным вернуть им воинские звания, потому что не до конца уверены в их искреннем раскаянии, в осознании своих… э-аа… нарушений воинской присяги и офицерского долга. Не исключено, что среди них есть и затаившиеся враги трудового народа, нашей родной советской власти. Бдительность и еще раз бдительность — ваше большевистское оружие. Враг хитер, он способен затаиваться и принимать любое обличье, чтобы в решающий момент нанести предательский удар в спину Красной армии. Вы должны уметь распознавать этих затаившихся врагов и выводить их на чистую воду — так, как делали и делают это настоящие большевики-сталинцы. Поэтому на каждом из вас лежит громадная ответственность перед партией, перед народом, перед товарищем Сталиным, перед командованием Красной армии.
Потом выступал представитель отдела контрразведки «Смерш» старший лейтенант Кривоносов, невысокий белобрысый крепыш с двумя орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Он был более чем краток:
— Как правильно здесь доложил нам товарищ замполит, наша задача — выводить затаившихся врагов на чистую воду. Я, как представитель контрразведки «Смерш», имею прямые указания опираться на офицеров в этом вопросе и на осознавших свой долг товарищей. Из этих товарищей вы должны составить костяк в каждом взводе, чтобы знать все настроения и о чем говорят промеж себя. Мы должны работать вместе, а не кто в лес, кто по дрова. А то некоторые товарищи офицеры думают, что «Смерш» — это одно, а они — совсем другое. Это вредная для нашего общего дела постановка вопроса.
Глава 11
— Сука долбаная знает, — выругался лейтенант Николаенко, попавший взводным в роту Красникова, — что это за батальон такой! Отдельный стрелковый штурмовой? Черта с два! Не штурмовой, а штрафной. Выходит, и мы тоже штрафники? Довоевались, мать их перетак! Рапорт, что ли, подать? — и глянул на Красникова, невозмутимо раскуривавшего папиросу.
— Воевать, собственно, все равно с кем и где, — ответил Красников. — Дело не в названии. А с рапортом ты опоздал: надо было подавать сразу.
— Да знаю я, а все-таки как-то не по себе.
Они стояли и курили недалеко от входа в подвал. Над ними чернело небо, утыканное звездами, иногда повевал ветерок, нанося вонь испражнений из окружающих развалин. Но они к этому уже привыкли и не обращали внимания. В окопах тоже воняет будь здоров. Особенно, если долго сидишь в обороне.
— Да, дело не в названии, — повторил Красников. — Но тебе я бы посоветовал больше не ахать по этому поводу.
— Да нет, это я так, — мотнул головой Николаенко. — Какие там к черту рапорта! Себе дороже. Остается утешиться тем, что все будут воевать, скажем, четыре года, а мы, кто останется в живых, в несколько раз дольше. Так что если повезет, к концу войны можно заработать три звезды на широкие погоны.
— Не успеешь, — усмехнулся Красников. — С этого надо было начинать в сорок втором.
Николаенко, щелчком пустил окурок в темноту и, проводив его взглядом, пока тот, рассыпая искры, пролетев метра три, не упал на груду кирпичей, пояснил:
— В сорок втором, Андрюха, меня не спрашивали, где я хочу воевать, а я понятия не имел, где воевать лучше всего. А то б, ясное дело… при таких-то льготах…
— Я вполне ценю твое чувство юмора, — заметил Красников, — но не советую им пользоваться слишком широко: не все обладают подобным же чувством. Особенно туго с этим, как мне кажется, у замполита и особиста.
— Я это тоже заметил, — с той же серьезностью произнес Николаенко. А дальше уже с нескрываемым возмущением: — Но вот чего я не понимаю, Андрюха, так это почему командовать некоторыми взводами поставили салаг, не нюхавших пороху? Насколько мне известно, офицерами подобных батальонов и рот должны назначаться бывалые фронтовики…
— Исключение из правил, — ответил Красников, подавив зевок. — И потом… имей в виду: наше начальство не любит говорунов на весьма щекотливые темы. Уверен, что именно поэтому тебе не дали роту. И я тоже не люблю такие разговоры. Они ничего не дают, зато могут отнять у тебя все. И вообще — пошли спать: завтра будет не до разговоров.
— Да я… — начал было Николаенко, но Красников перебил:
— Я знаю, что ты — это ты. С меня и этого хватит.
Красников не стал распространяться, что для него самого оказалось полной неожиданностью служить именно в таком батальоне. Однако принял это как должное: никто не знает, где найдешь, а где потеряешь. Так что лучше всего об этом не думать: и без того есть над чем поломать голову.
Конечно, все, что говорили на инструктаже, в принципе правильно. Но у лейтенанта Красникова были на этот счет свои взгляды. Он твердо знал, что командир взвода или роты должен верить своим солдатам, а солдаты должны верить своим командирам. Причем в бою они должны верить ему безоглядно, даже бездумно. Но такую веру в себя нельзя завоевать недоверием и подозрительностью. Да, солдаты у него особые — и сами они прекрасно сознают, что они не простые солдаты, — но в этом-то и заключался для лейтенанта Красникова вопрос, как вести себя с ними.
Пока все шло нормально. В хлопотах о размещении прибывающих, их обмундировании, постановке на довольствие, мытье в бане, распределении по взводам Красников не почувствовал ничего такого, что бы мешало ему заниматься своим делом. Но вот первые хлопоты позади, рота сформирована, завтра первый день занятий, завтра откроется, что они из себя представляют, и он начнет открываться для них… а это не зеленые солдатики, только что взятые от сохи…
Лейтенант Красников дошел до конца строя, вернулся к середине, скомандовал, растягивая слова, точно пытался спеть их, да не мог вспомнить мотив:
— Рро-ота-ааа, смиррр-на! Н-на-апра-а… — ву!
Строй заколыхался, откликнулся долгим шорохом подошв, дробным стуком каблуков по твердой, как камень, земле. Красников, хотя и не был приверженцем муштры, все же поморщился: приятно, когда твои подчиненные выполняют команды слаженно, как один человек, а не так — сено-солома.
Он еще несколько раз повернул роту налево-направо и кругом, а потом приказал взводным проводить занятия отдельно. Оружия батальону еще не выдали, так что пусть пока занимаются строевой подготовкой и тактикой боя в составе взвода. Если учесть, что в роте не только строевые офицеры, но и кого только нет, то это не повредит. Слаженность и чувство локтя — в бою первейшие вещи.
Красников стоял посреди пустыря и смотрел, как взводы расходятся в разные его концы. Молодые — почти мальчишки — младшие лейтенанты драли от усердия глотки:
— Левой! Левой! Ать, два, три!
Лишь Николаенко командовал с ленцой, точно не был уверен, что солдаты его взвода понимают команды.
В третьем взводе в последнем ряду шагал сутулый солдатик в непомерно большой гимнастерке, которая, будто юбка, болталась у него из-под ремня, свешиваясь до самых колен. Шаровары тоже были не по росту — в них, наверное, можно засунуть двоих таких солдатиков. Красников попытался представить себе этого солдатика в атаке, бегущего с винтовкой наперевес — и не смог. Он подумал, что, скорее всего, убьют этого солдатика в первом же бою. Такие в атаку поднимаются последними, но гибнут почему-то самыми первыми. И всегда их как-то по-особому жалко, хотя большей жалости достойны здоровые и сильные.
И тут Красников вспомнил, что это, скорее всего, не просто солдатик, а, наверняка, бывший офицер, то есть человек, способный сам оценить себя и свои поступки, свое положение. Не Ванька же из какой-нибудь рязанской глухомани. Надо будет познакомиться с этим солдатиком поближе, узнать, кто он и что, и, может быть, найти ему дело по его возможностям: в роте хватает всяких хозяйственных обязанностей, которые тоже кто-то должен исправлять. И вообще надо получше познакомиться с людьми — не в смысле выявления агентов: пусть этим занимается смершевец, а в том смысле, кто на что способен — в бою это может пригодиться.
Взять хотя бы вон того высокого, вышагивающего на правом фланге первого взвода. Он, как говорят строевики, «тянет ногу», и остальным приходится тоже тянуть, приноравливаясь к правофланговому. Командир взвода лейтенант Николаенко пытается задать взводу нужный темп шага, но правофланговый за этим темпом не поспевает, и взвод топает так, словно эти люди никогда не знали строя. Любопытно все-таки, кем был раньше этот правофланговый? Красников представил себе его перед строем батальона или даже полка — очень может быть. А вот представить, как его брали в плен, не получилось. Впрочем, он мог и не быть в плену, а прилепиться к какой-нибудь бабенке на оккупированной территории… Нет, тоже не получалось: как это он мог жить среди немцев и не привлечь к себе внимания?
Или вот есть еще один красноармеец… то есть, возможно, бывший офицер: Красников все еще затруднялся в определении, кем эти люди являются на самом деле, с трудом принимая официальное их положение: красноармеец. Так вот, есть еще один — тоже весьма прелюбопытнейшая личность, судьбу которого трудно себе представить по его внешнему виду. Человек лет тридцати пяти, среднего роста, с тяжелым взглядом серых глаз из-под густых бровей. Красников сразу же почему-то запомнил его фамилию: Гаврилов. Взгляд Гаврилова, когда он наблюдал за чем-то или слушал других, — взгляд этот говорил, что вся эта суета уже когда-то имела место, что она ничего не значит, а значит совсем другое, о чем никто не догадывается.
Как попали эти люди в плен, как вели себя там, что чувствовали и чувствуют сейчас, о чем думают — было для Красникова загадкой, которую болезненно хотелось разрешить. А вот плюгавенький солдатик загадкой не казался. Скорее всего, это один из немногих рядовых, оказавшихся среди бывших офицеров.
— Ать-два-левой! — надрывались взводные, будто стараясь перекричать друг друга, и с каждым разом звук шагов становился слитней, тверже, отчетливей.
Глава 12
Наконец-то получили оружие — новенькие самозарядные винтовки СВТ-40 и автоматы ППШ. Теперь боевая подготовка приняла осмысленный вид. Бойцы роты, даже самые тщедушные, расправили плечи и окончательно поверили, что с прошлым покончено, что никто не отнимет у них права сражаться с ненавистным врагом. Люди повеселели, чаще слышались шутки и смех, из глаз уходила затравленность. С получением оружия офицеров батальона стали посылать вместе с красноармейцами на патрулирование города.
В одно из воскресений выпало идти в патруль и лейтенанту Красникову. Он выбрал Гаврилова и еще двоих солдат из первого взвода — все они очень походили на бывших офицеров. Гаврилова выбрал из желания узнать о нем побольше и вообще как-то попытаться с его помощью решить для себя загадку: что же это, в конце концов, за люди такие — бывшие офицеры? Красникову казалось, что Гаврилов лучше других разрешит ему эту загадку. Еще двоих, Федорова и Камкова, он взял за их спортивную выправку, молодцеватость. Сам бывший спортсмен, Красников и остальных людей делил на две категории: спортсменов и не спортсменов. Вторых он считал не то чтобы людьми второго сорта, а как бы еще не доросшими до понимания того, что спорт есть такое же естественное состояние человека, как и все остальное. Правда, все остальное он знал меньше, но не испытывал от этого неудобств, потому что, во-первых, вся жизнь у него впереди и он еще сумеет наверстать все остальное, а во-вторых, сейчас не до этого, то есть не до чего вообще, главное — победить. И все-таки спортсменов всегда отличал и приближал к себе.
Назначенные на патрулирование выстроились перед лейтенантом Красниковым. На них были новые шинели, пилотки с яркими, хотя и зелеными звездами, начищенные до блеска кирзовые сапоги, приклады автоматов лоснились свежим, еще не обтертым, лаком, стволы и диски — густым воронением. Хотя Гаврилов и уступал в росте Камкову и Федорову, стоял он, однако, на правом фланге, и это говорило о признании за ним старшинства.
Красников уже успел заметить, что красноармейцы его роты относятся друг к другу не так, как в обычных воинских формированиях, в которых он служил раньше. Здесь действовали свои законы, по которым старшинство определялось отчасти прошлым офицерским званием, но более всего — соответствием поведения человека своему званию. Какие звания имело когда-то большинство его красноармейцев, которых к концу войны все чаще называли солдатами, лейтенант Красников не знал: в батальоне не было документов на этот счет, — разве что у смершевца, — словно у этих людей никогда не было и прошлого, но догадывался, что каждый из них носит это звание в душе. Интересоваться прошлым у своих подчиненных считал делом вредным, унизительным как для них, так и для себя.
Проверив оружие у своих солдат, Красников повел их к вокзалу, возле которого находилась городская комендатура.
Стоял теплый вечер южного бабьего лета. В неподвижном воздухе беззвучно носились ласточки и стрижи. Солнце, полого скользящее к закату по белесому небу, вспыхивало в пустых глазницах окон обглоданных войною стен некогда человеческого жилья. От развалин тянулись длинные уродливые тени. Мерный слитный звук шагов четырех пар ног гулко отдавался в печальной тишине. Прохожие встречались редко. В основном это были чумазые железнодорожники с неизменными фибровыми чемоданчиками в руках.
— Как обезлюдел город, — произнес Гаврилов, шагавший рядом с Красниковым. — Долго еще нам эта война аукаться будет.
— А вы что, бывали здесь до войны? — спросил Красников, мельком глянув на Гаврилова.
— Служил здесь с тридцать восьмого по сороковой, — не сразу ответил тот.
— Кем?
— Начальником штаба танковой бригады, — последовал быстрый ответ и вслед за ним вопрос: — А вы, товарищ лейтенант, до войны кем были?
— Курсантом. Учился в погранучилище.
— Понятно.
Дальше, до самой комендатуры, шли молча.
Участок для патрулирования им выделили вправо от станции до железнодорожного моста. Помощник коменданта, майор с петлицами танкиста, с лицом, рассеченным косым шрамом от уха к подбородку, инструктировал привычной скороговоркой и, поглядывая в основном на Красникова, озабоченно хмурился. Ясно, что он что-то слышал о необычной части, которую формируют в городе, и слышал что-то невероятное, как всегда бывает, когда достоверно ничего не известно. Видимо, поэтому, отпустив остальных офицеров-начальников патрулей, задержал Красникова и стал изъясняться малопонятными намеками:
— Вы, лейтенант, со своими людьми… Имели у нас бытность случаи… попытки, так сказать (при этом у него выходило: так-ка-ать), организовать диверсию… Люди у нас, так-ка-ать, проверенные, так что вы смотрите в оба, если иметь в виду, так-ка-ать, ваших солдат…
— У меня бойцы тоже проверенные и дело знают, — заверил Красников.
— Нет, разумеется, я не имел в виду, так-ка-ать, а только бдительность должна иметь место, потому что имели, так-ка-ать, бытность попытки и так далее. Вот что, так-ка-ать, я имел в виду, — закончил он, мучительно морщась от непонятливости пехотного лейтенанта.
— Насчет бдительности у нас полный порядок, товарищ майор, — еще раз терпеливо заверил Красников, но майора, похоже, не убедил, и тот, проводив его до дверей недоверчивым взглядом, потом еще проследил из окна, как эти — из спецбатальона — отправятся на патрулирование.
Выйдя из комендатуры, Красников со своими солдатами пересек привокзальную площадь, затем они миновали несколько разрушенных каменных строений и вышли на пыльную улочку, беспорядочно застроенную низенькими мазанками под камышовыми крышами. Во дворах, несмотря на позднее время, возле летних кухонь возились женщины, доносился запах подгорелой кукурузной каши, постного масла. На огородах дозревали последние помидоры, торчали ободранные стебли подсолнечника и кукурузы в бурых неряшливых юбках из вьющейся фасоли. Деревьев почти не видно: то ли сами на дрова порубили во время оккупации, то ли немцы постарались. Кое-где белели свежетесанные стропила, тюкали топоры, стучали молотки; вдоль улицы сохли саманные кирпичи. Скудная, обобранная нищета выглядывала из каждой щели, и Красникову, одетому с иголочки, было неловко за свой парадный вид, хотя он и понимал, что ничего лишнего у своего народа не берет.
Миновали поселок, остановились закурить. Солдаты полезли в карманы за махоркой, Красников достал трофейный серебряный портсигар, раскрыл, протянул: угощайтесь! Осторожно, как совсем недавно ребятишки леденцы, брали его солдаты командирские папиросы, благодарили сдержанным кивком головы.
Обычно, если вместе сходятся несколько бывалых солдат, да еще перекур, да делать вроде бы нечего, начинают вспоминать, кто где воевал и как трудно было порой с куревом. А эти — нет: закурили, каждый уставился на кончик папиросы и — молчок. Странные, однако, люди.
И Красников завел разговор первым.
— Помню, — начал он, поглядывая в сторону моста, по которому медленно катил товарняк, — в сорок первом, вот так же — в октябре, в начале, шли мы через Крым, к Севастополю, — ни воды, ни курева. Я, правда, тогда еще не очень заядлым курильщиком был, а вот другие — те сухую траву, листья, мох и даже кору какую-то… Накурятся — потом кашель. А немец — руку протянуть. Иногда ночью лежишь в какой-нибудь канаве, а он чуть ли ни по голове твоей ходит. Дышать — и то боишься, а тут иного кашель так и раздирает. Ну, наш комдив… полковник Коровиков… Не слыхали о таком? — Красников замолчал и посмотрел на своих солдат, но те лишь равнодушно-вежливо пожали плечами. — Да-а, так вот, Коровиков запретил курить вообще. Если, говорит, так курить хочется, что хуже смерти, отойди в сторонку и застрелись, а товарищей не подводи.
Красников подождал немного, рассчитывая, что кто-нибудь скажет что-то свое, но они все так же сосредоточенно молчали, и он, уже чувствуя неловкость и досаду, продолжил:
— Я про Коровикова почему сказал: мы потом мелкими группами прорывались через немцев в Севастополь, и комдива я больше не видел. По идее ему бы сейчас корпусом или даже фронтом командовать положено. Погиб, наверное. Немцы тогда на нас сильно жали…
— Хорошо, если погиб, а то могло и чего похуже, — произнес Гаврилов и, бросив окурок на землю, придавил его каблуком.
— Да, разумеется, — согласился Красников, однако уточнять не стал, помолчал и, оглядевшись, сказал: — Ну что ж, пошли дальше.
Дошли до моста, по которому ходил часовой, до колючей проволоки, до столба с надписью «Запретная зона». Постояли над тихой речушкой.
Солнце убралось за темную пелену облаков на горизонте, окрасив их края в вишневые тона. Между тем безоблачное небо над головой все еще светилось мягким светом, в то время как на земле уже не осталось ни единой тени. По поверхности воды то там, то сям сильными шлепками расходились круги, резко дергались метелки камыша.
— Сазан кормится, — произнес Гаврилов. — И водяных крыс тут полно. Мы, бывало, соберемся вечером, раков наловим, костер разведем, ну и… Кто ж тогда знал, что мы окажемся такими беспросветными дураками! Каждый думал, что уж он-то свой хлеб ест не задаром. А на поверку вышло, что ни на что мы не годны. На парады разве что, — с ожесточением закончил он.
— Мда, кхмы, — растерянно кашлянул Красников: не ожидал от Гаврилова таких резких слов. — Так ведь никто не думал, что они нападут так внезапно. А то бы, конечно… — попытался оправдаться он, точно Гаврилов его обвинил в этой самой внезапности.
— Для настоящей армии не должно существовать даже понятия такого, как внезапность! — неожиданно вспылил Гаврилов, будто лейтенант высказал невесть какую глупость. — Армия, которая ссылается на внезапность, это не армия, а дерьмо собачье! — Помолчал, заговорил уже спокойнее: — Я имею в виду, разумеется, не солдат: они ни в чем не виноваты. Хотя — как посмотреть. Я иногда прихожу к выводу, что все это — наказание нам свыше за те муки, которые выпали на долю нашего народа. Он нас кормил, одевал, вооружал, от себя отрывал последнее не для того, чтобы еще и расплачиваться за нашу дурость. Поделом нам, вот что я вам скажу… Вы, лейтенант, разумеется, не в счет. Я о нас говорю, о себе. Одно плохо, что многие тысячи других, таких же, как и мы, не могут искупить свою вину перед своим народом на поле, так сказать, брани…
Для лейтенанта Красникова такие речи были полной неожиданностью. Как раз о пресечении подобных речей, свидетельствующих об упаднических и даже пораженческих настроениях, или, что еще хуже — о провокации, говорилось в подписанной им инструкции. По ней же он должен если и не арестовать Гаврилова немедленно, то сообщить о его разговорах начальству. Но и сам лейтенант думал примерно то же самое, пытаясь осмыслить минувшие годы войны, ее начало. Он только никогда не соотносил это с самим собой, как это только что сделал Гаврилов, не пытался взять на себя хотя бы частичку ответственности за происходящее. Да и зачем брать на себя то, что лежит вовне? Весь его опыт утверждал его личную невиновность и полнейшую зависимость от внешних обстоятельств. С самого первого часа войны он только и делал, что пытался приспособиться и противостоять обстоятельствам, которые навязывал ему враг. И не только он, недоучившийся курсант погранучилища, но и лица, облеченные властью немалой. Теперь, конечно, можно говорить, что виноваты, а тогда…
Красников вспомнил, как бежал в училище из увольнения, а над городом ревели немецкие самолеты, над портом поднималось огромное черное облако дыма, и там непрерывно бухали тяжкие взрывы. В чем же его, курсанта, вина перед своим народом? В том, что провел последнюю мирную ночь с черноглазой хохлушкой из рыбачьего поселка?
Красников шагал позади своих солдат по пыльной улице и искал в душе своей такие слова, которые смогли бы заглушить в нем тревогу, вызванную Гавриловым. Конечно, Гаврилов этот кое в чем прав, но ведь бьем же мы немцев — вот что главное! И давно утратили страх перед ними, научились воевать не хуже. Какой ценой — это другой вопрос. Но сегодня речь не о цене. Что же касается Гаврилова, то и его понять можно: годы в немецких концлагерях даром не проходят. Вот когда он своими глазами увидит драпающих фрицев, тогда и рассуждать начнет по-другому.
И Красников улыбнулся с чувством превосходства над человеком, так отставшим от жизни, хотя и по независящим от него обстоятельствам. Лейтенант знал твердо лишь одно: воевать надо с уверенностью в своей правоте и силе. Все остальное — потом, после войны. А если подвергать сомнению то да это, черт знает до чего можно досомневаться. Он уже забыл, как приходил в отчаяние после оставления очередных позиций, что отступлению не видно конца, что они, Красная армия, делают что-то не так, что среди командования нет единогласия, понимания обстановки, умения командовать и выполнять команды, что среди них наверняка остались не выявленные до конца предатели и шпионы, которые вели армию к поражению.
В ту далекую теперь уже пору первых месяцев войны Красников не мог понять, куда подевались наши самолеты, почему в небе летают одни только немецкие, летают совершенно безнаказанно, потому что не только наших самолетов, но и зениток наших — и тех не видно и не слышно. И все-таки верилось, что уж на следующей позиции обязательно их, отступающих, оглохших от стрельбы и взрывов, измотанных до последней степени, встретят свежие войска, вооруженные могучей техникой, сомнут немцев и погонят назад. Не может быть, чтобы не существовал такой рубеж, чтобы у страны не нашлось таких войск и такой техники. Но если их кто и встречал, то такие же солдаты и офицеры, измотанные и потерявшие надежду в предыдущих боях, озлобленные и ожесточенные, дерущиеся с врагом в силу заложенной в них инерции, часто бездумно, механически выполняя приказы своего начальства. Или запуганные, неумелые новобранцы.
Теперь-то Красников понимал, что всего этого для победы мало, что требовалось нечто большее, чем злость и отчаяние, требовалось даже не просто умение воевать, а умение высшей пробы, которое, по крайней мере, не уступало бы умению врага. Это выясненное им в предыдущих боях правило с особенной наглядностью проявлялось тогда, когда они сталкивались с румынами: те воевали еще хуже. Но стоило в дело вступить немцам, как каждой клеточкой своего существа начинаешь чувствовать, что с той стороны ведет по тебе огонь более обученный, более образованный в военном деле солдат и офицер, а главное, более уверенный в своей силе и правоте. Методичность их действий, все нарастающее давление, в котором не видно ни грана нервозности, действовали на Красникова и его товарищей сильнее, чем танки и самолеты.
Но больше всего убивало Красникова в жаркие дни и месяцы сорок первого года стойкое, болезненное недоумение, вызываемое жестокостью и неумолимостью событий, захлестнувших огромные массы людей и огромные пространства.
«Как же так? — думалось ему, когда он в очередной раз оставлял позиции и брел по пыльной дороге на восток. — Как же так случилось, что немцы, от которых мы всегда ждали новой революции, ждали примера в строительстве нового мира, немцы, которые дали миру Маркса и Энгельса, дали самый организованный в мире и сознательный рабочий класс, как же так вышло, что они идут по нашей земле, убивая и уничтожая? Не может быть, чтобы все они добровольно вступили на этот путь предательства классовых интересов! Должна же в чем-то проявиться их интернациональная солидарность! Должны же они в конце концов повернуть оружие против тех, кто послал их убивать русских рабочих и крестьян!»
И казалось Красникову, что за этими рядами фашистских — именно фашистских, а не немецких! — танков, за этими цепями фашистской же пехоты копятся совсем другие силы, которые ждут своего часа, и надо лишь ему, Красникову, еще немного потерпеть, еще разок напрячь свои силы и волю, перемолоть эти истинно фашистские танки и пехоту, и тогда уж ничто не помешает тем, другим, немцам протянуть ему дружескую руку. Ведь в семнадцатом году подобное уже имело место.
Но отбивалась одна атака за другой, редели ряды обороняющихся, горели в пустынной степи железные глыбы танков и бронемашин, повевало трупным запахом от лежащих там и сям вражеских и своих солдат, а на смену им появлялись из-за горизонта новые танки и новые цепи, и ничто не говорило о том, что этот поток когда-нибудь иссякнет и остановится.
Так на ринге сходятся новичок и опытный турнирный боец. Первые же обмены ударами заставляют новичка забывать все, чему его учили на тренировках, заставляют бросаться на соперника буквально очертя голову, а тот бьет и бьет, и не просто бьет, а бьет жестоко, насмерть, презрев все правила турнирного боя, и нет судьи, который бы прервал поединок, и даже выброшенное тренером на канаты полотенце не останавливает избиения.
Красников прошел через все это как в спорте, так и на войне. Теперь-то, избавившись от недоумения и наивных ожиданий первых месяцев войны, насмотревшись на немцев вблизи и поняв, что это совсем не те немцы, которые жили в его представлении о них, он узнал наконец настоящую цену как войне, как самому себе, так и солдату, которым командовал, научился внушать новобранцу уверенность в своих силах и бесстрашие перед врагом. Он узнал, что уверенность и бесстрашие не появляются на пустом месте, что они подготовлены всем предыдущим ходом войны, нашими поражениями и победами над врагом, и, самое, пожалуй, важное — присутствием рядом с новобранцем бывалых солдат, прошедших огонь, воду и медные трубы.
В его нынешней роте таких ветеранов, может быть, и нет. А если есть, то единицы, и те держатся в тени. Все остальные знали одни лишь поражения.
Всю ночь, меняясь с другими группами и отдыхая в помещении комендатуры по часу-полтора, Красников со своими солдатами ходил вдоль железной дороги. Высоко в темном небе среди крупных звезд висела полупрозрачная луна, в ее свете убогий поселок следил за патрулями темными окошками голубых мазанок. Ни собачьего бреха, ни петушиного крика за всю ночь, ни случайного прохожего. А рядом, на железнодорожных путях, шла своя жизнь: свистели маневровые «кукушки», громыхали сцеплениями вагоны, стучали по рельсам колеса, шипел пар, из депо доносились надсадные удары железа по железу…
За ночь больше не случилось поговорить, и хотя любопытство к Гаврилову и его товарищам лишь усилилось, Красников решил, что для пользы Гаврилова он свое любопытство должен попридержать. У его подчиненных есть, видать, такие больные места, которые лучше не бередить с наскоку: ясности от этого не прибавится, а вопросов может возникнуть столько, что ни один мудрец на них не ответит.
Глава 13
Под утро у группы Красникова выпал в патрулировании перерыв. Он и его солдаты получили по кружке крутого кипятку, по куску ржаного хлеба и граненый стакан с крупной серой солью. Молча съели посоленный хлеб, запивая кипятком. После чего Красников сложил шинель, постелил ее на лавку, в изголовье положил какую-то толстую книгу в серой обложке, лег, глянул в ту сторону, где укладывались его солдаты, закрыл глаза и сразу же провалился в глубокий сон.
Он, кажется, и не спал нисколько, как его тряхнули за плечо — Красников тут же сел и окунулся в тот характерный шум, состоящий из шорохов, скрипов, покашливаний, бряцания оружия, которые сопровождают разбуженных по срочной надобности военных людей. И Красников тоже вскочил, ни о чем не спрашивая, сунул руки в рукава шинели и уже под шинелью, на ходу, расстегнул ремень, выдернул его вместе с кобурой и подпоясался поверх шинели.
Собирались молча, а в прямоугольнике дверей стоял майор-танкист, помощник коменданта, и нетерпеливо отбивал секунды кулаком по дверному косяку. Прошло полминуты, а все уже были одеты, стояли плечом к плечу.
— Быстро за мной! — приказал майор, и все, кто в это время находился в комендатуре, кинулись к выходу.
На привокзальной площади майор перешел на рысь, на ходу вынимая из кобуры пистолет. Они бежали вдоль глухого забора, отделяющего станцию от площади, и с каждым шагом все слышнее становился раскатистый гул большой массы людей за этим забором.
Вбежав вслед за майором в ворота, Красников увидел тесно сбившиеся пиджаки, телогрейки, кепки, женские платки, изредка — шинели и фуражки, а за ними низкое деревянное строение под красной железной крышей — багажное отделение и камера хранения вместе.
— Посторони-ись! Раз-зойди-ись! — зычно крикнул майор и, вскинув пистолет, дважды выстрелил в воздух.
Толпа притихла и раздвинулась в обе стороны.
Перед патрульными группами открылись небольшая площадка и стена сарая. На площадке лицом вниз лежал милиционер в черной шинели. Фуражка его валялась в стороне, из-под локтя подогнутой руки набежала лужа крови. Судя по позе, милиционер был мертв.
Напротив, возле стены, стояло восемь человек. Левые руки, обмотанные телогрейками и пиджаками, прижаты к груди; правые, опущенные к бедру, сжимают ножи. На некоторых лицах ссадины, запекшаяся кровь. Среди них Красников узнал и тех двоих, с которыми столкнулся в развалинах в первый день своего пребывания в городе.
— Оцепить! — приказал майор и взмахнул пистолетом вправо и влево от себя.
— За мной! — подхватил Красников и, на ходу выдергивая из кобуры пистолет, побежал на правый фланг.
За спиной у него затопало и стихло, едва он остановился метрах в трех от стены сарая и метрах в десяти от прижавшихся к стене людей. Солдаты и офицеры жиденькой цепочкой охватили полукольцом площадку. Теперь, оглядевшись, Красников увидел в толпе двоих пожилых милиционеров с пистолетами в руках и десятка полтора чумазых деповских рабочих с ломиками. У одного из них по щеке размазана кровь, а в стороне, у забора, сидит еще один деповский, и над ним хлопочут две женщины и мужчина. Трудно сказать, что здесь произошло и каким образом удалось припереть бандитов к стене, но вид у деповских был решительный.
Бандиты, — а это, разумеется, были самые настоящие бандиты, — смотрели затравленно, но с вызовом, как смотрели на Красникова некоторые солдаты его роты.
— Вот сволочи, — услыхал Красников за своей спиной женский голос. — Люди на фронте гибнут, а эти здесь пассажиров грабят. И что грабить-то, гос-споди-и, что граби-ить! Из последнего народ живет, из последнего-о! А у этих-то, вишь, хари какие? У-у, нелюди! И как их только земля носит…
Действительно, у некоторых бандитов хари только что не лопались от упитанности, но несколько совсем молоденьких, лет по шестнадцати, — кожа да кости.
Со странным чувством смотрел на этих людей лейтенант Красников, ничего за три года не видевший и не знавший, кроме войны, госпиталей и снова войны. Он смотрел на них так, как когда-то, еще мальчишкой, смотрел на диковинных зверей, впервые попав в зоопарк: ему уже было известно, что диковинные звери существуют на самом деле, а не только в книжках на картинках, но все равно казалось, что эти звери — выдумка взрослых, он придет сейчас в зоопарк и увидит, что львы совсем не такие, и слоны, и жирафы, и обезьяны. И вот он, вцепившись в отцовскую руку, идет от клетки к клетке и узнает и не узнает картиночных зверей. Но самое удивительное, что они, эти звери, до сих пор жили сами по себе, а он сам по себе, и вдруг — вот они, и вот он, Андрюша Красников.
И теперь то же самое: вот он, лейтенант Красников, а вот бандиты. Даже тогда, с месяц почти назад, стреляя в промежуток между теми двумя, он до конца не мог поверить, что они — люди из другого мира, что этот мир может существовать, когда идет такая страшная война, когда нет и не может быть никакой другой жизни, кроме военной и для войны. Но оказывается, что эта жизнь существует, существует, быть может, за счет войны же, и уж совершенно точно — за счет этих вот людей, мужчин и женщин, стоящих за его спиной.
Так здоровому человеку трудно себе представить, что где-то, может быть, в опасной для него близости, существуют сифилис, чахотка, тиф. Они, конечно, есть, но их в то же время как бы и нет, пока не коснулось тебя самого.
Ближе всех к Красникову стоял чумазый паренек. Худое лицо, спутанные волосы, тонкая шея, выступающие ключицы, грязная заношенная рубаха — в нем ничего не было от бандита, то есть от человека, готового за тряпку убить себе подобного. Но поза его и взгляд затравленного волчонка выражали столько отчаянной решимости отстаивать смысл той жизни, которой он жил и живет, быть может, не зная никакой другой, что Красникову стало как-то не по себе. Не исключено, что сейчас ему придется стрелять в этого мальчишку, а если бы его отмыть да одеть в солдатское, то из него вышел бы солдат ничуть не хуже других. И пользы было бы больше — это уж точно.
Мальчишка смотрел прямо перед собой, но Красников видел, что он косит глазом в его сторону и кривит при этом бледные губы с едва наметившимся пушком. Бог знает почему, но лейтенанту было жалко мальчишку: пропадет ни за понюх табаку.
Прозвучал властный голос майора:
— Бросайте ножи и выходите по одному. Живо!
Тесная шеренга бандитов шевельнулась, но никто из них не сдвинулся с места, а один, стоящий посредине, презрительно цыкнул слюной сквозь зубы, прокричал с театральным надрывом:
— А хо-хо не хо-хо, начальник? А это ты не видал? — и сделал вульгарный жест рукой ниже живота.
— Считаю до трех, — с холодным бешенством процедил майор, как только сзади стих негодующий ропот толпы, и поднял пистолет на уровень груди. — Вот ты, ткнул он пистолетом в сторону крайнего. — Выходи! Р-раз… Два-а… Три-иии…
Бандит, толстомордый коротышка в кепочке пирожком и в широких брюках-клеш, в ответ хихикнул недоверчиво и хотел, видимо, тоже что-то сказать этакое, но хлопнул выстрел, на лице бандита, под глазом, вдруг появилось черное пятно, будто кто-то кинул ему в лицо перезрелую вишню, из пятна выступила черная капля и потекла к подбородку. Глаза коротышки изумленно расширились, голову повело в сторону, он медленно сполз по стене на землю, улегся на бок, заскреб рукою утрамбованный ногами шлак, выгибаясь всем телом, дернулся — изо рта хлынула яркая кровь и растеклась по черному шлаку, а бандит вдруг сразу сник и припал к земле, будто к чему-то прислушиваясь.
Остальные, как по команде, выставили вперед руки, обмотанные телогрейками и пиджаками, ощетинились ножами: они, видимо, еще не уяснили, что произошло, они все еще не верили, что в них будут стрелять. А майор, все так же недобро усмехаясь, повернул пистолет в сторону другого бандита, и Красников понял, что майор предпочел бы, чтобы бандиты оставались у стены.
— Ты! — сказал он тоненькому мальчишке, прижавшемуся к своему более старшему товарищу и с ужасом смотревшему в черное очко пистолета. — Р-раз!..
И тут сбоку от Красникова раздался крик:
— Подождите, майор!
Это кричал Гаврилов.
Майор оглянулся на солдата, потом кинул на Красникова такой взгляд, который красноречивее всех слов потребовал от лейтенанта навести порядок среди своих подчиненных и не мешать старшему по званию делать свое дело.
— В чем дело, Гаврилов? — шагнул к солдату Красников.
Но Гаврилов лишь мельком глянул на своего командира и, сделав несколько шагов в сторону майора, торопливо заговорил. Он заговорил с майором, как равный с равным, забыв, что он рядовой — и ничего больше.
— Майор, я знаю этого парня! Подождите! Одну минуточку! — И повернулся лицом к бандитам, заслоняя их от майора.
Гаврилов приблизился к ним и протянул руку к одному из парней, почти мальчишке, в середине сомкнутого строя.
— Твоя фамилия Ненашев? Тебя Алексеем зовут?
Паренек выпрямился, опустил руки, удивленно уставился на Гаврилова.
— Ну, Ненашев. Вам-то какое дело?
— Да господи! Я же твоего отца хорошо знал! Я служил вместе с ним! — И повернулся к майору. — Это сын комкора Ненашева. Здесь какое-то недоразумение, товарищ майор.
— Бывшего комкора! — с яростью выкрикнул парнишка. — Вы знаете, где мой отец? Его — вот! — и провел рукой по шее. — Бывшего комкора! А я — бывший сын бывшего комкора! А вы — бывший капитан танковых войск Гаврилов! Я узнал вас! Это вы предали моего отца! Вы и другие! Все вы сволочи! Всех я вас ненавижу! Стреляй, сука!
— Ты ошибаешься, Алеша! — воскликнул Гаврилов. — Я защищал твоего отца. Он был порядочным человеком и прекрасным командиром…
— Лейтенант! Уберите своего солдата! — взвизгнул майор. — А ну марш на место!
Но Гаврилов будто не слышал. Он стоял спиной к майору и говорил:
— Ребята, бросьте ножи. Чем гибнуть здесь по-дурному, без всякой пользы, лучше идти на фронт. Лучше там… за родину, за свой народ. Они ни в чем перед вами не виноваты. А уж после войны… потом разберемся, кто был прав, а кто виноват. Бросьте, я вас очень прошу. Поверьте, я видел такое, чего вам не увидеть, и считаю, что лучше рядовым солдатом, но честно… Ведь не все же человеческое в вас пропало. Осталось хоть что-то. Алеша! Родные! Я вас очень прошу…
Выстрел раздался над самым ухом Гаврилова, и пуля, сбив с него пилотку, ударила в стену сарая. Целил ли майор в Гаврилова или так вышло, Красников не понял. Он кинулся к своему солдату, желая прикрыть его, защитить, и в тот же миг увидел, как бандиты дружно отделились от стены.
Первым опомнился Гаврилов. Он отскочил назад, вскинул автомат и дал очередь над их головами. Раздались еще выстрелы, крики, визг, мат, стоны — через несколько секунд у стены багажного отделения лежало восемь человек, изрешеченные пулями.
Красников не слыхал, кто отдал приказ стрелять. Скорее всего, такого приказа вообще никто не отдавал, а выстрелы Гаврилова послужили тем сигналом, который вызвал стрельбу на уничтожение. Все произошло так быстро и неожиданно, что Красников, бывалый вояка, растерялся. Да и то сказать: одно дело — немцы, и совсем другое — свои, русские люди. Он потоптался на месте, потом спрятал пистолет в кобуру, подошел к Гаврилову, который потерянно смотрел на лежащего у его ног Алексея Ненашева. Парнишка лежал на спине, широко раскинув руки и ноги, и большие серые глаза его неподвижно уставились в белесое небо.
Красников взял Гаврилова под руку и повел в сторону.
Бывший майор шел не сопротивляясь. Они остановились у забора. Подошли Федоров и Камков. Гудела разросшаяся толпа. Кто-то крикнул:
— Лейтенант Красников!
— Подождите меня здесь, — произнес Красников и заспешил на голос.
Майор стоял, окруженный офицерами патрулей. Красников подошел.
— У вас что, лейтенант, все такие ненормальные? — спросил майор, глядя на Красникова исподлобья.
— Он вполне нормальный человек, — ответил Красников, четко выговаривая каждое слово. — Любой из нас повел бы себя так же, доведись встретиться с человеком, которого знал в других обстоятельствах.
— При чем тут обстоятельства! Он не выполнил приказ старшего по команде! А это — трибунал.
Рот майора, изуродованный шрамом, дергался, обнажая прокуренные зубы.
— Да, но он пытался склонить их к сдаче без излишней стрельбы…
— Он, видите ли, пытался. А что он тут агитацию разводил, которую можно расценить, как направленную, так-ка-ать!.. Во всяком случае…
— Мы скоро на передовую, товарищ майор, — миролюбиво произнес Красников, почувствовав в тоне майора желание как-то замять дело. — Так что, если не возражаете, я доложу своему начальству, и оно накажет солдата своей властью.
Майор повел головой по сторонам, заметил, что многие гражданские смотрят на них с любопытством, нахмурился, взял лейтенанта Красникова под руку, отвел к забору.
— Я вовсе не жажду, так-ка-ать, крови, — заговорил он. — Но вы же сами видели, что это за фрукты. — И повел головой в сторону лежащих у стены бандитов. — Страна воюет, а эти… Их не стрелять надо, а вешать. — И майор тяжело задышал, будто ему не хватало воздуху. Затем, несколько успокоившись: — Ладно, замнем для ясности. Я ведь тоже не какая-нибудь, так-ка-ать, тыловая крыса. Сижу здесь по ранению, — оправдывался он. — Скоро опять на передовую. Так что, чем черт не шутит, еще можем встретиться. Прокачу на броне… А что, этот ваш солдат, действительно, так-ка-ать, бывший майор?
— Да. Ваш коллега.
— О Ненашеве слыхать доводилось. До войны. Да… И мальчишку жаль, так-ка-ать… — Насупился, полез в карман за портсигаром, достал, повертел в руках, не открывая. — Ладно. Идите завтракайте и отправляйтесь, так-ка-ать, на маршрут. — И уже жестко: — Но чтобы, так-ка-ать, без фокусов!
Красников кинул руку к фуражке, лихо повернулся кругом, щелкнул каблуками и поспешил к своим солдатам: гроза, похоже, пронеслась мимо. Неизвестно, как отнесется к происшествию комбат Леваков, но что касается самого Красникова, то он будет своего солдата защищать.
Красников восхищался поступком Гаврилова: у человека бог знает какое прошлое, ему бы не рыпаться, а он… Нет, такие люди Красникову положительно нравились. Он и сам бы не прочь походить на таких людей. Жаль, что встречаются они редко и не всегда вызывают симпатию с первого же взгляда.
До конца дежурства Гаврилов был мрачен, скулы его сурового лица, словно вытесанного из серого гранита, то и дело сводила нервная судорога. Только однажды, когда Гаврилов оказался наедине с лейтенантом, он с трудом выдавил из себя:
— Вам, товарищ лейтенант, судя по всему, грозят неприятности. Прошу извинить: я не хотел этого.
— Ну что вы! — воскликнул Красников с деланной беспечностью. — Какие там неприятности! В конце концов, на гауптвахте сидеть вам, а не мне. Дальше фронта все равно не пошлют…
— Да вас, собственно, дальше и посылать не за что. Но они могут. И поверьте: там, где побывали многие из нас, в тысячу раз хуже, чем на фронте.
— Да, я это слышал.
Гаврилов глянул на него быстрым изучающим взглядом.
— Слышать — это… Дай вам бог никогда не испытать этого на собственной шкуре, — с чувством произнес он. — Люди могут придумать для других людей такие условия существования, что смерть покажется лучшим исходом.
Подошли Федоров и Камков, Гаврилов замолчал. А Красников больше не касался этой темы, довольный уже тем, что между ним и его подчиненным наметилось некоторое понимание, что Гаврилов, если еще и не доверяет ему до конца, то, во всяком случае, не смотрит на него как на человека, который готов поймать его на любом неосторожном слове.
* * *
Майор Леваков, выслушав рапорт Красникова о патрулировании, с минуту молча барабанил пальцами по столу, потом, морщась как от зубной боли, произнес:
— Ты вот что, лейтенант: ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал. Тут и так хлопот полон рот, не хватало нам еще иметь дело с военной прокуратурой. Кривоносова сегодня нет, будем считать, что и происшествия никакого не было. — Помолчал немного, добавил: — Накажи-ка его собственной властью: пару нарядов вне очереди — этого будет достаточно. — И махнул рукой, отпуская лейтенанта.
Странный этот человек — майор Леваков: придирается ко всякой мелочи, шумит, и кажется порой, что все, что он делает, делает исключительно для начальства, что живые люди его интересуют постольку поскольку. И вдруг такое. Да, пока пуд соли с человеком не съешь…
Глава 14
Старший лейтенант Павел Кривоносов возвращался из Харькова с совещания, которое проводил начальник тылового оперативного управления «Смерш» полковник Гогулия. На совещании, в частности, рассматривалось чрезвычайное происшествие, имевшее место в одном из штурмовых батальонов, сформированного в Макеевке, что в двух десятках километров от Сталино.
Так вот, два бойца этого батальона, находясь в карауле, расстреляли из автоматов отдыхающую смену вместе с начальником караула, затем ворвались в штаб батальона и убили заместителя командира батальона по политчасти, представителя «Смерша», ранили командира батальона и еще несколько человек. После чего скрылись в неизвестном направлении. Поднятые по тревоге воинские подразделения и подразделения НКВД только через день обнаружили беглецов. В завязавшейся перестрелке оба преступника были убиты. Следствие установило причины этого преступного акта: командование батальона не наладило контроль над рядовым составом, не имело среди бывших командиров Красной армии информаторов, которые докладывали бы о действительных настроениях среди личного состава, не вело воспитательную работу в ротах и взводах; более того, командование батальона видело в бывших офицерах исключительно преступников, не способных к исправлению и не заслуживающих прощения, а свою роль свело к надзиранию за ними, к мелочным придиркам, использовало бывших командиров Красной армии в качестве денщиков по примеру царских офицеров. Все это вместе взятое и привело к инциденту, закончившемуся гибелью более десятка человек.
Полковник Гогулия, грузный человек с рыжеватыми на висках волосами, говорил длинными фразами, точно читал по писаному, с сильным грузинским акцентом, при этом поглядывал на представителей «Смерша» в формируемых батальонах черными без белков глазами с таким видом, будто был уверен, что и в других батальонах творится то же самое и вот-вот случится очередное ЧП с убийствами, погонями и перестрелками.
— Вы должны понимать, что эти люди прошли тщательную проверку в фильтрационных лагерях, что им доверили оружие и, следовательно, к ним должны относиться так, как относятся в любом воинском подразделении к обычным красноармейцам, то есть не унижая их человеческого достоинства, строго по уставу, с партийной ответственностью и принципиальностью. В то же время вы должны ни на минуту не забывать, что это за люди, какое прошлое отягчает их совесть. Вы должны всё знать о своих людях, выявлять наиболее активных из них, постоянно держать их в поле зрения. Вплоть до того, что они думают и о чем говорят между собой. В каждой роте, в каждом взводе вы должны иметь своих информаторов, и о любом чихе вам должны докладывать раньше, чем чихнувший утрется рукавом. — И Гогулия утерся рукавом, наглядно показав, как это должно быть, и даже хохотнул, довольный своей шуткой. В зале тоже всплыл редкий хохоток, но тут же и утонул в напряженном молчании.
Затем Гогулия сообщил, что с командованием батальона, где произошло ЧП, разбирается трибунал, что выводы будут сделаны самые решительные, что он не потерпит, чтобы и в других батальонах представители «Смерша» вели себя столь безответственно и непрофессионально, что в самое ближайшее время в батальоны будут направлены комиссии, которые проверят, как идет формирование, какие в батальонах настроения среди рядового состава, как исполняют свои обязанности представители «Смерша».
— Ваша прямая обязанность упреждать всякое поползновение на боеспособность наших воинских формирований как со стороны врагов явных, так и тех, кто своими безответственными действиями помогает врагу в его стремлении продлить агонию гитлеровской Германии, оттянуть хотя бы на минуту час нашей победы.
Поезд еле-еле тащился по наскоро отремонтированной колее, которую немцы перед отступлением пропахали специальными плугами так, что почти все рельсы и шпалы приходилось заменять новыми. Вагон то валился на одну сторону, то на другую, то подпрыгивал, то проваливался, и люди — в основном военные — мотались в нем так, что ни полежать, ни посидеть нормально было невозможно. А когда поезд проезжал по временным мостам, то в окно лучше не смотреть: глубоко внизу тускло мерцала свинцовая гладь воды, под колесами вагонов скрипели и хрустели клети, сложенные из бревен, все трещало и шаталось, почему и поезд двигался по таким мостам не быстрее пешехода.
Да Кривоносов и не смотрел в окно. Что он там не видел? Развалины? Перепаханные окопами поля? Вырубленные сады? Или длинные и аккуратные полосы молодого сосняка, посаженного немцами весной сорок второго как знак того, что они собирались на этих землях обосноваться навсегда? Или очень надолго, если иметь в виду, что сосна вырастает до состояния деловой древесины лет за тридцать-сорок. А то и все пятьдесят. Вот как далеко они заглядывали. И эти сосновые леса, пожалуй, единственное доброе дело, которое после них останется на Донецкой земле. И не только здесь, но, поговаривают, по всей Украине. Однако вряд ли кто-нибудь скажет им за это спасибо. Да и сажали не немцы, а русские бабы под их присмотром.
Потом мысли Кривоносова переметнулись на свой батальон. Если приедет комиссия, то ей ему представить будет почти нечего. Да и когда бы он успел? Месяца еще нет, как он в должности. Конечно, если бы постараться… Но он не очень-то и старался: в информаторах у него числится всего с десяток человек, да и те всякий раз докладывают, что в их ротах тишь да гладь да божья благодать. Нет, надо сбросить с себя лень, нажитую в период безделья на полустанке, затерявшемся в казахских степях. А попробуй-ка там не разленись, если вся природа ежедневно нашептывала ему: «Не спеши. Куда спешить? Некуда. Смотри и ни о чем не думай. Как ни о чем не думает сама степь, неподвижные над нею облака, парящий в вышине беркут, бредущие в мареве стада сайгаков, неподвижный в безветрии седой ковыль». Да если и ветер, все равно ковыль никуда не движется, крепко вцепившись корнями в жирную землю, разве что непоседливые шары перекати-поле несутся куда-то вдаль, прыгая и взлетая иногда в самое небо, кружась там в невидимых вихрях и снова падая на землю. А потом глянешь в какой-нибудь овраг, а там этих перекати-поле целое кладбище — и никуда они уже не спешат. Кладбище остановившегося движения. Поэтому и самому не хочется никуда спешить, — не в овраг же к перекати-поле! — а хочется лежать и смотреть в небо. А когда вот так лежишь, не чувствуя своего тела, точно оно парит в воздухе, начинает казаться, что никакой войны нет, что тебе померещилась она в один из ненастных дней в начале лета, когда над степью вдруг заклубятся черные тучи, стремительные жгуты молний с ужасающим треском понесутся вниз, вонзаясь в голые вершины холмов, а ты такой маленький и ничтожный, один во всей этой степи, и некуда спрятаться, негде укрыться от падающих ослепительных жгутов, и даже земля, отвечающая небу утробным гулом, не кажется тебе надежным прибежищем. Потом тучи, недовольно ворча, уплывут за горизонт, очистив синеву неба и ослепительное солнце, зальются жаворонки, степь закурится испарениями, насытив воздух запахами разомлевшей со сна молодой беременной женщины, расцветет маками и тюльпанами, а ты, промокший до нитки, все будешь оглядываться и не верить, что остался жив среди неистовства расцветающей природы. И будет чавкать под копытами мокрая земля, будут беспечно перекликаться мутные ручейки и пересвистываться сурки, а твоя кобылка станет с храпом нюхать воздух, тоненько ржать и не слушать повода…
С вокзала Кривоносов шел быстро, торопился. Ему казалось, что пока он ездил в Харьков, в батальоне что-то случилось, а отвечать придется ему, Кривоносову. Правда, до этой поездки в батальоне он не замечал ничего такого, что перечислил в качестве причин ЧП полковник Гогулия. И командиры рот и взводов ведут себя нормально, никто из них не использует штрафников не по назначению; и комбат в меру требователен к своим подчиненным, и его замполит что-то делает, проводит какие-то мероприятия. Теперь, однако, придется глубже разбираться во всей этой деятельности, самому впрягаться в работу, обрастать сексотами, чтобы в каждом взводе было их хотя бы по два-три человека. Ну и, разумеется, внимательно посмотреть, не проявляются ли где какие-нибудь группы, не обозначились ли некие лидеры, авторитеты.
Доложившись майору Левакову о прибытии и коротко изложив ему суть происшедшего в макеевском батальоне, старший лейтенант Кривоносов пошел в свой кабинет с намерением тут же приступить к делу. Но в кабинете на его столе лежало письмо…
Пока он раздевался и приводил себя в порядок после дороги, он все время видел это письмо — белый прямоугольник на черном от грязи, давно не чищенном столе. От кого оно? Может, от кого-то из его осведомителей? Но что-то подсказывало Павлу, что это не так, и он вдруг почувствовал в груди своей сердце: как оно бьется, толкаясь в ребра, и что при этом во рту стало так сухо, что языком пошевелить неприятно.
Ничего хорошего от этого письма он не ждал. И потому не спешил к этому письму. Он умылся, расчесал волосы алюминиевой самодельной расческой, выпил кружку тепловатой воды, закурил, и только после этого подошел к столу, сел и взял письмо в руки — первое в его жизни письмо, полученное от… от кого бы то ни было.
Почерк был незнакомый. Но обратный адрес сказал ему, что письмо, как он и предполагал, из Чкалова, от Дарьи. Павел не ожидал от нее столь быстрого ответа на свое единственное короткое письмо. Более того, он вообще не ожидал от нее никакого ответа. Он так и написал ей: мол, если хочет, пусть ответит, если нет… если не ответит, он на нее не обидится, потому что… потому что война, неизвестно, выживет он или нет, а ей надо устраивать свою жизнь, растить сына… Он написал ей так не потому, что ему она отсюда, издалека, была безразлична, скорее наоборот: он тосковал по ней и боялся этой тоски, не хотел ее, привыкнув к тому, что с женщинами сходился легко и легко же расставался, не отягощая себя никакими обязательствами. А тут все не как раньше, все по-другому. К тому же очень хотелось, чтобы где-то его ждали и думали о нем. Правда, об этом своем желании он в письме не писал. Более того, письмо его было сухо, точно отчет о проделанной работе, и это было первое написанное им в своей жизни письмо, и как только он отнес его на почту, то постарался тут же выкинуть из головы и Дарью, и это письмо.
«Милый мой Павел!» — прочитал Кривоносов, и что-то в груди его распустилось горячее и большое, так что даже дышать стало трудно: никто еще ему таких слов не говорил. А в письме он вообще не ожидал прочитать ничего подобного.
«Милый мой Павел, — еще раз прочитал он и, с трудом оторвавшись от этих трех удивительных, можно сказать, необыкновенных слов, заскользил по строчкам. — Я получила твое письмо. Что вполне естественно: иначе бы я не знала, куда отвечать. Ты представить себе не можешь, как я его ждала, что передумала ночами, вспоминая о тех месяцах, что мы прожили вместе на степном полустанке „85-й километр“. Признаться, письмо меня несколько разочаровало, будто его писал совершенно чужой, малознакомый мне человек. Но, зная твой характер, я рассудила, что иного ты просто не мог написать. Слава богу, что хоть это.
Милый, милый Павел! Мы с сыном так многим тебе обязаны, ты так неожиданно вошел в мою жизнь, так прочно занял место в моей душе, что судьба твоя стала частью моей судьбы, что бы с тобой и с нами ни случилось. Да, на войне убивают или калечат, и в тылу, случается, тоже гибнут люди, но надо надеяться на лучшее, верить в это лучшее — только в этом случае у человека появляется „поплавок“, с помощью которого он может удержаться на поверхности, несмотря на волны и водовороты. Лично я верю, что с нами ничего страшного не произойдет, что мы, придет время, встретимся, и прошу у судьбы лишь одного — чтобы разлука и лихолетье не погасили тот огонек, который горел в нашей маленькой комнатке на „85-м километре“».
Вот что значит учительница: так складно писать Павлу и не снилось.
С час, пожалуй, он не мог прийти в себя, метался по своему кабинету, курил, и все время в мозгу его звучал голос Дарьи: «Милый мой Павел», а перед глазами стояла единственная строчка из всего письма, и эта строчка светилась розоватым светом, напоминающим раннюю зарю. Он вновь и вновь брал в руки письмо, вглядывался в эту строчку, ничем от других не отличающуюся, но всего остального как бы и не существовало.
Глава 15
Только к обеду Павел пришел в себя и стал с помощью дневальных по батальону вызывать к себе информаторов из рот, начиная с первой. Постепенно письмо отодвинулось в сторону, но след от него остался на его лице: всегда несколько угрюмое и непроницаемое, оно разгладилось, даже голос его изменился, став бархатистее и приветливее.
Из первой роты явился бывший интендант Пилипенко, совершенно лысый человек лет сорока, с потухшим взглядом бесцветных глаз. Он вошел боком, остановился у двери, доложил о прибытии.
— Проходите, Пилипенко, проходите! — радушно пригласил Кривоносов, встретив его у двери, и даже пожал руку. — Садитесь: в ногах правды нет. Закуривайте, — и пододвинул ему через стол пачку папирос «Пушка».
Пилипенко сел на краешек табурета, взял папиросу, закурил, пуская дым себе под ноги.
— Был я в Харькове, — стал рассказывать Кривоносов доверительным тоном, заглядывая в глаза штрафника. — Только что вернулся. Вызывали в управление на совещание. В одном из батальонов, таком же, как и наш, случилось ЧП. Проникшие в батальон агенты гестапо пытались поднять вооруженное восстание, погибло много людей, начальство за недосмотр отдали под трибунал, одних поставили к стенке, других отправили в лагеря, — врал Кривоносов, чтобы было пострашнее и проняло до самого копчика. — Не исключено, что и в наш батальон внедрили или попытаются внедрить гестаповских агентов-провокаторов. Бдительность должна быть на все сто, иначе головы полетят, а моя — в первую очередь, батальон расформируют и ушлют в лагеря.
Кривоносов говорил, но Пилипенко слушал его слова равнодушно: то ли не верил, то ли ему было все равно, что и где происходит и что станется с командованием и с ним самим. Возможно, оттого, что недавно получил весточку: поселок, расположенный на Волыни, где он служил до войны и где оставалась его семья, немцами уничтожен до основания, людей всех либо перебили, либо угнали в Германию. А поскольку жена Пилипенко была еврейкой, то шансов у нее вместе с детьми остаться живыми было так мало, что и не видно.
Все это Кривоносов знал из писем, которые отсылались из батальона и приходили в батальон: письма сперва попадали к нему, а уж потом шли по назначению. Если, конечно, их не отправляли тайком через гражданскую почту.
— Такие-то вот дела, Дмитрий Иванович, — продолжил агитацию Кривоносов. — Сами понимаете, что гестапо и абвер не дремлют, сам Гитлер поставил перед ними задачу всевозможно вредить советской власти и Красной армии изнутри, сеять панику, неуверенность и сомнение в наших рядах. Гитлер понимает, что, если в Красную армию вольются такие батальоны, как наш, пощады не жди. Тем более что тем, кто отличится в первом же бою, будут возвращены воинские звания и все прочее, и, таким образом, наша Красная армия усилится еще больше…
Пилипенко на эти слова лишь кивнул головой, но и этого хватило, чтобы Кривоносов перешел к сути дела:
— Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в нашем батальоне тоже могут скрываться враги советской власти, наймиты гестапо и абвера. Я уверен, что и вы, Дмитрий Иванович, не исключаете такой возможности.
— Не исключаю, товарищ старший лейтенант, — открыл наконец свой рот Пилипенко.
— На основании чего вы делаете свой вывод?
— На основании того, что вы только что мне сказали.
— Ну а сами-то вы, сами ничего такого не замечали у себя в роте? Скажем, кто-то с кем-то шепчется по углам, сбиваются в группы или еще что? Ничего такого не заметили?
— Нет, ничего такого не заметил. А шептаться… Так мы все давно отучились говорить в полный голос, только то и делаем, что шепчемся, — чуть ли ни шепотом произнес Пилипенко и опустил голову.
— Мм-да, — кивнул головой Кривоносов. — Это я понимаю. Но от этого пора отучаться: это вам не концлагерь, это воинская часть… — Помолчал немного, не зная, с какой стороны подступиться к своему информатору, затем спросил: — Ну а за время моего отсутствия что-нибудь произошло?
— В патрули стали посылать, — пожав плечами, ответил Пилипенко. — Два дня назад патрули на вокзале бандитов постреляли.
— Вы там были?
— Нет, из второй роты. Сам комроты Красников ходил в патруль со своими. Вот они там этих бандюков и порешили. А меня в патруль не посылали.
— Ну а в вашей роте есть люди, которые кажутся вам подозрительными? Ведут себя как-то не так, — стал развивать свою мысль Кривоносов. — Или там разговоры неположенные…
— Нет, товарищ старший лейтенант, таких людей не видно. Всех подозрительных еще в фильтрационном лагере отсеяли. Люди больше думают, чем говорят, да и говорить не о чем: все и так ясно.
— Ну, хорошо, Дмитрий Иванович, можете быть свободны. Но я об одном вас убедительно попрошу: повнимательнее присматривайтесь к людям. От этого, между прочим, зависит и ваша судьба тоже, — добавил Кривоносов со значением, но не стал разъяснять, от чего именно зависит судьба Пилипенко: пусть поломает голову, пусть дойдет до кондиции и, если не дурак, поймет свою выгоду и сам станет приходить и докладывать обо всем, а про себя Кривоносов решил, что, пожалуй, возьмет этого Пилипенку к себе в качестве ординарца.
Вторым Кривоносов вызвал бывшего старшего лейтенанта Олесича из второй роты.
У этого Олесича биография — ничего особенного. Беспризорник, затем воспитанник детской колонии имени Горького, руководимой знаменитым Макаренко. Затем пехотное училище, участие в финской кампании. Войну с немцами начал в районе Минска, неплохо проявил себя в качестве командира роты. Был ранен. Имел награды. Осенью сорок первого, командуя ротой московского ополчения, попал в плен под Можайском, будто бы в беспамятстве, а дальше немецкие лагеря и полная неизвестность, как он себя вел в этих лагерях, каким образом выжил, почему не бежал к партизанам. Сам он все это объясняет разными стечениями обстоятельств, но проверить эти обстоятельства невозможно, вот и приходится полагаться на его слова да на полное отсутствие компрометирующих данных. Зато сотрудничать он согласился сразу же, не отнекиваясь и не ссылаясь на неумение и неспособность справиться с поставленной задачей. Эта сговорчивость и обнадеживала и настораживала. Настораживала и сама внешность Олесича: лицо узкое — топориком, глаза бегающие, речь невнятная. То ли дурачок, то ли придуряется. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее, а то, не дай бог, подведет под монастырь в самую ответственную минуту. Тем более что ни сам он писем никому не пишет, ни ему никто, и понять, что он из себя представляет, не так-то просто.
Вызванный Олесич явился не сразу, а минут через двадцать. Кривоносов хотел было выговорить ему за это, но воздержался: не стоит обострять отношения с самого начала, сперва надо приглядеться, нащупать слабые стороны характера, может, сам проговорится о своем прошлом. Это как раз тот случай, когда поспешность вредна, тут надо брать пример с беркута-орла: кружить и кружить на одном месте, выглядывая свою жертву, которая не видит дальше своего носа, и как только потеряет бдительность, тут-то и нанести разящий удар.
Олесич выслушал информацию Кривоносова с нескрываемым любопытством, с готовностью кивал головой, сочувствовал и выражал полное понимание. И на вопросы отвечал вполне определенно, правда, сперва долго морщил свое острое лицо, тер лоб, будто вспоминать для него такое трудное дело, такое трудное, что и описать даже невозможно, но пусть старший лейтенант сам увидит и оценит старания рядового Олесича.
— Да-да-да, — тряс он головой, откидывался к стене, закатывал глаза. — Группы… Да-да, как же, как же… Имеются группы. А как же. Имеются. Только я не присматривался, но теперь, поскольку товарищ старший лейтенант меня такой постановкой вопроса конкретно озадачили, буду иметь в виду и все фамилии представлю в точной их реальности. И личности имеются среди личного состава. Например, бывший капитан второго ранга Пивоваров — очень заметная личность и по фигуре, и по авторитету. Еще бывший майор танковых войск Гаврилов. Говорят, во время патрулирования он не выполнил приказ старшего по званию, за что имел два наряда вне очереди. Подробностей не знаю, но перед строем объявил сам комроты Красников: мол, за невыполнение приказа и так далее. Опять же, песни: советские песни не поют, а все больше каторжные про бродягу и прочее. Ну и письма: пишут все и каждый день. А чего писать? Все одно и то же.
И Олесич передернул острыми плечами, будто под гимнастерку его попала блоха или колючка.
И весь день Павел Кривоносов вызывал к себе людей, подолгу разговаривал с ними, внушал, увещевал, выпытывал. И на другой день продолжил то же самое, и на третий, но уже исключительно для того, чтобы завербовать новых информаторов. При этом людей вызывал, ориентируясь в основном на их письма, которые ему приходилось читать иногда всю ночь напролет, чтобы особенно не задерживать с отправкой, не вызвать подозрения и тем более недовольства. Более всего Кривоносова интересовали те люди, кто нашел свои семьи и теперь, в страхе потерять их, готов был на все. Именно на это и давил Павел, хотя попадались и такие субъекты, для которых ни семья, ни долг перед Родиной, ни присяга ничего не значили, как только дело доходило до того, чтобы доносить на своих товарищей.
Один из них, а именно тот самый Гаврилов, который чем-то проштрафился во время патрулирования, так вот прямо и сказал:
— Я сексотом никогда не был и не буду, товарищ старший лейтенант. Не приучен. А если мне кто-то не понравится, я ему об этом скажу прямо в глаза, но не стану бегать по начальству и подпирать двери их кабинетов. Армия сильна доверием и товарищеской спайкой, а если все начнут следить друг за другом, то ничего от армии не останется. Так что вы уж сами, а меня увольте.
Если бы в инструкции не было записано, что подобные рассуждения нельзя рассматривать в качестве измены, а лишь как проявление характера и несознательности, то Кривоносов, не задумываясь, отправлял бы таких людей в особый отдел — пусть там разбираются. Но приходилось терпеть и даже не повышать голоса. Тем более что и на партийную совесть не надавишь: нет у бывших офицеров партийности, вся вышла в тот момент, как подняли перед врагом свои руки.
Ну и бывшие сержанты и рядовые. Таковых в батальоне было не так уж много. Видать, их причислили к батальону по причине нехватки бывших офицеров для штатного состава. Иначе никак не объяснишь. Этот контингент Кривоносов, исходя из их писем, разделил на две категории: тех, которые были озлоблены на командиров вообще и полагали, что именно из-за них попали когда-то в плен, и тех, кто пройдя через лагеря, превратились в манекенов, которым все равно, что будет с ними завтра. Особенно те из них, кто успел выяснить, что семьи их погибли то ли от немцев, то ли в тылу по каким-то неизвестным причинам; или, хуже того, жены не сохранили верность пропавшим без вести мужьям. Этих, последних, Кривоносов оставил на последок.
— Группы? — переспросил бывший старший сержант Буркин, лет тридцати, с вытянутым вверх угрюмым лицом. И надолго задумался. — Так они все, бывшие-то, поделимшись на группы, товарищ старший лейтенант, — ответил он убежденно. — Они и до войны про меж себя кучковамшись: младшие отдельно, старшие тожеть, полковники да генералы — само собой. И черт их душу, извиняюсь, знает, о чем они промеж себя рассуждают! Однако, неча бога гневить, с нами, с рядовыми то есть, держат себя обходительно, но в свои разговоры не пущают. Рылом, стал быть, не вышли. Так что вы, товарищ старший лейтенант, будьте покойны: если что замечу или услышу, сразу же доложу. Я теперь спать не буду, а все их разговоры на чистую воду выведу. Не сумлевайтесь.
За неделю Кривоносов сделал столько, сколько не сделал за предыдущий месяц, поэтому прибывшая в батальон комиссия не нашла серьезных упущений в его службе. Разве что незначительную мелочь. Так без этого никак нельзя: иначе и саму комиссию разгонять надо и отдавать под трибунал.
«Милый мой Павел».
Временами не хотелось никого видеть, уговаривать, писать отчеты. А скоро, говорят, на передовую, обучение идет к концу, каждый день марш-броски с полной выкладкой, атаки, рытье окопов, борьба с танками и прочее. Сейчас бы в Чкалов, к Дарьюшке, хотя бы на одну ночку — и к черту этот батальон, а войну — так тем более. Мало, что ли, он повоевал за свою короткую жизнь!
Глава 16
Небо хмурилось уже третий день, но, господь милостив, удержал дождик в своих закромах, не дал пролиться на землю, зато прикрыл ее облаками от северных ветров, от неизбежных о сю пору заморозков, чем и способствовал окончательной уборке картофеля, капусты, моркови и свеклы.
Председатель колхоза «Путь Ильича» Михаил Васильевич Ершов в бога вроде бы уже не верил, поскольку и бога отменили, и церкви закрыли, и ничего ужасного не случилось: ни тебе конца света, предрекаемого когда-то кликушами, ни даже маломальского потопа или других каких видимых напастей. Более того, большевики всех, кто был против них, побили, загнали в тартарары, худо-бедно, а страну подняли, и хотя война все-таки пришла на землю, с которой изгнали бога и его прислужников, так войны бывали всегда, и каждый при этом просил у бога себе победы и низвержения врагов своих. А большевики не просили, однако немцев погнали, и, даст бог… — ну, если не бог, то кто-нибудь еще, — скоро побьют окончательно. Вместе с тем, бога Михаил Васильевич поминал всегда, что бы ни случилось, больше по привычке, чем по вере, которая держалась в нем с до революции, да, видать, не очень-то крепко. Да и откуда быть ей крепкой, если церковь изначально была помещицей монастырских крестьян и прочих, к ней приписанных по воле царской власти, обдирала их как липку, похуже иных Салтычих. Да и про кого больше всего рассказывается в сказках, как о самых зловредных, жадных и похотливых? О попах же в первую очередь. А почему? А потому что с амвона возглашают одно, а в жизни творят противное своим возглашениям. Блюли бы они чистоту веры своей, может, и революции не понадобились.
Михаил Васильевич медленно брел вдоль опушки леса, шурша опавшей листвой, искоса поглядывая на побуревшее поле, на кучи ботвы, еще не убранной и не свезенной в силосные ямы, на дальние леса, задернутые слабой дымкой, на вышагивающих по полю грачей и ворон. Правда, картофельная ботва корм не шибко-то и хорош, а ученые поговаривают, что даже опасен для коров по причине содержания в нем каких-то особо вредных веществ, но в бескормицу, если она, не дай бог, случится, и такой корм, смешанный с другими кормами, сгодится, потому как почти все заготовленное летом сено пришлось отдать Красной армии, себе осталось — до марта не хватит, хотя коров и прочей живности против прежнего в колхозе сохранилось менее чем втрое. Тут и спешная эвакуация сказалась осенью сорок первого, и возвращение назад, когда стало ясно, что немца дальше не пустят, — и не пустили: не дошел немец до Мышлятино километров пятьдесят, а все равно, — многого лишился колхоз за два с лишком месяца беготни в сторону Колязина и обратно. Не все, конечно, уходили в отступление, не всё потащили с собой, но и назад вернулись не все, и не всё притащили из того, что брали. Особенно скотину. Война, чтоб ее…
Поодаль двигались по полю реденькой цепочкой ребятишки, подбирали оставшиеся картофелины в корзинки, сносили в одно место, пересыпали в мешки. Много они не соберут, но предыдущие голодные годы, когда из колхозных амбаров государство выгребало почти все, что там лежало, чтобы накормить армию и заводских рабочих, заставляли Михаила Васильевича ценить каждую пригоршню зерна, каждый мешок картофеля. Эту небольшую добавку он рассчитывал держать особо, в качестве неприкосновенного запаса — на всякий случай, потому как о своих колхозниках позаботиться некому, кроме как председателю. Так что пусть ребятишки собирают: с каждого мешка им премия в виде ведра картошки. А еще морковь, свекла, репа, брюква… Они глазастые, ничего не пропустят.
Дойдя до края поля, Михаил Васильевич свернул к кладбищу, нашел могилу старшего сына Михаила, присел на покосившуюся лавочку. Да и все здесь покосилось, все обветшало, некому и недосуг ухаживать за мертвыми, когда на живых рук и времени не хватает. Было у Михаила Васильевича пятеро сыновей и четыре дочери, осталось только три дочери… и ни одного сына, но лишь старший, Михаил, помер своей смертью и лежит на деревенском погосте, остальных забрала война и раскидала их косточки невесть где. Разве думал Михаил Васильевич когда-нибудь, что такое случится именно с ним, чтобы всех сыновей сразу — хоть бы одного сына оставила в живых, проклятая! Хоть бы одного! Даже и покалеченного. Но не он один такой: в деревне почти все семьи лишились своих мужиков, разве что двое-трое еще пишут с фронта письма, но никто не поручится, что сегодня или завтра не оборвется эта тонкая ниточка, соединяющая их с отчим домом. А сколько братьев его, Михаила Васильевича, родных и сводных, разделили участь его сынов. Начнешь считать — пальцев не хватает. Отец за эти годы так постарел, так его пригнуло к земле, что иногда кажется, видя издалека, как он шагает по дороге, опираясь на палку, что не иначе потерял что-то и теперь ищет, обшаривая глазами каждую кочку, каждую бочажинку. А то вдруг остановится и подолгу стоит на одном месте: то ли забыл, куда идет, то ли сил нету идти дальше. Да и то сказать — уж далеко за семьдесят.
О себе Михаил Васильевич думает меньше всего. Хотя… увидели бы его сыны, не узнали бы своего отца. Вон Аня вернулась из эвакуации, глянула на своего тятьку и разрыдалась: не признала с первого взгляда. А мать? Голова вся белая, руки дрожат, и тоже, случается, остановится, будто налетит на стену, и в слезы. Уж Михаил Васильевич снял со стены все фотографии своих сынов и дочерей, чтобы лишний раз не бередили душу, и без того изнывшуюся после получения похоронок — одна за другой, одна за другой с небольшими перерывами. Двое погибли где-то под городом Почепом, — а поначалу-то и вообще считались пропавшими без вести, только недавно пришла весточка, что погибли и где похоронены; еще один под Киевом, последний — в донских степях возле станицы Селивановской, которую не на всякой карте и найдешь. И все это как обухом по голове, один удар страшнее другого. А потом и дочь Фрося, ушедшая в армию по медицинской части, умерла в госпитале после тяжелого ранения. Легко ли такое вынести… И только каждодневные заботы, заботы и заботы помогали подниматься по утрам и весь день стоять на ногах — стоять и не падать. Опять же, были бы они одни такие, то, может быть, и не выдержали: умом тронулись бы или еще что. А то ведь вся деревня, а выше глянуть — вся страна.
Михаил Васильевич тяжело поднимается и бредет к деревне, к правлению. Поговаривают, что будут объединять колхозы, чтобы как-то охватить истощенными войной силами неизменную землю, требующую человеческого глаза и заботы. Да только неизвестно, что из объединения получится. Хотя, конечно, председателей колхозов станет меньше, людишек при колхозных правлениях тоже, но у нас ведь как делается: свалят всех в кучу, а там разбирайся. А разбираться надо заране, а не опосля. Да станут ли, спросят ли? Вряд ли.
Возле правления колхоза стояли знакомые райкомовские дрожки, и Михаил Васильевич замедлил шаг: из райкома приезжают не просто так, а чтобы накачать и пропесочить — другого они не знают. Он оглядел свою деревеньку, видную всю от одного края до другого, стараясь посмотреть на нее как бы сторонними, райкомовскими, глазами. Деревенька мало изменилась за последние годы. Разве что коровник да правление построили перед войной, которые теперь выделялись на общем обветшалом фоне, как невесты среди стариков. Особенно правление, крытое железом, с двумя печками-голландками, отдельными кабинетами для председателя и бухгалтера, просторным помещением для собраний, в котором иногда крутят кино. И скажи, ведь не тронул фашист деревеньку, ни одной бомбы на нее не сбросил. А если подумать, то когда ему сбрасывать, если, подошед к Москве, вынужден был отступить? На все русские деревни никаких бомбов не хватит, никаких снарядов.
В своем кабинете Михаил Васильевич застал заместителя секретаря райкома партии по оргвопросам товарища Хлюстова, из местных, демобилизованного из армии по случаю ранения. Тот сидел за председателевым столом и разговаривал по телефону. Едва Михаил Васильевич переступил порог, Хлюстов поднялся и, не отрывая трубки от уха, протянул ему руку, затем сказал кому-то, что перезвонит потом, и тут же положил трубку, из чего Михаил Васильевич сделал вывод, что Хлюстов говорил с кем-то о нем, о председателе, и почувствовал, как сердце вдруг застучало часто и сильно, и даже дышать стало тяжело. Однако это продолжалось всего несколько секунд, пока он снимал дождевик и картуз и вешал их на гвозди, вбитые в стену. В голове за эти секунды пронеслось, не облекаясь в нечто определенное: а вдруг еще какое несчастье привез Хлюстов на его голову вроде дополнительного налога или добровольных пожертвований в пользу фронта, хотя больших несчастий, чем те, что уже случились, и выдумать трудно.
А Хлюстов, мужчина лет сорока, то есть еще молодой и в силе, однако изрядно побитый жизнью, с тяжелым взглядом свинцовых глаз, окруженных частой сеткой морщин, освободил председателево место за столом, скромненько сел сбоку и принялся потирать левой рукой локоть правой, пораженный осколком немецкой мины. Но и Михаил Васильевич не полез на свое место, а тоже умостился на лавке обочь стола, точно это был уже не его кабинет, а чей-то еще.
— О делах не спрашиваю, — начал издалека Хлюстов. — Знаю, что планы по всем пунктам колхоз выполнил и даже перевыполнил. По секрету скажу тебе, Михал Василич, что к Ноябрьским поданы списки на награждение, и твоя фамилия в тех списках имеется. А чем наградят, это уж как наверху решат.
— Спасибо на добром слове, Федор Кондратич, — произнес Михаил Васильевич, потому что надо же было что-то сказать на это, а не молчать: неприлично все-таки. А потом спохватился: — Я-то что! Вот моих баб наградить, которые все на своем горбу тащат, вот их — их надо пренепременно, им положено по трудам их и старанию. И лучше всего — ситцу бы или еще там чего, потому как обносился народ до крайности…
— И бабы ваши не забыты: партия все учитывает, каждому воздает по трудам его. Но я к тебе, Михал Василич, не за этим прибыл. У меня к тебе разговор особый: серьезный и ответственный. Собирался сам первый секретарь райкома Петр Никитич Храмов приехать, да вызвали в обком. Он и поручил мне, потому как разговор этот не терпит отлагательства.
— Тогда погоди, Федор Кондратич, — остановил Хлюстова Михаил Васильевич. — Погоди малость. Я скажу сейчас, чтобы чайку нам сообразили, а то я с утра все по полям да по полям — во рту пересохло. А когда во рту сухо и в животе урчит, не до серьезных разговоров.
Но Варвара Курочкина, колхозная бухгалтерша, женщина молодая, цветущая, с круглым миловидным лицом и толстой косой, уложенной на голове крупным венцом, но уже два года как вдовая, а потому с застывшей в серых глазах печалью, входила с подносом, на котором стояли фарфоровые чашки и чайники, расписанные цветами, — все, что надобно для чаепития и что было специально для этого приобретено еще до войны, — ну и, ясное дело, домашние калачи и ватрушки торчали румяными боками из плетеной хлебницы.
Варвару Михаил Васильевич подобрал во время возвращения из отступления. Она ютилась с двумя детьми в баньке, и все трое дошли, что называется, до ручки: ни еды, ни одежки, дети простужены, а баньку топить нечем. Бежала Варвара из Торопца, где работала бухгалтером на хлебозаводе и застряла в небольшой деревушке, где в каждой избе повернуться нельзя от наплыва беженцев. Бухгалтер Михаилу Васильевичу позарез был нужен, поскольку своего забрали в армию, вот и прихватил он с собою Варвару — из жалости и по нужде, поселил у Прасковьи Конюховой, у которой двух сынов и мужика забрали в армию, да видать, навечно: ни письма, ни похоронки от начала войны.
Поставив на стол поднос, Варвара молвила певуче:
— Кушайте на здоровье.
И вышла из кабинета, покачивая крутыми бедрами.
Хлюстов и Михаил Васильевич проводили ее стройную фигуру завистливыми взглядами и оба подавили в себе горестный вздох.
— Слыхали? — начал Хлюстов, когда первая чашка чаю была выпита в полном молчании и налита вторая. — Наши вчера Белград освободили, а союзники к границам Германии подошли. Теперь Гитлеру крышка. Теперь как со всех сторон навалятся на Германию, только пух и перья от нее полетят.
— Оно так, конечно, — осторожно поддержал Хлюстова Михаил Васильевич. — А сколько еще народу погибнет, сколько еще сирот и вдов образуется, пока до этого… до ихнего… как его? — логова доберутся, — страшно сказать.
— Что ж, война без этого не бывает, — начал было с устоявшимся оптимизмом Хлюстов, но споткнулся, опустил голову, поник и оттого сделался еще старше. Даже голос изменился. — Да-а, война свое берет, ничего не поделаешь. У меня в полку за два месяца последних боев и трети народу не осталось: немец дерется отчаянно, потому как конец свой чует. Опять же, скажу тебе, Михал Василич, на фронте к смертям вроде привыкаешь, но иногда, особенно после боя, оглянешься вокруг, на бугорочки своих солдат, которые по полю разбросаны, как помоченные дождем ржаные снопы, и вдруг что-то внутри дрогнет, и подумаешь: а с кем же потом страну поднимать? Откуда народу взяться, если самые сильные да здоровые погибли, а другие в калек превратились? Это ж кто останется после такого истребления мужского полу? Кто народ русский продолжать будет? Ведь в тылу-то одна немощь осталась, а от немощи немощь и пойдет дальше плодиться. Мне один московский профессор говорил, что Римская империя потому пала, что всех здоровых мужиков на войне истратила, а которые остались, все тем или иным образом хворые были. Опять же, если вспомнить историю, в греческом государстве под названием Спарта, откуда происходит Александр Македонский, хилых детишек при рождении сбрасывали со скалы, чтобы не зачинали хилое же потомство. Оттого Алексадр-то Македонский и завоевал пол-Мира. Так оно и ведется от роду. А у нас позади еще то Первая мировая, то гражданская, до одно, то другое, А теперь вот и эта…
Михаил Васильевич с удивлением посмотрел на Хлюстова: не ожидал от него таких слов, такого, можно сказать, непартийного настроения. Но тут же опустил глаза к чашке, решив промолчать, а Хлюстов, прожевав ватрушку и запив ее остатками чая, продолжил в том же духе:
— Дети в последнее время рождаются какие-то недоразвитые: одни по части умственных способностей, другие — то нога короче, то пальцев на руках нехватка, то еще что. Доктора говорят, что такое было после мировой и гражданской войн, а теперь вот опять, и будто бы происходит как бы накопление таких в народе изъянов, и если еще какая беда вскорости образуется, то и вымрет народ вконец, не выдержит всех напастей.
— Ну, это… — покрутил Михаил Васильевич в воздухе пятерней, решив было вступиться за народ. Но не вступился. И уронил руку в бессилии.
Сперва-то он подумал, что Хлюстов историю знает плохо, поскольку подобные напасти на Руси уже случались — и ничего, то есть, конечно, худо, но чтобы до последней черты, такого не было и не будет. Но тут же сообразил, что в райкоме и выше, видать, и впрямь получают конкретные данные от докторов и ученых по части рождаемости, коли замсекретаря райкома имеет такое твердое на этот счет мнение. А, с другой стороны, у здоровых людей семьи большие, у больных — один, много — двое детей, да и мрут они чаще, так что в конце концов здоровые возьмут верх, и сила народа восстановится всенепременно. Если доктора чего-нибудь не напутают. Ну, например, вроде того, что станут калек с того света вытаскивать за ради собственного удовольствия и славы. Тогда, конечно: от яблоньки — яблочко, от сосны — шишка, а от поганки — поганка.
Прикинув в уме все это, Михаил Васильевич, привыкший к осторожности с партийным начальством, перевел разговор на другое:
— У меня тут одна солдатка, вдовая уже, двойню родила… пацаны… ничего, крепенькие… — хмыкнул он, мотнув головой: — Мужика два года как убили, а она… Бабы все равно рожают, поскольку жизнь своего требует, запретов не признает.
— Да, это так, — согласился Хлюстов и даже посветлел лицом, вспомнив, видать, что-то свое, похожее.
Впрочем, и сам Михаил Васильевич, мужик еще крепкий, хотя перешагнул за шестьдесят, нет-нет да и утешит иную вдовицу по доброте своей. И не потому, что впал в распутство на старости лет, а потому, что жена после гибели сынов и дочери на глазах превратилась в старуху, высохла вся, да, вдобавок ко всему, ударилась в религию и плотские утехи почитает за грех: денно и нощно кладет пред иконами поклоны, все о чем-то просит своего бога. А о чем просить-то? И зачем — после всего, что уже случилось? Будто вернешь детей назад, будто виноваты были они перед кем-то. Разве тем, что родились на свет? Так за это не судят. Тем более не за что бога, если допустить его существование, славить и благодарить, коль все напасти от него, все муки человеческие от него же и будто бы за грехи наши. А какие у народа могут быть грехи? Никаких. Да только бабе не втолкуешь, у нее свое понимание: она на людей уже не надеется.
Но как-то Михаил Васильевич встал ночью по нужде, а в комнате жены свет горит и слышно бормотание. Подошел он к не плотно прикрытой двери, заглянул: его Полина Степановна стоит на коленях в одной рубашке лицом в угол, где в свете лампадки чернеют лики святых, и слышится ее страдающий голос, точно вода часто капает из рукомойника, задевая нечто медное или стеклянное:
— Боже святый! Боже мудрый и всесильный! — звенело громким шепотом в душном полумраке. — За что обезлюдил дом мой? За что побрал сынов моих и дочерь мою? До коих пор будешь измываться над людьми русскими? Мало тебе прошлых войн, так ты еще и эту надумал. А у людей сил уж никаких не осталось, в великих скорбях пребывающих. Каждый день на работе спину гнут, себя забываючи, на поле брани каждый день смерть косой сынов наших косит, а ты глядишь с небес и не хочешь остановить муки народные, по земле нашей разлитые, как половодие. Обрати взор свой, Боже праведный, на народ православный, не дай ему известися вконец, не дай земле пусту быти…
Михаил Васильевич попятился от двери, пораженный услышанным и увиденным. Не просила у бога его Полина, а требовала, хотя в напряженном голосе ее дрожали и звенели слезы, и, в то же время, била земные поклоны, изгибая свою худую спину, потерявшую былую стройность и гибкость. И каким языком просила! Никогда он от нее не слыхивал такой гладкой и складной речи, никогда в обиходе она не употребляла таких высоких слов.
Глава 17
С тех пор эта картина, как бы вырванная из полумрака тесной комнатушки, часто возникала перед Михаилом Васильевичем, в голове звенели страстные слова молений, всякий раз останавливая на миг дыхание и заволакивая глаза слезами.
Он помнил свою Полину шестнадцатилетней девчонкой, когда их впервые свели на смотринах. Стройная, с сильными покатыми плечами, вполне оформившимися крутыми бедрами и высокой грудью, она ясными глазами смотрела на своего восемнадцатилетнего суженого, теребя конец толстой косы с заплетенной в нее алой лентой. И ее и его тогда страшило предстоящее супружество, но и притягивало своей таинственностью. Как давно это было, сколько пришлось им обоим пережить за эти годы…
— Теперь о деле, Михал Василич, — отвлек его от горестных воспоминаний и грустных размышлений Хлюстов. Он только что закурил папиросу, согнав с лица мечтательную ухмылку, голос его принял официальный тон: — Что касается будущего, то оно, как говорится, в наших руках. А дело у нас с вами вот какое: людей в деревнях осталось мало, колхозы едва держатся, есть решение партии и правительства, чтобы, значит, в виду такого сложного положения в сельском хозяйстве, производить укрепление колхозов за счет объединения мелких. В райкоме разработан план, по этому плану ваш колхоз должен объединиться с тремя другими, а председателем этого нового колхоза решено предложить вашу кандидатуру. Лучшей кандидатуры на этот пост нету! — произнес Хлюстов решительно и даже прихлопнул ладонью по столу. — Храмов с этим планом нынче поехал в Тверь, там его утвердят, а вы пока подумайте над тем, как и что для осуществления этого плана надо предпринять в данном конкретном случае. Чтоб без спешки, не через пень-колоду, а с умом. К весне надо все это организовать, расставить людей на какое место кто способен, чтобы посевную провести организованно и без задержки. Мы не можем допустить, чтобы у нас пустовали посевные площади, зарастали бурьяном и кустарником. Страну надо кормить, а кроме нас сделать это некому.
Михаил Васильевич слушал молча, кивал головой. Затем поднялся, открыл окно, выпуская наружу папиросный дым. Он смотрел на дальние холмы, заволакиваемые ранними сумерками, и думал, что вот как оно все повернулось: в прошлые года из райкома приезжали, чтобы убедить мышлятинцев не выбирать председателем беспартийного Михаила Ершова, а теперь наоборот: приезжают уговаривать его, чтобы согласился быть председателем укрупненного колхоза. И как раз за это его и ругали, то есть за то, что он сам когда-то предлагал укрупнять некоторые хозяйства. В райкоме полагали, что ему власти над людьми хочется, а он не власти хотел, а видел, что в мелком хозяйстве невозможно применить все достижения аграрной науки, что здесь требовался размах и масштабы покрупнее. Теперь петух клюнул — и наверху сами наконец-то дошли до этого… Да, времена меняются, но ведь и он, Михаил Васильевич, тоже меняется — в том смысле, что стареет, силы уходят, а тут такая ноша, такая ответственность… А если глянуть с другой стороны, то что он будет делать, уйдя с председательского места? Куда приложит свои оставшиеся силы? Ведь они, силы-то, еще имеются. И как он будет изживать свою беду? Только в работе. Да и привык он командовать, привык подчинять себе людей, а без этого жизнь станет пресной и лишится всякого смысла. Стало быть, и сомневаться тут нечего.
И Михаил Васильевич повернулся к Хлюстову, произнес:
— Хорошо, Федор Кондратич, я подумаю.
— Тут и думать нечего! — воскликнул Хлюстов. — Тем более что ты сам, как мне стало известно, когда-то на укрупнении настаивал. Теперь время для этого пришло — а ты думать… Некогда нам думать, Михал Василич.
И закрутилась у Михаила Васильевича жизнь по новому кругу. Впрочем, оказалось, что забот почти что не прибавилось, а стали они другого рода, как бы поднялись сразу на несколько ступенек вверх, откуда мелкое почти не видно, а лишь крупные куски вновь создаваемого колхоза. Еще Михаил Васильевич с удивлением, но и с удовольствием, обнаружил, что его председательство воспринято в других деревнях как должное, будто никого другого посадить на это место и найти невозможно. И сами бывшие председатели маленьких колхозов приняли свое низложение до степени бригадира, а то и рядового колхозника, тоже как должное, точно только об этом и мечтали все свою жизнь. А разобраться, куда б они делись, если бы не приняли новых установлений партии и товарища Сталина? То-то и оно. Значит, держи ухо и глаз востро, чтобы кляузами да разными подсидками не внесли смуту в умы рядовых колхозников, не дали забуксовать новому направлению.
Впрочем, Михаил Васильевич за эту сторону особо не опасался: и раньше ему вставляли палки в колеса, и не ему одному, но, как говорится, бог милостив к тем, кто милостив к людям, а Михаил Васильевич зла никому не делал. Тем более что был здесь человеком своим, не пришлым, а многим доводился родней, хотя бы и десятой водой на киселе. В каждой деревне то ли Рощины по матери, то ли Ершовы по отцу. А еще мачехина родня, да сводных сестер и братьев. Так что в какую деревню ни приедешь, тебя и встретят, и накормят, и спать положат, если дело заставит припоздниться.
В марте Михаила Васильевича вызвали в Спирово для отчета о проделанной работе. Поехал он туда со своей бухгалтершей Варварой Курочкиной, а та со своим отчетом по части дебита-кредита. Но в райкоме долго не задержались, из Спирова на другой же день двинулись в Калинин, на областное совещание. Варвару можно было бы и отпустить, но Михаил Васильевич имел в виду кое-что приобрести в Калинине по линии обкома для своего колхоза: сеялки конные, плуги, новые семена, выведенные селекционерами, а в таком вопросе без Варвары никак: у нее не только в бухгалтерских книгах, но и в голове вся цифирь по полочкам разложена. Да и привык Михаил Васильевич видеть ее рядом — так спокойнее.
Давненько Михаил Васильевич не бывал в Калинине — аж с до войны. И не узнал города, так был он разрушен и опустошен. Улицы, правда, очищены от битого кирпича, воронки засыпаны, в центре кое-какие здания восстановлены, другие восстанавливаются, — и все больше руками пленных немцев и мадьяр, — сами жители что-то строят на месте своих сгоревших или разбитых бомбами и снарядами домишек, но еще долго городу возвращать былой вид, долго залечивать полученные раны. Но самое удручающее впечатление произвело почти полное на улицах безлюдье. Разве что в центре какое-то движение, да и то, скорее всего, по случаю совещания по сельскому хозяйству. И все больше женщины, а из мужиков — тот на костылях, этот пустой рукав засунул в карман, другой без глазу, а если все цело и на месте, то непременно старик вроде Михаила Васильевича. Обезлюдел город, обезлюдела область. Конечно, закончится война, кто-то да вернется, но вся надежда на вот этих мальчишек и девчонок, бегущих после уроков из полуразрушенной школы с холщевыми сумками через плечо.
Михаила Васильевича по старой памяти посадили в президиум совещания. На его груди светился рядом с орденом Ленина орден Трудового Красного знамени и две медали ВДНХ. Зато другие председатели колхозов — из новеньких, бывшие фронтовики — имели совсем другие награды, и не по две, как у Ершова, а вдвое и втрое больше. У иного так целый иконостас, а не грудь: там и силуэт товарища Ленина, и товарища Сталина, и знаменитых полководцев прошлого. Щедро нынче награждают, не то что в минувшие времена. Но воевать — это одно, а поднимать сельское хозяйство — совсем другое. У кого-то получится, а у кого-то и нет. Тем более что МТСов практически не существует: армия в сорок первом забрала все трактора для своих пушек, все грузовые автомобили. Лошадей — и тех почти не осталось, а на коровах какая пахота? Горе горькое. Вот и в новом колхозе у Михаила Васильевича двух десятков лошадей не набирается. Правда, в райкоме обещали, что к весне в МТС поступит несколько новеньких тракторов из Сталинграда, где уже начал работать тракторный завод, а в хозяйства дадут списанных из армии лошадей. Но это пока одни обещания, а что будет на самом деле, никто сказать не может. Однако именно под эти обещания Михаил Васильевич отправил в Торжок на курсы механизаторов пятерых пацанов, которым еще и пятнадцати лет не исполнилось. Но не ждать же, пока вырастут. Ничего, на тракторе быстрее расти станут.
Михаил Васильевич, сидя в президиуме и слушая речи ораторов, ни на минуту не переставал думать о том, что еще надо сделать в новом колхозе «Путь Ильича», чтобы распахать и засеять все запланированные на будущий год земли. Об урожае он пока не думает, об урожае можно будет думать потом, когда в руках будет хоть что-то, что может повлиять на урожай. А пока лишь навоз, который начнут вывозить на поля зимой, по снегу, на салазках да на розвальнях, в которые запрягать, акромя баб, почти что и некого. Прошлые зимы жалел Михаил Васильевич своих баб, обходился вынужденным севооборотом, потому что все равно всю землю обиходить было не под силу. За эти годы навозу скопилось много, и если будут лошади… Если будут… Тогда можно будет и колхозникам огороды запахать, чтоб не мучились по ночам, ковыряя лопатами скудные свои сотки. Что еще? Кое-где коровники надо ремонтировать, конюшни… Впрочем, с конюшнями можно подождать: если будут лошади, надо будет распределить их по дворам колхозников. А пока есть заботы поважнее, не терпящие отлагательства. Школа в Заболотье, например. Или мост через Осугу. Да мало ли…
— Слово предоставляется заслуженному руководителю колхоза «Путь Ильича», дважды орденоносцу товарищу Ершову Михаилу Васильевичу, — торжественно выкрикнул в переполненный зал председательствующий.
Михаил Васильевич поднялся, одернул поношенный свой пиджак, пошел к трибуне. Давненько он не выступал на таких больших собраниях — почитай, с тридцать девятого года. Положив на кафедру листочки с заранее написанной для него в райкоме партии речью, он оперся на трибуну обеими руками, прокашлялся и заговорил, в листочки те не заглядывая.
Он говорил о том, как он думает налаживать работу в укрупненном колхозе, какие надежды связывает с возрождающейся МТС, а что рассчитывает сделать своими силами. Он говорил о том, о чем только что думал, и вчера тоже, и все эти дни и ночи, когда проснешься за полночь, а думы — вот они, стоят в изголовье и тут же кидаются, расталкивая друг друга, в усталый мозг, и надо выстроить их по порядку, чтобы не погрязнуть в мелочах, а иметь в виду самое главное — колхозника, без которого ничего не сделать, сколько ни планируй. В речи своей Михаил Васильевич не жаловался на трудности, на недостатки, он исходил из того, что есть и как этим «есть» распорядиться по-хозяйски.
Михаилу Васильевичу хлопали долго и радостно, точно впервые услыхали речь живого человека. Даже секретарь обкома, человек новый, поскольку, поговаривали, прошлое руководство области пересажали за трусость и неспособность руководить областью перед лицом надвигающейся военной угрозы, а более за то, что сбежали и бросили город на произвол судьбы, — даже секретарь обкома, и тот, когда Михаил Васильевич сел на заднюю скамейку, повернулся к нему всем телом и долго тряс руку, широко улыбаясь: тоже, видать, ожидал чего-то похожего на все остальные речи, а тут — на тебе! — такое удивительное исключение.
Может, из-за своего выступления Михаил Васильевич так неожиданно легко уговорил кого следует, и ему выделили кредит и дали несколько конных плугов, косилок, оконного стекла для школы, гвоздей и даже железа на крышу.
Из-за этого же самого необычным блеском светились глаза у Варвары Курочкиной, и она, время от времени поглядывала на Михаила Васильевича так, точно видела его впервые, приговаривала:
— Ну, вы, Михал Василич, просто я не знаю кто: молодец, да и только. Вот уж не думала, вот уж не думала…
Поздним вечером они вдвоем пили чай у Михаила Васильевича в номере, поскольку сосед Михаила Васильевича, инженер по части электричества, съехал, а нового не подселили. И как-то само собой получилось, что Варвара осталась в его номере на ночь.
Когда первый угар прошел, Варвара то плакала, вспоминая свою загубленную войной молодость, то теребила Михаила Васильевича, требуя от него новых ласк изголодавшемуся своему молодому телу. А он все удивлялся, откуда у него берутся для этого силы, и еще тому, что вот уж два года Варвара рядом с ним, а случилось это только сейчас, до этого он и помыслить об этом не мог: зачем ей, молодой, такой старый хрыч? — и все перебивался на стороне с вдовушками преклонных лет.
«Вот ведь какая штука, — изумлялся Михаил Васильевич про себя, гладя Варварины голову и плечи. — Выходит, бабу надобно хорошенько удивить, чтобы она забыла и про возраст твой, и про твою кривую рожу». Впрочем, про кривую рожу — это Михаил Васильевич преувеличивал: рожа у него была ни только не кривой, но вообще без всяких изъянов, и даже наоборот: очень приятной и моложавой. А небольшой шрам над правой бровью, приобретенный еще в детстве, не портил его лицо, делал его мужественным и исполненным некой таинственности, которая частенько завораживала женский взгляд.
— Ну, Михал Василич, ну вы просто молодец, да и только, — шептала Варвара изумленно одно и то же, не находя других слов, может, не столько в похвалу председателю, сколько себе в оправдание, и терлась еще не просохшей щекой о его волосатую грудь.
Очень Михаил Васильевич опасался, что это Варварино изумление отныне поселится на ее миловидном лице и будет заметно каждому, кто повнимательнее глянет на нее, так эта ночь изменила бабу: всегда будто в воду опущенная, она вдруг расправилась, развернулась, как тот бутон с восходом солнца, из глаз исчезла затаенная тоска, они блестели и лучились.
Может, в деревне кто и заметил в ней перемену, может, и разговоры промеж баб велись на эту тему, но Михаилу Васильевичу, целыми днями пропадавшему в обширном своем хозяйстве, было не до этого, как более не представлялось возможности остаться с Варварой наедине хотя бы и на короткое время: с раннего утра до позднего вечера вокруг него роились люди, у каждого из них было свое к нему дело, каждого надо выслушать, вникнуть в это дело и принять решение. Зато воспоминание о той ночи в гостинице теплилось в нем свечным огарочком и грело его одинокую душу несбыточными желаниями.
Глава 18
Солнце садилось в ущелье между двумя горными хребтами, разбросав по сторонам многоцветье своих лучей, так что казалось, будто эти лучи исторгаются из самих гор: из золотых россыпей — золотые, из серебряных — белые, из россыпей самоцветов — зеленые и красные, из льдов и снегов — голубые. А сами горы погружались в густую лиловость, однако все-таки наполненную светом, то ли падающим на них с белесого неба, то ли отраженным озерной гладью, по которой причудливым калейдоскопом перемещались солнечные лучи. Зато горы напротив сияли всеми цветами радуги — от черного до желтого, и чем выше гора, тем ярче светилась ее вершина, тем мрачнее тени скапливались у ее подножия, постепенно расползаясь во все стороны.
Александр Возницын, отложив кисти, неотрывно следил за игрой света и тени вокруг себя и поражался тому, что ни один закат не походит на другой, каждый имеет свою расцветку, свой основной тон, свое настроение. Совсем другое дело — рассвет. Он начинается с того, что над темными хребтами гор постепенно блекнут звезды, на густой ультрамарин неба робкими мазками ложится пурпурное индиго, мазки все гуще, решительнее, и вот разливается заря, поднимаясь все выше и выше, однако едва-едва отражаясь на окружающих долину горах, почти незаметно вылепливающихся из неподвижной тьмы. Затем неожиданно вспыхивает в седловине горного хребта солнце, и почти сразу же наступает день. Поэтому-то восход для него, художника, не так интересен, как закат, но именно его Александр не может свести к единому знаменателю, чтобы вся эта переменчивость красок отразилась на одном же холсте. Он написал десятки этюдов, не дурных самих по себе, но все выходило не то: не ложилось на холст нечто главное, глядя на которое сразу же и безошибочно можно определить: да, это Алтайские горы в пору преддверья осени, и никакие другие.
Впрочем, другие Александру видеть не довелось, поскольку всю свою жизнь провел среди лесов и полей, невысоких холмов, озер и речек Среднерусской равнины. Да он раньше пейзажем почти не интересовался, полагая, что природа — это нечто вечное и неизменное, а дело художника отражать свою эпоху посредством человека, меняющего жизнь и меняющегося вместе с жизнью.
Но вот судьба забросила его вместе с семьей в глухой городишко Ойрот-Тура, и с некоторых пор пейзаж стал для него чуть ли ни основной темой творчества. Такое изменение взглядов на пейзаж произошло, скорее всего, оттого, что жизнь здесь течет медленно и однообразно на протяжении веков, она мало изменилась и с приходом сюда советской власти, разве что отары овец и табуны лошадей стали не частной собственностью, а общественной, но, глядя на горные склоны, по которым медленно перемещаются белые пятна овечьих отар, на дремлющего в седле пастуха, на белые войлочные юрты, на женщин с плоским лицом и узкими щелками глаз, на их расшитые одежды, неторопливые движения возле костра, на котором готовится все та же баранина, что и тысячу и пять тысяч лет назад, на ребятишек, копошащихся возле юрт, то всякое изменение в жизни человека начинает казаться чем-то искусственным и не нужным, а далекие города, переполненные людьми, не показателем прогресса, а чем-то этому прогрессу противоречащим.
Очутившись в Ойрот-Туре, до недавнего времени известного как Улала, Александр поначалу жил лихорадочными воспоминаниями о войне, которая так близко подошла к Ленинграду в августе сорок первого, протянув свои огненные руки в его пасмурное небо. Он писал ночные прожектора, короткие вспышки разрывов зенитных снарядов, дымящиеся кометы сбитых самолетов, горящие дома, стреляющие корабли, стоящие в Финском заливе и на Неве. Это были всё этюды — осколки его памяти. В самом же Ленинграде, к которому неумолимо приближалась война, он писать не мог ничего: впечатления оказывались столь сильными, что никак не ложились ни на бумагу, ни на холсты. Тем более те считанные часы, что он провел на фронте в районе Луги, был ранен и очутился в госпитале. Когда уж там писать картины! — не до них было. А потом эвакуация. Поспешная, таящаяся от других, и даже стыдная, точно он бежал от войны, едва попробовав ее на своей шкуре.
* * *
Конечный пункт их эшелона никому не был известен, разве что начальству: то ли Свердловск, то ли Новосибирск, то ли Омск. Однажды несколько часов стояли на запасных путях какой-то небольшой станции — где-то между Кировым и Молотовым, пропуская воинские эшелоны, а может быть, в ожидании решения, куда ехать. Александр впервые выбрался из вагона, ступил на твердую землю, расставил костыли и с любопытством огляделся.
На запасных путях стояли два состава из пассажирских и товарных вагонов, идущие в одном и том же направлении — на восток. По сквозной ветке время от времени с ревом проносились воинские и санитарные эшелоны, и в этом реве могучих паровозов, слышалось не только нетерпение, но что-то вроде презрения по отношению к стоящим на путях вагонам с никому не нужными картинами и скульптурами. Иногда мелькали вагоны с заводским оборудованием, углем, цистерны с бензином и нефтью — все это было важнее картин и скульптур, художников и зодчих для страны, ведущей смертельную битву с жестоким и сильным врагом, и у Александра болезненно сжималось сердце от своей ненужности и беспомощности.
Он дошкандылял до штабеля железнодорожных шпал, уселся на него спиной к станции, аккуратно вытянув раненую ногу. Ему хотелось побыть одному, подумать. Он даже запретил Аннушке и сыну сопровождать его в этой своей первой прогулке по земле.
Перед ним открылась безбрежная даль, теряющаяся в голубоватой дымке. Бугрились не очень высокие горы, поросшие густым лесом, виднелась излучина реки, за нею рубленые дома небольшого поселка. Чуть в стороне, на возвышении, среди кустов черемухи притаилось зенитное орудие небольшого калибра, хотя поговаривали, что немецкие самолеты дальше Нижнего Новгорода еще не залетали.
Все, что лежало перед Александром и охватывалось его взором, не располагало к размышлению, завораживая своей бесконечностью и неизменностью. Человеческая жизнь казалась небольшим островком, затерявшимся среди зеленого океана, случайно образовавшаяся здесь по прихоти неведомых сил. Думать тут было не о чем, а собственная судьба ему, Возницыну, сейчас не принадлежала, была тоже во власти неведомых сил, и ничего он в ней, в своей судьбе, изменить не мог.
Рядом остановился человек лет сорока, с обветренным и загорелым лицом, красивым не правильностью своих черт, а, скорее, их законченностью, что и придавало его лицу природную мужественность. Именно такие русские лица всегда привлекали Возницына: они хорошо смотрелись на холсте, в какие бы одежды их ни наряжали, к какой бы эпохе их ни относили.
— Я вам не помешаю? — спросил человек и улыбнулся доброй, но несколько лукавой улыбкой.
— Нет, не помешаете, — улыбнулся в ответ Александр и предложил: — Садитесь, где вам будет удобнее.
Человек присел рядом. Они познакомились. Разговорились. Человека звали Сергеем Афанасьевичем Коротковым, он оказался геологом, начальником экспедиции, а в двадцатых тоже служил в кавалерии, затем учился в университете, мотался по Сибири, теперь ведет работы на Алтае. Он так красочно расписал Возницыну природу Алтая, а еще что там и рыбалка, и охота, и вообще жизнь сытнее, чем в других местах… а тишина какая, а воздух, а вода, а какая из этого вытекает польза для детей, что в другом месте ничего подобного не сыщешь. Александр машинально отметил, что такой климат более всего подходит для его младшенького, болезненного, слабенького и потому самого любимого, что доктора еще прошлой весной советовали переменить климат или хотя бы на лето вывозить в горы. Аннушка ездила в Крым, а у Александра поехать с ними не сложилось: много было работы, то готовилась персональная выставка, то еще что-то. Да и как бы он оторвался от своей мастерской, где всегда висели начатые и не законченные холсты? Что бы он делал хотя бы в том же Крыму? Писал этюды? А зачем? Крым уже и без него давно весь вдоль и поперек положен на холсты и ничего нового дать Возницыну не мог.
— Вы увидите древнюю землю и древние же народы, — с увлечением говорил Коротков, — живущие на ней уже не одну тысячу лет, познакомитесь с их культурой, обычаями, сможете все это зафиксировать на холсте, а это тем более важно, что многое из прошлого, которое еще держится в укромных уголках этой земли, постепенно уходит, стирается.
— Да как же так — взять и пересесть в другой поезд? — изумился Александр.
— А почему бы и нет? Что вас держит? Все это можно устроить вполне официально.
Действительно, а почему бы и нет? Если иметь в виду, что необходимые и желанные горы могут из мечты превратиться в реальность, если… если он плюнет на все и поедет с этим мужественным человеком. Ведь ничто не привязывает его к музею, разве что его холсты. Но холсты — это одно, а он — совсем другое, и не ему цепляться за свое прошлое. И опять же: он только что не столько думал и рассуждал о неподвластной ему судьбе, сколько чувствовал ее придавливающую, сковывающую тяжесть, и вдруг — вот она, возможность все повернуть по своему желанию!
И Александр загорелся, как это всегда с ним случалось, когда возникало что-то новое, неизведанное. К тому же ему, Александру, именно тишины и уединения в последние годы особенно не хватало. Все эти дрязги в среде художников, зависть, подсидки, доносы, групповщина, которые не прекращались и в поезде, надоели ему хуже горькой редьки. А тут каким-то образом, вдобавок ко всему, в поезде оказался его бывший друг-приятель Марк Либерман со своими друзьями, и хотя их число заметно поубавилось, зато не убавилась их нервозная активность и желание всюду совать свой нос и все решать за других. На остановках они ходили плотной кучкой, заносчиво выставив вперед подбородки, заросшие неряшливой щетиной, говорили громко, громко же смеялись, заставляя оглядываться на себя и недоуменно пожимать плечами, покупали у бабок молоко и ряженку, тут же пили, заедая пирожками с морковью и брусникой, и вообще вели себя так, точно никакой войны нет и они не бегут от нее, а находятся в творческой командировке и все должны быть им благодарны за лицезрение их оптимизма.
И это тоже причина забиться куда-нибудь подальше от этой суеты, от Марка и его друзей, но главное — быть не просто художником, а и кем-то еще, более полезным для страны в годину выпавших на ее долю испытаний, то есть ходить по горам и долам, отыскивать всякие минералы. Конечно, придется подождать, пока нога поправится окончательно, но это недолго. Итак, работать и… рисовать… между делом. А там будет видно.
В течение нескольких минут он уговорил Аннушку, оформился в геологическую партию геодезистом, рассчитался с руководством музея, которое не очень-то его и удерживало, затем перебрался в другой поезд, направляющийся в Барнаул. Оттуда предстояло добираться на местном поезде до Бийска, далее на чем придется до Ойрот-Туры. Дорога не пугала его, что до Аннушки, то она привыкла следовать во всем за мужем и смягчать достающиеся обожаемому ею Сашеньке неизбежные — в этом хаотическом его движении в поисках истины — удары. Дорога, куда бы она ни вела, оставалась для Аннушки все тем же движением к истине, которая для Саши важнее всего на свете, следовательно, и для нее тоже. Ойрот-Тура? Пусть будет Ойрот-Тура. И там живут люди, значит, и они тоже смогут жить. Тем более что для детей это особенно полезно.
Ехали от Бийска на машине, принадлежавшей геологоразведке, по так называемому Бийскому тракту. Звучит здорово, а на самом деле это обыкновенная дорога, сплошные рытвины и ухабы, которая вилась вдоль несущейся навстречу Катуни, с двух сторон теснились горы, местами они подступали к самой реке и нависали над дорогой, ездить по которой оказалось не просто тяжело, но и опасно. Зато какая дикость вокруг, какое потрясающее разнообразие красок!
Город Ойрот-Тура, расположившийся в небольшой долине среди живописных гор на берегу реки Майма, в нескольких верстах от своенравной Катуни, оказался небольшим и деревянным селом, окружившим площадь с каменной церковью, лабазами, полукирпичными, полудеревянными домами, принадлежавшими в давно прошедшие времена купцам, горнопромышленникам, знатным ссыльнопоселенцам, градоначальнику.
Устроили Возницыных в большой избе почти на окраине, хозяин которой, Федот Каллистратович Стрижевский, оказался внуком ссыльнопоселенца еще тридцатых годов прошлого века, бывшего унтер-офицера одного из взбунтовавших аракчеевских поселений. Деда его провели сквозь строй, затем заковали и отправили в сибирские рудники. Через несколько лет вышло «высочайшее прощение», и рудники были заменены поселением.
Федоту Каллистратовичу недавно стукнуло семьдесят пять, был он высок ростом, жилист, моложав, смотрел вприщур на все окружающее и ни минуты не сидел, сложа руки. Всего шесть лет назад он женился в четвертый раз, но не на русской, а на шестнадцатилетней алтайке, которая родила ему уже двух мальчиков и одну девочку, очень похожих на мать разрезом глаз и черными жесткими волосами, но всем остальным — на отца.
Изба у Стрижевского сложена из могучих лиственниц, каждая в обхват толщиной, и разделена на две половины: в одной шесть комнат, в другой четыре. Вторая половина и была отдана Возницыным. Тут уж Аннушка развернулась, показав все свои навыки, оставшиеся от прошлой деревенской жизни, и Александру, тоже ничего не позабывшему из жизни подобной же, оставалось лишь повиноваться. Часть сентября и почти весь октябрь ушли на заготовку дров, сбор грибов и ягод, квашение капусты, покупку впрок картофеля и муки. Купили двух коз, успели заготовить им траву и ветки, чтобы дети на зиму не остались без молока. Все эти заботы начинались с раннего утра, длились весь день, до захода солнца, так что Александру было не до живописи. Да он поначалу и не знал, что писать: все казалось мелким в сравнении с огромной бедой, навалившейся на страну и ее народы.
Хотя Александр продолжал числиться за геологической партией, его не трогали: и ранение еще давало знать, и в горах уже выпал снег, изыскательские работы сворачивались, геологи возвращались на базу подводить итоги, Сергей Афанасьевич Коротков, определив Возницыных на жительство, пропал и появился лишь в начале ноября, еще более обветренный и загорелый. Теперь он частенько заходил к Возницыным со своей то ли женой, то ли любовницей, но тоже геологом, женщиной мужеподобной, умной и властной. Засиживались допоздна возле пыхтящего самовара и не были друг другу в тягость.
В эту пору Возницын и начал писать сперва этюды на тему войны, затем свою первую в эвакуации картину, которую назвал «Война на пороге Ленинграда»: прожектора, зенитки, спешащие в бомбоубежище люди. Однако картина не давалась: выходило что-то механическое, иллюстративное. Отсутствовало самое важное, самое главное — Человек. Обилие людей на полотне Человека не замещало. И Возницын с тоской думал о том, что зря он согласился уехать из Питера. Правда, Ленинград оказался окруженным фашистами, там, поговаривают, голод, нет электричества, воды, тепла. Но люди как-то живут и воюют, прожили бы и они. И он бы воевал тоже, и не было бы тех мучительных поисков натуры, которую он лишен видеть, с которой не пережил всего того, что переживает сейчас город, армия и ленинградцы. У него нет даже права писать о войне — вот чем обернулась его уступчивость, а участие, считай, в единственном бою, конечно же, не в счет.
Глава 19
Александру снилась ночь в ленинградской квартире, Аннушка, собирающая детей в бомбоубежище, ее испуганные глаза, и он сам, почему-то глядящий на нее со стороны, прикованный к постели. Действительно, в конце июля он прихворнул, его отпустили из формирующегося ополченческого батальона на четыре дня, ему ужасно не хотелось вставать, но… но настойчиво хрипел репродуктор, призывая граждан торопиться в бомбоубежище, и Аннушка заставила-таки его подняться, пообещав, что если он не встанет, она возьмет его на руки и понесет.
Но то было наяву. Во сне же Аннушка не замечала его, остающегося в постели, все ее внимание было сосредоточено на детях, он даже решил, что она просто-напросто его не видит, забыла о нем, и надо как-то дать знать, что он здесь, а тело почему-то не слушается, язык отнялся, и вот они уже в дверях, вот уже за порогом, хлопнула дверь, ужас объял Александра — и он проснулся.
Он проснулся, все еще оставаясь в потустороннем ужасе, все еще переживая увиденный сон, чувствуя лишь, как сильными толчками бьется его сердце. Но комнату окутывали такая непроницаемая тьма и такая неподвижная и густая тишина, в которую не проникал ни единый звук, что он постепенно пришел в себя и успокоился.
Тут же проснулась и Аннушка: она всегда просыпалась вслед за ним, но не сразу, а как бы выждав какое-то время.
— Ты почему не спишь? — спросила она шепотом, и положила ему на плечо свою голову.
— Так, сон приснился… дурной какой-то.
— Спи, все будет хорошо.
— Я знаю, — произнес он с облегчением: в это мгновение он понял, какую картину будет писать.
И на другой же день стал писать Аннушку, прижимающую к себе детей, со страхом глядящую в темное окно, заклеенное крест-накрест бумажными лентами, в котором светились прожектора. Так оно и было на самом деле, следовательно, это и есть правда о войне. Не вся, конечно, но весьма существенная ее часть. А вслед за тем наступило прозрение: он ясно увидел ту картину боя, в которой, как казалось ему, он ничего не разглядел: бегущих вслед за танками и бронетранспортерами немецких солдат, и кто во что одет, и какие в руках винтовки и автоматы, и сами танки и бронетранспортеры, и своих соседей по окопу, и даже самого себя, прикипевшего к рукояткам станкового пулемета «максим», и хмурое небо над головой, и дальнее пожарище, — все до мельчайших подробностей. Даже божью коровку, ползущую по рукаву его гимнастерки, и слезинку, застрявшую в глазу убитого пятидесятилетнего Семена Архиповича Курцова, механика из трамвайного депо. Встала перед глазами картина, как хоронили погибших в коротком промежутке между двумя боями, и много еще такого, на что он тогда не обратил внимания, но что и было самой настоящей войной…
Весной сорок второго года Александр ушел в экспедицию. Конечно, не геодезистом, поскольку в геодезии совершенно не разбирался, а простым рабочим. Он сам настоял на этом, и Сергей Афанасьевич Коротков сдался. И до глубокой осени Возницын ходил вместе с партией по горам и долинам рек, закладывал шурфы, собирал образцы пород, таскал на спине тяжеленные рюкзаки, варил кашу, глушил аммоналом рыбу, охотился на оленей и диких коз, но не потому, что так ему хотелось, а исключительно потому, что люди должны питаться, а питаться можно было лишь тем, что удавалось раздобыть в этих горах, где можно идти сутки и двое, и не встретить ни единой души. Помимо своей основной работы, Возницын писал пастелью портреты геологов, делал зарисовки гор и речных долин, надеясь со временем все это перенести на холст, потому что только написанное маслом считал действительным художеством, а все остальное не более чем развлечением или, в лучшем случае, подготовкой к главной работе.
И всю зиму с сорок второго на сорок третий год трудился над картинами: из жизни геологов, алтайцев-кочевников, кое-что из воспоминаний о войне, а потом увлекся пейзажем и уже ничего, кроме пейзажей, не писал. И в экспедицию больше не ходил: Коротков сказал, что это не его дело, а его дело рисовать — вот пусть и рисует. На этот раз Александр даже не пытался возражать: так он соскучился по работе — по настоящей и большой работе, столько разнообразнейших тем теснилось у него в голове.
Летом сорок третьего Александр вместе со всей семьей перебрался в горы. Помог секретарь райкома партии: выделил двух лошадей, телегу, подарил войлочную юрту. Загорелся вдруг поехать в горы и Федор Каллистратович:
— Нет-нет, одних я вас не отпущу! — махал он руками. — Одни вы пропадете. Горы — это вам не хухры-мухры, это, батенька мой, штука весьма серьезная и требует к себе серьезного же отношения. Почтения требует, а не просто так.
— Да я ведь прошлое лето… — пробовал защищаться Александр, понимая в то же время, что в компании с бывалым Стрижевским будет и веселее и спокойнее.
— А что вы станете делать, если зарядят дожди? Куда денетесь? В горах дожди — это потоки воды, обвалы, сель. Надо уметь выбирать место, надо уметь предсказывать погоду.
— А как же огород? — по инерции не сдавался Александр.
— А чего с ним поделается? Все, что надо, посажено, иногда буду набегать, давать направление росту, и что вырастет то и вырастет.
Так двумя семьями и отправились. Вместе с козами.
Ребятишки за лето окрепли, в них появилась самостоятельность, практичность: игры играми, а заботы общие, хотя и разные. И младшенький, Ванюшка, тоже окреп за лето, не простужался от каждого дуновения ветра, во всем тянулся за братьями.
И в это лето поехали тоже. И опять двумя семьями. Только коз стало побольше втрое. Во-он они пасутся на покатом склоне горы, привязанные к колышкам. А неподалеку две юрты, возле которых виднеются фигурки женщин, дымок от костра тянется вверх тоненькой струйкой, ребятишки бегают друг за другом, за ними щенок, две сибирские лайки лежат в стороне, третья — у ног Александра, младшие ребятишки копошатся на войлочной кошме — первобытное стойбище, да и только… Надо будет написать большое полотно, хотя… хотя вряд ли такая картина будет с восторгом встречена критиками, которые… Да ну их всех к черту! Он даже не станет выставлять эти картины. Пусть висят дома, пусть дети вспоминают годы, проведенные в глуши. Ведь это тоже война — ее отражение в судьбах людей, оказавшихся вдали от родных мест: не по своей же воле они там оказались…
Александр сложил этюдник, закинул его за спину, стал спускаться к стойбищу.
Быстро темнело, огонек возле юрт светился все ярче, старшие ребятишки, отвязав коз, вели их в загон. В звонкой тишине слышались задорные крики, блеяние коз и перезвон колокольчиков, висящих на их шеях. Высоко в небе все еще кружил орел, высматривая добычу… Так было здесь десятки, если не сотни тысяч лет, и Александр, остановившись, вдруг всем телом своим почувствовал эту бездонную глубину времени, и не только прошедшего, но и предстоящего. И все муки людей, войны, раздоры, вся суета эта, называемая жизнью, так скоротечна и ничтожна — зачем все это? Зачем? Разве нельзя жить по-другому? Почему и откуда, а главное — зачем появляются на свете люди, которые все хотят переделать по-своему, которым всего мало? И миллионы людей начинают думать, что им тоже чего-то не хватает, что им тоже хочется все переделать, — и тогда поднимается злоба и ненависть и наступает слепота. А когда этот угар проходит, когда пролиты реки крови и слез, большинство начинает оглядываться и жалеть о спокойном и безмятежном прошлом, и поражаться, как это они, здравомыслящие и практичные, поддались общему психозу и пошли за теми и туда, куда и за кем идти было верхом безрассудства.
Александр встряхнул головой, освобождаясь от докучливых мыслей. Раньше подобные мысли в голову ему не приходили. Тут, видать, все дело в самой природе, которая оказывает такое потрясающее влияние на человека, заставляя задумываться о вечном и неизменном. Но неизменном ли? Вечность тоже изменчива, но понять это вряд ли возможно: так коротка человеческая жизнь.
И все-таки жизнь — это здорово! А как хорошо здесь, как покойно! Горы, небо, солнце, вода… Что еще? Еще — он сам, средоточие вселенной и времени: все во мне и от меня во все стороны… Я есть — и все есть, все через меня. Но не отсюда ли начинаются все беды человеческие? Не с того ли порога, когда человек, оглянувшись и не найдя никого, кроме самого себя, вдруг почувствует себя же центром мироздания? А что же тогда центр? Бог? Но бог, скорее всего, есть способ самоустранения и разделения ответственности, когда большая часть ее отдается существу, которого нет, но без которого не обойтись в попытках объяснить все непонятное, что человека окружает. Страх перед непонятным, перед ответственностью — вот что такое бог для большинства человечества. Эксплуатация страха — это тоже бог, но со стороны меньшинства. Замкнутый круг. Но так, видимо, и должно быть. И ни в коем случае не разрывать этого круга. Пусть одни верят в одно, другие в другое, а обязанность художника — объяснить это и тем и другим простым и понятным языком красок. Правда, это как-то не стыкуется с марксизмом-ленинизмом, но он, Александр, никогда не был силен в марксизме-ленинизме, взяв из него лишь главное: все люди имеют право на счастье и ни один человек не должен унижать другого.
Но что он скажет тем, которые воевали? Чем оправдает свое безбедное и малополезное существование? Только одним: он должен работать и работать, писать картины, и такие, чтобы перед ними стояли подолгу, не отрывая глаз, и видели в них что-то свое и нечто общее. Иначе не будет ему ни оправдания, ни прощения.
— Са-ша-ааа! — донесся до него со стороны стойбища голос Аннушки.
Голос ее повторился несколько раз восторженными голосами детей, затем уже самими горами, шарахаясь от одной горы к другой, и в конце концов утонул в глубине ущелья.
Александр помахал рукой и продолжил спуск, уже ни о чем не думая.
Глава 20
Вернулась из ближайшего поселка жена Федора Каллистратовича, которую все звали Катей, хотя настоящее ее имя Хатун. Она ловко соскочила с лошади, привязала ее к колышку, сняла с нее сумку. Все стояли рядом и смотрели, как она ее развязывает, достает оттуда печеный хлеб, газеты, письма.
Одно из писем было от приятеля Александра скульптора Николая Клокотова, из Ленинграда, с кем он вместе вступил в ополчение и принял свое первое боевое крещение.
«Только недавно стало мне известно от вернувшихся из эвакуации, где ты обретаешься, — писал Клокотов. — Эк тебя занесло куда — похлеще Тмутаракани будет! Но я рад, что ты жив-здоров, надеюсь, и семья твоя тоже. А вот я свою не уберег: померли от голода. Да что ж теперь — не у меня одного такая судьба. После твоего ранения мы почти месяц не выходили из боя, но бог — или еще кто — меня миловал: ни единой царапины, хотя от первоначального состава батальона осталось меньше половины. Ранило и Николая Мостицкого — ты должен его помнить. Кстати, от него недавно получил письмо: воюет, дослужился до капитана, командует саперным батальоном на Втором Белорусском. Знай наших лепил! Хочет остаться в армии, если не помешают старые раны. Но это сейчас. А тогда, если ты знаешь, вышел указ, чтобы всех, кто имеет высшее техническое образование или является студентом технического же института, от воинской службы освободили. Я тоже подпадал под эту категорию, но уходить из армии отказался. А большинство воспользовались этим указом. Мы их прозвали дезертирами на законных основаниях — ДЗО! Это тот случай, когда всем понятная целесообразность вызывает внутренний протест: окопная психология. Только не принимай эти мои рассуждения на свой счет… Нас, оставшихся, потом влили в регулярную воинскую часть, меня назначили командиром взвода, командовал, как мог. С ноября 41-го и до апреля 42-го воевал на Пулковских высотах, немец тут особенно злобствовал, иногда все держалось на волоске, но мы выстояли. Впрочем, об этом писали в газетах. Потом нас перебросили под Шлиссельбург, а в октябре сорок второго — под Выборг, против финнов. Там война почти не велась: так, постреливали иногда друг в друга. Финны не очень-то рвались в драку, ждали, чем все кончится. Чем кончилось, ты знаешь. К январю 44-го я уже командовал батальоном. Во время прорыва блокады пришлось поднимать залегший под огнем батальон, тут меня и ранило в грудь, пуля прошла рядом с сердцем, врачи вытащили с того света. Комиссовали по полной. Вернулся в свою мастерскую, пробую лепить, но руки — точно чужие: с трудом возвращаются навыки. Особенно тяжело с левой: потерял два пальца. Мыслями все там, со своим батальоном. Пробую писать маслом, но получается и того хуже.
Недавно побывал по месту твоего жительства. Дом ваш стоит, как и прежде, лишь одна стена его несколько повреждена. А дом напротив разбило в дребезги. Видать, в него попала бомба большого калибра. В городе много пустующей жилплощади, однако она быстро заполняется пришлым народом, к Ленинграду до этого никакого отношения не имеющим. Вернулись твои бывшие „дружки“: Марк и все прочие. Развили бурную деятельность, ходят этакими гоголями, командуют, хотя непонятно, кто их назначал или выбирал. Городские власти, как мне показалось, к ним относятся не слишком благожелательно. Впрочем, они не унывают.
Всего в письме, милый мой Саша, не расскажешь. Вернешься — поговорим. Но спешить с возвращением не советую. Пусть все уляжется и утрясется. Надеюсь, ты не сидишь, сложа руки, ты всегда был трудягой, а таким натурам лень и праздность не свойственны. Пиши картины. Пиши много и как ты это умеешь: с размахом, с тонким проникновением в человеческую сущность. Остальное приложится. Кланяйся своей очаровательной Аннушке. Надеюсь, она и дети ваши здоровы. Чиркни пару строк: при обилии народа вокруг совершенно не с кем перемолвиться словом. Ну, да ты знаешь…
Твой Лепа. Ленинград, 1 августа 1944 года».
Александр улыбнулся: Лепа — это от лепить. Так он дразнил своего приятеля, когда он слишком увлекался несбыточными прожектами. Как хорошо, что он выжил.
Было еще письмо — от матери.
«Дорогой мой сыночек Сашенька, здравствуй.
Спешу сообщить тебе, что письмо твое получила, в котором ты пишешь, что все вы, слава Богу, живы-здоровы, того ж и нам желаете. А посему кланяется тебя твоя родная мать Глафира Даниловна. И я, слава Богу, жива и здорова, чего и вам всем желаю от всего сердца. Правда, ноги прибаливают и глаза плохо видят, но это уж как Господу Богу угодно, а мы как-нибудь проживем и так.
После того, как немец стал отступать, нас тоже погнал в отступ и гнал аж до самого Днепра, а там бросил, потому что наши дорогу ему заступили, и сильное сражение было промеж них в том месте, самолеты бомбили и пушки палили — просто страсть Божья. Помыкались мы ужасно на чужой стороне. Родитель твой слег и помер, царствие ему небесное, от воспаления легких, а врачей никаких не было и помочь ничем не смогли. И многие из нашего села тоже упокоились в чужой земле, так и не увидев родного порога. Мы в том краю, почитай, с полгода мыкались, потому что зима и никакой возможности назад вернуться не имели, но люди там хорошие, белорусами прозываются, язык у них чудной, сами из куля в рогожку, но и нам, горемычным, помогали, чем Бог послал. Чтобы не пропасть с голоду, работали на железке, клали шпалы и рельсы, чтобы по ним войски наши красные могли ехать и бить этих фашистов, чтоб Господь навел на них порчу и всякие напасти. А весной, как все стаяло и дороги просохли, мы с Анастасией Дерюжкиной, что проживала на другом конце села и работала на ферме, пошли вдвоем назад, как те странницы-богомолки, испрашивая у честных людей куска хлеба и ночлега над головой. И дошли-таки до родного порога, а только все пожег проклятый фашист, и ничего от нашего села не осталось, одни головешки да трубы.
Повыли мы с ней, повыли, как две волчицы в темную ночь, а потом заняли немецкий блиндаж, в котором они от бомбов и снарядов прятались, прибрались там и живем теперь помаленьку, растим овощ кой-какую на будущее пропитание, потому колхоза еще нету, людей нету и никого нету, акромя председателя, который есть Никита Коромыслов, он постарше тебя будет, и без правой руки.
А недавно я, дорогой мой сыночек, получила письмо от твоего родного брата Алексея. Пишет он из госпиталя, где ему отрезали пораненную ногу. Уж так жалко его, так жалко, что и сказать не могу, а все плачу и плачу и молю Господа, чтоб дал он ему просветление ума, потому что пишет он, непутевый, что жить ему не хочется и все прочее, поскольку жена его, Аграфена, с немцами путалась и себя не блюла. Да и то сказать: жизня такая под немцем была страшная, а у ей четверо на руках, тут не только что путаться, а чего пострашнее себе допущение сделаешь, лишь бы детей от голодной смерти избавить. И случился какой-то гад в их селе, который все Алексею прописал, а я ее, Аграфену-то, не виню, а Домну Игнатишну Загнеткину, бывшего партийного секретаря нашего, очень даже виню, поскольку она и на себя руки наложила, и на детей своих малолетних тоже, закрыв на ночь вьюшку и уморив всех угарным газом.
А за деньги, которые ты мне прислал, дорогой мой сыночек, спасибо и низкий тебе поклон, я их все до копеечки отдала Аграфене, чтобы она детей своих, внуков моих, содержать могла, а других возможностев у нее нету, а мне надо совсем немного, и уж помирать пора.
А про Николая, младшего брата твоего, так никаких известиев и нету, жив ли он или еще что. И жена его, проживающая, как тебе известно, в городе Казани, ничего о себе не пишет, что она там и как со своими детьми проживают, но я Бога молю, чтоб у нее все хорошо было. А от Устеньки, сестры твоей, письмо получила. Устенька служит в армии на радио, пишет, что от фронта располагается далеко, что наградили ее орденом и медалью, и что жизнью своей довольна и не ропщет. А дядя твой, Игнат Плугатарев, был из тюрьмы освобожденный и помилованный от властей, воевал и теперь, пораненный, вернулся в свою МТС и снова там директором, как и до войны. Но тракторов пока нету, одни лошади, да и тех кот наплакал. А про других ничего не знаю.
Затем остаюсь в благодарении Господу нашему, чего и вам всем желаю, твоя родная мать Глафира Даниловна, село Твердохлебово. А писала тебе по причине моей малограмотности Анастасия Дерюжкина. Она тоже вам всем кланяется и желает здравствовать».
Александр читал письмо матери в стороне от всех, строчки то и дело расплывались, и он подолгу, задрав голову, смотрел вверх, на редкую рябь облаков, унимая непрошенные слезы. Он-то думал, что это у него одного так все сложилось нескладно, а оно вон как: была когда-то в Твердохлебово большая семья Возницыных, и другие семьи с такой же фамилией, а не осталось от села и его жителей почти ничего. Но более всего Александра потрясло известие о судьбе старшего брата Алексея и его семьи. Как бы он, Александр, поступил на его месте, случись с ним подобное же? И не находил на этот вопрос ответа, имея в виду свою Аннушку.
И в воображении его рисовалась картина: на пороге избы молодая женщина в ночной рубашке с распущенными волосами. В руках у женщины керосиновая лампа, ярко освещающая ее осунувшееся лицо. Чуть сбоку, в полутьме, виднеется самодовольная физиономия немца. На заднем плане спящие вповалку дети, угол стола, на нем буханка хлеба, кусок сала, какие-то кульки, тарелки, стаканы, початая бутылка шнапса. Что чувствовала эта женщина? Какой могучий инстинкт материнства должен властвовать над ее сознанием, чтобы решиться на такое?
А Аннушка его… она бы смогла?
Александр торопливо закурил, присев на замшелый камень: ноги не держали, неровными толчками билось сердце.
Было коротенькое письмо и для Аннушки от ее сестры Фроси. Та писала, что деревню их война пощадила, но почти все мужики сгинули: кто в армии, кто в партизанах, остались почти одни бабы, старики да подростки, пашут на себе, живут впроголодь, на отрубях, жмыхе и осиновой коре.
«Нет, надо возвращаться, — думал Александр. — Хватит писать пейзажи, когда там, на родине, у людей такое горе. Ты должен это горе с ними разделить, иначе как художник ты превратишься в бесчувственное существо, способное лишь на никому ненужную мазню».
Но скорого возвращения не получилось: Аннушка впервые воспротивилась решению своего мужа, потому что ехать неизвестно куда, да еще на зиму глядя, а троим детишкам идти в школу, Николаше — в первый класс, что последнюю зиму они здесь, а весной уж в Ленинград, как только закончатся занятия в школе. А если он не может, если так невтерпеж, то пусть едет один, обживется там, все приготовит к их приезду… И вообще, может, и не надо в Ленинград-то, раз Иванушке тамошний климат не подходит? Вон он какой розовощекенький да крепенький, а вдруг там все начнется сызнова? Что тогда?
И Александр сдался. Что ж, может быть, Аннушка и права. Да и Николай Клокотов не советовал спешить, а он мужик рассудительный. Но на сердце смутно, и нет уверенности, что поступает верно.
Потом, уже в юрте, письма читал Петя, читал с выражением, а все сидели и слушали. И плакали молча, не стыдясь своих слез.
Глава 21
Александр проснулся и понял, что не сможет заснуть. Накинув на себя меховую куртку, он выбрался из юрты, сел на чурбак возле потухшего костра, закурил.
В загоне шумно вздыхали козы, поскуливала во сне собака. Старый кобель по кличке Варнак, неслышно вылепился из темноты, подошел и положил свою лохматую голову Александру на колени.
На небе, усеянном звездами, ярко светился Млечный путь. Смутно вырисовывались изломанные хребтовины гор. В лесу ухал и хохотал горный филин, точно нашел что-то до невозможности смешное и никак не может успокоиться. Издалека доносились то вопли рыси, то рев оленей-рогачей, сзывающих друг друга на поединок. Звенела и булькала в ручье вода.
Варнак поднял голову, пошевелил ушами. Из соседней юрты кто-то вышел, затем послышались приближающиеся шаги, и по ним Александр узнал Федора Каллистратовича. Тот приблизился, сел на другой чурбак, шумно выдохнул воздух.
— Не спится, — произнес он будто самому себе. И добавил: — Душа обеспокоена. — Затем разгреб угольки, сунул в них пук сухой травы, подул, вспыхнуло пламя, затрещали ветки, занялись поленья, красноватые языки огня отодвинули тьму, сделали ее непроницаемо-черной, пугающей. Лишь смутно белели юрты, да небо все так же равнодушно смотрело вниз мириадами звезд, перемаргивающихся друг с другом.
— И что мне, казалось бы, до тех людей, которые писали вам письма? — изумился в тишине голос Федора Каллистратовича. — А вот, подишь ты, душа откликается на чужое горе, болит. Душа, брат ты мой, это творение надмирное, она от света этих звезд, от плоти этих гор, воды, ветра, — мерно, как ручеек по камушкам текла складная речь, и казалось Александру, что рождается она не в Федоре Каллистратовиче, а как бы складывается из звуков, наполняющих эту будто бы мирную ночь, однако отражающих невидимую борьбу, не затихающую ни на минуту и в нем самом. Голос все тек и тек, и хотя похожие слова много раз в том или ином виде произносились разными людьми, пытавшимися что-то доказать Александру, в чем-то его убедить, однако лишь здесь они освободились от всякой накипи, приобрели изначальный смысл, изумляя своей неповторимой естественностью. — Не всяк человек, получив душу, умеет наполнить ее живительной силой естества, — продолжало звучать в ночи. — Иной поганит ее всякими мерзостями, тащит в нее все, что ни попадя, всякую грязь, а скажи ему про то, как оно есть на самом деле, за нож схватится, потому что не сам владеет своей душой, а дьявол ею владеет, и козни свои на остальных простирает, чтобы и у них душу испоганить и взять в свои грязные руки. Трудное это дело — душу свою сохранить от всяких соблазнов, не испачкать в грязи, которая, куда ни вступи, везде найдется. Далеко не всякий иную грязь различить может и отряхнуть ее, если она ненароком пристанет к телу. А к телу пристала, тут уж и до души недалече. Так-то вот наши предки рассуждали по этому поводу. И нам велели такое же рассуждение иметь и не давать всякой погани себя низринуть в бездну поганую. Иному — встречал я таких! — серный дух слаще запаха ночной фиалки или цветка шиповника, который и душу лечит и тело врачует…
На эти слова не нужно было отвечать, в них не нужно было вслушиваться, их не нужно было зазубривать. Они вливались в душу Александру целительным бальзамом, перекликаясь с теми мыслями, что волновали его последнее время от томительного желания что-то понять или хотя бы уловить из окружающей его природы. Что с того, что он вооружен последними знаниями об этом мире! Знания знаниями, но наверняка точно так же и его далекий предок, с восторгом и благоговением взирал на это великолепие, не имея ни рассудочности, ни воображения, чтобы понять, откуда все это и для чего. Может, мысли эти от праздности, оторванности от остального мира? Вряд ли подобное приходит в голову кому-то из тех, кто только что вышел из боя или прижался к стенке окопа в ожидании сигнала к атаке. Да и ему самому подобные мысли в Ленинграде не приходили. Может, еще и потому, что и небо там другое, и глазу зацепиться не за что.
С другой стороны, что с того, что эти мысли приходят ему в голову? Становится ли он от этого чище, мудрее? Наконец, сумеет ли передать эти мысли и чувства другим посредством красок? Тем более что все это было с разными людьми в разных концах света. Но разве стал мир от этих мыслей и слов лучше и чище? Разве стали от этого лучше сами люди? Одно утешает, что без подобных мыслей и чувств мир стал бы еще хуже, а люди жесточе и бесчувственнее.
Потрескивали поленья, шипел и посвистывал пар, вырывающийся из их комлей, с большой высоты падали вниз клики летящих птиц, вызывая в душе щемящую тревогу.
— Гуси на юг полетели, — прозвучал в наступившей тишине удивительно молодой голос Федора Каллистратовича. — Скоро и нам пора домой, а то зарядят дожди — не выберешься.
Где-то с громким треском и шумом упало старое дерево. Горы испуганным вздохом повторили эти звуки. Варнак поднял голову, навострив уши, зарычал. Затем снова опустил ее на колени Александру.
Над дальними хребтами падающий отвесно ультрамариновый свод неба подернулся густой накипью индиго, затушевавший звездную россыпь. Александр почувствовал, что ужасно хочет спать, что мысли путаются, а душу, как ни странно, окутало тихое умиротворение.
Через неделю вернулись в Ойрот-Туру. Копали картошку, готовились к зиме. Дети пошли в школу. В угловой комнате, имевшей два окна, стоял станок, на нем большой холст с легкими набросками карандашом: сгоревшая деревня и две женщины на краю пепелища. Делая эти наброски, Александр пытался представить свою мать после всего, ею пережитого, и никак не мог: представлялась совсем другая женщина, на мать, какой он ее запомнил, совсем не похожая. Впрочем, это не так уж и важно, на кого похожи эти женщины. Важно, что они возвратились домой, а дома нет, деревни нет, торчат одни лишь кирпичные трубы над черными приземистыми печами, остатки изгородей, обгорелая береза, когда-то посаженная еще его, Александра, прадедом.
Он подолгу смотрел на этот свой карандашный набросок и все никак не решался взяться за кисти. Не хватало чего-то еще, что свидетельствовало бы, скажем, не о временах батыевых, а о времени нынешнем. Просился на холст немецкий танк или что-нибудь другое, но тогда картина требовала совсем другой композиции, а та, другая композиция, ему никак не давалась. Да и танк не хотелось, потому что наверняка такой простой ход уже кем-то использовался. Надо что-то более сильное, хотя и не сразу бросающееся в глаза. Конечно, облик женщин, но не только это.
Тогда Александр добавил к женщинам ребенка лет десяти. Потом к остаткам забора пририсовал остаток же ворот, а на нем покосившуюся табличку: «ул. Сосновая, 10». И по-немецки тоже самое. Именно так называлась улица в его родном селе, и таким был номер его родного дома.
И лишь после этого взялся за кисти, уверенный, что другие подробности придут во время работы. Да и не интересно продумывать картину во всех ее подробностях.
Глава 22
Сталин ходил по кабинету, иногда останавливаясь возле висящей на стене карты Европы, утыканной разноцветными флажками, обозначающими советские и немецкие войска, составляющие две изломанные линии, слушал сообщение наркома внутренних дел Берия о работе своего ведомства.
Заглянул Поскребышев, произнес:
— Жуков на проводе, товарищ Сталин.
Берия замолчал, глядя на Сталина.
Тот не спеша подошел к столу, снял трубку.
Жуков докладывал о положении на 1-ом и 2-ом Белорусских фронтах, действия которых маршал координирует в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования Красной армии. Доклад Жукова лишний раз подтвердил, что войска устали, находятся на пределе сил, ощущается нехватка боеприпасов, горючего, продовольствия; попытка захватить предместье Варшавы Прагу не увенчалась успехом, на захваченных плацдармах на левом берегу Вислы идут ожесточенные бои за их удержание и расширение, для усиления войск на плацдармах приходится снимать части откуда только можно, резервы исчерпаны, необходимо переходить к обороне.
И уж совсем неожиданное:
— У нас в тылу, товарищ Сталин, все более активизируются банды украинских националистов, отдельные подразделения польской армии крайовой. Они нарушают проводную связь, убивают делегатов связи, нападают на отдельных командиров и красноармейцев, ведут разведку в пользу немцев, совершают диверсии, агитируют польское население бойкотировать распоряжения военных комендатур и даже оказывать им вооруженное сопротивление. Дело дошло до того, что одно из воинских подразделений Войска польского в количестве полутора тысяч человек взбунтовалось, перебило советских офицеров, перешло на сторону армии крайовой, ушло в леса. Мы не в состоянии предотвратить эти явления силами одних комендатур, а Смерш и представители НКВД не проявляют должной активности в борьбе с ними. Прошу вас, товарищ Сталин, разобраться в этом вопросе.
— Хорошо, мы разберемся, — сказал Сталин, выслушав маршала. И, посмотрев на Берию, заговорил ворчливым тоном:
— Вот ты говоришь, что у тебя все хорошо, а Жюков жалуется, что в тылу наших войск распоясались бандитские, диверсионные и разведывательные группы. Они своими действиями ставят под угрозу не только секретность наших планов, но и снабжение войск всем необходимым. Дело дошло до того, что в районе Люблина диверсантами уничтожено более трехсот вагонов с бомбами и снарядами, погибло много людей…
— Жуков преувеличивает опасность этих групп, товарищ Сталин, — с ноткой обиды произнес Берия. — Да, они существуют, внутренние войска ведут с ними активную борьбу, но немцы оставили в нашем тылу такое количество своей агентуры, что мы просто не в состоянии уничтожить ее одним махом… К тому же это работа Смерша — выявлять вражескую агентуру…
Берия выдержал паузу, ожидая от Сталина реакции на свои слова, но Сталин молчал, и тогда он, открыв папку, стал перечислять, с какими трудностями сталкиваются войска НКВД в борьбе с националистическими формированиями на Украине, в Прибалтике и в Польше.
— И все-таки, — заметил Сталин, выслушав Берию, — НКВД обязано более решительно бороться со всем этим отребьем. Тут нечего миндальничать. Война есть война. Надо думать прежде всего о своих солдатах, а не о том, как воспримут на Западе наши действия по борьбе с немецкими пособниками. Закрыть утечку любой информации из районов, где проводятся карательные операции, население поставить в известность о том, что всякое содействие бандитам будет караться по законам военного времени.
Сталин замолчал, перебирая на столе какие-то бумаги. Нашел нужную, заговорил сердито, повернувшись к Берии лицом:
— На Западе снова поднимают шум по поводу обнаруженных еще немцами захоронений в Катыни. Ты что, не можешь решить эту проблему без моей подсказки? Надо все сделать так, чтобы комиссия, которую мы вынуждены туда послать, обнаружила следы не НКВД, а гестапо. Нам совсем ни к чему сегодня лишний раз раздражать наших союзников этой проблемой. Они там из мухи готовы раздуть слона. И это не случайно… Далеко не случайно, если иметь в виду близкое окончание войны. Нам эти польские дела и так дорого стоили. Рузвельт хочет, чтобы мы рассматривали эмигрантское правительство Миколайчика наравне с Польским национальным комитетом во главе с Моравским и Берутом. Но мы-то знаем, что такое эмигрантское правительство Польши и как оно относится к СССР. Катынское дело их конек. При этом имей в виду, что никто из них не ставит Франции и Англии в вину полное бездействие, когда Гитлер вторгся в Польшу, хотя между ними был заключен договор о взаимопомощи. Это англичане и французы предоставили Гитлеру возможность разгромить польскую армию, разрушить многие города, уничтожить десятки и сотни тысяч гражданского населения. В том числе и евреев. По сравнению с этими жертвами расстрел враждебно относящихся к нам польских офицеров, жандармов и чиновников, сущая безделица. Твое ведомство должно вести среди поляков соответствующую разъяснительную работу. Иначе эти катынцы заслонят все остальное.
— Первые результаты работы комиссии, — заговорил Берия, — выявили множество фактов, что рядом с нашими катынцами немцы устраивали погребения своих, в размерах значительно больших. Они выдали и тех и других за наших и раструбили о зверствах большевиков на весь мир. Однако, как докладывает председатель комиссии, отличить одних от других не так-то просто. Для этого необходимо производить дорогостоящие и длительные экспертизы по каждому отдельному случаю. При этом немцы снабдили многих расстрелянных польских граждан после сорок первого года документами года сорокового. Комиссия продолжает работать… Может быть, поднять вопрос о наших красноармейцах, взятых поляками в плен в двадцатом году? — неуверенно предложил Берия. — Они тогда уничтожили наших людей вдесятеро больше, и никто по этому поводу на Западе не протестовал.
— У тебя, что, Лаврентий, мозги протухли? Нам нужна Польша дружественная, а не враждебная. Долги надо было спрашивать раньше. А теперь поздно и вредно. Хватит и того, что Россия с Польшей всю свою историю враждовали. Пора положить конец этой вражде. Поднять вопрос… — Сталин усмехнулся, искоса посмотрел на Берию. — Вопрос поднят давно и продолжает висеть. Надо все сделать для того, чтобы его опустить и похоронить раз и навсегда. Срок тебе — месяц. И чтобы я больше не слышал об этой Катыни. Нынче нужно другие вопросы решать. Например, по поводу атомного проекта. Что там у нас на сегодняшний день?
— По данным нашей агентуры в американской секретной лаборатории Лос-Аламос приступили к практическому конструированию атомной бомбы. По предварительным наметкам, это займет не менее года. Мы постоянно получаем исчерпывающую информацию о последних достижениях американских ученых. Некоторые ученые сами заинтересованы в том, чтобы Америка не стала безраздельным обладателем атомного оружия.
— Что делается у нас?
— Курчатов и его люди работают в том же направлении. Мы создали им все условия для жизни и работы. В частности, они сами и их семьи полностью обеспечены наркомовскими пайками, особым медицинским обслуживанием, квартирами и дачами. Мы по первому же их требованию стараемся обеспечить эту работу всеми возможными материальными и техническими средствами. В том числе подробной информацией о работе американских ученых в этом направлении, которые…
— Все это мне известно, — перебил Сталин наркома. Спросил: — Что твои агенты? Когда ждешь их из Америки?
— Если ты имеешь в виду Фефера и Михоэлса, то они должны вернуться в конце этого года. По тем сведениям, что мы имеем, они провели соответствующую разъяснительную работу среди американских евреев для внедрения в их сознание благоприятного образа советской власти, как защитницы и благодетельницы по отношению к советским евреям. Насколько нам известно, это оказало положительное влияние на американских евреев-атомщиков. Тем более что действительное положение евреев в СССР не только не хуже остальных народов, но во многих отношениях лучше… с учетом военного времени, разумеется. Как сообщают наши агенты, американские евреи приняли с восторгом сообщение и о том, что мы будто бы собираемся после войны отдать евреям Крым для создания еврейской автономии на правах союзной республики…
Сталин поморщился, перебил Берию:
— Но раскошеливаться на это дело Рокфеллеры и Морганы пока не спешат. Крым им подавай! А остров Врангеля не хотят? Вспомни, как была встречена в партии подобная идея еще в начале двадцатых. Нам новые разногласия в партии не нужны. С наших евреев и автономии на Амуре более чем достаточно. Пусть едут туда и работают… — Заметив, как Берия передернул плечами, Сталин несколько отступил назад: — Впрочем, этот вопрос закрывать окончательно еще рано: не до того. Посмотрим, к какому выводу придут американские евреи-толстосумы, сколько выложат нам на реализацию Крымской республики. И на каких условиях. Нам предстоит поднимать страну из руин. Для этого лишние доллары не помешают. Так что этот вопрос пусть пока повисит, — и Сталин, проведя в воздухе дымящей трубкой круг, пошел к двери, и дымный круг потянулся за ним, теряя свои очертания. Вернувшись от двери, он остановился напротив Берии, спросил: — А что нам известно о достижениях немцев в атомной области?
— Очень мало, если не считать того, что Геббельс давно грозится применением какого-то сверхсекретного оружия, которое повернет весь ход войны в пользу Германии. Не исключено, что он имеет в виду именно атомное оружие. И, разумеется, они над этой проблемой работают. Но каковы их достижения, нам не известно. Как, впрочем, и американцам тоже.
— Тот факт, что немцы разрабатывали урановые месторождения в Болгарии и Чехословакии, безусловно подтверждает это предположение, — заметил Сталин. — Теперь нам самим надо прочно оседлать эти месторождения. С Димитровым есть на этот счет полное взаимопонимание. Ты, Лаврентий, должен взять эти месторождения под свой контроль, обеспечить советскими учеными и техниками и такой охраной, чтобы мышь не проскочила. Американцы ничего не должны знать о нашей работе над атомным проектом. И надо изо всех сил искать уран на территории СССР. Не может быть, чтобы такая огромная страна не имела подобных месторождений.
— Мы ищем. И уже есть кое-какие данные, говорящие о существовании залежей урана на Кавказе, в горах Памира и даже в Монголии. Геологи ведут интенсивный поиск по установлению запасов урана и других урановых минералов.
— Хорошо. Договорись с Вознесенским о более широком финансировании нашего проекта. Через два дня жду вас обоих у себя с докладом на эту тему.
После Берии Сталин слушал доклад начальника Генерального штаба Красной армии генерала Антонова о положении на фронтах и планировании наступательных операций в 1945 году. Затем принимал наркомов боеприпасов, вооружения, финансов, железнодорожного транспорта, тяжелой и легкой промышленности. Выслушивал доклады о восстановлении промышленности на Украине и в Белоруссии, об обеспечении колхозов тракторами и другой сельхозтехникой. Встретился с председателем правления Союза писателей СССР Фадеевым и обсуждал с ним кандидатуры писателей, достойных награждения Сталинскими премиями.
И только в двенадцатом часу ночи принял Молотова.
— Прочти-ка еще раз, что пишет Черчилль в своем последнем письме: там есть кое-что интересное, — произнес Сталин, тыча пальцем в перевод письма, скрепленный с оригиналом. — Читай вот с этого места: «Первое. Я был весьма…» Вслух, вслух читай! — велел он, заметив, как Молотов беззвучно шевелит губами.
— Первое, — начал читать Молотов негромким, бесстрастным голосом. — Я был весьма рад, узнав от Посла сэра А. Кларка Керра о той похвале, с которой Вы отозвались о британских и американских операциях во Франции. Мы весьма ценим такие высказывания, исходящие от вождя героических русских армий. Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в Палате общин то, что сказал раньше, что именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины и в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника. Второе. Я только что вернулся после долгих бесед с Президентом, и могу заверить Вас в нашей твердой уверенности, что на соглашении наших трех стран — Британии, Соединенных Штатов и Союза Советских Социалистических Республик — покоятся надежды всего мира. Я был очень огорчен…
— Дальше можешь не читать, — остановил Молотова Сталин, отметив, что тот совсем отучился заикаться, а лет двадцать назад его с трудом можно было слушать. Спросил: — Как тебе эти дифирамбы?
— Не верю я этому борову, — ответил Молотов, подняв голову и сверкнув очками. — Его слова о кишках, выпущенных Красной армией из германской военной машины, можно считать вполне искренними. Не исключено, что он повторит их в парламенте. Но общий тон английских и американских газет уже сегодня таков, будто именно Англия и Америка выигрывают войну своим упорством и несговорчивостью с Гитлером. В то время как Советский Союз пошел с Гитлером в тридцать девятом году на подписание договора о дружбе и остался, таким образом, в изоляции. Только поэтому он подвергся нападению Германии, защищал и защищает исключительно самого себя. Из этого они делают вывод: в грядущей победе мы не можем рассчитывать на лавры победителя. То же самое и об упомянутых им надеждах всего мира. Надежды безусловно существуют, и не учитывать сегодня их нельзя, но завтра… завтра все может измениться. И к этому надо готовиться сегодня.
— Я тоже так думаю, — согласился Сталин, раскуривая трубку. — Но мы должны использовать наше нынешнее положение как можно полнее и эффективнее для того, чтобы закрепить не только вооруженной рукой, но и политически наши успехи в борьбе с фашизмом. Народы мира должны знать не только о тех, кто выпустил кишки немецкой машине, но и о тех, кто в это время больше играл в войну, чем воевал настоящим образом… Признание Черчилля вынужденное, и он забудет о нем, едва война останется позади. Рузвельт более искренен, но он, к сожалению, неизлечимо болен и вряд ли протянет слишком долго. Как поведут себя его приемники, мы не знаем, но, ты прав, готовиться надо к худшему.
Сталин прошелся вдоль стола, поправил лежащие с краю книги, продолжил тем же раздумчивым голосом, будто говорил сам с собою:
— Я думаю, мы должны ответить на это письмо Черчилля общими фразами, не раскрывая сути нашей подготовки к предстоящему наступлению. В том смысле, что, мол, в настоящее время советские войска заняты ликвидацией прибалтийской группы немецких войск, висящей над нашим правым флангом. Без ликвидации этой группы нам невозможно продвигаться в глубь Восточной Германии. Кроме этого у наших войск имеются две ближайшие задачи: вывести Венгрию из войны и прощупать оборону немцев на восточном фронте путем удара наших войск. Немцам и без того известно об этом, поскольку все эти операции уже проводятся. Остальное союзники узнают потом… вместе с немцами же.
Сталин усмехнулся, по привычке прикрыв усмешку ладонью, разглаживающей усы. Затем продолжил:
— А ты, Вяче, прикажи своим послам через наших атташе по культуре, через наши культурные центры в различных странах проводить нашу… и сегодняшнюю Черчилля… точку зрения на тот факт, кто кому выпускал и продолжает выпускать кишки. У людей память короткая, ее постоянно надо освежать, чтобы всегда об этом помнили и потомкам своим передавали.
— Мы это делаем, Коба. Но мы, разумеется, усилим пропаганду в этом направлении, — пообещал Молотов. — Что касается Ялтинской конференции, подготовка идет полным ходом, один из наиболее сохранившихся санаторных комплексов приводится в порядок, Вышинский продолжает работать над документами относительно статута будущей Организации объединенных наций, Рузвельт все больше склоняется к тому, чтобы приехать в Ялту… — замолчал и поднялся, заметив, что Сталин остановился возле своего стола и не обращает на него внимания.
Оставшись один, Сталин потер виски руками: нездоровилось. Затем достал из ящика стола пузырек с желтоватой жидкостью, от которой пахло ментолом и эвкалиптом, открыл пробку, поднес к носу и осторожно втянул в себя воздух. Острая холодноватая струя проникла внутрь, распространилась по всей голове, сделала ее легкой. Но продолжалось это недолго. Новая волна тяжелого тумана опустилась на мозг и, хотя не препятствовала думать, однако давила на него, отвлекала.
Пожалуй, на дачу он сегодня не поедет, останется в Кремле. Скорее всего, у него грипп. Это почти всегда связано с ненастьем. Чертовы доктора! Не могут придумать что-нибудь такое, чтобы принял один раз какой-нибудь порошок или таблетку — и как рукой сняло. В таком состоянии особенно неприятно ездить в машине: любой толчок отдается болью в висках и даже в глазах. Какая там поездка в Европу! Непременно надо уговорить Черчилля и Рузвельта приехать в Россию. В Крыму и погода получше, и от войны далеко, и в то же время не надо отрываться от постоянной связи с фронтами. Да и Рузвельту с Черчиллем полезно будет посмотреть, что натворили гитлеровцы в СССР. Достаточно для этого показать им Севастополь. Вернее, то, что от него осталось. Тогда можно будет несколько с других позиций вести разговоры относительно расчетов по ленд-лизу…
Кстати, надо решить, кто будет командовать советскими войсками, нацеленными на Берлин? Рокоссовский? Нет. Берлин должен брать русский маршал. А среди русских маршалов лишь один Жуков обладает той решительностью, теми стратегическими способностями, которые необходимы в данных условиях для командующего войсками фронта. Первым Белорусским фронтом должен командовать Жуков. Есть только одна опасность: зазнается, посчитает себя гением, благодаря которому и выиграна война. А у него, между прочим, набралось столько грехов, что хоть сейчас под трибунал. От одного Мехлиса несколько папок доносов и на самоуправство, и на грубость с подчиненными. А есть еще о том же самом и от других членов военного совета: от Булганина, Хрущева… Многим Жуков не по нраву, многим прищемил нос за то, что лезли не в свое дело. Оно и правильно, но до известных пределов. Не его это дело — унижать и осаживать членов военных советов, которых поставила на соответствующие места партия. Да, члены военных советов не очень разбираются в военном деле, зато они хорошо разбираются в политике, а именно для того они и сидят в штабах, чтобы военные не зарывались.
Но кроме Жукова больше некому доверить этот важнейший участок.
Глава 23
Два генерала, — один среднего роста, другой повыше, — оба в каракулевых папахах и полушубках без погон, а генеральство их выдавали лишь широкие красные лампасы на штанах, молча шли по тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Тот, что пониже, шагал впереди, засунув руки в карманы.
Они остановились под могучей сосной, ствол которой в полумраке зимнего дня уходил в мутное небо. Другие сосны, потоньше, стояли вокруг, точно цыплята вокруг наседки. Слабый ветер теребил их верхушки, сверху вместе со снегом стекал вниз неумолчный шум и протяжные вздохи. Снег падал на папахи и плечи генералов.
— Тебе звонил Верховный? — спросил тот, что пониже и поплотнее.
— Звонил, — ответил высокий.
— И что?
— А что что? Приказал сдать тебе фронт, а самому принять Второй Белорусский.
— Я не о том. Что ты по этому поводу думаешь?
— А что я должен думать, Георгий? Ты думаешь, я не понимаю, зачем он это сделал? Я все хорошо понимаю.
— Тем лучше. Я не хотел бы, Костя, чтобы между нами были какие-то недоразумения, недомолвки. Это не моя инициатива. Более того, мое назначение для меня самого явилось полной неожиданностью. Как ты знаешь, Верховный ликвидировал институт представителей Ставки. Первый Белорусский нацелен на Берлин. Дальше объяснять тебе нет надобности.
— Ты мог бы не говорить и этого, Георгий.
— Мог бы. Но мы с тобой не только солдаты, но и люди.
— Я на тебя зла не держу. Более того, я благодарен тебе за многое: за науку, за то, что прощал мне мои ошибки. И не я один. Сам знаешь.
— Ну, и не будем об этом.
— Не будем.
— К тому же, я думаю, что Берлинская операция, как она мне видится, станет уделом не только Первого Белорусского, но и смежных с ним фронтов. Мне чужой славы не нужно, — мрачно заключил тот, что пониже ростом.
— Мне тоже, — эхом откликнулся другой.
— Тогда пошли закончим все дела и поужинаем. Впереди у нас…
Генерал не договорил, качнул лобастой головой, произнес тихо, даже с некоторым удивлением:
— А помнишь, Костя, Волоколамск? А? Тогда у нас и в мыслях не было, что мы будем думать о том, кто и как будет брать Берлин… Разве что подспудно, где-нибудь в глубинах мозга…
— А я, должен тебе признаться, Георгий, когда ты не позволил мне отойти за канал, а Сталин разрешил, а ты мне: «Я командую фронтом, мне и решать!»… так вот, я тогда и подумал… не о тебе, нет, о немцах… и даже сказал своему начштаба что-то вроде того, что, мол, ну, фрицы, ну, гады, уж мы доберемся до вашего Берлина, уж мы за все посчитаемся. А мой начштаба засмеялся и говорит: «Постучи, — говорит, — по дереву, а то сглазишь».
— Что ж, без этой уверенности в конечной победе мы бы и не победили, — произнес Жуков, не заметивший оговорки своего товарища, сорвавшего свою злость не на нем, командующем фронтом, а на немцах. Да и то в будущем…
— Постучи, Георгий, по дереву…
Генерал снял перчатку, провел рукой по шершавым латам сосновой коры. Произнес своим скрипучим голосом:
— Нет, не постучу. И дерево тут ни при чем. И Берлин их поганый возьмем… — И вдруг совсем неожиданно воскликнул: — Ах, как я мечтаю, Костя, пройти по его улицам! За всех, кто до них не дошел и не дойдет. Или кто пройдет стороной…
— Надеюсь, что пройдем вместе, товарищ маршал Советского Союза.
— Вместе, Костя, вместе… А помнишь, под Волоколамском, я тебе сказал: «Терпи, генерал, маршалом будешь?» Помнишь?
— Помню. Хорошо помню, Георгий.
Сквозь шорох метели и вздохи сосен до слуха их долетели звуки далекой артиллерийской стрельбы. Оба повернулись в ту сторону, прислушались.
— Ладно, пошли, маршал. А то кто-нибудь подумает, что мы с тобой решили дуэль устроить… за теплое, так сказать, местечко в далеком будущем, — усмехнулся тот, что пониже ростом.
Другой ничего не ответил, смотрел вдаль, и по неподвижному лицу его было видно, что разговор этот дался ему нелегко.
Они шагали обратно в том же порядке. Под ногами звучно хрустел снег.
Подмораживало.
Конец тридцать девятой части

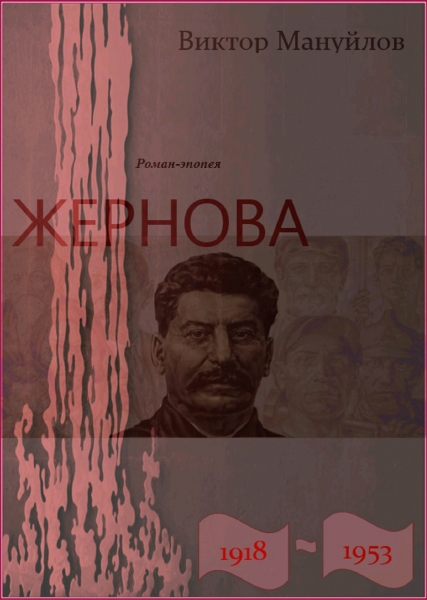

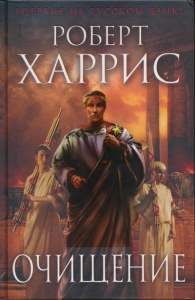



Комментарии к книге «Жернова. 1918–1953. Выстоять и победить», Виктор Васильевич Мануйлов
Всего 0 комментариев