Берне Анна
Анна Берне, родившаяся в 1962 году, погружена в историю, начиная с раннего детства. От своего отца, журналиста, специализировавшегося на истории и археологии и читавшего своей маленькой дочери греческую мифологию, а также от матери, которая работала преподавателем, она унаследовала огромные познания в истории культуры.
В институте Анна Берне изучала право и историю, избрав в конце концов профессию журналиста, а затем писателя. Она является литературным обозревателем ряда журналов, в том числе ежемесячной «Истории».
Кроме того, Анна Берне выступила в роли поэта, композитора и исполнителя собственных песен, о чем свидетельствуют два выпущенных ею диска.
Писательница выпустила в издательстве «Перрен» следующие биографии и исторические эссе: «Бернадетт Субиру» (переведена на итальянский); «Мадам де Севинье»; «Великие времена шуанов»; «Исследования об ангелах» (переведена на немецкий и португальский); «Брут, идейный убийца»; «Гладиаторы» (переведена на итальянский); «Христиане в Римской империи».
Принесший ей международное признание роман «Воспоминания Понтия Пилата» вышел в издательстве «Плон». Роман получил приз Академии Бретани и был переведен на немецкий, испанский, греческий, португальский, русский и литовский языки.
В настоящее время Анна Берне работает над романтической трилогией «Знамена короля», действие которой происходит весной 1793 года во время восстания шуанов на западе Франции.
Предисловие: Пилат в раю
Образ Понтия Пилата на протяжении столетий подвергался самым разным художественным интерпретациям. Достаточно вспомнить знаменитую картину Н. Н. Ге «Что есть истина?», роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»… Имя чиновника, ускользающего от ответственного решения, стало нарицательным, а его знаменитые слова: «Я умываю руки!» — крылатыми.
В древности отношение к Пилату было неоднозначным. Уже во втором столетии апокрифическое «Евангелие от Петра» возлагает ответственность за казнь Иисуса не на Пилата, а на Ирода Антипу; один из ранних апологетов, Тертуллиан, считал, что Пилат был в душе христианин; по мнению церковного историка Евсевия, прокуратор покончил жизнь самоубийством. А вот Коптская и Эфиопская Церкви канонизировали прокуратора Иудеи как святого…
Мало кто задумывался над тем, что на Руси «Пилатово Житие» переписывалось и перепечатывалось самыми ревностными блюстителями древнего благочестия — старообрядцами…
В книге «Страсти Христовы», известной в славяно-русских списках с XV века, повествуется о том, как Пилат перед лицом императора Тиверия раскаялся в своем преступном равнодушии к судьбе Иисуса и стал молить его об усугублении собственной казни: «…господине, державный Кесарю, повели мне дата велие мучение, да отпустятся греси мои».
А затем воззвал ко Всемилостивому Господу: «Помилуй мя, Христе царю, Сыне Бога Живаго и Творче всесильне, согреших аз пред тобою, предав тя на распятие неповинна суща».
И тут — о чудо! — открылись ему двери рая: «И се глас бысть с небесе к нему, глаголя: „Радуйся, Пилате, яко за мене ради страсть сию приемлеши, вниде убо во обитель отца моего, се бо отверзошася тебе врата райская“».
Как попало это апокрифическое сказание в древнерусскую книжность, остается пока неясным. В основе его лежат очень древние «Деяния Пилата», вошедшие в состав так называемого «Евангелия от Никодима». А оно, в свою очередь, было известно славянским книжникам уже в XIII веке… Показательно, что у православного читателя эти тексты находили несомненное понимание и сочувствие на протяжении нескольких столетий.
В древнем апокрифе о Пилате отражена, конечно, не историческая правда, а стремление к полноте торжества правды божественной, сила которой особенно явна в покаянии и прощении самых тяжких грешников.
Роман современной французской писательницы Анны Берне «Воспоминания Понтия Пилата» — это своего рода опыт новозаветного апокрифа. В сюжетной канве отражены евангельские события и свидетельства эпохи, сохранившиеся в трудах Иосифа Флавия, Филона Александрийского и др. Анна Берне проявила скрупулезное внимание к мельчайшим подробностям быта, топографии, политическому фону эпохи. Но главное для нее — это история души, внутренняя драма римского всадника, высокопоставленного чиновника, верного традициям своего рода, которого поиски Истины привели к вере в Сына Человеческого.
В XX веке уже была сделана попытка воссоздания литературного наследия Понтия Пилата. В 1928 году в Лондоне Вильям Персифаль Крозье (1879–1944) опубликовал «Письма Понтия Пилата, написанные во время его правления в Иудее к своему другу Сенеке в Риме». Охватывающие период от назначения прокуратором до суда и казни над Иисусом Христом, они представляют Пилата неизменным стоиком, а не утверждающимся в вере христианином. Возможно, Анна Берне и была знакома с этой книгой, но замысел ее совершенно иной. В. Крозье создал исторический апокриф, а французская писательница стремится раскрыть правду души, возвращающейся к Истине через покаяние…
У каждого из нас бывают поводы задуматься: не напрасно ли умер Христос? Анна Берне убеждена, что нет. К этой вере приходит и герой ее повествования, вновь ставя все тот же вековечный вопрос перед читателем…
Нет такой власти и науки, которая могла бы решить его за нас.
И ответ на него каждый должен дать себе сам.
Спасибо Анне Берне, что она так проникновенно сумела об этом напомнить.
Н. К. ГаврюшинВоспоминания Понтия Пилата
Франсуа-Ксавье де Виви посвящается
Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь?
Иисус отвечал: ты говоришь, что я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
Пилат сказал Ему: что есть Истина?
Евангелие от Иоанна, XVIII, 37–38Пролог
И в эту ночь Прокуле вновь снился Галилеянин. Она не сказала мне об этом, однако я знаю. Я знаю это по ее молчанию при пробуждении, по взгляду, обращенному на меня, по немому упреку, стоящему в ее глазах. Упрек ли это? Нет… Я читаю в них страдание, бездонное, глубокое, как море; неисцелимое. И в нем повинен я. Ее глаза словно говорят мне:
— Кай, что ты наделал?
И когда Прокула так смотрит на меня, ответ, единственный ответ, который я мог бы ей дать, не сходит с моих губ.
— Я исполнил мой долг, — должен бы сказать ей я. Но слова ускользают, ибо я больше не уверен ни в моих поступках, ни в себе самом. Я человек, исполненный неуверенности и сомнения. Всю мою жизнь я буду скрывать от других, насколько я неуверен и малодушен.
Я трус.
Ничто так не задевает меня, как мысль о том, как ясно Прокула меня видит — и осуждает. И продолжает меня любить. Как может она любить меня, когда я себя презираю?
Если бы боги дали мне возможность все вернуть, я попытался бы отвести беду, которая омрачила мне жизнь, как омрачила счастье и радость моей жены, но боги ничего не дают пройти сначала. Впрочем, я давно уже не верую в римских богов.
Даже если бы я верил в них и они были бы готовы мне помочь, даже если бы мне было дано пережить все сызнова, сумел бы я что-либо изменить? Или меня снова обуял бы страх?
Ибо воистину я трус.
Это порок, ставший сегодня слишком обыкновенным. Патриции, всадники, все мы — боимся. Самые знатные из нас, сыны завоевателей вселенной, превратились в рабов, в страхе пресмыкающихся перед кнутом. Было бы удивительно, если бы потомок Понтиев оказался лучше отпрысков самых именитых римских семейств.
Прокула стоит перед окном. Моя жена некрасива, она никогда не была красавицей. Когда божественный Тиберий выдал ее за меня, я заподозрил, что, забавляясь, он сыграл со мной злую шутку. Под предлогом почетного союза — Клавдия Прокула была его кузиной — подложил мне в постель дурнушку, мне, покорителю красавиц. И я не посмел отказаться!
Если бы Кесарь догадывался о том, какой роскошный подарок он мне сделал… Мы никогда не показывали, сколь сильно любим друг друга. К старости у Тиберия появились странные причуды, а зрелище чужого счастья стало ему невыносимо.
Мне было тридцать, Прокуле — двадцать. И хотя она была родственницей Тиберия Нерона, первого мужа Ливии, отца другого Тиберия, никто не возжелал ее. А моя мать, как и ее мать, вышла замуж в двенадцать лет.
О чем думает она в эту минуту? Ее печалит серое небо? Или дождь, бесконечный дождь, что всю зиму не утихает над Вьенной? Или, так же как и я, она скорбит о свете Города?
Может, эти слезы, которые так часто навертываются ей на глаза, — о Понтии, нашей далекой, несчастной дочери, которой мы не в силах помочь? О душах троих наших сыновей, теперь уже умерших? Я пытаюсь убедить себя, что это именно так. Но в глубине души знаю, что Прокула плачет не о себе, не о нашем изгнании или наших детях. Она плачет обо мне. О моей вине.
О моей трусости.
И так всякий раз, когда ей снится Галилеянин. А он часто является ей во сне.
I
Я родился в 742 году от основания Города, в шестой день от майских ид.
В это время года над Римом кружат ласточки и в атриуме нашего дома в водоем осыпаются первые розы. В час, когда солнце садится в пурпур горизонта, пинии наших террас кажутся черными. Их аромат, смешанный с ароматом цветов, проникает в комнату, которая прежде была комнатой моей матери. Даже если Рим совсем не спит, шум улиц стихает, когда в окнах зажигаются лампы и ветерок заставляет колебаться пламя факелов, что несут рабы перед носилками тех, кто направляется ужинать на Палатин.
Таким я впервые увидел этот мир и таким в последний раз увидела его женщина, которая произвела меня на свет и от этого умерла.
Ей было шестнадцать лет; ее звали Туллией. Вязкий туман закрывал последние лучи тусклого галльского солнца. В мае ласточки не успевают прилететь из Африки в Лугдун, и розовые кусты еще не цветут. Моя мать была родом из Кампаньи; она любила свет, цветы и птиц. Когда она лежала на погребальном костре, служанка, вырастившая ее, положила ей на голову венок из диких гиацинтов с голубыми душистыми колокольчиками — единственные цветы, какие она смогла найти.
Все эти подробности я знаю от Авлы, женщины, которая была кормилицей моей матери и которая мне ее заменила. Она говорила также, что пламя погребального костра никак не занималось, потому что дрова были сырыми и плохо горели.
Мой отец был далеко, на Эльбе, с Друзом и Тиберием. Не знаю, переживал ли он из-за своего вдовства. Он был женат четыре года, и все эти годы вел военную кампанию. Без сомнения, он нежно любил мою мать, поскольку настоял на том, чтобы она покинула Рим, дабы быть к нему поближе. И по крайней мере однажды он нашел время встретиться с ней в этом доме на берегу Роны, снятом им у итальянского торговца в Лугдуне. Я появился на свет в результате этой встречи, длившейся всего несколько часов, встречи, ради которой отец проскакал галопом сотни миль через эти дикие места. Там, на войне, он каждый день рисковал жизнью. И он хотел сына, который чтил бы его память, если бы ему случилось погибнуть.
Друз дал ему отпуск, чтобы он мог присутствовать при моем рождении. Но когда он прискакал, загнав в дороге трех лошадей, Туллия была мертва, а я, сирота, кричал в галльской колыбели.
Кай Старший, мой отец, не успел снять дорожный плащ, мокрый от дождя, когда Авла, смеясь и плача, бросилась к нему навстречу.
— Господин, господин, у тебя сын! — кричала она. И, следуя обычаю предков, положила меня на землю к его ногам.
Четыре раза в моей жизни служанки клали у моих ног детей, рожденных на свет Прокулой. И всякий раз в этот момент я испытывал одинаково сильное волнение.
Мой отец был молод, когда впервые взял меня на руки, намного моложе меня в то время, когда родилась моя Понтия. Он посмотрел на Авлу немного растерянно, словно позабыл, что следует делать.
— Господин, у тебя сын, — повторяла она, — здоровый и крепкий сын! Он похож на тебя!
Чтобы лучше показать меня, чтобы его убедить, что я нормальный и сильный, Авла сняла с меня пеленки. Красный от натуги, я орал, лежа на холодном мраморном полу. Мой отец был высок и дороден; его могучим рукам было ведомо, как обуздывать жеребцов, как обращаться с мечом и копьем, но они никогда еще не держали только что родившегося младенца. Отец не знал, как меня взять, опасаясь причинить мне боль. Авла же, не понимая, что он просто растерян, и видя его молчание и нерешительность, испугалась, что он отвергнет меня, как то позволяет закон.
Вокруг нас собрались слуги, внимательные и молчаливые. Тогда мой отец медленно опустился на колени. Он неловко взял меня с земли, встал, поднял меня над головой, словно размахивая знаменем победы, и сказал:
— Кай, сын мой…
— Кай, сын мой!
Была моя очередь бросать кости, но, услышав этот голос, который я не надеялся уже больше услышать, я обо всем забыл: и об игре, и даже о моем друге Адельфе, сыне нашего управляющего-грека Деметрия. Фишки из слоновой кости падают из моих рук и рассыпаются. Я оборачиваюсь. Я стою. Я бегу к человеку, который застыл под портиком. Я не помню о ступенях, которые ведут к нему. И я непременно упал бы, если бы не эти две руки, подхватившие меня на лету и сжавшие в каком-то отчаянном порыве. В глазах отца стоят слезы. Я не знал, что он умеет плакать, и меня охватывает страх:
— Отец! Что с тобой?
Но он не отвечает, истово целуя меня, и я чувствую запах человеческого и конского пота.
Мне было семь лет. За шесть месяцев перед тем Рим облетела весть, что Кай Понтий Пилат, мой отец, погиб при крушении корабля, возвращавшегося с Родоса.
Была синяя ночь, тихо светился лунный щит. Ночь была насыщена ароматами и пением цикад. После бани отец пришел отдохнуть на террасу. Он попросил раба принести ему кубок фалернского, красного крепкого вина из наших виноградников.
Обычно в этот час я спокойно сплю, но отец не отослал меня, он пожелал, чтобы я остался с ним, и вел со мной разговор, как с равным:
— Видишь, Кай, звезду, которая поднимается над горизонтом? Это — Орион Охотник. Когда Орион появляется на небе, то знаменует приход осени. Раньше, в Германии, ее появление вызывало у нас уныние, ибо предвещало тусклые дни в тех северных краях, ледяной ветер и снег над равниной из низких свинцовых туч, когда замерзшие воды рек и озер сливаются с холодом неба.
— Отец, зачем ты был у варваров, в Германии?
— Я исполнял свой долг. Служил Риму.
Он склонился ко мне, притянул к себе. Я чувствовал тепло его тяжелой руки на моем плече:
— Посмотри, Кай! Посмотри на Город. Боги обещали римлянам господство над миром. Их обещание почти исполнилось. Ведь наш народ не боится бороться, страдать и погибать ради исполнения божественной воли. Вот почему боги будут благословлять Рим, пока будет жив хоть один римлянин, жаждущий служить ему и любить его больше собственной жизни.
На семи холмах, необъятные, сияли в лунном свете храмы и дворцы.
— Город, Кай… Во всем мире, во всех известных государствах, люди знают, что он один — Рим; что он могуществен и нерушим. Мы его могущество и нерушимость. Нет более славного дела, как служить ему, и нет более завидной смерти, как умереть за него.
Всю мою жизнь я следовал заветам отца. Я служил Риму, светочу мира и хранителю истины.
Но что есть истина? Я спросил об этом Галилеянина — он не ответил мне.
Отец никогда не задавался этим вопросом. Для него вещи были таковы, поскольку они должны были быть таковыми. Его истиной был Рим.
Мы не патриции. Если даже принять версию моего происхождения от Энея и его спутников, три века верной службы не мешают мне оставаться человеком новым. Чем-то вроде выскочки, род которого отнюдь не блистал в летописях Города. Прокула гораздо более знатного происхождения, чем я, хоть она никогда и не попрекает меня этим.
Итак, я не патриций. Просто всадник. Нас называют основой государства — благодаря нашему положению, конечно. Но главным образом — благодаря нашей преданности, нашему участию в военных и административных делах, а также благодаря тому, что и деньги, и торговля находятся в руках наиболее богатых из нас.
По правде говоря, это не относится к моей семье. Мой род не может претендовать на большую известность, и ни один из моих родственников никогда не состоял в верховных магистратурах.
Мой дед, Авл, служил в Галлии с божественным Юлием. Затем присоединился к лагерю Антония. Но когда египетская авантюра вскружила голову триумвиру, Авл оставил его и перешел под знамена Октавиана.
Я знаю, о моем предке судачат, что к этому его побудили не благородные чувства, но корысть, ибо такой поворот дела позволял ему тут же унаследовать от кузена Аквилия дом в Авентине, где протекли самые благодатные часы моего детства. Те, кто говорит так, не знают, что Авл не любил ни золото, ни роскошь и удовольствия, которые за золото покупают. Его единственной страстью был Рим. Он не вынес восточного безумства Антония, готового в своей неистовой любви к Клеопатре отдать ей Египет и пообещать земли Азии, за которые было пролито столько римской крови. Авл предал Марка Антония, чтобы не предавать Рим. Октавиан это понял.
Мой дед погиб в Акциуме. Египетская трирема протаранила галеру, которой он командовал. Я уверен, он умер счастливым, поскольку, погружаясь в морскую пучину, знал, что наши корабли уносят с собой победу.
Мой отец тогда был совсем маленьким. Бабушка, Теренция, осталась одна растить и воспитывать из него мужчину. Она прекрасно справилась со своей задачей. Живое воплощение римской добродетели былых времен, Теренция оказалась способной завоевать дружбу Ливии, что было совсем не легко, и добиться уважения Августа, что было еще труднее. Эта вдвойне редкая милость дала моему отцу счастье вырасти рядом с Друзом и Тиберием.
Мое детство было счастливым и лишенным происшествий. Я выучился чтению и письму. У меня был наставник из Александрии, выучивший меня языку Гомера так, что я его знал, как родную латынь. Отец взялся сам научить меня держаться в седле и владеть мечом.
Свободные часы я проводил с Адельфом или один, бродя по нашему саду и любуясь Городом, раскинувшимся у моих ног. Я представлял себя человеком, похожим на отца: твердым, мужественным и преданным Риму. Я был счастлив, даже несмотря на то, что иногда поддавался мечтам о материнской ласке.
II
Вар не знает, ни куда движется, ни что делает. Каким бы скромным ни был мой военный опыт, мне кажется очевидным, что префект лагерей делает ошибки одну за другой. Он не учел ни местность, на которой совершает маневры, ни местность Германии, по которой идет походным маршем. Ни, тем более, местность противника. Вар уверен в нашем превосходстве, и эта самонадеянность лишает его здравого рассудка. Подобные ошибки всегда были причиной наших тяжелейших поражений.
Уже несколько дней меня преследуют неприятные картины, будто сошедшие со страниц моих школьных книг, таких еще близких. Засада в Кавдинском ущелье… Уничтожение легионов Красса в персидской пустыне…
В самом деле, когда я оглядываюсь по сторонам, ничто не напоминает мне империю парфян. С тех пор как мы покинули берега Рейна, мы идем через леса, огромные, бесконечные лесные массивы. Черный, дремучий, враждебный лес обступает нас, как парфянские стрелки обступали Красса и его людей, прежде чем осыпать их стрелами. Я поминутно ловлю себя на том, что оборачиваюсь, внимательно всматриваясь в лесную чащу. Мои мускулы инстинктивно сжимаются, напрягаются в ожидании смертоносной стрелы, пущенной невидимой рукой. Но всякий раз я овладеваю собой, потому что чувствую тайную тревогу солдат, следующих за мною. Им тоже не по себе.
Я бросаю отрывистые взгляды на Флавия, моего галльского центуриона. Это любопытный, человек, забияка, смельчак, которого ничто никогда не пугает. В двадцать пять он уже весь в шрамах, а нос его сломан ударом кулака. Маленький и при этом злобный и задиристый, как петух! Конечно, от рождения его звали иначе. Он выбрал имя Флавий потому, что его собственное было слишком сиплым для наших латинских глоток.
Он из исчезнувшего рода, из небольшого местечка, служащего почтовой станцией на дороге к Океану, далеко на Западе. Он выдает себя за человека знатного происхождения; в конце концов, может, это правда? Но в чем я уверен, так это в том, что он отличный воин и что даже эта зловещая обстановка не производит на него особого впечатления.
— Знаешь, трибун, — обычно говорит он с невозможным акцентом, проглатывающим «р» и окончания слов, — здесь ничуть не более дикие места, чем у меня на родине.
Больше всего меня беспокоит теперь его молчание, молчание человека, который так весело ругает и заставляет двигаться вперед наших новобранцев раззадоривающими меня словами: «Дураки, где вы видите опасность?»
— Не нравится мне все это, трибун! — наконец тяжело вздыхает Флавий. — Вар не должен был так удаляться от наших баз. Если он растянет наши соединения, невозможно будет потребовать подкрепления.
Я не отвечаю. Центуриону не пристало судить дела и поступки префекта лагерей, даже когда центурион прав… Что бы сталось с Римом, если бы легионы принялись обсуждать обоснованность получаемых приказаний?
Видимо, мои мысли и мысли Флавия шли в параллельном направлении:
— Да, трибун… ты — на верху иерархии, я, подчиненный офицер, — внизу, на своем месте; мы — как наши люди: нам приказывают идти — и мы идем… Идем и идем… Делать то или это — и мы делаем… Но поверь мне: сегодня дела идут скверно, очень скверно!
Я и сам знаю, что это так. Не то что скверно — глупо! Мы несемся по следам призрака через незнакомую страну, словно заманиваемые в ловушку. Мы идем уже неделю, не видя и следа мятежника. Время от времени в небо поднимается клуб дыма: догорают какие-то деревенские хижины. Арминий отдал приказ. Впереди мы не найдем ни людей, ни скота, ни провизии. Сколько мы уже миновали таких превращенных в пепелища деревень?..
Их вид всегда вызывает во мне трепет. Те, кто добровольно уничтожает свои дома и урожаи, — это люди, готовые на все: и убивать, и умирать. Должно быть, их поддерживают очень сильная ненависть и очень сильный гнев. И я испытываю страх.
— Еще один, трибун, — цедит сквозь зубы Флавий, показывая точку где-то на востоке. — Вот увидишь! Это не все! Верцингеторикс воевал так же…
Да, но тогда командовал не Вар, а Кесарь… И у германцев нет ни одного города, сравнимого с Авариком, который бы они отказались сжечь. До каких пор будем мы идти среди лесов и пепелищ? До центра тевтонского государства? До Эльбы? Может, до тех краев, куда никогда не заходил ни один римлянин? Зачем же нам останавливаться? Вар идет по горячему следу, который Арминий услужливо ему оставляет. Вар гордец. И он ведет три легиона. Двенадцать тысяч человек. Арминий не сумасшедший, чтобы напасть на нас. И все же он немного безумен.
Он знает нас; он из наших. Он посещал наши лагеря, латинизировав свое варварское имя Герман. Он знает нас и бросает нам вызов. Полагает ли он, что знает достаточно, чтобы оценить наши слабые стороны? Чтобы быть уверенным, что в силах взять верх? Он не первый в этой смертельной игре. До него был Верцингеторикс…
Солнце скрыто тучами, и время определить невозможно. Из-под наших ног поднимаются только стаи воронов. Зловещие птицы… Вар обратился к оракулам, прежде чем двинуться в путь. Разве мог он пренебречь обычаем предков? Конечно, в туманные пророчества, которые авгуры делают, глядя на дымящиеся внутренности только что убитых животных, он верит не больше меня, не больше любого офицера своего штаба. Но ритуал есть ритуал.
Вот уже четыре месяца, как Арминий поднял рейнские племена и ведет себя вызывающе; четыре месяца нападает на наши одиночные посты, перерезает горло нашим торговцам. Четыре месяца, как Вотан, их одноглазый бог, презирает Юпитера и Рим. Вар принял посланцев Августа, которые не оставили ему выбора. Он должен подавить мятеж, и ему надлежит сделать это как можно скорее.
Август — человек, привыкший подчинять мир своей воле.
Флавий вздыхает:
— Знаешь, трибун, за несколько дней до капитуляции Алезии конные подкрепления, которых ждал Верцингеторикс, столкнулись с когортами Лабиена, лейтенанта Кесаря. Десять к одному или около того. И тем не менее кельтские всадники поклялись не выходить из боя, пока двенадцать раз не пройдут сквозь ряды противника… Знаешь… Они защищались до последнего.
Что хочет сказать Флавий? Его восхищает храбрость своих и, стало быть, Арминия? Или полное римское превосходство? Единственное, что я могу заключить наверное после этого рассказа, это то, что германцы способны броситься на нас в любой момент, несмотря на нашу численность, опытность и славу нашего оружия. А это никуда не годится! Как Вар развернет войско на этой лесистой местности? Какой будет его маневренность?
А к Флавию вернулся дар речи:
— Знаешь, трибун, сколько лет мой народ оказывал сопротивление твоему после Алезии? Десять лет, трибун, десять лет! Ценоманская страна покрыта лесами, даже дороги наши проложены под сводами деревьев. Сейчас мы в том же положении. Мы совсем одни! Ты улавливаешь преимущество? Когда ваши дозоры пытались проникнуть на нашу территорию, они не знали, куда ступают. Точно так же, как мы теперь… И мы набрасывались на них, когда хотели, и… — Красноречивым движением Флавий как бы перерезает горло воображаемому противнику.
Остается лишь уповать, чтобы германцы оказались не такими хитрыми, как ценоманы. Я усмехаюсь. Я не намерен пасть в бою из-за неумения Вара оценивать противника. Но зачем мне думать об Арминии? Префект лагерей, командующий этим походом, его презирает. Я — всего лишь один из его трибунов, самый молодой, мне только исполнилось двадцать. Я надел мужскую тогу совсем недавно, получив право высказывать свое мнение на совете. И потом, мы — не одиночный дозор, но три легиона в полном составе. Передо мной, позади меня, по бокам колышутся наши колонны. Их мерный шаг поднимает облака пыли, которые окончательно омрачают этот скверный день. Серый, черный, темно-зеленый — неизменные цвета этого унылого пейзажа… Пурпур наших плащей, красные гребни офицерских шлемов — единственные живые пятна в этом декоре. Но они не вызывают у меня мыслей о победе и триумфе, напротив! Временами мне кажется, что наша форма залита кровью. Потоками крови…
Я часто видел гладиаторов, убитых на арене. Мы находим удовольствие в том, чтобы наблюдать, как они борются и умирают, не из жестокости. Мы ищем в цирке не удовлетворения нашей жажды крови и агонии, а образец храбрости. Может ли кто из нас попросить пощады в бою, если даже раб способен умереть без единого стона на песке амфитеатра? Помню одного побежденного ретиария, распростертого на земле. Острие меча уперлось в его грудь, но он не отвел глаз. Своими отвагой и презрением он был способен сокрушить победителя. Я поднял вверх большой палец.
Я спрашивал себя тогда, способен ли я так же отчаянно противостоять тому, кто мог бы убить меня. Я спрашиваю себя об этом сейчас, когда рассказы Флавия, тени дозорных, зарезанных под предательским покровом лесов, вновь напоминают мне о бледном и гордом ретиарии, лежавшем на арене. Проявил бы я такую же отвагу, как этот захваченный в рабство человек, давший нам всем урок, которым мы обязаны ему на всю жизнь? Трепетал бы я, придавленный коленом одного из этих белокурых германцев, умоляя о пощаде? Или смог бы бесстрашно смотреть в его голубые глаза?
Власть убивать. Власть даровать жизнь. Буду ли я достоин когда-нибудь осуществлять ее, достоин древних римлян, к которым она перешла от богов или от кого-то еще? Проживу ли я так долго, чтобы иметь право на почести?
Который час? Под этим мрачным небом, по которому скользит мертвенно-бледное солнце, это невозможно определить. Солнце оставляет бронзовые блики на земле, там, где обнажается поверхность болот. Сколько уже дней мы не слышали ни одной птицы? Только грачи сопровождают нас, настырные и мрачные.
К вечеру полил сильный дождь. С наступлением ночной сырости стало холоднее. Кто бы мог поверить, что сейчас сентябрь и в Риме стоит непереносимая жара, смягчающаяся лишь на закате. Я думал о нашей вилле в Кампанье, о блеске моря под нашими окнами, о фонтанах сада, о соке фиолетовых фиг и о тяжелых кистях винограда в Фалерне. Мой отец, должно быть, читает в библиотеке или сверяет с Деметрием счета. Он долго отсутствовал, сопровождая Тиберия в его походе против взбунтовавшихся легионов в Иллирии. А я, я провел в Галлии уже два года.
Прежде чем отправиться в восставшие области, Кай Старший передал мне белую тогу с пурпурной каймой, чтобы я мог наследовать ему, если он не вернется. Он дал мне письмо к Вару, пропретору галлов. Дети сенаторов или всадников не обязаны были нести воинскую службу, но мой отец умер бы со стыда, если бы я подумал от нее уклониться. Я тоже.
Однако бывают дни, когда долг кажется тяжелым, а повиновение — горьким. Этот поход по стране херусков или хаттов — никто не знает точно границы между землями этих народов — проходил именно в такие дни. Дождь в конце концов пропитал толстую ткань наших, плащей. Лошади шлепали по дороге, забрызгивая грязью пехотинцев. Какими бы привычными они ни были, пехотинцы уже сгибались под тяжестью ранцев и снаряжения, состоявшего из котелка, одежды, орудия и семнадцатидневного пайка, не говоря уже о тяжести личных воспоминаний, амулетов и трофеев, с которыми легионер не расстанется никогда. Вар не отдавал приказа разгружать котомки, что не мешало ему продвигаться форсированным маршем. Усталыми движениями люди вытирали лоб, протирали глаза, искали взглядом знаменосца, ожидая благословенного момента, когда раздастся сигнал конца перехода: «Знаменосцы! Сложить знамена!»
Всех одолевали усталость и голод. Флавий перестал болтать, оставив меня в покое со своим вечным «знаешь, трибун»… Да, я знал… Я знал, что все это нелепо, я знал, что Публий Квинтилий Вар, внучатый племянник Августа, потерял рассудок, действуя таким образом.
Вар наконец решился сложить знамена. Дождь все усиливался, наступила ночь. Почва была абсолютно размыта. И в этом поле мы должны разбить лагерь? Если верить нашим сведениям, в этих равнинах встречаются воды нескольких рек, и около образованного ими лимана равнина похожа на огромное болото. Люди шлепают по колено в грязи, и их лопаты, которые роют оградительные траншеи и возводят защитные брустверы, издают мягкие чавкающие звуки. Они не жалуются, хотя и пошатываются от изнеможения. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый легионы… Палатки покрывают пространство, постепенно целый город из холста и дерева вырастает словно из-под земли. Вар, ни на минуту не забывающий о своем ранге, сане и принадлежности, пусть и отдаленной, к императорской семье, привлек лучших землекопов и самых ловких солдат для постройки штаб-квартиры, соответствующей его званию и правам. Ради чего эти легионеры позже всех лягут спать? Ради бивуака на одну ночь, так как наш пропретор и префект лагерей боится упустить Арминия. Стук дождя по палатке, чрезмерная усталость или, может быть, тревога, которую я с трудом преодолеваю, мешает мне спать. Из соседней палатки Вара до меня доносятся смех и крики: начатая после ужина партия в кости еще не закончилась. Я не захотел играть, предпочтя отдых. И теперь жалею об этом. Лучше бы я слушал разговоры других трибунов и даже Вара, всегда одни и те же, о достоинствах его жены, Клавдии Пульхры, или о его преторстве в Иудее, чем погружался в свое одиночество и тревоги, его сопровождающие. Впрочем, если я засну, Марк разбудит меня, когда вернется.
Усталость взяла верх: я заснул. И мне приснился сон. Мне приснилось, что Арминий, одетый парфянским лучником, завел нас в Кавдинское ущелье! Не нужны ни сонник, ни помощь авгура, чтобы разъяснить мой кошмар. Даже во сне не оставляют меня плохие предчувствия.
Марк вернулся, как мне показалось, полупьяный. Он говорил сам с собой. Спасибо ему, он меня разбудил!
Нет, если Марк и был пьян, то, во всяком случае, не от вина. Его пьянил гнев. Он хотел разделить его со мною — шумно, экспансивно и картинно.
— Я не могу в это поверить, Кай! Я не могу в это поверить! Знаешь, что вырвалось у Публия Квинтилия Вара во время разговора? Что он знал, что Арминий нас предаст! Его предупредили, ты слышишь! И он ничего не предпринял!
Марк изверг руладу ругательств, ставивших под сомнение мужские достоинства Вара, верность Клавдии Пульхры и законность их потомства. Я сел. Я не мог в это поверить.
— Кто же его предупредил, Марк?
— Сегест, тесть Арминия! Они ненавидят друг друга! Гудрун, дочь Сегеста, сбежала с Арминием, хотя была обещана другому военачальнику. Ее отец был вынужден вернуть жениху полученные вперед деньги. Представляешь, как он любит Германа! Когда Арминий начал будоражить племена по своем возвращении из Рима, где он командовал корпусом германских вспомогательных войск, Сегест разыскал Квинтилия и рассказал ему о том, что замышляет его зять.
— Что же ответил Вар?
— Что Арминий — римский гражданин, что он вскормлен молоком Волчицы, что он один из наших наиболее блистательных трибунов, в общем, глупости в этом роде. И когда Сегест вернулся к этой теме еще раз, Вар его оборвал, сказав, что, если тот не в состоянии блюсти добродетель своей дочери, Рим здесь помочь не может и что не пристало пропретору разбирать семейные дрязги. Он добавил, что Арминий может одарить Гудрун красивыми детьми и что он желает им всяческого процветания. Это было вечером, во время большого пира, ты помнишь… Почти такого же роскошного, как ужин у Мецената! А на другой день, пока мы отсыпались, Арминий и его вспомогательные войска перешли Рейн.
Да, я припоминал! Арминий возлежал справа от Публия Квинтилия, на почетном месте. На своем прекрасном латинском языке с едва заметным германским акцентом он отпускал шутки, не совсем удачные, веселившие лишь его самого. Друг и союзник римского народа… Мы чествовали его, мы спрашивали о его впечатлениях о Городе. Хорошо же он посмеялся над нами!
Мне очень нравится Марк Сабин Греции, трибун девятнадцатого легиона. Этот веселый увалень вспоминает об ужинах у Мецената, будто сам на них бывал. Но он не просто кутила, хотя и создает такое впечатление. Марк — смелый, упорный, умный, он так и сыплет цитатами из Гомера и Вергилия, при этом как бы подтрунивая над ними. И до этого вечера я ни разу не видел, чтобы что-нибудь вывело его из себя.
— Не переживай, Кай! — вздыхает он, опускаясь на свое ложе. — Да, я сердит, но главным образом потому, что в Аргенторане у меня осталась флейтисточка-сирийка, и из-за этого слабоумного Квинтилия я не скоро ее увижу…
Действительно, не скоро… Сегодня утром, как мы и предполагали, Вар решил продолжить погоню, — разделив наши силы надвое, на случай, если Арминий нападет с севера, а не с востока. Услышав об этом решении, стоявший рядом Флавий не смог скрыть свое неодобрение.
Семнадцатый отправился на восток. Мы продолжали продвигаться к Везеру. Местами мы вязли в топях, и инженерные войска выходили вперед, поспешно сооружая примитивные мосты. Все, что только видел глаз, было серым. О Геракл! Куда ведет нас Вар?
В девятом часу Вар выслал вперед отряд разведчиков. В ожидании их возвращения Марк разъезжал вдоль колонны, следя за тем, чтобы легионеры ускорили шаг, сомкнули ряды, не отставали. Проезжая мимо меня, он натянул вожжи и вздохнул:
— Стрелки давно должны были вернуться.
Флавий пожал плечами:
— Знаешь, трибун, они могли и заблудиться. Здесь не на что ориентироваться.
Мне показалось, что он сказал это, чтобы успокоить свою тревогу.
Даже дыма не было на горизонте — возможно, в этом унылом месте и деревень-то не было. Никаких признаков жизни, если не считать воронов, которые всю дорогу следовали за нами.
— Слушай, трибун, похоже, эти птицы — посланцы Вотана, как орел у Юпитера.
Прежде я не думал об этом, и теперь они кажутся мне еще более зловещими, эти черные сообщники вражеских богов.
День подошел к концу, а наши разведчики все еще не вернулись. Даже Вар, с начала похода излучавший уверенность и душевное спокойствие, был озадачен.
В еловом лесу, по которому мы шли, солнце никогда не рассеивает сумрак. Но вот равнина закончилась, и мы начали подъем на гряду холмов. Сильно нагруженные люди задыхались. Они ворчали, их ноги путались в колючем стелющемся кустарнике, покрывшем землю.
Внезапно наше продвижение прекратилось, в рядах началась толкотня. С моего места, из середины колонны, я не видел, что происходит, но слышал крики и восклицания. Галопом подъехал Марк, он был мертвенно-бледен.
— Пилат, идем!
У меня не было никакого желания знать, что стряслось, но я последовал за ним. Мы выехали на огромную поляну, где было почти светло по сравнению с теменью остального леса. В центре поляны рос дуб, широкий и унылый, простирая к небу ветви, осеннее солнце мягко позолотило его листву. Это было священное дерево, судя по предметам, прибитым к его стволу и висевшим на ветвях. Среди приношений чужим богам мы увидели тела наших разведчиков, распятые, истерзанные, обескровленные, оставленные здесь как зловещее предостережение…
Мне показалось, что меня сейчас стошнит, и я поспешно отвернулся. Марк как загипнотизированный пристально смотрел на это чудовищное зрелище, в то время как его судорожно сжатые руки все натягивали удила, так что лошадь с мучительно оскаленной пастью рвалась под ним. Все офицеры собрались перед этим варварским жертвенником, и красные гребни наших шлемов контрастировали с бледностью наших лиц.
Лицо Вара, обычно красное, обрело пепельно-серый цвет. Ценой невероятного усилия ему удалось преодолеть себя и сказать почти спокойным голосом:
— Снимите этих людей!
Потом, медленно, он закрыл лицо полотнищем своего плаща. Главнокомандующий, наделенный религиозными полномочиями, равноценными полномочиям Фламиния от Юпитера, обязан соблюдать запреты, и Вар не имел права смотреть на трупы и предметы похоронного ритуала, ибо это могло помешать ему исполнить свой долг.
На протяжении многих миль добровольцы, сменяя друг друга, несли останки своих товарищей. Мы не хотели ни бросить их без погребения, ни воздать им погребальные почести в месте, посвященном богу вороной, любителю человеческих жертв.
Вечером мы разбили лагерь на опушке леса. Почва была здесь более сухой, чем на месте вчерашнего бивуака. Люди были изнурены и, что еще хуже, деморализованы. Осматривая укрепление, я заметил, что все работали на скорую руку: ров был вырыт неглубоко, а бруствер был недостаточно высоким.
Мне следовало рассердиться, угрожать лишением жалованья и трофеев или попытаться образумить, напомнить, что мы окружены врагами и нуждаемся в прочном оборонительном сооружении. Но я понимал, что это бесполезно. В тот вечер они не думали ни о грабеже, ни о сестерциях за следующий месяц и берегли силы на другое: рубку деревьев для погребального костра. Это было так понятно, что даже Вар на этот раз не осмелился требовать, чтобы и на эту ночь ему возвели штаб-квартиру, соответствующую его представлениям о своем величии.
Поздно ночью мы остались смотреть на пламя погребального костра. Жар пламени обжигал нас с одной стороны, ветер с севера обмораживал с другой; едкий запах горящей ели не мог перебить запаха паленого мяса. Марк сказал:
— А нам, кто нам воздаст погребальные почести?
Мы двинулись в путь до рассвета. Вар упорно продолжал движение, не имея никаких известий от Мессалы. Перед нами тянулась болотистая равнина, окруженная мрачными, поросшими чернеющим лесом горами. Бесчисленные вороны кружили над нашими головами. Иногда, пронзительно крича, они пикировали прямо на нас, как хищные птицы.
Откуда они появились? И как смогли незаметно приблизиться? Их были тысячи, эти тысячи тянулись вдоль горизонта, насколько хватало глаз. Тысячи варваров: херусков, хаттов, бруктеров, фризов, пришедших с туманных берегов германского океана. Арминию удалось совершить чудо — собрать под своим командованием рассеянную массу германских племен.
Мы развернулись в боевом порядке, манипула за манипулой, центурия за центурией. Римская армия, хорошо подогнанная машина, демонстрировала свою силу, свое искусство, свою дисциплину. Букцинумы трубили, мечи в такт ударяли о щиты. Там, вдали, ветер трепал длинные волосы варваров. Вексилларии нашей конницы подняли знамена; знаменосцы сжали пальцы на древках орлов легионов и на знаменах когорт. Черный жеребец Вара, заржав, встал на дыбы. Я отстегнул фибулу, удерживавшую мой плащ, — он стеснял движения. Моя ладонь вспотела на гарде шпаги.
Долгие годы я дивился нечеткости своих воспоминаний, суматошных и беспорядочных видений, преследовавших меня в кошмарах, значение, связь, логику которых мне не удавалось восстановить. Мне случалось потом говорить с другими ветеранами: легатами, трибунами, центурионами и простыми воинами, выжившими в других сражениях. Ни один из них не пережил подобного тому, что пережил я в Тевтобурге за несколько дней октябрьских календ.
Мы сражались долго и мужественно: пусть Рим не думает, что мы не умели защитить его честь. Не раз галльские резервы нападали на всадников Германа. Одетые в форму своих победителей, потомки сподвижников Верцингеторикса не совершили недостойного поступка. И, как и их отцы перед Лабиеном, галлы защищались до последнего, не отступая.
Секст Нументин Приск, легат восемнадцатого, пал с наступлением седьмого часа. Тогда Вар вспомнил, кто он, и решил оправдаться в глазах потомков. Взяв на себя командование восемнадцатым, он прорвал правое крыло Арминия. На короткое мгновение показалось, что германская орда дрогнула. Но обнаженный по пояс вождь варваров направил на Вара своего коня. Я узнал Арминия. Он был молод, силен и ловок; Вар достиг зрелого возраста. Сражение на время затихло: и римляне, и германцы смотрели, как бьются их военачальники.
Кровь струилась из груди варвара; императорский пурпур скрывал раны Квинтилия. Вдруг мы увидели, как он пошатнулся; если бы я не подхватил его, он непременно бы упал. Пот тек по лицу Арминия, застывшему в волчьем оскале.
Поддерживая Вара, я заметил, что он плачет.
— Ты не должен был, Кай Понтий, — сказал вполголоса пропретор, — ты не должен был…
Шум стихал на равнине. Девятнадцатый легион потерпел поражение во время последнего натиска германцев, а от восемнадцатого осталось только три когорты; мы образовали круг, спина к спине, готовые биться до тех пор, пока у последнего из нас останутся силы держать копье или меч. Крик ярости, перешедший в стон, вырвался из наших рядов, когда исчезнувший было орел девятнадцатого легиона появился в руках одного из военачальников Арминия.
Вар опустил глаза: он смотрел на свой меч. Я догадался, что он собирается сделать, но почувствовал себя не вправе мешать ему. Резким ударом он вонзил в себя клинок. Я снова протянул руку, чтобы поддержать его:
— Кай, скажи в Риме…
Я так и не узнал, что Публий Квинтилий просил меня сказать в Риме. На его лице появилось умиротворение. По крайней мере он будет спать спокойно в той ночи, которая не кончается.
Я был единственным оставшимся в живых высшим офицером восемнадцатого легиона.
Вар погиб, нас осталась лишь горстка, защищавшая орла. Я был не единожды ранен и выжить уже не надеялся. Впрочем, как можно желать выжить в такой день? Вар, быть может, единственный раз в жизни сделал свой лучший выбор. Я знал, что обречен, и тем не менее странные мысли приходили мне в голову. Я не думал ни об отце, ни о Риме. Мне не давала покоя мысль об осиротевшем черном жеребце Квинтилия; он был из конюшен Августа, и я сожалел, что это животное достанется хозяину, его не заслужившему. Это странное беспокойство помешало мне вовремя заметить бруктерского всадника, поднявшего на меня копье. Я упал и лишился чувств, так что мне не довелось увидеть ни гибели нашего знаменосца, ни захвата наших священных знамен.
Но что значило для Рима потерять два легиона? Единственной невосполнимой потерей были наши утраченные орлы. За всю историю Рима такое несчастье, до этого рокового дня, случилось лишь однажды, по вине Красса, в Каррах…
— Не двигайся, трибун, и не шуми! Я вытащу тебя отсюда.
По галльскому акценту я узнал голос Флавия. Он дошел до моего сознания сквозь туман, в который я был погружен.
С трудом я открыл глаза и едва различил тень склонившегося надо мной центуриона. Стояла темная ночь; высоко в небе светили холодные звезды. Другие огни — красные — маячили вдалеке. Слышались взрывы смеха, гортанные крики, обрывки диких песен, доносимые легким ночным ветерком; это были костры и шум лагеря.
Флавий помог мне подняться.
— Знаешь, трибун, люди Арминия празднуют свою победу; они мертвецки пьяны. Это наш шанс. Нужно бежать, а лучше спрятаться. И сделать это следует поскорее: Герман со своими не замешкается. Он хочет догнать Мессалу и семнадцатый, да помогут им боги!
Сидя на влажной траве, я чувствовал, как кружится моя голова. Меня бросало то в жар, то в холод. Пересохший язык прилип к нёбу, губы кровоточили. У меня ныло левое плечо в том месте, на которое пришелся удар копья. Другие раны причиняли колющую боль. Падая с лошади, я сильно ушибся, а моя туника была вся залита кровью. Но все это было не так нестерпимо, как душевные муки, с которыми я возвратился к действительности: поражение, бесчестие.
— Дай мне спокойно умереть, Флавий!
— Если бы боги пожелали, чтобы ты был мертв, трибун, они бы отняли у тебя твою жизнь сегодня. Не ропщи.
Почему я не умер, ведь все те, кто меня окружал, лежат теперь бездыханные там, на равнине? Почему в конце сражения меня не прикончили германцы, объезжавшие поле боя, добивая раненых и обирая убитых, преимущественно офицеров? По какой странной случайности Флавий нашел меня среди этой груды тел? И как могло случиться, что галльский центурион, которого я видел во главе отчаянно атакующих вспомогательных войск, был еще жив?
— Знаешь, трибун, сегодня со мной произошло что-то неслыханное: я видел, или мне это только показалось, что-то вроде белого свечения, которое окружило меня, и я прошел сквозь ряды германцев… Будто став невидимым.
— То ли Минерва, то ли кто-то еще из богов защитил тебя, Флавий, — ответил я. Про себя я подумал, что, скорее всего, центурион контужен и бредит.
— Ты прав, трибун, нас защитили боги.
Флавий счастлив верой в богов; у меня не было ни этого счастья, ни этой слабости.
Мы провели остаток ночи под кустом, прижавшись друг к другу, стараясь согреться. Флавий спас свою флягу с пикетом. Он дал мне напиться, и питье с привкусом уксуса показалось мне таким же приятным, как знаменитое фалернское вино. И наступил рассвет.
Туши околевших лошадей с одеревеневшими ногами и раздувшимся брюхом. Бесчисленные человеческие тела были приплюснуты к земле, будто с упованием вернуться в нее и стать прахом. Я узнал вексиллария в залитой кровью шкуре пантеры, с раскроенным черепом. Среди убитых было много германцев: наши легионы умели защищаться. От груды трупов уже начал распространяться смрад.
В седьмом часу солнце было в зените. Арминий спустился в равнину верхом на жеребце Вара. Два военачальника слепа и справа от него держали в руках наших орлов. Немного позади ехала боевая колесница, которой правила светловолосая женщина. Германцы имеют обыкновение брать с собой жен на войну. Сознание, что в случае поражения жены попадут в рабство, удесятеряет их силы. Той светловолосой женщиной была Гудрун, дочь Сегеста, которую когда-то похитил Герман и сделал своей королевой; она была очень красива.
Арминий взобрался на пригорок, возвышавшийся над местностью, и обратился с речью к своим войскам. Он схватил орлов, потряс ими, плюнул и бросил на землю, под копыта своего жеребца.
Ряды варваров раздвинулись, показалась вереница людей. Это были наши, захваченные в плен: декурионы, центурионы, командующие первыми центуриями и среди них трибун девятнадцатого легиона Марк Сабин Греции, мой друг.
Одних германцы повесили, других обезглавили или бросили во рвы, утыканные кольями.
Арминий потребовал, чтобы мимо него провели Грецина. И, пока палачи истребляли наших солдат, он разглядывал его, надеясь заметить в его лице выражение ужаса и паники. Марк, гордый и надменный, держался прямо. Когда, кроме Сабина, в живых не осталось ни одного римлянина, Арминий спросил:
— Скажи мне, Греции, если бы я был на твоем месте, а ты — на моем, как бы ты поступил со мной?
У Марка хватило мужества улыбнуться и, четко и громко, тоном невыразимого презрения, ответить:
— Я убил бы тебя, Арминий, не сомневайся, я убил бы тебя!
Как-то вечером, прошлой весной, Марк сказал мне, смеясь:
— Рим идет к упадку, Кай! Я не испытываю никакого желания подражать ни Сцеволе, ни Горацию Коклу; добродетель Каталины Старшего и Регула приводит меня в ужас.
И Марк, которого так ужасала мысль о мучениях, вынесенных когда-то героями Рима, продолжал бросать вызов Арминию:
— В твоей власти убить меня, Герман, но не обесчестить. Ты думаешь, что победил Рим; ты победил только императора. Рим повелевает вселенной! Рим непобедим. Рим вечен.
Греции испустил дух с именем Города на устах.
А я — я поклялся жить, чтобы отомстить.
Два месяца спустя, по глубокому снегу, мы с Флавием достигли берегов Рейна. В Аргенторане нам сказали, что Мессала и его семнадцатый тоже погибли.
Мы с галлом были похожи на призраков, вернувшихся из Аида.
III
Когда в декабре 763 года от основания Города мы перешли Рейн, пасмурное небо нависало над Аргентораном, предвещая новые снега с их мертвой тишиной. Но мрачные тучи и гробовая тишина не могли сравниться со скорбью, гневом и стыдом, нависшими над нашим лагерем.
Больше и речи не было о том, чтобы переправляться через реку. Снова идти на штурм этой страны лесов и болот никто уже не хотел. Август, узнав о бедствии, посыпал голову пеплом и ходил по Палатину, ударяя себя в грудь и издавая стоны:
— Вар, верни мне мои легионы!
Погибло двенадцать тысяч. Я видел, с каким мужеством и среди каких мучений. В Аргенторане слышны были вопли и рыдания. Каждый потерял друга, брата, сына. Женщины, окруженные осиротевшими детьми, растрепанные, бродили по улицам и, плача, звали по именам тех, кого больше не было.
Но я, Кай Понтий Пилат, трибун-ангустиклав восемнадцатого легиона, я, чей труп должен был гнить вместе с трупами легионеров из вспомогательных войск галльской конницы, я — был жив. И не мог понять, как это случилось и отчего я не погиб. Поистине, это очень странно — вернуться к живым…
В Аргенторане я не остался; мне понадобилось совсем немного времени, чтобы оправиться после вынесенных испытаний. А полученные в сражении раны зажили еще до нашего чудесного возвращения. Я радовался, что так быстро выздоровел. А потому не придал никакого значения словам Глокоса, хирурга, который проговорил сквозь зубы:
— Поверь мне, трибун, ты всю жизнь будешь вспоминать этого германца, ударившего тебя копьем.
Впоследствии я с горечью убедился, что старый грек был прав. Отныне я не вполне владел левой рукой, к тому же она за три дня предупреждала меня о перемене погоды. Я уверился, что левая рука не даст мне покоя до самой смерти, и стоически смирился с этим. Но и здесь я ошибался… Потому что спустя двадцать лет, в одно мгновение, вдруг почувствовал себя исцелившимся от давнего недуга. Я знаю, что думает об этом Прокула, и делаю вид, что вижу в этом проявление женского легковерия. Но разве я могу скрыть правду от самого себя? Моя совесть и так не дает мне покоя, и нет смысла отягчать ее лишними укорами, мыслью о том, что я обязан этой милостью тому… Вот и я, в свою очередь, начинаю бредить. Восток отравляет своими миазмами самые здравомыслящие головы!
Итак, раны на моем теле затянулись, но сердце по-прежнему было полно тоски и ужаса. Я считал для себя бесчестьем оставаться в живых, когда столько лучших и более достойных людей не были даже погребены, став добычей диких зверей. Флавий лучше меня принимал нашу счастливую долю. Но случалось, что во время партии в кости или между двумя кубками галльского вина он, неожиданно задумавшись, останавливался и тихо говорил, устремив вдаль серые глаза:
— Знаешь, трибун, я спрашиваю себя, не лучше ли мне оставить армию.
Это было лишь благое пожелание, мы оба это знали: Флавий еще не достиг возраста, при котором можно получить отставку, да ему и незачем было ее требовать. Достаточно было видеть, с каким энтузиазмом он занимался подготовкой новобранцев, чтобы понять, что лагерь стал его жизнью. Одним февральским вечером, в то время когда дни становятся длиннее, Флавий зашел ко мне:
— Трибун, я хочу попросить тебя об одном одолжении.
Я кивнул, не говоря ни слова. В чем мог бы я отказать человеку, который спас мне жизнь, вытащив меня из груды трупов в Тевтобурге и целыми неделями выхаживая меня, утешая и таская на закорках, ибо я был так слаб, что силы очень быстро оставляли меня?
— Послушай, трибун, ты знаком с Зенобией…
Да, я знал Зенобию — сирийку, флейтистку и проститутку. Ночь за ночью, месяц за месяцем она согревала ложе не только Грецина, но и некоторых других офицеров, хотя влюбленный Марк — как можно влюбиться в такую женщину? — упорно это отрицал… Что до меня, то я не поддавался чарам этой женщины с тяжелыми чертами и обвислыми веками, любившей намазываться дешевым розовым маслом и воплощавшей в моих глазах саму вульгарность. Ну и что с того? Я сделал знак Флавию, чтобы он продолжал.
— Я хочу жениться на ней, трибун. Мы любим друг друга. Но, знаешь, она не переносит здешнего климата. Снег, холод, все серое… Трибун, как ты думаешь, я добьюсь перевода? Смог бы ты поддержать мое прошение? В Антиохию, Дамаск или Кесарию…
Я согласился. Мог ли я поступить иначе? Это было несложно для меня, достаточно было сообщить отцу, что именно Флавию он обязан тем, что у него все еще есть сын. И только при расставании я понял удивительную вещь: несмотря на все то, что нас разделяло, Флавий был мне другом.
— Знаешь, трибун, я напишу тебе, — сказал он, уезжая.
Я был уверен, что он не исполнит своего обещания. Одна мысль о могучей руке Флавия, сжимающей перо, была забавной сама по себе. Усилия, которые ему следовало приложить, чтобы начеркать на своей корявой латыни несколько слов, должны были быстро сломить его решимость. Я не удивился, что так и не получил ни одного известия от галльского центуриона.
Флавий уехал. Пребывание в Аргенторане стало для меня невыносимым. После поражения Вара вся наша стратегия по отношению к Арминию выражалась одним словом: ждать.
В мае отец добился для меня должности в Иллирии, климат которой, по его словам, должен был способствовать моему скорейшему полному выздоровлению. На самом деле ему не терпелось поскорее приблизить меня к Риму, к почестям, к Кесарю. Он стремился — не признаваясь в этом самому себе — оградить меня от опасностей и приблизить к себе. Тем летом я уехал в Рим, потом в Кампанью. Там я нашел Кая Старшего. Я не узнал его.
Он постарел. Прежние бодрость и сила исчезли. Волосы поседели, голос сел, и долгие приступы кашля сотрясали его исхудавшее тело. Однажды утром, когда мы прогуливались по саду, с ним случились приступы удушья, и он стал харкать кровью. Внезапно я понял, что мой отец умирает, и, вопреки летней жаре, леденящий холод сковал мое сердце.
Три последующих года я провел в разъездах между Иллирией и Римом. С каждым приездом я находил Кая Старшего еще более ослабевшим, хотя он и пытался скрыть от меня серьезность своей болезни. Деметрий, плача, рассказал мне, что отец, когда объявляли о моем приезде, накладывал на щеки искусственный румянец, чтобы скрыть от меня свою болезненную бледность.
Доживая последние дни, отец больше всего беспокоился о моем будущем. Конечно, Понтии были богаты, но наши сундуки с сестерциями значили немного по сравнению с вотчинами сенаторов или некоторых семей римских всадников.
Он мечтал о добром союзе с дочерью какого-нибудь сенатора. Он настаивал также, чтобы я, едва истекут пять лет службы, покинул армию и начал административную карьеру в канцеляриях Палатина.
Когда я морщился от подобной перспективы, он улыбался странной улыбкой, которая на короткое мгновение делала его таким, каким он был прежде.
— Как ты молод, Кай! Знаешь ли ты хоть что-то о работе, которая совершается во мраке дворца? Ты думаешь, я упустил там свое время? Что я перестал быть солдатом, сняв военную форму?
Нет, я вовсе так не думал, хотя и пребывал тогда в неведении относительно карьеры отца…
Кай Старший цеплялся за жизнь не только ради меня, но еще по одной причине: в надежде видеть Тиберия преемником Августа. Это была его цель, и он делал все, что мог, ради того, чтобы она осуществилась.
Однако я сомневался, что отцу суждено пережить Кесаря.
Август отпраздновал свою семидесятую годовщину, и его здоровье казалось непоколебимым… Наконец, чувствуя, что слабеет, отец представил меня Тиберию. Он обращался с ним с почтительной непринужденностью, которой мне так и не довелось достичь ни с кем из представителей правящего Дома. Манеры же самого Тиберия приводили меня в оцепенение.
Мой отец был высоким. Клавдий Тиберий Нерон был выше него, но эта дурная манера ходить — он сильно сутулился — делала его облик неприятным, хотя утверждали, что в юности он был красив. Черты его волевого лица расплылись, волосы начали выпадать. Тем не менее лицо его неизменно поражало — из-за глаз, огромных, пристальных, изучающих. Когда я лучше узнал божественного Тиберия, я, конечно, понял, что этот странный взгляд объясняется чрезвычайной слабостью зрения. И все же, — может быть, потому что там, в Германии, в легионе ходил слух, будто Тиберий способен видеть в темноте, — я никогда не мог отделаться от мысли, что он способен проникать в тайны сердец так же легко, как и в тайны ночи.
Да, обращение Тиберия приводило меня в оцепенение, и я никогда не испытывал к нему ничего иного, кроме священного и почтительного страха. Что было бы, если бы я, как и отец, был уверен в дружбе и поддержке Кесаря? Если бы вместо страха испытывал к нему привязанность? Сегодня я знаю наверное, что был отмечен Тиберием, даже любим — настолько, насколько он был вообще способен любить; заслужить такое расположение Тиберия было нелегко… Но тогда я этого не сознавал. Только теперь, когда он умер, его сменил Калигула и обрек меня на изгнание, я понял эту очевидную вещь: Тиберий уважал меня, любил и покровительствовал мне. Но разве все сложилось бы иначе, если бы я знал тогда, что Тиберий меня поддерживает? Будь я уверен в поддержке кесаря, как бы я поступил, когда незнакомый голос бросил мне с угрозой:
— Если освободишь его, ты больше не друг кесарю!
Может, я посмеялся бы над этим несчастным, который осмелился указывать прокуратору Иудеи… Но в тот момент у меня и в мыслях не было, что кесарь покровительствует мне всей своей властью, всей своей силой.
Отец посвятил свои последние дни тому, чтобы познакомить меня с миром, о существовании которого я до того времени и не подозревал.
Я был еще молод; в жизни я не знал ничего, кроме лагерей и войны. С его подачи я с трудом освоил другой вид противостояния — государственную службу, которую уже много лет возле Тиберия нес мой отец.
Тиберий и Кай Старший сделали из меня человека теневой власти, я стал агентом-осведомителем Тиберия, или, как говорят иные, шпионом.
В августе 768 года Кесарь Август заболел, и смерть унесла его, без страданий, в два дня. Один за другим все члены Сената и всадники проследовали в Палатин. Все, кто имел отношение к Риму, толкались у входа во дворец, опасаясь запоздать с выражением соболезнования, знаками почтения и поздравлениями. Их подобострастные ужимки вызывали отвращение у Тиберия.
Отец таял на глазах. Воля к жизни, державшая его, покуда пурпурная мантия не перешла к Тиберию, иссякла, когда его друг достиг высшей власти и я был ему рекомендован. Вскоре он уже не вставал; его рвало кровью, но все эти устрашающие знаки оставляли его спокойным: цель была достигнута — Тиберий стал императором.
Кай Старший умер в октябрьские календы, в час, когда над Римом садится солнце, купая Город в свете, о котором я с такой ностальгией вспоминаю среди туманов Вьенны. Я был рядом с ним. В момент, когда сияние закатного солнца было особенно сильным, отец поднял руку и, указывая на несравнимое ни с чем великолепие семи холмов, прошептал:
— Посмотри, Кай! Рим…
И, произнеся имя своей самой большой любви, потерял сознание.
Ребенком — я чуть не потерял отца. Солдатом — едва не опередил его в могиле. Однако ничто не могло подготовить меня к этой потере и такой печали. В тот далекий октябрьский вечер я стал взрослым: больше некому было меня защищать и заботиться обо мне. Я был совершенно свободен, но эта свобода показалась мне слишком горькой.
Через день после похорон Тиберий вызвал меня и приказал отправиться к галлам.
В отличие от Августа, плохого стратега, в старости ставшего еще и трусливым, Тиберий был великим императором. Он не смирился с потерей Германии, где некогда стяжал столько лавров. Вот почему он отправил на Рейн лучшего полководца, своего племянника Германика. Однако при этом Тиберий не доверял сыну Друза.
Германик ни на мгновение не заблуждался относительно роли, которую я при нем выполнял; он знал, какие услуги мой отец оказал его дяде… Но что он мог сказать? Я был трибуном-ангустиклавом и намеревался сделать карьеру в армии. Самое главное, — я был одним из выживших в Тевтобурге, то есть человеком, который мог снабдить его сведениями и об этой стране, и об Арминии. Мое присутствие на Рейне само по себе, таким образом, не было подозрительным. И тем не менее ни Германик, ни Агриппина, его жена, с самого начала нисколько не обманывались на мой счет.
Когда я прибыл в Аргенторан, Германик был на вершине своей популярности. Агриппина и дети, следовавшие за ним повсюду, делили эту славу вместе с ним. В войсках испытывали особую любовь к его младшему сыну, маленькому Каю, которому было тогда три года, и мать, потворствуя войскам, забавлялась тем, что обувала его в военные caligae[1]. Из-за этого мы прозвали его Калигулой… Кай был очаровательным ребенком, от которого все были без ума. Даже я. Невозможно было бы представить тогда, что именно ему я буду обязан не только немилостью и изгнанием, но и постоянным трепетом при известии о прибытии гонца в ожидании царственного приказа вскрыть себе вены. Поистине, очаровательный ребенок…
Германик, по соглашению с легатом Цециной, во главе восьми легионов и вспомогательных германских и галльских отрядов перешел Рейн и захватил территорию хаттов. Мы устроили великую резню варварам, обратив в рабство — участь более жестокая, чем смерть, — немногочисленных пленников.
Цецина, продвигаясь в дыму пожаров по стране бруктеров, вернул орла девятнадцатого легиона. Марк Сабин оказался точным в своем предсмертном пророчестве: Арминий победил императора, но не в его силах было победить Рим.
Так прошли три года. Герман был лишь изгнанником, спрятавшимся в таких глухих краях, названий которых не знали даже наши географы. Младшие офицеры один за другим покинули его и подчинились Риму. Мы восстановили границы Империи на Востоке. Тогда, как это ему ни претило, Тиберий воздал Германику триумфальные почести, и в 771 году мы вернулись домой.
Находясь в свите победившего императора, я участвовал в его триумфе, познав пьянящее счастье шествовать к Капитолию под крики исступленной толпы.
Мне исполнилось тридцать. Карьера состояла для меня в отправлении службы в магистратурах. Я спешил добиться попечительства.
Именно этот момент выбрал Тиберий, чтобы известить меня, что нашел мне жену.
IV
Был восьмой день Поминовения усопших. Уже неделю Рим поминал умерших в надежде хоть на время снискать себе покровительство Манов.
Не столько из любви к книгам, сколько из тайной надежды найти в них тень моего отца, я запирался в библиотеке.
Поминальные дни обязывали к праздности и утомительному девятидневному уединению. У меня было много времени для размышлений, а это — худшее из занятий, которым может предаваться римлянин. Старик Катон был не так уж неправ, бичуя греческие вкусы и нашествие философов. Никто из нас не избежал этой чумы. Стоит ли удивляться, что даже я однажды взялся рассуждать об Истине с человеком, которого собирался отправить на крест. Катон проклял бы меня!
Я грустил и скучал; многие покончили с собой и не из-за таких пустяков. Все-таки на целых девять дней Праздник в честь усопших избавил меня от Помпонии. Считалось, что она вся в печали: не прошло и года, как умер ее супруг, Тит Домиций Персик.
С тех пор как не стало Персика, его вдова, некогда самая любезная из любовниц, превратилась в фурию. Она была красавицей, кокеткой. Любила драгоценности, редкие духи, которые привозили с Востока, переливающиеся разными цветами ткани, которые ткут, соединяя хлопок из Египта с тяжелым шелком из страны серов, и которые стоят на вес золота. Персик не был скупым на всю эту роскошь. Он был патрицием, и его состояние насчитывало миллионы; мое — не превышало пятисот тысяч сестерциев. Прихоти Помпонии были мне не по средствам.
За один месяц я был вынужден купить ей массивный браслет в галльском духе, изображающий двух стоящих друг против друга львов, сандалии «в вавилонском стиле», цена которых была несоразмерна с низким качеством кожи, использованной для их изготовления, сетку для волос из индийского жемчуга, подходившую для новой прически, которой она собиралась украсить себя. Оказалось, что прическа ей не идет, хотя сетка для волос стоила мне полугодового дохода с моего кампанийского поместья…
Двадцать пять лет брака с Прокулой обошлись мне не так дорого, как в свое время три месяца с любовницей. На самом деле, обладая Помпонией, живым воплощением патрицианского высокомерия, я тешил свое тщеславие. В то же время, поскольку она была уже не так молода и боялась состариться без мужчины, она держалась за меня, простого всадника, — и я начал опасаться, что она захочет выйти за меня замуж…
Деметрий почтительно, ссылаясь на свою давнюю преданность моему дому, меня предостерег. Он упомянул о неосторожных и невоздержанных связях молодых людей, о моих долгах, о пустых сундуках и памяти моего отца. Я уже не был юношей, ослепленным любовью, и понимал, что это непростительно. Я понимал и то, что мой отец, строго придерживавшийся старых нравов, осудил бы мою связь с циничной и нарушающей супружескую верность женщиной. Упреки Деметрия были обоснованны, а мне не по нраву пришлось быть уличенным в легкомыслии со стороны вольноотпущенника. Итак, я решил как можно скорее порвать с Помпонией, хотя и этот разрыв должен был обойтись мне еще в два или три дорогих подарка.
Вот о чем я думал в тот вечер в сумерках моей библиотеки.
Я не принадлежал к узкому кругу советников, которых Тиберий называл своими друзьями, но мой отец входил в него, и в память о нем кесарь иногда удостаивал меня приглашением на ужин. Впрочем, обязанности, которые я теперь исполнял, вполне оправдывали эту незначительную милость.
Тиберий поручил мне заботу об одном из императорских садов. Я не был одним из тех администраторов, благодаря которым вращаются колеса государства. Для этого мне не хватало многих достоинств и многих недостатков. Но мне случалось оказать правителю услугу, за которую он был мне признателен, что подтверждали эти регулярные приглашения. Поэтому я совсем не удивился, что меня пригласили ужинать в Палатин в шестой день перед мартовскими календами, в 772 году от основания Города.
На этом ужине нас было десять человек. Я не помню лиц и имен гостей, за исключением Сеяна, который уже начинал втираться в доверие к правителю. Августа показалась на короткое время в начале трапезы. Она предпочитала одеваться, как и во времена своей молодости, в простое платье белого льна, сотканное ее руками. Ливия не выглядела на свои восемьдесят: она отказалась от старомодной прически; и видно было, какой красивой была раньше эта женщина.
Ее присутствие создавало на агапах чрезвычайно напряженную атмосферу. Тиберий потребовал — в соответствии с семейной традицией подлинной патриархальной строгости, — чтобы сервировали остатки вчерашнего ужина, напирая на пословицу, «что полкабана так же хороши, как целый кабан». Я пренебрег мясом, предпочтя устриц, в отношении которых Тиберий нашел нужным заметить, что они привезены не из Тарента, а с Лукринского озера.
Когда его мать удалилась, Тиберий, смеясь, предложил попробовать вина, присланного ему из Африки. Это было густое, красное, почти черное вино, такое, что его надо было дважды разбавлять водой и приправлять пряностями и мятой. Но когда я сделал рабу знак подлить в мой кубок воды, Кесарь посмеялся надо мной, сказав, что только матроны, пьющие тайком, отказываются от чистого вина. Я понял, что придется присоединиться к отвратительному состязанию любителей возлияний, от которого он был без ума. Что касается меня, я пью мало. Мне претила эта забава напиваться допьяна, и я с ужасом представлял степень моего смущения, когда, еле живой, уткнусь носом в полосатые кампанийские подушки или извергну моих устриц на мозаику пола. По лукавым взглядам Тиберия и других я понял, что именно этого все ожидали.
Тиберий, видя мое замешательство, улыбнулся и сказал:
— Я успокою тебя, мой дорогой Пилат. Сегодня вечером приз победителя достанется не тому, кто больше выпьет вина, но первому, кто не устоит. Если это ты — благодари Фортуну, так как вознаграждение большое: я сам найду тебе жену.
Тогда я заметил, что, кроме Сеяна, все гости были холостыми, вдовыми или разведенными. Но Тиберий продолжил:
— И какую жену, Пилат! Какую! Мою собственную кузину, светлейшую Клавдию Прокулу, самую лучшую партию в Риме!
И, разразившись злым смехом, добавил:
— И самую некрасивую девушку в Городе и в мире!
Я знал Клавдию Прокулу по имени. Она действительно считалась некрасивой, к тому же у нее не было состояния, которое могло бы компенсировать отсутствие привлекательности. У нее была репутация оригиналки, ее называли посвященной в учение Пифагора и страстной поклонницей Изиды Египетской, ярым противником культа которой был Тиберий. Потом я узнал, что утверждение, согласно которому Прокула практиковала восточные культы, было ложным, возникшим из недоброжелательства и благодаря пифагорейским обрядам, которые невежды путают с обрядами поклонников Изиды. Эта молва жестоко повредила девушке, так как Изида считается покровительницей проституток и женщин легкого нрава.
То немногое, что я знал о Клавдии Прокуле, не оставляло у меня никаких иллюзий. По улыбке Тиберия я видел, что он читал на моем лице мои грустные мысли и сильно потешался этим. Наконец мне удалось придать себе выражение, которое могло бы сойти за радостное, и я воскликнул голосом, который звучал фальшиво:
— Твоя кузина Прокула, Кесарь! Какая бы это была честь для простого всадника!
Тяжелая рука Тиберия легла на мое плечо, и он ответил:
— Дорогой Кай, я обещал твоему отцу, что ты женишься только на патрицианке.
Я выпил три кубка. Уже на втором я смеялся без причины, опрокинув на свою самую красивую тогу соусник с garum’ом[2], который я, не зная зачем, долго вертел в руках.
На третьем кубке стенные фрески пустились в пляс. Запах garum’a, смешанный с запахом охладевших политых соусом блюд, вызывал тошноту. У меня оставалось еще немного ясности рассудка, чтобы поставить кубок на место, не разбив его. Я поднялся, пошатываясь, приблизился к Тиберию и, рухнув к его ногам, процедил:
— Кесарь, я сдаюсь!
Я смутно слышал безудержный смех окружающих. Два раба вынесли меня наружу; во дворе у меня началась неудержимая рвота.
Потом я проспал двадцать четыре часа и проснулся глубокой ночью с ощущением, будто Вулкан и все его циклопы устроили кузницу в моей голове. Деметрий вошел в мою комнату, не скрывая печали оттого, что я вернулся домой мертвецки пьяным. Он протянул мне письмо, которое принесли, пока я спал. Оно было скреплено личной печатью кесаря и гласило: «Юный Кай, моя кузина Прокула получит приданое в один миллион сестерциев».
Таков был божественный Тиберий, способный и казнить, и миловать.
Клавдия Прокула была, как и я, сиротой. Она жила на Эсквилине, у своей тетки по материнской линии, Антонии, выросшей в тревогах гражданских войн. У нее было много детей — кажется, шесть — и единственный муж; это — двойной подвиг в городе, где женщины предпочитают много мужей и одного ребенка… Но Антония и Проб потеряли все свое потомство, кроме одной дочери, Валерии. Прокула и ее кузина выросли вместе. Антония научила их ткать и прясть из шерсти и привила им навыки добрых хозяек; но Прокула знала также греческий и прочла книги пифагорейцев, обещавших своим последователям на том свете вечное блаженство. Из них она усвоила странные представления, пророчества, гороскопы и беспокойную веру в вещие сны… На самом деле, помимо потребности верить в нечто экстраординарное, моя жена одарена здравым смыслом, и мне нередко приходилось радоваться, что я последовал ее советам. К ее и моему счастью, в тот день я был весьма расположен им следовать… Зачем она пересказала мне тогда одно из своих смутных сновидений, которым я не доверял и которое окончательно сбило меня с толку?
Прокула ждала меня, сидя в тени кедра, в беседке из красных роз. Их аромат, очень сильный, напомнивший мне о моем кампанийском розарии, для меня неразрывно связан с моей женой. Маленькая белая собачка играла у ее ног. Я не сразу рассмотрел светлейшую Клавдию, но зато услышал ее голос, серьезный и мелодичный:
— Приветствую тебя, Кай Понтий! Добро пожаловать!
Даже еще не увидев ее лица, я без памяти влюбился в этот голос, как оказалось, на всю жизнь. Я ответил чрезвычайно взволнованно:
— Приветствую тебя, Клавдия Прокула!
Она встала и пошла мне навстречу. Она не была грациозной. Ее прическа ей не шла, и никакие румяна не могли исправить матовость лица, но я не обратил на это внимания, потому что видел только ее глаза, огромные, карие, устремленные на меня с выражением удивления, страха и невыразимой надежды. Я понял, что мне достаточно протянуть руку и я стану для Прокулы самым сильным, самым храбрым, самым лучшим мужчиной, какого только мог породить Рим. Ничто не доставляет мне такого страдания, как то, что я не могу больше читать в ее взгляде этой ослепительной надежды. И все же она продолжает любить меня…
Конечно, воля Тиберия и узы родства, соединявшие его с Клавдией Прокулой, не оставили мне права отказаться от этого союза. Однако если я и взял ее в жены по принуждению, то это было принуждение любви.
На другой день я купил обручальное кольцо, внутри которого приказал выгравировать наши имена. Потом побежал к Пробу на Эсквилин. Прокула была в саду, под своим любимым кедром.
— Я не думала, что ты вернешься, Кай Понтий, — сказала она, увидев меня, и, поскольку я удивился, добавила: — Ты ведь видел меня, не так ли? Весь Рим будет смеяться надо мной.
Тогда, не отвечая, я вынул кольцо и надел его на четвертый палец ее левой руки.
Прокула была уже не так молода, в июльские календы ей исполнилось двадцать, и она не хотела стать посмешищем Города из-за пышной свадьбы. Но я был против того, чтобы наша свадьба прошла без должного праздника и церемоний. Я посоветовался с авгурами, чтобы они назначили подходящую дату для бракосочетания; они предложили день перед кануном моего дня рождения, прежде чем начнется месяц май, неблагоприятный для свадеб.
Мой союз с Прокулой обеспечил мне то, чем большинство мужчин никогда не обладают: счастье. Целых пять лет оно было полным. За четыре года у нас родилось трое детей. Сначала девочка, моя дорогая, моя красивая, моя нежная Понтия… и два мальчика, Кай и Авл.
Я, чьим уделом со дня смерти моего отца были одиночество и недоверчивость, открыл в Прокуле спутницу, способную выслушивать все мои жалобы, прощать все мои ошибки, утешать все мои страдания, успокаивать все опасения и рассеивать все сомнения. Мы любили друг друга. Сосредоточившись на нашем счастье, мы с безразличием относились к событиям, волновавшим Рим и свет. И это было самое лучшее.
Тиберий был непопулярен. В шестьдесят лет он устал от власти, которой так долго дожидался, устал от человеческой низости. Испытывая отвращение к управлению государством, он все чаще удалялся из Рима в заблуждении, что в его отсутствие сын Друз почувствует тягу к государственным делам. В то же время кесарь начинал относиться с недоверием ко всем и к каждому. За исключением, к несчастью, единственно опасного для него, его семьи и Рима человека. Я имею в виду Элия Сеяна, этого провинциального всадника, ставшего префектом когорт преторской гвардии и мечтавшего, вытеснив принцев из императорского дома, через брак с одной из принцесс занять трон. Тиберий, почитавший Элия в ущерб собственной крови и собственному роду, превратился в игрушку в его ловких руках. Все, кто еще мог своими советами противодействовать влиянию Сеяна на кесаря, были удалены от правителя либо посредством ложных обвинений, либо под прикрытием политических нужд, отзывавших их далеко от Рима.
Я безразлично за этим наблюдал. То было время моего высшего счастья, и ничто другое в моих глазах не имело значения. Меня больше не допускали близко к Тиберию, и это было легче для меня, чем взвешивать в его присутствии каждое слово, быть придворным, а не казаться им: Кесарь одинаково ненавидел и лесть, и непочтительность.
Уверенный, что Тиберий обо мне забыл, а Сеян меня не опасался, я довольствовался счастливой неопределенностью моего положения. Без сомнения, я долго бы пробыл прокуратором императорского сада, так как Кесарь, не любивший принимать решения, охотно оставлял тех же людей на тех же местах в продолжение всей их карьеры. Я отказался от всяких амбиций, от всякой мечты о продвижении по службе. О великих военных почестях, которые некогда были мне столь желанны, я больше даже не думал.
Я отдавал себе отчет в том, что мое поведение недостойно римской доблести. Я знал также, до какой степени было стыдно народу, диктовавшему свои законы вселенной, терпеть опеку какого-то Элия, пусть даже и прикрывавшуюся волей Тиберия… Но Рим терпел. Почему же я, Кай Понтий Пилат, простой всадник, незначащий прокуратор императорского сада, должен чувствовать себя более посрамленным, чем все эти патриции, которые были теперь столь молчаливы? У меня была семья, которую я любил и счастье которой для меня было важнее любых обязанностей. Какое мне было дело до того, что имя Кая Понтия Пилата не станет достоянием потомства? Я смирился с участью человека заурядного, без славы и будущего.
Вот почему приглашение в Палатин неприятно меня удивило. Конечно, моя совесть была чиста, но слишком много людей погибло за эти годы из-за ничтожных причин, и никто уже больше не приближался к Тиберию без тревоги.
Эту тревогу я прочел в глазах Прокулы, когда она, ухватившись за мою руку, сказала:
— Кай, если можешь, каким бы ни было дело, которое кесарь хочет поручить тебе, если это в твоей власти, откажись от него! Потому что этой ночью, сильно измучившей меня, я видела сон!
Надо сказать, что после нашей свадьбы и рождения детей Прокула забыла об учении Пифагора и до поры не видела больше странных снов. Она продолжала:
— Кай, я видела во сне, что ты был в чужом городе и Тиберий стоял в тени, позади тебя. Какой-то мужчина, уроженец Востока, положил ягненка к твоим ногам и сказал, чтобы ты его зарезал в честь бога его народа. Он протягивал тебе жреческий нож, но ты отказывался его взять, потому что ягненок превратился в маленького ребенка. Но вдруг раздались голоса, они кричали: «Ударь! Убей его!» Мне стало страшно, Кай, и я проснулась. Я не знаю, что значит этот сон, но он полон зловещих предзнаменований.
Я сжал Прокулу в объятиях и прошептал ей:
— Зачем беспокоиться из-за этого сна, любимая, — ведь я не ударил? Я не убил ягненка?
Но она дрожала, как дрожит объятая пророчеством сивилла в Кумах, и это меня напугало. Жена подняла на меня глаза, затуманенные видениями и полные слез, и не своим голосом потребовала:
— Кай, клянись! Клянись, что ты не убьешь ягненка!
Чтобы успокоить ее, я ответил:
— Никогда! Клянусь тебе!
Как мог я знать?
Я отправился в Палатин, мучимый смутной тревогой; на лестнице дворца я едва не упал и вывихнул себе лодыжку, Катон счел бы мою неловкость очень плохой приметой… Внезапно, поддавшись суеверному чувству — со мной это иногда случается, — я решил набраться смелости, поднять голову перед кесарем и, сославшись на дурные предзнаменования, отказаться от всего, что бы он ни предложил мне. Тиберий вряд ли верил в них больше меня, но я был настроен использовать любой аргумент.
Однако, когда я оказался перед ним, я смог раскрыть рот только чтобы поблагодарить: он назначил меня прокуратором Иудеи.
V
Почему я согласился? Из страха. Перед Прокулой, час назад, я изображал храбрость и мужественную решимость. Эти добродетели покинули меня при одном виде Тиберия. Сказать ему «нет» было свыше моих сил. Между тем к испугу примешались и другие чувства: гордость и честолюбие.
Давно уже отстраненный от общественных дел, смирившийся с тем, что мне придется всю жизнь заниматься цветами, водоемами и животными, я был уверен, что похоронил мои былые честолюбивые мечты. И вот несколько слов правителя воскресили их, открыв передо мной стезю, которую я считал пройденной еще до того, как она началась.
Простой всадник, я никогда и не осмеливался представить себя правителем какой-либо области, это было исключительным уделом патрициев. И Тиберий преподнес мне подарок. Да, конечно, Иудея была самой скромной из областей, префектурой в ведении правителей Сирии и Египта. Внешне — должность подчиненного, а в действительности — ответственный пост.
Вынужден признаться: я абсолютно ничего не знал о местной жизни и проблемах Иудеи. И был неспособен в этот день, как, впрочем, и в последующие месяцы, оценить ни ответственность, ни трудности, меня ожидавшие. К тому же — отдавал ли я себе в этом отчет? — я не сделал попытки отказаться от трудного поручения, считая его за честь.
Заветы отца приходили мне на память: величие Рима, преданность граждан государству, просветительская миссия нашего народа, призванного богами править миром. Сегодня я знаю, как далек я был от действительности. Я уезжал, завороженный обманчивыми надеждами. Я не был знаком ни с Востоком, ни с неизбежной для его правителей вереницей низостей, сделок с совестью. В ту минуту, стоя перед Тиберием, я строил догадки насчет тайных намерений кесаря, думая о надзоре, который, скорее всего, я должен был вести за правителями Сирии и Египта, моими начальниками…
Тринадцать лет прошло с того утра, полного обещаний, а я продолжаю недоумевать. Из моих окон не видно ни моря, ни голых холмов Иудеи, только грязные улочки Вьенны, низкое небо и вдали — аллоброжские горы: утренний туман рассеялся, и обнажились остроконечные вершины в снежных коронах.
Я наделал ошибок; некоторые называют их преступлениями. Но не их я искупаю в изгнании: меня никогда не покидала мысль, что я исполняю свой долг. Разве что однажды это было не так, но я предпочитаю о том не думать. Я размышляю. Не о моей тщеславной легковерности в прошлом, — я был еще молод, — но об истинных намерениях Тиберия. Сколь многое могло быть иначе, если бы я лучше понял волю кесаря!
Враги, о существовании которых я и не подозревал и которые обнаружились в момент моего назначения, утверждали, что я — ставленник Сеяна. Это кровная обида. Действительно, в это время Тиберий не принимал никаких решений без согласия Элия. Но я не принадлежал к числу льстецов этого честолюбца, и мой отъезд в Кесарию, если вдуматься, мог быть воспринят еще и как ссылка.
Чего хотел Тиберий? Удалить меня из Рима? И если это действительно так, был ли то знак немилости или защиты? Наступило время, когда прежние обитатели Палатина и родственники правителя платили тяжелую дань мании величия Элия…
Чего ожидали от меня? Успеха или провала? Я был незначащей фигурой. Если бы я провалился, это не затронуло бы ни Кесаря, ни Рим; я погубил бы только себя. Если бы я добился успехов, они бы отразились на государе. Но разве я не был — и Тиберий должен был при случае вспомнить об этом — супругом его кузины? Разве не правил Иудеей Публий Квинтилий Вар? Я хорошо его знал, и мне известно, что этой должностью он был обязан не своим талантам, а браку с внучатой племянницей Августа. Может, Тиберий, выбрав меня, просто оказал честь дальнему родственнику?
Я спрашиваю себя и не нахожу ответа на свои вопросы. Я знаю только, что Тиберий дал мне возможность десять лет возглавлять Иудею, и, если бы он не умер, кто знает, какую бы еще должность он пожаловал мне?
Я вновь вижу себя в большом зале Палатина. Мне кажется, я вновь ощущаю покалывание в вывихнутой лодыжке, которая из-за вынужденной неподвижности начинала причинять мне боль. Тиберий смотрел на меня в упор тем долгим и приводящим в замешательство взглядом, каким только он умел смотреть. В голове у меня была путаница, я неловко рассыпался в благодарностях и не знал, как откланяться. Тиберий в конце концов дал знак, что я могу идти; и когда я, прихрамывая, пятился к двери, напомнил:
— Кстати, Кай Понтий, я хочу, чтобы Клавдия Прокула и дети сопровождали тебя. Это не в обычае, но такова моя воля.
Во все время этой аудиенции я даже не вспомнил о своей семье. Я на все согласился сразу, забыв, какие знаки внимания оказывали в Риме женам прокураторов. Не померещился ли мне в нарушение Тиберием предписанного правила знак привязанности, которую он к нам испытывал, или в этом проявилась его осмотрительность? Ведь наше отсутствие в Риме вскоре стало гарантией нашего выживания.
Прокула была восхитительна. Я передал ей приказ кесаря покинуть дом и семью и следовать за мной в одну из самых неприятных областей Империи. Подвергнуть здоровье детей и ее собственное воздействию климата Востока и его болезням. Любая другая женщина жаловалась бы на это днем и ночью и утомила бы своими справедливыми сетованиями и вздохами. Но когда раздираемый гордостью за неожиданное повышение и беспокойством за реакцию Прокулы, я сообщил ей эту новость, она ограничилась только словами:
— Куда угодно, лишь бы быть с тобой.
Мы покинули Италию в сентябре, в конце нашего последнего лета в Кампанье. Антония и Проб проводили нас до Мизен, куда Тиберий, спешивший отправить меня в Иудею, направил в мое распоряжение трирему. Они плакали, будто предчувствовали, что мы больше не увидимся.
Через три недели мы благополучно достигли гавани Кесарии. Хотя сезон уже начался, нам удалось избежать бурь и встречных ветров, которые порой утраивают продолжительность морского пути.
Не думаю, что Луций Аррий Нигер — плохой офицер. Нет. Он не глуп, не несведущ, не труслив. К тому же все офицеры из Галлии имеют репутацию прошедших отбор лучших легионеров. И ничто — ни в его рапортах, ни в досье — не дает основания предполагать, чтобы Аррий был недостоин такой репутации. Как и я, он — всадник, как и у меня, у него — звание трибуна-ангустиклава. В таком случае почему он так робок? Вероятно, он пробыл здесь слишком долго. Скоро два месяца, как я приехал. И обнаружил, что многие из наших солдат с легкостью перенимают восточные манеры; другие — напротив, сосредоточиваются и становятся большими римлянами, чем были в Риме. Я отдаю предпочтение последним, а вот Аррий из тех, кто склонен усваивать местные привычки.
Этот народ нас ненавидит. Бесполезно жалеть его, задабривать. Всякое сострадание тут же истолковывается как проявление слабости. Зачем тратить время на бесконечные сделки, медоточивые речи, когда власть гораздо более эффективна? Мы желаем блага Иудее против ее воли, — даже тогда, она не готова его принять.
Вот уже больше часа я пытаюсь убедить в этом Аррия. Тщетно.
Возможно ли, чтобы он до такой степени потерял понятие о достоинстве Рима? Поскольку то, что он предлагает, то, что пытается мне навязать, ссылаясь на свое знание иудейского мира, — святотатство. О! Речь идет отнюдь не о богах, хотя в Иудее это — важная тема. Я безудержно смеюсь, что этот народ не почитает ни Юпитера, ни Юнону, ни Минерву, ни какое-либо другое из наших божеств. Меня, того, кто не верит в них, это не могло бы оскорбить. Нет, речь идет не о богах, а о Риме; и поскольку дело касается Города, я никогда не приму другую сторону.
У Аррия подавленный вид. За кого он меня принимает? За самодовольного дурака, который, не успев приехать, возомнил себя более умелым, чем он? За властного честолюбца, намеревающегося нарушить относительное спокойствие, которым он пользовался? Я хотел бы иметь возможность объяснить ему, что я не таков; что я доверяю ему, готов выслушать и последовать его советам, если они пригодны; но он требует от меня невозможного:
— Ты требуешь от меня невозможного, трибун.
Аррий склонил свою большую голову, покрытую каштановыми локонами. Когда он попадает в затруднительное положение, он говорит невнятно:
— Умоляю тебя, господин, постарайся понять! Ты не знаешь этих людей. Ты не представляешь, насколько может малейшее движение, помимо нашей воли, показаться им оскорбительным.
Вот вам и Восток! Победители должны прислушиваться к капризам побежденных. Это чудовищно. На самом деле, объявив о намерении устроить себе торжественный вход в Иерусалим, я и не предполагал, что разыграется такая драма. Разве это не повсеместный обычай для нового прокуратора, вступающего в должность? Итак, я предупредил Аррия, чтобы он все подготовил к пятому дню перед декабрьскими календами. Я хотел выстроить легионы в ярко-красных плащах, с гребнями на шлемах, со знаменами и орлами, начищенными как по случаю триумфа, — во всем нашем грандиозном военном великолепии. Аррий меня перебил:
— Прошу прощения, господин, но не надо орлов. Иерусалим — их священный город… Как тебе объяснить? Это — город их бога.
Я знал об этом, но все же не понимал, почему нельзя развернуть орлов на улицах Иерусалима. Аррий нервно крутил на пальце свой перстень — знак принадлежности к сословию всадников. Я ждал.
— Понимаешь ли, господин, иудеи верят, что Ягве, их бог, — создатель всего и что они не смогли бы поклоняться никакому другому. Наши орлы — оскорбление Ягве! Они приравнивают их к идолам, а ни один идол не должен осквернять священную территорию. Они не признают даже статуй кесаря…
Выслушав это, я пожал плечами:
— Оскорбление богу… Ты наивен, трибун! Они ненавидят наших орлов не потому, что это идолы, а потому, что это — символ Рима. И поэтому я хочу, чтобы орлы были впереди, когда мы войдем в Иерусалим.
Я был вне себя. Аррий, должно быть, лишился рассудка, если он предложил мне шествовать без орлов! Трибун бросал на меня безумные взгляды. Он бормотал:
— Прошу тебя, господин! Ты — пятый римский прокуратор в Иудее, и все четыре твои предшественника подчинились этому обычаю. Публий Квинтилий вошел без орлов! И Марк Амбивий, и Анний Руф, и Валерий Грат, которого ты сменяешь… Никто из них не считал, что поступается честью Рима!
Я горько усмехнулся:
— Вар вошел без орлов, пусть! Но ты забыл напомнить мне, трибун, что он прошел в Золотую Дверь через двойной ряд крестов. Две тысячи человек, по тысяче в каждом ряду, которых он распял, чтобы обеспечить себе мирное пребывание в их столице! Не посоветуешь ли и мне при случае последовать его примеру? Что касается Грата, мне кажется, его плохо наградили за добрые намерения: какой-то патриций дома Иуды бросил в него со своей террасы черепицей, чуть не раздробившей ему череп! Казнили всю семью вместе со слугами. Я должен быть готовым поступить так же?
Аррий сделался багровым. Я не мог отнести это на счет жары: было холодно. Я бы не удивился, если б ледяной, перехватывающий дыхание ветер с востока принес сюда снег…
Кольцо не знало покоя на безымянном пальце трибуна. Мне хотелось прикрикнуть, чтобы он прекратил его вертеть. Может ли быть, чтобы иудеи считали более оскорбительным видеть шествие наших когорт, согласно обычаю, с вексиллариями и знаменосцами в первом ряду, чем две тысячи распятых или зарезанными всех домочадцев? Может ли быть, что они не понимают, что лучше свидетельствовать о власти Рима военными парадами, чем казнями? Внезапно я почувствовал себя обессиленным… Я хотел бы понять. Но Риму не нужен был в Иудее человек, который хотел бы понять. Я почти завидовал Вару, что он был способен на такое зверство… Публий Квинтилий никогда не задавался вопросами, я же задаю их себе слишком много. Я все еще слышу хриплый, севший от команд голос Вара, когда вечером в Аргенторане он делился с офицерами воспоминаниями о своем прокураторстве в Иудее:
— Собаки, все — собаки! Бешеные твари! Днем они целуют вам руку, чтобы ночью спокойно вас зарезать. За одну ночь они убили десятерых легионеров, отправившихся к девкам. Но чтобы успокоить их, я наставил вокруг Иерусалима столько крестов, сколько не сыщется деревьев во всей этой стране песка и камня.
Способен ли я поступить так же?
Луций Аррий упорно смотрел в землю, опустив голову и продолжая вертеть на пальце перстень с печаткой. Боялся он меня? Презирал? Оба эти предположения были мне одинаково неприятны. И я чувствовал потребность с ним объясниться:
— Где ты был, трибун, в 763 году?
Вопрос лишний: я прочел личное дело Аррия и знаю, что так же, как и мой отец, он служил в то время в Иллирии. Мощные восстания были в том году. Десятки убитых офицеров… Нигер сумел проявить тогда ловкость и храбрость, два взаимодополняющих качества, которым он никогда не изменял.
— В Иллирии, господин.
Он выпрямился и больше не играл кольцом.
— А мне, трибун, было двадцать лет, и я был в Германии. Ты говорил только что о Публии Квинтилии: я познакомился с ним там. Я был трибуном-ангустиклавом восемнадцатого легиона…
Нигер смотрел на меня с удивлением. Мне был знаком этот взгляд, преследовавший меня со времени моего возвращения из Тевтобурга…
— Прости, господин, я не знал. Я думал, из восемнадцатого никого не осталось в живых.
— Только я и один воин из галльских вспомогательных войск, спасший мне жизнь… Луций Аррий, можешь ли ты представить, что испытывали мы, видя наших орлов в руках врага?
Стоит снова вспомнить об этом, как боль, сжавшая тогда мое сердце, охватывает меня. Я вновь представляю Марка Сабина, такого стойкого в несчастье, и его высокомерный вид, с которым он разглядывал Арминия. Что бы он сказал, если бы узнал, что я, прокуратор Иудеи, вошел в Иерусалим без орлов? Ради Грецина, ради Вара, ради моих товарищей я не могу согласиться на такое бесчестье, даже если того требуют политика и дипломатия.
— Ради душ умерших в Тевтобурге я обязан отказываться от многого…
— Понимаю, господин.
Между нами воцарилось долгое молчание, наполненное печальными видениями и тяжкими мыслями.
Завывания ветра временами перекрывали неумолчный шум морского прибоя.
В конце концов Аррий смягчился:
— Господин, у меня есть идея! Ты хочешь войти в Иерусалим с орлами; ты знаешь, я не могу винить тебя. Я тоже римский офицер. Не подумай, что я буду рад, если они останутся в казарме! Но я уже десять лет в Иудее и говорю тебе, не боясь ошибиться: господин, если ты осквернишь священный город нашими знаменами — будет мятеж… Проблема кажется неразрешимой, но это не так. Ты настаиваешь на церемониях и на официальных приемах? В любом случае ты ошибаешься, если думаешь, что будешь встречен радостными возгласами! И это понятно, если поставить себя на место этих людей…
Нет, я вовсе не уповал на всеобщее ликование. Лицо Аррия вдруг озарилось улыбкой:
— В таком случае, господин, я нашел выход! Все пройдет благополучно, если каждый выполнит свою роль.
Бедный Нигер! «Десять лет в Иудее!» — так он сказал, уверенный, что все понял; по крайней мере, то, что были не в состоянии понять на этом проклятом Востоке наши римские головы… Он думал, все дело в символике. Наши орлы, их город… Одинаково священные и, стало быть, несовместимые. Действительно, мои предшественники не озадачивались этим: они не пережили Тевтобурга, в их жизни не было такого страшного дня и унижения Рима. Они не хранили ни неизлечимых ран в душе, ни болезненных шрамов на теле, доставлявших жестокие страдания в начале зимы.
Нет, я не мог ни уступить, то есть оставить моих орлов, ни отказаться от входа в Иерусалим. Но я должен был обставить этот вход так скромно, что он прошел бы почти незаметно: в Иерусалиме орлы могли остаться под защитой крепости Антония, и я был готов взять на себя такое обязательство. Никто бы их не увидел, они не оскорбили бы ни Ягве, ни патриотизма иудеев. Что касается моего входа, он должен был совершиться ночью, так что никто — ни народ, ни знать — не обязаны были бы смотреть, как мои знаменосцы открывают шествие легионов. Я должен был закрыть глаза на оскорбление, нанесенное прокуратору; а Синедрион сделал бы вид, что не знает, что знамена в городе. И с той, и с другой стороны символы остались бы неприкосновенными, и честь была бы сохранена. Бедный Нигер, гордый своей идеей! Как он мог надеяться, что Синедрион согласится принять наши правила игры?
Так началась необъявленная война между мной и Великим Советом Израиля, продолжавшаяся в течение всего моего прокураторства. Поначалу я прислушивался к мнению Аррия и старался идти на уступки. А потом настал день, когда я согласился еще на одну уступку: из усталости, слабости, отвращения… Трусости. Когда я опомнился, было слишком поздно; непоправимое свершилось. Я не смог простить этого Синедриону, которому впоследствии не уступил уже ни в чем. С тех пор, благодаря Ироду, обо мне пошла слава как о человеке «непреклонном и беспощадно суровом». Так что мне самому необходимо было поскорее забыть, насколько я слаб.
Но, конечно, выйдя на дорогу к Иерусалиму на заре пятого дня перед декабрьскими календами 780 года, я не мог даже предполагать, что все так обернется.
Возможно, встречаются путешественники, которые, не будучи иудеями, приходят в восторг, открыв для себя Иерусалим. Я к таковым не принадлежу. Ни один город с первого же взгляда не вызывал у меня такой неприязни. Солнце садилось, озаряя кровавым светом крепостные стены. Сам алеющий город казался приплюснутым громадной глыбой нового храма. Ночь наступила быстро, как всегда на Востоке; резко сменившая дневной свет тьма почти испугала меня, будто за этими стенами скрывалась какая-то опасность, какая-то неясная, но страшная угроза. В этом городе, посвященном богу, не было для меня такого места, где я чувствовал бы себя уютно и спокойно.
Гордость, гнев, враждебность, ненависть, отчуждение. Вот слова, которые приходят мне на ум, чтобы описать Иерусалим таким, каким я увидел его впервые. Я тогда еще не знал, насколько эти определения ему соответствовали. Стены — из камня, сердца — из камня. Камни повсюду, даже в сжатых руках прохожих, готовых прибить ими женщину, застигнутую на месте прелюбодеяния, несчастного, обвиненного в каком-нибудь проступке. Все превращается в камень в этом городе, где для того, чтобы выжить, нужно самому окаменеть.
Мы продвигались по пустынному городу, черному, безмолвному, и шаги моих людей, отзывавшиеся таинственным эхом, были единственным признаком человеческой жизни. Ни один огонек не светился во мраке, за плотно прикрытыми ставнями город скрывал свои тайны, свои горести, свое безумие. Иногда мы спугивали тощего кота, вышедшего на ночную охоту, и он, шипя от злости, удирал, чтобы спрятаться под лестницей. По нежному аромату цветущих апельсиновых деревьев, по шелковистому прикосновению листвы к нашим лицам мы угадывали во тьме спящие сады, в которые никогда не войдем. Иерусалим: камень, мрак и рощи запретных наслаждений…
В конце этого странного шествия грязные коридоры Антонии, запахи горелого масла, поднимавшиеся из кухонь, гомон голосов, тепло и мерцание зажженных светильников произвели на нас впечатление счастливого пристанища.
На другой день, на рассвете, я уехал обратно в Кесарию. Будет ли когда у этого города более покладистый римский прокуратор, чем я? А между тем…
Я диктовал письмо Тиберию, в котором говорилось о моем вступлении в должность. Я был все еще наивен и самолюбив, предполагая, что он прочтет его. Поэтому адресовал его Августейшему Кесарю, не опуская ни одного из титулов, к которым государь притворялся равнодушным, но которые на самом деле его умащивали. В течение десяти лет я отчитывался только перед божественным Тиберием; и те, кто меня бесстыдно называл ставленником Сеяна, затруднились бы найти в палатинском архиве хоть одно подписанное мной послание, адресованное Элию.
Между тем Аррий прервал мою диктовку. Он был, как водится, пунцовый и недовольный:
— Господин, не сердись, что мешаю, но на дворе делегация Синедриона, которая хочет говорить с тобой.
Я вздохнул:
— Скажи им, пусть поднимутся.
Аррий начал теребить кольцо; это обычно свидетельствовало о том, что он нервничает.
— Они не согласятся, господин. Нужно, чтобы ты спустился.
Это меня озадачило: что за прихоть беспокоить прокуратора и требовать к тому же, чтобы он вышел? С момента прибытия в Иудею я работал с утра до; ночи. Грат оставил после себя запутанные дела, в которых он толком ничего не понял и которые, должен заметить в его оправдание, мне тоже казались достаточно темными. В этой стране ссорились по самым нелепым поводам между собой бесчисленные группировки. Если для Рима религия — объединяющее начало, то для иудеев — разъединяющий фактор. Ритуальные запреты, пророчества, разногласия и споры. Запутавшись во всем этом, я помышлял обратиться за помощью к какому-нибудь философу или иудейскому священнику, способному растолковать мне мифы и верования своего народа. Без этого мне впору было отказаться от управления этой страной! Меня осенила мысль, что, может быть, один из явившихся теперь старейшин согласился бы оказать мне такую услугу.
Кольцо на безымянном пальце Аррия продолжало отчаянное вращение:
— Господин, иудеи не имеют права входить в дом иноземца. Мы… В общем, они говорят… Они говорят, что мы нечисты…
Я вздрогнул; у меня уже было время оценить значение слова «нечистый» в Иудее. Нечисты женщины несколько дней в месяце. Нечисты прокаженные. Нечисты свиньи. Я сам должен был догадаться, что в нескончаемом списке ритуальных нечистот тут же, после свиней, шел римский прокуратор в Кесарии. Я ухмыльнулся:
— Они не боятся, что моя нечистота осквернит и заразит их, если я спущусь говорить с ними?
Нет, по неясным причинам, связанным не с религией, а с удовольствием унизить, мне было позволено говорить с ними вне моего жилища — храма римской нечистоты. Старейшины дали почувствовать мне каждым движением, каждым словом, что я был для них предметом непреодолимого отвращения. Они избегали смотреть мне в глаза, и, если им казалось, что я оказывался слишком близко, они поспешно отступали в страхе, что я прикоснусь к ним… Что я — вонючее животное или запаршивевший нищий? Человек невспыльчивый, я кипел от гнева.
Чего они хотели? Чтобы я немедленно забрал «идолов», которых осмелился поместить в Антонии. Я излил избыток своей ярости на несчастного Нигера. Зачем я послушал его? Зачем согласился на эту унизительную комедию с ночным входом? Чтобы подобным образом в конечном счете быть оскорбленным? Аррий не пытался оправдаться. Он по-прежнему был за то, чтобы оставить орлов в Кесарии. Он предложил мне этот компромисс в отчаянии от моей непреклонности и настойчивости. Если здесь и был виноватый, то не Нигер, а я, не сумевший выбрать между слабостью и силой. Задыхаясь от ярости, я перестал кричать, и Нигер воспользовался этим, чтобы быстро сказать:
— Господин, нужно забрать орлов.
Я снова закричал:
— Никогда!
И я закрылся в своей комнате. Прокула, единственная, осмелилась зайти ко мне. В ту ночь я не вспоминал больше об Иудее и тем более о знаменах.
Вчера их было пятьдесят, сегодня утром — двести. Сейчас, после полудня, — тысяча. Они осаждают меня. Океан голов волнуется под моими окнами, и если они замечают меня в оконном проеме, то кричат. Я не слышу слов: зимний ветер уносит в открытое море пронзительные вопли на греческом, иудейском, латинском, арамейском языках. Я не хочу ни видеть, ни слышать их, а тем более спорить с ними.
Понтия проскользнула в комнату и прижалась ко мне, шепча:
— Папа, мне страшно…
— Не бойся, милая, не бойся.
У моей дочери глаза Прокулы, и она подняла их ко мне с таким же непоколебимым доверием, какое я читаю в глазах ее матери. Я отвел ее в наши апартаменты. Напуганный Авл плакал горючими слезами. Он еще такой маленький! Кай, возбужденный, подбежал ко мне:
— Папа, папа, это война? Ты пойдешь сражаться? Можно мне с тобой?
Я утихомирил воинственный пыл сына:
— Нет, это не война, и сражаться я не иду; а ты слишком молод, чтобы думать о подобных вещах.
Я увидел разочарование на его лице и пожалел о своих словах. Кай так похож на моего отца, — и уже сейчас он чувствует себя счастливым только среди солдат. Аррий, испытывающий привязанность к нему, не забывает взять его с собой посмотреть смену часовых, на что у меня никогда не хватает времени. Аррий даже пообещал Каю подарить на день рождения, если он будет послушным, полное снаряжение легионера. С тех пор Кай готовит уроки с особенным усердием.
Тяжелые тучи, пришедшие с моря, мчались по небу, предвещая дождь, который, как я надеялся, разгонит манифестантов.
Вот уже три дня и три ночи шел проливной дождь, три дня и три ночи не стихали крики и стоны становившейся все более многолюдной толпы. Я решил ничего не видеть, ничего не слышать, оставаться невозмутимым. Но страшная мигрень тисками сжимала мне виски. Мне хотелось закричать и пойти все крушить. Я уже не говорил, а вопил. Багровый Аррий деликатно заклинал меня начать переговоры. Я позволял ему начать фразу, а потом прерывал все тем же криком:
— Нет!!!
Тогда, как положено по уставу, Аррий прощался и уходил. Он прекрасно знал, что я уступлю, что у меня нет выбора; и я был в бешенстве оттого, что все об этом знали.
Неделю я продолжал эту изнурительную комедию. Дети с удивительной легкостью привыкли к шуму. Прокула, привыкшая, как все матери, спать мало и чутко, всегда готовая бежать на малейший звук в детскую, не страдала от отсутствия покоя. Но я не мог больше терпеть. На пятый день, видя мое изнеможение, жена вызвала гарнизонного врача и попросила у него снотворного на маковой основе, которое он применял для облегчения страданий раненых. Этот наркотик наконец позволил мне заснуть, но сном настолько кошмарным, настолько тревожным, что я отказался принимать его в другой раз. Утром восьмого дня, когда явился Аррий, вместо того чтобы выгнать его, я приказал тоном, не допускающим возражений:
— Возьми войска, которые тебе необходимы, и освободи меня от этой черни. Если они будут сопротивляться, брось их в тюрьму и пригрози крестом.
И, не дав Аррию возразить, закричал:
— Ты понял меня, трибун?! Делай, что я тебе сказал, и быстро!
Я ясно видел, как Нигер поднял глаза к небу и едва заметно пожал плечами; я слышал вздох, который он издал. Но он ограничился ответом:
— Как прикажешь, господин!
И, попрощавшись, вышел. Едва он ушел, как я оценил неразумность своих приказов. Я рисковал применением силы. Уверен ли я, что это будет в мою пользу? До сих пор я был жалок и, хуже того, смешон. Если бы я теперь придерживался твердости, строгости, жестокости, если бы возобновил политику Вара, Грата и других, смог ли бы я провести ее до конца? Легко было сказать: «Пригрози им крестом», но разве можно исполнить? Мысль о двух тысячах распятых вдоль дороги тридцать пять лет назад, во время славного входа Публия Квинтилия в Иерусалим, вызывала у меня отвращение.
Для римского прокуратора сострадание — признак слабости. Аррий быстро понял, что у меня была эта слабость. Но он обладал исключительным тактом и никогда не давал понять, что считает меня неспособным принять решительные меры. Догадываясь, что я не пойду дальше угроз, он, чуткий и сообразительный, нашел для меня примиривший мою гордость и мои принципы выход, которого я не надеялся найти.
Тщательно избегая ненужных насильственных мер, Нигер расчистил подступы к моей резиденции. Поскольку ему было известно о непопулярности фарисеев, он задержат десятерых, самых заметных, дав остальной толпе разойтись. Целый день он продержал их в подвале римского ипподрома, священном, по мнению горожан, месте идолопоклонства римлян. Вечером, в красочных выражениях, он сообщил им, что светлейший господин прокуратор из своего бесконечного благодушия, глубокого милосердия и ни с чем не сравнимого благородства, по случаю приближающегося праздника Сатурналий возвращает в Кесарию вексиллариев и их знамена. Таков был подарок иудеям от светлейшего господина прокуратора Кая Понтия Пилата в новом году, когда римляне, по обычаю предков, делают подарки своим друзьям.
Благодаря Луцию Аррию я сохранил достоинство.
Однако перед теми мерами, которые сопутствуют исполнению власти, я в ужасе отступил… В вечном противостоянии Антигоны и Креонта на мою долю выпала роль последнего, и я не любил эту роль. И я не был согласен на нее во имя кесаря, во имя Рима.
Прошли недели, месяцы; наступила весна. Я пытался править Иудеей, а Луций Аррий мне помогал. Но можно ли справиться с вулканом, готовым вот-вот взорваться? Со времен Помпеи, присоединения Палестины к Империи прошло уже больше полувека, и все же римский мир был лишь пустым звуком. Банды мятежников, которых называли наемными убийцами, или зилотами, тайно собирались и рассуждали о вооруженном восстании. Их вожделенным желанием было бросить нас в море. Вождем у них был назначен Исус бар Абба, о появлении которого нам сообщали отовсюду и которого никак не удавалось арестовать. Под прикрытием патриотизма эти разбойники врывались к служащим и торговцам, работавшим на нас, грабили и терроризировали их. Своими нападениями на откупщиков они завоевали расположение бедных, всегда готовых пожаловаться, что налоговые органы душат их поборами. Простонародье видело уже в бар Аббе освободителя, который восстановит власть Иуды.
Исус бар Абба в действительности был негодяем, вором и, возможно, убийцей. Потому что много раз солдаты, выходившие вечером из дому в одиночку, уже не приходили на ночлег. Аррий причислял их к дезертирам, хотя и был уверен, что людей этих убили, а их трупы спрятали.
За всяким инцидентом мы обнаруживали зилотов. Мы ощущали, как растет напряжение в Иудее, и опасались всеобщего восстания. Я отдал приказ, чтобы один корабль был всегда готов сняться с якоря и перевезти мою семью в Александрию, если ситуация ухудшится.
Я давно бы уже сожалел, что жена и дети со мной, если бы не письма Проба, сообщавшего об усиливающемся влиянии Сеяна на Тиберия и о подписанном кесарем смертном приговоре многим сенаторам, единственным преступлением которых было то, что они не угодили фавориту. Кто знает, может, будь мы в Риме, он увидел бы в моих сыновьях, в моей супруге, во мне некие препятствия на пути к получению пурпурной мантии? Было бы лучше, чтобы Элий на возможно более длительный срок забыл, что кровь Клавдиев и Тиберия текла в жилах моих детей. Может, этого и хотел кесарь, поспешно удаляя нас из Города.
Недели проходили в тяжелой атмосфере. С дурным предчувствием мы встретили великий иудейский праздник Пасхи, посвященный памяти об освобождении Израиля от порабощения Египтом. Мне нужно было, по традиции, установленной моими предшественниками, приехать в Иерусалим и выступить с речью перед толпой. Я должен был предложить освободить из-под стражи какого-нибудь узника. Аррий вручил мне список, содержавший имена малоопасных людей: мошенников или карманных воров, пойманных на месте преступления. Я остановил свой выбор на мальчике по имени Дисмас, укравшем из сундука своего хозяина сумму, необходимую для покупки какого-то дрянного ожерелья для девочки, в которую он был влюблен. Вспоминая о Помпонии и безумствах, которые я совершал ради нее, я пожалел Дисмаса.
В конечном счете, несмотря на наши тревоги, ничего не произошло. Я испытал облегчение, однако у меня было такое чувство, как после стихнувшей без вмешательства зубодера острой боли, когда спрашиваешь себя, сколько продлится эта передышка.
Мои опасения были обоснованны. В народе судачили о скором приходе царя из рода Давида, великом воине, которому предназначено одержать блестящие победы и вернуть верховенство израильскому дому. Народ ждал его, готовый встать под его начало, чтобы выгнать римлян из Иудеи.
Я не верил в пророчества иудеев, но был настороже, ведь в руках дерзкого человека история о тайном царе Израиля могла обернуться для нас реальной угрозой.
Сказать, что я возненавидел Ирода Антипу с первой встречи, было бы слишком неточно, ибо невозможно передать, какую резкую антипатию он у меня вызвал. Глядя на него, я испытывал отвращение, ужас, презрение и недоверие, поскольку человек этот был хитрый, злой, коварный интриган, во всех смыслах опасный.
Народ называл его «Лисом» или «Гиеной». Тиберий, никогда с ним не встречавшийся, но бывший очень чувствительным к его лести (Ирод назвал свою столицу Тибериадой), оставил ему во власть, скорее теоретическую, чем реальную, Галилею на севере Иудеи, которая была самым зеленым, цветущим и плодородным краем Палестины, а климат ее был восхитителен.
Почему я возненавидел Ирода? Разве возможно определить, что порождает между двумя существами ненависть или дружбу и любовь?
Он представился мне тираном, восточным сатрапом из моих детских книжек, кем-то вроде Тарквиния, растлителя Лукреции, но в иерусалимском духе. Нужно ли что-нибудь еще, чтобы не понравиться римлянину? Правда, неприятно в нем было еще и поведение, манера вытирать перепачканные соусом руки о шелковую тунику. Почему это вызвало у меня такое отвращение, ведь гости Палатина на императорских ужинах вытирают руки о волосы молодых рабов. Я не смог бы это объяснить. Ирод был обжорой, жадиной и пьяницей. Но не стоит об этом. Я знал и других, кто не менее отвратительно обжирался. Нет, на самом деле я начал его ненавидеть, заметив его взгляд, устремленный на Понтию.
Моя дочь усвоила привычку без предупреждения проникать в мой рабочий кабинет и даже в приемную. Она не раскрывала рта, съеживалась у моих ног и не шевелилась. Если аудиенция затягивалась, случалось, она засыпала подле меня. В тот день, когда я первый раз принимал Ирода (его просьба об аудиенции меня удивила: я еще не знал, что он — плохой иудей и мало заботится о том, чтобы не оскверниться через общение со мной), Понтия именно так сидела возле меня.
Хотя она была еще маленькой, можно было догадаться, какой красавицей она вырастет.
Прокула, сильно переживавшая то, что некрасива, радовалась сверкающей красоте Понтии; я же не видел во внешности дочери гарантии ее счастья.
— Поздравляю тебя, господин прокуратор: у тебя красивый ребенок!
Комплимент безобидный, но сопровождаемый взглядом, прощупывающим, раздевающим, пачкающим Понтию. Похоть была написана на лице Антипы, и он не позаботился ее скрыть. Я не сказал ни слова, лишь отправил Понтию к матери сухим и суровым тоном, каким никогда не обращался к детям. Удивленная, она непонимающе посмотрела на меня и вышла, опустив голову. Я слышал, как она расплакалась в коридоре.
Да, я ненавидел Ирода Антипу всеми фибрами моей души.
Я сделал над собой усилие, чтобы скрыть гнев, и ждал, когда он сообщит мне о цели своего визита.
Если и есть что-то невыносимое для римлянина, так это терпеть разглагольствования и бесконечно долгие речи, которыми злоупотребляют восточные люди, прежде чем перейти к вопросам, которые их занимают. И еще они находят способ утаить свои мысли, часто самую суть… По истечении двух часов, опустошив четыре кубка вина с Кармельской горы и корзину с сотней сушеных фиников, которые он поглотил, болтая, Ирод соблаговолил поднять на меня глаза, заплывшие жиром:
— Скажи мне, Кай Понтий, ты что-нибудь слышал о некоем Иоанне, который считает себя пророком?
Да, я слышал о нем. В конце зимы Аррий сообщил мне о появлении этого странного человека на берегах Иордана. Он призывал гнев Ягве на Израиль и его грехи, любезно называя его народ «племенем гадюк». Пока слушал Ирода, в глубине души я соглашался с Иоанном, будь он пророк или сумасшедший.
Аррий устроил за ним надзор и считал, что, несмотря на его речи, человек этот не был опасен.
— Это учитель Закона, господин. Он изучил иудейские догмы и пророчества. Его отец был священником. Родители его умерли, когда он был еще ребенком: он родился у них очень поздно. Приют ему дали ессеи. Ты знаешь этих аскетов: пустыня, умерщвление плоти; поскольку они питаются лишь жареной саранчой и пьют только воду, бывают всякие последствия… Они думают, что в них живет дух их бога. Они обходят города и деревни, предупреждая о катастрофах. Но успокойся, господин! Я видел его с детьми и ягненком, сломавшим ногу. Нет добрее этого Иоанна! Не бойся собаки брехливой, бойся молчаливой!
Поскольку Иоанн не возмущал общественного порядка, я приказал оставить его в покое. Сведения от Аррия я держал при себе, дожидаясь, пока Ирод изложит мне суть дела.
— Тебе хорошо известно, Кай Понтий, что царица, моя жена, Иродиада… Как сказать? Я не первый ее муж…
Я знал об этом, и меня это ничуть не заботило. Разводы, со следовавшими за ними очередными браками, совершались в Риме по двадцать раз на дню. Но дело усложнялось тем, — о чем Ирод, если бы я не знал, остерегался бы мне сказать, — что речь шла о двойном кровосмешении.
Иродиада, — ее имя вполне указывало на их родство, — была родной племянницей Антипы. Может, иудейский закон не запрещал дядям жениться на своих племянницах? Первым браком молодая женщина вышла замуж за одного из братьев Ирода — тетрарха Итуреи Филиппа. Значит, это был тот самый Филипп, одновременно и дядя и муж, которого она бросила, чтобы жить с Антипой, который, в свою очередь, став мужем своей племянницы, наставил рога своему брату. Наконец, я знал от Прокулы, — знавшей это от Иоанны, жены Суза, управляющего Ирода, с которой она имела связи, — что у Иродиады была дочь от первого брака. Этому ребенку, Саломее, едва исполнилось десять, но было очевидно, что она небезразлична своему двоюродному дедушке. Я не верил этим домашним сплетням, пока не заметил взгляда Ирода, устремленного на Понтию.
Отвратительный тип.
Я ждал.
— Ты женат, Кай Понтий, ты знаешь женщин… Любопытны, всегда в ожидании развлечений. Так вот! Несколько дней назад Иродиаде пришла в голову идея посмотреть на Иоанна. Все ее подруги уже видели его. Я вначале отсоветовал ей. Зачем смотреть на грязного сумасшедшего, одетого в верблюжью шкуру?
Мне было известно от Аррия, что Иоанну всего тридцать, и он очень красив. Ироду было почти шестьдесят, и он был чудовищно безобразен. Можно объяснить любопытство его жены.
— Я уступил. Ты знаешь, каковы женщины! Ее решение мне не по нраву, но Иродиада ведь не успокоится, пока не получит того, что хочет. Понимаешь, я знаю этих фанатиков, верящих, что говорят от имени Ягве; и то, что он мог сказать моей Иродиаде, меня не беспокоило. Ты не представляешь, какое счастье, что ты не иудей! Вы, римляне, другие: никто не упрекает вас в том, что вы разводитесь и снова вступаете в брак, когда вам вздумается! Стало быть, Иродиада прибыла на берег Иордана и сошла с носилок. Заметив ее, Иоанн вышел из воды. Наверное, ты знаешь, что он там барахтается весь день под предлогом очищения от грехов тех, кто к нему приходит. Так вот, он вышел и понесся ей навстречу с криком: «Грешница, прелюбодейка! Если хочешь избежать грядущего наказания, оставь мужчину, с которым живешь и который не муж тебе, и вернись к истинному супругу!»
Жена, осыпанная его проклятиями, в ужасе бежала. С тех пор она не встает с постели, плачет, отказывается меня видеть. Она говорит… Словом, она запретила мне входить к ней до тех пор, пока я не принесу ей на блюде голову Иоанна.
Кай Понтий, если бы мы были в Галилее, я не пришел бы надоедать тебе своими супружескими заботами. Хотя мне и не по себе при мысли о том, чтобы тронуть божьего человека, я брошу Иоанна в темницу и оставлю его там размышлять об уважении, которое он обязан питать к моей жене. Но мы не в Галилее, Иудеей правишь ты.
Я сделал вид, что не слышал последней фразы, и перевел разговор. Я не стал бы лишать Иоанна жизни в угоду совершившей кровосмешение и прелюбодеяние женщине, ни тем более ради того, чтобы устроить дела Ирода. Но мне представился удобный случай расспросить о том царе, о котором столько судачили на базаре, и выяснить, была ли между ним и отшельником с Иордана какая-то связь. Не грядущее ли «царство» возвещал Иоанн, и не о том ли, что кто-то идет вслед за ним? Но Ирод рассмеялся:
— Старая шутка, которая продолжается четыре тысячи лет, Кай Понтий! Всемирное царство, обещанное Ягве Израилю. Какой фарс! Посмотри на меня: я — царь Израиля, и увидишь, чем я владею. Заметь, мой отец верил в эти сказки, — он, не веривший ни в какие глупости. Я помню даже… Это было уже тридцать лет тому назад, как раз накануне восстания, которое наш покойный Публий Квинтилий сумел так своевременно подавить. Три волхва пришли из Персии за кометой, которая появилась в то время на небе. Не знаю, была ли она видна в Риме. Они утверждали, что эта звезда возвещает миру о рождении Царя иудеев. Представляешь, Кай Понтий, какое удовольствие доставила эта новость моему горячо любимому отцу! Царем Израиля, единственным, законным, был он один! Но он быстро все уладил, можешь мне поверить! Мой отец, человек мудрый, осторожный и рассудительный, призвал книжников, которые проводят все свое время за чтением и толкованием священных книг. Он спросил их, где, согласно Пророкам, должен родиться Мессия. Извини, Кай Понтий, это иудейское слово, по-гречески положено говорить «Христос», что означает…
Я сухо перебил его:
— Я знаю! Христос означает Помазанник, Избранный.
— Именно так! Ты великолепно говоришь по-гречески, дорогой Кай Понтий! Помазанник. Это старый иудейский обычай помазывать царя, посвящать его. Единственный раз книжники были единогласны. Ты будешь смеяться! Они ответили: «В Вифлееме». Представляешь? В Вифлееме! В этой деревушке на холмах, где нет ничего, кроме овец и пастухов! Самое забавное, что мой возлюбленный отец принял их слова всерьез! Он хотел все предусмотреть. Он отправил солдат в эту деревню с приказом зарезать всех младенцев моложе двух лет! Их оказалось около двадцати в городке и окрестностях — и все были преданы смерти. Если, по истечении четырех тысяч лет, Мессия, наконец, и в самом деле родился в этой местности, у него не было шанса уцелеть! Пусть они и дальше ждут своего Мессию! Ты не найдешь в Вифлееме ни одного человека, которому сегодня было бы между двадцатью восемью и тридцатью. Так что, дорогой Кай Понтий, не переживай из-за этих историй о Мессии и Христе. Но, возвращаясь к Иоанну…
Как мне ненавистен Ирод!
Мне удалось выпроводить его, ничего не пообещав: я начинал усваивать уроки Востока. Я лишь сказал неопределенно, что необходимо присматривать за Иоанном. Зато я дал себе зарок отправить в Галилею надежного человека, который будет сообщать мне, что там происходит. Ведь старый Лис не простит мне, что я не попался в его ловушку.
В течение нескольких недель я тщетно искал в моем окружении человека, годного на эту роль. Лучшей кандидатурой был бы какой-нибудь иудей; но даже среди тех, кто скомпрометировал себя, работая на нас, ни один не захотел выполнить это поручение. Аррий напрасно обошел счетоводов и агентов казны и таможни. В какой-то момент он было решил, что нашел наконец шпиона в лице одного мытаря из Капернаума, по имени Левий бар Алфей. Ему была выгодна сделка, которую мы предлагали: я платил хорошо. Однако этот Левий, человек с давно испорченной репутацией, отвергнутый синагогой, с которым в Капернауме никто не разговаривал и при встрече с которым родные братья плевали в него и отворачивались, отказался от нашего поручения, даже не соизволив объясниться.
Мы сожалели, что не смогли убедить его, потому что он был умным и очень живым. Кроме того, помимо иудейского, он говорил еще на греческом, арамейском и превосходной латыни. У него были неплохие познания в персидском и арабском, которые он получил, общаясь с торговцами из этих стран. Если бы он захотел, я мог бы после взять его к себе секретарем и переводчиком.
После неудачи с Левием мне пришлось на время отказаться от мысли следить за Иродом и его тетрархией и посвятить себя одним административным делам. Поддержание общественного порядка, финансы, налоги, безопасность караванных путей — это еще не все обязанности, которые были на меня возложены. Я строил планы. Я так много ездил, чаще, чем сам того желал, по дороге, ведущей из Кесарии в Иерусалим, что кое-что начал понимать в этой лишенной растительности сельской местности Иудеи. Старый инстинкт крестьянина, унаследованный от самнийских и кампанийских предков, подсказывал мне, что эта сухая земля не так уж непригодна для земледелия. Наконец инженеры, посовещавшись, подтвердили мои догадки: вода здесь была. Правда, нужно было очень постараться, чтобы заключить источники в трубу, отвести их и возвести акведук, но этой водой я напоил бы Иерусалим, превратив эти чахлые поля в роскошные фруктовые сады. Я улыбался, представляя себе рощи апельсиновых и лимонных деревьев; я слышал, как шумят площади Иерусалима от журчания фонтанов, таких же говорливых, как в Риме. Добыв воду, я превращу Иудею в благодатный край, здесь не будет страшных эпидемий… Для воплощения моих замыслов не хватало одного: денег. У меня в сундуках их было мало, не на что было даже начать земляные работы. Но я надеялся, что раздобуду нужные средства.
Я чертил планы моего будущего акведука, когда вошел Нигер:
— Господин, я не помешаю? Я пришел просить тебя подписать отставку.
— Какого-нибудь ветерана?
Луций Аррий пожал плечами:
— Да, господин, но не такого, который мог бы тебе что-то сказать. Переведен сюда незадолго до смерти Кесаря Августа… Обычно чего только не придумывают, чтобы не попасть в Иудею; этот сам напросился… Что за дурень! Правда, вначале он служил вполне исправно. А потом, лет десять назад, девица, с которой он жил, проститутка, — воистину иначе не скажешь! — уехала с одним воякой, который, закончив службу, возвращался в Италию. Не представляешь, что с ним сталось! Это был фонтан слез. Когда же не плакал, он так напивался, что валился с ног. Слезы в конце концов высохли — никто не может плакать всю жизнь. Но вино… Теперь это пьяница, который вообще не просыхает. Для службы не страшно; пагубная привычка не мешает ему учить новобранцев держаться в седле. Но жаль малыша…
Я поднял глаза, я знал единственную слабость Нигера, посвятившего себя армии, его безутешную печаль: у него не было детей…
— У него есть ребенок?
— Да, господин. Сын. Понятно, что та девица не стала обременять себя, когда улепетывала отсюда; у таких женщин материнских чувств меньше, чем у суки! Ему одиннадцать… Красивый мальчик, черненький и смуглый, как его сирийская мать, но с серыми глазами, как у его галльского отца. Самое грустное во всем этом — они обожают друг друга и очень несчастны…
Сколько лет я не вспоминал о Флавии, моем центурионе восемнадцатого? И почему мне вдруг припомнилось его скуластое лицо, сломанный нос, странные светлые глаза кельта? Даже его невозможный акцент звенел в моих ушах, с раздражающим судорожным прерыванием речи, с вечным «знаешь, трибун»… Как я уже говорил, он никогда мне не писал: вывести пером несколько слов было выше его сил… Очень скоро я перестал об этом думать… Любовь Прокулы совершила это чудо: меня больше не преследовали, как прежде, на протяжении многих лет, воспоминания о Тевтобурге. Иногда все же случалось, что они охватывали меня, и я снова видел сражение, вспоминал, о нашем позоре и об этом долгом, бесконечном пути через враждебную Германию, который привел нас, галла и меня, к Рейну. Я вспоминал этот путь, на протяжении которого, изможденный, больной, был для Флавия не товарищем, а обузой.
Эти кошмары являлись все реже, однако я бережно хранил подарок Флавия, с которым никогда не расставался: маленькую статуэтку галльской богини Эпоны, покровительницы всадников, которую почитал ценоманский центурион. Статуэтка богини стояла тогда на моем столе, поверх кипы бумаг. Я задумчиво смотрел на нее, охваченный сомнениями. Могло ли быть, что ветеран Аррия и Флавий — один и тот же человек?
Я понял, что мне бы хотелось, чтобы это было так, ведь галла мне не хватало, и я был бы рад, если бы он оказался рядом.
И в то же время я боялся признать в жалком пьянице, дошедшем до крайности, в этом конченом человеке моего друга. Но даже если это он, разве мог я не принять его отставки?
Я вновь видел себя раненым, дрожащим от озноба, неспособным держаться на ногах, повторяющим одну фразу: «Дай мне, подохнуть, Флавий! Без меня ты выпутаешься…»
Он не дал мне подохнуть. Всю неделю, подвергаясь опасностям, которые не грозили бы ему, если бы он шел один, ослабевший, но преданный и упорный, он нес меня на руках, прокладывая дорогу через лес, пока сам не упал от изнеможения. Если ветеран, о котором говорил мне Нигер, был Флавий, имел ли я право бросить его в беде?
Я задумчиво гладил бронзовую Эпону. Аррий невозмутимо ждал. И только покрасневшие щеки, как обычно, выдавали его волнение. Я поставил статуэтку, спросил:
— Он сам просит отставку?
Нигер показался смущенным:
— Нет, господин… Но он прослужил двадцать лет…
Я закончил фразу за него:
— Удобный случай избавиться от пьяницы. Ты это хочешь сказать, трибун?
Луций Аррий не ответил, но печатка на его пальце начала свое судорожное вращение.
Если то был Флавий, что бы значила для него эта отставка? И что станется с ребенком? Я помнил наши разговоры, его ужас перед старостью, перед необходимостью покинуть армию, выйти в отставку и вернуться в Галлию, чтобы обрабатывать участок земли, дарованный Республикой…
Если то был Флавий… Словно не желая лишиться надежды и в то же время пытаясь защитить себя от тяжкой обузы — я так ни разу не спросил у Нигера имя ветерана.
— Пришли мне его завтра, я с ним поговорю, — решил я.
Аррий удалился, обрадованный, что я освободил его от этого неприятного бремени.
В книге записей имя квестора центуриона значится как Дубнакос. Возможно, это галльское имя… Чужеземцы не могут брать латинскую фамилию, а Дубнакос — пока чужеземец. Он получит римское подданство только со своей отставкой, в вознаграждение за безупречную службу под нашими орлами. Флавием его звали только по дружбе, для удобства… Все-таки это был он. Когда он вошел, я тут же узнал его. Он не так уж изменился и не был похож на пьянчужку, которого я боялся увидеть, полагаясь на описание Нигера. Я был уверен, что с утра он даже не пригубил. Он готовился к этой встрече… Его руки немного дрожали, но приветствие и стойка «смирно» были выполнены безукоризненно. Застыв в предписанной уставом неподвижности, безмолвный, он ждал, когда я заговорю. Ничто в его поведении не позволяло предположить, что скоро уже двадцать лет, как мы знаем друг друга, и что мы были очень близки… Правда, едва он вошел, я подметил отрывистый взгляд, брошенный им на статуэтку Эпоны, и промелькнувшую тень улыбки. Наконец я начинаю разговор:
— Кажется, ты в пенсионном возрасте, центурион.
— Мне сорок три года, господин.
Он говорит это жалобным голосом. Я с понимающим видом качаю головой:
— Это не старость, центурион. Скажи, не чувствуешь ли ты себя слишком слабым, чтобы владеть мечом, слишком согбенным, чтобы сесть на коня, слишком потрепанным; чтобы… Гм… Ты понимаешь, что я имею в виду!
Тень прежней улыбки вернулась на его лицо:
— Да, господин, я хорошо понимаю, и благословенна Эпона, мне не на что жаловаться!
Я поднялся и обошел вокруг стола:
— Флавий! Скоро уже девять месяцев, как я в Кесарии, а ты не искал встречи со мной!
Серые глаза спокойно встретили мой взгляд:
— Для чего, господин? Показать, чем я стал? Гордиться нечем…
Улыбка исчезла, и я почувствовал, как на меня накатывает волна сострадания к моему галлу, с которым мне не совладать:
— Я мог бы помочь тебе.
Но Флавий качает головой:
— Зачем бы ты стал мне помогать? Я имею, что заслуживаю. Я знал, что делаю, в Аргенторане, когда решил взять Зенобию, не вчера родился! Не знаю, кто, кроме почтовых, не оценил ее ласки… Только несчастный Марк Сабин не хотел видеть того, что кололо глаза: что это была проститутка! — Флавий горько усмехнулся. — Знаешь, самое плохое, господин, то, что какой бы шлюхой она ни была, я любил ее как сумасшедший…
Я это знаю. С любовью, как с ненавистью, невозможно совладать. Ведь и я как сумасшедший люблю свою Прокулу, как бы ни была она некрасива; и я понимаю горе и страсть Флавия.
— Ты начал пить?
Он не пытается лукавить, обмануть. Тем же спокойным голосом, с той же откровенностью, отвечает, не отводя глаз:
— Как бочка, господин… Чтобы двоились часовые, когда я возвращаюсь в Антонию… Чтобы не помнить своего имени…
— А твой сын? Как его зовут?
— Антиох, господин. Его мать была из Антиохии, это она дала ему имя. Он не помнит ее. Ему было двадцать месяцев, когда она уехала… Одна старая иудейка, Ревекка, заботится о нем, она его воспитала. Я захожу к нему в свободные дни.
Он не отводил своих глаз, но видел в ту минуту не меня, но своего сына. Я выждал и спросил:
— Флавий, у тебя никогда не было желания начать жизнь сначала?
В ответ в голосе галла послышалась тоска:
— Как, господин? Покинув армию, вернувшись в городок в диаблинтском краю? Мой сын не знает ни слова по-кельтски, впрочем, и на латыни. Выращивать лошадей в Кирене или Нумидии? Нет, господин… Знаешь, я не создан для гражданской службы.
Но не об этом я думал в ту минуту. Мне пришла в голосу абсурдная мысль, она не давала покоя со вчерашнего дня, прежде того, как я убедился, что Дубнакос и Флавий — одно лицо.
— Ты говоришь по-гречески, Флавий?
— Да, господин, лучше, чем на латыни.
— А по-арамейски?
— За пятнадцать лет, господин… Выучил в конце концов. Даже с арамейским справляюсь.
Я колебался: моя мысль представлялась мне абсурдной, даже опасной. В Капернауме мне нужен был надежный наблюдатель, не пьяница. Но Флавий смотрел на меня и ждал, и у меня не хватило смелости отнять у него надежду, которую я же в него вселил.
— Флавий, ты можешь поклясться, что не будешь больше напиваться как свинья?
— Можешь мне не верить, господин, но я больше не пью.
— С каких пор? Со вчерашнего вечера? С сегодняшнего утра?
— Почти девять месяцев, господин. Я мог бы сказать тебе, что из-за сына, ведь он становится взрослым и не должен стыдиться своего отца. Но я бы солгал. Сколько раз я хотел бросить пить ради Антиоха! Но не мог. Нет, господин, не из-за сына, из-за тебя. Когда я узнал имя нового прокуратора Иудеи, я представил себе, каким ты меня увидишь. Это было невыносимо…
Трудно передать, насколько это признание тронуло меня. Я положил руку на плечо Флавию и решил рискнуть довериться ему. Он посмотрел на меня и сдавленным голосом пробормотал:
— Клянусь тебе, господин! Ни капли больше! Чтоб мне никогда не ступить на остров блаженных, если я обманываю тебя!
Счастливый Флавий! В такой дали от своей страны и своего народа, несмотря на все несчастья, он сохранил веру в обещания друидов и верит еще в царство Аваллона. В сущности, он был тем человеком, в котором я нуждался в этой экзальтированной и мистической Иудее, четыре тысячи лет неутомимо ждущей царя, который все не приходил.
Месяц спустя, в сопровождении юного Антиоха и пожилой Ревекки, Флавий поселился в галилейском Капернауме, на берегу Тивериадского озера, по соседству с моим другом Иродом. Я назначил его командующим первой центурией — звание, которое он давно должен был получить, — с выплатой жалованья за предыдущие годы. Его задачей было сообщать мне обо всем, что происходило у старого Лиса.
Луций Аррий ничего не понял; я не знаю, что помешало мне объясниться с ним. Ведь я все больше проникался к Нигеру доверием и симпатией.
Все годы моего прокураторства не были временем праздности. Я работал много, очень много. Я старался. Вначале — потому что считал возможным осуществить то, что не удалось моим предшественникам. Но и потом, когда, наконец, понял тщетность своих усилий и больше не ощущал ни малейшего снисхождения к иудеям, я продолжал править Иудеей с тем же прилежанием — уже не для того, чтобы заслужить их любовь, но из уважения к воле Кесаря и из любви к Риму, который я здесь представлял. Я вставал с восходом солнца и ложился далеко за полночь. Каждый месяц я совершал объезд с инспекцией: часто он затягивался на целую неделю. Чаще всего я ездил из Кесарии в Иерусалим и обратно, хотя этот город по-прежнему казался мне враждебным. Наконец, раз в год я посещал Дамаск и Александрию, чтобы побеседовать с правителями Сирии и Египта.
Прокула страдала из-за моих вечных отлучек. Будучи поглощенным сразу тысячей дел, я находил способ испортить те редкие мгновения, которые мне удавалось провести в семье. Однако жена ни разу не позволила себе ни замечания, ни упрека. Если видела меня более усталым, более беспокойным, чем обычно, она исподволь расспрашивала меня и часто, чуткая и сообразительная, предлагала решение, к которому не могли привести меня ни моя мужская логика, ни дипломатическое чутье Аррия.
Я говорил уже, что Прокула была связана узами дружбы с супругой управляющего Ирода, Иоанной, женщиной старше нее. Иоанна была доброй и благонравной. Благодаря ей Прокула не так скучала. Они виделись часто. Однажды, вернувшись внезапно, я познакомился с женщиной, которую привела Иоанна и которую звали Мириам. Это очень распространенное иудейское имя. Она была уроженкой Иерусалима и вышла замуж за галилеянина Зеведея, богатого владельца рыбного промысла и многочисленных лодок на Тивериадском озере. Бесхитростная Прокула нашла ее забавной и милой. Что до меня, опыт сделал меня недоверчивым, и я заподозрил, что Мириам пришла, руководствуясь материнским честолюбием; у нее было двое сыновей, Иаков и Иоанн (тоже распространенное имя), будущее которых ее очень занимало. Особенно младшего, которому она оказывала заметное предпочтение. Она часами докучала нам рассказами о добродетелях своего сына, превозносила его дар к языкам, утверждала, что он великолепно говорит по-гречески и даже сочиняет стихи в духе Пиндара. С преувеличением, свойственным матерям, ослепленным гордостью, она твердила, что ее мальчики далеко пойдут. Когда она поведала мне, что Иакову шестнадцать, а Иоанну, которого она предпочитала называть на греческий манер Иоаннисом, — пятнадцать, я положил конец ее хвалам: посоветовал не отпускать их от себя до тех пор, пока у них не появится борода. То, что Мириам, набожная иудейка, видела будущее своей страны под покровительством Рима, меня успокоило; я посчитал ее достаточно проницательной и честолюбивой, чтобы не ошибиться лагерем…
Я все еще слышу, как она твердит:
— Почетные места, господин! Почетные места, одно слева, другое справа от тебя — вот чего заслуживают мои сыновья!
Я остерегся бы предложить ей место возле себя, справа или слева.
Так Прокула коротала время и, безмятежная, хранила свою любовь ко мне невредимой, уверенная в моей любви, несмотря на то, что мы редко бывали вместе. Но кого я вовсе оставлял без внимания, так это своих детей.
После посещения Ирода я запретил Понтии входить в мой кабинет или приемную залу, невзирая на печальные последствия такого решения. Она покорилась. Немного времени спустя я вдруг обнаружил, что моя дочь выросла, а я даже не увидел, как это произошло. Понтия всегда была моей любимицей. Если я забывал о ней, моей старшей, то что можно сказать о ее братьях? Авлу было всего четыре, и его мир ограничивался юбками матери. Я для него был существом посторонним, немного подозрительным, и мое отсутствие было ему безразлично. Но Каю было семь; я помнил, какое обожание я испытывал в этом возрасте к моему отцу, и понимал, что лишаю моего сына чего-то очень важного. Я должен был первым посадить его в седло; мне надлежало преподать ему основы фехтования. Но когда бы я нашел для этого время? Будь Флавий в Кесарии, я возложил бы эту заботу на него; в его отсутствие я положился на добрую волю Нигера.
Луций Аррий в свои тридцать пять, посвятив свою жизнь армии, отказался от мысли завести семью. В своей безбрачной жизни он находил утешение в том, что всякий может получить за деньги, но тяжко переживал то, что лишен радостей отцовства. Эту невостребованную нежность он перенес на Кая. Он взял на себя труд обучить его верховой езде, выбрав ему поначалу молодую арабскую кобылу, которую он сам намеревался объездить. У Нигера был дар объезжать самых трудных лошадей, а породистая Уриель, несмотря на свой норов, оказалась самым послушным из животных. До того, что я без колебаний разрешил сесть на нее и Понтии.
Если Луций Аррий был нужен мне вне службы, я всегда мог быть уверен, что найду его в обществе Кая. Я и не думал огорчаться из-за привязанности, которая возникла между моими сыном и помощником. У меня не было на это времени. У меня не было времени даже заметить, что я занимаю в сердце Кая лишь второе место. Но самое большое отцовское счастье, какому можно было лишь завидовать выпало на долю моего галльского центуриона. Аккуратно, каждый триместр, Флавий покидал Капернаум и приезжал ко мне с устным докладом. Антиох часто сопровождал его. В эти дни я отпускал Нигера: он уводил детей кататься верхом или купаться на берег моря.
VI
В первые месяцы Флавию нечего было сообщить мне по поводу событий в Галилее. Жители Капернаума приняли его спокойнее, чем я мог ожидать. Правда, этому во многом способствовали деньги, до которых я не был жаден. Я боялся — настолько религиозные запреты иудеев казались мне строгими, чрезмерными и неоспоримыми, — как бы то, что он язычник, не стало непреодолимым барьером между ним и галилеянами; но Флавия это не смущало. Соседи охотно прощали ему оплошности и фантазии, которые они принимали за неведение прямодушного иностранца, «боящегося Бога», как говорят иудеи. Флавий ловко вошел к ним в доверие, давая раввину Капернаума, под предлогом срочных реставрационных работ в синагоге, очень большие суммы.
— Знаешь, господин, они меня постыдно обокрали! Поскольку это твои деньги, я должен сказать, что они постыдно обокрали тебя! Они выжали из меня в три раза больше, чем нужно!
Флавий позволил себя облапошить, сделав вид, что ничего не понимает, и этому наивному простофиле была обеспечена всеобщая симпатия. Многократно и безропотно он протягивал руку к кошельку. Щедрые взносы позволили ему избежать остракизма, неминуемой жертвой которого мог стать любой другой римский офицер. Между тем, делая щедрые дары за мой счет, галл поддерживал множество связей, которые мог осудить всякий набожный иудей, но в которых раввин не торопился его упрекать.
После десяти лет слезливой верности неблагодарной Зенобии, примиренный с жизнью благодаря присутствию сына и теперешнему воздержанию, Флавий снова влюбился. Его, как большинство мужчин, всегда привлекал определенный женский тип, и я сначала обеспокоился, узнав, что он увлекся женщиной, которая была похожа на его опасную сирийку. Но эта его Мириам была женщина странная, в чем мне довелось убедиться два года спустя, когда нам представился случай встретиться… Она была высокая, стройная и на особый, восточный манер красивая. У нее были самые роскошные волосы, какие мне когда-либо приходилось видеть. Пышным рыжеватым плащом они покрывали ее плечи и спину и, должно быть, доставали до пят. На вид ей было лет тридцать, она была похожа на тех женщин, которые беспощадно и неосмотрительно растратили свою молодость. Но, может быть, мне просто так показалось в то утро, когда я ее встретил, с усталостью и тоской на суровом лице?
Будь она римлянкой, а не иудейкой, никто не осудил бы Мириам за образ жизни, который она вела. Родители выдали ее замуж совсем юной за очень старого, но очень богатого человека, который, умирая, оставил ей земли и красивый дом в деревне Магдала. Оставшись вдовой, без детей, опьяненная внезапной свободой, она растратила состояние, покупая дорогие украшения и духи. Потом, промотав деньги мужа, неспособная отказаться от своих легкомысленных прихотей, Мириам завела любовников и заставила их оплачивать ее расходы. Разве Помпония вела себя иначе? Но там, в Риме, Помпония оставалась патрицианкой, окруженной почетом и уважением. Несравненный Квинт Виниций. Руф, за которого она вышла замуж через три недели после моей женитьбы и которому было известно прошлое жены, и не думал считать ее проституткой. Но здесь, далеко от Рима, соседи окружили Мириам таким презрением, которое не выказывали последней из девок худшего притона Субуры.
Флавий знал, что посещать Мириам считалось неприличным, но ему не было до этого дела. Может быть, к его любви примешивалась жалость, потому что я неоднократно слышал, как он сочувствовал несчастьям и разочарованиям своей Магдалины.
Мой центурион завел еще одно знакомство, тоже не блестящее — в лице управляющего таможней Капернаума Левия бар Алфея, того полиглота, которого Аррий безуспешно пытался завербовать. Вместе они часто коротали время по вечерам.
— Знаешь, господин, — говорил мне Флавий, — странный малый этот Левий… Мытарь, к которому единоверцы относятся как к свинье, — до того, что ему запретили входить в синагогу; но он, сидящий над их священными книгами, настоящий ученый! Он говорит даже, что, если их Мессия явится, он первый пойдет за ним.
Непостижимые люди эти иудеи! Если бы Христос Израиля пришел однажды, для язычников не нашлось бы места в его царстве, а тем более для их пособников. А мытари, и в их числе Левий бар Алфей, были бы неминуемо преданы смерти. И все же он охотнее говорил о Христе, о восстановлении независимости своего народа, чем о Риме…
Да, в течение месяцев доклады Флавия были удручающе однообразны. Галилейская хроника ограничивалась немногим: вечными раздорами Левия с раввином Капернаума, неумелыми интригами супруги судовладельца Зеведея, той другой Мириам, которую я встретил у Прокулы, и скандалами в доме владельца рыбного промысла на озере по имени Симон бар Иона, терзаемого сразу женой и тещей. Ничто не давало мне повода придраться к Ироду. Я больше не видел Антипу, разве что только во время редких официальных церемоний, где он принимал меня подчеркнуто холодно. И я не обращал бы на это никакого внимания, если бы не тревожные вести из Рима.
Утомленный атмосферой ненависти и подозрений, царившей в Палатине, Тиберий, поддавшийся приступу мизантропии, — как было однажды, когда он переселился на Родос, — покинул Город и удалился в свой дворец на острове Капри, вблизи Сорренто. Он оставил Сеяну реальную власть. Тотчас же террор обрушился на тех, кто вызывал неприязнь у Элия. Доносчики по малейшему поводу ссылались на закон об оскорблении величества. Каждый шаг стал опасным и для Государства, и для Кесаря. Чтобы наказать всякое преступление, был только один приговор: смерть.
Сколько времени могло расстояние, отделявшее от Рима меня и мою семью, защищать нас от подозрений Элия? Когда я принимался думать об этом, ужас сжимал мне сердце.
Видимость дружбы, связывавшей Антипу с Тиберием, не могла меня обмануть.
На берегах Иордана Иоанн продолжал совершать свои крестильные обряды. К нему приходили толпы людей. Вместе с офицерами, бывшими членами братства Митры и любителями священных таинств, Нигер из любопытства вновь пришел к тому, кого народ назвал Пророком или — за то, что очищал грехи водой из реки, — Крестителем. Плененные его речами, Луций Аррий и другие выспрашивали Иоанна, что им следует делать для того, чтобы войти в то Царство, о наступлении которого он возвещал. Он отвечал:
— Не притесняйте никого, не вымогайте ничего, и довольствуйтесь своим жалованьем.
Это почти те же самые правила, которые я давал войскам, не желая, чтобы мои когорты вели себя как завоеватели.
Ирод, в свою очередь, боялся гнева Крестителя. Он много раз пытался склонить его к милости и просил публично не осуждать его брак с Иродиадой, но не смог добиться своего ни обещаниями, ни угрозами. Не знаю, в чем Иоанн вынудил Антипу признаться, но ответ Крестителя, показавшийся свидетелям сцены очень темным, привел его в сильнейший ужас. Тетрарх не исповедовал веры своих отцов, но был суеверен. Я подумал, когда мне обо всем рассказали, что отныне Иоанн защищен от ненависти Ирода.
Говорят, некоторые кельты получают от Огмия, своего бога красноречия, большие ораторские способности. До сего дня я мог поклясться, что Огмия не было поблизости при рождении Флавия. Почему он был в моих глазах так косноязычен? Из-за прерывистости речи или из-за этого надоедливо-привычного «знаешь», дробящего его высказывания? Или из-за того, с каким трудом выражал свои мысли на чужом языке? Я считал Флавия неспособным овладеть вниманием аудитории. Но тем вечером я узнал, что ошибался.
Взгляд Прокулы был устремлен вдаль, на губах бродила странная улыбка, освещавшая ее лицо внутренним светом, который я отмечал у нее только в наши самые интимные моменты. У Понтии, которой надлежало быть в постели, был зачарованный вид, какой она принимала прежде, когда я находил время рассказывать ей старые сказки о вампирах.
Флавий настолько был увлечен своим рассказом, что мне стало представляться, что и сам он начал верить в эти бредни галилейской толпы, которая в угоду своим фантазиям переиначивает самые обычные факты. Только что, когда он делал мне свой доклад наедине, слова его не имели такого чарующего действия. Однако Флавий ничего не изменил, ничего не прибавил и не убавил в своем рассказе. Разница была в манере, в которой он повествовал, в восхищении, которое сквозило в его голосе. История его и в самом деле была удивительна! Вот почему я отказывался ей верить. Вот почему сам Флавий на докладе скептически улыбался. Теперь римский центурион исчез, уступив место галлу Дубнакосу. Он вновь обрел хриплые интонации своего народа и ту особенность построения фраз, которую должен был усвоить в школе друидов. Дубнакос верил в вечнозеленые луга Аваллона… Почему бы ему не поверить в легендарное Царство Христа? Я, однако, смел надеяться, что с возвращением дневного света этот мечтательный кельт превратится в римского центуриона, который вновь отправится выполнять мое задание в Капернаум. В ожидании, когда это произойдет, я предоставил ему возможность завораживать моих близких своими нелепыми упованиями. Я дал им всем помечтать, и сам заслушался.
Вот уже три месяца, как в Галилее появился какой-то человек. Он был плотником в селении Назарет, где жил со своей матерью, вдовой. Наподобие Иоанна, которому, как говорили, приходится двоюродным братом, этот Иисус бар Иосиф разговаривал с народом, беседуя с ним о Дне Ягве. В этом не было ничего особенного: Иудея, Галилея изобиловали подобными проповедниками. Любопытно то, что равви пришел из Назарета… Не знаю, в силу какого древнего провинциального соперничества у этого поселения дурная слава. Настолько дурная, что иудеи не раздумывая говорят о галилеянах: «Что хорошего можно ожидать от Назарета?»
Иисус бар Иосиф окружил себя небольшой группой людей, из которой одни ничего из себя не представляли, а другие просто нашли превосходный повод отлучиться из дома. Флавий, громко хохоча, рассказал мне, что Симон бар Иона, преодолевший огорчение, что ему придется отказаться от своих маленьких слабостей, первым побежал за новым равви, радуясь возможности избавиться от жены и тещи. Но вместе с ним оказался и Левий бар Алфей, который, после того как Учитель отужинал у него, решил следовать за ним, оставив сбор пошлин. Разумеется, фарисеи Капернаума, изгнавшие Левия из синагоги, — и первым делом раввин — вознегодовали, что набожный иудей согласился есть с мытарем, на что Иисус бар Иосиф, улыбнувшись, ответил:
— Не здоровые нуждаются во враче, но больные…
Голос Флавия понизился, будто то, что он хотел сказать, было ошеломляющей тайной:
— Раввин Иаир немолод. После скольких, я не знаю, мальчиков, у него напоследок родилась единственная дочь, Девора. Ей двенадцать лет. Он, никогда и ничего не прощавший сыновьям, преклоняется перед девчонкой.
И вот этой ночью — пока у Левия пели и предавались радостям — Девора, проснувшись, начинает хрипеть, задыхаться…
Флавий остановился — не столько для того, чтобы перевести дух, сколько для того, чтобы подготовить драматический эффект. Как не узнать эти симптомы, пугающие всех родителей, симптомы дифтерии?
Дав нам поразмышлять о серьезности болезни, Флавий продолжил свой рассказ: задыхающаяся Девора, вопящая мать, царапающая себе лицо, потрясенные безмолвные старшие братья, бессильный врач и Иаир, в изнеможении повалившийся на кровать, захлебываясь слезами…
— В это время у Левия все спали. Петух пропел довольно давно, никого не разбудив. И вдруг слышится страшный шум. Я иду посмотреть, кто скандалит на улице, — и что я вижу в ста шагах от моего дома? Бедный Иаир, с перекошенным от горя лицом, бьется, как бык, в дверь Левия. Я не верю своим глазам! Равви Иаир, стучащий в дверь к мытарю Левию! Какой-то высокий рыжеволосый человек, которого я никогда не видел в наших краях, в конце концов приотворяет дверь и не слишком любезно говорит: «Учитель спит, приходи попозже». Но раввин, цедя сквозь зубы не пойми что, отталкивает его и прорывается во двор. Я делаю то же — из любопытства услышать, что скажет мой друг Левий, обнаружив, что в его дом вторгся человек, изгнавший его из синагоги. Вы, конечно, понимаете, что из-за всего этого шума никто уже не спал. И вот явился Левий, не слишком бодрый, так как ночь оказалась короткой. Поскольку характер у него недобрый, я подумал, что Иаир сейчас выйдет быстрее, чем вошел… Вовсе нет! Я заметил, что у Левия странный вид… радостный, что ли… Уверяю, поскольку ему постоянно не давали житья, у него вовсе не было причин принимать радостный вид! Он, говоривший с Иаиром только затем, чтобы получить с него подати, обнял его за плечи и сказал, но не так, как тот рыжий у двери, а ласково: «Хочешь говорить с Учителем? Иди за мной!»
Равви из Назарета появился на пороге, Иаир упал к его ногам и простонал: «Учитель, ради бога, пойдем со мной! У меня только одна дочь — и она умирает! Но если ты возложишь на нее руки, я знаю, она не умрет!»
В моей деревне, в Галлии, я видел друида, исцелявшего возложением рук. Иногда это помогало, но не от крупа! Я очень бы удивился, если бы Иисус бар Иосиф смог ему помочь…
Но он вышел от Левия. Я никогда не видел его так близко. Человек молодой, не старше тридцати. И тем не менее не знаю, как объяснить… Скажи вы мне, что он был знаком с Бренном, я бы поверил. Да, в самом деле, что-то странное, такое ощущение, будто ты его встречал, будто давно его знаешь… Я даже начал спрашивать себя в глубине души, может, так оно и есть… Потому что, представь, он тоже смотрел на меня, будто узнавая…
Голос Флавия вдруг сорвался:
— Последний раз на меня так смотрела моя бедная мать, в день, когда я поступил на военную службу. Я почувствовал, как во мне все перевернулось! Мне хотелось спросить, виделись ли мы прежде — случайно, — при обстоятельствах, о которых я забыл. Хотя, мне кажется, так просто его не забудешь… Но я не успел. Появился рыжий, впустивший Иаира, и, ничем не смягчая удара, бросил ему в лицо: «Кто-то из твоих приходил сказать — твоя дочь умерла. Теперь уходи! Нет нужды утруждать Учителя!»
Иаир сделался белым, как саван, так что Левий бросился к нему в испуге. Но Иисус бар Иосиф успел его поддержать и сказал: «Не бойся, Иаир! Веруй, и твоя дочь будет жива».
Я решил, что он хочет сказать: она будет жива в другом мире, но я ошибся. Он спокойно направился к дому раввина, и все последовали за ним. В доме плакали, кричали, вопили, раздирали на себе одежды. Видя это горе, все, кто знал Девору, в свою очередь зарыдали. Но Иисус бар Иосиф остановил их, сказав: «Не шумите! Девочка не умерла, она просто спит».
В это время вышел врач Моше, услышал его слова, встал перед ним и сказал: «При всем уважении, которое я испытываю к тебе, ты не должен так говорить. Потому что, увы, малышка мертва, совершенно мертва!»
Но его слова явно не смутили Учителя. Он сделал окружающим знак удалиться, оставив лишь родителей девочки и, как ни странно, того высокого простофилю Симона бар Иону, а также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, тех двух мальчиков, которых мать так всегда превозносит.
Кроме них никто не знает, что происходило в доме. Зато когда Иисус вышел, он держал за руку Девору; и она была такой же живой и здоровой, как эта малышка, да хранит ее Езус! — закончил он, указывая на Понтию.
Была ли хоть частица правды в сказке галла? Что чудесного во всем том, что случилось? Ребенок был болен, родители потеряли голову. Врач не понял, что девочка в обмороке.
О, если бы умершие дети возвращались к жизни по горячей мольбе родителей!
С этих пор донесения Флавия почти исключительно касались дел и поступков человека из Назарета. Иисус бар Иосиф бродил по Галилее, Самарии и Иудее, увлекая за собой огромные толпы, гораздо более многочисленные, чем привлекал Иоанн. С увлечением народа пророком с Иордана было покончено, и он, может быть, сожалея о своем одиночестве, первым отправил своих учеников к Галилеянину… Даже женщины, столь чувствительные к грозным обличениям Иоанна, отныне предпочитали более кроткое учение Иисуса бар Иосифа. Каждый раз, когда он выступал публично, а это случалось часто, Иоанна, подруга Прокулы, шла его слушать. Я не одобрил бы, если бы она увлекла мою жену на эти собрания.
Но я не должен был забывать, что Прокула из рода Клавдиев. И хотя она никогда об этом не говорила, она сознавала свое патрицианское происхождение, не забывая о фамильной чести и своем родстве с Кесарем. Ей было известно о спорах, в последние годы волновавших Сенат, которые чуть не закончились запретом для правителей и прокураторов брать с собой жен. Последних обвиняли в том, что они вмешивались в политику, влияли на дела управления и позволяли обманывать себя кучкам льстецов и честолюбцев. Ни один из этих упреков нельзя было отнести к Прокуле. Даже если у нее возникало желание послушать, что проповедует Галилеянин, она ему не поддавалась. Однако я знал, что это стало ее заветным желанием. Два или три раза я заставал ее переписывающей в альбом изречения Равви, которые пересказывала ей Иоанна. Ради забавы я попросил у нее эти записи:
«Ударившему тебя по щеке подставь другую!» «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю!» «Отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку».
Клянусь Марсом, Галилеянин вряд ли понимал, в каком мире мы живем, если считал возможным претворять в жизнь свое учение.
Женщины внимали ему. Флавий познал это на собственном опыте. Его Мириам, отправившись послушать Галилеянина из пустого любопытства светской женщины, вернулась потрясенная. Она закрылась у себя, не желая никого видеть. Потом продала все, что у нее оставалось из ценностей, и присоединилась к группе учеников, которые следовали за Иисусом бар Иосифом и к которым уже можно было отнести и Иоанну.
Сколько времени могло длиться это увлечение? Несколько недель? месяцев? Я не хотел вмешиваться. То, что говорил этот человек, не могло нанести вреда Риму. Чего могли бы бояться Рим и Кесарь от учителя, который наставляет своих последователей подставлять другую щеку, если вам дали пощечину?
Флавий принес мне новость, которую считал очень важной. Случившееся еще раз подтвердило расположение моего друга Антипы к памятозлобию и мести.
Покидая берега Иордана, Иоанн допустил неосторожность: он направился в Галилею. К чему подобное безрассудство, после того как он навлек на себя гнев Ирода и, хуже того, Иродиады? Солдаты тетрарха схватили его и бросили в темницу.
Что одержит верх в уме Антипы? Суеверный страх перед гневом Ягве? Или похоть? То, что он уступил жалобам Иродиады, арестовав Крестителя, говорило само за себя.
Каждый год, в день своего рождения, Антипа собирал друзей и сторонников в своем загородном доме в Тивериаде. На этот раз Иродиада приготовила подарок, способный больше всего восхитить ее престарелого супруга. Она привела свою дочь Саломею, одетую в прозрачные, более будоражащие воображение, чем сама нагота, ткани, какие носят восточные танцовщицы. Саломея плясала, стало быть, для своего двоюродного дедушки и его гостей. Когда девица закончила, он приблизил ее и сказал:
— Твой танец пленил меня. В благодарность за него проси чего хочешь, и дам тебе, даже до половины моего царства или сокровищ!
Я думаю, что за свои подарки Антипа ожидал получить удовольствие более реальное, чем то, какое доставляло ему созерцание прозрачной туники… Роли между матерью и дочерью были распределены заранее, и Саломея, не задумываясь, своим красивым свежим голоском прозвенела на всю залу:
— Дядюшка, прикажи, чтобы принесли сюда на этом серебряном блюде голову Иоанна, которого прозвали Крестителем!
И это маленькое чудовище было всего на несколько месяцев старше моей Понтии! Мне рассказывали, что Ирод из багрового сделался мертвенно-бледным. Он два или три раза беззвучно открывал рот и в конце концов сказал:
— Дитя! Неужто ты не предпочла бы какое-нибудь красивое ожерелье? Или платье? Очень красивое новое платье?
— Нет, дядюшка! Я хочу голову Иоанна!
Гости начали смеяться. Ведь Ирод дал слово выполнить любую ее просьбу, так что я уверен: этот смех был ему невыносим; может, именно из-за него он не отказался от своего слова. Час спустя в залу вошел палач и положил перед Саломеей отрубленную голову Крестителя, красивую голову, которая имела несчастье привлечь внимание Иродиады.
Таков Восток. Такова Иудея.
Стояла страшная жара. Знойный ветер дул со стороны пустыни. Приносимый им красный песок оставлял на плитах двора кровавые пятна. Толщина каменных стен резиденции защищала от невыносимого зноя, сохраняя в комнатах относительную прохладу. Но дела заставляли меня выходить, и едва я переступал порог, как песок бросался в лицо, забивая глаза, ноздри, рот. Иудеи ходили, опустив края своих одеяний, складки которых обычно укладывают на голове; так они защищались от холода зимой и от ветра и песка летом. Мы, римляне, не можем надевать их одежд.
Мне жаль было часовых, а потому я менял их каждые два часа. Лошадей же запретил выводить без крайней нужды после восхода солнца.
В тот вечер ветер все усиливался. Горизонт был кроваво-красным, и это означало, что грядет буря. Старая Ревекка — служанка, воспитавшая Антиоха, — утверждала, что ветер может не утихать пятьдесят дней. О Эол, что за страна!
Вот уже неделю Флавий все откладывал свое возвращение в Галилею. Антиох был доволен, потому что мог еще побыть с Нигером, ведь тот так славно с ним играл. Я слышал, как они смеялись на конюшне. Флавий вздыхал:
— Знаешь, господин, именно в такую погоду я больше всего жалею о диаблинтской стране… Ветер там дует с запада; он приносит теплые монотонные дожди…
И он погрузился в долгие воспоминания, видя перед своим мысленным взором серое небо, облака, бесконечные дубовые и каштановые леса, реку с такими темными водами, что ценоманы дали ей имя Медуана, Черная…
Глядя на Флавия, и я принялся мечтать о крышах Рима на закате солнца, о фонтанах Города и берегах Тибра… Уже два года правил я в Иудее, и не было никаких оснований полагать, что Тиберий намерен отозвать меня в Италию. Возможно, это было к лучшему. Ведь в каждом письме от Проба говорилось о новых доносах, процессах и расправах, которые были столь выгодны Элию. Сеян устраивал так, что его жертвы, прежде чем предать себя смерти, делали завещание в его пользу. Тогда он великодушно соглашался вернуть вдове и сиротам ушедшего треть или четверть конфискованного наследства. Как это все могло обернуться для Города, для Империи, если закон державы, призванный некогда оберегать их величие, служил отныне самому гнусному из авантюристов? Неужели Рим пал так низко, что ни один человек не поднимется, чтобы свергнуть Сеяна? Или все, как я, парализованы страхом? Ибо я содрогаюсь всякий раз, когда правительственный корабль причаливает к Кесарии.
Ночью душный воздух насыщался ароматами мяты, шалфея, вербены — растений, которые Прокула сама выращивала на террасе.
В конце концов в ту ночь я заснул, откинув простыни, смоченные перед сном водой и мгновенно высохшие. Мне снился Рим: он горел. Я метался во сне, не имея сил помешать огню добраться до моего дома в Авентине. Это было дурное предзнаменование…
От кошмара меня избавила Прокула. В свете луны я увидел ее встревоженное лицо:
— Кай болен.
За окном, в темно-синем небе, я различил мириады звезд. То ли от жары, то ли от страха я весь покрылся потом.
У Кая был сильный жар, и он жаловался на боли в спине. Гарнизонный врач Агат был озадачен, но не показался мне встревоженным.
— Нужно подождать, господин. Это может быть что угодно. Многие болезни вызывают жар и мышечные боли; большая часть из них — неопасные.
Но он потребовал, чтобы Понтия и Авл были удалены от своего брата. Два дня спустя снадобья Агата справились с лихорадкой, но ломота не отпускала. Прокула сидела у изголовья безотлучно. Я не мог себе этого позволить, ибо был завален работой. Однако час от часу я посылал Нигера справиться о моем сыне; я пытался утешать себя и его, так как он был в большом беспокойстве.
На пятый день, освободившись от дел, я настоял, чтобы Прокула пошла отдохнуть, и занял ее место. Каю, казалось, было лучше. Ветер стих, но жара не стала от этого легче. Я хотел пить. Я налил себе стакан воды, охлажденной снегом с горы Ливан, и спросил сына, не хочет ли он пить. Он отказался:
— Спасибо, папа, я не хочу, мне трудно глотать.
Его голос показался мне странно приглушенным. С внезапно сжавшимся сердцем я посмотрел на Кая. Он попросил меня:
— Папа, помоги мне подняться. Я не могу пошевелиться.
Тогда мой разум постиг то, чего не хотели видеть глаза: причину этой спокойной неподвижности, которую Прокула и я приняли за облегчение после страданий, — мой сын перестал владеть своими членами.
Не знаю, как я сдержал крик ужаса и отчаяния. Подавив дрожь в голосе, я спокойно приказал Аррию позвать врача.
Агат осмотрел Кая и предложил мне выйти из комнаты. Он был мрачен:
— Господин, я мог бы, конечно, рассказывать тебе небылицы, как поступают с женщинами и детьми. К чему бы это привело? Ты мужчина, ты солдат, поэтому лучше сказать тебе правду. Мне известна эта болезнь. Жара способствует ее распространению, и часто она настигает людей именно летом. Она поражает детей и очень молодых людей. У меня было три таких случая в казарме в прошлом месяце. Вот почему я об этом подумал в первый же вечер, когда осмотрел твоего сына. Но, как я тебе сказал, вначале она похожа на другие болезни, неопасные, и я не хотел беспокоить тебя понапрасну.
Каждое слово Агата резало меня более мучительно, чем острие кинжала; он понял это:
— Прости меня, господин, правда жестока. Иногда паралич не идет дальше конечностей, и те, кто страдает этой формой болезни, выживают, но остаются увечными. Они влачат такое существование, какое никому не пожелаешь… В других случаях оказываются парализованными только мышцы горла и груди. И если сердце быстро не ослабевает, больной медленно умирает от удушья. — Агат больше не смотрел на меня. — Понимаешь, господин, в таких случаях наступает агония, похожая на агонию приговоренных к распятию… Удушье, асфиксия…
Мне самому не хватало воздуха, как будто его было недостаточно для того, чтобы наполнить мои легкие. Как мог этот человек так спокойно рассказывать мне, какой будет агония у моего сына? Говорить, что он будет мучиться, как распятый? Наконец Агат решился бросить на меня взгляд и удивленно пробормотал:
— Как ты бледен, господин! Я принесу тебе питье, которое тебе поможет.
Самым ужасным было то, что я ничего не чувствовал. Больше ничего. Дела еще занимали мой ум; что же до сердца, то мне казалось, будто у меня его больше нет. Головокружительная пустота образовалась в моей груди. Я был рассудителен до жестокости. Я знал, что мой сын умирает и что я бессилен это предотвратить. Я был наделен всемогуществом Рима; я правил этой страной как хозяин, но я не мог помешать смерти прийти за моим сыном и забрать его. Собственная рассудочность повергала меня в отчаяние, но я был спокоен: хладнокровно, страшно спокоен. Здесь всемогущество Рима ничего не означало… Ровным счетом ничего. Какая насмешка! Я вышел из ничто, и быть, может, завтра Кай станет ничем. Философы учат, что двойная уверенность в небытии и нашем бессилии есть начало мудрости и душевного покоя. Мой учитель философии говорил: «Меня не было. Я был. Меня больше нет. Мне наплевать». Придет день, когда, как отца, матери и всех предков, Кая Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, больше не будет, придет день, когда он перестанет страдать. И если философы не заблуждаются, я могу надеяться хотя бы на это. Кая Понтия Пилата больше не будет, и, как учат у Портика, ему это будет безразлично. Но я был еще жив и я страдал. Я страдал оттого, что, словно приподнявшись над страданием, чувствовал себя холодным и твердым как могильный камень.
У меня было ощущение, что я и жив и мертв: мертв по отношению ко всему хорошему на этой земле и жив по отношению к тому, что причиняет боль. Я предпочел бы не знать стоиков, быть таким же варваром, как мой бедный Флавий, и найти себе прибежище в мечте иудеев, которые говорят о воскрешении мертвых детей на зеленых лугах вечного блаженства, которые ожидают души умерших.
Я не колеблясь обрек бы себя ужасным мучениям на кресте, если бы моя агония могла спасти моего ребенка. Но никто не мог позволить мне совершить такой обмен, и некому было принять эту жертву. Я созерцал ясное небо Иудеи. Никогда я так остро не ощущал его пустоты. Богов не было в нем, как и в моем оледенелом сердце. Я Хотел бы, чтобы они существовали, чтобы они были готовы выслушать мою бессвязную мольбу, еще более жалкую оттого, что мне не к кому было с ней обратиться. Я был слаб и малодушен.
Вечером третьего после нашего разговора дня Агат вошел в мой кабинет:
— Кончено, господин.
Не знаю, откуда взял я силы подняться наверх.
Прокула стояла у изголовья Кая прямая и бледная. Я вспомнил, как она страдала восемь лет назад, в родах; и я знал, как она страдала, помогая ему умереть. Я хотел было обнять ее, прижать к себе, но руки мне не повиновались. Я наклонился к сыну, взял его за руку. С тех пор как мы покинули Рим, я так мало играл с ним, мне все некогда было выказать ему мою любовь… Теперь было слишком поздно.
— Ты хочешь чего-нибудь? Тебе что-нибудь нужно? — спросил я.
Кай открыл глаза и прошептал:
— Я хотел бы видеть… Я хотел бы видеть Нигера.
Я послал за Луцием Аррием. Он вошел, будто извиняясь, что явился в такой момент. Взгляд Кая, наполненный тоской и отчаянием, встретился с его взглядом… У Нигера хватило мужества не опустить глаз.
— Луций Аррий, мне страшно! Мне так страшно!
Я услышал, как рыдает Прокула. Вопль, который я так долго удерживал, сдавил мне горло; я кусал губы, чтобы не закричать, как раненый зверь.
Нигер опустился на колени с другой стороны постели, напротив меня. Он осторожно приподнял Кая, взял его на руки и с нежной улыбкой сказал:
— Если ты боишься из-за такого пустяка, как же ты через несколько лет пойдешь со мной на войну?
Свет радости блеснул в испуганных глазах моего сына, он прошептал:
— Если я пойду с тобой, значит, я выздоровею? Ты в этом уверен? Ты мне обещаешь?
— Я клянусь тебе, Кай, всем самым святым для меня: Фортуной Рима.
Черты Кая расслабились. Он закрыл глаза, вздохнул два раза, простонал:
— Луций! Луций!
И, призывая Нигера, сжимавшего его в объятиях, сын мой умер.
Безумный вопль огласил комнату, и я спросил себя, кто мог так кричать. И лишь почувствовав, как Прокула гладит мое лицо, понял: это кричал я, прокуратор Иудеи, воплощение римского величия. Луций Аррий и моя жена смотрели на меня, полные сострадания. Оба они обливались слезами, которые уже незачем было скрывать. Но мои глаза были сухими.
Прокула приняла беду с мужеством, на которое я был неспособен. Каким бы большим, каким бы жестоким ни было ее страдание, она нашла еще силы поддержать меня. Я так терзался, что боялся потерять рассудок. Занятый работой, я никогда не задумывался о том, как сильно люблю Кая, но, главное, мне некогда было выказать ему свою любовь. Двадцать раз на дню, со сжавшимся от нелепой надежды сердцем, я вскакивал с места, потому что мне казалось, что я слышу голос сына в соседней комнате; долгие минуты. То я сидел, вперив взгляд в портьеру, словно ожидая, что она раздвинется и мне навстречу выбежит Кай. То неотступно думал об истории, рассказанной Флавием. Я думал о дочери Иаира и спрашивал себя, какая безумная гордыня, какое почтение к достоинству Рима помешали мне позвать Галилеянина. Я говорил уже: я был на грани помешательства, ибо был над страданием — что хуже самого страдания. Перед погребальным костром сына у меня возникла безумная идея броситься в пламя и исчезнуть в огне. Пламя костра не могло причинить такую боль, какую причинила эта утрата.
Одна фраза, прочитанная в альбоме Прокулы, приходила мне на память: «Блаженны плачущие! Ибо они утешатся». Но какое утешение мог я обрести?
Нигер плакал, не стесняясь своих слез. Когда я видел его в слезах, он извинялся жалобным голосом:
— Прости меня, господин!
За что он просил прощения? За то, что выглядел более потрясенным, чем я? За то, что любил моего ребенка и был им любим? Разве не я один во всем этом виноват? Теперь я заново переписывал прошлое. Я находил время заниматься с Каем. Я подсаживал его на спину кобылы, дарил ему снаряжение легионера, о котором он так мечтал… Но это не приносило мне утешения: то, что я упустил, было упущено безвозвратно; то, что потерял, было утрачено навеки.
Прокуратор Иудеи оказался жалким человеком; со всеми своими полномочиями и парадными тогами он был более несчастен, чем нагой раб с соляных копей, ведь даже рабам светит надежда, а у вершителя судеб тысяч людей ее не было.
Жизнь обернулась мрачной насмешкой, а любовь — обманом, приведшим к невыносимой муке потери. Вселенная кричала мне, что не было ничего — ни до, ни после — кроме этой хрупкой оболочки, под которой случайно и ненадолго собравшиеся атомы чувствуют, понимают и страдают. Какая жестокая случайность или какие немилосердные боги сыграли эту злую шутку, благодаря которой на свет появился столь жалкий в своей обреченности человек?
Как бы я хотел поверить в слова Галилеянина или в остров блаженных, о котором мечтает Флавий…
Однажды утром, на шестой день после кончины Кая, Агат пришел ко мне:
— Господин, сын галла болен.
На сей раз он не колеблясь распознал болезнь, унесшую Кая. Я ждал продолжения:
— Я сказал ему правду, господин.
Я легко мог себе представить, как это было… С низшим офицером, к тому же иноземцем, Агат беспардонно избавил себя от перифраз и произнес приговор с еще меньшими предосторожностями, какие он принял со мной.
Я не ошибся. Рыдания и ужас Флавия были столь сильны, что мы предпочли увести его от Антиоха. Своим отчаянием он волновал ребенка, который, впрочем, больше страдал оттого, что причинил отцу боль, чем от собственных мучений. Прокула и Нигер, сменяя друг друга, дежурили у его постели. Я же находил разные предлоги, чтобы удерживать центуриона у себя.
К чему уповать на вечность Аваллона, если она не утешает своих приверженцев? Разве холодная и приводящая в отчаяние стоическая рассудочность не более достойна мужчины и воина?
Я сам так нуждался в ответе на свои вопросы, что задал их галлу. Я постарался сделать это как можно мягче, чтобы отчаяние не стало еще более сильным и не лишило его разума.
— Нет, господин, — ответил он. — Дело не в том, сомневаюсь ли я, что встречу сына на том свете. Дело в том, что я так его люблю, что не могу себе представить, как буду жить в ожидании, покуда не присоединюсь к нему!
На другой день состояние мальчика ухудшилось. Агат хмурился:
— Он может протянуть два дня или час. Все зависит от сердца…
Я братски обнял Флавия; я искал утешительных слов и не находил. Их не существовало. Старая Ревекка вошла в комнату и, вздохнув, проговорила на плохом греческом, обращаясь ко всем и ни к кому:
— Господь дал, Господь взял. Да будет благословенна десница Господня!
До чего же доходит безумие иудеев, коли они считают своего Ягве виновным во всех несчастьях в мире и еще благословляют его за причиненные страдания!
Флавий возмутился:
— Что ты мелешь, старуха, разве можно благословлять богов, коли они так карают? И что ты понимаешь в том, что испытываю сейчас я или что чувствуют господин прокуратор и его жена?
Еврейка покачала головой:
— Я не вечно была старухой, галл. Тридцать два года назад я была молодой женщиной. Ягве даровал мне доброго мужа и двух прекрасных детей. Близнецов, Самуила и Давида. Но однажды, когда муж пас нашу скотину на холмах, рогатая випера ужалила его в пятку и он умер. А через шесть месяцев солдаты Ирода — гореть им в геенне огненной! — пришли в мою деревню. Они потребовали, чтобы к ним привели всех мальчиков младше трех лет. И, когда мы их привели, они зарезали наших сыновей у нас на глазах… Видишь, галл: Господь меня одарил, Господь у меня все и отнял… Да будет благословен!
Флавий пробормотал сквозь зубы:
— Тебе не за что благословлять его, моя бедная Ревекка…
Странная улыбка заиграла на губах женщины:
— Галл, для язычника ты не невежда, не глупец. Тогда послушай меня, я скажу тебе то, чего не сказала ни разу за тридцать два года. Одно из наших пророчеств так говорит о моей деревне: «Ты, Вифлеем Иудин, больше не самый бедный человек из селений Иудеи, потому что от тебя произойдет Пастырь, который будет пасти мой израильский народ». Вот почему все женщины Вифлеема, когда рожают на свет сына, надеются, что он и есть Мессия, обещанный нашим отцам. Ирод — да поглотит его геенна огненная! — знал об этом пророчестве и гордости вифлеемских матерей… Но он не знал того, что знаю я.
Этой зимой ваш римский император приказал переписать все мужское население Империи. И приказал, чтобы каждый шел в город, из которого родом его семья. Сотни семей происходят от нашего царя Давида, но покинули Иудею. И все они пришли в Вифлеем. И скоро не осталось ни одной свободной комнаты ни в гостинице, ни в караван-сарае, ни в обычных домах. Те, кому оставалось лишь убогое ложе с одеялом, устроенное во дворе, платили за него на вес золота. Те, кто прибыл последним, или те, у кого не было денег, вынуждены были ночевать на холмах.
В то время я была служанкой у Рубена, хозяина постоялого двора под названием «Звезда». Как-то вечером в конце декабря в дверь постучала супружеская пара. Муж умолял, чтобы им дали кров. Он говорил, что они пришли издалека, из Галилеи и что его жена умирает от усталости. Это бросалось в глаза. Бедненькая! Она была на сносях.
Это была очень приятная пара… Жена была красива, ты не можешь себе представить, галл! Красива… И молода. Муж настаивал. Он повторял, что он плотник, что хорошо зарабатывает, и ему есть чем заплатить, что он не просит милостыни.
Рубен в конце концов рассердился. Он сказал, что ему плевать на деньги; что у него действительно нет больше комнат и что, учитывая то, в каком состоянии находится женщина, он не даст даже тюфяков, чтобы постелить на дворе, из риска, как бы она не родила этой ночью на глазах у всего народа. И, правда, судя по ней, срок ее уже вышел.
Наконец мужчина потянул за уздечку осла, и они удалились. Я видела, как он огорчен. Не знаю, что на меня нашло, но я побежала за ними и предложила им пойти в мою овчарню, на холме, где им было бы все-таки лучше, чем под открытым небом.
Ночью у них родился сын. На следующее утро я подержала его на руках. Месяц спустя они ушли так же, как и пришли, за два часа до появления солдат Ирода.
Видишь, галл, Ирод — да поглотит его геенна огненная! — смог убить моих сыновей; но он не мог помешать мне увидеть спасение моего народа. Потому что этот младенец, который родился в моей овчарне и которого я держала на руках, я знаю, он — Мессия, Спаситель Израиля.
Наступила ночь, и благостная тишина наполнила комнату. Антиох больше не стонал, он спал. Прокула словно что-то видела перед собой и, казалось, находила в этом какое-то утешение.
Что до меня, то рассказ старухи напомнил мне о моей беседе с Антипой, я размышлял о неожиданностях, подстерегающих правителей. Ведь в конечном счете Ирод, этот дальновидный и осторожный человек, доверившись туманному пророчеству, принял меры предосторожности, приказав убить всех младенцев Вифлеема. Но он не смог предугадать появление младенца у путников, остановившихся на ночлег. Возможно ли, что история о Христе — не выдумка? Что царь Израиля пришел в мир во время правления Кесаря Августа? Если это правда, ныне он уже взрослый мужчина… Кто он? Где он? Каковы его намерения? Должен ли об этом беспокоиться прокуратор Иудеи?
Я вздрогнул, услышав голос Флавия, дрожавший от возбуждения и надежды:
— Ревекка, ты уверена? Мужчина, женщина и ребенок? Они были из Галилеи?
— Я уверена, что они галилеяне, так же, как уверена, что ты галл! Они говорили с акцентом северян.
Я не мог тогда знать, что пришло ему в голову; мы просто наблюдали, как он выбежал из комнаты, как безумный. Сбежав по лестнице, он прокричал конюху:
— Быстро! Коня! Лучшего!
Неужели он собирался скакать среди ночи один по дорогам, где бродили шайки убийц?! Я выглянул в окно, позвал его. Но он уже мчался, пришпорив коня, по направлению к Галилее.
Агат посмотрел на меня с упреком:
— Господин, ты не должен был отпускать галла. Ребенок умирает и зовет отца.
Да, Флавий счастливее меня. Умирающий сын зовет его, а не кого-то еще. Антиоху было непонятно, почему отец оставил его в такую минуту. Нигер солгал ему о каком-то ответственном поручении, очень срочном, которое я возложил на центуриона. Взгляд мальчика пронзил меня. Ну что ж! Эта ложь лучше правды: ведь Флавий обратился в бегство. Он не захотел быть здесь; у него не хватило мужества присутствовать при смерти своего единственного сына. Будь проклят Агат и то удовольствие, с которым он в подробностях описывает предстоящие мальчику мучения! Можно ли упрекать Флавия, что он не в силах смотреть, как его ребенок будет биться в мучениях, сопоставимых с мучениями распятого?
Это было и в самом деле ужасно. Даже хуже, чем у Кая. Антиох был более взрослым, более крепким, похожим на своего отца, не то что мой сын, слабое сердце которого внезапно прекратило борьбу. Он задыхался и хрипел, а иногда выкрикивал слово, всегда одно и то же:
— Папа!
Прокула наклонялась к нему, гладила его лоб и шептала:
— Он придет, мой милый! Я обещаю тебе, он не задержится.
И смотрела на меня, будто в моей власти было привести галла к его умирающему ребенку. Она еще не поняла, что вся моя власть — руководить мощением дорог или бороться с разбоем. Я был бессилен помочь.
По солнцу я определил — было около семи. Сколько это еще могло продолжаться? Антиох беспрестанно стонал. Он звал отца и спрашивал, почему тот его оставил.
Это становилось невыносимым. Мне хотелось заткнуть уши, и я трусливо отвернулся.
Тут внезапно наступила тишина; чувствуя позорное облегчение, я осмелился наконец взглянуть на умершего и застыл от удивления.
Антиох не умер. Лицо, только что искаженное страданием, приняло спокойное выражение, грудь вздымалась легко, словно не было этого страшного удушья. Громким и радостным голосом он сказал:
— Я выздоровел! Я хочу подняться. Я голоден! Я ужасно голоден!
Агат смотрел на своего больного с видом изумления, к которому примешивался чуть ли не гнев. Как все врачи, он терпеть не мог, когда поведение больных противоречило его прогнозам. Антиох тем временем сел и посмотрел на корзину с фигами и виноградом, стоявшую на столе.
Прокула и Нигер застыли, как статуи. Луций Аррий первым пришел в себя, взял из корзины огромную кисть красных ягод и протянул ребенку. Антиох жадно съел. Это невозможно!
Едва занялся день, как по плитам двора раздался стук конских копыт. Я увидел в окно, как Флавий соскакивает с седла, бросается к лестнице, расталкивая часовых. Он вошел, забыв известить о себе, но мне тоже было не до того.
— Мой сын, господин! Как он?
Потное лицо галла было запачкано пылью, смешанной со слезами. Я улыбнулся, счастливый, что могу сообщить хорошую новость:
— Хорошо, Флавий! Очень хорошо. Врач говорит, что он вне опасности. Видел бы ты лицо этого старого олуха Агата! Он ничего не понимает!
Флавий закрыл глаза. Он запыхался, быстро поднявшись по лестнице.
— Дружище Флавий, этот грек всего лишь самодовольный осел! Несмотря на все его заключения, твой Антиох вчера почувствовал себя лучше и нынче вполне здоров.
Стоит ли рассказывать центуриону о страшных минутах, которые предшествовали тому, что врач, этот бездарный педант, высокопарно назвал «спасительным кризисом»?
Дрогнувшим голосом Флавий спросил:
— В котором часу это было, господин? Это очень важно для меня!
— В седьмом.
Флавий восторженно улыбнулся и воскликнул:
— Спасибо, ох, спасибо, господин!
Но не ко мне он обращался. Он плакал и будто говорил с каким-то невидимым собеседником… Я видел, как сквозь слезы его некрасивое лицо светилось, подобно радуге во время ливня.
Потом Флавий рассказал мне, что с ним приключилось, и я долго был озадачен его рассказом.
Флавий скакал галопом, пригнувшись к шее арабского жеребца, лучшего из моих конюшен, которого мы бережем для срочных поездок в Дамаск. Он ничего не видел и не слышал, лишившись в одночасье осторожности воина, обретенной за годы военных походов.
Центурион видел перед собой лишь сведенное судорогой лицо сына и слышал лишь его неустанный стон: «Папа, папа!» В душе Флавия оставалось место лишь для любви и отчаяния. Именно они гнали вперед всадника, увлеченного последней блеснувшей ему надеждой. Из рассказа Ревекки кельт Дубнакос, в которого вновь превратился римский центурион Флавий, уловил самое важное слово, которое прозвучало для него как букцинумы перед атакой: Галилеянин. Он вновь увидел ясное лицо Иисуса бар Иосифа и его взгляд, устремленный на него. Еще он увидел раввина Иаира, такого же несчастного, каким был Флавий в эту ночь, и Девору, которая сначала умерла, а вышла из дома совершенно живая. Флавий хотел верить, что Иисус бар Иосиф сможет сделать для сына Антиоха то же, что для дочери Иаира. Он хотел верить, что Ревекка права и что Учитель, друг Левия, Мириам, Симона и сыновей Зеведея, — не плотник из Назарета, но знаменитый Христос, Спаситель народов. И кто знает, может быть, он тот Младенец, появление которого прежде предрекли друиды и которому галлы поклонялись в лесу карнутов, в отныне покинутом неметоне Девы, его Матери.
Но ведь и я слышал рассказ Ревекки. Я размышлял, как тот невероятный случай мог свести на нет меры предосторожности осмотрительного правителя. Я даже на секунду представил себе Галилеянина. Но, как бы несведущ я ни был в иудейской религии, я чувствовал, что Иисус бар Иосиф не мог быть их Мессией. И об этом Флавий должен был знать не хуже меня. Во всех донесениях его и Аррия подчеркивался национальный, воинственный, грозный характер того, кого поджидали племена Иуды. Он должен был быть человеком священной силы, умным и опасным. Поскольку я воплощал Рим и знал его мощь, я был убежден, что царь Израиля не сможет прогнать Волчицу из Иерусалима, но я знал, что их столкновение будет страшным.
Старый Ирод тоже отлично это понял; он, осмелившийся умертвить невинных младенцев, чтобы обезопасить себя от восстановления законной династии, ибо Христос должен был произойти из рода Давида, связью с которым род Ирода не мог похвастать.
Итак, все то, что я узнал о человеке из Назарета, не позволяло мне представить его себе в роли воинственного князя, завоевателя. «Блаженны кроткие!» Ни Ироду, ни Риму нечего было бояться человека, проповедующего подобное учение.
Галилеянин не мог быть Мессией иудеев. Я был доволен, что ожидаемое ими пришествие таким образом откладывалось в долгий ящик. И жалел об этом, поскольку меня вполне бы устроил миролюбивый Мессия…
Но Флавий этим пренебрег.
Он утверждал, что ему внятно пригрезился голос, сообщивший, что Галилеянин — Христос и Младенец, тот Младенец, о котором друиды возвещали, что он будет воплощением Всевышнего Бога, Владыки Жизни и Смерти.
Мне нечего было сказать в ответ на рассуждения Флавия. Чтобы их понять, нужно быть кельтом или иудеем…
Центурион потратил всего десять часов, чтобы покрыть расстояние, которое отделяло Кесарию от Капернаума, это — подвиг, если принять в расчет дневную жару и опасность ночного путешествия.
Я спросил Флавия, почему он искал Иисуса бар Иосифа именно в Галилее, ведь тот часто проповедовал за ее пределами: в Иудее, Самарии, Финикии. Почему он поехал прямо в Капернаум? Флавий настойчиво твердил про «внутренний голос». Не знаю, в чем тут дело, но судьба распорядилась, чтобы его произвольный выбор оказался верным. Галилеянина не было в городе; по своему обыкновению, он бродил среди холмов, но в тот вечер должен был вернуться.
Перед тем как увидеть его, Флавия охватила робость, которая вообще-то была ему несвойственна. Обратиться к сыну Иосифа для него было так же немыслимо, как требовать аудиенции у Тиберия Кесаря в его дворце на Капри… «Младенец», «воплощение Господа Бога»… Разве сам Верховный Друид, святой избранник Священной Коллегии галлов и Бретани, был столь чист и свят, чтобы приблизиться к Нему? Дубнакос вспомнил древние кельтские суеверия. Вдруг, переживая свое ужасное недостойноство, он совершит несказанное святотатство и вызовет гром, молнию и гнев Неба? Вдруг, обратившись к Иисусу, он приведет в негодование иудеев, презирающих этих неверных, вослед которым они плюют?
Чтобы набраться смелости, Флавий припоминал случаи, когда Иисус бар Иосиф пренебрег нетерпимыми обычаями своего народа: не принял ли он в число своих учеников мытаря Левия и не приветил ли Мириам в тот вечер, когда, дрожа и рыдая, она бросилась к его ногам и поведала о жизни, которую вела? Но ведь ни Мириам, ни Левий не были неверными!
Флавий вспомнил Иаира и деньги — мои, которые я дал на перестройку его синагоги. Рассчитывая на благодарность, он отправился поведать о своих несчастьях раввину и попросил его замолвить перед Учителем слово за него и Антиоха. Иаир согласился.
Спрятавшись за деревом, центурион слышал, как Иаир говорил о его деле:
— Он достоин того, чтобы ты дал ему то, чего он просит, Учитель. Конечно, это — неверный, но он любит наш народ. Это он дал нам денег на работы в синагоге.
Иисус бар Иосиф покачал головой, но, вместо того чтобы посмотреть на Иаира, огляделся окрест, словно ища кого-то. Стоя за платаном, Флавий ощутил, что Учитель ищет именно его, и никого другого, и ему показалось, что Иисус увидел его, хотя это было почти невозможно. И вдруг Флавия охватил жуткий стыд. Короткая речь Иаира, любезная и безразличная, мучительно отзывалась в ушах Флавия, и он знал почему: ничто из того, что говорил раввин, не было правдой. Нет, Флавий не любил иудейский народ; на самом деле он был ему безразличен. Деньги, которыми он так щедро распорядился, были не его. Со времени поселения в Капернауме все его поступки были рассчитаны, взвешены, устремлены к одной цели: осведомительству. Эта ложь все замарала, все испортила, даже его дружбу с Левием, даже любовь к Мириам; ничто не было бескорыстно и искренне. Лжец, лицемер — вот кем он был, и он не имел никакого права просить чьей-либо помощи. Каким бы прискорбным ни было это признание, оно усугублялось странной уверенностью: Флавий был убежден, что Галилеянин знал все с самого начала и что он не поддался на обман ни на секунду. Галилеянин знал, почему центурион считал себя недостойным появиться перед ним; не по той причине, на которую сослался Иаир, не потому, что Флавий был неверным, но потому, что был лжецом.
Однако в тот день, когда они встретились впервые, он бросил на него такой взгляд… Тот взгляд напомнил ему взгляд Эпонины, горячо любимой матери, давно умершей в разлуке с сыном. И теперь Флавий знал, откуда это сходство. В глазах Галилеянина были те же снисходительность и грусть, любовь и разочарование, которые он угадывал в материнском взгляде, когда маленьким мальчиком делал какую-нибудь глупость.
Тогда, с возгласом огорченного ребенка, Флавий вышел из своего укрытия и простерся у ног Иисуса бар Иосифа. Он уже не знал, что говорил; это был поток слов и слез, который доставил ему невероятное облегчение:
— Господи, мой сын прикован к постели, парализованный. Он страдает. Он так страдает! Я знаю, что не имею права приближаться к тебе, ибо я этого не достоин. Я не заслуживаю, чтобы ты вошел под кров мой. Но… я всего лишь офицер, и если приказываю своим солдатам сделать что-либо, они делают это. Это правда, я не заслуживаю, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, одно слово! И я уверен, что мой сын выздоровеет!
Иисус бар Иосиф молча смотрел на Флавия.
— Знаешь, он будто знал обо мне все, — продолжал свой рассказ Флавий, — с моего рождения и до смерти. И пока он смотрел на меня, я вновь увидел прожитую жизнь, и все то, что сделал; даже то, о чем давно забыл. Были добрые дела, были и такие, которые я предпочел бы никогда не делать. Я повторил, очень тихо: «Нет, Господи, я не достоин». И вдруг ощутил, что все, что было грязного и неприличного в моем прошлом, исчезло, словно этого никогда и не было. И он возложил руку на мою голову. А потом повернулся к иудеям, которые обступали его и которые наблюдали за сценой с изумлением и негодованием: неверный осмелился прикоснуться к Равви! И объявил: «Истинно говорю вам, во всем Израиле я не встретил никого, чья вера была бы столь сильной, как у этого человека. Итак, обещаю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, туда, где будет плач и скрежет зубов!»
Ошеломленный, Флавий поднял голову, и то, что он прочел на искаженных от ярости лицах людей Капернаума, внушило ему страх, не за себя — за Галилеянина.
— Можно было подумать, что они его ненавидят. Но как они могли ненавидеть его? Мне хотелось целовать ему ноги! Я понимал, почему Мириам последовала за ним и как, благодаря ему, осмелилась войти к Симону-фарисею, этому старому лицемеру, который много раз приходил к ней…
Я был настолько счастлив, что забыл, зачем пришел. Представляешь, господин! Я забыл, что Антиох болен! К счастью, Галилеянин сам об этом вспомнил. Он поднял меня и сказал: «Иди, и воздастся тебе по вере твоей». Это было вчера, в седьмом часу.
По правде говоря, чем больше я сталкивался с нравами и загадками Востока, тем меньше их понимал. Въезжая в Иерусалим, я чувствовал, если выражаться языком Флавия, что ничто здесь не соответствовало возможностям человека. Или, скорее, я должен сказать, что ничто здесь не соответствовало возможностям римского человека, сына Волчицы, гражданина. Потому что другие, и свидетельством тому был мой галл, не терзались тревогами, которые достались мне в удел в этой чужой и враждебной Иудее.
Как истинный римлянин я отрицал саму идею божества. Что мы знаем о богах? Что мы можем знать о них? Некоторые философы утверждают, что их не существует, и я всегда старался им верить. Другие полагают, что они существуют; но люди и их судьбы, жалкие надежды и ничтожные муки богов не тревожат и наши беды не способны поколебать их вечного и полного спокойствия. Мне гораздо приятнее думать, что богов нет, нежели представлять их настолько жестокими и настолько безумными, чтобы сотворить разумных существ, способных чувствовать и страдать, и обречь их на неизбежные мучения в будущем, о том не заботясь…
Израиль ждал Мессию-воина, освободителя, национального героя. Избранника Ягве… Чем мог заинтересовать меня этот Ягве, восседающий в своем горделивом храме?
Что до истории Флавия, этой легенды о Младенце, родившемся от матери, оставшейся непорочной, — то кто, кроме варваров, мог ей верить?
Какое отношение все это могло иметь к римскому всаднику, прокуратору Иудеи?
Однако к чему отрицать? В последовавшие за смертью сына ужасные недели удивительные слова Галилеянина, сказанные Флавию, принесли мне некоторое успокоение. Выздоровление Антиоха будило в душе тревогу, которую я не мог объяснить себе. Разум кричал мне, что Иисус бар Иосиф всего лишь обычный человек, плотник из Галилеи; но в глубине души я отчаянно надеялся, что это не так.
Я тщился понять, почему то, что было таким простым в Риме, становилось столь сложным в лесах Германии или под палящим солнцем Иудеи.
Мы установили порядок, такой отлаженный и удобный! За неимением богов, мы обожествляем то, что знаем и любим: Рим и его правителей. Доблестно и верно служить им, праведно за них умереть. До сих пор эта религия меня вполне устраивала, как, должно быть, и всякого римлянина. Неужели существование Марка Сабина и ему подобных не свидетельствовало красноречиво о том, что ради Рима стоило жить и умереть? Не довольствовались ли этим же мой отец и предки? Тогда почему я, первый в нашем роду, обуреваем этой смутной тревогой? Почему я вдруг начал ожидать от богов того, чего они не могут дать? Мира, надежды… Всех тех благ, которых покинутые матроны и слабые сердца требуют от Митры, Кибелы, Изиды, Великой Матери, всех восточных божеств, заполонивших Город уже одно или два поколения назад…
Что за ветер безумия веет над Римом, унося с собой наши древние верования и оставляя нас в жертву сомнению или леденящему отчаянию перед лицом Небытия?
Я хотел знать Истину.
Я был утомлен, изнурен, я сгибался под ношей, которая становилась все тяжелее по мере того, как силы меня оставляли; никто не мог снять с меня это бремя.
Мне не с кем было поделиться моей мукой. Супруг, отец, прокуратор Иудеи и командующий легионами, я не имел права ни на сомнение, ни на слабость. Никто не облегчил бы мне эту ношу, кроме милосердной смерти; если, согласно наставлениям, которые дают в эпикурейском саду, она — лишь сон без сновидений или бесконечная ночь.
Но бесцеремонная жизнь тоже порой являет милосердие. Она скоро возложила на меня столько хлопот, что я оставил в стороне недостойные римлянина метафизические тревоги.
VII
Третий год я жил в Иудее и уже дважды видел, как празднуют Пасху. На время религиозной церемонии я обычно усиливал охрану Иерусалима и увеличивал число дозорных вокруг священных для иудеев мест. Я знал, что присутствие наших солдат вызывает гнев народа, но ни под каким предлогом не хотел, чтобы годовщина исхода из Египта стала поводом к беспорядкам. Впрочем, мог ли я этого избежать? Каждую весну население Иерусалима и Иудеи утраивалось или учетверялось — так много было паломников.
Однако Пасха, вопреки моим тревогам, всегда заканчивалась без инцидентов, за исключением тех, которые всегда бывают в толпе: детей, потерявших родителей; людей, ставших жертвой недомогания из-за долгого стояния на солнце; карманных краж или стычек между одним из торговцев, продающих во дворе Храма животных для жертвоприношения, и покупателями, возмущенными астрономическими ценами, которые монопольно устанавливали эти мошенники.
В этом году, неосмотрительно доверчивый, я ослабил бдительность и смягчил порядки. Ведь Иерусалим можно сравнить с Везувием, который постоянно угрожает поглотить Неаполь, Геркуланум и Помпеи, и, тем не менее, до сих пор не поглотил их. Наподобие кампанийских крестьян, я привык жить в тени вулкана и не обращал особого внимания на фумаролы, поднимавшиеся из кратера.
Нигер еще прежде предостерегал меня, но со смертью моего сына Луций Аррий сильно изменился. Конечно, он продолжал выполнять свои обязанности с той же серьезностью и честностью, какие я в нем так ценил; но что-то в нем как будто сломалось. Я боялся, что он потерял вкус к жизни. Всякий раз, когда мы расставались, я спрашивал себя, увижу ли снова своего трибуна, и опасался, как бы не пришли ко мне с известием, что он бросился на свой меч.
Итак, я уже не верил в опасность восстания в Иерусалиме, а Нигер, замкнувшийся в своем горе, не видел, что творилось вокруг. Это двойное ослепление и привело нас к трагедии.
Флавий, вновь без доклада, вбежал в залу, где я работал. У него вошло в привычку не докладывать о себе, и, хотя протокол Антонии не сравнится с протоколом Палатина, меня так и подмывало напомнить галлу о порядке. Но я не делал этого. Некоторые общие воспоминания позволяют порой забыть о хороших манерах и социальных различиях. Мало того, я уступил его капризу оставить Галлию и разрешил ему вернуться в Иерусалим по выздоровлении Антиоха. Флавий утверждал, что ему стала несносна его роль шпиона. В ином случае я не потерпел бы такого отступничества, потому что из-за него у меня не оказалось никого, кто мог бы присмотреть за Иродом. В конце концов…
Я нарочно подождал несколько секунд, прежде чем поднял глаза от донесения инженеров о благах, которые принесет возведение акведука. Увы, на это строительство у меня по-прежнему не было денег.
Центурион уловил мою игру и беззлобно подыграл мне.
— Рад служить светлейшему господину прокуратору! — выпалил он, образцово подтянувшись. — Трибун Луций Аррий Нигер посылает меня уведомить светлейшего господина прокуратора, что на площади Храма поднимается восстание.
Я поворачиваю голову к высокому окну, из которого мне виден город. К великой ярости иудеев, Антония располагается рядом с Храмом; как получилось, что я ничего не слышал? Правда, здесь всегда суматоха: вопли верблюдов, воркование голубей, выкрики людей на всех языках Империи и мычание рогатого скота составляют неумолчный гам. Я не смог бы работать, если бы мне не удалось от него абстрагироваться. Теперь же, прислушавшись, я различил непривычные вопли и пронзительный звон букцинумов.
Я мог предоставить Нигеру самому выпутываться из положения. Мятежи в Иллирии имели по крайней мере то достоинство, что научили Луция Аррия искусству подавлять восстания, будь оно гражданским или военным. В таких делах у него было больше опыта, чем у меня. Но уже столько лет я заперт в кабинете, в плену у дел и бумажного хлама! Сколько лет я надевал форму лишь напоказ, не отправляя военного командования! Сколько лет я не знал тяжести меча, сколько лет не отдавал других приказов, кроме как на площадках для маневров! Молодой трибун из Аргенторана был все еще жив под величественной тогой прокуратора. И он с наслаждением вдыхал атмосферу сражения.
Я даже не спросил Флавия о причинах бунта. Поспешно отстегнул фибулу, удерживавшую тогу. В то утро я с трудом задрапировался ею: моя старая рана пробудилась, и плечо онемело. Мне даже пришлось позвать Прокулу, чтобы она помогла мне правильно уложить складки одежды. Теперь тога лежала на земле, в пыли, которую повсюду носил ветер. Жена будет недовольна… Я ощутил себя свободным без своего величественного костюма, символа высокого звания; он был тяжел, жарок, стеснял каждое движение, хотя и придавал моей осанке большее благородство. Официальные должности обязывают; целую вечность у меня не было возможности надеть короткую тунику. И я ощущал себя удивительно молодым и легким.
В помещении для стражи я надел шлем, Флавий застегнул мне кирасу быстрыми и четкими движениями привычного человека, который может справиться с этим делом с закрытыми глазами. Мне не хватило терпения снять сандалии, неудобные для езды верхом, и заменить их на caligae. Не захотелось и звать раба, чтобы послать его в мою комнату за paludamenum’ом. В конце концов неважно, какой офицерский плащ пойдет в дело. Я набросил на плечи красную накидку трибуна, принадлежавшую Нигеру, у которого не было времени ее надеть. Сбежал по лестнице, ведшей в конюшни. И неожиданно услышал кричащего мне вослед Флавия:
— Господин, ты ушел без меча!
Клянусь Гераклом, для меня настало время вспомнить лагерные привычки!
Луций Аррий сидел на террасе возле меня. Вечер был великолепный, так что без труда можно было представить себе, что мы в Риме, — если бы наши сердца были расположены наслаждаться приятными вещами.
Я распорядился подать вино с мятным вкусом, которое люблю и которое Нигер пьет с удовольствием. Но ни он, ни я не прикоснулись к нашим наполненным кубкам. Над городом, обыкновенно таким шумным, висела давящая тишина. И я боялся, заговорив, ее нарушить.
Аррий взял свой кубок и всматривался в вино, будто надеясь найти в его глубинах ответ на свои вопросы. Он нашел там только переливающиеся отсветы, отбрасываемые канделябрами, вокруг которых порхали первые ночные мотыльки. При малейшем дуновении ветра крылышки несчастных насекомых внезапно вспыхивали и они падали, кружась, в огонь. Я наблюдал за ними и в их смертельном танце замечал некоторое сходство с человеческой судьбой…
Вдруг, неподалеку от Антонии, долгий женский стон пронзил тишину. Должно быть, вдова или мать оплакивала труп одного из этих помешанных. Я прошептал:
— Почему?
Нигер осушил свой кубок одним залпом, слишком быстро. Он явно хотел напиться. Я бы охотно последовал его примеру, если бы это было совместимо с достоинством моего звания, поскольку мне хотелось впасть в чудовищное, благотворное равнодушие. Луций Аррий не ответил; выпив, он вновь принялся теребить свое кольцо. Впрочем, что он мог ответить? Мы оба уже преодолели тот возраст, когда на каждый вопрос хочется получить точный ответ.
Вдали крикнула женщина, затем снова и снова. Ее крик усиливался и звучал на очень высокой ноте, потом внезапно обрывался и тотчас же снова возникал и набирал силу. Нигер провел рукой по лбу и что-то по-иудейски пробормотал.
— Что ты сказал?
— Ничего, господин. Изречение из их священных текстов, которое пришло мне на ум: «Голос слышен на холме; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
Мы погрузились в наши думы. Еврейка не переставая кричала; ее стенания вызвали к жизни другие женские голоса, и все они вместе составили нестерпимый вой погребального хора. А может, незнакомка причитала одна, и это была игра моего воображения… Да, для меня настало время вновь обрести лагерные привычки, хотя бы для того, чтобы не волноваться при виде крови.
Но и Флавий, более закаленный, чем я, был мертвенно-бледным, когда мы вернулись в Антонию. Я слышал, как он тихо сказал:
— И сверх того, это были галилеяне.
Аррий по-прежнему задумчиво продолжал вертеть вокруг пальца кольцо римского всадника:
— Господин, у меня есть кое-какой опыт в этих делах, поверь мне, это было хорошо подготовлено… Когда никто за этим не стоит, не бывает так, как сегодня.
Он прав, но узнаем ли мы когда-нибудь, что произошло на самом деле? Легионеры, стоявшие на посту на площади Храма, по крайней мере те, кто уцелел в этой вспышке ярости и ненависти, так ничего и не поняли. Кажется, все началось с группы паломников, пришедших из Галилеи и нагруженных ягнятами и козлятами, которых они принесли для ритуального жертвоприношения. Люди самого кроткого вида неожиданно обезумели, взывая к Ягве и издавая враждебные возгласы по отношению к Риму, в намерении освободить от римлян Израиль. Тогда явились другие люди, вооруженные до зубов, и ринулись на наших солдат. Пролилась кровь, и толпу охватила истерия… Наши люди были изрублены на куски… Давясь, толпа бросилась на штурм Антонии.
Мы устремились на площадь верхом, нанося удары во все стороны. Для того чтобы прорваться сквозь взбунтовавшуюся чернь, требуется больше мужества, чем для того, чтобы во весь опор ринуться на неприятельское войско. Рядом со мной упал выбитый из седла декурион. Останки брошенных на растерзание зверям в цирке выглядят лучше, чем трупы наших легионеров, когда мы смогли их подобрать.
Ужас. В момент, когда разум колеблется и уступает место ярости, жажде убийства, убивают уже не из чувства долга, но из животной потребности убивать; каждый удар, который наносят, доставляет дикое наслаждение… Даже в тяжелейшие минуты военных походов в Германии я не знал такой беспощадности. Я уже не знал ни зачем бью, ни кого убиваю. Я больше не был человеком.
Чтобы покончить с мятежом, нам потребовалось время, много времени. Нигер прав, кто-то стоял за этим покушением, присматриваясь к нашей реакции, нашим ошибкам, нашим силам и уязвимым местам. Аррий произнес имя:
— Исус бар Абба.
Конечно! Кто, если не зилот, мог быть зачинщиком всего этого? Я подумал, что это безумие похоже на него: глупое, жестокое, слепое, стремительное. Вопреки всем нашим усилиям, всем нашим поискам, ни один римлянин, за те пять лет, пока этот разбойник свирепствует, не видел его лица; ни один, кто пожил достаточно, чтобы знать приметы бар Аббы…
Где он скрывался в те часы? У какого-нибудь старейшины? Не исключено… Кроме Иосифа из Аримафеи и старого Никодима, которые, прячась от народа, иногда приходили проведать меня в Кесарию, старейшины ненавидели нас достаточно сильно, чтобы укрыть убийцу. Исус может быть спрятан в любом из домов этого города, замкнувшегося в своих тайнах, своей гордости и ненависти. Той заразительной ненависти, которая только что превратила меня в палача… Я топтал детей, упавших под копыта коня; в ослеплении я пронзал тела, не разбираясь, кому они принадлежат, мужчинам или женщинам, молодым или старикам, невинным или виноватым.
Рим не хотел развязывать насилия. Я не хотел этих зверств. Единственный Исус бар Абба был ответствен за эту кровь, этих погибших, эти слезы. Но в тот вечер во всем Иерусалиме его приветствовали как героя, тогда как имя Кая Понтия стало синонимом убийцы. И я был один… Мои руки, когда я слез с коня, были обагрены кровью. Я не хотел, чтобы Прокула и дети видели — меня таким. Я должен был оставить их в Кесарии. Подумать только, я был счастлив вдыхать воздух сражения!
Сто пятьдесят погибших — таков был итог пасхального мятежа; мы недосчитались тридцати трех солдат, бесславно павших в этой стычке. Что значили эти сто пятьдесят жертв, среди которых, конечно, было больше невиновных, по сравнению с теми бойнями, что развязывал Вар?..
Но я знал, что отныне в глазах этого народа мое имя покрыто несмываемым позором. А ведь даже Публий Квинтилий, насадивший в Иудее леса из крестов, не вызывал такой ненависти. Я не должен был принимать, это близко к сердцу. Вар, рассказывая о своем прокураторстве, не задумываясь говорил о казнях, пытках и истязаниях, которым подвергались люди по его приказу. Рим — мог ли я о том не знать? — был построен на крови. Почему-то я с ужасом думал о том, что Империя вынуждена добиваться признания с помощью насилия. Но разве римский мир, блага цивилизации не оправдывали его? «Ты, римлянин, рожден, чтобы подчинять народы и диктовать свои законы вселенной». Тогда почему же начинал я сомневаться в миссии Рима?
Почему? Мог ли я найти ответ? Мог ли постичь наконец истину, которая все ускользала от меня?
Несколько дней спустя случилось несчастье, которое повергло в печаль Иерусалим, и я увидел в том возможность искупления, надежду на примирение с народом — я по-прежнему не понимал, что такое Восток.
Сторонники Ирода презирали иудеев и их обычаи, но испытывали чрезмерное пристрастие к архитектуре и строительству. Современный Храм обязан своим великолепием отцу Антипы, и строительные работы в этой стране ведутся беспрестанно. Римское присутствие не положило предела этому помешательству на камне, которое было одной из причин, укрепивших меня в намерении возвести акведук. Живя такой страстью к строительству, могла ли Иудея отказаться от подарка в виде одного из тех грандиозных инженерных сооружений, какие только мы, римляне, способны возводить? Бесчисленные стройки, выраставшие на площадях и улицах Иерусалима, убеждали меня в обратном.
Жара этой весной наступила преждевременно, частенько случались сильнейшие грозы. Речки размывали берега, потоки дождя с шумом неслись по отлогим улицам старого города. Ветхие дома бедных и густонаселенных кварталов, подмытые водой, обрушились, не причинив никому вреда, поскольку у жителей было время спастись. Вновь засиявшее солнце высушило землю и принялось стирать следы наводнений. Рабочие хлопотали, устраняя серьезные повреждения. Старинная башня Силоам, соседствовавшая с одноименной купальней, о водах которой говорили, будто иногда они закипают, пострадала больше всего; теперь в ней были трещины шириной с ладонь, и около двадцати каменщиков заделывали их. Силоам — многолюдное место. Сюда стекаются барышники, предлагающие покупателям скотину, странники, входящие и выходящие из города, отвратительный сброд калек, слепых и прокаженных: всех убогих Иудеи и Трансиордании. Иудеи верили, что, закипев, вода в купальне непременно исцелит того, кому первым удастся в нее окунуться.
Повреждения башни оказались много серьезнее, чем это представлялось на первый взгляд; вероятно, потоки воды просочились под фундамент, довершив расхождение старых швов. И она обрушилась в один миг, похоронив под своими обломками и каменщиков, которые укрепляли ее, и прохожих, которые имели несчастье оказаться рядом.
Едва Флавий известил меня об этом происшествии, я послал людей разбирать завалы, чтобы высвободить оставшихся в живых.
Внезапное обрушение башни образовало в городском пейзаже неприятную пустоту. Обвал произошел вскоре после утренней зари, около шести часов. Жара усиливалась, майское солнце на белом камне крепостных стен слепило глаза. От развалин начал подниматься сладковатый запах крови и раздавленных тел, над ними кружили тучи мух и слепней.
Звание римского прокуратора запрещало мне закрывать лицо полой тоги, чтобы не задыхаться от трупных испарений, и я завидовал работавшим на развалинах легионерам, которые повязали на лица платки. Каждое их четкое движение поднимало облака пыли, проникавшей в легкие и вызывавшей кашель. Но ни насекомые, ни пыль, ни запах не отпугивали зевак. То были любопытные, пришедшие насладиться чужим несчастьем; любители острых ощущений, у которых не было иного развлечения, столь дорогого римской толпе — цирка и арен; близкие тех, кто не вернулся ко времени домой, с ужасом ожидавшие обнаружить под обломками башни своих близких. Последних легко было отличить, поскольку страх сдавил им глотки и они хранили молчание.
Первые поиски не принесли ничего, кроме трупов, однако офицер, командовавший спасательными работами, утверждал, что даже под несколькими слоями обломков еще можно найти живых. А потому я распорядился продолжать.
Солнце уже стояло высоко в небе. Я приказал, чтобы солдатам принесли воды и чтобы их сменяли как можно чаще. Я и сам изнывал от жары и жажды, к тому же мне докучали зловоние, пыль и мухи. Однако мне претила мысль вернуться в Антонию, оставив моих людей на развалинах. Я коротал время, озираясь по сторонам. Тощая и облезлая собака вертелась под ногами, привлеченная запахом крови. Флавий нагнулся, поднял булыжник и метнул его в собаку; та тихо зарычала и отступила лишь на несколько шагов, поджав хвост и скаля зубы.
Я ждал, чувствуя, как меня охватывает нестерпимая грусть. От чего зависит жизнь людей? Только что я слышал, как один грек — торговец маслом, чей прилавок находился у подножия башни, — объяснял, что своим спасением обязан лишь нужде, заставившей его перейти дорогу, чтобы уединиться в кустах. Как ошалевший, он смотрел на то место, где только что торговал и где не осталось ничего, кроме нескольких черепков амфор и жирного пятна. Причудливая, нелепая и чудовищная игра Фортуны…
Наконец я сделал знак Нигеру, что мы можем уходить.
Флавий прокладывал нам дорогу в толпе. Поглощенный своими мыслями, я поначалу не заметил, что она была столь плотной. Обнаружив это, я испытал легкую тревогу при мысли, что смешиваюсь, впервые после подавления пасхальных мятежей, с этой враждебной чернью. В носилки я уже не мог забраться, они были довольно далеко… Не желая, чтобы кто-либо прочел на моем лице минутное замешательство, я последовал за галлом, чьи широкие плечи раздвигали ряды любопытных. Мы с центурионом двигались так быстро, что оторвались от Нигера и других сопровождающих.
— Светлейший господин прокуратор, смилуйтесь!
Как могло случиться, что, позабыв о безопасности, я остановился, я, спешивший как можно скорее выбраться из толпы и укрыться на своих носилках? Что привлекло меня в этом голосе?.. Голос был приятный, немного глухой и отнюдь не заискивающий, какими обычно бывают голоса просителей. Я повернул голову и увидел молодого человека лет тридцати, довольно-таки красивого и статного. Он был высокого роста и крепкого сложения, какому мог бы позавидовать гладиатор. Узкая черная бородка оттеняла лицо. В слишком светлых для иудея глазах я прочел бесповоротную решимость убить меня.
Я мгновенно оценил свое положение. Я остался один на один с толпой. Флавий, полагавший, что я неотступно следую за ним, оказался далеко впереди; Нигер, напротив, шел где-то сзади, слишком далеко, чтобы прийти на помощь.
Я был так же беспомощен перед лицом смерти, как тот ретиарий в амфитеатре Марцелла двадцать лет назад. К тому же гладиатор сражался, как лев, и был вправе надеяться на помилование. У меня не было такого шанса. Толпа, явно бывшая в сговоре с окликнувшим меня, сжимала кольцо, что было таким же четким знаком, как большой палец, опущенный вниз.
В Тевтобурге, во время моих походов в Германии и на паперти Храма мне случалось испытывать страх, и я пересиливал его. Но в этот миг, когда я остался один среди враждебной толпы, я не испытывал ужаса, — напротив, я был бесконечно спокоен. Даже мысль о Прокуле и детях, которые останутся без меня в этой варварской стране, даже мысль о жестоком страдании, которое им причинит моя гибель, не смогла сломить этой удивительной невозмутимости. Я смотрел в глаза иудею и понимал, что он видит в них совсем не то, что хотел бы. Я был готов погибнуть, унеся с собой ответ на один из тех вопросов, которые преследовали меня всю жизнь: оказалось, что так же, как обреченный гладиатор, которым я так восхищался в юности, я способен в последний миг не опустить глаз и не молить о пощаде. И это послужит к чести Рима.
Внезапная боль сокрушила мое невозмутимое спокойствие. Убийца нанес удар, но, введенный в заблуждение широкими складками моей тоги, прицелился слишком высоко. Короткий клинок его кинжала слегка задел ребро. Но страдание, жгучее ощущение струящейся крови перечеркнули мою решимость покориться судьбе; я не хотел умирать. В моей голове всплыли абсурдные исторические параллели, я вспомнил об убийстве Кесаря… Чего не хватило диктатору, чтобы избежать ножей заговорщиков и не пасть к подножию статуи Помпея? Времени! Времени, которое позволило бы Марку Антонию, которого намеренно задержали на ступенях курии, прийти на помощь божественному Юлию. Я должен выиграть время!
С воплями ярости я стал защищаться. Однако не смог уклониться от второго удара, который поразил меня в левую руку. Но эту боль я едва ощутил. Я должен был выиграть время, рано или поздно должен был вернуться Флавий, с каждой минутой ко мне приближались Нигер и мое сопровождение. Я не хотел так глупо умереть. Прокула была бы безутешна! Зилот ударил еще и вскрыл мою тевтобургскую рану. Я истекал кровью и слабел. О Геракл, неужели помощь придет слишком поздно?
Еще один неожиданный, жестокий удар вывел меня из равновесия. Мне показалось, что убийца добился своей цели, ведь я больше не испытывал боли… Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что за тяжесть сдавила мою грудь: закрывая меня своим телом как щитом, Нигер бросился между мной и кинжалом убийцы.
Я услышал торопливые шаги, крики, суматоху. Появились мои легионеры с Флавием. Толпа разбежалась. Я склонился над Луцием Аррием. Последний удар, который должен был прикончить меня, поразил его в самую грудь.
Нас обоих отнесли в Антонию, сделали перевязку. Мои раны не были тяжелыми, но Нигер умирал. В сумерки Агат наконец позволил мне подойти к постели трибуна, не упустив случая пожурить меня за то, что, потеряв столько крови, я был в непрерывном движении:
— Не жалуйся, господин, если после этого жар усилится!
Геморрагия и снадобье, которое Агат заставил выпить, вызвали у меня ощущение тумана в голове, однако я был не настолько слаб, чтобы не проведать Нигера. О боги, зачем он бросился прикрывать меня, ведь на нем не было кирасы!
Нигер был смертельно бледен, он, который так легко краснел… Я сел возле постели, взял его руку. Кольцо всадника сверкнуло в последних лучах заходящего солнца. Я вспомнил, как раздражал меня машинальный жест трибуна, когда он крутил кольцо, чтобы скрыть смущение… Сколько раз, чтобы сорвать на нем свое раздражение, я грубо одергивал его! Теперь на мои глаза наворачивались слезы. Я не заслужил того, чтобы мой помощник спас мне жизнь ценой своей жизни. Разве Нигер был в долгу передо мной? Или, может быть, его вела любовь, которую питал к нему Кай и которую, как ему казалось, он отнял у меня? Я вновь представил его склонившимся над моим умирающим сыном и приносящим, ради его утешения, самую священную из клятв: «Клянусь тебе Фортуной Рима…»
И я не смог сдержать рыданий. Луций Аррий открыл глаза, и на его мертвенно-бледных губах показалась улыбка:
— Не плачь, господин… Поверь мне, это того не стоит… Видишь, я только что подумал, когда эта старая скотина Агат вышел, что когда я подохну… Не говори ничего, господин, я знаю, что не жилец… это никого не огорчит. И поэтому будь добр: не отнимай у меня этого утешения. У меня нет ни жены, ни ребятишек… Что бы я сказал Прокуле, если бы тебя убили? Представь-ка себе на минутку!
Я не знал, что сказал бы Луций. Я только что осознал, снедаемый грустью, что этот человек был моим другом и что я не смог вовремя оценить его дружбу. Нет, я не знал, что бы он сказал моей жене. Я представлял его стоящим перед ней, покрасневшим от замешательства, упорно глядящим в пол и теребящим свое кольцо… Слезы ручьями бежали из глаз. Пальцы Нигера слегка сжали мою руку: он страдал от боли. Он пристально посмотрел на меня, выдавил из себя улыбку и прошептал:
— Не беспокойся, господин! Мне не так больно, как кажется; Агат дал мне что-то, чтобы успокоить боль… Только немного трудно дышать… — Он перевел дыхание: — Мне так хотелось… вернуться в Рим, увидеть Город еще один раз… — Он грустно улыбнулся: — Ничего, господин! Когда будешь там, ты поприветствуешь Город вместо меня.
Сумерки окрасили небо в синий цвет. Луций замолчал; он закрыл глаза, и мне показалось, что он задремал, но он внезапно открыл глаза:
— Господин, я все хотел тебе сказать: это легко… отдать жизнь за тех, кого любишь… — Лицо умирающего было спокойно. — Это сказал Галилеянин, господин. Он… прав… Галилеянин…
Это были последние слова трибуна легионов Луция Аррия Нигера.
Я усилил дозоры и разъезды, но мы не нашли человека, напавшего на меня и убившего Нигера. Я был уверен, что речь шла об Исусе бар Аббе, и поклялся себе, что рано или поздно схвачу его и он поплатится за все. Я отправлю его на крест и единственный раз в жизни сделаю это с удовольствием. Поскольку он сильный, муки его будут длиться долго. Тем лучше!
Но прошло лето, а за ним и осень, и, что бы я ни делал, я все не мог отыскать убийцу Нигера.
Над Вьенной этим утром шел снег, как накануне январских ид шел снег над Кесарией. Снежинки одна за другой ложились на подоконник. Небо было такое низкое, что отроги Альп невозможно было различить.
Было очень холодно, и мои пальцы коченели. Из экономии я установил жаровни только в тех комнатах, где обычно находилась Прокула. Я — не Верес, но десять лет моего прокураторства отнюдь не обогатили меня. То немногое, что оставалось у меня от моего скромного состояния, Кай Кесарь, прежде чем выслать меня, забрал себе. А средства, какие он от своих щедрот выделяет отправленным на поселение, не позволяют как следует обогреть наш дом.
Вчера моряки на форуме говорили, что Рона замерзла от Лугдуна до устья. Множество оливковых и миндальных деревьев погибло. Подумать только, ведь столько требуется труда, чтобы оливковая роща плодоносила!.. Интересно, кто теперь собирает оливки в моем владении в Кампаньи и кому принесет доход приготовленное из них масло? Скорее всего, этому кровосмесителю, который живет в Палатине. Как будто ему так уж необходимы мои сестерции!
Я дышу на пальцы, без особого успеха пытаясь их согреть. У этого времени есть только одно преимущество: оно ограничивает передвижения. Я могу не опасаться именно теперь получить приказ, подписанный августейшей рукой Кая Кесаря и предлагающий мне уйти навсегда.
Да, накануне январских ид над Кесарией шел снег, начинался четвертый год моего прокураторства. В окно я с удивлением увидел входящее в порт судно. По его мачтам и носовой части было легко признать один из наших боевых кораблей, хотя судоходные пути были закрыты с ноября…
Капитан попросил позволения встретиться со мной; его звали Гней Лелий Азиатик: это имя показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где его слышал.
Я ожидал встретить человека более молодого, если только эти морщины, — ибо его волосы едва начали серебриться у висков, — не результат воздействия солнца или воздуха открытого моря. Судно «Roma Victrix» из Мизены покинуло Италию в ноябрьские календы и провело в море более двух месяцев.
— Полагаю, поездка по морю не была легкой, Гней Лелий! У тебя есть что-то для меня?
— Обычная почта, прокуратор, прости, что я ее задержал. Нас застигла буря около Крита. Я был вынужден спустить парус и идти по течению… Неделя дрейфа! Когда все стихло, мы подходили к Карфагену. Худший поход в моей жизни! Я потерял месяц.
Я бегло просматривал конверты, которые Лелий положил мне на стол: административные циркуляры, отчет о последних совещаниях в Сенате, назначение, которого я ждал, заместителя Нигеру… «Roma Victrix» едва не пошел ко дну ради нескольких обычных писем, не содержавших ничего важного и срочного. Но флотская дисциплина требует, чтобы последнее судно, доставляющее официальную корреспонденцию, отбывало в ноябрьские календы, а другое открывало судоходные пути, покидая Мизены в начале февраля.
Я пристально смотрел на Лелия. Может, он все-таки намерен что-то сказать мне? Или, как и я, вовремя не может проститься?
Он бросал вокруг беспокойные взгляды, словно желая удостовериться, что мы действительно одни; наконец, поколебавшись, достал еще одно письмо, скрепленное простой печатью, которая была мне знакома: это была печать Проба, дяди Прокулы. Но к чему были все эти предосторожности, если речь шла просто о личной почте? Не дав мне ни о чем себя спросить, Лелий, торопливо пробормотав учтивое приветствие, отступил к портьере, явно намереваясь бежать без оглядки.
Видя страх человека, мужественно противоборствовавшего стихии, я понял, во что превратился Рим в мое отсутствие. И осознал, что ничто, даже священная дружба, не может устоять перед страхом. Пока я размышлял, как сообщить обо всем Прокуле, я тоже начал метаться. Храбрость заразительна, но, увы, гораздо менее, чем трусость.
У меня сохранилось то письмо Проба:
«От Гнея Валерия Проба
прокуратору Иудеи, Каю Понтию Пилату,
дражайшему племяннику, привет!
Доверяю это письмо не императорской почте, но Гнею Лелию Азиатику, сыну лучшего из моих друзей, утрата которого вызывает у меня самую сильную скорбь. Я часто говорил тебе о Квинтии Лелии и привязанности, которую он к нам испытывал. Смею надеяться, что воспоминание об этой более чем братской дружбе будет порукой, что ты прочтешь это письмо.
Думаю, тебе известно, что состояние Элия выросло настолько, что римлянин не смог бы этого вынести; в Городе сформировалась партия, жаждущая уничтожить его, прежде чем Сеян, доведя до предела свою безбожную наглость, открыто станет претендовать на наследование Тиберию Кесарю.
Освободившись недавно от своей должности в Германии, Марк Анний Рустик, мой зять, супруг нашей горячо любимой Валерии, доказывая мне, что я не обманулся, считая его достойным своей дочери, примкнул к заговорщикам. Раб выдал всех.
Тебе хорошо известно, как разбогател Элий…
В час, когда я пишу тебе, прежде чем тиран успел их к этому обязать, Марк Анний и все его друзья предали себя смерти. Валерия любила его; она не захотела его пережить. Она была нашим последним ребенком. Для Антонии это горе непереносимо. Признаюсь, мне самому жизнь становится в тягость. Мне, старому слуге божественного Августа, тяжко видеть Рим в руках Сеяна. Ты поймешь, зачем я спешу узнать, прав ли Платон, приписывая человеку бессмертную душу…
Может быть, радость увидеть всех вас: тебя, Прокулу, маленькую Понтию и маленького Авла, должна была нас удержать. Но я надеюсь, что вы останетесь в Иудее на долгие годы, и у нас нет терпения вас дожидаться.
Боги в конце концов устанут от Элия, и ты вернешься в Рим. Но, пока ожидание длится, хорошо бы, чтобы Сеян забыл, что наша дорогая Клавдия Прокула является родственницей некоторым из тех, кто желал его смерти.
Антония и я вверяем тебе, Кай, Прокулу, как вверили тебе ее десять лет назад, когда Тиберий Кесарь пожелал сделать ее твоей женой. Заботься о ней, защищай ее, пусть она будет тебе дорога!;
Главное, старайся, чтобы ничто не привлекало к тебе внимания Элия, пока он будет править делами Государства. Речь идет о вашей жизни. Это единственный полезный совет, который может дать тебе твой старый дядя.
Будь здоров!»
Я перечел письмо трижды, безуспешно пытаясь поверить в то, что Антонии и Проба больше нет. Я попытался припомнить лица Рустика и Валерии. Я встречал их лишь однажды, в день моей свадьбы, накануне их отъезда в Колонию Агриппину. Я припомнил эту пару, уже не слишком молодую, удрученную неизлечимым бесплодием. Валерия показалась мне невыразительной и бесчувственной; Марк производил впечатление одного из тех смелых, но без блеска, офицеров, которые составляют лучшую часть легионов. Я не мог представить их замешанными в заговоре и нашедшими такой трагический конец. Как обманчива внешность…
Письмо Проба имело очень серьезное последствие: я приложил столько усилий, чтобы утешить Прокулу в ее трауре, что вскоре она забеременела. С того времени в делах прокураторства я всегда стремился быть решительным, но скромным.
Я внимательно слушал Тита Цецилия Лукана. Он приехал в прошлом месяце, получив назначение на должность Нигера, и вскоре я обнаружил у моего нового трибуна большие достоинства. Лукану было двадцать пять, и он был полон того юношеского энтузиазма, какой я слишком рано утратил после Тевтобурга. Он шесть лет был в походах и прекрасно проявил себя в операциях по подавлению вооруженного восстания во Фризии.
Лукан — патриций до мозга костей; он представлял младшую ветвь Цецилиев и ни на минуту не забывал об этом. Он был умен, скор на решения, и Восток еще не наложил на его ум свой болезненный след.
Несмотря на учтивость и уважение, которые он мне выказывал, я догадывался, что Лукан был неприятно удивлен, обнаружив, что прокуратор и его покойный трибун не смогли навести порядок в стране. Я понимал, что Тит Цецилий был не из тех, кто задается ненужными вопросами. И именно такой помощник был мне нужен. Вспоминая о своих походах во Фризии, он без всякого волнения говорил о деревнях, которые сжег, и населении, которое вырезал. Хотя он был еще так молод, ему довелось пресечь немало человеческих жизней, но это не мешало ему спать.
Он развернул перед нами карту, которую явно отлично изучил. Уже два месяца он вставал до рассвета и весь день колесил по дорогам с одной или двумя когортами. Наши с Нигером легионеры отвыкли от подобного режима; Флавий рассказывал мне, что втихаря они клянут нового трибуна, но стараются и виду не подавать, что недовольны. Лукан вновь ввел бичевание для нерадивых и добился превосходного результата: его единодушно ненавидели, но подчинялись беспрекословно. Правда, я видел, что удерживаемые в ежовых рукавицах, изнуренные и наказываемые за пустяки люди стали нервными и раздражительными, при случае вымещая свои невзгоды на более слабых. Порочный круг страха и насилия…
Я не решался вмешаться. Как прокуратор, стоящий на страже интересов Рима, я не мог не признать, что действия Тита Цецилия во всем соответствуют римским представлениям о добродетели. Уверен, что мой отец оценил бы его высоко. И все же как частному лицу этот человек был мне неприятен. Сознавая свою к нему несправедливость, свидетельствующую о слабости характера, я предпочитал молча закрывать глаза на то, что мне не нравилось без видимой причины. Восток вынудил меня осознать один мой недостаток, который я не в силах был изжить: трусость. Колеблясь и сомневаясь, я все чаще не мог различить истинное и ложное, справедливое и несправедливое, хорошее и плохое, а потому дошел до того, что стал перекладывать решения на плечи других. В чем в чем, а в этом никто не смог бы упрекнуть Лукана…
— Это очень просто, господин.
В глазах Лукана все просто. Это наше римское величие позволяет все упрощать, желая разрешить жизненные трудности доводами рассудка. Сколько еще он продержится в своем простодушии среди безумия, царящего у иудеев? Или, может, мы выработаем в себе противоядие от миазмов Востока?
Хоть он и раздражал меня, я не мог отрицать убедительность и простоту предложенного Луканом плана. Может быть, это и есть та ловушка, благодаря которой мы сможем покончить с Исусом бар Аббой и его бандой. И я досадую на себя, бешусь, что мне, который уже столько месяцев охотится за зилотом, не пришла в голову эта идея.
Но стоило ли мне рисковать и соглашаться на ту роль, которую молодой трибун мне отвел? По тому, как он смотрел на меня, я понял, что от моего решения зависит, как он станет впредь ко мне относиться. Что думал обо мне этот честолюбец? Что я трушу?
Он был прав: я трусил. Со мной это случалось и в прошлом, но никогда не мешало исполнять свой долг. Я не мог позволить кому-то другому свести мои счеты с бар Аббой; отомстить ему — была моя забота. В минуту сомнений я смотрел на длинный розоватый шрам на моем левом предплечье, оставленный кинжалом…
Я принял предложение трибуна, и он не мог скрыть досаду, ведь мое решение существенно умаляло его роль в задуманной операции.
Я отказался ездить на носилках из глупого тщеславия зрелого человека, желающего послужить примером молодому офицеру. И уже начинал жалеть о своем решении… В конце марта в горах Иудеи по ночам бывает лютый холод. Плащ не спасал, и моя рана от стужи стала часто меня беспокоить с тех пор, как бар Абба вспорол кинжалом шрам, оставленный копьем бруктера. При каждом неверном шаге коня — а бедное животное беспрерывно спотыкалось о камни — боль ударяла мне в плечо и пробирала до костей. В такие минуты я представлял себе распятого зилота и те невыразимые мучения, которые он испытает, когда гвозди перережут ему сухожилия, положив начало мучительной агонии. И я стискивал зубы. Спиной я чувствовал взгляд Флавия. Несмотря на инстинктивную и внезапную близость, возникшую между моим галлом и новым трибуном, центурион вытребовал себе право сопровождать меня, и это очередное доказательство преданности необычайно трогало меня.
Серебряный диск луны на темно-синем небе освещал деревню зыбким светом. Нас было прекрасно видно даже издалека. Мы позаботились о том, чтобы вся Кесария знала о нашей экспедиции, имевшей целью встретить бесценные сокровища с караваном из Пальмиры.
Правитель Сирии пришел мне на помощь, хоть и не испытывал ко мне доверия, полагая, что я являлся скрытым информатором Палатина. Он не ошибался, но я недолго играл эту роль, до того времени, как стало усиливаться влияние Сеяна. Через пустыню был отправлен караван с обычным продовольствием и таким сопровождением, будто с ним должны были прибыть бесценные сокровища. На границе Иудеи мой эскорт, более слабый и менее внушительный, должен был сменить сирийцев. И в то время как я покидал Кесарию с небольшим отрядом, Лукан скрытно расположил в горах наши отборные войска. Бар Абба не мог знать об этом.
Зилот стремился слыть героем и патриотом, но для меня он был всегда простым разбойником. Если же он не польстится на богатства, возможность убить меня этой ночью и радость, которую он испытает при мысли, что наконец всадит мне в сердце кинжал, должны были лишить его всякой способности рассуждать.
Если я все верно рассчитал, бар Абба неминуемо должен был оказаться в моей власти. Я очень надеялся на то, что в ход операции не вмешается случай и нечто непредвиденное не изменит наши планы, а также на то, что Тит Цецилий в решающий момент сможет прийти нам на помощь… В противном случае нас ожидала лютая смерть. Как и положено в таких случаях, я взял с собой только добровольцев.
Мы вступили в узкую лощину, типичную для этих краев, на дне которой в любую, даже не слишком сильную грозу образуется бешеный поток. Стены ущелья были головокружительно высоки, так что высоко над нашими головами виднелся темный лоскут звездного неба. Немного нашлось бы мест более благоприятных для засады, и поэтому мы решили остаться здесь. Бар Абба называл всех римлян глупцами; нас веселила мысль, что мы его не подвели.
Правда, мы прекрасно понимали, что эта лощина может стать ловушкой и для нас. Местность была такой пересеченной, что Лукану и его людям пришлось бы совершать длительные и рискованные маневры, к тому же действовать он должен был в темноте.
Первая стрела просвистела так, что я не смог определить, откуда она была выпущена. Головной верблюд упал, издавая протяжный стон смертельно раненного животного. Напуганные его падением животные начали натягивать поводья и толкаться, стесняя наши движения.
Какой реакции ждал бар Абба от солдат, настолько глупых, чтобы попасть в эту западню, в ущелье, стиснутое двумя отвесными стенами, с которых на них сыпались стрелы? Оцепенения? Паники? Зилот, занесший однажды надо мной кинжал, должен был признать за мной по крайней мере одну добродетель: я мог рассчитывать, что он не считает меня трусом. Безусловно, он ждал именно такой реакции — реакции смелого, но ограниченного смельчака, каким был, по его убеждению, всякий римлянин… Я и намеревался вести себя как человек смелый и глупый: пойти прямо и попытаться любой ценой открыть проход к выходу из теснины.
Делая это, я знал: пока бар Абба, успокоенный моей очевидной глупостью, не спеша станет закидывать нас стрелами, Лукан завладеет хребтом и окружит зилотов.
План Тита был блестяще прост; единственный его изьян заключался в том, что я должен был пожертвовать собой, чтобы обеспечить успех операции. Но разве не в этом и заключалась моя роль как военачальника?
Моим людям было известно, что мы послужим мишенью и будем атакованы. Если они и кричали вначале, то не от страха, но дабы удержать впавших в панику животных. Когда лошади и верблюды несколько успокоились, мои легионеры действовали молча и энергично. Они продвигались, ища укрытия под скалистой отвесной стеной, и, если им, беспощадно освещенным луной, случалось обнаружить себя, заправски прикрывались щитами. Вернувшись в Кесарию, я непременно отмечу эту заслугу Флавия.
Если нам суждено туда вернуться… Ущелье, казавшееся таким незначительным на карте, в реальности оказалось слишком длинным!
Мое сердце колотилось быстро и сильно. Напряжение? Возбуждение перед боем? Скорее всего, страх.
Флавий, шедший впереди, протянул мне руку, чтобы помочь перешагнуть препятствие. При первых стрелах мы спешились, не желая быть слишком доступными мишенями. Мой конь, когда я замешкался у препятствия, рухнул со стрелой в груди. Он поднял ко мне свои нежные испуганные глаза, и я прочел в них почти человеческую тоску. Я отвернулся.
Мы продвинулись на несколько десятков шагов, натолкнувшись на непроходимые скалы: бандиты вызвали обвал, который закрыл нам выход из лощины.
Конечно, такую примитивную хитрость претендовавший на звание стратега Лукан также предусмотрел, объявив ее неопасной. Но одно дело обсуждать непредвиденные случаи, собравшись вокруг стола, при спокойном свете ламп. И совсем другое — идти вдоль лощины, нащупывая крутые тропы погонщиков мулов, которые не обозначены на наших картах… Тит Цецилий не торопился, и я терялся в догадках о том, когда же наконец к нам спустится противник, хорошо знакомый с местностью, где он сумел расставить нам ловушку.
Вдруг стрелы и булыжники, выпускаемые из иудейских пращей, перестали сыпаться. Я позволил себе понадеяться, что зилоты наткнулись на наши подкрепления. Но нет, Лукана все еще не было, а нам следовало готовиться к атаке. Бандиты шумно спускались по крутому склону.
Как мог я довериться Титу Цецилию, ничего не знавшему об этой стране и этом народе? Я погибну глупо, нелепо, напрасно пожертвовав собой и своими солдатами. Первый раз в жизни я понял, что должен был испытывать Публий Квинтилий, которого я так презирал, после того как, выходя на болота Тевтобурга, мы столкнулись с необъятной армией Германа. И еще я понял, почему, когда дело было проиграно, он предпочел броситься на свой меч.
Я попробовал большим пальцем клинок. Нет, я не доставлю бар Аббе удовольствия взять живым римского прокуратора Иудеи.
И тут я почувствовал взгляд Флавия, полный тяжкого упрека. Он ясно говорил: «Нет, господин! Это слишком просто!» И самоубийство Вара снова обернулось в моих глазах тем, чем было всегда: отступничеством. Предав себя смерти, он оставил своих воинов без командира. Он слишком легко избавился от последствий своих ошибок. Ни Грецину, ни мне не пришла в голову мысль поступить так же, и все же насколько смерть была бы более милосердна к Марку Сабину, если бы он ее захотел…
Флавий был прав: я не имел права отступать.
Ночь постепенно бледнела, предвещая приближение рассвета. В сером полумраке мы уже не различали вершин. И когда брызнул первый луч солнца, он заблестел наверху, на римском шлеме, и мы поняли, что там шел бой. Это ободрило моих солдат, и зилоты, спустившиеся в лощину, поплатились за то, что возомнили, будто способны безнаказанно перерезать нас.
Я оставил своих людей заканчивать расчистку участка.
С проворством, на которое, в моем возрасте, я уже не считал себя способным, взобрался по крутой тропе. Я боялся лишь одного: что Лукан уже покончил с бар Аббой.
Увидев меня, Тит Цецилий, немного запыхавшийся, непринужденно принес туманные извинения за опоздание. Я потерял пятнадцать человек, и их потеря делала меня больным. Чувствуя, как меня охватывает гнев, я с трудом подавил его. Лукан не понял бы, что прокуратор может волноваться о гибели в бою нескольких легионеров, которым Рим платил именно за то, что они отдавали за него свою жизнь.
Ожесточенный бой, который он только что вел, не взволновал его. Я отметил, с нарастающим недовольством, что мой трибун нашел — но когда? — время побриться. Я провел усталой рукой по своим щекам, поросшим густой щетиной. Мне не обязательно было глядеть в зеркало, чтобы удостовериться, что она седая. Прокула умилялась моим сединам, но в то утро седеющие волосы выдавали мои сорок и один год, и это в присутствии Лукана вызывало у меня раздражение! Только бы он не вообразил, что я испугался, поджидая его! И только бы не заметил, что после ночи, проведенной под открытым небом, и восхождения на скалы у меня нет ни одного сустава, который не причинял бы мне боль…
В течение предыдущих месяцев я часто представлял момент, когда столкнусь с Исусом бар Аббой. Задержись Лукан дольше, моя встреча с зилотом, конечно, была бы не такой, как я ожидал. По прошествии года я даже начал его идеализировать. Человек же, которого ко мне привели, был не героем, но разбойником, презренным убийцей, неспособным даже на браваду. Я сразу узнал его; голос, который остановил меня возле силоамской башни, голос человека, которого я счел свободным от раболепия и низости, дрожал, когда зилот отвечал на мои вопросы. Конечно, он не мог питать иллюзий относительно своей участи. Для него это был крест. Я не знал более мучительной казни, к тому же мне стало известно, что распятие представлялось иудеям верхом ужаса и позора: «Проклят Ягве тот, кто висит на дереве!» Для бар Аббы лучше было не выходить из стычки живым.
Я испытывал горькое удовлетворение. Не то, которого ожидал, — маны Луция Аррия заслуживают большего, чем жалкая жертва, которую я собирался им принести, — удовлетворение от уверенности, что расправлюсь с преступником, пролившим римскую кровь; восстановлю поруганный порядок; наконец, покажу иудеям бар Аббу, на которого они возлагали столько надежд, в агонии, пригвожденным к кресту, умирающим от страшной пытки, предназначенной для мятежников и рабов, убивших своего хозяина: «Проклят Ягве тот, кто висит на дереве!» Проклятие бога Израиля падет на героя Израиля. Какая победа для Рима!
В Кесарию я не вернулся. До Пасхи оставалась неделя, и я должен был в это время быть в Иерусалиме. Я принял решение казнить бар Аббу в следующую пятницу, накануне великого Шаббата. Какое предостережение может быть лучше для прохожих странников, чем три креста, воздвигнутые на холме при въезде в город?
Я считал справедливым, чтобы два сподручных бар Аббы разделили его участь. Впрочем, они приняли ее с большим мужеством и достоинством, чем он сам.
Первый, именуемый Гад бар Самуил, был двоюродным братом бар Аббе; они немного походили друг на друга. За одним исключением: Гад держался прямо, в то время как бар Абба сутулился; его зрачки горели ненавистью; он хрипел, как разъяренный тигр; для того чтобы привязать к спине мула, его пришлось избить.
Другому было не более двадцати, и лицо его было слишком нежным для ремесла, которым он занимался. Во время боя он убил троих, и, казалось, сам не знал, как это у него получилось. Я уловил испуганный взгляд, который он бросал на свои залитые кровью руки… Мне было жаль этого парнишку, и, если бы я мог, я воспользовался бы ради него своим правом миловать. Но я не мог. Я узнал юного Дисмаса — того вора, которого я освободил первый раз, когда он украл из сундука своего хозяина дорогое ожерелье для любимой девушки. Неужели он примкнул к банде бар Аббы, чтобы и дальше делать ей подарки? Или он искренне верил, что борется за свою родину? Это уже не имело значения. Боги никогда не дают второго шанса, римские прокураторы — тем более.
Я ожидал, что, когда мы войдем в Иерусалим в то прекрасное утро апрельских календ, на нашем пути соберется толпа. Я обманулся. Мы не встретили никого, кроме арабов — погонщиков верблюдов, поивших своих животных. На смеси греческого с арамейским они объяснили Флавию, что с рассветом народ отправился к другим воротам приветствовать прибытие великого пророка. Торговцы из Петры клялись, что накануне тот человек в селении Вифания воскресил умершего несколько дней назад и начавшего смердеть… Я счел излишним последнее уточнение, но Флавия оно привело в неописуемый восторг.
Пройдя через пустынные улицы и площади, мы приближались к Антонии, когда на другом конце площади Храма заметили странное шествие. Люди двигались в буйном веселье песен, радостных возгласов и звона бубнов, которыми весело потряхивали дети. Под ногами на земле лежали разноцветные плащи, расстеленные перед человеком, который шел дорогой триумфа.
Сначала я его не рассмотрел. Ветки цветущих деревьев, оливковые, пальмовые, двигавшиеся вместе с ним колыхающимся лесом, скрывали его от моих глаз. Затем, сквозь просвет в листве, я увидел, что человек, которого так горячо приветствовали, сидит на белой ослице, сопровождаемой осленком. Я представил себе насмешки, которым бы подвергся в Риме даже император, если бы он уселся верхом на осла. И подивился странностям иудейского народа, сопровождавшего этот нелепый экипаж и пренебрегшего военным конвоем, окружавшим меня.
На небритом лице Флавия, наблюдавшего эту картину, сияла лучезарная улыбка:
— О, господин! Это — Галилеянин! Это Иисус бар Иосиф!
Я испугался, как бы мой галл, в порыве признательности, не вышел из строя и не бросился к ногам бывшего плотника. Но он лишь вздохнул и покачал головой.
Охваченный любопытством, я пытался рассмотреть Галилеянина, о котором столько слышал и чье учение меня волновало. Я был слишком далеко, чтобы различить его черты.
Однако лицо с темно-русой бородой показалось мне молодым и красивым.
Иисус бар Иосиф внезапно поднял глаза и посмотрел в мою сторону. На таком расстоянии он не мог видеть меня лучше, чем видел его я… Однако у меня создалось впечатление…
Несмотря на протекшее время, я по-прежнему не могу описать того, что почувствовал тогда. Какое слово могло бы выразить мои чувства? Надежда? Упование? Может быть…
Мое сердце бешено стучало сильными беспорядочными ударами; так оно билось, когда, перед нашей свадьбой, я искал Прокулу в садах Проба.
Потрясенный, я весь устремился к незнакомцу, словно от него зависела моя жизнь.
Это длилось мгновение. Галилеянин, который не мог меня видеть, отвернулся. Меня постигло странное и горькое разочарование.
Я выпрямился в седле, отвечая на приветствие караульного офицера у ворот Антонии.
Я отчетливо видел, как неодобрительно подергиваются брови Тита Цецилия Лукана, трибуна-латиклава, и то презрение, которое отобразилось на его безукоризненно выбритом лице, когда он посмотрел на толпу и Галилеянина…
VIII
Я был еще ребенком, когда однажды, играя с Адельфом в комнате, куда вход нам был запрещен, разбил этрусскую вазу, очень ценную, которой мой отец чрезвычайно дорожил. Безмолвные и пораженные, мы застыли перед ужаснувшими нас осколками.
Отец наказывал меня редко, но строго. Он считал, что физическая боль — составная часть мужского воспитания. В тот день я не сомневался, что получу добрую дюжину ударов кнута, которую, впрочем, вполне заслужил.
Еще более напуганный, чем я, Адельф предложил спрятать обломки вазы в углу и уйти играть в глубь сада. Если все же подозрения отца падут на нас, мы солжем и свалим все на женщину, подметавшую комнату. Это была недавно купленная рабыня, каледонийка, угнанная из своего варварского края; несчастная не могла связать двух слов по-латыни. Мы не боялись, что ей удастся оправдаться в этом преступлении.
К чему скрывать трусливое облегчение, которое я испытывал при мысли, что избегну заслуженного наказания. Это подлое удовлетворение пропало, когда я увидел обреченную служанку. Она была очень юная, очень хрупкая и в тысячу раз больше меня напугана ожиданием ударов кнута. Охваченный мучительным стыдом, я пошел отыскивать отца и повинился, не уточняя, что был не единственным виновным.
Я получил свои двенадцать ударов кнутом… Рука моего отца была порой очень тяжелой.
Неделю спустя — время, которое потребовалось моей пояснице, чтобы оценить подарок, — он дал мне в личное распоряжение лошадь, чтобы вознаградить меня за то, что я сумел вынести тяжесть своей вины и по-мужски взять на себя ответственность.
О наказании я забыл быстро, зато долго помнил радость отца за мой мужественный поступок. Не думаю, что с тех пор я совершил что-нибудь такое, что могло бы поколебать отцовскую гордость Кая Старшего.
Нет, никогда в течение своей жизни я не избегал ответственности, не отказывался смотреть в лицо своим ошибкам и заблуждениям.
Конечно, я мог бы найти оправдания своему решению отправить Галилеянина на мучения, на которые его обрек его же народ. Я мог бы поклясться, что не желал его смерти. Это была правда: я не желал смерти Иисуса бар Иосифа и предпринял все возможное, чтобы не допустить ее.
Я мог бы даже сказать, что был не в состоянии предотвратить эту смерть, и это было бы справедливо, потому что римский прокуратор не выше законов Рима. Именно поэтому законы Рима вынудили меня принять самое худшее решение, какое только мне приходилось принимать за мою жизнь. Я мог бы укрыться за исконной приверженностью римского народа закону, сослаться на тексты и договоры, которые был обязан уважать. Но зачем обманывать себя? Ради чего, раз Прокулу не проведешь?
Недавно я встретился с ней взглядом и в нем увидел неумолимый вопрос:
— Кай, что ты наделал?
Другой бы ответил, что выполнил свой долг. Вот в чем я пытался убедить себя накануне иудейской Пасхи, когда, наконец оставшись один, старался забыть израненное лицо Галилеянина, звук его голоса, ужасный страх, с которым он боролся.
Я исполнил свой долг римского правителя и отца семейства. Я был верен Риму и Тиберию Кесарю, сделал все, что было необходимо, чтобы защитить свою жену и детей. Но, в глубокой тоске, я чувствовал, что вопреки внешней видимости, я виновен. В чем? Перед кем? В то время, мне кажется, я знал ответ; сегодня — уже не знаю. После минутного озарения ослепительный и страшный свет, который я различил, погас.
Скажу просто: я позволил осудить невинного из малодушия. И если бы мужество не покинуло меня, я бы мог предотвратить это преступление. Но мужество предполагает, что я должен был предпочесть жизнь этого незнакомца не только своей собственной — что ничтожно — но жизни Прокуды и ребенка, которого она ждала, жизням Понтии и Авла.
Все же, полагаю, что слово, одно слово этого человека, — если бы он захотел проявить ко мне такую милость, — придало бы мне недостающую силу, и я рискнул бы ради его спасения погубить себя, свою супругу, своих сыновей и дочь.
Но он не произнес этого слова.
Почему?
С тех пор его молчание и молчание Прокулы для меня невыносимы, более мучительны, чем мой ужас перед криками и воплями черни. Молчание обоих не перестает терзать меня теперь.
Подумать только, я надеялся, что встреча с Галилеянином принесет мне душевное спокойствие! Он отнял его у меня; время, которое излечивает столько ран, с каждым днем все больше растравляет мои.
Я вспоминаю крики, вопли, которые я не мог унять, и его молчание… Это главное, о чем помнится, когда я думаю о том апрельском утре.
Я спал мало и плохо. Накануне я произнес приговор, отправивший на крест бар Аббу и двух его сообщников. Впервые в жизни я должен был вынести смертный приговор, и власть решать вопрос о жизни и смерти вызывала у меня ужас. Я лег взволнованный, смущенный, и уверенность в том, что не Гай Понтий лично карал преступление, а через него вершилось правосудие Рима и Кесаря, не успокоила меня. Я исполнял свой долг, но он мне претил. Мысль о гвоздях, вонзающихся в тело зилота, не приносила мне прежнего удовлетворения: пытка, на которую я его обрек, не избавит меня от мучений, которые он мне причинил, и не утешит меня в смерти Нигера. Я ничего не изгладил, ничего не поправил, только прибавил еще одно страдание ко всем прочим страданиям.
Я ворочался с боку на бок, не в состоянии обрести покой. Ко всему прочему мне не давало уснуть мое плечо. Когда же я погрузился в лихорадочный сон, он был полон странных видений. Я видел проходящие тени Луция Аррия и своего сына: они, улыбаясь, держались за руку, стоя у подножия лестницы, которая, казалось, поднималась до неба и верх которой терялся в облаках. Огромная толпа теснилась вокруг, нетерпеливая и веселая, словно ожидая возможности броситься на штурм этих ступенек. И вдруг я увидел препятствие, высящееся между толпой и лестницей, — тень креста, залитого кровью. Кровью, которая, не переставая течь, из простой струйки становилась ручьем, затем потоком, рекой, вбиравшей в свои воды тех мужчин, женщин и детей, что ожидали чего-то, устремив глаза к незримым вершинам.
Я внезапно проснулся, мокрый от пота, вне себя от тревоги. Возле меня металась в кошмаре Прокула. Я услышал, как она стонет:
— Нет! Нет! Кай, ради бога! Нет, я умоляю тебя! Не делай этого! Не делай этого!
Какое преступление я совершил в ее сне? Мне не удалось до нее добудиться, но, казалось, она успокоилась, и я оставил ее спать. Прокула была на третьем месяце беременности, и ей было почти тридцать два… Я любил ее и боялся потерять.
Больше я не смог заснуть. За окном уже бледнело небо, где-то яростно голосил упрямый петух.
Крики, вопли. Лица, искаженные гневом и ненавистью.
Я встал и вышел на шум; удивляясь, что собралась такая толпа, я был поражен тем, что обнаружил в ее рядах столько высших сановников, книжников, учителей Закона, обычно избегавших встречи со мной, нечистым язычником.
Среди прочих я с трудом различил лицо, которое пять дней назад так хотел видеть… Левая скула распухла и посинела, и черты, обычно удивительно гармоничные, даже прекрасные, обрели странную асимметрию. Правый глаз заплыл, надбровная дуга рассечена. Удар кулака или пощечина, нанесенная со всего размаха, разбили верхнюю губу, придав лицу страдальческое выражение. Нос, сломанный в двух местах, так кровоточил, что короткая темно-русая борода была красной от крови.
Увидев, с каким ожесточением его били, я понял, что они хотели убить этого человека; и, клянусь, у меня тогда не было иной мысли, кроме желания сделать все возможное, чтобы помешать им.
Крики, вопли. Самый наглый хор лжи, который когда-либо мне доводилось слышать. В чем только не обвиняли его! Без всякого стыда, без всякого правдоподобия.
— Это злодей! Зачинщик беспорядков!
Они осмелились утверждать, что он подстрекал своих учеников отказаться от уплаты подати. Через Флавия я знал, что это обвинение было ложным, как, впрочем, и другие. Напротив, тем, кто спрашивал у него, следует ли платить налоги, он ответил: «Отдайте кесарево Кесарю».
Я поискал глазами своего центуриона: кто мог лучше него уличить их в очевидном преступлении — лжесвидетельстве и провозгласить, что на Галилеянина возводится напраслина? Но Флавия не было… Чертов галл! Должно быть, он был еще в постели со случайной красоткой!
О подлинном преступлении Иисуса бар Иосифа эти истинные жители Востока сказали в самом конце, когда поняли по моим вопросам и выражению сомнения на моем лице, что я не верю их словам и что я лучше осведомлен, чем они думали.
— Он называет себя Христом и царем!
Но Христос и царь — не одно и то же. Не объяснил ли мне Ирод, что Царь Израиля — Христос, Помазанник, Избранник Ягве? Я смотрел на Галилеянина, Царя, Христа и Мессию. Стало быть, в конце концов, он принял титулы, на возрождение которых уповала Иудея. Я понял, почему они хотели его смерти. Бедный Мессия, бедный Христос, бедный царь Израиля, такой чуждый воинственным устремлениям своего народа! Человек, который якобы должен был выгнать римлян из Палестины, стоял передо мной, и я знал, что учил он не о том, как выбрасывать нас в море, но что следует подставить левую щеку, если тебя ударили по правой. Клянусь Гераклом, прошедшей ночью эти скоты поймали его на слове.
Я был охвачен безграничным состраданием и все же чувствовал себя бессильным. Ибо какое отношение имел я, римский прокуратор, к этой чисто иудейской распре? Я попытался успокоить их, отказываясь быть арбитром, ссылаясь на незнание их обычаев и утверждая, что каким бы ни было преступление Галилеянина, он уже за него наказан. Я хотел верить, что на этом дело кончится. Для римлянина кажется совершенно невероятным предположить, что религиозный спор может вызвать кровопролитие. В Риме уже давно не закапывают живьем весталок, нарушивших обет целомудрия. И никому не придет там в голову умирать за богов.
Крики, вопли. Я ничего не понял.
— Мы не имеем права предавать кого-либо смерти!
Клянусь Фортуной Рима, кто мог знать об этом лучше меня? По всей Империи мы лишили покоренные народы права решать вопрос о жизни и смерти осужденных. Мы сами выносим приговор. Тем не менее в Иудее такое положение не было нерушимым, и я, дурак, напомнил им об этом: в религиозном вопросе, в виде исключения, римский прокуратор мог объявить себя несведущим и отказаться судить. Зато Синедрион, единственное право которого — определять тяжесть вины, был вправе вынести смертный приговор и потребовать — да, потребовать от меня… — чтобы я применил закон и исполнил приговор. Я осознал, что не могу сделать ничего, почти ничего, чтобы вырвать из их рук Галилеянина.
Крики, вопли. И его взгляд, устремленный на меня.
Ему было страшно, очень страшно. Страшно так, что впору было кричать, ползать на коленях, биться, умолять. Однако он не умолял, не бился. Он застыл, молчаливый и неподвижный. Бледный. Напуганный. И все же благородный и мужественный. Длинная прядь волос падала ему на глаза, и он откидывал ее резким движением головы.
Крики, вопли. Его молчание, достоинство и испуг…
Я увел его в преторию, куда не могли за нами последовать его истязатели. Этот человек волновал меня. Я вспомнил о странном замечании Флавия:
— Мне казалось, что он так же неприступен, как Тиберий Кесарь, что я не достоин приближаться к нему.
Я понял, что хотел сказать галл. Этот связанный, избитый человек был величественным, как царь, и, конечно, несравненно более величественным, чем толстый Ирод. И я высказал то, что вдруг показалось мне очевидным:
— Ты Царь Иудейский.
Его благородство, его царственность, весь его облик свидетельствовали о том. Этот человек был царем. Он поднял на меня глаза. С удивлением? Любопытством?
— Ты сам говоришь? Или другие тебе сказали так обо мне?
Его голос… Я хотел бы, чтобы он никогда не прекращал говорить… Говорить со мной.
У меня почему-то возникло желание рассказать ему о Тевтобурге и моем галльском центурионе, Зенобии и Антиохе, о пребывании Флавия в Капернауме, о нелепых мыслях, которые он вбил себе в голову, и о наших с галлом беседах о нем самом. И о других вещах, гораздо более сокровенных, болезненных и личных, в которые я никого никогда не посвящал… Я хотел заговорить — и замолк. Я был смешон, жалок. Я боялся показаться ему глупым. Охваченный стыдом, я не сказал ничего из того, что хотел сказать, и неловко пробормотал:
— Разве я — иудей?
Он слегка улыбнулся, будто посмеиваясь надо мной. И тотчас тревога отобразилась на его израненном лице. Как он боялся!.. Мне захотелось успокоить его:
— Твой народ и первосвященники предали тебя мне: что ты сделал?
Я был уверен, что найду решение, когда Галилеянин объяснит мне, в каком преступлении обвинял его народ. Я спасу его, он отделается только этой ужасной ночью.
Но он не позаботился ответить на мой вопрос. Он вернулся к моему предыдущему утверждению, интересовавшему его больше, чем то, как он выпутается из этого скверного дела:
— Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство мое, служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но Царство мое не отсюда.
Я не ведал, о каком царстве говорил он мне, но знал, что он — не враг Риму, и этого мне было достаточно. Удивительные, абсурдные и блестящие мысли проносились в моем уме; слишком быстро, чтобы я мог уловить их и попытаться привести в порядок; но я испытывал какое-то возбуждение и безграничную радость, даже если и не улавливал их причины. Счастливый, сам не зная почему, я повторил:
— Итак, ты — царь.
И долго еще смаковал это слово. Сегодня я уже не помню, что заставило меня произнести его… Мой взгляд снова встретился со взглядом Галилеянина. Не было больше удивления или колебания в его голосе, когда он ответил:
— Да, ты сказал: я — царь.
Я почти не сомневался в этом. И он знал, что с самого начала я, прокуратор Иудеи, разговаривал с ним как равный с равным. Как равный с равным? Так ли я в том уверен? Флавий был прав: Галилеянин был не менее величествен, чем Тиберий. Однако присутствие Кесаря всегда повергало меня в ужас, присутствие же Иисуса бар Иосифа пробуждало во мне… Я не смог бы этого объяснить!
Мне хотелось подолгу слушать, как он рассказывает о таинственном царстве, которого я не знал, возглашая о своем! царственном достоинстве.
Но именно в этот момент ко мне вошел Тит Цецилий. С шумом — по его обыкновению, — поскольку ему доставляло удовольствие слышать мерный стук своих caligae, раздающийся по плиточному полу, и звук меча, бьющегося о двери и стены. Приметное воплощение римского порядка… И вдруг, может быть, по причине моей неприязни к нему, я увидел Лукана таким, каким должны были видеть его варвары и иудеи, — надменным и грубым чужеземцем, главными доводами которого были сила и жестокость.
Он смерил Галилеянина презрительным взглядом. Я с ужасом представил себе впечатление, какое произвел на трибуна, заставшего меня погруженным в доверительную беседу с обвиняемым, у которого были связаны руки и лицо посинело от ударов… То, что минуту назад вселяло в меня столько уверенности и ясности, оказалось самой страшной путаницей. Я побагровел. Однако успел заметить, как Галилеянин при появлении Лукана подался назад. Иисус бар Иосиф боялся Тита Цецилия. К несчастью, я тоже…
Боялся настолько, что потерял нить того, что говорил мне Галилеянин. Объяснение, показавшееся мне таким ясным, отныне было лишено смысла, и я услышал, не понимая:
— Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине. Всякий, кто от Истины, слушает мой голос.
У меня возникло мимолетное ощущение, что я близок к ответу, единственному ответу, которого в глубокой тоске испрашивал у тех богов, к которым не испытывал доверия.
На меня твердо и насмешливо смотрел Лукан. Тогда, отказываясь дальше говорить, я вспомнил о своем прокураторском достоинстве и направился к двери. Проходя мимо Галилеянина, я спросил отрешенным тоном человека, уставшего искать:
— Что есть Истина?
Он не ответил мне.
Теперь, когда я остаюсь один, мне случается повторять тот вопрос:
— Что есть Истина?
Но в ответ я слышу лишь тишину. Галилеянин мертв. Никогда уже он не даст мне ответа.
Крики и вопли. Когда я вышел из претории, толпа значительно увеличилась. Я стоял один на один с ними. Со реей торжественностью, на какую был способен, я вынес приговор, который считал не подлежащим обжалованию:
— Я не нашел за этим человеком никакой вины.
Да, я не нашел вины, но я не был иудеем… Раздался вопль:
— Как?! Ты не осуждаешь его?! Но он поднимает народ!
— Разве ты не знаешь, что он запрещает платить подать?!
— Это мятежник! Зачинщик беспорядков! Разбойник!
Неужели они считали меня настолько глупым, чтобы я мог всему этому верить? Выведенный из себя, я пожал плечами. Вопли усилились. Я повернулся к Иисусу бар Иосифу. Он был мертвенно бледен и безмолвен. Каждое слово лжи, произнесенное толпой, заставляло его вздрагивать. С негодованием слушая те наветы, я наклонился к нему:
— Разве ты не слышишь, что они говорят против тебя? И ты ничего не отвечаешь!
Нет, он слышал… Он слишком хорошо слышал. На лице его читалось скорбное и недоверчивое изумление, какое бывает у людей, когда самые близкие, не оправдав доверия, предают их. Но он не испытывал ни гнева, ни негодования. Ничего, кроме бесконечной грусти о любви, которую осмеяли и презрели. Возможно ли, что именно эта дышащая ненавистью толпа в прошлую субботу встречала его благодарственными песнопениями? Я понимал и жалел его. Я знал, что на его месте, поверженный в печаль, я тоже предпочел бы молчание. Но его молчание народ приписывал не горю преданного друга, а стыду разоблаченного преступника…
Крики и вопли. Такой шум, что я улавливал лишь отдельные слова и обрывки фраз:
— Он начал в Галилее!
Тогда я подумал об Ироде, толстобрюхом Ироде, любителе маленьких девочек, разряженном в дорогие шелковые платья в пятнах жира и вина. И решил, что знаю верное средство спасти Иисуса бар Иосифа. Антипа, с лукавыми ужимками просящий избавить его Иоанна… Я мог защитить Крестителя, потому что, родившись в Иудее, живя и проповедуя здесь, он зависел от меня. Если бы он не покинул мою территорию и не перешел безрассудно в Галилею, старый Лис не смог бы ему навредить… Да, Иоанн был под моей юрисдикцией так же, как Иисус бар Иосиф — под юрисдикцией Ирода. Он был из Назарета, зависел от тетрарха, и я знал, что у того не было к нему претензий. Галилеянина задержали в Иерусалиме? Это дело правительства Галилеи, не мое. Ирод говорил, что уважает божьих людей. Я намеревался доверить ему одного такого человека. Оказавшись во дворце Антипы, он будет спасен.
Вспоминая об этом теперь, я спрашиваю себя: не пытался ли я трусливо переложить ответственность на Ирода? Нет. Я так ненавидел тетрарха, что одна мысль просить его об услуге была мне отвратительна. Однако, чтобы спасти Галилеянина, я решился стать должником этой отвратительной груды жира и похоти, смеющей называть себя царем.
Я сделал это, ибо не видел другого выхода, позволяющего одновременно соблюсти право и справедливость, то, что предписывал мне закон Рима и чего требовала моя совесть — спасти невиновного, на которого толпа кидалась, как свора волков на ягненка.
Итак, я отправил Иисуса к Антипе. Естественно, он расценил мой поступок как попытку к примирению. Я забыл, что этот боров держал при своем дворе множество магов и прорицателей, среди которых был некий ясновидящий Симон, утверждавший, что может летать. Публичная демонстрация, которую он пожелал устроить несколько лет спустя, со всей очевидностью доказала, что это было пустое бахвальство.
Ирод обрадовался развлечению, которое я ему предоставил; он так же обрадовался бы, если бы я послал ему ученого зверя или юную танцовщицу. Но забава его была непродолжительна. За все время пребывания в его дворце Галилеянин не соизволил ни обратиться к нему словом, ни развлечь его своими знаменитыми фокусами, которыми покорял толпы и которые Антипа так хотел видеть. Иисус не умножал хлеба, не превращал в сосудах воду в вино, не возвращал слуха глухим и зрения слепым и не воскресил в угоду тетрарху хотя бы одного мертвеца. Антипа, благодарный в силу своего необычайного легковерия зритель, разгневался и отправил Галилеянина обратно ко мне. Но прежде, смеха ради, нарядил его в одно из своих царских платьев, демонстрируя мне, какое значение он придавал Избраннику Ягве, Христу — Царю Израиля.
Странно, что я сразу не догадался, что все кончится именно этим.
У меня оставалось последнее средство, отчаянное: отказать Синедриону в моем согласии на исполнение приговора, провозглашенного Первосвященником. Поступая так, я серьезно превысил бы свои полномочия, тем более что Синедрион мог обжаловать мое решение у правителя Сирии. То есть я мог не только не спасти Галилеянина, но и погубить самого себя.
Мне вдруг вспомнился последний совет Проба быть как можно незаметнее, пока Элий удерживает Рим в своей власти.
Но все же я вызвал к себе старейшин, надеясь убедить их переменить решение. Я твердил, что у меня нет никаких сомнений относительно невиновности Галилеянина. Но что значили для них доводы язычника? В довершение всего — неслыханное дело! — я воззвал к авторитету Ирода. Он тоже был иудеем и тоже не нашел за Иисусом бар Иосифом никакой вины. Однако старейшины были не самого лучшего мнения об Антипе. Я был нечистым и невежественным варваром, а Антипа — отступником, предателем своего народа. Они не могли не решить, что мы заодно. До сих пор мне тошно при мысли, что меня могли принять за сообщника этого гнусного человека!
Тогда мне пришла другая идея. Был канун Пасхи, и я мог воспользоваться правом помилования. Они желали осудить Галилеянина — я готов был помиловать его. Но для этого мне было необходимо согласие народа.
Крики, вопли. Тысячи голосов на одном дыхании выкрикивали другое имя. Они требовали свободы для бар Аббы, убийцы Нигера, который ползал у моих ног и умолял избавить его от креста. Для них он оставался воплощением их мечтаний о насилии и ненависти.
— Бар Абба, бар Абба, бар Абба!
Это было нестерпимо, мне даже захотелось позвать Лукана с двумя его когортами, чтобы заставить замолчать эту безумную толпу. Но я вспомнил о прошлогодней Пасхе, о своем красном от крови мече и страшном крике мальчика, раздавленного копытами моего коня. Я устал от напрасно пролитых слез и ненужных страданий.
Толпа — это мерзкое чудовище — в ту минуту словно обладала лишь одним лицом и одним голосом; но если бы я отдал приказ своим солдатам в клочья разнести ее тело, гидра снова распалась бы на множество ни в чем не повинных людей. Разве они понимали, что были лишь игрушкой в руках старейшин, орудием мести фарисеев, в лице которых Галилеянин нажил себе непримиримых врагов? Иисус бар Иосиф не проповедовал восстания против Рима, он предлагал народу переродиться, стать достойным иной, более высокой свободы, чем та, к которой их призывали старейшины. Синедрион никогда не простит ему этого. Толпа обычно безумна и опасна, я всегда боялся ее. Сидя один в моей претории, я знал, как буду винить себя, если отдам приказ разогнать народ.
Галилеянин сказал: «Служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Он оставался молчалив и безучастен, и я никак не мог взять в толк, почему.
Я колебался. Я принял свое решение и не знал, как лучше объявить об этом. Я поймал себя на том, что вращаю на руке кольцо точно так же, как это делал некогда Луций Аррий. Что предпринял бы Нигер на моем месте? Ведь он не меньше моего желал бы его спасти… Луций умер, повторяя одно из этих странных речений Галилеянина…
«Я хочу сказать, господин, что это легко — отдать жизнь за тех, кого любишь…»
Отдать жизнь за тех, кого любишь… Я понял теперь, о чем сказал мне Нигер в свой предсмертный час. Но я все еще не знал, с кем Иисус бар Иосиф готов был поменяться местами, ради кого пожертвовать собой.
Я почувствовал его взгляд, мимолетная улыбка тронула его разбитые губы, словно он был рад, что мои неповоротливые мозги римлянина могут воспринимать такие тонкие вещи. Но ведь мы не обмолвились ни словом! Или он читал мои мысли? Смущенный, встревоженный, я отвернулся.
И увидел Флавия, пытавшегося привлечь мое внимание. Я встал и вышел, галл — за мной. Вначале он не знал, с чего начать, и наконец решился:
— Господин, это очень важно. Клавдия Прокула просила меня передать тебе, что видела сегодня ночью какой-то вещий сон и что хочет предостеречь тебя от какой-то страшной ошибки. Ты не должен вмешиваться в это дело.
Флавий был явно смущен своим странным поручением.
Я вспомнил о беспокойном сне моей жены и ее стонах. Удивительная наивность! Разве это возможно? И даже если мне удалось бы остаться в стороне, разве это помешало бы иудеям расправиться с ним? Эти люди время от времени выволакивали за пределы города тех, кого считали виновными: женщин, обвиняемых в супружеской измене, реже — богохульников. И, выйдя из Иерусалима, без дальнейших церемоний, убивали, кидая в них камнями. Но, может, они все же не осмелятся поступить так с Галилеянином? Я не мог рисковать. У меня не было другого выхода, как отказать им в exequatur.
Флавий промолвил вполголоса:
— Господин, я не смею давать тебе советов. Клавдия Прокула думает, что нашла решение, но она заблуждается. Я прошу у тебя как милости: вмешайся в это дело! Господин, ты знаешь, Учитель невиновен! Ты должен его спасти!
После встречи в Капернауме мой верный галл дошел до того, что стал называть его господином, как меня. Но в глубине души я понимал, что Флавий был прав, называя его Учителем и господином.
— Господин, если бы ты разрешил… Ведь ты так добр! Конечно, это противоречит обычаю, но если бы ты все-таки позволил! Они так привязаны к нему! Господин, если бы ты разрешил им войти, я обещаю, они не будут шуметь и никому не расскажут!
Он указал мне на женщину и юношу, затаившихся в темном углу; они с мучительным беспокойством следили за нашим разговором. Оба казались такими взволнованными, что, охваченный жалостью, я продолжал по-гречески, чтобы быть уверенным, что они понимают:
— Хорошо, пусть войдут! Лишь бы только они молчали!
Потом тише, на латыни, спросил:
— Скажи мне, по крайней мере, кто они?
— Она — Мириам. Ты знаешь… Вдова, которая… словом, я несколько раз проводил у нее ночи, в Магдале… Этот парень — Иоанн, мать зовет его Иоаннисом, на греческий манер… Он из Капернаума, я часто говорил тебе о нем! Я даже думаю, что ты встречал его мать. Ее муж владеет самым большим рыбным промыслом на Тивериадском озере.
Я понял, это была гостья Прокулы, женщина, которая хотела убедить меня, что ее сыновья составляют одно из чудес света. Иоаннис, конечно! Одаренный юноша, писавший стихи… Сколько лет ему было? Семнадцать? Короткие курчавые волосы, безбородое и нежное, как у эфеба, лицо… И глаза, полные тревоги, грусти и решимости, — глаза мужчины.
Вошедшая женщина была удивительно хороша собой. Она была старше Прокулы, и годы ее не пощадили, но красота ее была незабываемой… Она не взглянула на меня, ее глаза были прикованы к Иисусу бар Иосифу. Никогда я не видел женского лица, выражающего более прямо, более страстно, более бесстыдно неутолимую любовь и тоску. И я почувствовал, как во мне разгорается желание спасти Галилеянина — хотя бы ради благодарной улыбки, которой она наградит меня, когда я верну ей ее Христа.
Солнце теперь было высоко в небе и ослепило меня, когда я вышел. Страшный шум продолжался, и толпа все увеличивалась.
Крики и вопли…
— Бар Абба, бар Абба, бар Абба!
Какой-то человек, лица которого я не разглядел из-за непереносимого света, забравшись на цоколь колонны, показал мне кулак и прокричал голосом, перекрывшим все остальные:
— Освободи бар Аббу!
Не думаю, чтобы он желал смерти Галилеянина, как и кто-либо из тех, кто был здесь; Иисус бар Иосиф значил для них меньше, чем вождь зилотов. Для них это была такая желанная возможность нанести оскорбление Риму, вынудив меня освободить из-под стражи преступника, которого я только что осудил.
Окно темницы, в которой находился бар Абба, выходило на площадь; убийца должен был слышать все происходящее.
Конечно, он не мог не обрадоваться своей популярности, своему близкому освобождению и моему позору.
— Бар Абба, бар Абба, бар Абба!
Я пытался среди этого сброда отыскать взглядом смутьянов, чтобы поговорить с ними, убедить их. Но я не видел ничего, кроме этого непереносимого сияния, от которого слезы наворачивались на глаза. Ослепленный, я крикнул наобум:
— А что я должен делать с Иисусом бар Иосифом, которого называют Христом?
Единодушный, дикий, злобный вопль, из тех, какие раздаются в цирке, когда раненый гладиатор падает и чернь ждет его смерти:
— Распни! Распни его! Распни!
Я обернулся к Галилеянину. Он был мертвенно бледен, капли пота блестели на его челе. Он закрыл глаза, может быть, чтобы защититься от нестерпимого солнца или чтобы не видеть этой разрушительной вспышки ненависти. Иисус бар Иосиф обладал редким достоинством побежденного, который не просит пощады. Я не мог опустить большой палец и бросить Галилеянина этой своре. Изнемогая от возмущения и гнева, я крикнул:
— Какое зло он совершил?!
Но кому было до этого дело, кроме меня, моей супруги, Флавия и той женщины, которая теперь до крови кусала себе губы? Кроме юноши, красивое лицо которого выражало ужас и оцепенение? Три язычника, проститутка и мальчишка, едва оторвавшийся от материнской юбки. Этого было слишком мало.
А толпа ревела, охваченная бешенством:
— Распни! Распни его! Распни!
Никогда я не был оратором. Я не Брут, не Марк Антоний, способные убедить народ в справедливости своих поступков и чистоте помыслов. Но даже если бы я был в состоянии произнести пламенную речь на греческом, доказывая невиновность Христа, никто не стал бы меня слушать. Я не стал впустую тратить силы и просто крикнул:
— Нет! Я не распну его! Я не нашел за ним никакой вины! Я отпущу его!
Какая-то рука легла мне на плечо, причинив мне боль от старой раны. Тит Цецилий склонился ко мне:
— Что ты делаешь, господин?! Ты вызовешь мятеж! Скажи им, по крайней мере, что сам его покараешь!
Но за что? С непроницаемым видом, суровым взглядом и саркастической улыбкой Лукан — само воплощение римского порядка — пристально смотрел на меня. И я, который не должен был прислушиваться к его советам, трусливо добавил:
— Я отпущу его после того, как накажу.
И в ту минуту я понял, что презираю себя. Я искал оправдания своему решению, но ничего благовидного и достойного не находил. Меня мучил стыд.
Я не мог не знать, что сделал Лукан с нашими людьми. Его понимание дисциплины предполагало беспощадные меры наказания за малейшую провинность. Бесконечно подвергаясь грубому обращению и частым избиениям, мои солдаты превратились в зверей, готовых вымещать свою злобу на слабых и беззащитных. Ведь мне не хватило духу ни одернуть своего трибуна, ни призвать его проявлять больше мягкости и умеренности. Впрочем, он непременно ответил бы мне, что достигнутые им результаты с лихвой себя оправдали. Да, легионеры, с моего молчаливого согласия, за неимением моего категорического приказа, непременно выместят на Галилеянине немилосердие Лукана. Заставят его заплатить за страх, который они испытывали при виде этой гудящей и угрожающей толпы, осадившей нас из-за него.
Десять лет командования легионом и прокураторства должны были сделать меня более черствым. Сколько раз присутствовал я при бичевании, порой смертельном? Я не считал. Я видел в действии кнуты для исполнения наказаний — из кожаных ремней, со свинцовыми шарами или костяными бабками на конце; я знал, что они раздирают спину и туловище до такой степени, что обнажаются мышцы и, если палачи получают приказ бить сильно, из-под месива плоти даже показываются кости. Это было мучение, совершенно не сопоставимое с кнутом, который использовал мой отец.
Я это знал. Но с трудом смог удержать приступ тошноты, когда ко мне привели Иисуса бар Иосифа. Я позволил бичевать его, и за это натерпелся стыда. Но я не позволял делать его объектом гнусной комедии. Дело в том, что титул Царя Иудейского развеселил легионеров, и они устроили целое представление, имитируя царские почести, отдаваемые узнику. Они сплели для него венец из колючек, а когда стало ясно, что он плохо держится на голове, в ярости нахлобучили его ударами кулаков и палки. Струйки крови текли по лицу Галилеянина, попадая ему в глаза, оставляя бороздки на бледных щеках; можно было сказать, что он плакал кровавыми слезами.
На его истерзанные плечи они набросили грязный и ветхий пурпурный плащ. Я вспомнил, как расстегнул его и бросил в угол оружейной залы, где он валялся, забытый, уже целый год. Это был paludamentum Луция Аррия, тот самый, который был на нем в день, когда он спас мне жизнь ценой собственной жизни. На нем оставались большие темные пятна — кровь Нигера. Эти следы вновь заалели на сукне, будто спустя год кровь Луция потекла вновь. Но теперь она сочилась по разодранной спине Иисуса бар Иосифа, смешавшись на плаще с кровью моего убитого друга, словно знаменуя одно и то же страдание, одну и ту же печаль.
Безумная тоска завладела мной. Страдание за страданием… Вот все, что пожинал мир. И каждый из нас был жертвой или палачом. Мне показалось, что доносившиеся снаружи крики слились с воплями всего человечества, превратившись в один бесконечный стон, поднимающийся к неумолимому небу. Никто не находил смысла в этой неотвратимой всеобщей боли, в этом безжалостном и непонятном жребии, который является сущностью человеческого бытия.
Этот бесконечный стон вздымался к небу как обвинение и как мольба; и он сосредоточился вокруг Галилеянина, который, закрыв глаза, казалось, вслушивался в этот стон и словно превозмогал его. Тогда-то мне пришла в голову мысль, что узник в своем страдании видит какой-то непостижимый смысл.
И я увидел в нем воплощение этого казнимого и казнящего человечества.
Он вновь открыл глаза и посмотрел на меня строго и грустно. Я ожидал упрека; его не было. Взгляд выражал лишь безмерное сострадание. Каким бы безумным это ни казалось, в то мгновение он жалел меня, словно ему было ведомо мое смятение и он понимал и прощал его.
Я вышел сам и приказал вывести его наружу. Я надеялся, что таким, каким он тогда был — смешным, жалким и прекрасным, он пробудит великодушие у ненавидящей толпы. Я решил поначалу, что мой замысел удался, потому что нас встретило молчание. И тогда я призвал народ в свидетели:
— Я вывел его к вам с тем, чтобы вы знали, что я не вижу никаких оснований для его осуждения. Вот этот человек!
Крики и вопли:
— Распни! Распни его!
Я возопил сильнее, чем они:
— Тогда возьмите его! Распните сами! Я не вижу за ним вины!
Один из членов Синедриона, которого я не знал и имя которого осталось мне неизвестным, приблизился ко мне.
Очень тихо, тоном гораздо более грозным, чем крики толпы, он сказал с оскорбительным упорством и спокойствием:
— Светлейший господин прокуратор… У нас есть закон; согласно закону, этот человек должен умереть, потому что он выдает себя за сына Божия…
Он мог мне сказать гораздо яснее: «Римлянин, ты не имеешь права отказать в исполнении нашего приговора. В делах религиозных решаем мы; ты язычник, ты здесь для того, чтобы подтверждать наши решения, которых не понимаешь и не имеешь права обсуждать».
Я был готов идти в своем упорстве до конца и вернулся в преторию, надеясь найти у Галилеянина поддержку. Меня поразило странное обвинение старейшины: «Этот человек выдает себя за сына Божия». Его слова оказались созвучны учению галльских друидов, которое проповедовал Флавий: «Знаешь, господин, я уверен, что он Младенец, воплощение Бога всевышнего и благого, сошедшего к нам!» В то мгновение я желал, чтобы так было на самом деле, чтобы человек, которого я приказал бичевать, оказался поистине царем — не иудеев, но Неба и Земли. И чтобы он пришел мне на помощь.
Но я увидел истерзанного, истекающего кровью человека, обезображенного полученными им ударами. Я уже не понимал, где нахожусь, кто он и как мне следует поступить. Я потерял голову. Но вот он посмотрел на меня — я снова готов был поверить каждому его слову. Голосом, дрожащим от безумной надежды, я спросил:
— Откуда ты?
Я ждал, что он ответит:
— Из Назарета.
На лице Галилеянина появилась легкая улыбка, но он не ответил. Меня охватила бесконечная грусть. Я так хотел ему помочь, я протягивал ему руку; почему он отказывался протянуть свою и предоставить мне возможность его спасти? Какую ошибку мог я совершить, которая делала меня неспособным помочь ему, подобно безграмотному галльскому центуриону или раскаявшейся проститутке?
Удрученный, я покачал головой:
— Ты не отвечаешь… Знаешь ли ты, что я могу тебя распять?
Я тянул к нему руку жестом побирающегося нищего. Я упрашивал его изъявить желание спастись, позволить мне спасти его. Я всего лишь протянул руку, но этот жест вызвал у меня стон и болезненную гримасу. Плечо ныло все сильнее, пальцы затекли и я с трудом мог ими шевелить.
Иисус бар Иосиф смотрел на меня все с той же улыбкой и тем же состраданием. Его взгляд сосредоточился на моей одеревеневшей руке, словно он знал каждую ее кость, каждый мускул и каждый нерв, словно ему было ведомо, в каком именно месте я испытывал боль. Взгляд жег меня. Но он не сказал ни слова и не сделал ни одного движения. Боль в плече внезапно прошла, и я опустил руку. Я уже ничего не ожидал.
В той борьбе, которую я вел за его жизнь, подвергая опасности свою, он не пожелал прийти мне на помощь. Я хотел уже выйти, но его голос удержал меня:
— Ты не будешь иметь никакой власти надо мной, если тебе не будет дано свыше; вот почему тот, кто привел меня к тебе, совершил гораздо больший грех.
Уязвленная гордость вытолкнула меня наружу.
Крики и вопли.
Широким жестом, который почему-то не вызвал ни малейшей боли, я указал на Галилеянина:
— Вот ваш царь! Я не нахожу за ним вины и хочу освободить его!
Хор заголосил:
— Распни! Распни его!
— Вы просите меня распять вашего царя?
Мужество возвратилось ко мне одновременно с моим негодованием и гневом. Я больше не слышал издевательских насмешек легионеров, я больше не обращал внимания на выражение осмотрительной презрительности Лукана, я думал только о достижении конечной цели: вырвать у них человека.
Ко мне приблизился старейшина, который только что требовал от меня exequatur. Медоточивость в его голосе исчезла, и слова шипели, в то время как, охваченный ненавистью, он бросал мне возражение, которого я никак не ожидал услышать от благочестивого иудея, от фарисея:
— Светлейший господин прокуратор, у нас нет иного царя, кроме Кесаря! И если ты отпустишь этого человека, ты не поступишь, как друг Кесаря, ибо тот, кто называет себя царем, противится Кесарю!
Этот иудей, который так сильно ненавидел Рим и его законы, должно быть, еще больше ненавидел Христа, ведь, дабы погубить его, он осмеливался противопоставить мне, представителю Рима, самый жестокий из римских законов, священный закон об оскорблении величества… Тит Цецилий в упор смотрел на меня, и я догадывался, что он думает. Он был прав. Защищая Галилеянина, который провозгласил себя сыном Божиим и царем Иудейским, я посягал на верховное величие Тиверия и божественных Кесарей; и за такое преступление я заслуживал смерти, как и он.
Я обратился в сторону Иисуса бар Иосифа, умоляя его взглядом. Он был невиновен. Сколько раз я прокричал об этом этой неистовой толпе? Но готов ли я умереть во имя его невиновности?
Внезапно я мысленным взором перенесся на Капри, к Тиверию Кесарю. Мне мнилось, что я говорю с ним, пытаясь объяснить, почему превысил полномочия прокуратора, почему навлек на себя его тяжкий гнев. Я тщился сказать какие-то значительные слова и не мог. В присутствии правителя я никогда не был способен связно говорить… Страшные глаза Тиверия, буравящие душу, жестокие и неумолимые, испытывали меня. Я был виновен и не мог этого отрицать; я заслуживал смерти и принимал ее. Я опустил голову.
Видение исчезло так же быстро, как и возникло, оставив меня спокойным и рассудительным. Я рисковал жизнью? Да. Но я и прежде ставил ее под удар по мотивам менее благородным… Я поднял глаза к Галилеянину. Царь? Сын Божий? Я принял это безумие и готов был умереть за него. Он смотрел на меня со смешанным выражением грусти и волнения, по-прежнему не говоря ни слова.
Галлюцинация вернулась, еще более сильная. Я презирал меч палача. Я был согласен добровольно погибнуть, чтобы вопреки Израилю и Риму провозгласить невиновность и царственное достоинство этого человека. Но был ли я и впрямь свободен в своем выборе? Ведь я был не один. Мне пригрезилось, что я уже не на Капри, а в большом зале Палатинского дворца, перед Сеяном, переодетым в узурпированные им пурпурные облачения. Сеян приказал убить меня, но это оставило меня безразличным; но вот ввели в зал суда мою жену и моих детей. Лезвие сверкало на солнце, и кровь, брызнувшая из перерезанного горла Прокулы, залила ее белую тунику. Один из стражей схватил Авла, не слушая его криков ужаса. Держа ребенка за ноги, он ударил его головой о стену. Я слышал, как при ударе хрустнули его кости.
Я провел рукой по глазам, пытаясь развеять наваждение. Но мне это не удалось: кошмар навалился на меня с ужасающей остротой. Вошли двое, втаскивая в комнату Понтию. В первый раз я осознал, что моя дочь уже не ребенок. Ее длинные черные волосы скрывали разбитое и залитое слезами лицо. Она бессильно отбивалась и звала на помощь. Мужчины сорвали с нее одежду. О боги, как мог я забыть о циничном обычае, который воспрещает казнить девственницу? Во времена гражданских войн и теперь, когда Элий установил свою ненавистную власть, сколько девочек, сколько подростков, жертв реальных или предполагаемых преступлений своих отцов, было изнасиловано палачами или тюремщиками перед тем, как быть убитыми по закону?
Вопль Понтии пронзил меня, словно все происходило на самом деле.
Галилеянин смотрел так, будто знал, что я видел, и, казалось, спрашивал меня:
— Гай Понтий, ты любишь меня больше, чем свою собственную жизнь, и согласен умереть, чтобы меня защитить… Но готов ли ты также согласиться и на это? Любишь ли ты меня больше, чем свою жену, своего сына, свою дочь?
Но кто смог бы ответить ему «да»?
Когда Прокула угнетает меня своим молчанием и своим немым упреком, своим вечным: «Кай, что ты наделал?» — я должен ей ответить:
— Прости меня, возлюбленная, если я предпочел твою жизнь и жизнь наших детей жизни этого человека… И в этом я виноват перед всеми.
Я проиграл сражение. Я был неспособен навязать толпе мою волю. Я был заложником моих обязанностей, римских законов. Конечно, я мог нарушить свой долг и отказаться уважать право и договоры. Я мог приговорить себя к смерти. Но у меня не было ни мужества, ни силы обречь на гибель мою семью.
Я попросил воды. Человеческая кровь часто обагряла мои руки. Но той крови, что на старом плаще смешалась с кровью Аррия, я пролил уже слишком много, малодушно послушав Лукана и предав Галилеянина на это безжалостное и бессмысленное бичевание. Я не давал согласия на казнь: у меня его вырвали силой, ценой подлого шантажа. Надо мной совершили насилие, и я призываю в свидетели тому весь мир.
Раб поднес мне серебряный таз, я встал и опустил руки в воду. Я очистил себя от преступления, которое мне навязали.
Резким прокураторским голосом, голосом Рима, который внезапно вновь обрел, я произнес:
— Я не повинен в этой крови!
Я не понесу это бремя, ни я, ни Кесарь, ни Рим. Я согласился на казнь вопреки собственной воле. И я желал, чтобы все это знали.
Крики и вопли.
Чернь удовлетворенно затопала ногами. Старейшина, дерзнувший сослаться в разговоре со мной на римское право, выкрикнул с выражением торжества и насмешки:
— Не бойся, светлейший господин прокуратор! Пусть эта кровь падет не на тебя и твоих близких, но будет на нас и детях наших!
Несчастный безумец…
Проходя мимо Галилеянина, я пробормотал так тихо, что вряд ли он меня услышал:
— Прости…
Я вновь поднялся в свои покои. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется; я чувствовал, что могу упасть в обморок. И еще мне казалось, что даже в Тевтобурге я не ощущал такой усталости и не переживал такого стыда и отчаяния.
Флавий бросился к моим ногам, он рыдал. Я положил руку ему на плечо:
— Умоляю, поверь: я сделал все, что мог!
Он всхлипывал, как дитя…
— Знаю, господин, знаю… Закон об оскорблении величества… — Он поднял на меня умоляющий взгляд, ему удалось приглушить рыдания… — Господин, я хочу тебя попросить… Я бы хотел… командовать отрядом, который…
Он остановился, сглатывая слезы; он не мог больше говорить. Но я понял, о чем он просил, и не решался удовлетворить его просьбу. Флавию я меньше всего был готов доверить проведение казни… Он настаивал:
— Знаешь, господин, они удрали! Ты понимаешь, все! Исчезли этой ночью, когда Учитель был схвачен… Кроме мальчишки, ты его знаешь, Иоанниса, и еще Мириам, а также матери Учителя… Все исчезли! Ты понимаешь, господин? Ты ведь знаешь, что я не могу поступить, как они! Я не могу последовать их примеру и бросить его…
В своем отчаянии мой галл нелепо коверкал латинскую грамматику, ошибался в постановке ударений и в конце концов стал использовать кельтские грубоватые словечки, которые мне показались довольно обидными в отношении пусть и не столь уж славных учеников Галилеянина. Но мне было не до смеха… Лучше, чем кто-либо другой, я знал, что Флавий — раб незыблемого кодекса чести, потому-то он и пришел рыться в груде тел в Тевтобурге, чтобы вытащить из нее своего молодого трибуна…
Я хотел было произнести те жестокие слова, с помощью которых Агат описал Флавию, что происходит, когда между костями запястий и стоп забивают гвозди. Я хотел сказать ему, что, если даже исполню его желание, ему придется выдержать это зрелище, наблюдая за грубой или неловкой работой равнодушных палачей, и оставаться до самого конца, того конца, который наступает медленно у людей, погибающих от удушья и бьющихся на кресте.
Я никогда не мог вынести зрелище распятия.
Флавий ждал моего ответа. Он упрямо твердил:
— Ты сам это понимаешь, господин. Я не могу его оставить, не могу!
Я усмехнулся, чтобы скрыть свою растерянность:
— Делай, что хочешь… Возможно, тогда-то ты убедишься, что он всего лишь человек, такой же, как другие, а вовсе не сын твоего галльского бога!
Да, человек, всего лишь человек, ожидающий мучительной и жестокой агонии.
Но странный блеск, который я заметил в серых глазах ценомана, заставил меня задуматься: не ожидает ли он, что совершится чудо и Галилеянин избежит креста? Успокоенный, он ответил:
— Благодарю, господин. Воистину, ты сам увидишь: этот человек — сын бога.
Бывают минуты, когда логика кельтов ускользает от меня…
* * *
Наконец наступила тишина. Удовлетворенная и отупевшая толпа разошлась. Полуденное солнце, ослепительное и слишком горячее для начала апреля, сверкало на белом камне.
Я сел за стол, я попытался вновь погрузиться в текущие дела.
Лицо Галилеянина… Плащ Нигера и вновь заалевшие пятна крови… Резкий голос Лукана: «Скажи, по крайней мере, что ты его покараешь!» — и мой голос, слабый и беспомощный, выражающий согласие… Зачем я позволил его бичевать? И этот терновый венец, жестокий и издевательский. И эти его слова: «Ты сказал: я — Царь».
Я машинально вращал между пальцами стилет; кончилось тем, что я себя уколол. Капля крови, потом другая, потом еще одна падали на восковую дощечку, лежавшую передо мной. Пурпурный покров и пятна крови. И этот голос: «Ты сказал: я — Царь». А эта прерванная приходом трибуна речь… Что говорил мне Галилеянин? «Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине. Всякий, кто от Истины, слышит мой голос».
Я пробормотал:
— Что есть Истина?
Его слова непрерывно звенели в моей голове: «Тот, кто от Истины, слышит. Ты сказал: я — Царь. Я — Царь. Я — Царь. Я — Царь»…
Без доклада вошел Лукан. Он так поступал всегда, полагая, что явиться ко мне без предупреждения — привилегия трибуна-латиклава.
— Господин, кажется, они все еще не удовлетворены.
Но разве сам я удовлетворен? За всю свою жизнь никогда не был я столь несчастным.
Отражение солнца на плиточном полу было по-прежнему непереносимо, но на западе уже скапливались громадные черные тучи. Я ожидал разъяснений, которые не замедлили объявиться. Они обвинили меня в ереси, которая извинительна только потому, что я язычник, и потребовали, чтобы я немедленно исправил свою оплошность.
Закон требует, чтобы в надписи в навершии креста был указан мотив осуждения. Я не оставил этого без внимания и велел прибить табличку с надписью: «Сей есть Иисус из Назарета, Царь Иудейский». Но разве не по этой причине меня заставили отправить его на смерть? Провозгласив себя царем Иудейским, он нарушил закон об оскорблении величества, и одно это обязывало меня утвердить приговор Синедриона, согласно которому Галилеянин был повинен в богохульстве. И вот теперь они утверждали, что я ошибся… Мой давешний анонимный фарисей разъяснил:
— Светлейший господин прокуратор, ты не должен был писать: «Сей есть Царь Иудейский», но «Этот человек есть мнимый Царь Иудейский». Многие люди проходят мимо места казни. Они читают твою надпись, они смущаются. Исправь ее!
Гнев, который я сдерживал в течение всего утра, наконец прорвался наружу. Громадные черные тучи готовы были захватить все небо, насыщая воздух душной влагой. Скрываясь от грозившей бури, быстро проносились птицы. Где-то завыла собака, и десятки других откликнулись ей заунывным хором.
Обливаясь потом, я посмотрел в направлении Лысого холма, этого плешивого пригорка на выезде из города, который не виден со двора Антонии. Я не желал думать о том, что там происходит, но мне это не удавалось, и жуткие образы обступили меня. Фарисей упорствовал:
— Светлейший господин!
Неужели он забыл, что обращается к прокуратору Иудеи? Я приподнял полу тоги, которая душила меня, и смерил иудея взглядом. Он опустил глаза. Я ответил ему, резко повернувшись:
— Что написал — то написал.
Они отвергли милосердие Рима и требуют его правосудия? Ну, что ж, отныне они получат правосудие Рима и будут локти себе кусать.
Они требовали, чтобы я осудил Галилеянина как царя Иудейского, а я верил, что он им был; я считал, что он имеет право встретить смерть с этим титулом. Старейшины ушли в возмущении.
Двадцать восемь ступенек белого мрамора, которые вели в мою резиденцию, показались мне непреодолимыми. Казалось, я никогда не смогу по ним подняться, разве что ползком. Сколько раз нынешним утром я спускался и поднимался по ним?.. Я хотел помочь ему; достиг ли я чего-либо иного, кроме того, что прибавил ему страданий?
Поначалу мне показалось, будто у меня кружится голова. Или будто я потерял зрение. Солнце померкло! Оно по-прежнему оставалось прямо над Храмом, но его огненный диск стал черным. Мертвое солнце на зловещем небе. На Иерусалим опустилась не буря, а ночь. Такого я никогда еще не видел.
Лай собак усилился. В конюшнях, охваченные паникой, ржали и лягались лошади, выламываясь из стойла. Караульные у ворот восклицали, перекликались, показывали на солнце, испытывая такое же смятение. Я подошел и стал убеждать их тоном, который считал спокойным и ободряющим, что речь идет об обычном затмении. Но я обманывал их и себя. Прежде мне приходилось наблюдать затмения: даже тогда смотреть на солнечный диск без резей в глазах невозможно. Здесь все обстояло иначе: я мог смотреть на Солнце, и оно не было закрыто от нас Луной: оно померкло, утратив силы света и тепла. Чувство жуткого, безотчетного страха сдавило мне горло. Повсюду люди кричали от страха и посыпали головы пеплом, взывая к божественному милосердию…
Мысль о Прокуле и детях прервала мое беспомощное созерцание. Мне следовало соединиться с ними. В полумраке я добрался до лестницы, поднялся на ступеньку, другую, третью, почти ничего не видя под ногами.
Я ни на что не натолкнулся, оказавшись, однако, лежащим поперек ступеней. Когда я осознал причину своего падения, я вдруг услышал стон ужаса, сорвавшийся с моих губ: земля тряслась. Длительная и непрерывная вибрация поднималась из Аида. Низкие раскаты, напоминающие шум, который производят сотни колесниц, пущенных галопом по мостовой. Цепляясь за ступени, которые дрожали подо мной, убежденный в том, что лестница вот-вот обрушится и похоронит меня под своими развалинами, я выл от страха, неспособный подняться и попытаться спастись.
Мрак над Иерусалимом был почти полный. Гигантская молния расколола его, раздирая небо сверху вниз, и обрушилась со страшным грохотом на пинакль Храма. Мне казалось, что мир воспламенился под смешанный рев грома и землетрясения.
Но вот внезапно все успокоилось. Земля перестала сотрясаться. Облака раскрылись в полупрозрачной пелене дождя. Покрывало мрака развеялось, показав Солнце — бледное, но привычное. Был девятый час.
Я поднялся к себе. Меня удивило, что землетрясение произвело так мало повреждений. Лишь некоторые безделушки, упавшие на пол, разбились, легкие стулья и столы были перевернуты.
Прокула сидела, прижав к себе Понтию и Авла. Судя по тому, как она смотрела на меня, можно было подумать, что именно меня она считает виновником затмения и бури…
Абсурдная мысль осенила меня: а что если это и в самом деле так? Что если этот внезапный гнев неба и земли сопровождал агонию человека, который называл себя сыном бога?
Мне казалось, я теряю рассудок.
Прокула не бросила мне ни одного упрека по поводу моего жалкого поведения, не напомнила о сне, о котором предупредила меня через Флавия. Бледная и молчаливая, она стала помогать мне раздеться, ибо я вымок и был покрыт грязью. Когда, меняя тунику, я привычно прикоснулся к тому месту на плече, где был грубый рубец, затянувший мою давнюю рану, я почувствовал, что кожа здесь непривычно гладкая… Я позвал жену, подошел к окну, потребовал лампу. Да, это был не сон. На месте старой раны, полученной в Тевтобурге, которую бар Абба разбередил и усугубил, не осталось ничего, кроме тонкого, едва различимого следа, неощутимого пальцем.
Прокула, не говоря ни слова, заплакала. Я вспомнил о том, как протянул к Галилеянину умоляющую руку, мою гримасу боли и мой стон… Я вспомнил сосредоточенный взгляд Иисуса бар Иосифа и внезапный жар, причины которого я не знал. Я упал на колени, и слезы брызнули у меня из глаз. Плечо никогда больше не причинит мне беспокойства, я это знал. Но угрызения совести и печаль, которые сжимали мне сердце, вызывали более тяжкие страдания. Я сделал все, я все отдал, чтобы поправить дело. Но все-таки мне не было прощения.
В десятом часу Лукан уведомил меня о визите одного из членов Синедриона; этот человек, презрев нечистоту моего жилища, тем более вопиющую в преддверии пасхального Шаббата, во время которого иудеи особенно тщательно соблюдают ритуальную чистоту, согласился подняться в мои покои. Надо сказать, что уже не раз бывало, когда я тайно принимал у себя этого старейшину по имени Иосиф Аримафейский.
Высказав цветистые пожелания процветания, искренность которых всегда казалась мне сомнительной, он объяснил причину своего визита: он просил разрешения снять с креста тело Галилеянина, чтобы достойно похоронить его. Ибо, будучи в Иудее чужаком, тот, кого он тоже назвал «Учителем», не мог претендовать на место на иерусалимском кладбище. К тому же здесь, как и в Риме, не было принято устраивать достойные похороны казненным.
Какая непоследовательность! Иосиф играл в Синедрионе известную роль. Где же он был прошлой ночью, когда его мнение могло сдвинуть чашу весов в пользу Галилеянина? Где он был этим утром? Если бы он объявился в моей претории, поднял голос в защиту своего Учителя, я получил бы серьезный повод настоять на отмене казни и освободить обвиняемого. Иосиф не появился ни у Первосвященника, ни у меня. Прав был Флавий, он, как и остальные ученики, малодушно бежал. Но мог ли я стать в позу судьи и осуждать кого-то?.. Все-таки нельзя не признать, что он пошел на серьезный риск, явившись ко мне засвидетельствовать свою симпатию к плотнику из Назарета.
Я дал ему свое согласие и выразил удивление, что столь молодой человек скончался так скоро. Нередко случалось, что распятый держался два или три дня, прежде чем умереть от удушья… Испытывая ужас перед такой бесконечной пыткой, я распорядился приказать Флавию кончить все как можно скорее, перебив голени осужденным. Это пришлось по нраву иудеям, которым несносна нечистота трупов в дни священного праздника.
Но Флавий сказал, что Галилеянин первым испустил дух, в тот момент, когда Солнце померкло, в девятом часу. И тогда галл прикончил двух сообщников бар Аббы, ворча, что дает им умереть гораздо скорее и легче, чем они того заслуживают, если вспомнить о несчастном Луции Аррии и многих других их жертвах. Что же до Иисуса бар Иосифа, то центурион Лонгин, дабы быть уверенным в его смерти, пронзил ему сердце ударом копья.
Мне было тяжко это слушать, тем более что галл любил приводить в рассказах жуткие подробности. Но на этот раз он меня от них избавил, ограничившись тем, что сказал мне:
— Я знаю наверное, господин: этот человек — Сын Божий!
Мне даже подумалось поначалу, что Флавий для храбрости приложился к крепкому вину из тех, что дают осужденным, прежде чем пригвоздить их к кресту. Но Флавий был трезв как стеклышко. Значит, в нем говорят сумасбродство кельтов и их приверженность к собственным мифам.
Незадолго перед тем, как пастушьи рожки возгласили наступление вечера и начало пасхального Шаббата, члены Синедриона вновь явились ко мне. Они возмущались, что я позволил передать тело Галилеянина его матери, чтобы достойно его похоронить, и теперь настаивали на том, чтобы я установил у гроба стражу. Ибо в городе распространился слух, будто Иисус бар Иосиф, который часто предсказывал свою скорую смерть, на третий день обещал воскреснуть. Синедрион опасался, что ученики вновь появятся и украдут тело, тем самым как бы подтверждая пророчество «и обман еще худший, чем первый»…
Из рассказов Флавия и Иосифа я знал, что сталось с учениками. Ни один из них не был готов пойти на страшный риск, чтобы в свою очередь быть побитым камнями и распятым за осквернение могил и возбуждение народа всяческими россказнями.
С надменным видом я отказал членам Синедриона в их просьбе выделить им солдат и посоветовал прибегнуть к частной страже, услугами которой они пользовались накануне для ареста и всего того, что они учинили в отношении Галилеянина.
На этом я считал дело исчерпанным и обманывал себя, что был этим счастлив.
IX
Перечитываю эти страницы, написанные пять лет назад, во Вьенне, когда я пытался заглушить тоску изгнания и тревогу за завтрашний день. Мне казалось тогда, что я пережил худшие в моей жизни неудачи и огорчения. Я заблуждался. Но что в этом удивительного, если во всю мою жизнь я только и делал, что множил мои ошибки? В течение тех пятидесяти с небольшим лет, что я прожил, не было дня, когда я мог бы сказать, что знаю, что есть истина и существует ли она. Неужели я обречен — только я один — так и не узнать ответа?
И это при том, что я, несомненно, принадлежу к числу самых счастливых людей в Риме, если счастье исчислять благорасположением правителя, богатством и почетом. Но все это не приносит мне удовлетворения. Да и можно ли считать разумным человека, который мог бы удовлетвориться такой жалкой видимостью счастья, настолько ослепнуть, чтобы забыть, насколько все это зыбко и мимолетно?
Я слишком часто терял тех, кого любил, и то, чем обладал, чтобы вдруг забыть, что в любую минуту вновь могу потерять тех, кого люблю и то, чем обладаю.
У меня было трое сыновей: их больше нет. Осталась только Понтия, горячо любимая дочь, которой я больше всего дорожу. Но и она познала много страданий, и я угадываю в ее ослепительной красоте и грации какую-то рану, через которую бесшумно утекает ее жизнь. Я сознаю, что бессилен поддержать ее, как был не в силах сохранить жизнь ее братьям.
Что до Прокулы, то ее любовь остается неизменной, но молчание, которое она почти никогда не прерывает, на протяжении многих лет оставляет меня один на один перед судом моей совести. И я не перестаю произносить на этом суде приговор самому себе.
Почти пятнадцать лет протекло с того дня, как я позволил распять Галилеянина. Это было малозаметное событие в сравнении с драматическими потрясениями, пережитыми Империей. Но с того дня для меня все переменилось.
После того как Синедрион вырвал у меня разрешение предать смерти Иисуса бар Иосифа, мое представление о власти прокуратора резко изменилось. Пришел конец моим надеждам заставить этот горделивый народ полюбить Рим. Я и сам воплощал собой Рим, но отныне образ Рима включал в себя прежде всего жестокость и непреклонность.
Я даже не заметил, как близкие, оставленные мной ради дел правления, стали от меня отдаляться. Когда я это понял, было уже слишком поздно. Сыновья умерли. Дочь я выдал замуж за человека, которого ненавидел и о котором точно знал, что он не сделает ее счастливой. Прокула осталась верной слову, которое дала мне в день нашей свадьбы: «Где будешь ты, Кай, там буду я, жена Кая». В успехах и неудачах она была рядом. И однако между нами легла тень, о которой она отказывалась говорить и к которой я не имел права ревновать.
Сознавая, что происходит, я призывал смерть. Почему я сам не убил себя тогда? Не потому, конечно, что хотел лишить такой радости Калигулу. Но потому, что такая смерть была бы слишком благополучным исходом для меня. Жизнь же стала той пыткой, которую я обязан был выдержать до конца. Удар милосердия, в котором я не отказывал даже последнему из разбойников, я себе не позволил. Я должен был за все заплатить сполна, и я платил. Я не был велик ни в добре, ни во зле. Я не был способен довести до конца благородные дела, о которых мечтал, и, вопреки собственной воле, начинал предприятия, которых стыдился. Разве не проявил я изобретательность, избрав себе такое утонченное наказание: я приговорил себя к тому, чтобы жить лицом к лицу с самим собой, с человеком, которого всеми силами ненавидел.
Под моим окном аромат олеандра смешивается с запахом цветущих апельсиновых деревьев. Если встану и пройду на террасу, я могу увидеть, как поблескивают ленивые воды Тибра, почти пересохшего в начале осени. В отдалении сверкает мрамор, украшающий дом весталок. А еще дальше — золото мозаик на фасаде Палатина. Песчаная прогалина, внизу Авентинского холма, это Большой Цирк, за ним форум Кесаря, который в час, когда спадает дневная жара, запружен гудящей толпой. Я не устаю созерцать Город, с которым я так долго был разлучен; и когда слезы застилают глаза, препятствуя вновь увидеть его вечную красоту и любить его такой же любовью, я вспоминаю о Луции Аррии и его последнем желании: «Господин, когда вернешься, поприветствуй за меня Город…»
Сейчас зажгутся первые лампы в окнах, факельщики проследуют по широким улицам, открытым божественным Августом. Адельф войдет в комнату, в залу, в которой когда-то мы разбили прекрасную вазу моего отца… И я вновь удивлюсь, что увижу не юношу, а полноватого грека с голым черепом. И стану искать зеркало, чтобы убедиться, что мои пятьдесят пять не выдают меня столь же беспощадно… Интендант большого дома, хотя это и не входит в его обязанности, спросит, не пришло ли время подать носилки и какую тогу я хотел бы надеть этим вечером. И начнется новая вечеринка в императорском дворце.
Клавдий, если он не будет пьян уже к моменту нашего прибытия, захочет, чтобы я расположился возле него, и станет бесконечно вспоминать город, в котором мы оба родились, Лугдун; он любит его настолько, насколько мне то место безразлично. Я вежливо поинтересуюсь, как продвигаются работы, которые он предпринял на холме Старого Форума. Если уже захмелеет, он станет рассказывать мне скабрезные истории, которые обожает и которые я буду слушать со смущенным видом. Странно смеяться над историями о рогоносце, когда их рассказывает рогоносец, не сознающий своего положения. Как обычно, в тот момент, когда войдут танцоры, Валерия Мессалина выскользнет вон. Кесарь ничего не заметит или вообразит, что жена отправилась проведать детей… И я, как и другие, стану помалкивать.
Как ни странно, я испытываю к Клавдию истинную привязанность. Я обязан ему тем, что остался в живых, вернулся в Рим, а имущество мое мне возвращено. И не просто возвращено, я стал раз в десять богаче, чем был в момент своего возвращения из Иудеи.
Безучастные к разговорам, прыжкам танцоров и гулу музыкантов, Понтия и Прокула удалятся в тихий уголок на террасах и будут вполголоса рассуждать о том, от чего я держусь в стороне. Моя дочь нарядится в новое платье, более роскошное, чем то, что было накануне, и менее роскошное, чем то, которое будет завтра. Тит Цецилий не скупится, когда речь идет о том, чтобы продемонстрировать во всем блеске красоту его жены. Но драгоценности и уборы, которыми он ее осыпает, не делают Понтию счастливой. Что есть моя дочь в глазах Лукана? Не подруга, не любовница, но ценная вещь и его шанс когда-нибудь получить одно из тех прокураторств, о которых он мечтает. Ведь он женился не на Понтии, а на кузине Кесаря.
Ночь пролетит, и я вновь увижу, как над Римом встает утренняя заря. Не в ней ли та единственная милость, которую я некогда испрашивал у Фортуны? Кто усомнится, что я — человек, обласканный богами или какой-то неведомой силой?
Я сделал все, чтобы забыть Галилеянина. Он был распят по моему приказу, умер очень быстро, изнуренный бичеванием, и был похоронен в новой гробнице, которую Иосиф Аримафейский велел вырыть в своем саду. Я не могу постоянно возвращаться к воспоминаниям о прошлом, столь же мучительным, как мои угрызения совести. И я сделал все, чтобы предать его забвению.
Однако мне это ничуть не удается.
Во вторую ночь после смерти Иисуса бар Иосифа, незадолго до рассвета, в Иерусалиме случилось новое землетрясение. Это была одна из тех коротких и легких волн, которые обычно следуют за первым, более сильным толчком. Почти никаких повреждений не было. Но стражи, которые наблюдали за гробом Равви из Назарета, были страшно напуганы. Они утверждали, что камень, который закрывал вход в гробницу, откатился в сторону, будто невидимая и всесильная рука отбросила его, и склеп залил ослепительный свет.
Я полагаю, что те люди были трусами, из тех, кто способен издеваться над связанным человеком и кого пугает малейший шорох. Но я не могу объяснить себе, как подземный толчок, который не опрокинул даже стульев в Антонии, мог отвалить гигантский надгробный камень, переместить который можно только с помощью дюжины молодцов…
На следующее утро Флавий вошел ко мне в состоянии неописуемого возбуждения и стал уверять, что женщины, пришедшие по иудейскому обычаю на рассвете помазать умершего ритуальными благовониями, нашли гроб пустым. Позднее галл сообщил с торжествующей улыбкой, что Мириам, Иоаннис и несколько других учеников Галилеянина, вновь откуда-то объявившихся, видели его живым…
Странное дело: Синедрион вначале подкупил стражей, чтобы они сознались, что просто проспали тот момент, когда камень кто-то убрал от входа, но затем затаился, так что можно было подумать, будто эта басня его обеспокоила.
Слух о воскресении Иисуса бар Иосифа все усиливался, а некоторые из его учеников начали открыто проповедовать его учение народу.
Я не вмешивался. Только тот, кто никогда не видел распятого, способен вообразить, будто можно выжить на кресте… Что же до воскресения из мертвых… Я подвергся бы насмешкам, если бы стал преследовать приверженцев умершего царя Иудейского под тем предлогом, что они верят в его возвращение живым из Аида.
Их число все росло, ибо все больше находилось людей, готовых поверить в эту чудесную историю. Флавий вместе с сыном принимал участие в каждом их собрании. Он считал себя в долгу перед Галилеянином, и все эти россказни тешили его буйное воображение…
Стоит ли говорить, что я чувствовал себя виноватым, а потому был снисходителен к людям, которым причинил несчастье. Раза два я встретился с молодым Иоаннисом в Антонии, он приветствовал меня беззлобно. Он искал места в нашей администрации, и я решил при следующей встрече предложить ему работать у меня секретарем. Но случай не представился, ибо больше я его никогда не видел.
У меня не было времени слушать разглагольствования учеников Христа. Им частенько случалось вступать в перепалки с членами Синедриона, и за свое препирательство они расплачивались телесным наказанием. Не одобряя подобные доводы, я не мог их запретить, будучи не вправе вмешиваться в их религиозные споры.
Мне хватало дел с бандами зилотов, которые продолжали разбойничать в Иудее.
Среди целей, которые я поставил перед собой, была одна первостепенная: арестовать бар Аббу. Тем летом я провел больше ночей в седле, чем в кровати. Мы уничтожили несколько групп восставших, но нигде больше не встречали чернобородого зилота. Информаторы уверяли Флавия, что бар Абба укрылся в Египте. Но никаких иных свидетельств, подтверждавших эту информацию, у нас не было, а потому до самого дня отъезда из Иудеи я сохранял надежду отыскать этого убийцу и казнить его. Однако мысль о мести вовсе не доставляла мне радости.
Чем более жестокую политику я проводил, тем больше Тит Цецилий свидетельствовал о своем уважении ко мне. И хотя мне все еще приходилось сталкиваться с его грубостью и нахальством, я не мог не восхищаться его качествами воина, его выдержкой, энергией и храбростью. Он напоминал мне о том, что такое прежняя римская доблесть, и я был ему за это благодарен.
В сентябрьские календы Прокула родила нашего четвертого ребенка; это был мальчик, которого в память о Нигере мы назвали Луцием. Я бесконечно любил свою семью, но у меня недоставало времени ею заниматься. Так проходили месяцы, а потом из Рима пришло известие, которое положило конец моим опасениям относительно близких и позволило действовать уже без страха и сомнения. Элий Сеян, который погубил столько граждан, прибегая к услугам доносчиков, сам пал жертвой постыдной практики, которую насаждал.
Те, кто не знал Тиберия, с трудом могли в это верить, но Кесарь действительно оставался в неведении об отношениях, которые вот уже десять лет связывали его невестку Лавивилу с Сеяном. Он не подозревал, что они были любовниками и заговорщиками, виновными в смерти Друза, его сына и наследника, которого родила ему его любимая Виспания. Кесарь любил Друза так, как вообще способен был любить, не обделяя вниманием и Элия. Когда же обо всем узнал, он стал видеть в Сеяне лишь честолюбца и убийцу. Он боялся, что убив его сына и истребив его семью (а ведь по его наветам Тиберий отправил на тот свет почти весь императорский дом), Элий кончит тем, что погубит его самого. Так был подписан Сеяну смертный приговор.
Элий ничего не подозревал об этом, и смерть застигла его в тот момент, когда он выходил из курии. Плебеи, которые ненавидели Сеяна, завладели его останками, разодрали их на кровавые лоскутья и скормили псам. Его маленьких детей, сына и дочь, удавили; палачи, конечно, изнасиловали девочку, еще слишком маленькую, чтобы вообще что-либо понимать. Судьба, которую Элий уготовил многим невинным людям и которую могла разделить и моя семья, обрушилась на него и его потомство.
Против всех его близких и тех, кто был ему обязан, начались преследования, так что многие погибли, а менее скомпрометировавшие себя были уволены со своих мест, ибо Кесарь также видел в них предателей.
Поскольку у меня не было никаких связей с павшим фаворитом, эти гонения меня не коснулись. Я вспомнил последний совет Проба, который умолял меня затаиться, покуда правит Сеян; Элия больше не было, и мои руки были развязаны.
С радостью узнав, что власть вернулась к тому, кому по праву принадлежала, я решил воздвигнуть в Антонии статую Кесаря и несколько мемориальных щитов с золочеными надписями, свидетельствующих о победах, которые Тиберий некогда одержал в Германии. Эти щиты были высечены и украшены образами капитолийской Триады, Марса и Dea Roma.
Когда они были водружены на место, иудеи возмутились и потребовали, чтобы я убрал «идолов». Я категорически отказался, и ничто не могло заставить меня переменить решение. Я решил больше никогда не уступать притязаниям Синедриона.
Раздосадованный сопротивлением, на которое он считал меня неспособным, Первосвященник обратился к правителю Сирии, который, как я уже говорил, относился ко мне с неприязнью. Тот написал на Капри, сообщил Кесарю о злодеянии, в котором я был повинен, и волнениях, которые, по его мнению, могли возникнуть из-за моего упорства. Он, несомненно, намеревался мне основательно насолить; но, вопреки своему желанию, оказал неоценимую услугу.
Тиберий в равной мере ненавидел лесть и заносчивость. С другой стороны, понимая, что я хотел прославить его и его прежние триумфы, он не мог заподозрить меня в низкопоклонстве. К тому же он увидел в моем жесте свидетельство преданности и лояльности. А Кесарь теперь как никогда нуждался в подобных заверениях.
И хотя он пошел навстречу Синедриону и велел мне убрать из Антонии щиты и статую, он сделал это так деликатно, что его письмо было больше похоже на похвалу, нежели на осуждение и приказ. В выражениях, которые оказывали мне честь, он определил поместить эти объекты в моей резиденции в Кесарии, «где, — писал он, — они будут окружены почтением, которое им подобает».
Правитель Сирии едва не удавился от ярости.
Но возобновившаяся благосклонность, которой я пользовался у Кесаря, не могла заполнить мои прокураторские сундуки. Я все еще не отказался от мысли устроить в Иерусалиме акведук. Инженеры завершили составление планов, проложили маршрут через холмы от свежего, чистого и обильного источника, который бил к юго-востоку от Вифлеема.
Было ли это строительство свидетельством моего тщеславия? Еще ребенком я восхищался акведуками, которые, минуя неровные участки земли, беспрепятственно проводили воду в самое сердце городов. Красота, сила, величие: ничто лучше не воплощает деяния Рима. Согласно обычаю, источник, который благодаря мне будет питать Иерусалим, должен был носить мое имя, и много лет спустя после моего отъезда из Иудеи, даже после моей смерти, Аква Понтия будет продолжать свой бег.
Если галлам, полуварварам, пристало мечтать о вечной жизни, римлянин не может надеяться на иное бессмертие, кроме того, которое могут ему обеспечить его труды. Акведук, протянутый через холмы Иудеи, должен был стать символом доброжелательного и благодатного господства Рима.
К несчастью, мне недоставало одной существенной детали, чтобы воздвигнуть монумент Риму и себе: денег. Другие прокураторы, патриции и богатеи, имеют возможность отыскивать средства в собственных сундуках. Мое личное состояние было слишком скромным, чтобы разбрасываться им. Но отказаться от проекта я не мог и упорно искал решения. Помог мне в этом Лукан.
Помимо податей, которыми Рим облагает покоренные народы и от которых освобождены только его граждане, закон обязывает иудеев каждый год жертвовать Храму сумму, пропорциональную их доходам, — на поддержание святых мест и духовенства. Любопытно, что эти средства собираются гораздо легче, чем наши подати…
Тит Цецилий посоветовал мне потребовать необходимую сумму у священников и присоединить ее к деньгам, находящимся в моем распоряжении. Разве это было нелогичным? Акведук, который я собирался построить, был бы полезен всем, не только римлянам. Конечно, узнав получше членов Синедриона, я понимал, что они не будут стремиться оказать мне подобную услугу; но это новое препятствие, вполне предвидимое, не могло меня остановить. Я больше не был послушным и внушаемым, ибо надо мной уже не висела угроза пожертвовать за свои действия жизнью и благополучием моей семьи. Смерть Сеяна освободила меня от страха, и теперь иудеи не могли, как прежде, оказывать на меня давление. Что же до их кредита, то они однажды уже использовали его, вынудив меня принять решение, с которым я был категорически не согласен.
Я решил поговорить о моем деле с Первосвященником. Как и ожидал, я наткнулся на грубый и решительный отказ. Я не пускался в разглагольствования и не пытался хитрить. Я не был купцом с каравана, торгующим на базарной площади. Я был римлянином, и никто не был вправе отвечать мне отказом. Мне были нужны эти деньги, и, не получив их полюбовно, мне оставалось их просто взять. Я дал Титу Цецилию сильный и хорошо вооруженный отряд и отправил его за той суммой, которую требовал.
Я знаю, с помощью каких аргументов Лукан достал деньги, которые я просил. Но я не жалею, что мне пришлось прибегнуть к грубости и принуждению, чтобы получить их. Ибо уже на следующей неделе я начал первые работы.
Когда меня отозвали в Рим, Вителлий, который с недавних пор правил Сирией, остановил строительство, которое было в полном разгаре. Сильно сомневаюсь, что сооружение акведука когда-либо будет возобновлено. И если Фортуна позволит, чтобы другой прокуратор продолжил мое дело с того места, где я вынужден был его оставить, и довел до успешного завершения, никто не вспомнит о той роли, которую играл в этом проекте я. Акведук Иудеи не будет создан благодаря мне, и вода, которая по нему потечет, никогда не будет именоваться Аква Понтия… Но это лишь одна из многочисленных неудач, составивших пунктирную линию моей жизни. Несмотря на все мои усилия, я не преуспел ни в чем из того, что пытался сделать. И у меня не будет права на тот единственный вид бессмертия, на который может претендовать римлянин.
Я мысленно возвращаюсь в ту счастливую пору, когда воины делали только первые удары мотыгами и заступами в известняковых горах Иудеи, когда по дну открытых траншей были проложены первые трубы. Сколько часов провел я, наблюдая за их работой, захваченный энтузиазмом, верша одно из тех дел, которое другим народам кажется неосуществимым и которое сыновья Волчицы всегда доводят до конца? Мы были горды, и мы чувствовали себя сильными — всей гордостью и всей силой Рима.
Ничто не препятствовало нашей работе, даже мятежи, которые спровоцировал мой отчаянный безбожник. При активном содействии Лукана я безжалостно их подавил. Арестованных зачинщиков я приговорил к каторжным работам на рудниках, в Сардинии. Охотно признаю, что подобный приговор не менее жесток, чем распятие на кресте, может быть, даже еще тяжелее. Зато он принесет больше пользы Риму, ведь для работы в штольнях нужны все новые люди, поскольку даже самые выносливые очень скоро лишаются сил и слепнут от пыли.
Ненависть, которую питали ко мне иудеи, все возрастала. Но мне не было до этого дела. Ведь и я стал питать отвращение к ним. То тяжелое предчувствие в первый вечер, когда, оказавшись у стен Иерусалима, я ощутил себя раздавленным, в конечном счете оправдалось: эти люди были более грубыми и черствыми, чем камни их крепости; более грубыми, чем скала, которая обнажается под тонким покровом их безводной земли. И если у меня оставалась тень сомнения, одно грустное зрелище окончательно утвердило меня в моем мнении.
Это произошло через три года после смерти Галилеянина. Обычно не требуется столь длительного времени, чтобы затянулись самые тяжелые раны сердца, и можно набросить вуаль забвения на память о людях, которые были особенно близки. Но Иисус бар Иосиф не был забыт. С каждым днем у него появлялись все новые ученики.
Я ничуть не был удивлен этим обстоятельством, ибо мне самому так и не удалось избавиться от угрызений совести. Я был бы рад никогда больше не вспоминать о нем, но Галилеянин не оставлял меня.
Я уразумел множество вещей, но кое-что оставалось для меня непонятным. Прежде всего — возвращение его спутников, этой горстки несчастных трусов, которые в тот вечер, когда схватили их Учителя, разлетелись, как напуганные воробьи… Теперь они бесстрашно проповедовали в общественных местах, несмотря на меры, предпринятые против них Синедрионом.
Я был неспособен объяснить, в чем заключались противоречия учеников и членов Синедриона, ибо не мог вникнуть в их религиозные споры и распри. Флавий разбирался во всем этом не больше моего, поскольку, хотя и был посвящен в учение Иисуса бар Иосифа, плохо знал иудейскую доктрину. Говоря в двух словах и если я правильно понял, вот в чем суть дела: наподобие галльских друидов, ученики Галилеянина уверовали, что Учитель был не плотником из Назарета или даже Христом, то есть Помазанником, царем Израиля, избранным Ягве, но самим Сыном Ягве. Одним словом, они утверждали, что Иисус бар Иосиф был богом, и именно это послужило основанием для приговора Синедриона, по убеждению членов которого это было непростительным богохульством.
Их споры затянулись, и если первое время они не переходили границ философской дискуссии, то вскоре приняли совсем иной, гораздо более опасный вид. Синедрион пользовался религиозным авторитетом, и он никогда не стеснялся в средствах, защищая свои взгляды. Учеников Христа стали хватать, сажать на какое-то время в тюрьму, прогонять сквозь строй. Однако выяснилось, что насилие, вместо того чтобы запугать, подталкивает их к тому, чтобы еще более истово распространять свою веру. Проповеди, первоначально не выходившие за пределы Иерусалима, начали привлекать паломников, иудеев диаспоры, приходивших в святой город по случаю праздников.
В их числе был молодой грек из Малой Азии по имени Стефан. Не знаю, как Флавий познакомился и сблизился с ним. У меня был случай с ним встретиться. Стефан не говорил со мной о Галилеянине, но мы долго обсуждали с ним представления Платона о душе, и если этот малый меня не убедил, то не из недостатка таланта и аргументов. Ибо он был весьма опасным ритором и обладал разносторонней и высокой культурой.
Стефан верил, что Иисус бар Иосиф был Спасителем народов и Сыном Ягве. Это новое учение он проповедовал в синагоге, где собирались грекоязычные иудеи. Он говорил с пылкостью, хорошо знал священные тексты и толковал их как пророчества о божественности Галилеянина. И вскоре фарисеи сочли его речи подозрительными.
Я не был уведомлен ни об аресте Стефана стражами Синедриона, ни о его вызове на суд священников. У меня не было права вмешиваться, и, возможно, я бы и не вмешался, будучи убежденным, что дело кончится несколькими днями тюрьмы или, самое худшее, хорошей взбучкой.
Однажды вечером, на пути в Иерусалим после нескольких дней пребывания в Кесарии, я увидел, что чернь собралась с внешней стороны городской стены. Я знал, что означало подобное сборище: кого-то побивали камнями. Я приблизился, ожидая увидеть привычное зрелище — уличенную в прелюбодеянии женщину посреди озлобленной толпы. Но тут же увидел, что ошибся: на этот раз жертвой была не женщина, а юноша. Камень попал ему в висок, и он умирал, окровавленный и распростертый на земле. Несмотря на раны, я узнал его и потом несколько дней, растерянный, пытался понять, какое странное сумасбродство могло привести Стефана к столь жестокому и бессмысленному концу… Я не мог допустить, чтобы блестящий и образованный юноша решился погибнуть, дабы засвидетельствовать свою веру в абсурдную историю о боге, ставшем человеком, умершем и возвратившемся из Аида… А то, что Флавий, безрассудный, как все кельты, может верить в подобные рассказы, не казалось мне уже чем-то ненормальным! Но Стефан… Стефан, который рассуждал о Платоне и бессмертии души! Стефан, которому было ведомо учение стоиков, который читал Цицерона!
Я не мог понять, какая глупость погубила его, но мое отвращение к людям, способным на такую ничем не оправданную жестокость, возрастало.
Моя отяжелевшая рука придавила Иудею. А тем временем фарисеи продолжали преследовать учеников Христа, и несчастный Стефан пал лишь первой жертвой той странной мечты, за которую многие приняли смерть.
* * *
Это был весенний вечер, столь сладостный, столь прекрасный, каким мог быть вечер только в Вечном городе. Прошло девять лет с того времени, как мы покинули Рим, и теперь, когда Элия больше не было, мне стало жаль, что я оказался в этом бесславном и безвременном отдалении. Я мечтал о смене времен года в моих садах в Авентине, о редком и непродолжительном снегопаде в декабре, летней духоте, когда ночное небо становится глубоко синим, а платаны, пальмы и кедры манят своим прохладным великолепием.
Авл читал первую речь против Катилины, и я слышал, как он отчеканивает цицероновские периоды, более впечатляющие с точки зрения стиля, но не сути. Мой сын вырос, он любил литературу, и я хотел дать ему лучших учителей Рима, а потом предоставить возможность пожить в Афинах, дабы завершить образование, чего сам я, рано отправленный на военную службу, был лишен.
Свернувшись на животе у Прокулы, Луций тряс большой тряпичной куклой сестры, которая уже не нужна была выросшей Понтии. Дочери было пятнадцать, она была уже взрослой, но я отказывался это признать. Я эгоистично желал, чтобы Понтия оставалась тем ребенком, что прятался под моим столом, когда я работал. Но разве мог я помешать тому, чтобы моя дочь обрела изящество и благородство молодого лавра, стократ превзойдя надежды, которые подавала ее красота в детстве? Понтия была так прекрасна, что я опасался, что ее ждет горькая, сплетенная из желаний и притязаний мужчин, ненависти и ревности женщин, жизнь.
Склонив свою темную головку к инструменту, она тихонько играла на лире, едва касаясь струн тонкими пальцами. Вполголоса она напевала слова старинной песни, которую я знаю с колыбели: о слезах некоей Делии, оставленной ветреным пастухом.
Песня оборвалась на последнем стоне, и струны жалобно содрогнулись. Дочь остановилась на середине стиха. Я в удивлении обернулся. Как всегда, не предуведомив о своем приходе, Тит Цецилий стоял на пороге, и Понтия не могла отвести от него глаз.
Позднее, в тот же вечер, Прокула сказала:
— Поистине, Кай, ты странно слеп…
Я предпочел бы, чтобы моя жена молчала о том, что я понял только что, еще даже не сознавая этого. Но она отказала мне в такой милости. И я вынужден был выслушать все, начиная с непереносимого утверждения: Понтия любит Лукана. Более сурово, чем следовало, я спросил, любит ли Лукан Понтию. Мысль о том, что этот жесткий человек имеет под своими латами сердце и что это сердце способно волноваться, казалась мне абсурдной. Прокула ответила, что да, что любовь нашей дочери встретилась с ответным чувством и что я не должен сердиться на Тита Цецилия за тот сюрприз, который он мне преподнес.
Голосом тихим и бесстрастным жена излагала мне доводы, которые говорили в пользу этого брака. Их было много, но я догадывался, что они нашлись у нее из-за той любви, которую наша дочь испытывала к трибуну и которую мой трибун якобы проявил по отношению к Понтии. Я пытался сохранять спокойствие. Я не был ни невинной девушкой, ни сентиментальной женщиной, и я знал Лукана…
Допускаю, что для юной девушки Тит Цецилий во всей вызывающей силе своих тридцати лет мог воплощать идеал мужской красоты, очарования и соблазна. Возможно даже, как бы ошеломляюще это ни звучало, что это грубое существо было способно бормотать нежные признания, придав своим словам столько убедительности, сколько уверенности содержалось в его безупречных донесениях.
Тем более не могу отрицать, что Лукан был образцово храбр, и я слишком часто хвалил его действия в бою. Понтия не была бы римлянкой, если бы не испытывала волнение перед человеком, воплотившим в себе идеал воинской доблести.
Наконец, Лукан был из рода Цецилиев, чье благородство может сравниться с Клавдиями, с этой наиболее чистой, наиболее славной кровью Рима, которую моя жена передала нашим детям и которой Понтия была вправе гордиться.
Нужно ли мне было все это говорить? Понтии было пятнадцать, пришло время выдать ее замуж. Мы находились вдали от Рима, и если вскоре не вернемся в Италию, нам трудно будет найти для нее жениха, равного Титу Цецилию.
Но как бы ни было велико мое уважение к его качествам офицера, я не любил Лукана. Я видел, как он обуздывает взъерепенившихся лошадей и наказывает недисциплинированных легионеров. Я видел его жестоким с униженными и мягким с сильными. Я видел, как его грубость и неуемная взыскательность доводят до остервенения наши когорты. Наконец, его настойчивый совет подвергнуть бичеванию Галилеянина и инстинктивный ужас, который он внушал Иисусу бар Иосифу, решительно не оставляли места для симпатии.
Моим единственным желанием было отказать ему. Я боялся предоставить Понтию его власти, зная, как жестока и беспощадна была его рука. Она его любила или верила, что любила, ведь она была так молода! Ну что ж, поплачет день-другой и утешится! Она ничего не знает о браке, кроме той жизни, которая была у нее перед глазами. Я не сомневался, что Тит Цецилий имел о супружеской жизни совсем иные понятия. И полагал, что огорчить Понтию лучше, чем отдать Лукану, который станет не любящим супругом, но хозяином, неласковым и немилосердным.
Я попытался объяснить все это Прокуле, но она настаивала на своем. Единственное, чего я не сделал в тот момент, так это не произнес имя человека, которого трибун приказал тогда бичевать; этого было бы достаточно, чтобы оттолкнуть ее от мысли о подобном браке… Жена была права: как странно я был слеп! Если бы я не промолчал тогда о его неблаговидной роли, если бы Прокула и Понтия сразу обо всем узнали, они отвернулись бы от Лукана. Но я не хотел даже произносить при них имени Иисуса бар Иосифа. И лишь наедине с самим собой мог признать: истина, та Истина, ключ от которой Галилеянин отказался мне дать, всегда вызывала у меня священный трепет.
Я избрал молчание, то есть дал согласие на брак дочери, отдавая себе отчет, что делаю ее несчастной. Ведь Понтия была тем, что я любил больше всего на свете; чтобы спасти ее, я согласился принести в жертву невиновного, а вместе с ним и последние иллюзии, которые оставались у меня относительно моей храбрости и добродетели.
Два месяца спустя Тит Цецилий стал моим зятем.
Именно ему я обязан прекрасным советом, который ускорил ход событий, приведших к тому, что Кесарь наконец отозвал меня.
Работы над моим акведуком — тщеславие не позволяет мне называть его более скромно, акведуком Иудеи, — шли полным ходом. Я радовался такому финалу моего прокураторства; я уже видел, как он тянется своей двойной вереницей арок среди холмов, спускаясь к водоемам Соломона. Но работы шли более чем в десяти милях от пригородов Иерусалима, когда денег стало остро не хватать.
Еще раз воспользоваться золотом Храма было уже нельзя. Упорство Синедриона, глупость народа, которым он так легко манипулировал, подталкивая к мятежу, последствием чего становились многочисленные жертвы среди плебеев, не позволяли мне еще раз воспользоваться содержимым сундуков Ягве.
Из гордости я не приостановил работу, и инженеры все прибывали на равнину. Для меня прекращение работ означало бы признание неудачи, которая бросила бы тень на Рим через его прокуратора. Этого я не мог допустить и решил достать деньги во что бы то ни стало.
Случилось так, что в Палестине объявился новый пророк. Он не скрывал своей ненависти к Риму и римлянам и желания изгнать нас из страны. Он открыто подстрекал к восстанию собиравшиеся вокруг него толпы людей, которые сосредоточились у подножия горы Гаризим в Самарии.
Когда об этом доложили, я принял решение уничтожить движение, прежде чем оно станет опасным. Я рассчитывал раз и навсегда навести порядок с одобрения всей Иудеи, поскольку, благодаря туманным преданиям, истоки коих теряются в глубине веков, иудеи ненавидят самарян. Народ Самарии, который некогда исповедовал ту же веру, что и другие израильтяне, растерял ее в общении с язычниками.
Согласно древней иудейской легенде, Моисей, вождь, который освободил Израиль из египетского плена, спрятал на вершине Гаризима сказочные сокровища: священные предметы, сделанные из драгоценных металлов и инкрустированные геммами. Пророк из Самарии утверждал, что знает место, где похоронены эти сокровища.
Сокровища были нужны мне по нескольким причинам: во-первых, я намерен был препятствовать самарянам занять место наследников Моисея, что им несомненно удалось бы, если бы они сумели отыскать клад; кроме того, Рим не должен был воплотить собой новый Египет для этих на все способных фанатиков. Наконец, я намерен был избежать того, чтобы благодаря сокровищам приобреталось обращенное против нас оружие. Если бы нам удалось овладеть кладом, он позволил бы мне завершить работы над акведуком.
Я не был склонен гоняться за золотом. У меня никогда не было крупного состояния, но в юности мне не раз случалось пускать деньги на ветер. Сооружение акведука стало моей сердечной заботой, и в этот единственный раз в жизни я страстно желал получить это наследство. Жалкое тщеславие…
На вершине Гаризима никаких сокровищ не было, но ни я, ни Лукан этого не знали. Мы разнесли в клочья самарян, никого не пощадив. Мы бросили на растерзание диким зверям тысячи трупов, среди которых было немало женщин и детей. Но драгоценностей Моисея так и не нашли.
Тит Цецилий легко посмеялся над тем, что он назвал ошибочной оценкой ситуации. Я же был в бешенстве, ведь в глубине души я испытывал отвращение к этой бессмысленной бойне. Однако, по правде говоря, выбора у меня не было: безжалостно подавить восстание в Самарии было моим прямым долгом. Я представлял Рим, а Рим никто не должен был заподозрить в слабости.
Ни один правитель, ни один римский прокуратор не может позволить себе править мягко, если речь идет не о мирной провинции; когда покорная нашей воле страна выказывает неповиновение, старая Волчица прибегает к силе как своему последнему и самому главному аргументу. Я всегда это знал, хотя поначалу не раз проявлял щепетильность. Но благорасположение и сочувствие к народу Иудеи умерли во мне, когда он вынудил меня осудить того праведника; обезображенное ударами лицо и израненные хлыстом плечи, прикрытые плащом Нигера, я слишком часто видел перед собой и никогда не мог забыть. Да, конец моего прокураторства был кровавым, но ничуть не кровавее, чем у моих предшественников. Вот почему отзыв в Рим был вполне естественным завершением моей миссии после десяти лет пребывания в Палестине.
Отозвав меня, Кесарь Тиберий тем самым не выказал мне никакого неудовольствия, и, если бы обстоятельства моего возвращения не были бы столь несчастными, я вполне мог рассчитывать на повышение.
Письмо Кесаря Тиберия пришло в последних числах октября, когда морское сообщение как раз прервалось до весны. В послании императора не было даже намека на то, что необходимость моего появления в Риме вызвана срочными обстоятельствами; поэтому, не желая испытывать тяготы наземного пути, я спокойно ожидал благоприятной для морского путешествия погоды. Марцелл, которому предстояло меня заменить, должен был появиться в середине февраля, и я рассчитывал к этой дате снарядить корабль в Мизен.
Я покидал Иудею без спешки и угрызений совести. Ирод и Вителлий упорно интриговали, чтобы добиться моей опалы, но их происки не увенчались успехом. Повод, которым они пытались воспользоваться, — бойня в Гаризиме — никого не мог ввести в заблуждение в Палатине… Не думаю, что письмо тетрарха к Тиберию, то самое, которое Гай сунул мне под нос как неопровержимое свидетельство обвинения, смутило его дядю. Ирод описывал меня как человека «негибкого характера и безжалостно жесткого». Я был удивлен, что Антипа плохо судил обо мне. Увы, я знал себя довольно, чтобы отдавать себе отчет в чрезмерной наклонности к разного рода уступкам и излишней расположенности к сочувствию. Письмо Ирода означало, что я удачно сыграл свою игру и тот оказался неспособен обнаружить мои истинные слабости. Я не брал на себя труд опровергать другие его обвинения, все они не были беспочвенны. Он говорил о коррупции, и это отчасти было правдой, я знал, что некоторые из моего окружения имеют порочную склонность к деньгам. Он говорил о «насилиях, грабежах, притеснениях, унижениях, постоянных казнях без предварительного разбирательства, о необузданной и непереносимой жестокости»; не стану отрицать, во всем этом была правда. Но пусть хотя бы один правитель поклянется Фортуной Рима, что ему не приходится действовать таким образом, на многое закрывая глаза и частенько марая себе руки! Разве можно не отдавать себе отчет в том, что целостность Империи и римского мира достигаются именно такой ценой?
Я давно размышлял, вправе ли был Рим использовать подобные методы. По сути дела, обвинения Ирода в глазах римлянина порой звучали как хвала. Кесарь Тиберий это сознавал. И в его письме не было осуждения. У меня не сохранился оригинал, но я помню несколько фраз:
«Слишком долго ты находился далеко от Города. Здесь тебя ожидают другие дела. Марцелл заменит тебя в Иудее. Мы выражаем желание, чтобы его правление удовлетворяло нас так же, как и твое, и чтобы по твоему примеру он смог в течение более десяти лет сохранять наше полное доверие».
Нет, божественный Тиберий не подверг меня опале, и я обязан манам тем, что могу повторить это еще и еще раз.
Мы пустились в путь в февральские иды. Единственное, что нас печалило, когда мы покидали Иудею, было то, что мы оставляли здесь нашу дочь, так как Лукан отказался переменить место жительства, решив остаться в Кесарии. Для собственного спокойствия я поручил Понтию попечению Флавия. Я гораздо больше рассчитывал на молчаливую бдительность и действенную поддержку моего галльского центуриона, нежели на своего зятя.
Первые дни путешествия прошли без помех, и мне даже доставляло удовольствие это безмятежное плавание. Потом большая буря застигла нас вблизи Кипра. Я слышал, как некоторые капитаны рассказывали о страшной ярости Британского моря, и что они, бывало, отчаивались достичь Лондиния или Гезокрибата; но, добавляли они, ничто не сравнимо со штормами Средиземного моря по их внезапному неистовству. Я убедился в этом на жестоком опыте.
Я ничего не смыслил в морском деле и потому не знал, грозит ли нашей триреме хоть малейшая опасность. Конечно, я слышал множество рассказов о кораблекрушениях, начиная с истории греческого судна, на борту которого путешествовал мой отец и которое разбилось о родосский берег, не успев затонуть. Почти во всех случаях эти мрачные истории касались торговых кораблей. Моя римская гордость побуждала меня верить, что подобная участь никогда не будет угрожать нашей флотилии. Если и могло случиться, что один из наших кораблей тонул, то исключительно в ходе сражения, как было с галерой, которой командовал мой дед в Акции. Я не сознавал опасности, и, наверное, это было к лучшему. К тому же я не сомневался, что команда отлично знала свое дело, и я верил в нее.
И потом, почему бы прямо об этом не сказать? Я плохо переносил море. Бортовая качка вызывала у меня такие страшные приступы морской болезни, что порой я малодушно желал, чтобы меня поглотили волны, лишь бы положить всему этому конец.
К счастью, Прокуле было неведомо это мерзкое состояние, так что она могла оставаться возле меня и ухаживать за мной. Не знаю, как мог я написать слова «к счастью». Ведь если бы я не был беспомощен и жалок, как новорожденный, моя жена имела бы возможность уследить за нашими детьми. Из-за меня ей пришлось поручить заботу об Авле и Луции слугам. Так по воле Рока и произошла трагедия.
Через три дня ветер наконец утих. Волны стали уже не такими высокими, и на гребне каждой вспенивались маленькие барашки. Я настолько лучше стал чувствовать себя, что даже вспомнил Лукреция и его героя, который, сидя на берегу и наблюдая, как на море терпит бедствие корабль, радовался, что находится в безопасности.
Прокула отодвинула занавес, так что мне стала видна прозрачная ясность весеннего неба, очистившегося от облаков. Умиротворенное море светилось изумрудной зеленью с отблесками лазури и вспыхивающими, подобно тысячам алмазов, искрами. Веселая стайка дельфинов резвилась у носа корабля. Они были так проворны, что мы едва успевали разглядеть их серые спины, прежде чем они вновь погружались в воду. Забыв о сдержанности, которая, как он думал, пристала тринадцатилетнему римлянину, Авл смеялся и хлопал в ладоши. Он обернулся к нам, воскликнув:
— Папа! Мама! Смотрите! Правда, они чудесны?
Смех его был так заразителен, что веселье передалось и нам. Этот смех, радостный и самозабвенный, будет преследовать меня до смертного часа. Внезапно Прокула, перестав смеяться, хриплым от волнения голосом спросила:
— Кай, ты видел Луция?
Нет, я его не видел. Да и как мог я его видеть? В течение трех дней я не покидал своей лежанки, безразличный ко всему, что не касалось качки и унизительных спазм моего желудка, тем более непереносимых, что, ничего не получая, он тем не менее тщетно пытался опустошиться.
Нет, я не видел Луция. Мой желудок сжался от боли. Глаза Прокулы расширились, а лицо стало пепельно-серым. Резким тоном, за которым пытался скрыть панику, я спросил у Авла:
— Где твой брат?
Смущенный моим тоном, сын, заикаясь, жалобно произнес:
— Я не знаю!
Конечно же, он не знал. Можно ли требовать от тринадцатилетнего мальчугана, чтобы он следил за игрой пятилетнего малыша, когда для этого имеется с полдюжины слуг? Авл смотрел на нас удивленно, но, по мере того, как он начал понимать, что нас испугало, я увидел, как и на его лице отобразились недоумение и ужас. Он неловко объяснил, что оставил брата на руках у слуг, которые, как и я, страдали от морской болезни… Теперь они беспомощно молчали. Мы обыскали трирему, мы несколько раз обшарили трюм, снасти, все углы и закоулки в надежде, что где-то затаился наш ребенок.
Луция мы так и не нашли.
Мы так никогда и не узнали, что сталось с нашим сыном. Должно быть, волна подхватила его и вынесла за борт. Вспоминая бесконечную агонию Кая, я тщетно утешал себя тем, что тот умер очень быстро; меня мучила мысль о том, как тонул, беспомощно барахтаясь, мой перепуганный до смерти малыш. Каковы же должны были быть страдания матери? Беспомощный, неспособный найти слова поддержки, я молча обнимал Прокулу, которая невидящим взором смотрела на это прекрасное, покойное море.
Бесконечная пустота, с которой я боролся прежде, отдаваясь работе и непрестанно посвящая себя моим делам, вновь закралась в глубины моей души. Смерть Луция вновь вернула мне ощущение собственной слабости, одиночества, вызвала неотступное чувство страха. Жизнь вновь стала казаться мне чудовищной и жестокой комедией. Я никогда не знал ответов на главные вопросы, которые она ставила передо мной. И однако порой мне казалось, что я должен когда-то эти ответы получить.
Мы пристали к берегу в Мизене в мартовские иды, роковую для Рима и его правителей пору: в это время умер Кесарь, а Кай появился на свет…
Трудно сказать, было ли то чистым совпадением: те мартовские иды, когда Кай Калигула праздновал свой двадцатипятилетний юбилей, знаменовали конец божественного Тиберия, прожившего семьдесят восемь лет.
Едва мы причалили, я узнал о его кончине и о том, что ему наследует его племянник Кай. Как ни было тяжело мое горе, вызванное потерей сына, печаль не ослепляла меня настолько, чтобы уразуметь, что значил для меня уход Тиберия…
Благосклонность, которой пользовался у Кесаря мой отец, восходила к эпохе, когда Тиберий Клавдий Нерон почти не имел шансов прийти к власти; она распространялась и на мою персону. До истории со щитами я понятия не имел о той симпатии, которую кесарь ко мне питает, хотя и симпатия его была опасной, как и все, что касалось этого человеконенавистника с острова Капри. Однако только его хорошее отношение помогло мне избежать печальной участи в дни, когда Элий был у власти. Я возвратился в Италию в полной уверенности, что мое прокураторство получило одобрение всевластного кесаря, о чем он и написал мне в письме.
Смерть Тиберия Августа мигом все изменила, тем более что к власти пришел человек, имевший все основания меня ненавидеть.
Много народу пострадало за те четыре года, пока Кай правил государством. Еще больше было обмануто счастливым началом его правления… Что до меня, то я начал испытывать страх в то самое мгновение, когда, объявив о своем приезде, попросил аудиенции. Я понимал, что он сохранил мне жизнь лишь потому, что не желал прежде времени открыть Риму свое истинное лицо, принуждал себя к великодушию, чуждому его натуре.
Он потребовал от меня отчета о моем прокураторстве, его дядя меня от этого освобождал; он явно был намерен наказать прокуратора Иудеи за мнимые нарушения из мести трибуну, который был врагом Германика, его отца. Кто-то позаботился о том, чтобы подсунуть Каю рапорты, которые я посылал на Германика. Ибо в первые месяцы своего пребывания у власти Кай, который позднее оскорбил богов и законы, бросая к себе в постель своих сестер, выставлял себя образцовым сыном и братом.
Он решил осудить меня, не разобравшись и не выслушав, основываясь лишь на обвинениях Ирода и Вителлия, а потому отказался меня принять. Я и слова не смог произнести в свою защиту: все мое состояние было конфисковано, я был обязан покинуть город и удалиться во Вьенну.
X
Жизнь изгнанников, заброшенных на необжитые скудные земли в варварских странах, невыносимо тягостна, чего нельзя сказать о моей жизни в городе Вьенне, в котором все дышало римским порядком.
Аллоброги даже прозвали свой город Римом галлов под тем предлогом, что при желании его можно считать построенным на семи холмах… Утверждать подобное — значит зайти слишком далеко. Тем не менее Вьенна — вполне пригодное для жизни место. Здешний храм Августа и Ливии не лишен величественности, есть цирк и театр. Что же касается дома на правом берегу Роны, в котором мы коротали дни, то он был прекрасно устроен, если не считать тех трудностей, которые я испытывал с его отоплением. Мне нравились даже мозаики, которые украшали атриум.
Думаю, при других обстоятельствах я мог бы жить во Вьенне вполне счастливо. Но обстоятельства отнюдь не благоприятствовали моей счастливой жизни.
Более десяти лет я провел в Иудее, и удаленность от Рима начинала меня сильно удручать. Поэтому я с радостью ожидал завершения своего прокураторства. И вот, едва возвратившись, был приговорен к новому изгнанию, конца которому не было видно. Опала коснулась всей семьи, и я не мог не задаваться вопросом, какое будущее уготовил для Авла. Я был лишен родового имения, моим детям нечего было унаследовать. Вилла в Кампанье, земли, унаследованные от матери, и те, что переданы Понтиями в Самниуме, прекрасный дом в Авентине — все это нам больше не принадлежало.
Наконец, по мере того как безумие Кая день ото дня возрастало, зная ненависть, которую он ко мне питает, я начал опасаться за свою жизнь, убежденный в том, что никто не заступится за меня в Риме, где разразился террор, более жестокий, чем при тирании Сеяна.
Когда я говорю, что опасался за свою жизнь, это вовсе не означает, что меня страшила смерть. Я никогда не поддавался такому малодушию. Не раз сталкиваясь с ней лицом к лицу, я не видел в этом ничего иного, кроме возможности освобождения и вечного покоя. Кай мог послать за моей головой палачей или потребовать, чтобы я вскрыл себе вены: я не боялся такой развязки.
Но мне не хотелось доставить такую радость Кесарю Калигуле. Мне не хотелось умереть вдали от Рима, оставив моего Авла перед лицом непереносимых трудностей. Наконец, и в первую очередь, меня терзала мысль о том, на кого я покину Прокулу. Легко ли было мне думать о ее одиночестве в чужом городе, без состояния, без семьи, без друзей и поддержки? Проще всего ждать смерти, когда никто в тебе не нуждается.
Больше, чем привязанность к этой жизни, меня держали любовь и долг. Ради близких я должен был бороться и принести себя в жертву. Именно ради них я решил выжить вопреки Калигуле.
Оказалось, что префект в Лугдуне некогда служил вместе со мной в Германии. Не будучи друзьями, мы с уважением относились друг к другу. Я понадеялся, что он вспомнит об этом, и попросил у него об одолжении: дать Авлу место офицера.
Мой старый товарищ не пренебрег моей просьбой. У меня были и другие поводы убедиться, что он остался человеком смелым, способным на благородные поступки, и это вопреки Каю, которого он имел несчастье поддерживать в течение многих месяцев в Лугдуне… И хотя моему сыну было всего шестнадцать лет, он дал ему чин трибуна-ангустиклава, как я и просил.
Я считал, что поступил правильно. Из трех моих мальчиков Авл единственный остался в живых, и хотя я знал о его склонности к учебе, мысль о том, что он не захочет оказаться на военной службе, меня даже не посещала. Служить Риму всегда было единственной заботой Понтиев, и эта служба подразумевает обязательное исправление военных должностей.
Авл был слишком молод для такой службы. Я это знал, и мое сердце не настолько очерствело, чтобы не содрогаться от того, какую ношу я взвалил на моего ребенка. В других обстоятельствах я предоставил бы ему отсрочку на четыре или пять лет, приставил бы к нему лучших учителей, обеспечил бы возможность совершенствоваться в греческом и философии, послал бы его на стажировку в Афины.
Возможно, тогда мне пристало набраться терпения и выждать… Возможно, мне не следовало так поспешно решать судьбу сына… Если бы у меня было время поразмышлять, я увидел бы, как он еще мал, как поглощен своими книгами и занятиями. Мне стоило дать ему время подрасти, обучиться и окрепнуть. Мне стоило послать его на год или на два в университет… Но я об этом даже не думал.
Я был убежден, что Кай решил покончить со мной и что он не позволит мне долго оставаться в живых. Если бы я погиб по распоряжению Кесаря, какие шансы на карьеру оставались бы у моего сына, последнего из Понтиев, у которого уже не было нашего фамильного состояния? Я надеялся поставить Авла на путь, какой мой собственный отец уготовил для меня.
Я забыл, как в детстве мне недоставало материнской любви. Возросший без заботливых рук Туллии, которую я погубил своим рождением, я окреп гораздо раньше, чем другие мальчики. Нежность Прокулы окружала нашего сына и ограждала его, препятствуя ему слишком рано открыть для себя жестокость жизни и мира. Она помешала ему научиться себя защищать. Я вытащил Авла на арену, не вооружив, в нелепой уверенности, почерпнутой из собственного опыта, что он сумеет выстоять в одиночку.
Я слепец, который всю жизнь пытался руководить другими…
Ни Прокула, ни Авл не протестовали. Я был уверен, что они одобряют мой план. Почему я должен был думать иначе? Я не принадлежу к тем отцам семейств, которые тиранствуют среди своих близких. Моя жена никогда не боялась давать мне советы, которые я всегда выслушивал и которым часто следовал. Лучшим тому доказательством служит то, что она вынудила меня одобрить брак Понтии, хотя это было для меня крайне неприятно. Я никогда не запрещал детям говорить со мной откровенно, не боясь моего гнева. Если бы Авл сказал мне хоть слово…
Но что бы я ему ответил, если бы сын поведал мне о своем желании учиться и отсутствии склонности к военной службе? Смог ли бы я отказать ему, глядя в глаза, в годичном курсе риторики в Августодуне, о котором, как я позднее узнал, он мечтал? Нет! Я попытался бы обсудить с ним это дело как мужчина с мужчиной; я постарался бы разъяснить ему наше положение и растолковать, почему я так поспешно снаряжаю его в путь и почему для него остается открытой только военная карьера. Если бы он понял, если бы он согласился, мне не пришлось бы потом сожалеть, что я не поговорил с ним о его будущем.
Но Авл ничего не сказал. Он безропотно смирился с решением, которого, несомненно, не понимал.
Что же до Прокулы, то она замкнулась в молчании, с каждым днем все более тягостном. Часто я заставал ее у окна, со взором, теряющимся вдали, далеко за бурной Роной, где проплывали груженые шаланды рыбаков. В ее глазах стояли слезы, и я боялся узнать их причину.
Авл покинул нас серым и хмурым ноябрьским утром. В садах Вьенны больше не было ни листьев, ни цветов, ни плодов. И ветер, который, завывая, врывался в долину, приносил весть о скором снегопаде.
Только впервые увидев своего сына в форменной одежде, я осознал, насколько он юн и хрупок. Красный цвет его плаща придавал ему особую бледность. Он хотел обнять меня, как ему казалось, по-мужски, но я почувствовал, потрясенный, что его худые руки дрожат и что он не может с этим совладать. Это был маленький, застенчивый, слишком серьезный мальчик, который читал в своем уголке Цицерона, и я задал себе вопрос, напуганный своей собственной бесчувственностью, как могло мне прийти в голову сделать из него молодого офицера, который разыгрывает из себя мужчину, чтобы ободрить свою мать.
Его голос был тих, и, охваченный бесконечным состраданием, я вообразил его непредвиденно соскальзывающим в фальцет, когда он будет произносить команды. Я почувствовал желание удержать его, вновь обратиться к префекту, придумать не знаю какие извинения и оградить моего ребенка.
Но я преодолел свою минутную слабость. Воспоминание о старом Бруте, потребовавшем головы своих сыновей, о старом Горации подействовало на меня в тот момент, когда я готов был поддаться слабости. Я воззвал к их теням. Римская доблесть пришла мне на помощь, и я бестрепетно наблюдал, как мой мальчуган уходит навстречу своей судьбе.
Авл к нам больше не возвратился.
Год спустя один легат из Германии, имя и лицо которого мне были незнакомы, сообщил нам, что наш сын погиб геройской смертью во время разведывательной вылазки за Рейном. Там было волнение среди нескольких племен.
Командир Авла не сообщил никаких подробностей, и я отлично понял, что означало это молчание… К счастью, Прокула не могла догадаться! Но я-то знал, ибо видел, от каких ужасающих пыток на моих глазах скончался Марк Сабин.
Я отрешенно ожидал неизбежных упреков от жены. Но она оставалась прямой, молчаливой, сосредоточенной на своих мыслях, в которых для меня уже не оставалось места.
В то время она начала грезить о Галилеянине. Обнаружив, что она так сильно взволнована своими снами, я стал их опасаться, не понимая, что они были для нее спасительными. Как мог я понять, что она черпала в них силу, помогающую смириться со столь невообразимой жертвой, какой была смерть наших детей? С жертвой, которой просил у меня Галилеянин и на которую у меня не было мужества согласиться…
В годы траура, молчания и слез, в эти тягостные годы я взялся писать свои воспоминания, чтобы отвлечься от тоски, но больше всего для того, чтобы Понтия когда-нибудь узнала, каким человеком был ее отец.
Кроме нее у меня никого не осталось, а ее редкие письма свидетельствовали о том, что написаны рукой женщины, узнавшей много горечи и бед. А ведь моей дочери в ту пору не было еще и двадцати.
У Понтии не было детей, и я догадывался, что Лукан, не мучаясь угрызениями совести, бросил ее. Когда Тит Цецилий женился, он брал в жены кузину Кесаря и этим обеспечивал себе прекрасное будущее; теперь вдруг оказалось, что он женат на дочери изгнанника, лишившегося всех возможных благ.
Став после смерти братьев нашей единственной наследницей, Понтия ничего не унаследовала. Бесплодие, которым, возможно, была поражена не она, а ее супруг, лишило меня последней надежды и единственного утешения усыновить одного из моих внуков и таким образом предотвратить угасание рода Понтиев, последних отпрысков тех самнитских правителей, которые одержали победу в Кавдинском ущелье.
В последние годы прокураторства мне казалось, что я почти забыл Галилеянина. Я убеждал себя в том, что совершил не что иное, как самый обычный акт правосудия, хотя решение шло вразрез с моим желанием и моими убеждениями. Мне удалось убедить себя, что иначе события развиваться не могли.
Но во Вьенне, наедине с самим собой, я осознал, насколько смехотворны и лживы мои попытки оправдаться. За всю мою жизнь необходимость, закон и благо Рима обязали меня совершить немало жестоких деяний и пролить немало крови; чем бы я ни руководствовался при этом, за те деяния и ту кровь я был в ответе. Но тут я никак не хотел признать свою вину в гибели Иисуса бар Иосифа, приводя тысячу оправданий. И в то же время я не мог себя простить, а тем более забыть, что произошло.
Прокуле снился Галилеянин. Что до меня, то мне не было нужды грезить, чтобы вновь видеть его лицо, чтобы слышать его голос и размышлять над его словами. Десять раз на дню все это всплывало в моей памяти. Слова, которые он обращал ко мне, навсегда запечатлелись в моей душе, и, хотя я их даже не всегда понимал, к моему удивлению, я все чаще возвращался к ним, чтобы проникнуть в их тайный смысл. Кому принадлежали эти слова: восточному ясновидцу или царю? Не был ли Галилеянин всего лишь бедным плотником, исполненным вздорных видений, который, как и всякий другой, дрожал перед крестом? Откуда он мог знать, что делает и почему? Я ли его осудил или он осудил сам себя, сознательно и по соображениям, которые от меня ускользают?
Мне вспомнились те странные слова, которые он адресовал своим ученикам и которые так подействовали на Луция Аррия, что он затвердил их и повторил умирая: «Отдать свою жизнь за тех, кого любишь…»
Мысль, что я был свидетелем мистической жертвы, бесконечно возвышенной, вновь стала навязчиво меня преследовать. Многие любили Город настолько сильно, что готовы были умереть за него. Мне вспоминается, как, сидя у изголовья умирающего сына, я был готов, если бы какой-нибудь бог явился мне, выкупить его жизнь ценой собственной, даже если бы мне пришлось переносить страшные муки. Я знал, что из любви можно пойти на смерть, и Нигер, утверждая, что это легко, несомненно говорил правду. Но каким бы соблазнительным ни было это предположение, ему недоставало одного звена: если Галилеянин умер, чтобы спасти другого, кто был тот человек, кого он так беззаветно любил?..
Мне вспомнился тот порыв, который толкнул меня к Иисусу бар Иосифу, порыв безумной надежды, которая перехватила ритм моего сердца. Одно мгновение, вопреки здравому смыслу, я думал, что этот человек был именно тем, за кого себя выдавал: царем, богом. Богом, который был единственным непререкаемым основанием моего бытия. Я даже поверил, что он может дать мне во сто крат больше, чем дала жизнь, вернуть то, что я потерял. Эта уверенность, хоть и мимолетная, показалась мне стоящей любого риска, любой жертвы. Ради обетования, которое должно было осуществиться через него, можно было согласиться пойти на смерть, в муках воспевая гимны.
Но если я во все это верил, как мог я его оставить? Почему мне пришлось поставить на чашу весов эту призрачную надежду и жизнь моих детей?
И к чему привел тот чудовищный выбор, перед которым я оказался? Я допустил смерть Галилеянина, но не спас тех, кого любил. Мысленно возвращаясь к моим умершим сыновьям, к несчастной дочери, к жене, я не мог не признать, что ошибся. Сухие рыдания сдавливали горло. Тысячи вопросов, которые я должен был обратить к Галилеянину и которые удержал в себе, вращались в моей голове, и я сознавал, в полной растерянности, ничтожество и глупость тех, которые я успел задать и на которые он не ответил. Теперь я знал, что я упустил свой шанс. И уже не было возможности что-либо поправить, как бы мне этого ни хотелось. Мои вопросы навсегда останутся безответными. Я осудил этого человека на вечное молчание. И я сам равным образом на него осужден.
Но может быть, это бред больного воображения, и Галилеянин сам не знал никаких ответов? Солнце будет вставать и садиться; мужчины и женщины будут рождаться и любить друг друга, порождая других мужчин и женщин, которые, прежде чем умереть, будут вечно ткать то же полотно надежд, мечтаний, несчастий и страданий. И ничто никогда не сможет изменить этот ход вещей.
Прокула сохранила альбом, в который она записывала слова Галилеянина. Я не осмеливался попросить его у нее, хотя часто заставал ее погруженной в чтение со странной лучезарной улыбкой на губах, такой, с какой она когда-то смотрела на меня… Я хотел, чтобы она сама предложила мне его почитать, но она не слышала моей молчаливой мольбы. Нелепая мужская гордость, представления о римской мужественности не позволяли мне прийти к жене, упасть на колени и плакать, умоляя ее объяснить мне то, что я никак не мог понять. Впрочем, я и не считал себя достойным даже малейшего объяснения.
— Что есть истина?
Мой неразрешимый вопрос обречен остаться без ответа. Я знал, что это наказание, которое заслужил, и не пытался от него скрыться.
* * *
Курьеры регулярно останавливались во Вьенне. Все они приносили из Рима невероятные новости, рассказы о бедствиях и преступлениях.
Кай Кесарь впал в безумие. Расторгнув брак со своей супругой, он по примеру египетских фараонов сделал своей женой одну из сестер, Друзиллу, и, облачив ее в пурпур, взял Империю в свидетели своего кровосмесительства.
Он презирал Сенат, забывая, что ни божественный Август, ни божественный Тиберий не упускали случая почтить его. Не вызвав со стороны сенаторов и слова осуждения, он вытянул у них согласие на ужасное оскорбление: консульский титул для любимого коня, Инцитата, который в сотый раз добился победы на бегах в Большом цирке…
Рим погряз во всяких мерзостях. Гонения следовали за гонениями, за одной насильственной смертью шла другая. В ужасающей атмосфере, в которой каждый день приносил известие о новой смерти, подстроенной Калигулой, по Городу пронесся слух — никого не удививший, — что я добровольно разорвал Нить моих дней, так как не выдержал участи изгнанника.
Не знаю, кто распространял этот слух, но, кажется, он спас мне жизнь. Разум Кая, который никогда не был ни великим, ни сильным, померк. Официального сообщения о моей мнимой кончине было достаточно, чтобы удовлетворить чувство ненависти, которое он ко мне питал и которое все его не отпускало. Не в состоянии уже размышлять, он легко поверил, что меня больше нет, не попытавшись даже выяснить достоверность этого слуха, ведь скромную пенсию, которую Республика выделяет для изгнанников, мне продолжали исправно высылать.
В это же самое время несчастья обрушились на моего старого врага Ирода. Воодушевленный тем, что с участием Вителлия ему легко удалось добиться моей опалы, и не ведая, что Кай менее восприимчив к своим придворным льстецам, чем божественный Тиберий, Антипа вообразил, что стал другом Кесаря, рассчитывая на новые почести и усиление своего влияния. Случилось так, что один из племянников Ирода, молодой Агриппа, ровесник Калигулы, сблизился с ним. Он так успешно угодничал перед Каем, так основательно настроил его против Антипы, что добился отставки дяди и ссылки в Аквитанию, после чего сам занял его место тетрарха Галилеи.
Ирод, а вместе с ним состарившаяся и утратившая былую красоту Иродиада, а также ее дочь Саломея, давно утратившая свежесть и привлекательность, оказались в том же положении, что и я.
Это произошло той страшной зимой, когда выпало небывало много снега, рощи оливковых и миндальных деревьев замерзли и птицы, на лету каменея, падали с неба.
Зима подходила к концу, когда Ирод и его семья по дороге к роскошной вилле на границе Гаронны прибыли в Лугдун. Покидая город, они, желая сократить себе путь, поехали в объезд через Рону. Первые повозки пересекли реку благополучно, но их тяжесть проломила лед, истонченный приближавшейся весной. Пятой повозке, с Саломеей, не суждено было достичь противоположного берега: лед проломился, и воды Роны навсегда поглотили всех, кто там был.
Не исключено, что этот несчастный случай и та связь, которая существовала между именем Ирода и моим, спасли меня. Ибо спустя несколько недель Кай, в свою очередь, приехал в Лугдун. Если бы он не считал меня уже мертвым, разве он отказался бы от удовольствия казнить меня? Его больной рассудок забыл обо мне, и ни у кого не хватило жестокости напомнить ему о моем существовании. Сумасбродства, которые он совершал на протяжении своего пребывания здесь, вскоре настроили всех против него, ибо он был способен на самые жуткие преступления. Ни во Вьенне, ни в Лугдуне никто не додумался сообщить ему, что Кай Понтий Пилат, которого он считал умершим, жив и находится в одном конном переходе от Лугдуна, на другом берегу Роны. Я же не знал об этом и все ждал гонца, который должен был привезти мне мой смертный приговор.
И все же я смертельно побледнел в то утро, вскоре после отбытия Кая в Рим, когда увидел, как гонец сворачивает с дороги и спешивается перед моим домом. Разве мог я угадать, какую весть он привез на самом деле? Мне удалось сохранить перед прибывшим невозмутимый вид и даже сломать императорскую печать недрогнувшими руками. Я был уверен, что знаю содержание письма, и испытывал чуть ли не любопытство, как Кай Кесарь составил приказ и каким поводом воспользовался, чтобы обосновать мой смертный приговор. Но оказалось, что я ошибся.
Вот что я прочел:
От Тиберия Клавдия Нерона
его дорогому Каю Понтию Пилату привет!
Несомненно, что, пребывая в таком отдалении, хотя и вблизи нашего любимого града Лугдуна, столице Трех Галлий, ты еще не знаешь о событиях в Риме. Знай, что они изменили судьбу Города и мира, а равным образом и нашу.
Начну с того, что сообщу тебе, не опасаясь, что новость погрузит тебя в большую печаль: Кай Кесарь Август скоропостижно отправился соединиться с богами. Рим начинал уставать от египетских ритуалов и возведения лошадей в консульское достоинство, а также от того, что его граждан стали приговаривать к смерти на потеху помешанному. Ты должен был знать, даже во Вьенне, что Кай Кесарь любил сетовать на то, что, будь у народа одна голова, ее было бы легче отрубить. Сенат и римский народ не могли долго терпеть подобные шутки.
Итак, Кай мертв, и он не оставил наследника. Но Рим не пожелал, чтобы род божественных Юлиев и Клавдиев прекратил претворять его судьбу. Сенат пожаловал пурпурные одежды мне.
Ты не улыбаешься, дорогой Кай Понтий? Я знаю, ты не улыбаешься. Даже тогда, когда весь Город посмеивался над твоим кузеном Клавдием из-за его заикания и тиков, ты не смеялся. За много лет до того, как ты стая супругом нашей дорогой Клавдии Прокулы, когда ты был еще ребенком, ты порой сопровождал своего отца или бабушку во время их визитов в Палатин. И, единственный из мальчишек нашего возраста, не избегал меня. Мне вспоминается день, когда Августа развлекалась тем, что публично выставляла меня на посмешище, а ты проскользнул ко мне, взял меня за руку и пожал ее, чтобы меня ободрить. Ты никогда не верил, что я был дураком и простофилей, которого должны стыдиться братья и родители. Видишь ли, Пилат, порой необходимо надевать на себя необычные маски, чтобы, как любил говаривать божественный Август, играть комедию жизни. Разве без подобной предосторожности мне удалось бы избежать ненависти Элия Сеяна, Калигулы и других? Имел ли бы я право на жизнь, если бы они хоть на мгновение могли предположить, что я не был дегенератом, каким прикидывался?
Со своей стороны, я никогда не претендовал на почести и я всегда предпочитал мои занятия, древних этрусков и фаршированные белые грибы всем мнимым радостям власти. Но Рим повелевает, и ни один римлянин не вправе пренебречь его волей.
Итак, я занял первое место в Республике. Моим первым постановлением тебе возвращено, десятикратно умноженным, твое состояние, отнятое Каем, включающее дом в Авентине и владение в Кампанье, а также наследственные земельные угодья Самниума, которые ты найдешь возросшими.
Мы ждем тебя с нашей дорогой Клавдией Прокулой здесь, в Риме. Оставь Вьенну как можно скорее, твое отсутствие слишком затянулось. И приходи поздравить меня с моим возведением на Палатин.
Будь здоров!
Тиберий Клавдий Кесарь.Клавдий облачен в пурпур… Это была самая неожиданная новость, самая невероятная и счастливая!..
Наподобие заговорщиков мартовских ид, которые «действовали, как мужчины, и рассуждали, как дети», убийцы Калигулы взялись за дело, не затрудняясь вопросом, как они распорядятся его телом. Оказавшись перед трупом, они вдруг поняли, что должны найти ему преемника. Так, случайно, они обнаружили Клавдия, укрывшегося в углу своей любимой библиотеки с прижатым к груди томиком с описанием погребальных обрядов первобытной Этрурии. Мой несчастный кузен считал себя обреченным на такой же трагический конец, как и его племянник. Вместо этого, почувствовав невероятное облегчение, обнаружив отпрыска императорской крови, преторианцы окружили и громко приветствовали его.
Мне не пришлось заботиться о нашем обратном путешествии. Префект в Лугдуне получил на этот счет исчерпывающие указания и мог поздравить себя с тем, что в период моего изгнания был добр ко мне. Он даже предоставил в мое распоряжение собственный экипаж, отряд сопровождения и одолжил внушительную сумму золотом. Я принял все и горячо поблагодарил.
Спустя три недели мы прибыли в Рим.
Как и обещал, Клавдий возвратил мне мое состояние, увеличив земли, принадлежавшие к императорским владениям, которые Кай за четыре года значительно расширил. Годы изгнания и тревог Клавдий компенсировал десятью миллионами сестерциев. Наконец, прежде даже, чем я высказал пожелание, Тит Цецилий был отозван из Иудеи. Он возвратил нам нашу дочь, а также нашего старого доброго Флавия.
Вечером в день их возвращения, стоя на террасе моего дома в Авентине и впервые за долгие годы созерцая лежащий у моих ног Город, я вообразил, будто еще могу быть счастлив.
С тех пор миновало три года, и теперь я знаю, что это не так, ибо у меня по-прежнему нет ответов на вопросы, которые всю жизнь мучают меня. Мне не хватает того же, чем обделено все человечество. «Человек не нашел лекарства от смерти», — сказал Софокл. Как могу я быть счастлив?
XI
Этим вечером Понтия надела новую тунику. Впрочем, это была даже не туника, но, как она объяснила с обычной женской снисходительностью, три одеяния, соединенных вместе и различных по цвету, которые в совокупности производили потрясающий эффект. Дочь казалась облаченной в пламя. На ней было массивное золотое колье, которое я подарил ей на двадцатилетие. Оно принадлежало моей бабушке, и я боялся, что эта несоразмерная драгоценность более не отвечает новейшим критериям моды.
Я заметил, что взгляды мужчин, восхищенных ее несравненной красотой, были прикованы к ней в течение всего вечера. Лишь один не смотрел в ее сторону — это был Тит Цецилий.
Сразу же после нашего возвращения из Иудеи я был удивлен той холодностью, которую проявлял мой зять по отношению к Понтии. Теперь больше не удивляюсь, ведь Флавий все мне рассказал. Она не хотела, чтобы мы с матерью были в курсе несчастья, обрушившегося на союз, которого она так желала и который считала благословленным любовью.
К чему подобная скрытность в отношении собственных родителей? Из гордости? целомудрия? стыда? Из боязни сделать нам больно, раскрыв, как мало мы проявляли к ней внимания?
Но как же я не смог понять? Как не догадался с самого начала? Как оказалось возможным, чтобы Лукан в течение шести лет служил под моим началом и я ничего не подозревал? Теперь, когда я знаю все, я отдаю себе отчет в том инстинктивном, неконтролируемом отвращении, которое испытывал по отношению к нему…
Я признаю, что первые попытки объясниться со стороны Флавия оставляли меня в недоумении, настолько они были невнятными и запутанными. Полунамеками, как напуганная весталка — ибо галлы редко придерживаются своих нравственных правил — он решился на шокирующие откровения, и я наконец уразумел, что Лукан предпочитал женщинам мужчин. Право, поначалу я не нашел, в чем мог бы его упрекнуть. Ведь утверждают, что божественный Кесарь… Я даже отпустил знаменитую шутку относительно Гая Юлия: «Муж всех жен и жена всех мужей», — но Флавий, покраснев, прервал меня: Лукан любит не мужчин, но мальчиков, совсем юных мальчиков. И если бы это было все!
Тит Цецилий получал удовольствие, нанося им побои, и Флавий, внезапно осмелев, не утаил от меня ни одной детали, из коих иные были особенно несносны. Я вспомнил, что некоторое время после замужества обнаружил на руках и плечах Понтии многочисленные кровоподтеки и синяки. На мои расспросы она отвечала, что упала с лошади… Ужас и отвращение охватили меня.
Понизив голос, я спросил у Флавия:
— Моя дочь! Неужели он осмелился поднять руку на мою дочь?
Галл опустил голову и вздохнул:
— Теперь уже реже, господин… С тех пор как вы оказались в Риме, он не решается бить ее, как прежде…
Два часа я выслушивал перечень жестоких обид, которые Цецилий наносил Понтии: это был отчет о мучениях, изобретаемых человеком, который находит удовольствие только мучая других. А также унижениях. С того момента, как моя дочь стала женственнее, утратив свою подростковую угловатость, она перестала привлекать своего развратного супруга, предпочитавшего водить к себе эфеба, который в течение ночи или недели удовлетворял все его желания.
Из какого ложного чувства гордости она скрывала от нас то, что с ней происходило? Не могу поверить, что ее девичья любовь выдержала столь долгий срок подобных истязаний. Что могла она испытывать к Лукану, кроме ненависти и презрения?
Я обратил свой гнев и свое негодование на Флавия: почему он не поставил меня в известность? Сделав уклончивый жест, он сослался на обещание, данное Понтии. Если он и нарушил его сегодня, то лишь потому, что дивится странным переменам в отношении Лукана к Понтии. Теперь он притворяется таким ласковым, каким никогда не был, и эта благосклонность пугает моего галла больше, чем вопли и приступы ярости.
* * *
Я поговорил с Понтией. Едва поняв, о чем пойдет речь, она побледнела, и ее маленькая рука, отягощенная перстнями и массивными браслетами, легла на мою:
— Отец, я тебя умоляю, не вмешивайся в это!
Из объяснений, прерываемых слезами, я понял, что она испытывала по отношению к «бедному Титу» горестное сострадание, которого он не заслуживал. Она не отрицала, что он бил ее и изменял ей. Но на следующий день после самых тяжких оскорблений Лукан всегда возвращался с полными слез глазами. И Понтия безотказно его прощала.
Я не мог позволить себе по отношению к зятю подобную снисходительность. Я откровенно подтвердил мое желание разорвать этот брак, на который я не должен был соглашаться. Протесты дочери не могли ничего изменить. Я не думал, что мне будет трудно получить согласие Лукана, хотя развод и лишит его наследства, которое однажды отойдет к Понтии. Она будет богатой. Ей будет принадлежать все состояние Понтиев, а также имения Валерия Проба и Марка Антония Рустика, которые достались нам, когда Клавдий облачился в пурпур. Поистине, такое наследство может ввести в искушение многих…
Что же я мог сказать ему? Сколько раз на протяжении своей жизни я задавал себе подобные вопросы, слишком поздно взвешивая прискорбные последствия собственных ошибок и неловких поступков.
Я мог отказаться покинуть прекрасный дом Цецилиев близ Марсова поля, если моя дочь не пойдет вместе со мной. Я должен был настоять, чтобы она позвала женщин упаковать ее одежды и драгоценности и тут же последовала за мной. Я намеревался, не допуская пререканий, набросить ей на плечи плащ и заставить ее уйти вместе со мной, ничего не забрав, не возвращаясь к прошлому, и прежде всего не давая никаких объяснений Титу.
Но ничего этого я не сделал. Беспомощный и удрученный, я смотрел, как дочь беззвучно рыдает и слезы смывают румяна с ее щек. Я мог бы описать ее платье, голубое, как небо в то октябрьское утро, в которое она переоделась, с золототканым рантом. Я вновь вижу галльский браслет — головы дерущихся овнов, — который охватывал ее левое запястье. Овнов, ибо под этим знаком Понтия пришла в мир.
Я не смог оградить моего последнего ребенка. Я был убежден, что Лукан, узнав, что его разоблачили, не станет защищаться. Но я забыл о спокойном высокомерии моего бывшего трибуна и презрении, которое он умел изображать на своем красивом холодном лице.
Он выслушал меня, не перебивая, но с насмешливым видом. Когда я закончил, холодная усмешка пробежала по его губам, потом он тяжко вздохнул, словно давая мне понять, как же я ему надоел:
— Дорогой Кай Понтий, мне трудно взять в толк, в чем ты меня обвиняешь! Что я люблю на афинский манер? Не будь ханжой! Хочешь, чтобы я назвал тебе имена тех, кто разделяет мои наклонности? Нет? Ты прав: придется зачитывать длинный список римских сенаторов и всадников! Или ты хочешь упрекнуть меня в том, что в порыве страсти, которая охватывала меня по отношению к твоей дочери, моей возлюбленной супруге, мне доводилось вести себя грубо? Это правда, но ведь женщины, которые околачиваются близ наших лагерей, мало расположены к ласкам и нежностям, а именно их я чаще всего посещал до женитьбы.
И под таким предлогом ты рассчитываешь заставить меня согласиться на развод? Сознаешь ли ты абсурдность своих притязаний? Понимаешь ли, в каком мире живешь? Даже если этот несчастный рогоносец Клавдий будет настолько глуп, что поддержит тебя, ты станешь посмешищем всего города! Конечно, Пилат, ты никогда не боялся выглядеть смешным. Я вспоминаю, как некогда в Иудее видел тому свидетельство. Еще до прибытия в Кесарию меня предупредили относительно того, что в Палатине называли твоими «странностями». Утверждали даже, что от того, с чем ты столкнулся в Тевтобурге, ты повредился в рассудке. Ты не единственный: посмотри на своего галла! Одним дураком больше! Но, думаю, что он-то был таким и до Германии: он кельт.
Видишь ли, Пилат, если в тебе еще осталось немного здравого римского смысла, ты не пойдешь разыскивать Клавдия и не станешь никому ничего говорить из того, что сказал мне. Хочешь знать, почему ты будешь помалкивать? Ты помнишь, я в этом уверен, того человека, которого называли Галилеянином и которого ты прикончил, отправив на крест. Ты был так несчастен в тот день, дорогой Пилат. Мне даже хочется спросить себя, что бы ты в конечном счете сделал, если бы я не стоял сзади. Уверен, ты бы его отпустил.
Я побледнел. Издевательский тон Лукана не слишком задел и даже удивил меня — я и не думал никогда, что у него есть ко мне какие-либо чувства симпатии или уважения. Меня поразило, что он говорил со мной об Иисусе бар Иосифе. Пятнадцать лет никто не произносил при мне этого имени. Если тень Галилеянина и появлялась между мной и Прокулой, это происходило в безмолвии, которое мы оба запрещали себе нарушать. Я был уверен, что и Флавий ничего не забыл. Но он никогда не выражал мне ни малейшего укора. Мой центурион принял мою тогдашнюю слабость, как принял мои раны и мое изнурение на другой день после Тевтобурга, — так, словно это была и его боль.
Сердце мое затрепетало. Я вдруг осознал, что в молчании Прокулы, равно как и Флавия, не было ничего естественного, что дело было не в деликатности, клянусь Гераклом, не в стыде или деликатности! Они держали меня в стороне от чудовищной тайны. И мне показалось, что Лукан осведомлен о ней гораздо больше, чем я…
Я не ошибся. Своим выразительным голосом Тит Цецилий продолжал, смакуя каждое слово:
— Ты, Пилат, конечно, не можешь не знать, что проповедуют ученики Галилеянина: что он был Мессией Израиля, Христом народов, Сыном Бога, который воплотился и к тому же воскрес. Восточные нелепости! Эти фанатики наводнили Иерусалим уже в то время, когда ты был еще прокуратором. Ты также не можешь не знать, я в том уверен, что твой Галилеянин посещал секту и что он был связан с иудеем из Малой Азии по имени Стефан, которого в конце концов забили камнями единоверцы. Но ты, возможно, не сознаешь размаха, который приняло это движение, и не знаешь о числе одержимых, которые в него влились. Получилось так, что я понял это очень быстро, когда узнал, что один из моих центурионов, из первых сотников, Примус Корнелий Лепид, позволил вовлечь себя в эту секту и даже организовал у себя в Кесарии собрания под самым носом Марцелла.
Не сомневайся, я следил за ними. И знаешь ли, дорогой Кай Понтий, Примус Корнелий, его жена и его люди были не единственными, кто собирался там, чтобы послушать, как некий Петр проповедует о воскресении Христа. На этих собраниях бывало много народу. Среди прочих там был, конечно, твой преданный Флавий, ну и… твоя дочь! Наша дорогая Понтия. Не кажется ли тебе забавным, что она встала в ряды учеников человека, которого ты, ее обожаемый отец, отправил на крест, после того как он был подвергнут бичеванию по совету, который дал я, ее нежный супруг…
Ученики Христа стали именоваться христианами. Ты скажешь, что эти слухи распускают иудеи и мы с тобой оба знаем, что между Синедрионом и друзьями Галилеянина существует большая религиозная распря, которая создает почву для злословия и клеветы. Ты это знаешь, и я это знаю. Но, помимо иудейских старейшин, кому ведомо, где берут начало и где заканчиваются измышления?
Хочешь, я расскажу тебе, доверяясь расхожим слухам, что происходит во время собраний христиан? Говорят, там практикуют жертвоприношения. Да… нечто вроде ритуального заклания, возможно, младенца, которого режут и разделяют на части между верующими, чтобы все ели и пили человеческую плоть и кровь.
Наверное, тебе трудно представить Флавия, а тем более твою дорогую Понтию, испивающими из чаши свежую кровь. Честно говоря, я тоже этому не верю. Но ничего нельзя сказать определенно…
Совершив этот ритуал, они начинают говорить. Там распространяются речи, весьма далекие от законов Рима. Там рассказывают, что рабы равны своим господам, что первые станут последними, что этот мир скоро будет разрушен и очищен огнем. Не находишь ли ты, что все это звучит, как воззвание Спартака? Они также говорят, что следует любить друг друга. Должно быть, веселые оргии они себе позволяют! И потом, в их среде отказываются приносить жертвы божествам и отдавать почести Риму и Кесарю, и ты согласишься, что это — самое тяжкое прегрешение.
Понравится ли тебе, дорогой Кай Понтий, если я открою, что твоя дочь принадлежит к этой восточной секте, нечестивой и беззаконной? Думаешь ли ты, что я подвергнусь осуждению, если в этих обстоятельствах воспользуюсь своим правом супруга и положу конец скандалу, покарав женщину, которая бесчестит мою семью, мой дом и мое имя? Задушена в кальдариуме… Именно так в эпоху наибольшего расцвета чувства чести в Риме отцы и мужья наказывали виновных патрицианок… Мне кажется, мой кальдариум еще сгодится для такого употребления… Так что, мой усердный тесть, тебе следует дважды подумать, прежде чем угрожать мне и настаивать на том, чтобы твоя дочь развелась.
Я должен был встать на защиту Понтии, громко выразить негодование, поклясться, что она неповинна в проступках, в коих Лукан дерзает ее обвинять. Я был уверен, что все эти преступления, в которых иудеи обвиняли учеников Христа, были плодом их гнусных измышлений. Но кто бы мне поверил?
Я не стал защищать Понтию. Я боялся, что моя дочь в самом деле была посвящена в мистерии Христа. И понимал, что в таком случае его последователи находились в противоречии с римскими законами, даже если у них никогда не было человеческих жертвоприношений и кровавых пиршеств.
Теперь-то я догадался о причине странного молчания Флавия и Прокулы. Пятнадцать лет! Пятнадцать лет они скрывали от меня тайну, которая помогала им жить!
Я вернулся к себе. Я не задавал никаких вопросов, больше боясь ответов, чем их недоуменного молчания. Я был потрясен, устрашен, одинок. Но я хранил молчание. Галилеянин похитил у меня Понтию. И это было справедливо.
Так прошла неделя. Я сослался на приступ болотной лихорадки, от которой страдают многие римляне, чтобы не появляться в Палатине. Я не хотел встречаться с насмешливой улыбкой моего зятя.
Я был близок к тому, чтобы оставить ему мою дочь, как некогда позволил ему бичевать Иисуса.
* * *
Стоит ли писать эти воспоминания, если никто никогда их не прочтет? Хватит ли у меня сил поведать о несчастье, которое обрушилось на меня в ноябрьские иды?
Я знал, что оно неотвратимо, я его ожидал, но я не представлял себе, что оно может оказаться настолько ужасным.
Я больше не виделся с Понтией и не спросил у нее, правда ли, что она христианка. Я не задавал вопросов Прокуле и Флавию. Я сказался больным, отвращение к себе и тоска доставляли мне физические страдания.
Дочь не искала встречи со мной. Зато Флавий возвратился ко мне: он больше не мог оставаться у Лукана. Он спросил, найдется ли у меня для него какая-нибудь работа, в Риме или в одном из моих загородных имений. Бездействие было ему в тягость. Я даже не стал спрашивать, не хочет ли он, после стольких лет жизни на чужбине, вернуться в Галлию, потому что, реши он уехать, без него мне было бы совсем одиноко. Но он и не хотел покидать Италию, ведь его сын, Антиох, служил в Иллирии. Я предложил ему работать у меня привратником. Не имея клиентов, которые осаждали мой дом с утренней зари, и зная, что Авентин — тихий квартал, я был уверен, что Флавию не придется сгорать на работе.
Одно время я намеревался попросить у Клавдия откомандировать меня в Британию, которую завоевывал Авл Плавт. Но я был слишком стар, чтобы вести лагерную жизнь, слишком стар, чтобы сражаться с варварами в их туманных странах. Во время Галльской войны божественный Юлий высадился в Британии, но ему удалось умиротворить лишь Лондинию. Плавт, который овладел почти всем островом, заслуживал больших почестей, чем ему определил Сенат. Я был тому свидетелем.
Тит Цецилий получил место командующего при Авле Плавте. Целый год он провел вдали от Рима в сражениях с бригантами. Я уповал на то, что какой-нибудь кельтский меч освободит нас от него… Или, если Фортуне все же будет угодно, чтобы он вернулся, он забудет об угрозах, которые извергал. Впрочем, с течением времени они представлялись мне все менее страшными. В Риме начинали поговаривать, что Помпония Грецина, супруга Плавта, была христианкой. Кто осмелится подозревать жену победоносного императора в принадлежности к секте, которая строит заговоры против государства? Помпония была в высшей степени добродетельной женщиной. В конце концов я убедил себя, что ее неприкосновенность и репутация гарантируют то же самое и моей дочери.
В честь возвращения Лукана, который по обыкновению вернулся со славой, Понтия пожелала устроить празднество. После года разлуки она ожидала эту скотину с большей любовью и верностью, чем Пенелопа Одиссея… В атриуме, где они принимали гостей, дочь и зять, оба еще молодые и красивые, представляли собой образ единой и любящей четы. Меня нельзя было одурачить этой комедией, но я ничего не мог с этим поделать.
Понтия была одета в платье огненного цвета, которое было ей так к лицу; свет факелов зажигал холодные отблески на копне ее темных волос, а роскошные драгоценности сверкали на матовой коже.
Мы с дочерью больше не возобновляли разговор о разводе, и воспоминание о той полуторалетней давности беседе вызывало у нас обоих чувство неловкости и смущения. Но это была не единственная болезненная точка в наших отношениях с Понтией. С того времени, как я узнал, что моя дочь является ученицей Иисуса бар Иосифа, тень Галилеянина стала посещать меня все чаще. Мне хотелось набраться достаточно мужества, чтобы расспросить Понтию, рассказать ей о том мучительном разговоре, что был у меня с плотником из Назарета, которого она приняла за бога; больше всего я хотел поведать ей о смятении, которое посеял в моей душе этот человек. Но я не осмеливался. Мне приходилось задаваться вопросом, как судит моя дочь обо мне, ее отце, который позволил отправить на смерть праведника, которого она почитала как бога.
Осуждала ли меня Понтия? В ее глазах, как в глазах Прокулы и Флавия, я читал грусть, сожаление, но никак не укор или приговор. Мне вспоминается невыразимое сострадание, которое засвидетельствовал по отношению ко мне Галилеянин в тягостные для него часы; близкие реагировали схожим образом. Они не порицали меня: они ограничивались тем, что выражали сожаление… Да, я в этом не сомневался: они сделали выбор между Иисусом бар Иосифом и мной, и выбрали его. Я подозревал, что они сожалели обо мне главным образом потому, что я не мог сделать то же самое. Я положил на чашу весов его жизнь против их жизни; я был уверен, что поступил правильно. Но те, кого я так хотел охранить, не поняли моей слабости.
Это был чудесный вечер. Понтия замечательно все устроила. Мне определили место возле Авла Понтия, которого я мало знал прежде и которого нашел очень приятным человеком. Он без прикрас рассказал мне о британской кампании, расписывая ее важнейшие подробности и анекдотические случаи, а я, к собственному удивлению, впервые в своей жизни поведал едва знакомому собеседнику о Тевтобурге. И тут поднялся Лукан.
Зять много пил, но — то ли под воздействием вина, то ли от искренней радости, что вернулся, — на этот раз он избавился от своей обычной маски холодности и спеси. Я заметил, что рука его немного дрожала, когда он поднимал свою чашу, призывая Марса и Фортуну Рима, но это было единственным признаком, по которому можно было догадаться, сколько он выпил. Тит Цецилий сначала провозглашал обычные здравицы в честь Кесаря и Города. Затем неожиданно повернулся к Понтии, которая сидела напротив него, и, поднимая свою чашу, воскликнул:
— А теперь, друзья мои, надо выпить за подарок, который боги приготовили для меня: за ребенка, которого моя возлюбленная супруга произведет на свет через семь месяцев. Титу Цецилию Британнику долгой жизни и процветания!
Краснея, Понтия опустила глаза. Прокула радостно улыбалась, но не была удивлена; несомненно, эта новость ей уже была известна. Только один я, в который раз, не был посвящен в их тайны. Мое счастье оказалось омраченным. Но все же мысль о ребенке, которому предстояло родиться, каким бы постылым ни был его отец, наполнила меня радостью.
После этого ошеломляющего заявления Лукан продолжил возлияния. Он держался, но я чувствовал, что он выпил слишком много. Когда мы с Прокулой уходили, зять был уже хорош и, несомненно, стал еще пьянее, когда они с Понтией, распростившись с последними гостями, перед рассветом добрались до своих апартаментов.
Мне кажется, ни одного человека я не ненавидел так, как Лукана. По причине ненависти, которую к нему питаю, я не в силах искать ему извинения за то несчастье, которое произошло. Но все же говорю, что он был сильно пьян и плохо контролировал свои действия. Я хотел бы, чтобы Тит Цецилий заплатил за все зло, которое причинял моей дочери все то время, пока продолжался их союз, за зло, которое он причинил Прокуле. Чтобы, в конце концов, он заплатил за мое страдание, которое не отпускает меня.
Я мог бы даже солгать, Клавдий послушал бы меня. Несмотря на то, что он холоден и эгоистичен, Клавдий огорчен обрушившейся на меня трагедией. Он бы покарал Лукана, так что я мог бы заполучить голову, которую так ненавижу…
Но это не утолило бы моей тоски.
Из рассказов Лукана и свидетельств рабов я достаточно четко представляю себе, что произошло.
Ночь была на исходе. С нежностью по отношению к этой подлой скотине Понтия поддерживала своего супруга. У Лукана в руке была лампа, наполненная маслом; огонек дрожал и мерцал, обнявшаяся чета неловко пересекала атриум. Вечером был сильный дождь, и идти по мраморным плитам было скользко. Несмотря на помощь Понтии, Тит Цецилий все спотыкался. Каждый раз, когда у него подворачивалась нога и он пытался восстановить равновесие, его разбирал нелепый смех. Маленькая лампа в его левой руке качалась и отбрасывала на стены громадные тени. Он смеялся над этими фантасмагорическими вспышками, нарочно размахивая лампой и забавляясь появлением на стене все новых странных фигур. Внезапно лампа выскользнула из его рук и упала на платье Понтии, ее прекрасное платье под вуалями огненных цветов. Легкий материал мгновенно пропитался маслом и вспыхнул. Понтия превратилась в живой факел, вопя и извиваясь от боли у ног хохочущего и одуревшего пьяницы.
Лукан был слишком пьян, он не догадался окунуть Понтию в атриум, чтобы погасить пламя, и беспомощно смотрел, как она заживо сгорает. Сбежавшиеся рабы нашли его неподвижным, отупевшим, ни на что не реагирующим возле бьющейся в агонии жены.
Понтия прожила еще два дня и две ночи, испытывая невыразимые мучения, потому что никакое снадобье не обладало достаточной силой, чтобы облегчить страдания ее обгоревшего тела.
Когда врач, устав от моих просьб, позволил мне повидать ее, я, войдя в комнату, едва не лишился чувств, настолько ужасающим было зрелище. Только глаза моей дочери еще светились жизнью, утопая в скорби ее лица, ее чудесного лица, утратившего человеческий облик.
Потеряв от отчаяния дар речи, я встал перед ней на колени, не решаясь притронуться, чтобы не ужесточить ее страданий, и, не в силах сдержаться, зарыдал. Но внезапно я услышал голос Понтии, ослабевший, но удивительно твердый. Моя дочь позвала меня:
— Папа…
Уже многие годы она не обращалась ко мне так по-детски. Я ожидал, что она бросит мне упрек, подобный тому, который больной Антиох адресовал своему отсутствующему отцу и который я заслужил за то, что не смог сохранить моих детей: «Папа, папа, почему ты оставил меня?»
Но нет, Понтия не упрекала меня; она молила, умоляла с невероятной силой, связывала меня обещанием, воздвигая между Луканом и моей жаждой мести неодолимую преграду:
— Папа! Прости его! Он не ведал, что творил!
Ее умоляющие глаза были устремлены на меня. Моя дочь, моя обожаемая дочь должна была умереть. И, сам не ведая как, я сказал:
— Да, Понтия, я его прощаю.
Мгновением позже Понтия умерла у меня на руках.
В тот вечер Прокула заснула, чтобы больше не просыпаться. Сегодня исполняется месяц, как я закрыл глаза моей жены. Врач сказал мне, что она страдала от болезни сердца и ее убила тоска.
Прежде чем покинуть меня, Прокула говорила со мной о Галилеянине. Так сложилось, что в момент безвозвратного расставания этот человек является между нами.
Я остался один. Я потерял всех, кого любил, всех, ради кого принес в жертву жизнь этого праведника. На самом деле я потерял их гораздо раньше. Как мог я не понимать, что жена, дочь и сыновья уже покинули меня? Что жертва, от которой я некогда отказался, была принята ими без колебаний?
И вот Прокула… Каким я был глупцом! Да, она была посвящена в мистерии Христа, крещена, как сказала она, используя любимое выражение Иоанна, как были крещены Понтия и наш сын. Это произошло вскоре после смерти Иисуса бар Иосифа, и я внезапно уяснил себе странные визиты Иоанниса в Антонию. Подумать только, я было решил, что он ищет работу! Грустная улыбка пробежала по бледным губам моей жены:
— Ты был так близок к свету, Кай… Так близок! Почему ты предпочел закрыть глаза? Мы так молились, Понтия, Флавий, Авл и я! Так молились, чтобы Учитель простил тебе твое ослепление и просветил тебя… О, Кай! Если бы ты мог знать, как легка его ноша для тех, кто покоряется этому бремени! Если ты согласишься познать Истину, ты поймешь, что Истина дает свободу!
Истина дает свободу. Таковы были последние слова, которые я услышал от Прокулы. Знала ли она, говоря мне это, что возвращала меня к моему безответному вопросу? Истина дает свободу, возможно… Но что есть Истина?
Если все это так и было, если Галилеянин был сыном бога, как мог он оставить без внимания, что я отчаянно ищу эту ускользающую истину?
Что есть Истина? Я не знаю. Но мне известно, что из-за нее для меня не существует возможности искать встречи с Клавдием, чтобы обвинить Лукана в смерти моей дочери и моих страданиях.
«Человек не нашел лекарства от смерти». Этот закон не знает исключений. Но смерть сама по себе есть исцеление от страдания, тоски и одиночества. Я не бегу от победоносного врага, никого не оставляя позади себя. Я больше не надеюсь вновь обрести в какой-нибудь Земле Вечной Молодости тени тех, кто меня покинул. Я хочу забыть, что они были и что я их нежно любил, уйти в небытие. Я хочу «заснуть сном, который никогда не кончается» и который свободен от сновидений. Последняя надежда римлянина, последняя надежда всякого человека.
Лунный свет озаряет меч. Моя рука не дрогнет.
Мне показалось, будто в саду кто-то есть. Мне почудилось чье-то присутствие под старой оливой, которая отбрасывает тень на угол террасы. Я собираюсь встать и пойти посмотреть. Я не хочу, чтобы кто-то все это видел.
Но, кажется, я ошибся… Снаружи никого нет. Это мое воображение изобретает призраков. Меч сверкает на столе, я сжимаю пальцы на рукоятке.
На сей раз не показалось: шум возобновился. Теперь я узнал его; это всего лишь ночной ветер, поднимающий шелест листьев, который смешивается с бешеным биением моего сердца. Разве не удивительно, что при том отчаянии, в котором я нахожусь, боль и смерть все-таки страшат меня?
Этой ночью поднялся слишком сильный для середины декабря ветер. Машинально я поднимаю глаза в направлении садовых деревьев и меня охватывает страх. Листья оливы неподвижны, порыв ветра их не колышет; и тем не менее я слышу, как невидимый ветер играет ее ветвями!
Я пытаюсь забыть о ветре, рожденном моим воображением. Я сжимаю меч, вспоминая давние уроки фехтования и то особое место под ребрами, где клинок наверняка пройдет прямо в сердце. Холодное острие прикасается к коже. Я закрываю глаза.
И тут же вновь открываю; через свои закрытые веки я вижу образ, который так часто меня преследовал… Но в это мгновение он не таков, как раньше. Он не жалок, не измазан кровью. Он прекрасен и исполнен того державного величия, которое вырвало у меня то страшное признание:
— Ты — царь.
Суровый и нежный голос, который я никогда не забуду, прозвучал в моих ушах:
— Ты сказал: я — Царь. Я пришел в мир, и я рожден, чтобы свидетельствовать об Истине. Те, кто от Истины, слышат мой голос.
Я слышу, как вновь задаю свой давний вопрос:
— Что есть Истина?
И уже не надеюсь услышать ответ. Разве эта ночная галлюцинация, порожденная моей тоской, поможет мне найти окончательный ответ? Однако я повторяю, уже громче:
— Что есть Истина?
Галилеянин улыбается, словно колеблясь поверить свою тайну Каю Понтию Пилату. И его нерешительность для меня непереносима. Я смотрю на него глазами, полными слез, и кричу голосом, прерывающимся рыданием:
— Господи, смилуйся надо мной! Что есть Истина?
Знакомый голос с галльским акцентом отвечает:
— Ты знаешь, господин, Учитель сказал: «Я — Путь, Истина и Жизнь».
Флавий появился из ночной темноты, его рука твердо лежит на моей, заставляя отпустить меч.
У меня больше нет желания умереть,
XII
Дела Тита Цецилия плохи. Мы достаточно долго жили на Востоке, чтобы не знать эти симптомы и не угадать по ним неотвратимое развитие событий в ближайшие месяцы. Это — проказа…
Неужели он заразился ею в Иудее? Сомневаюсь. Тогда болезнь обнаружилась бы гораздо раньше. Или же здесь, в Риме? В течение нескольких лет в Городе отмечались случаи этой болезни. Ее заносили восточные рабы, купцы, солдаты, путешественники или она появлялась с зараженным товаром.
Лукан рассказал мне об очень молодом финикийском матросе, которого он подцепил в сомнительной таверне в нижнем квартале Остии. Он вспомнил именно об этом, но скольких еще случайных любовников он знал? Так может ли он угадать, где подцепил эту болезнь?
Павел утверждает, что «смерть есть расплата за грех». Но он говорит не о плотской смерти. Я хотел бы убедить в этом Лукана, потому что мне его жаль. Жалость, впрочем, не то слово, поскольку она предполагает снисхождение к объекту этого чувства, а человек из рода Цецилиев смертельно боится вызвать малейшую жалость у кого бы то ни было.
Я испытываю к Лукану не жалость, но сострадание, хотя и не знаю, как выразить ему это чувство. В ноябрьские иды исполнится двенадцать лет, как умерла Понтия. С тех пор я не видел своего зятя. Овдовев, Тит Цецилий попросил, чтобы его отправили в качестве легата в Германию. Там он оставался очень долго. Теперь я уже точно знаю, что он не хотел убить Понтию, как знаю и то, что тогда он убоялся моего гнева и моей мести.
Вот уже несколько месяцев, как Лукан вернулся в Рим, и если у меня еще не было случая с ним повидаться, так это потому, что с того дня 807 года от основания Города, когда божественный Клавдий отравился столь любимым им блюдом фаршированных белых грибов, я безвозвратно оставил приемы в Палатине. Конечно, Луций Домиций Нерон — очень приятный человек, но мать слишком часто напоминает ему, что он внук Германика. Юлия Агриппина вполне может припомнить мои ссоры с его горячо любимым отцом. И я предпочел бы, чтобы она забыла о них, а заодно и обо мне.
Мне скоро семьдесят, я стар и устал от политических столкновений. В течение долгого времени я уже ни к кому не испытываю ненависти. Юношей я посмеивался над наивностью Антигоны, когда она заявляет Креону, что «родилась для того, чтобы разделять не ненависть, но любовь». Теперь я знаю, что Антигона права, а Креон ошибался. Однако именно его роль я играл всю мою жизнь…
Я не собирался говорить об Антигоне Лукану. Он никогда не любил литературу вообще, а греческих авторов в особенности… По примеру старого Катона он боялся данайцев… И хотя я всегда казался ему странным, я не придаю значения тому, что он считает меня теперь еще и слабоумным. Это моя последняя маленькая дань тщеславию.
И потом, какой римлянин согласится признать, что правота была на стороне Антигоны, а не Креона и блага Города? Только я… Но мне приходит на ум, что как раз я уже предал Рим.
Я не собирался говорить Лукану об Антигоне, я был слегка взволнован перед нашей встречей. Впрочем, как и он… Увы, я понимал, чего ожидал от меня Тит Цецилий, рассказывая мне о своей болезни, к тому же такой, как проказа, — проявления злорадства… Но, не заметив ничего подобного на моем лице, он был озадачен.
Не без тайного бахвальства он попросил меня прийти и не без кичливой гордости сразу приподнял полу тоги, открыв на левой руке, на узловатых мускулах, коричневую бляшку, которую я мгновенно узнал.
— Ты можешь быть доволен, Кай Понтий, — сказал он мне с натужным смехом. — Это пойдет очень быстро. Смотри, я уже потерял чувствительность!
Говоря это, он уколол себя до крови стилетом, чтобы доказать, что стал невосприимчив к боли.
Доволен? Почему я должен быть доволен? Может быть, в день смерти Понтии я испытал бы удовлетворение, узнав, что Тит Цецилий — прокаженный. Но не сегодня… Болезнь, которая начала его пожирать, пробудит во мне чувство отмщения; отмщения за мою дочь, за Прокулу, которая умерла от тоски. Но я не могу быть доволен. Добавлять страдания к страданиям безо всякой надежды, что кто-то попытается когда-либо положить предел этой жестокой спирали слез и ужаса, — это отталкивало меня задолго до того, как я услышал голос Христа! Но Он — Он пришел разорвать эту спираль и наделить смыслом того, у кого его вовсе не было. Вот что я хотел бы сказать Лукану, даже если в его глазах моя вера, вера его жены, «есть странное и преступное суеверие».
Удивленный моим молчанием, он воскликнул:
— Ты ничего не говоришь?! Боги отомстили за тебя, Кай Понтий! Неужели тебе не доставляет удовольствие мысль, что я заживо гнию?
И он стал мрачно описывать, что его ожидает. Я, как и он, видел в Иудее достаточно рук, лишенных пальцев, достаточно лиц без губ и носа, чтобы знать, что такое проказа. В пылу разговора я угадал омерзительный, липкий страх, который исходил от Лукана. Как должен был он сожалеть, что стрела или меч не обеспечили ему прежде более достойную кончину! Даже когда он был супругом моей дочери, мне не удавалось ощутить по отношению к Титу Цецилию хотя бы тень отцовского чувства; и вот, первый раз, этим вечером, я смотрю на него, как на своего сына. Я кладу свою ладонь на его руку, туда, где ощутимо биение пульса. К моему изумлению, он не отдергивает ее.
— Нет, я не доволен, Тит Цецилий. Перед самой смертью Понтия просила простить тебя. Я простил. Верь мне, во мне нет ненависти.
В ночь после кончины Прокулы, в ту страшную ночь, когда я хотел убить себя, Флавий оставался рядом и говорил со мной до рассвета. Он сказал, что последние слова Понтии были такими же, какие произнес Иисус бар Иосиф в момент, когда испускал дух на кресте:
— Отче, прости их! Ибо не ведают, что творят.
Мой галл не знал, какую тяжесть стыда и угрызений совести снял с меня. Еще тогда, когда я верил, что Галилеянин был всего лишь плотником из Назарета, я не мог простить себе, что позволил его осудить. И в то время, как в глубине моей души забрезжил свет, который, по словам Прокулы, я нарочно не замечал, упорно смыкая глаза, в то самое время, когда я начал думать, что, возможно, Он в самом деле был Сын Божий, меня охватил неодолимый страх. То, что я закрывал глаза, так долго отказывался видеть, находясь так близко к Свету, мне представлялось безмерным преступлением.
Павел цитировал мне по памяти текст, составленный Иоаннисом; его мать права — он поэт:
— Слово было истинным Светом, просвещающим человека. Оно пришло в мир; и мир произошел через Него, и мир Его не познал. Он пришел к своим, и свои Его не приняли. Свет светил во тьме, и тьма не объяла Его.
Вот моя вина. Иоаннис знал ее лучше меня и описал ее с большим талантом. Я всю жизнь искал Света и Истины и не сумел их распознать в тот момент, когда Бог мне даровал их.
Вплоть до того вечера одиночества и богооставленности, когда, сидя на своей террасе под старой оливой, я неотступно думал, что моему преступлению не может быть прощения. Молчание долго оставалось единственным ответом на мой призыв…
Что сталось бы со мной, если бы в ту ночь Флавий не пробудился и, подчиняясь своей странной интуиции, не отправился бы искать меня в доме и саду? Конечно, я убил бы себя. Я был бы извергнут из Царства туда, где будет плач и скрежет зубов.
Нужно ли об этом говорить? Не это меня страшит больше всего. И даже не сознание того, что я был бы навсегда лишен возможности воссоединиться с близкими, потому что Христос сказал, что те, кто верит в него, живут и после смерти. Нет, меня особенно ужасает мысль, что я никогда не увидел бы Иисуса бар Иосифа, никогда не встретился бы с Его взглядом и не услышал Его голоса. Я не могу себе представить более жестокое наказание.
Но разве я сумею объяснить это Лукану? Прервать ради него адскую цепочку страданий, оторвать его от этой пропасти я не в силах. Несомненно, я этого и не достоин. Тем не менее я должен попытаться, потому что слишком хорошо понимаю, что он испытывает, и догадываюсь, что неизбежное развитие проказы ему не удастся выдержать до конца. Тот меч, который Флавий вырвал из моих рук, когда я еще не решился им воспользоваться, Тит Цецилий без колебаний вонзит в свое сердце, когда поймет: истинное мужество заключается в том, чтобы положить всему достойный конец… Флавий вырвал меня из бездны, готовой меня поглотить. Кто вырвет из нее Лукана?
Назавтра я пошел к Пуденцию, сенатору, который приютил у себя Павла.
Но пришел я не вовремя. Уже в атриуме, выйдя ко мне навстречу, Пуденциана сообщила: бездействие и неопределенность угнетали Павла, он все ходил по комнате, сложив руки за спиной и втянув голову в плечи, не будучи способен просто сидеть и ждать. Можно ли, однако, его укорять? Вот уже более года он находился в Риме, надеясь на апелляцию по своему делу перед префектом Претории, а перед этим он потерял два года, просидев в тюрьме в Кесарии вследствие доноса иудеев. Я знавал подобные дела во времена своего вьеннского изгнания, и мне знакомо чувство бессильного гнева, смешанного с отвращением, которое в конечном счете овладевает умом.
У Пуденцианы был смущенный вид, словно она считала себя виноватой в том, что у нашего друга было скверное настроение; она была так огорчена, что я даже решил вернуться восвояси, обещав прийти вновь в более благоприятное время. Но смогу ли я сам оправдать себя, что не сумел добиться этой важной встречи? Я и теперь испытывал сострадание к Лукану, но уже не ощущал себя способным прийти к нему на помощь. Я не знал, что теперь делать… Флавий, которому я поведал о нашем разговоре, резко заметил:
— Господин, Павлу надоели подобные дела, у него нет нужды в знакомстве с Титом Цецилием…
Но Флавий не видел полных ужаса глаз Лукана, прежде таких отважных и дерзких в минуты смертельной опасности. Понтия была права, под суровостью «бедного Тита» обнаруживая слабость, о которой так сокрушалось ее женское сердце. В известном смысле эту слабость Лукана, эту уязвимость Понтия передоверила мне, поручив мне перед смертью своего супруга. Я должен не только простить его, но и проявить к нему милосердие. Вот почему я пренебрег советом Флавия и отправился к Каю Корнелию.
Пуденциана озабоченно оборачивалась, словно желая убедиться, что я следую за ней, и болтала без умолку. Я порой завидовал Пуденцию, ведь Бог оставил ему дочь, которую он бесконечно любит и которая отвечает ему взаимностью, но этим утром, следуя за ней через галереи их роскошного дома, осторожно обходя расставленные на полу расписные вазы (Кай Корнелий занят переделкой убранства своего жилища в духе времени, что можно расценивать как едва прикрытую лесть по отношению к Кесарю, который ставил себе в заслугу эту революцию в художественных вкусах Рима), я не мог удержаться от сравнения Пуденцианы и Понтии, вновь и вновь ощущая всю безмерность моей потери.
Следует отдать должное Павлу: под наружной сухостью он скрывал необычайную чувствительность, о которой не подозревали те, кто мало его знал. Как и сказала мне Пуденциана, Тарсиот, когда мы вошли, метался по комнате, как медведь по клетке. Но при первом же взгляде, который он бросил на меня, понимающая улыбка озарила его обострившееся лицо. Удерживая ее, он даже сел перед чем-то вроде ткацкого станка, которым пользовался, чтобы изготовлять холстину для палаток, продажа которой обеспечивала ему небольшой доход. Не сводя с меня глаз, он принялся за работу, жестом отстраняя сокрушенные протесты Пуденцианы, которая не привыкла видеть гостя своего отца за занятием, предназначенным для рабов. Юная дева сочла за благо оставить нас вдвоем, и Павел, дождавшись, покуда веселый звук ее легких шагов затихнет в конце галереи, проговорил сквозь зубы:
— Я не выдержу здесь больше недели!
Он принялся раздраженно перечислять все заботы, которыми Пуденций со своими близкими настойчиво окружили его с того момента, как он нашел у них приют. Но, слушая, как он вновь пересказывает все затруднения и неудачи последних месяцев, я догадался, что он делает это намеренно, чтобы создать впечатление, будто не отдает себе отчета в том, сколько времени может мне уделить. Наконец, не переставая скрещивать нити полотна, он сказал мне:
— Доброе дело носить тяготы друг друга, Пилат, через это мы верны заповеди Христа. Я тебе наскучил моими домашними хлопотами. Теперь скажи мне, что тебя привело.
В самом деле, знал ли я сам, о чем пришел спросить у него? Чего я ожидал? Конечно, что он спасет Тита Цецилия… Но в каком спасении нуждался Лукан? В излечении от проказы? Или от своих грехов?
Павел слушал меня молча, потом качнул головой:
— Я как-то слышал о твоем зяте в Иудее. Впрочем, это неважно. Ни один человек, будь то иудей или язычник, не может быть лишен надежды на спасение.
Я открыл рот, чтобы сказать ему о той роли, которую сыграл некогда Лукан в осуждении Христа, но Павел не дал мне говорить:
— Нет, Пилат! Христос не хочет, чтобы мы вечно возвращались к прошлому; так мы только множим наши скорби. Вот ты — ты не мог поступить иначе, как послать Господа на крест; и я — я недостоин называться апостолом, потому что я преследовал Церковь Божию… И тем не менее Господь не отверг тебя, и Он не отверг меня. Почему же Он отвергнет Тита Цецилия? Я же говорю тебе: никто не лишен спасения. Приведи его сюда, и, если будет угодно Господу, я ему помогу.
«Господь не отверг тебя», — сказал мне Павел. Петр обратился ко мне с такими же словами в тот вечер, когда я увидел его в первый раз. Он улыбался, поглаживая свою начинавшую седеть черную бороду.
Флавий сказал, что апостол, тот, которого он называл также Великим Рыбарем, был не кто иной, как Симон бар Иона, судовладелец из Капернаума; сценами его домашней жизни, заботливо занесенными в местную хронику, галл подменял свои донесения, и некогда они весьма меня развлекали. Но, увидевшись лицом к лицу, я позабыл о его домашних скандалах. Он получил от Петра силу и свет, которые давно отодвинули в сторону человека, каким он был тогда, и я, давешний прокуратор Иудеи, никогда не стыдился упасть к его ногам и целовать его руку, которая, несколько месяцев спустя, в начале весны, благословила меня на крещение.
Вспоминаю, как во времена моей ранней молодости, когда я жил в гарнизоне в Аргенторане, некоторые из моих товарищей решались принять посвящение в мистерии Митры. Несмотря на настойчивые уговоры, ни Марк Сабин, ни я не захотели последовать их примеру, спуститься вместе с ними в могильную яму и погрузиться в бычью кровь. Но хотя им было строго запрещено раскрывать последствия своего посвящения, они из месяца в месяц утомляли нас рассказами о том, что при этом испытали. Каким смешным все это казалось мне в двадцать лет!
Прошло полвека или около того. Я — старый человек, и из тех молодых солдат, которые смеялись, играя в кости, и рассуждали о существовании богов, в живых остался я один. Сегодня я знаю, какие чувства они хотели утолить благодаря таинствам Митры; мне часто приходит на ум вымолить для них у Христа то, чего не могло им дать омовение в бычьей крови. Что обрели они в могильной яме, когда нож жреца вонзился в горло жертвы? Несомненно, ничего, и все же я думал о них в ту пасхальную ночь, когда спускался в водоем, чтобы умереть и воскреснуть в нем вместе с Иисусом бар Иосифом.
Больше ни слова о поклоняющихся Митре, Апису или Кибеле; нам, христианам, не подобает профанировать святые таинства. Я не буду говорить об обрядах и словах, о молитвах и жертвоприношениях. Не потому, что иудеи любят распускать слухи, будто мы пытаемся утаить некие убийства, оргии, заговоры о восстании, в которых Лукан не колеблясь обвинял Понтию… Но потому, что есть вещи слишком священные, чтобы открывать их тем, кто этого еще недостоин.
В прошлом году, когда Петр только окрестил нескольких неофитов, я услышал, как кто-то из них разочарованно шепнул одному из друзей:
— Только и всего…
Чего же он ожидал? Маскарада, в котором бы участвовали главные жрецы египетской Изиды, когда статуя богини, движимая неким искусным механизмом, спрятанным позади стены, внезапно оживет и заговорит? Или загадочного лабиринта, по коридорам которого ощупью продвигались посвящаемые в элевсинские мистерии в погоне за Деметрой и Персефоной?
Да, только и всего: немного воды, и Петр, стоящий в водоеме, подняв руку, которую — как не без грусти я заметил, ибо мы с ним ровесники, — с каждым днем все более сковывал ревматизм. Но это — то, что видят глаза…
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его», — говорит Иоаннис. Царство грядет, а мир его не видит. Христос разрушил смерть. Христос утер слезы с наших глаз, и тем не менее нас считают погруженными в вечную скорбь… Внешне все похоже, и в то же время все отличается, ибо теперь наши рождения, наша дружба, любовь, наша боль и страдания, и даже наша смерть — все обрело свой смысл. Вот та Истина, которую я искал, не зная ее, и, как обещала мне Прокула, она сделала меня свободным.
* * *
Когда я вновь посетил Тита Цецилия, я понял, что мой визит не был желанным. Но Лукан оказал мне хороший прием. Мне даже показалось, что он был счастлив моим посещением. Я не мог сдержать восхищения при виде его спокойствия и прежней высокомерной улыбки, которую послушно запечатлевали его прекрасные суровые губы. Тому, кто знал Лукана недостаточно хорошо, ничто не позволило бы угадать, какому испытанию он подвергался. Страх — неприкрытый, болезненный, животный, который выражал вчера его взгляд, — исчез без следа. Когда я встретился с ним глазами, я нашел их такими же, какими они были всегда: холодными, пристальными, без тени жалости к другим или самому себе.
Тит Цецилий сделал несколько шагов в сторону террасы, с которой были видны его сады. Казалось странным, что так близко от Марсова поля в его доме царило совершенное спокойствие… Я заметил это вслух, чтобы заполнить тишину. Зять повернулся, открыв мне свой чеканный профиль; луч весеннего солнца коснулся его лица. Жестом, который вполне мог сойти за естественный и машинальный, он откинул к виску прядь своих курчавых волос, которые даже слегка не тронула седина, несмотря на его пятьдесят… Я увидел маленькое темное пятно, которого не было в предыдущий вечер и которое, казалось, пульсировало в ритме височной артерии. Лукан сделал над собой усилие. Его красивые черты совсем ничего не выражали. Словно не заметив моего взгляда, он сказал светским тоном:
— Какая тишина, ты говоришь, дорогой тесть? Да, в самом деле, у меня самое тихое жилище во всем Риме…
Затем, заметно понизив голос, настолько, что я с трудом мог его расслышать, он пробормотал:
— Не приходило тебе в голову, Пилат, задать себе вопрос: на кого он должен был быть похож? Подумать только, сейчас ему было бы двенадцать… Ты не пытался представить себе, что должен был ему сказать, чему должен был научить, что захотел бы отдать ему…
Судорожное рыдание вырвалось из его горла:
— Да, у меня самый тихий дом в Риме, и это моя вина, Кай Понтий, моя! Я убил своего сына!
Тит Цецилий сложился пополам, как человек, получивший с размаху удар в грудь, и я, ошеломленный, понял, что он плачет. Лукан плакал! Перед погребальным костром Понтии он не проронил ни слезинки, и я вспоминаю, как раздирала меня ненависть, когда я увидел, насколько он безучастен к смерти моей дочери и моего внука. К смерти своей жены и своего сына.
Я неловко обнял его за плечи и прижал к себе. Поддавшись этому порыву, я понял, смущенный, что с той поры, как потерял сыновей, мне не приходилось никого так обнимать.
Должно быть, мы выглядели забавно, я, старый прокуратор Иудеи, и он, гордый патриций, в этом объятии кормилицы и грудного младенца. Но нам не было до этого дела. Наконец я почувствовал, что его тело обмякло и рыдания стихли. Лукан приподнялся, я отпустил его и смотрел, как он прошел вокруг стола и сел. Я опустился в кресло напротив и с удивлением обнаружил, что способен, несмотря на волнение, восхищаться фактурой мебели, ее ножками в виде львиных когтей и инкрустацией из золота и слоновой кости.
Потянулась долгая пауза, странное молчание воцарилось во всем доме, едва нарушаемое отчетливым жужжанием первой пчелы. С грустным смехом, который вошел у него в привычку, Тит Цецилий наконец сказал:
— Куда как было бы проще, Пилат, если бы ты меня ненавидел здоровой и крепкой ненавистью… Ты не можешь себе представить, как бы это мне помогло…
Я ничего не ответил, и он продолжал:
— Мне нечего и говорить, что ты странен. Если бы кто-то причинил мне хотя бы половину того зла, которое я нанес тебе, я не остановился бы перед тем, чтобы убить его. Думаешь, Пилат, я не знаю, как ты любил Понтию? И как она любила тебя? Клянусь богами, я даже ревновал! Потому что я — я тоже любил ее.
Он приподнялся с усилием, которого я прежде в нем не замечал, и направился к маленькому стенному шкафу, закрытому красной шторой. Когда он ее отдернул, я не смог удержаться и вскрикнул. За ней скрывался портрет моей дочери, столь прекрасный, столь верный, что, казалось, будто перед нами внезапно появилась сама Понтия. Да, это была Понтия, ее тонкие черты, ее гордо поднятый подбородок, ее утонченная улыбка и большие глаза, темные и горячие, которые она унаследовала от Клавдиев. Я уже позабыл, как она была прекрасна…
Чтобы скрыть смущение, я сказал:
— Это работа какого-нибудь грека.
Тит Цецилий, пожирая изображение глазами, ответил:
— Да, грека. Ни один римлянин не был бы способен на такую правдивость, такое совершенство. Я заказал ему этот портрет, когда Понтия сообщила мне, что беременна, через шесть недель после моего возвращения из Британии. Он закончил позднее, по памяти…
Тягостное видение лица моей дочери, изуродованного огнем, возникло в памяти. Я пытался освободиться от этого кошмара, Лукан пробормотал:
— Без этой картины я не смог бы представлять ее такой, какой она была прежде…
Он смотрел на меня в упор:
— Когда Понтия умерла, Пилат, я ждал, что ты отправишься к Клавдию требовать мою голову и что ты получишь ее. Это могло произойти очень легко. Несомненно, слишком легко… Ты не сдвинулся с места. Твоя дочь, твоя жена, ты — вы простили меня. Это жуткая вещь, которую изобрел ваш Христос, воистину жуткая вещь… Что я могу противопоставить твоему прощению, прощению Клавдии Прокулы, прощению Понтии, прощению вашего Христа? Смотреть на вас, как на безумных? Ненавидеть? Я пытался… Но вы — вы все твердите: я тебя прощаю. И все разбивается о ваше прощение. Гнев, ненависть, презрение, непонимание. Я вновь обрел жизнь, свободу вершить свою карьеру, как того желал. Но в мгновения, когда я этого менее всего ожидал, я думал о вас и слышал, как вы неустанно повторяете: я прощаю тебя, Лукан, прощаю!
Все разбивается об это, Пилат, и Рим кончит тем, что тоже разобьется… Он станет подобным мне, прокаженным, напуганным, несчастным; опустится на колени перед тем, что считал предметом своей ненависти, и услышит: я прощаю тебя. Мы, возможно, этого не увидим, мы с тобой, но я предрекаю: первый раз в истории Агнец проглотит Волчицу. Вы, христиане, сами еще не знаете, какую силу собой представляете, силу более страшную, чем наши легионы. И ваше прощение, ваша любовь, ваше милосердие наносят раны более глубокие, чем наши мечи.
Я слушал его с волнением. С тех пор как я принял крещение от Петра, у меня часто возникало ощущение, что закон Христа несовместим с законом Рима, и все то, что оставалось во мне римского, было им неприметно поколеблено. Однако я ободрял себя, размышляя о том, что поведал мне Иисус бар Иосиф тем апрельским утром, в моей претории в Иерусалиме:
— Царство Мое не от мира сего.
И надеялся, что столкновения Волчицы и Агнца никогда не произойдет. Возможно, Тит Цецилий был более проницателен, чем я.
— Откуда ты знаешь, что я христианин?
— Ты это ведь и не скрываешь, Пилат… Весь Рим знает, что ты член иудейской секты, и относит эту причуду на счет твоего продолжительного пребывания в Иудее. Однажды вечером, за ужином в Палатинском дворце, Кай Петроний забавлялся тем, что подтрунивал над Сабиной Поппеей, которая — тебе наверняка это известно — посещает всех образованных иудеев Транстеверии. Она игриво ответила, что не одна такая в Риме, и было названо твое имя, а также имя Кая Корнелия Пуденция.
Я изобразил удивление, начал протестовать. В продолжение тех пяти лет, как Клавдий поддался своей страсти к белым грибам под чесночным соусом, я перестал появляться на приемах. Вполне справедливо, что имя Кая Петрония, любимого друга Кесаря, мне близко. Что же до Сабины Поппеи, дочери одного из приближенных Сеяна, она была еще совсем юной, когда я покинул двор. Я не знал о ней ничего, кроме того, что разносит людская молва, послушным рупором которой является Адельф: о ее ни с чем не сравнимой красоте и роскоши, которые мешают ей различать мужей и любовников. Ей всего двадцать. Она уже дважды была замужем, а нынче носится упорный слух, что она станет Августой… Но я не знаком с ней и не понимаю, как мое имя оказалось у нее на устах.
Лукан задернул штору и повернулся ко мне спиной, созерцая Рим, крыши которого мерцали в утреннем свете. То, что еще не было сказано, он произнес, не оборачиваясь:
— Ты так мало скрываешься, Пилат… Вы все так мало скрываетесь…
— Мы не делаем ничего плохого. Зачем нам скрываться? Лукан не обратил внимания на мой вопрос. Он продолжал:
— Помнишь, что случилось несколько месяцев назад с Помпонией Грециной, женой Авла Плавта?
Как не помнить? Найдется ли в Риме хоть один христианин, которого не взволновала опасность, угрожавшая нашей сестре? Я предпочел, однако, не отвечать на вопрос Лукана; председательствуя на фамильном трибунале, который он мудро предпочел публичному процессу, Плавт оправдал свою супругу от обвинения, выдвинутого против нее доносчиком: принадлежность к чужой секте, практикующей преступные обряды… Мне не стоило возбуждать подозрения, признавая, что Помпония из наших. Поэтому я молчал, угадывая горькую улыбку Тита Цецилия:
— Не сомневаюсь, в угоду твоей дочери и твоему Христу, что ты простил меня, Пилат; однако я хорошо понимаю, что прощение не означает доверия. Ты не скажешь мне, что Помпония Грецина христианка, но это неважно. Я это знаю, и другие знают, как я знал, прежде чем ты сам мне сказал, что принадлежишь к ученикам Галилеянина. Именно об этом я хочу поговорить с тобой. Вы живете в вашей сказочной мечте, убаюкиваете себя вашей Любовью, вашим Прощением и грядущим пришествием вашего Царства Мира и Счастья. Сегодня над вами лишь насмехаются, но завтра… Задумывались ли вы над тем, что может произойти с вами завтра?
Да, я задумывался. Мы все об этом задумывались. Да и как, впрочем, могло быть иначе? Я вспоминал Стефана, побитого камнями у ворот Иерусалима… Тот грек был первым, но других постигла та же участь, и многих ожидало нечто подобное. Я ответил:
— Христос сказал: «Не бойтесь тех, которые могут убить тело и не могут сделать ничего больше».
Вновь раздался горький смех Лукана:
— Кай Понтий, есть более или менее приятные способы освободиться от жизненной ноши, тебе это хорошо известно. Поэтому будьте осторожны все, сколько вас есть, Помпония, Пуденция и ее дочь, ты и твои домашние, твои друзья Павел и Петр… О вас слишком много судачат в Риме. Может настать день, когда по той или иной причине Луций Домиций Агенобарб захочет прислушаться к клеветникам, и никто не решится возвысить голос в вашу защиту.
Тихо, так что я не успел заметить, вошел раб, и Лукан сделал ему знак проводить меня. И лишь оказавшись на улице, в привычном водовороте толпы, криков жертвенных животных, после могильной тишины, царившей у Тита Цецилия, я осознал, что не предложил ему повидаться с Павлом.
Поспешно вернувшись к себе, я написал Лукану, намеками предложив ему повидаться с другом, о котором он недавно говорил и который, по моему убеждению, может ему помочь. Тит Цецилий ответил любезной запиской, что Кесарь выразил желание, чтобы он сопровождал его в поездке в Кампанью и что по возвращении он подумает, целесообразно ли ему предпринять подобный шаг, во всяком случае он поблагодарил меня за это предложение. На следующий день, как и говорил, он отправился на юг с обычным кругом друзей Кесаря. Озабоченный и огорченный его отказом, я размышлял, как долго еще Лукан сможет скрывать от Нерона, старательно окружавшего себя самыми прекрасными, остроумными и рассудительными людьми, ту болезнь, которая его подтачивала…
Первые дни апреля принесли в Рим ошеломляющую весть о смерти Юлии Агриппины, которая была убита по возвращении с ужина, данного в ее честь Нероном на роскошной вилле Бавлов, во время торжеств по случаю праздника Минервы… Кесарь сообщил Сенату, что его мать сплела заговор против его жизни, желая оправдать одно из самых жутких преступлений, какими когда-либо осквернял себя человек. Так свершилось то, что предсказал авгур в момент рождения Нерона: он будет править, но убьет свою мать; так осуществилось кощунственное желание Августы, которая посмела сказать в ответ: «Ну и что! Пусть убьет, лишь бы правил!»
Я принялся размышлять о предостережениях Лукана и о том, на что способен человек, приказавший убить собственную мать. Не я один задавался вопросом о грядущем. Несмотря на благодарственные жертвоприношения богам во всех храмах за спасение жизни Кесаря, Рим был наполнен самыми зловещими слухами.
Петр, которого я поставил в известность о разговоре с зятем, не проявлял признаков беспокойства. Ведь тому же Титу Цецилию было ясно, что мы были преисполнены желанием жить в своем кругу, ожидая Второго Пришествия, и Петр не мог себе представить, отчего преступления Кесаря, какими бы чудовищными они ни были, могли коснуться нас. Но Павел воспринял мои слова со всей серьезностью и, не принимая во внимание возражений Кая Корнелия и его дочери, настоял на возвращении в Транстеверию. Там, в двух маленьких мрачных комнатках, на верхнем этаже старого дома, в глубине улочки, где жили несколько бедных иудеев, Тарсиот оставался неприметным. Часто я предпринимал рискованные восхождения по шаткой лестнице, которая вела к нему, и, усевшись на единственном табурете, часами наблюдал, как он ткет холст для палаток при слабом свете коптящей лампады, которая распространяла сильную вонь. Порой Павел начинал упрекать своих учеников, оставшихся в Коринфе, Филиппах или Эфесе, или ворчал по поводу римского правосудия, и я делал все возможное, чтобы его успокоить, уверяя, что апелляция к префекту Претории вскоре будет рассмотрена. Но Павел явно не верил ни одному моему слову. Впрочем, я и сам себе не верил. Бурр был перегружен, и другие дела, бесконечно более серьезные, чем это, занимали его время. Необходимо было чье-то вмешательство, чтобы ускорить дело. Я давно уже не имел таких возможностей, но когда имел, не пользовался ими из смутного опасения спровоцировать драматические события.
В иные дни я находил Павла спокойным, улыбающимся и умиротворенным, диктующим письмо Луке, антиохийскому врачу, помогавшему ему с отправкой писем, ведь у Павла было слабое зрение и глаза его быстро утомлялись. Я слушал его. Однажды вечером я пришел в тот час, когда он диктовал слова, которые я записал:
— Если я говорю всеми языками человеческими и ангельскими, но не имею любви, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и имею всякое познание, и ведаю все тайны, если обладаю полнотой веры, передвигающей горы, но не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение бедным, отдам мое тело на сожжение, но любви не возымею, нет мне в том никакого проку. Любовь прощает все, верит всему, милосердствует ко всему, уповает на все.
Тогда, в полутьме, царившей в комнате, я думал о Понтии. Она не слышала тех слов, которыми Дух вдохновил Павла, но разве не следовала она им на деле, до самого смертного часа? И еще я думал о Лукане. Я знал, что он вернулся в Рим, и мне хотелось его повидать. Трижды я приходил к нему, и трижды раб отвечал, что хозяина нет дома. Кончилось тем, что я послал ему письмо, которое осталось без ответа. Я стал подозревать, что Тит Цецилий сердится на меня за то, что я был свидетелем его слабости и слез.
* * *
Мы с Флавием, вопреки нашим старческим привычкам, легли поздно. Антиох получил отпуск, и у моего галла был на сердце праздник, как и всякий раз, когда сын получал возможность на несколько дней покинуть лагерь в Данубии. При каждом его появлении в Риме я следил за тем, чтобы ужин был изысканным, а вина отборными. Так мало на свете людей, которых я могу побаловать… В эти последние годы меня неоднократно посещала мысль усыновить Антиоха и оставить ему мои бесполезные богатства. Это был бы достойный способ отблагодарить моего тевтобургского центуриона, если только материальные блага, как бы велики они ни были, способны вознаградить того, кому я дважды обязан жизнью, того, кто привел меня к истинному Свету. Я еще не говорил об этом с Флавием, поскольку не знал, как он к этому отнесется.
Антиох нисколько не был похож на мать, за исключением иссиня-черных волос; несомненно, мне было бы гораздо менее приятно, если бы он чертами напоминал сирийку Зенобию. Антиох являл собой точный портрет своего отца и был таким же широкоплечим и сильным. В самом деле, мне ничуть не претила идея однажды оставить ему мой перстень всадника, мое имя и наследство. Продиктовать завещание и сделать распоряжения, которые обеспечили бы будущее молодому человеку, мне предстояло уже очень скоро, у меня оставалось мало времени.
Я как раз обдумывал эту мысль, когда вошел Адельф, который сообщил мне, что меня спрашивает вольноотпущенник Тита Цецилия и что дело срочное. Вот уже почти год как Лукан ничего не сообщал мне о себе, и эта внезапная поспешность испугала меня. Даже не узнав, чего хотел от меня этот человек, я стал укорять себя за то, что не проявил больше настойчивости, обидевшись на упорное молчание зятя. Мои худшие предчувствия оправдались: прошлой ночью Лукан пытался покончить с собой.
Во время одной из публичных лекций, на которых мне случается время от времени появляться, несколько недель назад я слушал, как Луций Анней Сенека весьма учено рассуждал о свободе выбора момента смерти и о легкости, с которой человек может расстаться с этим миром. На какое-то мгновение я особенно был поражен несколькими прекрасными пассажами, которые напомнили мне наставления Павла и касались выяснения того, что уготовано в этой жизни для добропорядочных людей. Взволнованный таким совпадением, я приобрел список его трактата, очень дорого, потому что после жестокого убийства Агриппины, любовником которой, по слухам, когда-то был Сенека, вновь обратившись к философии, он продает свои мысли на вес золота. Я решил заказать для себя еще один список, чтобы предложить его вниманию Павла.
Но в данный момент меня занимали не блестящие рассуждения Сенеки о добропорядочных людях, рожденных являть собой пример для других, но главным образом его абсурдное утверждение о легкости самоубийства… Лукан только что нанес себе жестокую рану; случай, повторяющийся чаще, чем думает Сенека. Катон и Марк Антоний — наглядный тому пример; у всякого он отнимет желание броситься на меч и неудачно вспороть себе живот. Я вновь слышу слова зятя: «Это один из более или менее приятных способов покончить с тяготами жизни». Боюсь, он избрал не самый приятный.
Я забросал вопросами вольноотпущенника, кажется, араба из Пальмиры, еще юного, заметно потрясенного. Нетрудно было догадаться, какие узы связывали его с хозяином и какими услугами он купил себе свободу.
Да, Тит Цецилий был тяжело ранен. Да, он страдал. Он не позволял позвать врача. Но хотел меня видеть. Я приказал Адельфу быстро приготовить мои носилки. Возможно, пешком я добрался бы скорее, но вот уже два дня меня мучали приступы сердечной болезни. Я послал на поиски врачевателя Луки, чтобы просить его навестить Лукана. Он учился в Александрии, и, с тех пор как поселился в Риме, я, как и Пуденций, как и все христиане Города, обращался только к нему.
Я не знал, что Тит Цецилий жил теперь в комнате, которая прежде принадлежала Понтии. Я вспоминаю о покоях, которые он занимал в Кесарии, трех комнатах, побеленных известкой, спартанской обстановке. По-военному скудный быт навсегда связался в моем сознании с личностью моего зятя, несмотря на пышность, с какой он принимал гостей, и умеренную роскошь его кабинета. Поэтому, видя его почивающим в комнате жены, даже спустя столько лет убранной согласно вкусам моей дочери, я растерялся. Ничто не изменилось с того отдаленного осеннего утра, когда я пришел к Понтии с просьбой о разводе. И ничто, увы, — с того страшного вечера, когда она умерла… — Фрески немного поблекли, но я вновь увидел процессию греческих танцовщиц с гирляндами роз, иллюзорными дверями, открывающимися в воображаемые сады со множеством водоемов, фонтанов и птиц. Мебель из редких пород деревьев, с тонкой инкрустацией, сверкала глянцем, выдающим заботливый уход. Все было, как прежде, Лукан не пожелал изменить ни малейшей детали.
Так же, как великолепный портрет, скрытый за шторой его бюро, верность памяти о моей дочери тронула меня и дала мне, хотя я вряд ли еще в нем нуждался, доказательство жестокой, но подлинной любви, которую на самом деле испытывал к ней Тит Цецилий… Я долго считал этого человека наделенным душой грубой, но простой, в то время как его мучения, пороки, ошибки, угрызения совести выдавали в нем человека весьма непростого…
Переменилась лишь кровать в глубине комнаты. Это было уже не мягкое и роскошное ложе Понтии, но складная походная кровать офицера, контрастировавшая с утонченной обстановкой; ее мучительные неудобства мне известны.
Увидев, что я вошел, Лукан попытался подняться, но тяжело повалился назад, испуская стоны и жалобы, в которых бессильная ярость боролась с болью. Плохо фиксированная окровавленная повязка, кровь пропитала простыни. Но холодная улыбка все еще выдавала в нем человека, который, несмотря ни на что, жестоко смеется над самим собой и окружающими. Почти обычным голосом он сказал:
— Никогда не будет должным образом восхвалено мужество Катона, который сделал это дважды, Пилат… Клянусь Марсом, я был уверен, что я храбрее. Мне было так плохо, что я не нашел в себе сил ударить еще раз.
В алькове было сумрачно, однако не настолько темно, чтобы помешать мне разглядеть зятя и уяснить себе причины его поступка. То, что в прошлом году было всего лишь маленьким пятнышком на виске, поразило лоб и подступило к щеке; там и сям появились другие пятна: на плечах, шее, груди. Отпечаток болезни, который был у него на предплечье, продвинулся в сторону кисти щупальцами осьминога. Сохраняя невозмутимость, Лукан дал мне возможность рассмотреть этот кошмар и мягко пояснил:
— В течение трех месяцев я был не способен держать меч… Не говори мне, что были другие средства: вскрыть себе вены или принять яд, ты считаешь это достойным для мужчины?.. К тому же я был убежден, что так проще… Кассий и Брут, не задумываясь, с первого удара пронзили себе сердце.
Охваченный чувством бесконечного сострадания, я не находил слов; я не мог его порицать. Горькая улыбка Лукана внезапно смягчилась:
— Я не предполагал, Гай Понтий, что у нас будет случай еще увидеться. У меня довольно гордости, чтобы не желать демонстрировать тебе, что сделала со мной болезнь. Я все приготовил. Тебе должны были передать письмо, которое лежит там, на столе. Я рассказываю в нем замечательные вещи; они оберегали мое тщеславие и представление, которое я имел о себе самом и своей добродетели и которое было весьма далеко от истины… Можешь прочесть, если хочешь; это предназначено тебе.
Я взял конверт, сломал печати; я читал, а Тит Цецилий наблюдал за мной. В письме говорилось:
От Тита Цецилия Лукана
Каю Понтию Пилату привет!
Припоминаешь ли ты, милосердный тесть, разговор, который был у нас с тобой в прошлом году? Я говорил тебе тогда, что ваш Христос изобрел всепрощение — вещь весьма страшную, против которой мы, со всей нашей силой, уверенностью, мощью, остаемся безоружными. Я об этом много думал на досуге, и мысль о том, что я ошибался, постепенно завладевала мной.
Ибо поистине ничто и никто не может обязать нас принять ваше прощение, которого, к тому же, мы у вас и не просим.
Я причинил тебе зло, Кай Понтий, много зла. Вначале — потому, что не понимал, почему ты поступаешь так, а не иначе, и презирал тебя. Потом — потому, что для меня стало невыносимо сознавать, какое место ты занимаешь в сердце Понтии, ибо я хочу, чтобы ты знал: я любил твою дочь и она любила меня. В тот вечер, когда ты пришел потребовать у меня согласия на развод, я пригрозил тебе убить Понтию, и я тогда сделал бы это, ибо мысль о том, что ты заберешь ее, была для меня невыносимой. Если бы она согласилась покинуть меня, я бы ее убил. Но она отказалась уйти с тобой, она выбрала меня. Можешь не прощать меня за то, что я сейчас скажу, Кай Понтий: Понтия любила меня больше, чем тебя.
Она приняла смерть от меня помимо моей воли. Она умерла, а я, любивший ее, принужден жить, зная, что я ее убил. Твой Христос и ты не были столь милосердны, чтобы избавить меня от этой пытки, которая продолжалась тринадцать лет. И ты желаешь, чтобы я принял ваше прощение! Нет, Пилат, нет… Оставьте себе прощение, я не хочу его, все вы такие…
Позволь мне, однако, предложить тебе два подарка. Первый ты найдешь в моем бюро, мой интендант имеет поручение передать его тебе в собственные руки: это портрет твоей дочери.
Второй должен тебя убедить, что я не держу злобы ни на тебя, ни на твоего Галилеянина, ни на кого-либо из тех, кто следует за ним. Я знаю, что твой друг Павел тщетно ожидает в течение почти двух лет возможности предстать перед Бурром или одним из его подчиненных, чтобы наконец завершилось дело, которое сталкивает его с иерусалимским Синедрионом. В том ритме, в котором действует римское правосудие, его дело рассматривалось бы до греческих календ. Вот уже три дня, как я написал Бурру и попросил его ускорить процесс, а также завершить его прекращением дела, с минимальными задержками; префект заверил меня, что твой друг может даже лично не являться в трибунал. В конце недели или чуть позже Тарсиот будет свободен покинуть Рим или остаться в нем, как ему покажется лучше, и продолжать распространять ваши басни.
Но знаешь ли ты, Пилат, что твой друг Павел есть не кто иной, как фарисей по имени Савл, который, во времена твоего прокураторства, участвовал в избиении камнями греческого иудея по имени Стефан? Не является ли это еще одним следствием вашего прощения, которое ведет к тому, что жертвы благословляют своих палачей, а палачи кончают тем, что оказываются в рядах жертв? Это мне представляется еще одним основанием сказать тебе, что я не желаю ни ваших благодарностей, ни ваших благословений, ни, конечно же, вашего прощения…
Будь здоров!
Я положил письмо на место, и наблюдавший за мной Лукан сказал:
— Ты понимаешь, Пилат, как я был доволен собой, когда закончил писать? Очень доволен…
Я посмотрел на него, не имея сил произнести ни слова. Пятно крови на простыне под ним постепенно разрасталось. Луки все не было. В конце концов я спросил:
— Так ты больше не испытываешь удовлетворения от этого письма, Лукан?
Какими-то мгновениями, благодаря игре света, следы гадкой болезни, пожиравшей его лицо, словно исчезали, и моему взору представали благородные и тонкие черты моего трибуна; порой же я видел лишь эту отвратительную проказу, и мне казалось, что я столкнулся лицом к лицу с воплощенным Янусом. Человек с двумя лицами — таким был Лукан. И таковы, возможно, все мы… Но каково же было его истинное лицо, сокрытое под этими масками?
Тит Цецилий вздохнул:
— Пилат, этой ночью я видел Понтию.
Он сделал паузу, дав мне время осмыслить это сообщение, и продолжал:
— Думаешь, я брежу, думаешь, кровотечение и лихорадка смущают мой рассудок… Я утверждаю, что видел Понтию этой ночью, в то время как я лежал в крови, распростертый на земле, жестоко страдая от боли. Она склонилась ко мне, положила руку мне на голову и сказала: «Тит, я жду тебя. Тебе надо только найти путь».
Лукан издал отчаянный стон:
— Пилат, я хочу вновь встретить Понтию! Я хочу снова увидеть мою жену! Мою Понтию… Верни мне ее, сжалься надо мной! Я тебя умоляю, скажи мне, где этот путь!
В комнату вошел Лука и отстранил меня от больного; наклонившись к Лукану, он ответил вместо меня:
— Христос есть Путь, господин.
Наука Луки была бессильна против раны Тита Цецилия, но он предложил ему лекарство, которого ни один другой врач не смог бы ему дать. Обычно лишь Петр или Павел пользовались правом давать крещение, но времени не оставалось, а перед лицом смерти это право получает каждый христианин. Вода, несущая вечную жизнь, пролилась на чело моего зятя, прежде чем его душа воспарила навстречу Понтии. Поскольку Лукан еще тревожился и вспоминал свои прошлые деяния, Лука улыбнулся и, обернувшись ко мне, сказал:
— Возможно, ты этого не знаешь, Пилат, но, когда я еще был на Востоке, я жил в Эфесе, поблизости от Иоанниса, который там поселился. При нем жила одна пожилая женщина, и эта женщина, да будет она благословенна во веки веков, была Матерью Христа… Часто она говорила мне о Нем. И вот что она рассказала мне однажды: когда Господь был прибит гвоздями ко кресту — прошу прощения, Пилат, что напоминаю тебе об этом, — ты приказал одновременно с Ним казнить двух зилотов из шайки бар Аббы. И вот, в мучениях, один из них непрестанно поносил Учителя, укоряя Его, что он не может избавить их от наказания; но его товарищ заставил его замолчать, сказав, что они оба приговорены справедливо, тогда как Галилеянин, как всем было известно, никогда ничего дурного не совершал. Затем, обратившись к Учителю, он произнес: «Иисусе, помяни меня, когда будешь в Царствии Твоем…»
Лука склонился к Лукану, дыхание которого становилось все более затрудненным; он осторожно вытер сверкающие капли пота, вызванного агонией, и, обратившись к умирающему, спросил:
— Знаешь ли ты, Тит Цецилий, что ответил Христос зилоту-убийце? Он сказал ему: «Поистине, Я тебе обещаю, этим же вечером ты будешь со Мной в Моем Царстве». Да, прямо сейчас ты будешь с Ним в Его Царстве.
Возможно, из-за слез, застилавших глаза, мне показалось, что, когда я сомкнул веки Лукана, на его лице и теле не осталось никаких следов проказы…
Не прошло и недели, и Бурр, как и ожидалось, вынес решение в пользу Павла о прекращении дела. Тремя днями позже Тарсиот покинул Рим, направив свои стопы в сторону Галлии и Испании.
XIII
Почти четыре года я изо дня в день откладывал церемонию, в результате которой Антиох должен был стать моим наследником и приемным сыном. Возможно, так продолжалось бы и далее, если бы здоровье моего старого Флавия не начало внушать серьезных опасений. Хотя он имел очень приблизительные представления о дате своего рождения, и, помимо всего, как я думаю, никогда не умел соотносить невероятный лунный календарь кельтов с нашим солнечным, мой галл, кажется, приближался к весьма преклонному возрасту: восьмидесяти годам. Сам я накануне отпраздновал свой семидесятипятилетний юбилей, так что у нас обоих оставалось слишком мало времени, чтобы и дальше терпеть эти проволочки. Тем более что нынешней зимой мой старый центурион подхватил бронхит, который едва не унес его в могилу. Январь в том году был необычайно холодным, а Флавий уже не был похож на того молодого воина, который мог неделями пробираться по заснеженным северным лесам, даже не простудившись. Очевидность, с которой нам обоим трудно примириться…
Что я стал бы делать без Флавия? Одного этого вопроса довольно, чтобы вогнать меня в глухую тоску. Однако его болезнь, поставила меня лицом к лицу с реальностью: мы были стары, немощны, уже на краю могилы. И я решил наконец распорядиться своими делами. Со вчерашнего вечера Антиох — мой сын, я дал ему свое имя и, после моей смерти, свое состояние. Беру на себя смелость верить, что он никогда не обесчестит мой род.
Я и не думал, что эта церемония доставит мне такую радость. Я наконец отблагодарил своего старого товарища по оружию, обеспечив его сыну будущее, которого они не могли ожидать.
Антиох, которого я никогда не называл его первым латинским именем Марк, проявил приятную непринужденность и учтивость, с доброй улыбкой встретив приглашенных, воплощая собой достойную скромность — именно то, что я от него ожидал. Первый раз я увидел его в тоге. Мне понравилась его осанка, и я заметил то, что раньше от меня ускользало: молодой человек красив, о чем свидетельствовали одобрительные взгляды женщин. Может, мне стоило позаботиться о том, чтобы он заключил достойный Понтиев брачный союз, хотя его происхождение и исключало возможность брака в патрициате. Ведь я был достаточно богат, чтобы приобрести моему сыну дочь какого-нибудь всадника с сундуком, набитым сестерциями. Если только у Антиоха не достанет мудрости предпочесть такому супружеству союз с одной из наших сестер… Но проявит ли он такую мудрость?
Я перечитываю эти строки и не без сердечной боли обнаруживаю это имя сына, данное потомку Флавия… Написать его было не так легко. Я очень хорошо знаю, что так долго удерживало меня от воплощения этого замысла с усыновлением: воспоминание о моих собственных детях. Не проходит ночи, чтобы они не наполняли мои сны, дня, чтобы их образы, улыбки, голоса не преследовали меня, — правда, теперь я вижу и слышу их с ностальгией, исполненной ожидания и надежды, а не в состоянии беспросветной тоски, которая некогда заставляла меня призывать смерть.
Господи, почему Ты медлишь возвратить их мне? Сколько еще времени Ты хочешь, чтобы я пребывал в этом мире разлученным с теми, кого люблю, разлученным с Тобой?
Да, мне трудно называть Антиоха сыном, когда я вновь вижу Кая гордо сидящим на лошади, ведомой внимательным и счастливым Нигером; когда я слышу ломкий голос Авла, с восторгом первооткрывателя декламирующего великолепное обращение Цицерона: «Доколе, Каталина, ты будешь испытывать наше терпение?» Трудно называть его моим сыном, когда мне представляются круглые розовые щеки Луция, его доверчивая и нежная улыбка; еще труднее, однако, мне бывает, когда я вновь вижу Понтию в ее торжествующей красоте и представляю себе ребенка, которого она могла мне родить, если бы Богу было угодно… Порой мне кажется, что я предаю их всех, профанируя священное имя «отец», которым только они вправе меня называть.
Но разве не те же чувства обуревали вчера вечером Флавия? Пусть для его же блага, но я похитил у него единственного сына, которого, как я лишь теперь обнаружил, подавленный этим странным открытием, упорно считаю молодым человеком, хотя ему уже сорок пять…
Обычай требует, чтобы я испросил аудиенцию у Кесаря и представил ему того, кто отныне будет носить мое имя. Этого я делать не буду. Первая и самая очевидная тому причина заключается в том, что в настоящее время Нерона нет в Риме. После длительного пребывания в Греции он отправился в Антий; было бы удивительно, если бы он решился вернуться оттуда до первых осенних дождей. Кто знает, буду ли я еще жив тогда?..
Согласно официальным сообщениям, — Бурр умер от опухоли в горле, а то, что Нерон подослал к нему во время этой болезни своего личного врача, свидетельствует о привязанности августейшего воспитанника к своему старому учителю… Октавия… Кто решился бы усомниться, что Августа нарушила скуку своего изгнания в объятиях случайного любовника и что она возбуждала свою страсть, стремясь отомстить за презрение супруга, который развелся с ней? Эта история слишком напоминает то, что произошло с несчастной Валерией Мессалиной, и мне так и слышатся возгласы: какова мать, такова и дочь!
Может быть, Нерон и неповинен во всех тех смертях близких ему людей… Может быть, но я, по примеру всех тех, кто сохраняет хоть каплю здравого смысла, стараюсь держаться подальше от Агенобарба… Я не буду просить аудиенции у государя. Я не пойду приветствовать его в построенном им сказочном дворце, который соединил дом Мецената и старые строения Палатина. Я не увижу сказочных сокровищ, которые он там собирает: статуй Фидия и Праксителя, картин греческих мастеров, которые, как говорят, он охотно показывает своим гостям.
* * *
Я ошибался, полагая, что Кесарь задержится на Юге. Когда прошел слух, что Нерон решил ехать в Грецию и оттуда отправиться морем в Коринф, плебеи взволновались, и государь счел необходимым возвратиться в Рим, по крайней мере на несколько недель. Дабы утешить его, Тигеллин организовал в роскошном зале на другой стороне Тибра вечеринку, шум которой сотрясал весь Рим. Думаю, не стоит говорить, сколь далеко зашло там дебоширство.
Пуденций рассказал мне о том во всех подробностях. Сенаторы дают понять, что весьма шокированы, но я не уверен, что их благочестивое возмущение не объясняется просто тем, что они не были приглашены на эту беспрецедентную оргию. Кай Корнелий вынужден был прервать свои скабрезные анекдоты, когда Пуденциана тихо вошла в комнату. Интересно, что эта некрасивая целомудренная девушка сказала бы, услышав, как ее отец говорит о столь неприличных вещах? Забавно, что Пуденций покраснел, как провинившийся мальчишка, и поспешно сменил тему разговора.
Но Кай Корнелий не единственный, кому было дело до мерзостей, чинимых Агенобарбом. Все те, кто собрался у него тем вечером вокруг святой трапезы, не говорили ни о чем другом, и даже Петр в своем поучительном слове, с которым он по обыкновению обращается к нам, не смог обойти эту тему. Он, обычно игнорирующий гуляющие по Риму слухи, говорил о гнусностях, бесчестии, которые непременно навлекут на Город гнев Божий. Он напоминает о небесном огне, обрушившемся на Содом и Гоморру… Мы с Пуденцием обменялись взглядами: опасно говорить об огне в Городе в июне, когда уже несколько недель не было дождя.
* * *
Я должен был отправиться по своим делам в Кампанью, но что-то удержало меня этой весной от дальней поездки. Чем больше я старею, тем более невыносимой становится для меня мысль о смерти вдали от Города.
Я расплачиваюсь за свою привязанность к Авентинскому холму: жара в начале июля — самое худшее пекло, которое я когда-либо знавал. Даже морской ветерок, который обычно приносит немного свежести, был этим летом всего лишь смолистым дуновением, поднимающим облака пыли. Как-то перед самым закатом я пожелал спуститься к форуму. Носильщики с трудом прокладывали путь для моего паланкина через плотную толпу, которая вытекала на улицу из перегретых помещений. В портиках тоже было жарко и душно. В конце концов нам удалось пробраться через ворота храма Марса Мстителя. Там, среди колонн из черного мрамора, под высокими сводами, было всегда прохладно. Однако мне не захотелось задерживаться там, в капище идолов. Когда я пересекал городскую черту, я вдруг словно заново увидел Рим. Вечернее небо было ярко-сиреневым, последние лучи солнца освещали монументы, с несравненным блеском окрашивая их в золото, бронзу, пурпур. Изможденная жарой толпа, обычно шумная, журчала вялым разговором, подхватываемым пронзительными криками ласточек, проносящихся над крышами.
Чтобы миновать затор, вызванный дорожным происшествием — две повозки столкнулись на перекрестке, — мои носильщики должны были на обратном пути пройти через ряды продавцов скота и мясников. Рабы тащили туши забитых животных, которые оставляли за собой лужи черной крови, вокруг которых роились мухи и слепни. Весь квартал смердел. Некоторые дома так обветшали, что их верхние этажи накренились над дорогой. Из лупанария выходили девицы и, прислонившись к стене, выставляли свои усталые улыбки и безрадостные взгляды. Субура, как и каждый вечер, распространяла запах пережженного масла, дегтя, исправно горящих факелов, пригоревшего сала от мяса, проданного после жертвоприношений, и всяческих нечистот.
Я вздохнул свободно, когда, обогнув Палатинский дворец, мы вышли на Целий. Сады вокруг замка Клавдия благоухали. Я велел остановиться, чтобы носильщики могли перевести дух, но прежде всего — чтобы вдохнуть аромат пиний, розовых кустов, жимолости и посмотреть, как зажигаются на улицах лампы и Рим превращается в мириады огней, бросая вызов Млечному Пути, загорающемуся на ночном небе. Я потребовал себе два кубка фалернского, поставленного для охлаждения на несколько дней в леднике; отец считал варварским обычай подавать вино охлажденным и советовал во время большой жары и при сильной жажде отдавать предпочтение воде из фонтана. Я начинаю думать, что он был прав: ледяное фалернское меня разочаровало. Флавий, сидевший рядом, явно получил от него не больше удовольствия, чем я. Наконец он сказал:
— Знаешь, господин, не хочу тебя огорчать, но в такую погоду нет ничего лучше галльского пива…
Этих простых слов было достаточно, чтобы пробудить в потаенных уголках нашей памяти картины вечеров в Аргенторане, закопченных таверн в погребках, где подавали полные кувшины пива, светлого и игривого, как девицы, обслуживавшие посетителей. Захваченные общей ностальгией, мы припоминали всякие истории, которые, по совести говоря, были чаще всего дурацкими, но они оживляли в нас память о нашей ушедшей молодости и наших покойных друзьях. Не припоминаю, почему в нашей беседе проскользнуло имя Зенобии. Жара, вино, усталость… Я стал кусать себе губы из-за своей оплошности, видя, как тень грусти промелькнула на лице Флавия: эта неумная и бессердечная женщина, без веры и нравственных правил, которая бросила его почти сорок три года назад, конечно, давно мертва, а он все еще оплакивает ее…
Между нами воцарилось молчание, и, не зная, как его прервать, я решил было предложить Флавию отправиться спать, когда галл указал пальцем в направлении Большого цирка, обычно утопающего во тьме, и сказал:
— Посмотри, господин, там, должно быть, какое-то ночное празднество или что-то в этом роде. Смотри, как он освещен!
Удивленный, я поднял глаза, и то, что я увидел, потрясло меня. Зрение Флавия ослабло, но все же он сразу понял, что происходит.
— Там пожар! — Я почти прокричал эти слова.
Да, вне всякого сомнения, там, внизу, у подножия Целия, близ дивных садов, где я останавливался накануне, чтобы насладиться панорамой Рима, свирепствовал пожар. Там, у входа в Большой цирк, было множество дощатых бараков, в которых в дни скачек и представлений располагались торговцы: продавцы сосисок, кусочков жареной поросятины, которые продавались завернутыми в виноградные листья, чтобы кипящий жир и соус пропитывали мясо, делая его нежным и вкусным. Возможно, один из лавочников, запирая каморку, небрежно потушил жаровню… Пожар быстро распространился на соседние лавочки, многочисленные сараи, которые загромождали всю долину и в которых хранили фураж для участвовавших в скачках лошадей, масло для осей, колеса беговых повозок, а также бочки с дегтем; еловом, множество товаров, один другого огнеопаснее… Я смотрел, как зачарованный, на громадное кольцо пламени, которое охватило часть цирка, посягая на Палатин и Целий. Знойный ветер, который обычно утихает только к ночи, многократно усилил злобную стихию пожара. В какой-то момент дым, поднимающийся с пепелища, завернул к Авентину и ароматы моего сада сразу растворились в этом удушливом запахе беды. Каким бы устрашающим оно ни было, зрелище впечатляло своей чудовищной красотой. В тот миг я еще не понимал масштабов катастрофы, которая надвигалась на Город…
В прошлом, почти каждое лето, мне не раз доводилось видеть, как начинались грозные пожары, которые мгновенно поглощали десятки домов, а иногда целые улицы в старых кварталах, изобилующих деревянными постройками. За десять лет до пожара Большого цирка стражи два дня и две ночи боролись с огнем, угрожавшим центру Города и древним памятникам. После той катастрофы Клавдий, которого преследовал страх перед возможным разрушением славных реликвий Города, особенно библиотек, увеличил число стражей и проверил, как выполняются распоряжения Августа, согласно которым граждане должны были держать у себя в доме достаточный запас воды, чтобы сразу пресечь распространение огня.
Однако — и я начинал это понимать — теперь на пути пожара стояли лишь амбары, немногочисленные сторожа которых ничего не могли противопоставить столь масштабной катастрофе. Пламя все возрастало, багряные в основании языки отсвечивали необыкновенным розовым цветом и вспыхивали порой голубыми и зелеными искрами.
Рука Флавия внезапно сжала мой локоть:
— Смотрите, господин! Похоже, загорается и в Велабре!
Изумленный, я посмотрел в указанном направлении; Флавий был прав… Ни ветер, ни логика не могли объяснить, каким образом пожар мог так быстро распространиться на этот квартал. Мне показалось, — конечно, лишь показалось, ибо я был слишком далеко, — будто я слышал треск огня, когда загорелись строения Анноны и хранилища зерна с недельным запасом, от которых занялся храм Цереры и служба Архивов Плебса. Еще две улицы — и пламя достигнет храма Весты, который охраняет пенаты римского народа.
С противоположной стороны от Велабра внезапно загорелся Целий, несмотря на свои сады, парки, храмы, дома патрициев. Обычно их пространство, бассейны, фонтаны и толстые каменные стены представляют собой достаточную преграду огню. На севере, юге, западе и востоке горело всё, что окружало Большой цирк. Словно устав лизать подножие Палатина, которое защищали стражи, пытавшиеся сбить огонь на пути к покоям Кесаря, стихия с ревом, который должен был быть слышен даже в Ости, устремилась в переулки, ведущие к Авентину. Пожар надвигался на нас. Я с изумлением видел, как пламя взвилось одновременно в двух противоположных концах квартала — у Сабинян, близ храма Ромула, и у Приска, который живет возле храма Дианы.
Я оторвался от завораживающего зрелища, которое удерживало меня на террасе, где воздух, насыщенный дымом и пеплом, становился уже непереносимым, а пламенеющая ночь навевала нестерпимый жар.
Благоразумие подсказывало мне, что надо спасаться бегством, бросить все, покинуть Город. Но я не мог на это решиться.
Когда стало всходить солнце, затмеваемое диким пламенем, я приказал рабам разместить при дверях и против окон побольше тряпок, смоченных водой. Я велел непрерывно поливать крыши и верхушки деревьев и приказал включить все фонтаны. По счастью, у меня не было недостатка в воде и мой дом был так основательно изолирован, что я мог не бояться коварных искр, распространявшихся из окрестностей. В конце концов, что могли мы делать, кроме как молиться и ждать?
Утром шестого дня огонь, которому уже нечего было пожирать на склонах Целия и Авентина, на Палатинском холме и в Велабре, поворотил в сторону виа Эмилиа, где его жертвой стал роскошный дом, которым владел Тигеллин, начальник преторианской стражи. Пожар стих лишь после того, как в течение десяти дней огонь опустошил все вокруг, сровняв с землей три квартала Рима, а также повредив, часто непоправимым образом, семь других кварталов.
Вечером десятого дня оказалось, что мой дом, почти не пострадавший, высится своими покрытыми пеплом и копотью стенами посреди пустыни. Я не мог избавиться от чувства стыда, что спасен, видя отчаяние своих сограждан, которые потеряли все. Я приютил у себя Кая Корнелия и его дочь: их дом сгорел дотла. Пуденций был так подавлен, что даже не думал оплакивать свое богатство и входить в бесполезные траты, дабы прикрыть останки разрушенного жилища. Пуденциана смущенно взирала на мир, людей и события тем же помутненным взором, который был у нее в тот вечер, когда ее носилки, поддерживаемые батавами, задыхавшимися от гари, остановились у моих ворот. Я знал от ее отца, что довелось ей увидеть на своем пути; это вполне объясняет состояние бедной девушки… Сам Кай Корнелий, бывший солдат и бравый мужчина, был едва ли в лучшем состоянии. В его полубредовом рассказе об их бегстве речь шла только о мерзостях. Они видели женщин, бросающихся в пекло в поисках детей, оставленных в многоярусном пламени; мужчин, падающих под тяжестью престарелых родителей, которых они, подобно Энею при бегстве из Трои, стремились укрыть в безопасном месте. Сцены грабежа, воровства, насилия — в такие минуты в людях пробуждаются самые худшие инстинкты… Пуденций поведал также о загадочных силуэтах мужчин, вооруженных факелами, которые бегали по улицам, поджигая дома, не затронутые пожаром, и о других, которые с мечом в руке не допускали стражей к охваченным огнем жилищам, ссылаясь на некий тайный приказ. При этих словах Кай Корнелий поднес палец к губам и положил на стол сестерций с изображением Кесаря.
Я тоже не был расположен к Нерону, однако я никак не мог себе представить, что он мог отдать приказ поджечь Рим. К тому же он сам многого лишился в результате пожара. Вместе со своим прекрасным домом, построенным не больше года назад, Нерон потерял свои коллекции: Фидиев, Праксителей, галерею картин Апеллеса и других греческих мастеров. Всякому известна безумная страсть государя к своим шедеврам. Как можно поверить, чтобы, отдав безумный приказ, он не позаботился убрать в надежное место свои сокровища? Наконец, кто поверит, что Нерон позволил бы погибнуть таким монументам, столь дорогим для всех римлян, как храмы Луны, Юпитера Охранителя, Весты, Ромула, а также бесценным чудесам искусства, собранным под портиком Помпеи и старого дворца Нумы, в то время как Субура, отделенная от Палатина построенной по воле Августа стеной, остается невредимой и продолжает выставлять свою нечистоту как оскорбление ввиду почти полного разрушения Города? Нерон не мог этого желать. Пуденций ошибался. Но когда я смотрю с террасы на руины, которые только что были Римом, — я чувствую невыразимую тоску и понимаю, что слишком зажился на этом свете.
* * *
Жилище Пуденция было удобнее, чем мое, но именно у меня Петр решил собрать общину. Видя мой атриум настолько переполненным народом, я осознал, как много сторонников в Риме у благовествования Христа. Я от души порадовался этому, но по окончании службы Линий, дьякон Петра, подошел ко мне, и то, что он поведал, очень меня обеспокоило. Кто-то распустил слух, что Город подожгли христиане, и в пригородах начались дерзкие погромы. Этим утром многие были арестованы. Линий назвал имена: красильщик Евсевий, башмачник Андроник и некоторые другие, кого я немного знаю. Ни один из них не мог быть тем злодеем, но Тигеллин, пребывавший в ярости оттого, что при пожаре лишился многого добра, мог кому угодно приписать любые преступления. Линий тряхнул головой:
— Они кончат тем, что сознаются во всем, чего от них хотят, господин: что они сожгли Рим, а возможно, и Трою. Они назовут имена. И будут новые кресты, новые признания и новые аресты… Мы все пройдем через это.
Поначалу я подумал, что он боится, но эта мысль вызвала у него веселую усмешку:
— Ты шутишь, господин! Словно то, что может произойти со старым Линием, имеет хоть малейшее значение! Нет, ты должен понять, я беспокоюсь за Петра: что мы будем делать без него? Неизбежно, рано или поздно, кто-нибудь назовет его имя. Сам знаешь, вот уже пятнадцать лет, как он в Риме, но он так плохо ориентируется здесь. И потом этот его невозможный галилейский акцент, который выдает его, стоит ему открыть рот. Ты хорошо понимаешь, что всем сыщикам Тигеллина будут сообщены его приметы… Великий Рыбарь…
Линий был прав. Если Тигеллин решил обвинить в произошедшей катастрофе христиан, из всех нас в наибольшей опасности оказывался Петр. Он нигде не смог бы пройти незамеченным. В нем есть нечто, что сразу же привлекает внимание. Линий улыбнулся:
— Господин, я пытался говорить с ним, он ничего не желает слушать. Но если Кай Корнелий и ты обратитесь к нему, вас он выслушает.
Мы с Пуденцием отвели Петра в сторону и стали расхваливать ему прелести Кампаньи в это время года; у каждого из нас там был дом, и мы предлагали ему поселиться в любом из них до зимы. Какое-то мгновение Петр смотрел на нас, ничего не говоря; потом, обернувшись к Пуденцию, спросил:
— А ты сам, Кай Корнелий, последуешь совету, который даешь мне, и отправишься в Помпеи?
Пуденций нервно кусал губы; я знаю его уже давно, и мне известно, что он не из тех, кто дает стрекача, едва дело принимает дурной оборот. Слегка поразмыслив, он сказал:
— Честно говоря, я не люблю морские купания, и Помпеи в это время года, на мой вкус, слишком многолюдны. Кроме того, как ты хочешь, чтобы мы отправились? Ты хорошо знаешь, что Пуденциана организовала службу помощи неимущим. Половина матерей семейства в Риме приходит туда за молоком для своих детей. Никогда моя дочь не захочет поверить, что эти женщины смогут обойтись без нее.
Петр огладил бороду и обратился ко мне:
— Но ты, Кай Понтий, ты наверняка поступишь согласно собственным советам. У тебя также есть дом в Самниуме, не так ли, на случай, если Кампанья летом тебе наскучит? — В ответ на мое недоуменное молчание он продолжал: — Я не сообщу вам ничего нового, ни одному, ни другому, если скажу, что одной апрельской ночью, тридцать четыре года назад, в Иерусалиме, забыл о поручении, данном мне Учителем; я забыл даже Его Самого… Трижды я ответил слишком любопытной служанке — не людям Синедриона — простой женщине, что не знал Учителя… Я даже клялся в этом Храмом… Хуже того — двумя часами ранее я бахвалился и говорил Ему, что все другие могут оставить Его, но я — никогда! Никогда, даже если мне придется погибнуть… И вы просите все повторить? Разве вы не понимаете, что я был готов умереть от стыда и тоски?
Пуденций был заметно смущен. Мы все знаем, что воспоминания, о которых напомнил Петр, были для него очень болезненными. Что же касается меня, то я вспомнил собственное отчаяние в тот день, когда мне пришлось Его оставить. Конечно, на сей раз я бы предпочел худшие пытки, дабы не переживать всю жизнь заново собственное предательство…
Флавий вывел нас из замешательства, пробормотав:
— Знаешь, господин, это не одно и то же! Тем вечером, — что сказать? У тебя был момент сомнения, слабости. Это всякий знает. Нет такого солдата, с которым бы это не случалось. А потом все приходит в порядок. Главное, что ты вернулся, что ты вновь там! Учитель вернул тебе свое доверие. Ты не должен себя укорять за это после стольких лет! Мы хотим лишь сказать, что обстоятельства изменились; тебе больше ничего не следует доказывать, налицо мужество и верность; ты так не думаешь? Сколько опасностей ты перенес! Сколько раз ты был жестоко наказан! Никто не вправе бросать тебе сегодня упреки. Напротив, мы просим тебя отправиться туда потому, что ты наш вождь и мы нуждаемся в тебе. Именно ради нас ты должен покинуть Рим. Я уверен, что этого хочет Христос!
Петр пробормотал:
— Плох тот вождь, который оставляет своих людей в начале сражения…
Мы с Пуденцием воскликнули хором: напротив, Петр может гордиться нашим опытом офицеров; плохой вождь тот, который неблагоразумно подставляет себя в начале битвы, рискуя оставить своих без предводителя, направляющего их к победе. Аргумент подействовал и Великий Рыбарь отбыл сегодня утром, по виа Аппиа. Мы сразу же почувствовали себя спокойнее.
Мы были еще в радостном настроении в связи с отъездом Петра, когда явился Флавий с печалью на лице. Петр возвратился, впав в сомнение и возбуждение, которое нас напугало, ведь он стар, и мы опасались, что он может умереть от удара. Мы усадили его, дали воды; казалось, что он не в состоянии произнести ни слова. Наконец, после долгой паузы, он начал говорить голосом, который мы не узнали, так он изменился от волнения.
— Я видел Учителя!
Заметив наше смущение, он едва не пришел в ярость:
— Нет, я не сумасшедший! Я только прошел Капенские ворота, вставало солнце. Я сначала даже подумал, что это его лучи меня ослепляют… Но свет шел передо мной, словно встречь мне. Я сказал себе, что это, должно быть, одна из тех модных колесниц, выделанных серебром или медью, которые так блестят на солнце. Но то была не колесница, то был Учитель, который шел мне навстречу. Когда я оказался рядом, я сразу же Его узнал. — Петр говорил, и слезы текли по его лицу. — Я приблизился, поприветствовал Его и я увидел, что Он грустен. Очень грустен! Я сказал Ему: «Учитель, куда Ты идешь?» Он посмотрел на меня так, как смотрел в тот вечер, во дворе дома Первосвященника, и сказал: «Петр, куда ты хочешь, чтобы Я шел? Я иду в Рим, потому что тамошний пастух оставил моих овец один на один с волками. Я иду в Рим, из которого ушел Петр, чтобы Меня там распяли во второй раз». — «Не надо, Господи, — сказал я, — не надо… Я понял, я возвращаюсь».
Петр посмотрел на нас укоризненно. Мы не решились ничего ответить.
* * *
Сегодня исполняется уже месяц с того дня, как мы отказались от собраний в моем доме. Линий был более чем прав, предсказывая, что те из наших, кого арестовал Тигеллин, рано или поздно заговорят… Не проходит рассвета, чтобы полдюжины семей не было допрошено у себя дома и отправлено в тюрьмы Туллианума — от седовласых старцев до крошечных детей. Одно время аресты проводились главным образом в Транстеверии, но сколько времени понадобится Агенобарбу, чтобы вспомнить наконец имена, угодливо сообщенные Сабиной Помпеей? Сколько пройдет дней, пока центурион не появится перед моими дверями, дверями Плавтия или Пуденция?
Павел не мог выбрать худшего времени для своего возвращения. Словно безопасность Петра и так не была для нас поводом для серьезного беспокойства, теперь к этим волнениям добавилась еще забота о Тарсиоте.
Аресты следовали за арестами, но никто еще не знал, что собирался делать Кесарь с нашими братьями, оказавшимися в заключении. Знал ли он сам? Пуденций, у которого хватило смелости пойти в Сенат и появиться как ни в чем не бывало на Палатине, будто никто не подозревал его в связи с теми, кого префект Города, Флавий Сабин, несколько дней назад назвал врагами рода человеческого, сказал, что все будет зависеть от реакции плебса. Несмотря на открытие императорских садов, несмотря на раздачу денег, необходимых вещей и зерна, которую Кесарь проводил с обычной для него щедростью, Рим роптал. С прошедшей недели для очистки территории вокруг Большого цирка, склонов Целия и Палатина стали использовать рабов, и разнесся слух, что в этих местах собираются возвести правительственную резиденцию и парки, которые — одни только они — должны занять третью часть Города. Этой новости было достаточно, чтобы оживить слухи, утверждавшие, что инициатором поджога был Агенобарб. Если это подозрение окрепнет, христиане понадобятся для того, чтобы отвести гнев плебеев от Кесаря.
* * *
Потребовалась помощь Антиоха, чтобы мы — Флавий и я — смогли спуститься по узким ступенькам, которые вели в подземелье. Мы были уже не молоды для подобных упражнений. Эта ночная экскурсия на виа Аппиа показалась нам целым приключением. Я прежде никогда не замечал руин этого дома, соседствующего с могилой Цецилия Метеллы, и не подозревал, что он скрывает целый лабиринт тайных узких проходов, которые ведут в большой зал со сводчатыми потолками. Близость гробниц и народные суеверия обеспечивают этому зловещему уголку совершенный покой. Кто отправится искать здесь врагов человечества, которых третьего дня Кесарь отдал на растерзание диким зверям?
Тигеллин ничего не пожалел, чтобы развлечь публику. Сначала псы, затем львы, медведи и тигры. Что может быть более подходящим для возбуждения жестокости грабителей, чем наблюдать, как хищники раздирают мать и ее детей, зашитых в шкуры диких зверей? Тигеллин предпочел сохранить мужчин для распятия, и вчера десятки наших братьев были распяты в цирке Марцелла, еще окровавленном после пыток их семей.
Будет ли этого довольно, чтобы успокоить неистовство Рима, или это только прелюдия к худшим кошмарам?
Когда мы вошли в подземный зал, Петр был окружен людьми, которые стояли на коленях. Среди них я узнал Пуденциану. Поначалу мне показалось, ведь в последнее время я стал туг на ухо, что они молятся. Приблизившись, я понял свою ошибку: они воссылали к небесам не молитвы, но возгласы укоров и ужаса…
— Почему ты обманул нас, Отец? Ты обещал наступление Царства и пришествие Христа; ты обещал нам жизнь, а отправил нас на смерть и мучения!
— Марция, Отче! Ты знаешь ее! Ты крестил ее! Она погибла в когтях леопарда! За что, Отче, за что?
— Они схватили моего мужа и отправили на крест! И Христос позволил им это сделать!
— Ты говорил, что Бог не оставит нас, но ты сам видишь, Петр, сам видишь!
Со всех концов зала слышны были одни и те же крики и стоны, одни и те же обвинения и вопли ужаса. Петр опустил голову, он еще больше постарел и выглядел очень усталым. На какое-то страшное мгновение мне показалось, что он не ответит, что он ничего не противопоставит бурному всплеску горя и боли. Я услышал, как Флавий пробормотал:
— Прости их, Господи! Они не поняли…
Я посмотрел на моего галла; его лицо отражало ту же непоколебимую уверенность, какую я прочел на нем тем апрельским вечером, когда он завершил свой доклад о смерти Галилеянина своим странным заключением: «И тем не менее ты в этом убедишься, господин, этот человек — Сын Божий!» Есть ли в мире что-либо такое, что могло бы поколебать веру кельта? Флавий улыбнулся мне и прошептал:
— Петр будет говорить.
В самом деле, Петр поднял голову, и его черты осветились странным светом, какой не мог исходить от коптивших повсюду тусклых лампадок.
— Сестры и братья, разве я говорил вам, что Христос даст вам покой, какой дает этот мир? Разве я говорил, что Он даст вам жизнь этого мира? Почему вы решили, что Он избавит вас от страдания и смерти, Бог, который ради любви к вам стал человеком, дабы страдать человеческим страданием и умереть человеческой смертью? Да, поистине, я знаю, что вы чувствуете в этот момент, и знаю, что ваши сердца смущены… Ибо и я, я разделял ваше смущение и мог бы дойти до потери веры, если бы меня не укрепило божественное милосердие. И я, когда увидел стражей Синедриона, ведущих беспомощного и беззащитного Учителя, когда увидел, как Его осудили, били, бичевали, когда Его пригвоздили к кресту и Он умер на кресте, умер, как недавно умер твой супруг, Люцина, моя возлюбленная дочь, я решил, что я обманулся. Да, нам может казаться, что Бог оставил нас, потому что мы — всего лишь слабые люди. Потому-то и язычникам мы представляемся проклятыми, оставленными. Наши муки и смерть воспринимаются как наказание. Да, чада мои: в глазах неверных Марция, и Андроник, и Евсевий, и все те, кто уже умер, и все те, кто еще погибнет за Христа, кажутся умершими. Но я — я утверждаю: они теперь в Свете, Мире, Радости, которые никогда не прейдут. Ибо Христос сказал: «Я Воскресение. Кто верит в Меня, будет жить, даже если он мертв, ибо если кто живет и верит в Меня, никогда не умрет». Да, дорогие чада… Поскольку вы оказались причастны к страданиям Христа, возрадуйтесь, ибо в день, когда Он восстанет во славе Своей, вы разделите с Ним радость и веселие. Вы счастливы тем, что вас преследуют ради Его имени, ибо дух Его почиет на вас. Язычники могут судить вас как воров, убийц, поджигателей, доносчиков. Какое это имеет значение, если вы ни в чем не повинны? Но если вас обвинят как христиан, не стыдитесь, прославьте Бога, который дал вам это имя. Ибо я говорю: мир скажет, что Бог отвернулся от вас, и вы вопрошаете, не оставил ли Он вас. Но именно по этой видимой богооставленности познаются и всегда будут познаваться Избранники Господа.
Петр раздал нам хлеб и вино. Когда; мы собрались уходить, к нам подошел Кай Корнелий. Он тоже выглядел постаревшим и усталым.
— Тигеллин велел сказать, что Агенобарб удивлен моим отсутствием на играх, которые он устраивает… Он настоятельно желает, чтобы я и моя дочь присутствовали завтра вечером на представлениях, которые пройдут в садах.
Голосом, изменившимся помимо моего желания, я спросил:
— Каких представлениях, Пуденций?
Кай Корнелий твердо посмотрел на меня:
— Ты узнаешь это завтра, Пилат, одновременно со мной… Агенобарб настаивает и на твоем присутствии, твоем и твоего приемного сына. По-видимому, Сабина Поппея назвала ему наши имена. — Обратив полный боли взгляд в сторону Пуденцианы, стоявшей на коленях рядом с Петром, он добавил — Христос, сжалься над моей дочерью! Я еще способен выдержать многое, но она…
И я впервые в жизни благословил Господа за то, что Он забрал у меня Понтию.
Как и сказал Пуденций, по возвращении домой я обнаружил у себя послание Тигеллина, который приглашал меня вместе с Антиохом явиться на предстоящие назавтра празднества. Когда я читал письмо, Флавий побледнел. На какое-то мгновение он закрыл глаза, и я увидел, как он дрожит, и решил, что ему плохо. Но нет: он пришел в себя. Неузнаваемо изменившимся голосом он сказал:
— Господин, вот уже много лет со мной не происходило ничего подобного… Ты помнишь, то, что я называл предчувствиями, внутренним голосом…
Да, помню. Я сам не заметил, как стал относиться ко всему этому всерьез. Мой прекрасный, разумный мир римлянина, который мешал мне открыть истину, несмотря на горячее желание ее обрести, уступил место тому, что Павел называет «возвышенным безумием о Боге». Возможно, это в отношении Флавия и кельтов сказал Христос: «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл от премудрых и сильных и открыл младенцам». Мне не так-то просто поставить моего галла в ряду смиренных и подобных младенцам, но сегодня я знаю, что именно по этой причине Флавий так легко нашел путь в Царство, который я открывал для себя с таким трудом. И я знаю, что он раньше меня познал божественную волю. На мгновение Флавий странно улыбнулся. Он бросил на меня долгий взгляд и сказал:
— Знаешь, господин, я боюсь причинить тебе боль… Потому что, кажется, я скоро тебя покину.
В недоумении я застыл с открытым ртом. На короткий миг я решил, что он испытывает желание перед смертью снова увидеть Ценоманию или, каким бы невероятным это ни показалось, боится, как боялись наши братья и сестры, простершиеся у ног Петра, и ищет повод, чтобы бежать из Города и от палачей Тигеллина. Он прочел на моем лице обуревавшие меня чувства, и его улыбка погасла.
— О нет, трибун, — сказал он отчетливо, как говорил в былые времена, когда мы были молоды, — как мог ты подумать, что центурион Флавий ищет лучший способ удрать?
Под взглядом галла, исполненным укоризны, я жалко опустил глаза. Флавий — дезертир… Наконец я промолвил:
— Прошу прощения за то, что подумал нечто подобное, хотя и всего лишь на одно мгновение.
Он покачал головой и пробормотал:
— Знаешь, господин, глупо доверять предчувствиям. Должно быть, я устал. Но, в конце концов, я хочу, чтобы ты знал… Мне кажется, что… Нужно, чтобы ты не печалился, если… — Наконец, взволнованный, он решился сказать главное: — Господин, я думаю, что скоро, хотя я заслуживаю этого меньше, чем кто-либо другой, я отправлюсь на встречу с Христом.
И резко повернувшись ко мне спиной, он исчез в саду.
Всю оставшуюся ночь я провел в молитвах ко Христу, чтобы этого не произошло. Но я знал, что все в Его руках, не моих.
Весь следующий день Флавий выполнял свои повседневные обязанности спокойно и в добром расположении духа, что быстро рассеяло мои мрачные ночные предчувствия. Я готов был даже повеселиться, если бы меня не ожидало это празднество в садах Кесаря. Вспоминая о предупреждениях зятя, я догадывался, что приглашение мне и Пуденцию объясняется каким-то коварным замыслом и что не будет случайным совпадением, если Кай Корнелий и я окажемся схваченными на празднике; все знают, что мы христиане. Какую пытку они задумали? Конечно, мои происхождение и положение избавят меня от того, чтобы кончить жизнь в цирке… В отношении старого прокуратора не может быть речи ни о зверях, ни о кресте.
Я видел тюрьму Туллианума, предназначенную для политических казней, ее стены, источающие влагу, ее полумрак, вдыхал ее удушливый воздух. Не знаю, зачем отец повел меня ее посмотреть; я был тогда еще ребенком десяти или двенадцати лет… Но я вспоминаю давящий, ужас этого места и бурые следы на плитах, относительно которых сопровождавший нас стражник утверждал, что это кровь участников заговора Катилины, которые были здесь обезглавлены. И хотя позднее я узнал, что этот человек нам лгал, так как сообщники Луция Сергия были задушены, я долго не мог освободиться от кошмаров, связанных с этим местом… Возможно, мы с Пуденцием на заре следующего дня окажемся именно там. Если, конечно, поддавшись слабости, я не брошусь в ноги к Агенобарбу, делая вид, как сделал Петр тем памятным вечером, что никогда не слышал о Христе. Долгое время я верил, что освободился от страха. Но это не так.
Паника, охватившая наших братьев прошлым вечером, овладела и мной.
«Я есмь Путь, Истина, Жизнь». А если я ошибся? Если я сию минуту отправлюсь умирать из-за причуды, из-за иллюзии? Я облачился в мою лучшую тогу и посмотрел на портрет Понтии. Если я заблуждаюсь, я никогда не увижу моей дочери, никого из моих. Но если Истина существует…
Эти строки написаны на следующий день, под впечатлением всего, что произошло. Павел их прочел. Я мог бы утаить это мгновение слабости, но предпочел довериться Тарсиоту. Я молчу. Время от времени Павел встряхивает головой, вздыхая, и я говорю себе, что в недалеком будущем он окончательно облысеет. Странные мысли в такой момент… Он кладет на стол связку бумаг и, щуря глаза, пристально смотрит на меня. Я забыл о его слабом зрении и уже сожалею, что обременил его этим трудом.
— Ты прав, Пилат, — говорит он после молчаливой паузы, — тысячу раз прав. Если все, во что мы верим, было ложным, если те, кто умер со Христом, не жили бы и не воскресли в Нем, если бы Сам Христос не восстал из мертвых, мы по-прежнему оставались бы погрязшими в наших грехах. Наша вера была бы тщетной, и мы были бы самыми несчастными из людей. — Павел улыбается. — Пилат, ты веришь, в глубине души, что мы заблуждаемся? Веришь ли ты, видевший их умирающими и умиротворенными во Христе, что наши братья отдали свои жизни за басню?
Картины страшного зрелища проходят перед моими глазами. Но я не чувствую ни страха, ни робости. Я не знаю, благодаря какому чуду человек, вышедший из садов Ватикана, в которые Кесарь заставил его прийти, чтобы поколебать его веру и мужество, покидает их, исполненный мира и новых сил. Или, напротив, знаю…
Пуденций ждал меня у себя. Мы вместе отправились на этот вечер. Пуденциана переоделась в роскошное зеленое платье, вышитое золотом. Все драгоценности Корнелиев сверкали в ее волосах, в ушах, на пальцах, на запястьях. Увидев ее такой наряженной и прибранной, я признал, что она прекрасна, и испытал особое уважение к девушке, которая оделась, как патрицианка, чтобы отправиться на смерть. Ибо у нас троих не было на этот счет никаких иллюзий.
Флавий Сабин, префект Города, поджидал нас. Он вышел нам навстречу с подозрительной поспешностью и сурово осмотрел с ног до головы. Несколько лет назад, когда Клавдий первенствовал в государстве, я часто посещал Сабина. Я уважал этого человека, моего соседа по Авентину и кузена Грецина. Я никогда не сомневался в том, что это чувство было взаимным. По взгляду, исполненному упрека и отвращения, который он на меня бросил, я понял, что нашей дружбе пришел конец. Нет никакого сомнения в том, что Флавий Сабин, прямой и чистый сердцем, добрый римлянин, большой любитель простых решений, всеми силами души верит в истории, которые напридумывали про христиан. Он искренне думает, что мы поджигатели, убийцы, враги рода человеческого, пользуясь выражением, которое прозвучало на днях в его речи в Сенате. Без душевных колебаний и с уверенностью в том, что служит Риму и правосудию, Сабин поведет нас на пытку. Одна только мысль, что я, всадник, квирит, трибун легионов, бывший прокуратор Иудеи, мог присоединиться к этой позорной секте, должна была заставить его клокотать от возмущения. Он сухо осведомился:
— Приглашение относилось и к твоему приемному сыну, Кай Понтий, я его не вижу. Где он?
Я беспомощно развожу руками. Антиох покинул нас вечером, после того как привел домой меня и своего отца; с того момента мы больше его не видели.
— Мой сын отсутствует, Флавий Сабин. Я не имел возможности вовремя его известить. — Пусть Кесарь простит меня.
Тонкие губы префекта складываются в гримасу гнева, который он с трудом подавляет. Он делает нам знак присоединиться к другим приглашенным, которые уже начали стекаться, одетые со всей роскошью. Я столько лет не участвовал в подобных приемах, что неспособен опознать, кто есть кто; большинство мужчин и женщин на двадцать, тридцать, сорок, даже на пятьдесят лет моложе меня. Я их не знаю. Хорошо бы, если бы Пуденций нашептал мне их имена. Однако вряд ли имена, вокруг которых ходит в Риме столько слухов, могут мне что-либо сказать. Многие люди беззастенчиво рассматривают нас, следят за нами любопытствующим, подозрительным, мстительным или насмешливым взглядом. Никто, однако, не делает попытки подойти и поприветствовать нас. Один или два раза Пуденций подходил к кому-либо из сенаторов, но те поспешно отворачивались, пользуясь темнотой наступившей ночи и суматохой, чтобы исчезнуть, прежде чем Кай Корнелий окажется рядом.
Пуденций заметно помрачнел и посуровел. Боюсь, он оказался не готов к такому приему. Что же до Пуденцианы, разодетой с головы до ног, то она так величественна, так высокомерна, что я невольно проникаюсь восхищением. Время от времени отец бросает на нее взгляд, и я вижу, как смягчаются его черты под воздействием законного чувства отцовской гордости.
Уже около часа мы прогуливались по аллеям сада. К элегантным группам куртизанок, августанов, друзей Кесаря, лучших из лучших, присоединились силуэты куда менее утонченные. Нерон отдал приказ впустить плебеев. Грязные дети в лохмотьях, женщины, которые могли бы быть прекрасными, если бы пожар не оставил на их лицах страшный след, мужчины, праздные и шумные, создали в парке толчею. Патрицианки, увешанные драгоценностями куда больше, чем Пуденциана, восторженно повизгивали, когда сводники Субуры хватали их на ходу за разные места.
— А я знаю, кто наверняка мечтает подвергнуться насилию в кустах со стороны какого-нибудь парня, — раздался позади нас мужской голос.
Услышав его, Пуденций обернулся с выражением радостного изумления на лице. К нам приближается человек среднего роста, с утонченными чертами, прекрасными ласковыми глазами; его темные волосы были завиты и причесаны по последней моде; он был одет в белоснежную тогу, элегантная простота которой подчеркивала его изящество. Он обратил к Пуденциане ослепительную улыбку, неотразимую улыбку законченного соблазнителя, заставив покраснеть бедную девушку, на которую ни один мужчина так еще не смотрел. Пуденций этого не заметил, весь охваченный радостным чувством, что нашелся наконец человек, который не бежит от него со всех ног. Он воскликнул:
— Кай Петроний, какое счастье!
Стало быть, это был самый любимый из августанов, Кай Петроний, столь дорогой для Агенобарба, который с ним не расставался, сделав его своим «арбитром элегантности» — титул, которым бесподобный льстец Петроний заменил свое фамильное имя… Должно быть, он был уверен в благорасположении Кесаря, раз решился этим вечером подойти к нам… Или он умело вел свою роль в утонченной и страшной игре своего хозяина?
Но Кай Петроний не был ни слабым человеком, ни усердным исполнителем бесчеловечных замыслов Нерона. Эту роль он оставил для Тигеллина. Он отвел нас в сторону, в гостеприимную тень гигантской морской пинии, одного из самых прекрасных деревьев ватиканского сада. Под ее ветвями ночь становится почти непроглядной. Мы не видели лица Кая Петрония, а его голос на минуту утратил свои утонченные обертона и свой напускной цинизм:
— Знаете ли вы, что сегодня Тигеллин поспорил с архитектором Фаоном, что вы не явитесь на этот вечер и что нам сообщат, будто вы вскрыли себе вены, дабы избежать участи, уготованной вам Кесарем?
У меня перехватило дыхание, но Пуденций спокойно заметил:
— Только Бог вправе решать, когда и каким образом мы должны умереть. Наши жизни в Его руках.
Петроний ответил с легким и безрадостным смехом:
— В таком случае я счастлив, что не христианин; это позволит мне свести счеты с жизнью по моему разумению в тот день, когда Нерон устанет от моих советов; он может в определенных случаях проявлять необычайную изобретательность и утонченность, и я предпочел бы не доставлять ему удовольствие организовывать мою смерть. Боюсь, сегодня вечером вы увидите ужасающие фантазии хозяина мира… Помните ли вы, что его законный отец, этот слабоумный Агенобарб, сказал, склоняясь в первый раз над колыбелью своего божественного отпрыска? «Что еще мы с тобой, Агриппина, могли произвести, если не монстра?» Кай Корнелий, ты храбрый человек, которым Рим может гордиться, и ты принадлежишь к числу тех, к чьему мнению в Сенате всегда прислушивались. И ты, Кай Понтий, несмотря на отставку, сохраняешь уважение многих людей в Городе. Здесь никто, я это вам решительно говорю, никто, кроме, может быть, этого деревенского идиота Сабина, который не видит дальше кончика носа, не верит, что вы каким-либо образом причастны к катастрофе, которая всем нам легла камнем на сердце. Но это не помешает им насладиться спектаклем, в котором, как они ожидают, вы выступите в заглавных ролях… Нерон не настолько глуп, чтобы предать вас смерти здесь и сейчас. Пуденций, под предлогом того, что твоя дочь нездорова, отправь ее домой; то, что здесь происходит, не пристало видеть порядочной женщине. Да и порядочному мужчине…
Пуденциана подошла к отцу, взяла его за руку:
— Я не покину отца, что бы здесь ни происходило.
Кай Петроний беспомощно развел руками и удалился, не проронив ни слова, оставив нас в страхе и ужасе.
Спустилась ночь, давящая и беззвездная; днем должна была разразиться буря. Пуденций, обеспокоенный и устрашенный, вздохнул:
— Ведь он сказал, мы воротимся домой живыми.
Да, нам суждено было вернуться домой живыми. Но из всех наших братьев нам досталась не лучшая доля.
В один миг сады Ватикана осветились. Не осталось ни одной аллеи, ни одного массива, даже самого удаленного, который не был бы залит светом. Мы заметили в конце вечера обилие благочестивых фигур, украшенных гирляндами роз и миртовых ветвей, которые были расставлены по парку и не могли быть не чем иным, как светильниками. К каждому из тех светильников, наряженные в пропитанную смолой тунику, были привязаны женщины, девушки или юноши, и пламя лизало их своими языками.
Когда Пуденциана поняла, что на наших глазах живыми сжигают наших братьев и сестер, на мгновение она оцепенела от ужаса, но затем справилась с собой и твердым голосом, на мгновение перекрывшим гудение пламени, произнесла:
— Вы Свет мира. Не может сокрыться город, который построен на вершине горы, и если кто-либо возжигает светильник, он не прячет его под спудом, но ставит на подсвечник, чтобы он светил всем, кто обитает в доме. Так и вы должны быть Светом, который светит среди людей, чтобы чистота ваших дел прославляла для них Отца, который на небесах…
Говоря так, она направилась к живым факелам, образовывавшим большое кольцо. Я хотел было ее удержать, но Пуденций остановил меня.
— На нее снизошел Дух, — сказал он тоном священного благоговения.
Да, Дух Господень снизошел на Пуденциану. Куда подевалась та перепуганная девушка, ползавшая на коленях перед Петром? Теперь она оказалась посреди кольца пламени, в котором извивались мужские и женские тела. Каким-то не своим голосом, покрывавшим шум праздника, вопли жертв, завывание приближавшейся бури, она воскликнула:
— Благословенны вы, служители Христовы, ибо вы воистину Свет миру! И тот, кто этим вечером дерзнул осветить эти сады факелами человеческих тел, еще не знает, что зажег Свет, который не погаснет, огонь, который будет гореть всегда! В этот вечер он навсегда отдал вам Город и мир! В этот вечер вы повергли их пред Христом! Придет время, и здесь, где вы принимаете мученическую смерть, Христос будет править вместо Кесаря!
Десятки любопытных образовали кольцо вокруг Пуденцианы, к которой никто не отваживался подойти или попытаться заставить ее замолчать. Одна весталка грубо оттолкнула солдата, и я услышал, как она воскликнула:
— Не трогай ее, несчастный! На нее снизошел Дух! Ты умрешь, если к ней прикоснешься…
Тут я осознал, что вокруг нас воцарилось молчание: не было больше ни жалоб, ни крика, ни стонов. И это молчание было прервано не хрипами агонии мучеников, но пением… Один из живых факелов зазвенел женским голосом, возвышенно прекрасным:
— Христос побеждает! Христос царствует! Христос повелевает!
От других огненных столпов, иные голоса, словно освободившиеся из плена замученных тел, начали возвышаться, подхватывая:
— Христос побеждает! Христос царствует! Христос, Христос, Христос повелевает!
И всюду, от одного конца сада до другого, всюду, где сгорали христиане, слитно звучали голоса, как бывает у легиона в день триумфа.
Позади себя я услышал, как вздыхала весталка:
— Несчастье богам Рима, несчастье богам Рима!
Вокруг плакали матроны, глядя на столпы, куда были привязаны маленькие мальчики и девочки, которым не было и семи лет. Одна беременная женщина, всхлипывая, крикнула:
— Эти дети, неужели это они сожгли Город?!
Величественная и неотмирная песня все звучала, постепенно слабея, дым становился все плотнее, и пламя жадно пожирало свою добычу.
Всюду распространился непереносимый запах сожженных тел. Устрашенные зеваки разошлись, кашляя и зевая.
Я почувствовал руку, опустившуюся на мое плечо; обернувшись, я увидел Флавия Сабина, префекта Города, который показался мне более бледным, чем саван, несмотря на красные блики огня, игравшие на его лице.
— Кай Петроний позаботится о Пуденции и его дочери, не беспокойся о них, Пилат. Но если ты пожелаешь по-дружески пройтись со мной, я охотно побеседую с тобой.
Он повел меня к выходу из сада, обходя те места, где мы рисковали встретить Кесаря и Августу. К нашему счастью, они вовсе забыли о том, что призвали нас на свой праздник, поскольку участвовали в воспроизведении сцен, взятых из мифологии и истории Рима. Сабин сообщил мне, что Актеон был брошен псам, Пасифаю поднял на рога бык, новому Регулу вырезали веки и сожгли руку у нового Сцеволы… Как мог Нерон пропустить подобные развлечения?
Разразившаяся буря положила конец этой кошмарной ночи. Префект Города вдруг попросил меня:
— Кай Понтий, расскажи мне о Христе.
Да, этой ночью Флавий Сабин, префект Рима, который, согласно его собственным словам, считал, что христиане — враги рода человеческого, увидев их умирающими в мире о Христе, обрел истинный Свет, просвещающий всякого человека. И другие последуют по его пути. Не знаю, когда это совершится и сколько еще христиан подвергнется пыткам, но знаю, что Пуденциана, когда ее устами глаголил Дух, сказала правду: Город и мир будут нашими. Придет время, когда Рим и Вселенная падут на колени во имя Иисуса Христа.
Мне вспоминается крик часовых, обходящих дозором наш лагерь:
— Страж, скоро ли рассвет?
Кромешной ночью рассвет всегда кажется невозможным, как кажутся ужасными опасности, сокрытые в ночи.
Время мое сочтено. На рассвете центурион, вчера препроводивший Кая Корнелия и его дочь в Туллианум, постучит в мою дверь. И я последую за ним. Да соблаговолит Христос, чтобы Сабин был уведомлен об этом и чтобы он смог, с помощью Павла или Петра, доставить нам хлеб Жизни и чашу Спасения, дабы мы были готовы свидетельствовать.
Время мое сочтено. Сейчас я запечатаю эти воспоминания, которые так часто желал бросить в огонь в уверенности, что никто никогда их не прочтет, и отправлю их префекту Города — не для того, чтобы люди хранили память о Понтии Пилате, но для того, чтобы грядущие поколения имели свидетельства благодеяний, которыми одарил нас Господь.
Порой я поднимаю глаза и смотрю на кресло перед моим бюро, в котором сиживал Флавий, не желая оставить меня одного. Кресло пустует. Мой галл не так давно угас, предчувствия его не обманули. Едва его отец скончался, я отправил Антиоха в Самниум, посоветовав ему остаться там. Он меня послушал. Я был этим бесконечно разочарован. Но, возможно, так даже лучше, ибо я уже не буду ни о чем жалеть.
Павел как-то сказал мне, что мог бы умереть с миром, потому что уже дал хороший бой. Могу ли я сказать то же самое о себе в момент завершения моей жизни и этого повествования? Как давал отчет в своих деяниях Тиберию Августу, так я дам отчет Господу, и Он узнает, что во всех случаях я стремился быть верным. Я любил Рим, любил своих близких, но теперь-то знаю, кого мне следовало любить.
Когда-то давно Иисус бар Иосиф спросил меня:
— Кай Понтий, любишь ли ты Меня больше всего?
Тогда у меня не было сил ответить «да». Долгое время я не мог себе этого простить. Но что изменилось бы в тот день, если бы Кай Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, ответил: «Да, Господи, люблю Тебя больше своей жизни, люблю Тебя больше, чем Рим, больше, чем жену, сына и дочь»?
Может быть, Господи, Тебе нужны были моя слабость, а не сила, мое малодушие, а не отвага? Мир, конечно, будет помнить, что я не сумел защитить Тебя, Тебя, чью невиновность и царственное достоинство сразу же признал. И осудит меня, но Ты, Господи, Ты неизмеримо больше, чем мир.
Да, поистине, я оставил Тебя. Ибо так должно было случиться, чтобы я оставил Тебя. Ведь Твоя сила нуждалась в моей слабости. Господи, если бы я спас Тебя, мы оставались бы в погибели…
Сейчас, в нижнем зале Туллианума, Ты вновь спросишь меня: «Поистине, Кай Понтий, любишь ли ты Меня больше всего?» И теперь уже я смогу свободно ответить Тебе: «Да. Это я, Господи!»
Без этого все теряет смысл…
Я знаю, мой Искупитель жив.
Слова признательности
Благодарю своих издателей, господ Франсуа-Ксавье де Виви и Ксавье де Бартийя, за их заинтересованность в этом проекте.
Доктора Андре Шарлю, великодушно проводившего заочные консультации всякий раз, когда это требовалось, несмотря на беспокойство, которое я ему беззастенчиво доставляла, не считаясь с его занятостью.
Свою сестру, мадемуазель Каролин Берне, которая помогала уточнить психологические реакции персонажей и определить достоверность моих гипотез. Благодарю ее за те четыре тысячи двести четырнадцать чашек чаю, которые были совершенно необходимы, чтобы довести до конца это предприятие.
Мадемуазель Мари-Мадлен Дорво, своего профессора классической филологии в Лицее Мольера, за то, что привила мне вкус к латинскому языку, его литературе и философии, любовь к Риму и римской цивилизации; за это я навсегда останусь перед ней в неоплатном долгу.
Наконец, благодарю прокуратора Иудеи, который 7 апреля 30 года не воспрепятствовал тому, чтобы Искупление совершилось.
Примечания
1
Сапоги (лат.).
(обратно)2
Рыбный соус (лат.).
(обратно)
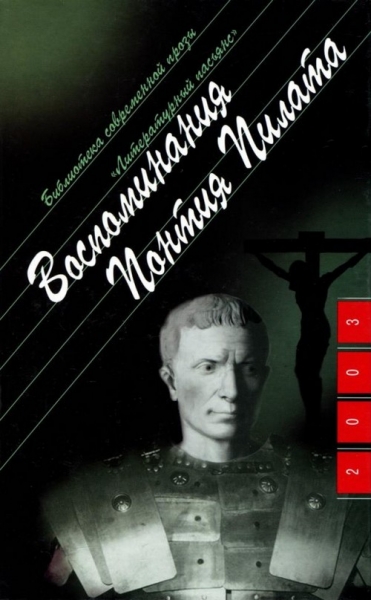






Комментарии к книге «Воспоминания Понтия Пилата», Анна Берне
Всего 0 комментариев