Алексей Иванов Тобол. Мало избранных Роман-пеплум
Часть первая Разжечь огонь
Глава 1 Ландкарта Ойкумены
Блистая доспехами из бронзы, македонцы окружили неприступный утёс, увенчанный короной крепости. Отвесные стены утёса, опалённые солнцем, побелели от вечного зноя Азии. С обрыва низвергался водопад. Сапфировое небо обжигало глаза. На утёсе, на недосягаемой высоте, укрылись последние защитники сказочной Согдианы во главе с властителем Аримазом…
Новицкий не помнил, чью горделивую латынь он так давно разбирал в библиотеке Могилянского коллегиума: «Историю» Квинта Курция Руфа? Плутарховы «Сравнительные жизнеописания»? Или «Анабасис Александра», рождённый стилосом Флавия Арриана? Неважно. Григорий Ильич сохранил в душе главное — упоение подвигами достославной древности.
— Согдыане сховалыся на скали с урвыщами и дэрзостно насмэхалыся над Олександром, крычалы йому звэрху, шо для пэрэмоги йому потрибнэ воины з крыла-ми!.. — вдохновенно рассказывал Новицкий.
Ученики за столами слушали, затаив дыхание.
В сенях школы господина фон Вреха секретарь Йохим Дитмер поставил на лавку тяжёлый почтовый сундучок с железной ручкой, обмёл ноги от снега веником, вытер подошвы сапог о тряпку и бережно повесил на гвоздь епанчу и треуголку. Голос Новицкого разносился по всей школьной избе. Стараясь не скрипеть половицами, Дитмер прошёл мимо раскрытой двери учебной горницы в сторону каморки фон Вреха. Ученики его не заметили.
Фон Врех сидел в своём кресле с высокой спинкой, повернув его боком к столу, а на лавке против стола расположился Табберт.
— Добрый день, господа, — сказал Дитмер.
Табберт коротко поклонился, а фон Врех вскочил.
— Почта из Фельдт-комиссариата, — пояснил Дитмер и с облегчением опустил сундучок на стол ольдер-мана.
— Прекрасная, прекрасная новость! — обрадовался фон Врех.
Дитмер положил замёрзшие ладони на горячий бок печи.
— Граф Пипер переслал и жалованье — вексель на полторы тысячи риксдалеров. Губернатор обещал обменять билет на русские рубли.
— Деньги всегда вовремя, — улыбнулся Табберт.
— Присаживайтесь, милый Йохим! — фон Врех подвинул Дитмеру своё кресло. — Я уже приготовил письма нашей колонии. Кто будет их читать и составлять экстракты для господина губернатора?
— В этот раз придётся мне, — усаживаясь, сообщил Дитмер. — Признаюсь, господа, я не любитель подобных деликатных миссий, но Людвиг простужен, а почтовый экипаж отбывает уже послезавтра. Так что если вы завели здесь интрижку и написали об этом друзьям, то скорее изымайте свои послания и вымарывайте, иначе я не удержусь и насплетничаю пастору Лариусу.
Дитмер шутил. Табберт понимающе кивнул. Он не сомневался, что Дитмер не доносит ни пастору, ни губернатору. Зачем? Компрометирующие сведения гораздо выгоднее использовать в своих интересах, а не для морального порицания. Дитмер держал в кулаке всю общину шведов.
— А ещё я отправляю барону Цедергельму перечень лекарств для нашей аптеки, — добавил фон Врех, подавая Дитмеру исписанный лист. — Если у вас есть личная необходимость в каких-либо снадобьях, Йохим, то дополните список своей рукой и запечатайте письмо сами.
— Благодарю, — Дитмер спрятал список за отворот камзола.
— Как дела у губернатора? — осведомился Табберт.
— Губернатор — в заботах о сборе войска. Как обычно у русских, не хватает всего. Но очень поучительно, господа, наблюдать устройство русской жизни, когда преимущество слагается из недостатков.
— Поясните, — сразу предложил любопытный Табберт.
— Извольте. Местный оружейник прозвищем Пилё-нок был отправлен в столицу для обучения разумным приёмам работы, которые следовало бы внедрить на тобольской оружейной мануфактуре. Однако затея оказалась напрасной: сей господин не понял выгод машин от действия водяного колеса и отказался сооружать подобные агрегаты здесь, в Сибири. А недавно вдруг выяснилось, что пули, заготовленные войску для похода в степь, калибром превосходят калибры мушкетных стволов. Требуется подвергнуть их дополнительной обработке в шаровых мельницах. Если машины мастера Пилёнка приводились бы в движение водяными колёсами, то по причине зимы мельницы пребывали бы в остановке.
Но машины Пилёнка работают на конной тяге, каковая не зависит от времени года, и мануфактура получила большой заказ от губернатора. Таким образом, отсталость производства явилась причиной его прибыльности. Парадокс, господа.
— Забавно, — согласился Табберт.
— Я бы не советовал, друзья, подвергать критике порядки сибирской жизни, — мягко укорил фон Врех. — Это может пагубно сказаться и на вашей личной участи, и на судьбе всего нашего общества.
— Вы правы, — кивнул Дитмер. — Кстати, губернская канцелярия готовит указ о призыве пленных на воинскую службу.
— Разве губернатору мало тех несчастных, которых уже взяли на службу насильно в качестве наказания за ту отвратительную драку на ярмарке?
— Взяты в основном нижние чины, солдаты и драгуны. Из них составят отдельный драгунский эскадрон. А полковнику Бухгольцу нужны офицеры, умеющие командовать ротами и батальонами. Не желаете записаться, господин капитан фон Страленберг?
— Это подразумевает присягу или службу на пароль?
«На пароль» означало «под честное слово дворянина».
— Увы, только присягу.
— Тогда — увы, нет. Я хочу сохранить возможность вернуться домой при любом удобном случае. А присяга подразумевает весьма обременительные обязательства. Я не желал бы повторить судьбу наивного Лоренца.
Юный и честолюбивый лейтенант Лоренц Ланг мечтал о карьере, а плен, разумеется, закрыл для него все пути. И Лоренц решился поступить на русскую службу. Ничего недостойного в этом не было, однако товарищи по плену всё же отговаривали его. Лоренц не внял их уве-щеваньям. Он принёс присягу, рассчитывая, что его переведут в столицу России, где он сумеет занять достойное место на дипломатическом поприще. А губернатор Гагарин прикрепил Лоренца к китайскому посольству. И в результате Лоренц сопроводил китайцев на Волгу к хану Аюке, а теперь вместе с посольством отправился в Китай как шпион губернатора. Он должен был учредить в Пекине русское представительство. Сомнительно, что его миссия смогла бы увенчаться успехом: император был недружелюбен к русским, а Лоренц не знал ни языка, ни обычаев Китая. В Тобольске все понимали: если Лоренц добьётся успеха, то русские не дозволят ему бросить столь важный пост. А если успеха не последует, то и на карьеру не стоит надеяться. Ланг совершил опрометчивый поступок. Ему сочувствовали. Он сам обрёк себя на жизнь вдали от родины. Но в душе Табберт немного завидовал Лоренцу: юноша увидит необыкновенные страны и города, пустыни и горы, Великую стену и загадочного богдыхана… Хотя эти впечатления останутся миру неведомыми.
— Мне показалось, будто вы, господин капитан, настолько увлеклись Россией, что согласны и на присягу русскому царю, — заметил Дитмер.
— Вы ошибаетесь, господин секретарь, — улыбнулся Табберт. — Россия мне, безусловно, интересна, и всё же моя мечта — Швеция.
— Это наша общая мечта, господа, — торжественно изрёк фон Врех.
Дитмер сложил почту в свой сундучок, и Табберт помог вынести его на двор, где Дитмера у коновязи ожидала лёгкая кошёвка. Здесь фон Врех уже не был свидетелем, и Табберт спокойно договорился, что Дитмер завтра заедет к нему домой за посланием, о котором ольдерману знать не надо.
Капитан Табберт целый год переписывался с бароном Цедергельмом, главой королевской канцелярии, и графом Реншельдом, фельдмаршалом, чтобы эти господа, пользуясь своими связями, переправили его ландкарту в университеты Вены, Кёльна или Гейдельберга. Русские чиновники читали письма пленных, и Табберт, скрывая суть, в письмах именовал ландкарту «портретом Марии». Барон Цедергельм первым изыскал способ доставить «портрет Марии» в Кёльн некоему декану Крониельму.
Табберт в последний раз расстелил карту на постели, любуясь своим трудом: Тобол, Иртыш, Обь, озеро Зай-сан и озеро Чаны, Тургайская и Барабинская степи, Тюмень, Тара, Тобольск, Сургут, Нарым, Берёзов, Обдорск, Мангазея… Табберт тщательно сложил полотнище втрое и скрутил в трубку, чтобы уменьшить количество сгибов, которые могли повредить изображению. Эту трубку он поместил в чехол из вощёного холста, зашил его просмолённой нитью и надписал на боку имя адресата.
Дитмер приехал в полдень. Табберт на всякий случай приготовил глёг, какой уж возможно приготовить в России, но Дитмер отказался раздеться и выпить. Он удивился размерам свёртка и взвесил посылку на руке.
— Не ожидал, что она окажется такой крупной и тяжёлой.
— Я предупреждал вас, что моя почта будет большая и объёмная. Понимаю, как трудно организовать тайную доставку, Йохим, но за это я и плачу вам двадцать рикс-далеров.
Дитмер быстро и внимательно оглядел жилище Табберта. Всё здесь свидетельствовало о неплохом — по меркам плена — достатке капитана. На столе лежала большая рукописная книга в деревянных обложках. Без сомнения, русская. Вот откуда Табберт черпал свои познания в географии. Это хорошо, что у капитана сохранится первоисточник.
— Видите ли, господин Табберт, — вежливо заговорил Дитмер. — После того как корреспонденция прочитана, её складывают под замок в особый почтовый сундук, помеченный выжженной печатью. Ключ от сундука хранит у себя курьер. Я могу тайно от курьера проникнуть в сундук и вложить туда недозволенное письмо. Эта услуга стоит не слишком дорого. Но ваша карта в имеющийся сундук просто не войдёт. В вашем случае мне придётся поменять сундук на более вместительный, а такое предприятие потребует подкупа курьера и чиновника с печатью. Прошу с вас ещё семь риксдалеров.
Табберт понимающе улыбнулся.
— Вы умело составляете капитал, Йохим.
— Я подвергаю себя опасности, — возразил Дитмер. — Ведь за вашу почту я могу потерять свою должность.
— Я принимаю ваши условия. Ещё семь риксдалеров.
Дитмер лгал капитану Табберту. Едва увидев размеры посылки, он сразу понял, что она непременно привлечёт внимание таможенного смотрителя. Переправить ландкарту с обычной почтой — дело неисполнимое. Табберту надо искать иной способ. А эта ландкарта, увы, для Табберта будет потеряна. Однако он, секретарь Дитмер, при определённых действиях сумеет получить выгоду от неудачи капитана. В распоряжении же Табберта останется русская книга, с помощью которой он, найдись желание, восстановит свой труд.
В губернской канцелярии Дитмер прошёл в палату Гагарина, прикрыл дверь, взял нож и вскрыл свёрток. Похрустывая грунтовкой, лощёный холст занял весь стол губернатора. Дитмер с восхищением рассматривал кружево тонких линий и бисерные подписи полуготической фрактурой. Конечно, это великолепное произведение должно стоить немалых денег.
А Табберт в этот вечер выпил глёг и уже готовился укладываться спать, когда его дверь без стука распахнулась. В горницу вошёл молоденький русский офицер — Табберт видел его у Ремезова, — и за ним два солдата.
— Капитан Табберт? — спросил офицер по-немецки, щурясь в полумраке.
— Господин… э-э… Демарин?
— Я имею приказ взять вас под караул и препроводить в каземат.
— Почему? — удивился Табберт.
— Не могу знать.
Глёг отгонял дурные мысли, и Табберт воспринял неожиданный арест с ироничным недоумением. Какая-то глупость. Он ни в чём не виноват. Он не участвовал в драке на ярмарке, не выполнял для губернатора никаких работ, качеством которых губернатор мог быть недоволен, не отлучался из города, вообще ничего не делал и ни с кем не ссорился. Он шагал по заснеженной улице, наслаждаясь морозом и ощущением здоровой силы своего тела.
Глёг развеялся к полуночи. Закутавшись в епанчу, Табберт сидел на топчане в холодной бревенчатой каморке подклета губернаторского дома. Углы и потолок здесь заросли косматой изморозью. В узкое волоковое окошко светила белая луна, безнадёжная и беспощадная, как выстрел в лицо.
На трезвую голову Табберт ясно понимал, что его посадили под стражу за попытку переслать ландкарту. За что же ещё? Видимо, Дитмер выдал его. По здравом размышлении, это был очень разумный поступок. И деньги за пересылку останутся Йохиму, и угроза потерять место развеется. Может быть, Дитмера даже наградят за бдительность в проверке почты. Но Табберт резко запретил себе думать про низость поступка секретаря. Бессмысленно расходовать душевные силы на бесполезный гнев. Надо думать о себе.
От ландкарты ему не отказаться. Да это и недостойно — отрицать свою вину. В изготовлении ландкарты нет позора для дворянина. Он был движим жаждой познания и благородным желанием просветить отечество. Значит, надо подготовиться к наказанию, чтобы встретить его с честью. Как его могут наказать? Вряд ли будут держать в тюрьме. Скорее всего, сошлют ещё дальше в Сибирь. Но куда? Работая над картой, Табберт прекрасно изучил географию этой страны. Хорошо, если его отправят в Якутск. Город по сибирским меркам крупный, и там можно собирать сведения об азиатском севере: о Колыме, Чукотке и Камчатке. Эти земли на чертежах Ремезова были описаны только приблизительно, без подробностей. В Европе хорошее описание северных пределов России, несомненно, вызовет большой интерес. Неплохо, если сошлют в Иркутск. Там близко огромное пресноводное море, неведомым образом расположенное посреди континента. В Нерчинске или Селенгинске главная тема — Монголия и Китай. В Таре — Джунгария. В Туруханске он мог бы создать описание русского пушного промысла. Если сошлют в Обдорск — там Мангазея и морской ход. А вот Берёзов — плохо. От Айкон — той девочки-остячки — он уже узнал о местных инородцах всё, что нужно. И Сургут плохо, и Нарым, и Енисейск, и Томск, и Красный Яр, и Кузнецк… Он не мог придумать, что ему делать в этих городах. Но незачем впадать в уныние. Мир везде полон тайн; найдутся они и в тех краях, которые кажутся глухой пустыней. Сила духа превозмогает превратности судьбы, а желающий познавать непременно отыщет объект исследования.
Табберт лёг на топчан, закинулся епанчой и уснул быстро и крепко.
Утром ему дали горячей воды вместо завтрака и повели к губернатору.
Князь Гагарин принял его у себя в кабинете. Табберт оглядел убранство кабинета с некоторым замешательством: он уже настроился на дорогу, на лишения, на скудную жизнь ссыльного, а тут голландская печь, портьеры, мебель, фарфор, паркет, лепнина, запах свежего кофию… Матвей Петрович в татарском халате и мягких сапожках сидел в кресле, а на столе лежала карта, небрежно сложенная в восьмую долю. Видимо, князь разглядывал её.
— Представься, — сурово сказал Гагарин.
— Капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг.
— Ох ты, «фон»! — усмехнулся Гагарин. — Твоя карта, фон?
Матвей Петрович указал пальцем на стол. Табберт заметил на пальце князя толстый перстень с изумрудом.
— Ландкарта есть мой, — спокойно согласился Табберт.
— Ты, никак, забыл, что наши державы воюют? Где в плен попал?
— В Переволочне.
Капитан Филипп Табберт командовал батальоном Померанского полка принцессы Ульрики Элеоноры, который входил в состав корпуса генерала графа Левенга-упта. В тот летний день на поле под Полтавой Померанский полк держал правый фланг королевской армии, упираясь боком в Яковецкий лес, недоступный для конницы. Правый фланг опрокинул русских и почти добрался до линии русских редутов, но сам царь Пётр возглавил дескурацию своих войск и остановил наступление шведов, а потом русские прорвали строй генерала Гамильтона и обратили шведов в бегство. Капитан Табберт сражался отважно, и от его батальона уцелело только полторы роты, однако поражение есть поражение. Табберт сумел вывести солдат к основным силам армии, и они два дня отступали вдоль речки Ворсклы к переправам через Днепр. Но русские увели лодки, и переправляться было не на чем. Армия Левенгаупта оказалась заблокирована на мысу между Ворсклой и Днепром. Русские предложили капитулировать. Не зная, что делать, граф Левенгаупт созвал офицерский совет. Табберт присутствовал на нём, хотя не имел права голоса. Офицеры решили сдаться. Капитан Табберт никогда бы не поддержал это решение, но там, в деревне Переволочне, его не спрашивали.
— Эта карта — военная тайна! — грозно сказал губернатор Гагарин.
— Не думать, что война дойти до Тоболск, и мой карта иметь важность для стратегий, — саркастически заметил Табберт.
— Не умничай, — одёрнул его Гагарин. — За такое дело я могу тебя в острог засадить или в Анадырь законопатить. А хуже всего — отправлю в Москву, в Преображенский приказ. Там кишки через нос вытягивают.
Табберт постарался, чтобы его ответ прозвучал хладнокровно:
— Ваше есть право, господин губернатор.
— Откуда пронюхал всё для чертежа?
— Смотреть русский чертёж. Расспрашивать людей, имевших ходить.
— У Ремезова сдул? — проницательно спросил Гагарин.
— Малая часть брать, — уклончиво ответил Табберт.
Ему неприятно было признавать, что его работа — заслуга русского мастера, безвестного мужика, а не плод самостоятельных изысканий.
— Молодец, не выдаёшь сотоварища.
Табберт пожал плечами.
— Ночку в холодной посидел — худо было?
— Не отчен веселье.
— Это я для острастки тебя там подержал, чтобы вдругорядь неповадно было, — Табберт почувствовал, что князь Гагарин сменил гнев на милость. — Сколько хотел за карту получить от своих?
— Пятьсот риксдалеров.
— Ну, ты, брат, загнул. Царску дочь и полцарства в придачу не просил?
Табберт не понял смысл вопроса, хотя догадался, что это ирония.
— Я тебе плачу двести рублей, — вдруг сказал Гагарин. — Считай, что я сам тебе эту карту заказал, а ты её мне и начертил.
Матвею Петровичу карта шведа очень понравилась. Ничуть не хуже ремезовской, а главное — сделана по-за-граничному, и надписи иностранными буквами, всё как Пётр Лексеич любит. Пётр Лексеич требовал новую карту — вот и получит не хуже, чем у шведского короля. И все довольны.
— Ты меня понял? — спросил Гагарин у шведа, явно слегка ошалевшего.
— Так, — недоверчиво кивнул Табберт.
Матвей Петрович любовался произведённым впечатлением.
— Знаешь, почему прощаю? — он прищурился. — Работа твоя добрая. А за добрую работу я всегда плачу.
— Господину Дитмеру вы тоже заплатить? — не удержался Табберт.
— Заплатил, — без смущения кивнул Гагарин. — Но ты Ефимку не кори. Он мне честно служит.
Табберт не стал ничего говорить о честности службы Дитмера.
— Всё, забирай деньги и убирайся восвояси, — подвёл итог Гагарин. — Других чертежей делать не смей, воспрещаю, а с этим делом покончили.
Табберт шагал к выходу из дворца губернатора и не очень верил в то, что случилось. Он свободен? Все страхи оказались напрасны?.. Однако за радостью скрывалась и какая-то горечь. Он ведь не просто хотел продать карту. Он хотел, чтобы её видели люди. Хотел, чтобы его личные открытия превратились в общее достояние. Хотел, чтобы земля стала больше. Потому он и оценил свой труд столь дорого. Раздвинуть пределы Ойкумены — это подвиг, за который всегда платят без скупости. А сейчас его свершение будет спрятано от мира, заперто на ключ, навеки затеряно в дикой и варварской стране. Так за него, за капитана Табберта, решил какой-то корыстолюбивый секретарь! Это унизительно. Это почти оскорбление.
Дитмер ожидал Табберта у крыльца.
— Я приношу извинения за то, что поступил с вами подобным образом, господин капитан, — сказал он, открыто глядя Табберту в глаза.
«Может, вызвать его на дуэль?» — подумал Табберт.
— Вашу ландкарту непременно обнаружили бы на таможне. Выдать её губернатору было самым разумным способом найти ей применение.
Табберт молчал, рассматривая Дитмера.
— Полагаю, что сумму, которую вы получили от господина губернатора, следует разделить пополам между вами и мной. Ведь вы понимаете, что продажа ландкарты — это моя заслуга, которая должна быть вознаграждена, — Дитмер говорил спокойно и даже чуть снисходительно, с едва заметной вежливой усмешкой. — Я согласен вычесть из своей доли в вашу пользу двадцать семь риксдалеров, потраченных вами на почтовое отправление, которое не было осуществлено. Думаю, это будет справедливый итог.
Табберт выдохнул, возвращая самообладание. Да, этот вежливый подлец обставил его. Однако необходимо принять обстоятельства с должным достоинством. И ему ещё пригодится расположение секретаря губернатора. Он ведь не будет сидеть сложа руки, а непременно займётся каким-нибудь новым делом, которое, конечно же, в этой стране окажется недозволенным.
— Вы правы, господин секретарь, — холодно улыбнулся Табберт.
Глава 2 Пёс-молчун
Матвей Петрович всегда испытывал некое угнетение, когда приходила почта от Исай-ки Морозова — губернского комиссара при Сенате и государе. Исайка в Петербурге бегал между канцелярией Сената и канцелярией Лексея Василича Макарова, секретаря Петра Лексеича, переписывал указы, которые касались Сибирской губернии, и отсылал их в Тобольск. Здесь дьяк Баутин подшивал бумаги в книгу, что хранилась в Приказной палате в поставце на самом видном месте, а Дитмер заносил экстракты указов в другую книгу, которую Матвей Петрович держал у себя дома в кабинете.
Указы могли выбить из колеи, но чаще оборачивались обременительной суетой. Доставить в столицу восемь сот лиственничных брёвен. Принять с почестью какого-нибудь иноземца. Купить у бухарцев юфти и кардамону для царского двора. Наказать изобличённого комендан-та-лихоимца. Взимать оброк деньгами по казённой цене. Иметь по ямским дворам не менее четырёх перемен лошадей. Отчитаться в заведении надворных судов. Прислать семь пудов кедрового ореха. Увеличить бобылям подымную подать на копейку. Не пропускать через таможню щёлок и поташ. Ежегодно выдавать медные знаки за уплаченный налог на бороду. И всё такое прочее, чего ещё надумали неугомонные столичные прибыльщики и другие государственные головы.
По-настоящему опасными были именные указы государя. Их привозили фельдъегери из гвардейцев и вручали под роспись, порой поднимая Матвея Петровича с постели. Но такое случалось не часто, в месяц раз или два.
Дитмер вошёл в палату губернатора, когда Матвей Петрович принимал челобитчиков. Один мужик, рослый и длинногривый, как дьякон, придвинул к столу Матвея Петровича скамью и сел напротив князя, будто на пьянке в кабаке, а другой, рябоватый и кривоногий, стоял у стены и мял в руках шапку. Дитмер знал этих мужиков. Он взял с них сто рублей за доступ к губернатору. Мужики были из слободы на Тоболе под Царёвым Городищем. Они хотели, чтобы начальство записало их в беломестные казаки. Рябого мужика звали Макаром Демьяновым, а гривастого — Савелием Голятой.
Дитмер обогнул Голяту и положил перед Гагариным пакет.
— От Морозова, господин губернатор, — пояснил он.
Матвей Петрович сразу сорвал шнурок с сургучной печатью, вскрыл пакет, выложил на стол сложенные пополам листы и развернул их.
— А мы не хужей казённых драгун в караулы ходим, и заставы давно уже содержим на своём коште, — бубнил Савелий, глядя на читающего бумаги губернатора. — Оружье, кони, харч — тоже своё. Из Тобольска нам надобно токмо есаулов и полуполковника непьющего…
— Помолчи, — Матвей Петрович махнул на Савелия рукой.
Глаза Матвея Петровича сразу выхватили важные слова: «…и того ради во всём государстве на незнаемое число лет до новоданного указу, понеже в Петербурхе удовольствуются строением, запрещается любое иное каменное строение, и церковное, и комендантское, и партикулярное, под страхом прежестокого штрафования и высылки ослушников в столицу на угодное государю каменщиц-кое дело…» Вот те раз!..
На письмо вдруг легла огромная корявая лапища Савелия.
— Ты нас дослушай, боярин, — веско сказал мужик.
Матвей Петрович не рассердился, а просто изумился этой наглости.
— Батогов захотел? — спросил он, поднимая голову.
— Ежели от тебя ответа не получу, меня свои мужики забьют.
— Мы уже твоему секарю сто рублёв заплатили, чтобы до тебя долезьти! — рябой мужик кивнул на дверь, в которую вышел Дитмер.
— Какому секарю? — не понял Гагарин.
— Который народ от тебя отсекает.
— Секретарю, остолопы.
— Он сказал, что наши челобитные в печь засунет, коли денег не дадим.
— Ну, говори, — смилостивился Матвей Петрович, отодвигая бумаги.
Всё равно такой важный указ надо обдумать в спокойствии.
— Ты Чередова турнул, так запиши нас в казаки вместо его служилых. Наш писарь уже реестру мужикам составил. Пять с половиной сотен. Почти триста подворий. Все православные, татар не взяли, раскольщиков нет.
Беломестные казаки несли воинскую службу за свой счёт, а за это не платили податей. В беломестные казаки охотно записывались жители слобод. Слобожане всё равно сами оберегали свои селения от степняков, потому что служилые из Тобольска не успевали примчаться, когда обрушивался набег. Почему бы не скинуть тягло податей, если и так обороняешься своей силой?
— Двести рублей, — сказал Матвей Петрович.
— Уже нету, — развёл ручищами Савелий. — Секарь взял сто.
— Ну не могу же я брать столько же, сколько мой секретарь, — хмыкнул Матвей Петрович. — Сообрази че-го-нибудь. Только не новую запашку. Как «белое место» она мне без корысти.
— Коров десятка три, — предложил Макар.
— Не смеши. Мне, что ли, доить их в кабинете?
— А помнишь, год назад в нашей слободе твой приказчик могильное золото покупал? — Савелий быстро перекрестился.
— Помню. Хороший был клад.
— Мы новый бугор нашли. Сами копать не будем, там черти под землёй, а указать можем. Пришлёшь своих холопов с заступами.
— Ну, я подумаю, — неохотно согласился Матвей Петрович. — Посидите в Тобольске ещё недельку, я вас извещу. А теперь убирайтесь.
Губернатора ожидали другие челобитчики.
Только вечером Матвей Петрович смог обстоятельно прочитать бумаги из Петербурга. Царский запрет на каменное строительство изрядно смутил его. С одной стороны, запрет — конечно, хорошо: не надо раскошеливаться. Ведь на возведение кремля он, губернатор, согласился лишь под нажимом архитектона; уломал его упрямый Ремезов. Однако с другой стороны — жаль.
Жаль потраченных денег и усилий. Жаль прощаться с гордостью за то, что он, князь, будет сидеть в кремле, пусть и не в таком великом, как другие губернские кремли, Московский и Смоленский, но не хуже Казанского.
Матвей Петрович хотел утром вызвать Ремезова, чтобы объявить ему о царской воле, но Ремезов сам приковылял в губернскую канцелярию.
— Петрович, беда! — вздохнул он, опускаясь на скамью и вытягивая хромую ногу. — Выручай. Свантея-то моего в Бухгольцево войско загребли.
Пока строили кремль, Сванте Инборг, артельный шведских каменщиков, стал Семёну Ульяновичу приятелем и советчиком.
— Почему загребли?
— Да он в той драке проклятущей на площади оказался.
Матвей Петрович откинулся от стола и поскрёб отросшую бороду. Ему очень не хотелось разговаривать с Ремезовым: старик опять начнёт орать и ругаться, требовать и корить. Слишком уж он взбалмошный и неудобный.
— А Свантей нынче тебе уже и не нужен, — сказал Матвей Петрович.
— Отчего это не нужен?
— Указ мне привезли, Ульяныч. Царь по всей державе каменное дело запретил и каменщиков повелел в столицу высылать.
— Зачем? — глупо спросил Семён Ульянович, ещё не осознав сказанного.
— Петербург строить.
— А на Тобольск, значит, наплевать?..
— Не я решил.
Семён Ульянович нелепо заёрзал, подволакивая ногу и стуча палкой.
— Это что получается? Гаси фитилёк?
— Только царя не брани, архитектон, — строго предупредил Гагарин. — Не хочу тебя в холодную сажать.
— Как же так? — ошеломлённо сказал Семён Ульяно-вич. — Не могу в толк взять! Работники у нас есть, кирпича и тёса мы вдоволь заготовили, и всё бросить на полпути? Пущай дождями кладку размоет?
— От дождей кровлями накроем. За кровли не казнят.
Семён Ульянович шевелил бородой, мысли его лихорадочно метались.
— Башни и стены придётся оставить в недоделке, — продолжил Гагарин. — Не обессудь. Слава богу, церковь почти готова. Летом завершим и освятим её. А столп над взвозом и мне жалко, Ульяныч. Дерзкий был замах.
Матвей Петрович, чувствуя вину перед Ремезовым, подумал, что старик сам промахнулся. Слишком много выпросил. Ежели, положим, речь бы шла про одну взвозную башню, так её потихонечку достроили бы, не взирая даже на царский указ. За два-три года незаметно сложили бы до шпица: дескать, нерачительно запасённые кирпичи без употребления бросить. Однако же целый кремль украдкой не построишь. Донесут царю, и покатится башка. Перевалить вину на неуёмного Ремезова, который меры не ведает, Матвею Петровичу было проще, чем переживать за архитектона, лишённого мечты.
— Смирись, Ульяныч, — мягко посоветовал Гагарин. — Ступай домой.
Но в душе Семёна Ульяновича разверзлась такая дыра, что смириться у него не получилось бы и при всём желании. Кремль — его заветный замысел. В суете повседневности и в сутолоке житейских дрязг властный зов кремля вроде бы затих, но это не так: он всё равно звучал в глубине жизни, как стук собственного сердца. А сейчас Семёну Ульяновичу словно бы остановили сердце и сказали: ну, как-нибудь без него живи, руки-ноги-то целы.
— Да невозможно оно! — Семён Ульянович гневно застучал своей палкой, испепеляя Гагарина взглядом. — Мы с тобой тлен, Петрович, а кремль — великое дело! Ему равного в державе нету!
Гагарин разозлился. Ремезов — как царь Пётр: оба шары выкатят и прут напролом. Собственные затеи для них важнее всего прочего на земле. Один столицу на болотах строит и за-ради неё всю державу плетью лупцует, будто клячу, а другому и царский град супротив своего кремля — свинорой. С царём, ясен свет, не поспоришь, но Ремезов-то куда лезет? Возомнил себя пантократором! Полагает, что он посередь Сибири самый главный, да?
— Я смотрю, ты тут в Моисея раздулся? — рявкнул Матвей Петрович на Ремезова. — Окоротись, пока не лопнул! С малого дерева ягоду берут, а под большое — знаешь, зачем присаживаются? Проваливай отсюда!
Семён Ульянович, задыхаясь, вылетел из канцелярии.
Низкое небо над Тобольском залепили тучи. С яруса «галдареи» над заснеженными крышами амбаров и подворий видна была линия кирпичных стен, ровно упокоенных на аркаде печур. Высились неимоверные тумбы недоделанных башен — сизо-багровые, будто окоченевшие на ветру. Внятные и простые очертания кремля приподнимались и разворачивались над частой дробью бревенчатой застройки ещё не в полную высоту и не в полную силу протяжённости, но уже проявили собой ту горнюю надмирность, которую вкладывал в них Семён Ульянович. Они казались странными и нездешними, как тихий густой гул часобитного колокола над гомоном базарной толпы. Величие кремля пока только мерещилось, недовоплощённое, но оно уже незримо преобразило Воеводский двор. Оно означало: дух крепче плоти. То, что не имеет житейского применения, нужнее для бытия, чем все выгоды и пользы. Камень суть прах, а свет — несокрушимее адаманта.
Семён Ульянович решил искать помощи. Заступничества своему делу.
Вечером он уже был на Софийском дворе. Митрополит Иоанн болел, и Николка, прислужник, не допустил бы Семёна Ульяновича до Иоанна, но у митрополита сидели гости — Исаакий, настоятель Дал матовской обители, и владыка Филофей из Тюмени, а где два гостя — там и третий поместится. Отцы приехали в Тобольск на праздник Сретения. Семён Ульянович принял благословение и скромно притулился в углу кельи на лавке. Немощный Иоанн полулежал, укрытый до груди стёганым одеялом.
— Ты ведь не о здравии моём узнать сюда пролез, — вздохнул Иоанн, и Филофей отвернулся, пряча улыбку. — Чего хотел, Семён Ульянович?
— Пособления, — признался Ремезов.
— Говори.
Семён Ульянович рассказал, стараясь не распаляться.
— Коли царь запретил, что тут поделаешь? — тихо произнёс Иоанн.
Семён Ульянович требовательно всматривался в лицо митрополита — полупрозрачное и какое-то ветхое от болезни, уже непрочное.
— Прости, владыка, — он перекрестился, — но покориться я и без помощи могу. Я думал, ты у царя дозволе-нье на кремль сумеешь выпросить.
— Вон кто у нас царский любимец, — Иоанн указал на Филофея.
Семён Ульянович перевёл взгляд на Филофея.
— И рад бы тебе послужить, Семён Ульяныч, — Филофей виновато пожал плечами, — только у меня самого в обители Троицкий храм лишь до глав доведён, а далее надо царю кланяться. Буду на свою стройку денег молить, да ещё и на твою стройку монаршего попущения добиваться, — так Пётр Алексеич ожесточится и обоим нам откажет. Давай через год попробую?
Семён Ульянович знал, что у Филофея собственная забота — собор, и сдержался, чтобы не надерзить. Владыка прав и ни в чём не виноват.
— Аты, отец? — Ремезов повернулся к Исааку.
Он давно был знаком с игуменом, но дружбы меж ними не водилось. Игумен был старше Ремезова на десять лет и во власть вступил ещё до того, как Сенька Ремезов принёс воеводе свой первый чертёж. Для Исаакия Ремезов до сих пор был юнцом. Да и все для него были юнцами. За долгие годы Исаакий такого хлебнул, что ровни ему в Сибири уже не имелось.
Сын самого Далмата Исетского, он овдовел в восемнадцать лет и ушёл к отцу в скит, где принял постриг. Он спасал отца при набегах башкирцев и не раз возрождал сожжённый скит. Он стал первым игуменом обители. Вместе с отцом он укрывал раскольников и за то немало пострадал: его ссылали на покаяние в Енисейск и дважды свергали из настоятелей. Но важнее другое. Исаакий своими глазами видел, как творится божья воля: свершаются чудеса, исцеляются страждущие, плачут иконы, сияет предвечный свет, из которого являются святые, и отца его неизъяснимо облекает благодать. Исаакий сам хоронил старца Далмата, который прожил больше ста лет, и своими руками осязал, что Далмат, земной человек из плоти, по смерти обрёл нетленность. Даже здесь, в келье Иоанна, среди таких же священников, Исаакий казался иным, словно бы то, во что все верили умозрительно, он изведал наяву и в опыте, а потому и сам изменился, и это отчуждало его от простых смертных.
Исаакий пошевелил седыми кустистыми бровями, будто удивился, что кто-то посмел его потревожить. Семён Ульянович даже слегка оробел. Ему почудилось, что Исаакий заговорит так, как заговорила бы Елеонская гора.
— А я, Семён, ещё в Рождество о царском указе узнал, — по-старчески медленно, но просто ответил Исаакий. — И мне оный не указ. Я царю письмо написал, и царь дозволил мне работы не прекращать. И денег прислал.
Семён Ульянович, конечно, слышал, что Исаакий затеял строительство, какое по плечу было только воеводскому Тобольску. Девять лет назад в Далматовой обители заложили Успенский собор — предивный храм в два яруса и в три света, с крещатым венчаньем глав и весь в узорочье: лопатки по струне, пояса «жучков» и «сухариков», арочки ступеньками, тонкие колонки с «павлиньими хвостами», тёсаные очелья на окнах и кокошники с весёлыми завитками «медвежьи ушки». Но Исаа-кию того было мало, и в прошлом году он приказал сносить бревенчатые стены и башни монастыря, потому что вместо них решил возвести надёжную каменную крепость.
— С чего же тебе такая милость? — осторожно спросил Семён Ульянович.
— Не мне, грешному. Отцу Афанасию.
Афанасий, приёмыш из Тюмени, был духовным сыном Исаакия. Под опекой Исаакия он вырос и возмужал, принял постриг. С Исаакием отбывал ссылку в Енисейске. Когда Исаакий попал в опалу, Афанасий возглавил обитель, не дозволяя пренебрежения к своему воспитателю. Острый умом, Афанасий приглянулся тобольскому митрополиту Павлу, который отправил инока на учёбу в Чудов монастырь, а там сам патриарх Иоаким зачислил Афанасия в крестовые иеромонахи при Патриаршем доме.
Через три года «чёрного попа» из Далматова хиротонисали в епископы Холмогорские и Важские. Но слава пришла к нему не по сану. Когда умер царь Фёдор Алексеевич, стрельцы и князь Хованский устроили в Грановитой палате прения о старой вере. Веру защищал ересиарх Никита Пустосвят. Говорить он умел, будто громовержец, и совсем было заспорил патриарха, но Афанасий выдвинулся вперёд и ответил так, что Пустосвят кинулся на него, как зверь, и вырвал полбороды. Пустосвяту отсекли голову, а епископ Афанасий вскоре уже служил при венчании на царство Петра Алексеевича.
Дружбы самодержца он добился ещё через двенадцать лет. На корабле «Святой Пётр» Афанасий сопровождал царя на Соловки, и посреди сурового Гандвика судно угодило в бурю. Пётр Алексеевич испугался, что погибнет, исповедался и причастился у Афанасия. Но умелый кормщик вывел корабль к Пертоминскому монастырю. В благодарность за спасение царь поставил на берегу возле обители крест. Тогда и завязалась дружба царя и владыки.
У себя в Холмогорах епископ Афанасий боролся с раскольниками, собирал книги и морские карты, строил храмы и привечал художников. На колокольне Спа-со-Преображенского собора у него стояла зрительная труба, в неё по ясным ночам владыка изучал светила и планиды небесные. Афанасий самотрудием составил «Описание трёх путей из поморских стран в Швецкую землю» и подарил сей трактат государю, который не раз гостил у него.
«Описание» пригодилось Петру Лексеичу необыкновенно. В 1702 году государь задумал отбить у шведов крепость Нотебург, что стояла на острове в Ладоге и запирала вход в Неву. Для взятия крепости необходимы были корабли с артиллерией. А весной Пётр как раз спустил с верфей Соломбалы близ Холмогор два фрегата — «Святой Дух» и «Курьер». Требовалось как-то перебросить их с Белого моря в Онегу. Пётр вручил трактат Афанасия сержанту лейб-гвардии Михайле Щепотеву и приказал устроить «Осудареву дорогу» по волоку, описанному епископом. Щепотев всё исполнил, и по сей дороге фрегаты были переправлены посуху с моря на озеро. Нотебург, весь в дыму и крови, пал к ногам Петра Лексеича. Но владыка Афанасий скончался за пять недель до победы. Он успел попросить царя о милостях для своего духовного отца Исаакия и обители, где он возрос. И в память об Афанасии с тех пор государь не оставлял Далматову обитель своим попечением. Потому Исаакий и строил свою крепость, когда вся держава строила Петербург.
— У меня такого заступника, как Лёшка Творогов, нет, — мрачно сказал Исаакию Семён Ульянович.
Лёшкой Твороговым Афанасия звали до пострижения в монахи.
— У тебя Матвей Петрович есть, — мягко напомнил Ремезову Филофей.
— Да он меня за червя держит!
— Сам себя оскверняешь, Семён Ульяныч, напоказ в грязь кидаешься. Небось, опять с князем рассобачил-ся? А ты попробуй с ним миром говорить.
— Пробовал!
— Не пробовал, — уверенно возразил Филофей. — Не прими в укор, Семён Ульяныч, но ведь ты исполненья своих дел жаждешь по гордыне. А гордыня — плохой советчик. Вон иконописцы древности — они перед работой постились, молились и каялись во грехах, сам Андрей Рублёв в исихазм погрузился. По укрощению страстей мастера бог его к свершениям и подводит.
— Богомазам ничего не надобно! — вспыхнул Семён Ульяныч. — Они с Господом наедине одной только кистью машут! А зодчеству подавай людей, припасы, деньги, место! Зодчество всегда на торжище!
— Я не о том. Господь всем помотает по-разному, лишь бы человек попросил. Но просьба — это умаление себя. Хоть перед кем, хоть в миру.
— Поклон спину не переломит, Семён, — согласился Исаакий.
— Худой извод перед Гагариным кланяться, — вдруг слабым голосом сказал Иоанн. — Он от лукавого кесарь, и чтить его — пагуба.
— Княже грешен, — кивнул Филофей, — но душа-то у него живая. Не дай ей пропасть, Семён Ульяныч. Пощади. Его по тебе судить будут.
Семён Ульянович ушёл из покоев митрополита в досаде и в сомнениях. Конечно, иного от попов ожидать и не следовало: «покайся», «помилуй», «попроси»… Но ведь Лука-евангелист тоже говорил: стучите, и отворят вам.
Через два дня Семён Ульянович снова явился в губернскую канцелярию и уселся перед Матвеем Петровичем, хмуро глядя в угол.
— Лаять меня пришёл? — проницательно спросил Га-гарин.
— Пёс-молчун на дворе не слуга! — тотчас огрызнулся Ремезов.
— От твоей службы в моих карманах один сквозняк.
— На саване карманов нетути.
— Тьфу на тебя, Ремезов! — разозлился Гагарин. — Иди вон!
— Ну, ладно, ладно, — буркнул Семён Ульяныч. — Ну, прости, Петрович. Мы с тобой оба не подарки, дак на дворе и не праздник.
— Праздник будет, когда у тебя язык отнимется!
Ремезов тяжело вздохнул, удерживаясь от ответа, неловко приподнялся и со страшным скрипом подтащил лавку поближе к столу Матвея Петровича.
— Давай вместе придумаем, как царское дозволенье на кремль получить, — миролюбиво предложил он.
— Не до кремля мне сейчас. Там в Петербурхе Нестеров царю в уши дудит, какой я злодей, и мне тише воды ниже травы надобно быть!
Про доносы свежеиспечённого обер-фискала Матвею Петровичу от себя сообщил всё тот же Исайка Морозов, губернский секретарь.
— За печью не отсидишься. Измыслим обоюдно, как царя умаслить.
— Чем мы его умаслим?! — в сердцах спросил Матвей Петрович. — Демидов вон пушки льёт, вот царь его в лоб и целует, а нас куда целовать?
— У нас диковины разные! Возьми да мамонта моего царю отвези!
— И что ему с мамонтом делать? Скакать на ём в бой со шведом?
Семён Ульянович размышлял, чем бы ещё удивить царя.
— Могу чертёж какой-нибудь начертить.
— Есть уже.
— Знаю, где у башкирцев железная гора стоит. Атач называется.
— Это не подарок, а расход казне.
— Ежели согласишься, так на Искере колодец до дна раскопаю. По басне, туда хан Кучум перед бегством свою казну спустил.
— Клад, говоришь? — внезапно задумался Матвей Петрович. У него с молодости была прекрасная память на всякие возможные хитроумные выгоды. — Клад — оно хорошо, Пётр Лексеич любит куриозы…
— Там ствол сажен десять в глубину. Десяток солдат с лопатами нужен.
— Нет, Искер мы трогать не будем, — Матвей Петрович покачал головой. — Разроем его — свои же татары забунтуют. А вот могильное золото — это дело. Тут недавно два мужика с Тобола большой бугор в степи нашли. Мужиков зовут Макар Демьянов и Савелий Голята. Знаешь таких?
— Голяту знаю, — кивнул Ремезов. — На переписи чуть не подрались.
— Мужики укажут тебе бугор, а ты его выпотроши. И будет Петру Лексеичу подарок, какой ему по душе. А там и до кремля дойдёт.
— По рукам? — тотчас спросил Семён Ульяныч.
Глава 3 Дать понимание
Печь — не лошадь, возит только на погост. Семён Ульянович понимал это, а потому старался чаще отлучаться из дома, больше двигаться, всегда иметь какую-нибудь заботу, чтобы не слабеть в праздности. Зимой он взял за правило каждый день ходить на Воеводский двор и проверять кремль — не разворошил ли ветер кровлю из лапника. Причём по Никольскому взвозу Ремезов поднимался пешком: опираясь на палку, упрямо ковылял, загребая снег негнущейся ногой, и для равновесия широко размахивал свободной рукой. Потихоньку тоболяки привыкли, что по утрам старый архитектон, сердито сопя, карабкается на Троицкую гору сам, и с попутных дровней уже никто не предлагал ему довезти до верха.
Но сегодня у Семёна Ульяновича нашлось настоящее дело: его вызвал полковник Бухгольц. Пёс знает зачем. Может, из-за Петьки?.. Никольская церковь, круглая Орловская башня, Святые ворота Софийского двора, Гостиный двор… Хмурый весенний день, кучи грязного снега, вытоптанные до черноты дороги, белёные стены, подмокшие понизу, и обсохшие на ветру тесовые шатры… Мужики, бабы, купцы, монахи, дьячки, лошади с санями, собаки, мальчишки… Семён Ульянович вошёл в Гостиный двор через выезд под часовней, протолкался через торжище, здороваясь направо и налево, и вышел через въезд под таможней. Софийская площадь была освобождена от лавок и балаганов и расчищена солдатами под плац. Народ пробирался на Воеводский двор стороной — вдоль частокола, который огораживал площадь с севера, или через ложбину Прямского взвоза, запертого на спуске громадой недостроенной Дмитриевской башни с двумя сквозными арками. А Семён Ульянович застрял в толпе зевак под обветшалой Спасской башней.
На площади трещали барабаны и сновали солдаты, разбираясь по своим ротам. Семён Ульянович понадеялся увидеть там Петьку. Этот стервец, как записался в армию, перестал чтить отца и мать родных: усвистывал из дому ни свет ни заря и возвращался перед сном, ничего не рассказывал, только шептался с Леонтием про пистолеты и заточку сабель, а на расспросы дерзко огрызался, будто родители ему враги хуже шведов. Он совсем отделил себя от семьи, хотя Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна давно простили ему самовольство и только хотели знать, как он служит. Не ругают ли его начальники? Хорошо ли кормят? Не мучают ли маршировкой дурацкой и упражнениями, когда рекруты тычут друг в друга деревянными штыками?
Рекруты на площади были одеты кто во что: одни — уже в мундирах, другие — ещё в домашнем, но все по уставу обмотались ремнями с амуницией. Сержанты раздавали из коробов бумажные патроны — по три в одни руки. Семён Ульянович знал, что патроны холостые, с войлочными катышками вместо пуль: при народе нельзя стрелять настоящими пулями, подшибут какого-нибудь любопытного болвана или бабу полоротую, да и беречь надо было снаряды, пуля не пчела, в шапку не поймаешь.
— Вторая рота, то-овсь! — закричал унтер-офицер.
Толпа солдат обретала стройные очертания батальона.
— Барабанщики, артикулы пять, девять, один! — командовал поручик Кузьмичёв, ровняя шеренгу парней с красными барабанами.
За суетой, заложив руки за спину, наблюдал майор Шторбен.
— Бей! — решительно приказал Кузьмичёв.
Барабаны зарокотали. Прямоугольник из сотни солдат — вторая рота — чуть дрогнул, схватываясь общностью воинского строя, и единым дружным шагом слаженно двинулся вперёд. Толпа зевак загомонила, впечатлённая зрелищем. Человеческое разнообразие рекрутов исчезло: через истоптанную площадь в грохоте барабанов грозно и тяжко наступало огромное угловатое существо, какое-то неживое, неумолимое и угрожающее. Семён Ульянович сразу вспомнил слова Ваньки Демарина, что сражения теперь — это сложные перемещения полков меж редутов и фельдшанцев, поддержанные пушечным огнём с флешей, это остановки для ружейных залпов и пропуска эскадронов, летящих в атаку, это натиск штыковым строем и в итоге — рукопашная. И всем там страшно. Души обмирают, когда друг на друга идут безжалостные батальоны, в которых все солдаты безлично подчинены закону убийства.
Треск барабанов переменился. Колонна рекрутов из длины внезапно потянулась в ширину, ряды развернулись перед толпой в шеренги и встали.
— Плечо! — требовательно скомандовал Кузьмичёв.
Рекруты скинули с плеч ружья.
— Полка! Патрон! Скуси! Дуло! Шомпол! Мушкет! На взвод! Цель! — строго командовал Кузьмичёв, хмуря брови.
Несколько общих движений локтей и рук — и вскоре шеренга солдат ощетинилась стволами ружей, нацеленных на зевак. И тут перед рекрутами из толпы выскочили отчаянные мальчишки. Они давно вертелись в тесноте народа, ожидая, когда солдаты поднимут ружья. Прыгать и кривляться под учебную пальбу стало любимой потехой тобольских сорванцов.
— Братцы, пуляйте! — закричали они. — Мы шведы! Пали по нам!
— Огонь! — не дрогнув лицом, выкликнул Кузьмичёв.
Перед шеренгой просторно раскатился широкий грохот залпа. Взвились синие дымки, в мальчишек полетели войлочные катышки.
— Бесенята! — охнули в откачнувшейся толпе.
У Семёна Ульяновича от ужаса чуть не подогнулась нога.
Каждая шеренга солдат была плутонгом, которым командовал сержант. По правилам боя, передний плутонг давал залп и сразу же убирался назад, выстраиваясь в тылу своей роты последней шеренгой. Вот и сейчас солдаты передней шеренги повернулись и словно растворились между товарищами, а перед толпой зевак оказалась шеренга второго плутонга с уже нацеленными ружьями. Залп, краткая суета убегающих, и перед толпой теперь стоял третий плутонг. Залп, суета убегающих, и перед толпой — четвёртый плутонг. Пока до первого плутонга доходила очередь снова оказаться на первой линии, солдаты успевали достать из подсумка патрон, скусить его кончик, зарядить в ружьё и бросить в дуло круглую пулю, потом шомполом забить пыж, прижимающий пулю к патрону, и взвести боёк кремнёвого замка. Стреляя сменными плутонгами, рота вела огонь без остановки.
А мальчишки вопили и визжали, хватались руками за животы, падали в грязь и корчились, разыгрывая убитых шведов, опять вскакивали и вопили, в упоении призывая палить по ним. Каждый старался превзойти остальных в изображении врагов, которые погибают легко, смешно и позорно.
Содрогаясь в душе, Семён Ульянович понял, какая смертоносная сила заключена в этой воинской премудрости. Вот о чём талдычил ему в те дни Ванька Демарин… Хрен приблизишься к строю, который залпами извергает смерть на супротивника… Но бог с ним, с Ванькой. Где Петька? Сына Семён Ульянович на площади не заметил. Наверное, он в другом батальоне.
Семён Ульянович протолкался сквозь взволнованную толпу и пошагал к Воинскому присутствию через пустую стройку кремля, оставленную на зиму в бездействии. К башням и стенам декабрьские вьюги намели языки снега, а сейчас, весной, они покрылись зернистым настом. Покатые сугробы осели и обтаяли с южной стороны, оголив склоны земляных куч, круглые бока лежащих бочек и смёрзшиеся кучи тёсаных досок. Над бугристым пустырём вкривь и вкось торчали решетчатые клети строительных лесов.
На бывшем Драгунском подворье теперь царил совсем иной порядок. У ворот ходил строгий караул; сам двор был расчищен от снега так гладко, что хоть половики расстилай; в ряд стояли гружённые тюками сани; поленница вытянулась ровненько-ровненько, подобранная полешко к полешку. Никто нигде не валялся с похмелья, не дулся в карты, не бродил, скучая от безделья.
Ординарец ввёл Семёна Ульяновича в горницу и щёлкнул каблуками. В горнице вдоль стены друг на друге громоздились сундуки, засмолённые бочонки и ящики, обтянутые парусиной. В углу возле зачехлённого знамени торчал усатый часовой в мундире и треуголке, с лентами поперёк груди и с ружьём. В новом большом киоте свежей позолотой сияли иконы.
— Ландкартер Ремезов, господин полковник! — объявил ординарец.
Бухгольц в плотно застёгнутом камзоле сидел за столом над бумагами.
— Почему опоздал, Ремезов? — строго спросил он.
— Я тебе не солдат! — строптиво ответил Семён Ульянович.
— Иди, Тарабукин. Садись, Ремезов.
Семён Ульянович присел на лавку не слишком близко к Бухгольцу, но и не слишком далеко. Раньше Бухгольц вызывал у него раздражение: припёрся из столицы ни с того ни с сего, никому почтения не оказал, да ещё принялся переустраивать всё на немецкий лад. Но теперь, после учений на Софийской площади, Семён Ульянович глядел на Бухгольца со сдержанным уважением.
— Говорят, ты главный знаток Сибири, — откидываясь на спинку кресла, с некоторым сомнением сообщил Бухгольц. — Вот я и позвал тебя спросить о джунгарах. Что за народ, где жительство имеет, чего желает?
Семён Ульянович против воли был польщён вниманием полковника.
— Зенгурский нутук, иначе ханство Джунгарское, отсюда наполдень в трёх месяцах пути, — сказал Ремезов. — Джунгары — они те же мунгалы. Их четыре народа ушло из Мунгалии, называются ойраты: джунгары, дербеты, хошуты и торгуты. Что-то их там, в своих степях, прижало: то ли голодуха и бескормица, то ли разодрались меж собой. Вот ойраты всей ордой снялись и откочевали из Мунгалии на веток, в пустыню за Алтайскими горами.
— Стой, Ремезов, — Бухгольц полез куда-то под стол в короб и вытащил небольшой, сложенный в четверть бумажный чертёж, истёртый по сгибам. Семён Ульянович сразу узнал свою работу. Давно делал, ещё для воеводы Черкасского. Бухгольц развернул чертёж на столешнице. Семён Ульянович придвинулся поближе и ткнул пальцем, поясняя свои слова.
— Вот она, ихняя пустыня. Первый хан у джунгар был Хара-Хула, он при царе Лексее Михайловиче помер. А в силу джунгары вошли при Бушухте-хане, это при царе Фёдоре Лексеиче было. При царевне Софье они с нами задружиться хотели, чтобы вместе напасть на китайцев. Бушухту нынешний контайша Цэван-Рабдан победил, а при нём первым воеводой служит нойон Цэрэн Дондоб, волчара, лютейший наш враг, злее богдыхана. Цэван-то ему воли не даёт, но Дондобище землю рылом роет, ищет с нами войны.
— Погоди-погоди, — встряхнулся Бухгольц. — Посыпал, не сочтёшь! Давай по разбору. С кем джунгары воюют, с кем дружат?
Семён Ульянович уселся поудобнее и расправил бороду. Рассказы о чужих странах и народах доставляли ему бесконечное удовольствие.
— Воюют они с китайцами насмерть. Раздор у них идёт за мунгальскую страну Халху. Каждый хочет её себе прибрать. В Халхе алтын-ханы правили, но их ханство ойраты и китайцы извели, однако же Халху пока никто не завоевал. И всё же удача у джунгар. Они отбили у китайцев былое царство Могулистан и тамошние города на Шёлковом пути в пустыне Такла-Макан — Турфан, Кашгар и Яркенд. А ныне нойон Дондоб подбивает тай-шу Цэвана захватить у Китая священный город Лхасу в Тибецких горах. Там сидит главный богдойский лама Барахман, вроде нашего патриарха.
— Как ты всё это помнишь? — сдержанно удивился Бухгольц.
— Оно разве всё? — насмешливо хмыкнул Семён Ульянович. — Ты слушай дальше. Джунгары пошли на казахов и покорили их Старший Жуз, главную землю, ну, как у нас Московия считается. В ихнем городе Кульдже они свою столицу поместили. Хива, Коканд и Бухара джунгарам кланяются. А с нами у джунгар нелады. С нами они за бурятов тягаются, братьев своих по вере, и за Барабинскую степь, поскольку им там тыщи табунов прокормить можно, а мы не даём. Пока у нас Албазин был и мы с китайцами обоюдно злобились, джунгары нас не трогали, а как мы с богдыханом в Нерчинске замирились, так джунгары на нас вызверились. Сталкивают нас с вершин Иртыша и Оби. На Иртыше свой город Доржинкит поставили, а на Оби наш Бикатунский острог пожгли и служилых перебили.
— А калмыки тут при чём?
— Калмыки тоже ойраты. Это дербеты, торгуты и часть хошутов. Они во времена Ермака Тимофеича откололись от джунгар и вторглись в Сибирь. Прошли степями через Иртыш, Тобол, Яик и добрались до Волги. Ныне их великий хан Аюка царю Петру Лексеичу шерто-вал, и калмыки нашими российскими подданными считаются. Но с джунгарами они единая кровь. Все ойраты внутри себя по общему закону живут, называется Цаа-джин Бичик, а по-нашему — Степное Уложение.
— Да тут у вас цельное осиное гнездо, — задумчиво сказал Бухгольц, глядя в чертёж. — Не ведаешь, как шагнуть, чтобы не растревожить…
— Это верно, — согласился Семён Ульянович. — Ойраты все непокорные.
— Откуда ты про них всё знаешь? — Бухгольц пристально посмотрел на Ремезова, словно хотел понять, правду он говорит или сочиняет.
— Ещё с дедовых рассказов.
Дед Семёна Ульяновича, казак Мосей Меньшой Ремезов, первым принёс в Россию грозное известие, что джунгарский контайша Эрдени-Батур объединил всех ойратов под общими законами подобно тому, как Чингисхан пятьсот лет назад объединил всех монголов под сводом великих законов Ясы. Воевода князь Пронский отправил Ремезова в Джунгарию с подарками для Дары Убасанчи, любимой жены Эрдени-Батура. Мосей ехал вдоль Иртыша через Тару, солёное Ямыш-озеро и озеро Зайсан. Контайшу он в улусе не застал и ждал его целый месяц. Эрдени-Батур в это время был на сборище ойратов. Степные тайши и нойоны съехались в урочище Улан-Бур под голыми склонами хребта Тарбагатай. Здесь были вожди джунгар и дербетов, хошутов и торгу-тов, властители просторов Халхи и Хошутского ханства на озере Кукунор, великие ламы из Лхасы, тайша Хо-Орлюк — покоритель Волги, и мудрец Зая-Пандита, который создал для ойратов «тодо бичик» — «ясную речь». Дымы от тысяч кибиток обволокли вершины Тарбагатая. Ойраты расстелили древние кожи с письменами чингизовой Ясы и сообща условились, как им разделить Вселенную, дарованную Чингизом, и по каким правилам жить на этих просторах. Призраки ордынских бунчуков омрачили небеса над Россией, Туркестаном, Китаем и Индией. Но всё-таки у ойратов уже не было той неистовой страсти, которая некогда сплотила монголов. Свирепые тенгрии чингизидов не вырвутся из мира мёртвых, если другие народы не поднимут меч на ойратов, и пока что Вселенная может пребывать в умиротворении. Об этом Эрдени-Батур рассказал Мосею Ремезову, Мосей — князю Пронскому, а князь — царю Михаилу Фёдоровичу. И Россия с тех пор не поднимала меча на ойратов. А Китай поднял.
— Твоя дорога на Яркенд — та, по которой прошёл мой дед Мосей, — пояснял Бухгольцу Семён Ульянович.
— Какие препятствия укажешь на ней, старик?
— До Тары вам шестьсот пятьдесят вёрст по Иртышу, — задумчиво сказал Ремезов. — Тара — почитай, граница наша со степью. Потом семьсот двадцать вёрст до Ямыш-озера. На впадении Омь-реки — брод через Иртыш. По нему джунгары ходят в набеги на Барабинскую степь. Там вам ухо надо держать востро. Вы на дощаниках, а джунгары конные. На броде они могут напасть.
— Занимательно будет лицезреть баталию кавалерии с флотилией, — снисходительно усмехнулся Бухгольц. — А что за Ямыш-озеро?
Солёный Ямыш кормил солью всю степь. Русские узнали о Ямыше от татар ещё во времена хана Кучума. Тобольский воевода Фёдор Шереметев снарядил первый военный поход на Ямыш, но татары перебили русских казаков. Через десять лет на Ямыш явились джунгары и объявили его своим. За двести пятьдесят вёрст от Ямы-ша у джунгар стоял их город Доржинкит — сотни войлочных юрт вокруг семи высоких храмов-субурганов. Субур-ганы, похожие на перевёрнутые колокола, были построены из рыхлого саманного кирпича — глины пополам с соломой. Доржинкит преграждал русским путь вверх по Иртышу к озеру Зайсан и хребтам Мунгальского Алтая.
Воевода Буйносов-Ростовский снарядил на Ямыш новый отряд. Его повёл литвин Бартошка Станиславов, ротмистр. С джунгарским нойоном Бартошка выпил водки-тарасуна и откупил Ямыш для русских. Это было сто лет назад. Казаки построили на Ямыше заставу. С тех пор из Тобольска на Ямыш каждый год плавал большой караван из десятков судов. Ямыш почитался землёй общего перемирия: соль нужна всем. Русские купцы здесь обменивались со степняками заложниками-аманатами и ломали соль-бузу рычагами, а потом возвращали заложников и устраивали большую ярмарку.
— На Ямыше вам зимовать надо, — сказал Ремезов Бухгольцу. — Ямыш — на половине пути до Яркенда. От Тобольска до Ямыша идти всё лето.
— Какова фортеция на Ямыше? Ретраншемент?
Семён Ульянович вспомнил, что Ванька Демарин говорил о земляных крепостях, которые нынче строили иноземцы и солдаты царя Петра.
— Нет, там косой острог с частоколами. Тебе он не защита.
— А велико ли войско могут собрать степняки?
— От кочёвок зависит. От времени года. От родни зайсанга. Могут и тыщу подогнать, и десять тыщ — целый тумен. Их же несметно по степи.
— Как их войско устроено? — допытывался Бухгольц. — Есть шквадроны?
— У них орды конные, а не войско. Какая орда в сто сабель, какая в три тыщи. Во главе — зайсанги. Воевода — нойон, в чьём улусе война. У командиров дружины из батырей, а сама орда — из аратов, простых скотогонов.
— Как вооружены? Мушкеты есть?
— Самопалов мало, но огневого боя не страшатся. Оборужены как наши драгуны. Доспехи кожаные — куяки. У знатных батырей — латы-убчи, ихние кузне-цы-дарханы делают их из сырых железных досок. Оборона пустяшная, пуля пробивает. Потому для джунгар доспех — главное сокровище. Лучшие доспехи у них своими именами прозываются. Ты про это не забудь. Для зайсанга или нойона лучший подарок — кольчуга. Золото, деньги, скот — это всё для него не честь, а вот доброй кольчугой знатно уважить можно, ежели, конечно, у тебя охотничьего кречета или балабана нету. Чего джунгарин за кольчугу пообещает — всё исполнит, это у них закон.
— Дикарский обычай, — поморщился Бухгольц.
— Моё дело — понимание дать, — пожал плечами Семён Ульянович.
Он не стал рассказывать Бухгольцу о том, как его отец Ульян Ремезов отвёз в подарок джунгарскому тайше Аб-лаю кольчугу самого Ермака.
— Как они атакование производят?
— Сраженье всегда размечают для трёх частей своей орды. Нойон решает, куда пойдёт правое крыло — барун по-ихнему, куда левое крыло — зюн, что будет делать серёдка — запсор. Нойон всегда в запсоре. Назади орды — обоз, называется юрга, его охраняют каанары. Нападают степняки только три раза. В первый напуск бросают лучников, во второй летят с пиками, в третий — с саблями. Не взяли своего — уходят.
— А русских войск они боятся? — вдруг спросил Бухгольц.
Семён Ульянович замолчал, вглядываясь в лицо полковника. Ему очень не понравился этот вопрос. О чём Бухгольц думал? Чего он сам опасался?
Иван Дмитриевич не смог бы ответить на этот вопрос, да и не стал бы отвечать тобольскому архитектону. Но сейчас, в этой беседе, для него вдруг прояснились вполне обоснованные вещи. В хлопотах прошедших месяцев он успел проникнуться духом этого города и вопреки своему воинскому знанию ощутил, что Тобольску и вправду нужен тот кремль, который возводит сей старик. Необходимость кремля отнюдь не стратегическая. Никто на Тобольск не нападёт. Необходимость кремля — государственная, ибо Тобольск есть воистину азиатическая столица отечества. И теперь архитектон показал ему те тонкие нити, которые влекутся от Тобольска к Туркестану, Джунгарии, Мунгалии и Китаю. Эти нити не дотянуть до Петербурга, да там никто в них и не разберётся. Восточная экспликация державы возможна только отсюда. И кремль — очезрительное изъявление державной значимости Тобольска.
— По свершениям царя Петра наших войск отныне все народы боятся, — сказал Ремезов, уклоняясь от сути вопроса Бухгольца.
Но Семён Ульянович беспокоился не о величии царя. Он беспокоился о Петьке. Сказали, что поход на Яркенд мирный, а полковник про сраженья выспрашивает. Неужто Петька на войну попадёт? Рано ему! Он дурак!
Семён Ульянович заёрзал на лавке возле стола Бухгольца.
— Послушай, полковник, — проникновенно подступился он, — там к тебе в войску мой сын записался, Петька Ремезов. Ты уж проследи за ним, государь, будь милостив! Он же молодой, совсем безголовый!
Бухгольц сразу вернулся мыслями к своему делу и напустил на себя строгости. За советы старику спасибо, но конфиденция невозможна.
— У меня все солдаты — чьи-то сыны, — весомо ответил он. — Я обо всех пекусь, и в том пред богом присягал. Лучшая защита солдату в походе — не командирская протекция, а собственная выучка!
— Да какая у него выучка? Дурь одна! Его твой поручик Ванька Демарин к себе в полк сманил!
— Или домой, Ремезов, — отрезал Бухгольц.
Семён Ульянович снова увидел перед собой служивого чурбана.
Бухгольц глядел в сутулую спину архитектона, который, опираясь на палку, выходил из горницы, и ему стало жаль этого старика. Сын-то его, видать, последыш, поскрёбыш, прощальная радость жизни. Надо помочь.
— Тарабукин! — крикнул Бухгольц ординарцу, когда стук палки затих в сенях. — Найди мне поручика Демарина.
— Он на дворе! — тотчас сообщил выскочивший из двери Тарабукин.
Ваня вошёл к полковнику и сразу понял, зачем его позвали. Он только что видел Ремезова, идущего через Воинское присутствие, и на столе у господина полковника лежит расстеленная ремезовская карта.
— Найди сына этого архитектона и прими в свою роту, — распорядился Бухгольц. — Приставь его к Назимову, он толковый сержант.
— Слушаюсь, Иван Митрич.
— Ну, тогда исполняй. Чего стоишь?
Ваня замялся, потому что его вдруг обожгло ревностью. Вредный старик пролез и сюда, в полк, где Ваня считал себя главнее Ремезова, и, судя по карте, наплёл каких-то своих сказок про Сибирь, да ещё и нажаловался за Петьку. Ваня не хотел, чтобы в походе им руководила воля Ремезова.
— Осмелюсь предостеречь вас, Иван Митрич, от доверия к сему старику.
— Отчего же? — удивился Бухгольц.
— Семён Ульянович корысти не имеет, однако ж он стариной живёт. Вы сами посмотрите, какие ландкарты у него. Он кремль строит, иконы пишет, летописи, как в прадедовы времена. Его разумение на наши обстоятельства не простирается. Он поневоле в заблуждение вас может ввести и в мере дистанции, и в рекогносцировании неприятеля, да и в прочем тоже.
— Я сам разберусь, господин поручик, — сухо ответил Бухгольц.
Глава 4 Мис-нэ
В ту зиму Айкони иногда приходила к Когтистому Старику. Огромная башка Старика лежала как раз в той чамье, где Айкони укрывалась от сумасшедшего медведя. Башка занимала половину амбарчика. Нахрач выскреб череп Старика изнутри и набил травой. Глаза он съел, хотя люди не едят глаза зверей, а зубы выдернул, чтобы перетереть на порошок и сделать снадобье. Айкони зашила пасть медведя жилами, а в глазницы вставила кружочки из бересты — так когда-то научил её Хемьюга. Башка Старика, приведённая в правильный вид, дремала и слушала Айкони. Две отрезанные лапы с когтями покоились слева и справа от носа.
— Ты очень хитрый, Когтистый Старик, — говорила Айкони медвежьей голове, еле вместившись в тесный жертвенный амбарчик. — Я думала, что мы с уламой убили тебя. Ты лежал в яме на кольях совсем-совсем мёртвый, даже не дышал. А ты всех обманул. Но потом я не удивилась. Ты же был дух.
Конечно, Старик её обманул. Айкони и Нахрач не смогли вытащить из ловушки огромную тушу медведя, и могучий Нахрач разделал добычу прямо в яме. Голову и передние лапы, как положено, он оставил для хранения на капище. Задние лапы, печень и шкуру Нахрач взял себе, остальное отдал Айкони. На нужном месте они вдвоём развели костёр, Нахрач обкурил голову Старика дымом, исполнил пляску, изображающую победу Айкони над медведем, и спел песню, восхваляющую поверженного врага. Потом они накормили Старика его же мясом. И получилось, что Старик съел сам себя, то есть как бы вывернул свою жизнь наизнанку и возродился где-то в другом лесу, в какой-то берлоге, в виде нового медвежонка. Значит, он остался жив и даже вернул себе обычную медвежью природу, избавившись от проклятия Хынь-Ики. Значит, Айкони не убила его, и ему не за что мстить девчонке. Когтистый Старик обманул всех — и Айкони, и Хынь-Ику — и жил снова.
Мяса медведя ей хватило на всю зиму. У неё никогда ещё не было такой сытой, спокойной и счастливой зимы. Она даже потолстела. На Ен-Пуголе её ничто не беспокоило. После первых снегопадов она обошла окрестные чащи и познакомилась с деревьями-вожаками. Это было важно для добрых отношений с лесом. Деревьям-вожа-кам подчинялись все остальные деревья. Вожаки всегда были старыми и кряжистыми, но не всякое старое дерево становилось вожаком. Искать вожаков было проще в начале зимы, когда снег ещё тонкий. Вожаки — они тёплые в сердцевине, и вокруг них долго держится протаявшая лунка. Айкони назвала вожакам своё имя, обломила с них щетину — тонкие мёртвые веточки, сделала вожакам подарки: одним повязала цветные нитки, а другим воткнула в кору пёрышки; красные кедры она помазала своей кровью, а одной скрипучей лиственнице подвесила на сук погремушку из утиного горла — пусть беседует, если так любит говорить.
Ей теперь тоже было с кем говорить. Нахрач принёс ей настоящий огонь — не тот, который соскакивает с кремня, чтобы согреть человека в пути и затем умереть, а родовой огонь из освящённого очага. В этом огне жила маленькая весёлая женщина Сорни-Най в красном платье. Когда-то она была дочерью бога Торума, хозяина неба. Некий молодой охотник полюбил её, превратился в ласточку и похитил у Торума, бог только успел метнуть вслед похитителю молнию, которая надвое рассекла ласточке хвост. А Сорни-Най с тех пор жила у людей на земле. Айкони рассказывала ей о своей жизни, но ни слова не говорила о князе-предателе: она выбросила из памяти его образ. Она ценила внимание Сорни-Най и ухаживала за огнём. Нельзя было с размаху швырять в него дрова — можно ушибить. Нельзя ворошить в огне острой палкой — можно выколоть глаз Сорни-Най. Нельзя бросать мусор в угли — огонь обидится. Нельзя плескать воду — это оскорбит его. Нужно понемногу делиться с огнём своей пищей и давать ему лакомство — смолистые шишки. Если Сорни-Най сыта и довольна разговорами с хозяйкой своего очага, то она не пустит в дом Хынь-Ику, великого лжеца, знающего столько историй, сколько рыб в священном озере Им-лор. Хитроумный Хынь-Ика живёт в низовьях Оби, там у него изба из костей; каждая птица, что прилетает весной, приносит ему какую-нибудь историю или сказку, поэтому он лучший в мире рассказчик. Но ему скучно зимой, и он рыщет по земле, оставив сторожить свою избу чудовище Пырнэ. Хынь-Ика оборачивается мышью, пробирается в жилища людей и творит зло. Когда Сорни-Най дружит с хозяйкой своего очага, она убивает мышей, и Хынь-Ика, чтобы войти, должен превращаться в человека, но для этого ему надо надеть семь чёрных рубах, а в семи рубахах Айкони и сама узнает демона и ошпарит его кипятком из котла.
Айкони в эту зиму вовсе не было одиноко. Нахрач сдержал своё слово: Когтистый Старик был убит, и Нахрач дозволил Айкони приходить в рогатую деревню. Вогулы встречали её дружелюбно. Никто не припоминал, что у русских она совершила преступление и её теперь ищут. Епьюм научил Айкони особым образом вязать силки на зайцев. Щенька разрешил охотиться на Волосатом болоте, которое считалось угодьем его семьи. Юзоря подарил топор, а Себеда — точильный камень. Панца и его жена Соя всегда кормили Айкони. Старуха Нероха показала ей, как заквашивать в горшке жёсткий собачий мех, чтобы он становился мягким и ровным, точно у песца. Марпа, жена Михани, обменяла Айкони на медвежье мясо целый мешок лоскутков. И всё же Айкони не перебиралась в деревню. На Ен-Пуголе ей было лучше.
Иногда к ней в избушку приходил Нахрач, и Айкони это нравилось. На Ен-Пуголе Нахрач был совсем не такой, как в рогатой деревне, где он всех ругал, всё время что-то распределял и отдавал приказы. Однажды Нахрач пришёл под вечер, замёрзший насквозь, в залубеневшей одежде и с лицом, исхлёстанным в кровь ветвями. Он долго отогревался, потом шумно хлебал из миски, которую подала ему Айкони, а потом лёг возле очага.
— Почему твоё лицо исцарапано? — спросила Айкони.
— Я дрался с Калмысь-ойкой. Я бил его, а он меня.
— А кто такой Калмысь-ойка?
— Бог, — просто и пренебрежительно пояснил Нахрач. — Он хозяин Тарыг-урама, Соснового холма. Ты видела, что белки уходили?
— Видела, — кивнула Айкони.
Вчера она заметила, что весь снег на берегу густо истоптан белками. Это был след большого звериного переселения. Бывало, что белки, или мыши, или бурундуки вдруг огромной стаей бежали куда-то через луговины и леса, переплывали реки, меняя место обитания. Бывало, что птицы подчистую улетали из рощи, исчезали рыси или волки, рыба внезапно пропадала из всей реки от истока до устья. Почему случалось такое, Айкони не знала.
— Это Калмысь-ойка играл в кости с Петысь-эквой, хозяйкой кедрачей на Яурье, и выиграл всех белок. Я ходил, бил его, чтобы он отдал.
Нахрач говорил так, будто могущественные боги и духи были его соседями, с которыми можно ссориться или заставлять их что-то делать.
— Ты шаман, Нахрач? — спросила Айкони.
— Я камлаю.
— Я тоже камлала, но я не шаман.
— У меня есть шаманский сундук.
Айкони бывала в доме Нахрача и видела этот сундук: большой, красиво раскрашенный ящик, в котором хранились шаманская шапка, меховая и рогатая, и деревянные личины для плясок, а также моток священной верёвки, которая в верхнем мире превращалась в волосяной мост, чтобы душа шамана преодолела огненную бездну, и резные палки, которые на небе становились конями, чтобы шаман мог догнать богов. Над сундуком висел кривоватый бубен в рубашке из налимьей кожи — бубны имели душу, а имеющие душу должны носить одежду. Обечайка бубна была берёзовая, к ней на костяные гвозди крепилась натянутая шкура, и по окружности были пришиты медные колокольцы. Рукоятью служила крестовина из оленьего рога. Снаружи бубен был украшен четырьмя изображениями Небесного Всадника: левое верхнее и правое нижнее изображения — чёрным по красному, а левое нижнее и правое верхнее — красным по чёрному. Бубен Нахрача славился своим голосом.
— Ты не похож на шамана, — недоверчиво сказала Айкони.
Хемьюга, покойный шаман из её родного Певлора, был совсем не таким, как Нахрач. Шаманство — это проклятие, беда. Шаманы слабые, больные, измученные. Отвары ядовитых грибов, пляски в дыму, корчи с пеной изо рта, жуткие мороки и восхождения в верхний мир истрачивают шаманов раньше срока. Они быстро седеют, трясутся и много плачут. Духи, которые входят в шамана, расшатывают его тело, как большая рука мужчины растягивает и разрывает маленькую рукавичку женщины. А Нахрач — здоровый, сильный и ловкий, подобно лесному мужику Комполену, хотя, конечно, горбатый.
И ещё шаманы бедные. У них нет сил на большие охоты, нет времени на своё хозяйство — их то и дело отвлекают на помощь другим людям, а потом они подолгу лежат в изнеможении. Шаманы имеют только то, что им подарят. А Нахрач — богатый. У него свой дом, он всегда сыт, он приказывает вогулам отдавать ему то, что хочет получить, и вогулы отдают.
— В тебе есть шаманский корень? — спросила Айкони.
Шаманский корень — что-то необычное у человека. Странные события в судьбе или удивительные способности. Так боги указывают, что избрали именно этого человека. Хемьюга, пока был молод, умел плавать в реке, точно собака, хотя остяки Певлора боялись холодных речных вод.
— Моего деда убило молнией на Юконде.
Такое объяснение вполне доказывало шаманский корень.
— А когда ты услышал шаманский зов?
Любой, кто избран богами, рано или поздно слышит шаманский зов. После этого человек должен идти на выучку к старым шаманам, чтобы перенять их опыт и продолжить их дело. Но кому хочется жить бедно, мало и в болезнях? Бывало, что человек отказывался отвечать на шаманский зов. Тогда боги мстили ему. На него обрушивались несчастья и беды.
— Я не слышал шаманского зова, — с презрением ответил Нахрач. — Меня не надо звать. Я своими ногами иду туда, куда хочу.
— Даже к богам? — удивилась Айкони.
Она слушала Нахрача во все уши. В деревне Нахрач не позволил бы Айкони так допрашивать себя.
— Боги и духи не скрыты от людей, иначе кто будет знать про них? Все люди иногда чувствуют их рядом с собой или сталкиваются с ними. А я сам их отыскиваю. И заставляю исполнять то, что они могут.
Айкони подумала, что горбатый Нахрач ходит к богам, будто на охоту. Он выслеживает богов, словно зверей в лесу, ловит и принуждает служить.
— И ты не пьёшь отвары из грибов и трав? Ты не падаешь без разума?
— Так поступают слабые шаманы. Они похожи на трусов, которым надо выпить пьяной воды, чтобы стать смелыми. А я смелый и без пьяной воды.
— Но как твоя душа попадает на верхние небеса, если ты не дуреешь?
— А что мне делать на верхних небесах? На высоте боги равнодушны. Разве Ен перестанет курить свою трубку, когда я попрошу у него вернуть белок в кедрачи на Яурью? Разве Мир-Суснэ-Хум остановит своего коня, когда я попрошу у него разбить лёд в Нуртальхе пораньше? Высокие боги ничего не делают для людей. Зачем мне к ним ходить?
— У тебя нет «тёмного дома»? — догадалась Айкони.
В «тёмном доме» шаман камлает, и в него вселяются боги, души предков или духи, которые живут под землёй. Они говорят устами шамана, и другие люди могут их слушать. А ещё в «тёмном доме» шаман лечит. Болезнь — это же злой дух. Если его выгонять из больного разными зельями и снадобьями, он может перескочить в другого человека или в скотину. Поэтому его надо выманить дарами и восхвалениями. Шаман намазывает больному лицо сажей, режет жертвенное животное и пляшет для злого духа под бубен. Дух вылезает из больного, чтобы принять дар и увидеть пляску, а потом не может вернуться обратно, ведь лицо больного в саже, человек скрыл себя в темноте. А выход из «тёмного дома» перегорожен волосяной верёвкой. Злому духу некуда деваться, и он уходит в землю.
— Ты не похож на шамана, Нахрач Евплоев, — честно сказала Айкони. — Но и на князя ты тоже не похож.
— Почему я не похож на князя? — рассердился Нахрач.
— Пантила живёт не как ты. И русский князь не как ты.
В её родном Певлоре Пантила Алачеев был князем лишь потому, что принадлежал к древнему роду Алачея, Игичея и Анны Пуртеевой — князей остяцкой Коды. Хотя Кода уже давно исчезла, кровь есть кровь, и в Певлоре никто не спорил, что Пантила — князь, если не считать того случая с Ахутой Лыгочиным, отцом Айкони. Всё равно Певлор жил своим умом: люди сами, без князя, распределяли угодья, сами судили друг друга и сами собирались на общие работы. Князь был нужен только для того, чтобы от лица Певлора говорить с чужаками — с русскими или бухарцами. И жизнь Пантилы не отличалась от жизни других остяков. А вот Нахрач правил своим Ваентуром так, как русские князья правят Берёзовом или Тобольском: он один решал общие дела, и вогулы подчинялись ему беспрекословно. Однако у Нахрача, в отличие от русских князей, не было никакой силы — ни войска, ни богатства. И Нахрач не принадлежал к древним княжеским родам: всех вогульских князей на Конде и Пелыме русские истребили ещё сто лет назад.
— Почему вогулы слушают тебя, Нахрач? — спросила Айкони.
— Я говорю с богами, — надменно ответил Нахрач. — Я нашёл лежбище Ёма-чахля, принёс ему дары, и Ёма-чахль дал песцов. Вогулы заплатили ясак русским в Пе-лым. Я поймал сетью Нюмчу в Инхетском Соре, и Нюм-ча дал рыбу. С тех пор вогулы ездят рыбачить на Инхетский Сор. Никто из вогулов не умеет делать так, как я. Я указываю богам и людям, где зверь, где птица, где рыба. Кому ещё быть князем в Ваентуре? Щеньке? Старухе Нерохе?
Айкони стало всё ясно. Конечно, только Нахрач Ев-плоев, покоряющий богов и духов, мог быть князем рогатых деревень Конды.
— А зачем тебе я, Айкони? — спросила она о самом главном. — Пантила меня прогнал. Сатыга прогнал. Аты пустил жить в избушку на Ен-Пуголе.
— Я взял тебя, чтобы ты победила Когтистого Старика.
— Когтистый Старик ушёл, а я здесь.
Нахрач завозился у огня, раздумывая.
— Для тебя Ике-Нуми-Хаум начал говорить, — признался он. — Со мной Ике молчал. Видно, ты ему понравилась. Я такого не ждал.
Айкони поёжилась, вспомнив схватку с Когтистым Стариком. Осенний ветер тогда забросил уламу на лицо Ике-Нуми-Хаума, и деревянный идол закричал: «Явун-Ика! Иди ко мне!». Когтистый Старик подчинился зову, пошёл к идолу и провалился в ловчую яму.
— Ты веришь, Нахрач, что Ике ещё что-то скажет мне?
— Да, — кивнул Нахрач. — Он должен сказать, как его спасти.
— А кто хочет его убить? Русские?
— Твой князь Пантила пообещал русским отдать Ике-Нуми-Хаума. Ведь Ике — это Палтыш-болван с вашей Коды. Игичей Алачеев, предок Пантилы, надел на него железную рубаху Ермака. Я жду, что Ике заговорит, когда почувствует приближение опасности. Но говорит он только с тобой.
— Почему?
— Я не знаю, — Нахрач посмотрел Айкони прямо в глаза, и Айкони и смутилась, и оробела. — Я ещё не понял, кто ты, и почему ты слышишь Ике.
— Кто я могу быть? — Айкони уже испугалась.
— Я думаю, ты Мис-нэ.
В очаге неожиданно полыхнуло пламя, на углях мелькнуло красное платье Сорни-Най, и Айкони словно опалило жаром. Она — Мис-нэ!
Даже шаманы не знают, откуда берутся Мис-нэ, нежные и страшные лесные женщины. Они живут вдали от людей в глухих и пустынных чащах. Их встречают только те охотники, которые всю долгую зиму проводят в одиночестве на заимках. После самых сильных холодов, когда над Обью, проливая синюю воду, наклоняется созвездие Кувшина, Мис-нэ может выйти к человеку. Нет ничего прекраснее лесной любви Мис-нэ, и бывало, что охотник уже не возвращался с зимовья в родную деревню. Его находили мёртвым, сидящим у лиственницы или берёзы, и даже после смерти он обнимал древесный ствол — это Мис-нэ превратилась в дерево. Однако нет ничего ужаснее мести Мис-нэ, если человек, которого она полюбит, дома возьмёт себе другую женщину: Мис-нэ погубит обоих. Тот, кто познает Мис-нэ, будет вечно помнить её, томиться по ней и жить один. Лишь иногда, очень-очень редко, Мис-нэ будет навещать его, но невидимая и бесплотная. О её появлении оповестит яркий и внезапный запах пихты — и всё.
Разговор с Нахрачом на много дней разволновал Айкони. Она не знала, радоваться ей или тосковать. Может, она вообще уже умерла, её растерзал и съел Когтистый Старик, и вся её жизнь после той схватки с медведем — лишь сон мертвеца? Этот сон не отличить от яви, спящий никогда не выйдет за его пределы и не поймёт, живой он или мёртвый. Но Айкони придумала, как ей проверить себя. Она высыпала пепел из очага и ступила на него босой ногой. Сорни-Най не солжёт: если на пепле останется след — значит, она, Айкони, жива, а если следа нет — значит, она бестелесная тень мёртвой Айкони, над которой насмехается жестокий Хынь-Ика, который внушил наивной душе, что та ещё человек. Айкони присела над пеплом на корточки. След был.
Время двигалось к весне. Каждую ночь, повязав голову уламой, Айкони выходила из своей избушки и смотрела на небосвод. Синяя вода последних холодов вытекла из звёздного Кувшина, и он медленно опустился за кромку лесов. Над заснеженными соснами Ен-Пугола восходили другие созвездия, уже весенние: Спутанный Невод, Росомаха и Рогатина. Раскинув прозрачные крылья, над тёмной тайгой неподвижно летела утка Лули, которая во время потопа клювом достала землю со дна моря. Звёзды мерцали — это возле очага Великая Мать покачивала Колыбель Зверей. Замер, озираясь, Шестиногий Лось. Где-то над Кондой поблёскивала робкая звезда Маленькая Собачка.
А днём всё ярко сверкало, будто кто-то оттачивал ножи: острые лучи солнца, сосульки, изломы наста. Ёлки освобождались от снега и поднимали лапы. Айкони ходила по чёрствому насту и не проваливалась. В лесах сейчас было просторно и пусто. Лёд на болоте влажно потемнел, набух и тихо погрузился, уступая воде. Остров Ен-Пугол окружило прозрачное талое озеро. Переполнив низину болота, оно протоками растекалось по тайге.
Высоко в небе плыли гусиные стаи. На обогретых склонах холмов оголялась рыхлая почва, покрытая прелым прошлогодним опадом. Мётлами торчали голые прутья кустов. Вытаявшая земля воистину была такой, какой давным-давно создала её утка Лули: шерстистой и когтистой.
Айкони не забывала про Ике-Нуми-Хаума. Идол угрюмо возвышался над поляной капиша, закутанный в истлевшие, рваные шкуры, под которыми виднелась ржавая кольчуга. Руки-обрубки. Глаза-гвозди. Лосиный череп на голове. В обгорелой пасти — льдина. Айкони набрасывала на лицо Ике свою уламу, но идол не отзывался. «Надо дождаться сильного ветра, — думала Айкони. — Ветер принесёт известия». Однако ветреные дни приходили и уходили, лёд во рту идола растаял, а Ике всё равно упрямо молчал.
По Конде прокатилось половодье, затопило прибрежные леса, а потом отступило. Вспыхнули и рассеялись россыпи подснежников, ивы и берёзы покрылись прозрачной листвой, зазеленела первая трава, болотная вода вернулась в свои границы и задумчиво почернела. Молодые волчата учились ловить мышей. Тайгу опутал неумолчный птичий щебет. Прогромыхали ранние, свежие грозы. Над отогретыми бочажинами задымились комары. Валежник обрастал мягким и влажным мхом. Безлюдье аукало кукушками.
Ен-Пугол обсох на солнце. На его соснах застучали дятлы. Каждое утро Айкони приходила к идолу. Опасливо глядя снизу вверх, она широким движением руки накидывала на голову Ике платок, а потом пятилась, чтобы лучше видеть, но в складках уламы не проявлялось никакого смысла.
…В день солнцеворота Нахрач встречал в Ваентуре князя Сатыгу из Балчар. Сатыга приплыл, чтобы вместе с Нахрачом принести жертву вакулю, богу Конды. Всё-таки река общая, и дар тоже пусть будет общий. Так выйдет дешевле, решил Сатыга. В жертву назначили козу с чёрным пятном на лбу.
— Бог, я на твою спину сажусь, — залезая в лодку-об-лас, сказал Нахрач.
Сатыга уже устроился на носу. Коза смирно лежала на дне, но Сатыга придерживал её за рог. Воин Ванго с силой толкнул облас, посылая его на глубокую воду. Вогулы Ваентура и гости из Балчар толпились на берегу. Нахрач уверенными гребками погнал лодку к середине реки, где её подхватило неторопливое течение. Тёмная Конда на стрежне дрожала под ветерком, изредка покрываясь прядями пены. За обласом на верёвке плыл плотик. Он дёргался от толчков и зарывался в воду. Ваентур отдалялся.
Нахрач положил весло и принялся подтягивать плотик ближе к лодке. Жертвоприношение надо было совершить поскорее, не то Конда унесёт облас, и никто в Ва-ентуре ничего не увидит. Сатыга встал на колени, с натугой поднял козу и перенёс её через борт на плотик. Коза испуганно затопталась по брёвнышкам, готовая прыгнуть обратно в облас, и заблеяла.
— Вакуль, бери еду! — негромко и требовательно крикнул Нахрач, взял весло и гулко хлопнул лопастью по воде.
— Не бей бога! — всполошился Сатыга.
— Он глухой, — бросая весло, пояснил Нахрач.
Коза обеспокоенно перебирала копытцами. Хвост и уши у неё дрожали, а ноздри шевелились.
— Кто-то бежит к нам! — вдруг заметил Сатыга.
Нахрач повернулся, рассчитывая увидеть след плывущего вакуля, но из-за поворота реки к обласу князей приближалась долблёная калданка.
— Это Айкони, — прищурившись, узнал Нахрач.
Айкони не застала Нахрача в Ваентуре, запрыгнула в лодку и бросилась искать князя на реке. Калданка стукнула носом в облас.
— Нахрач! Ике заговорил! — взволнованно сообщила Айкони, хватаясь за борт обласа. — Он сказал, что на Конду идёт русский шаман!
— Не надо его бояться, — ухмыльнулся Сатыга. — Этот старик ничего не может сделать. Он просто обманщик.
— Он не обманщик, — возразил Нахрач. — Ты не знаешь.
— Я знаю! — заверил Сатыга. — Он сказал мне, что моё горе по сыновьям утихнет, если я надену крест, но горе не утихло. Мои сыновья не приходят ко мне даже во сне — ни Тояр, ни красивый Молдан.
Сатыга сунул руку в горловину своей кожаной рубахи и вытащил нательный кипарисовый крестик на шнурке.
— Возьми его, — Сатыга сорвал крестик и перебросил в калданку Айкони. — Отдай Ике-Нуми-Хауму в подарок от меня.
— Ты глуп, князь Сатыга, — с презрением сказал Нахрач. — Все люди считают русского старика обманщиком, потому он и побеждает наших богов. Но я знаю, что старик говорит правду, потому меня он не победит.
Сатыга и Нахрач отвлеклись на Айкони, отвернувшись от плотика с козой, и за их спинами вдруг коротко взблеяла коза, тотчас что-то могуче плеснуло, будто огромная рыба ударила хвостом, и страшно хрустнула древесина. Калданка и облас качнулись на волне, людей обдало брызгами. Сатыга и Нахрач схватились за борта, дружно пригнувшись для остойчивости лодки, и оглянулись. Оторванный от верёвки плотик плавал в пузырящейся воде, в которой клубилось бурое облако крови. Угол плотика был выкушен. На брёвнышках лежала рогатая голова козы.
Глава 5 Уходящие
Ещё не поздно было сделать так, чтобы никакой войны со степняками не случилось. Китайская пайцза ещё висела у Матвея Петровича на груди под камзолом и пышным кружевным бантом. Князь широко крестился, стоя в толпе посреди Софийского собора, и разглядывал образа на многоярусном иконостасе, резном и раззолоченном. Матвей Петрович хотел понять, что думает о его замысле святая православная сила. Склонённые головы, нимбы, бестелесные руки, ниспадающие одеяния, крылья, кресты, книги, облака…
— И якоже рабу Твоему Товии Ангела хранителя и наставника поели, — гулко и протяжно пел дьякон, — сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстоя-ния видимых и невидимых врагов и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же, и благополучно, и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа…
На службу по уходящим воинам в собор набилась толпа тоболяков: чиновники губернской канцелярии, купцы, иеромонахи Софийского двора, офицеры Бухгольца. Сам Бухгольц, держа на согнутой руке треуголку, чётко печатал толстыми пальцами крестные знамения и шептал слова молитв так тщательно, будто повторял ка-кую-то воинскую инструкцию. Ослабевший от болезней митрополит Иоанн уже не мог участвовать в литургии и сидел в креслице. Ремезов стоял где-то сбоку, опираясь на руку жены, бормотал и кланялся невпопад: терзаясь по сыну, он молился своим порядком. Голоса дьякона и певчих взлетали под высокие своды собора. В открытые окна косо били лучи солнца. Тяжёлые железные паникадила висели над толпой на цепях и наводили Матвея Петровича на недобрые мысли о терновых венцах.
Матвей Петрович мысленно проверял готовность войска к походу. Полторы тысячи рекрутов, бывшие служилые Чередова, охочие люди и шведы — всего же почти три тысячи солдат. Оружие. Порох. Пули. Кремни и пружины. Наждаки. Свечи. Походная кузня. Винты. Гвозди. Четырнадцать пушек, отлитых в Каменском заводе тюменским мастером Елизаркой Колокольниковым. Лафеты. Запасные железные шины. Запасные гандшпиги. Ядра. Ручные ядра. Фитили. Картечь. Запальные трубки. Клинья. Крючья. Коломазь. Ерши. Барабаны. Гобои. Амуниция. Ремни. Башмаки. Епанчи. Походная швальня. Кошмы и войлоки. Проволока. Щёлок. Холсты. Котлы. Солонина. Сухари. Мука. Сало. Водка. Тысяча лошадей отсюда и полторы тысячи в Таре. Хомуты и сбруи. Подковы. Сёдла. Попоны. Фураж. Тридцать два дощаника и двадцать семь лодок. Смола. Конопать. Верёвки. Уключины. Парусина. Скобы. Снасти. Плотницкий инструмент. Топоры… Припасы уже пересмотрены и пересчитаны по десять раз. Всего должно хватить.
Матвей Петрович потратил на войско немало сил и немало денег. Он старался всё сделать честно и добротно. И ему не в чем себя упрекнуть. Его совесть должна быть спокойна. Война — солдатская работа. А он обеспечил солдат и оружием, и провиантом, чтобы работали хорошо. Себе ни гроша не взял и другим брать не позволял. Пусть войско идёт в степь и побеждает. И всем тогда будет польза: и солдатам, и державе, и губернатору. Он, князь Гагарин, молится за своих солдат и просит для них только блага. Только вот ещё надо дать в собор новый вклад — икону Георгия Победоносца. В золоте.
Владыка Иоанн видел, что Матвей Петрович опять что-то придумал, опять затеял какую-то корыстную хитрость и сейчас расписывает господу её достоинства, будто ушлый ярмарочный торговец расхваливает доверчивому покупателю свой дрянной и порченый товар. Но митрополиту уже были безразличны грехи губернатора. Его тяготили мысли о земном, тяготило своё немощное тело, тяготил тварный мир. Этот мир стал прозрачен для Иоанна. Здесь всё толстое, грубое и неуклюжее. Понятны все страхи, желания, уловки и надежды людские. В душе владыки не осталось ни гнева, ни сочувствия — лишь тихое терпеливое ожидание, когда же, наконец, он сам станет таким же безмятежным светом, как тот, что вкось бьёт из окон собора на аналой.
Отчуждение не было смертью духа. Наоборот, дух обретал истинную небесную природу, и движение человеческой жизни проходило сквозь него, словно сквозь воздух. Теперь Иоанн постиг отшельников, которые в тесных пещерах под Киевской лаврой укладывались в гробы и просто лежали в темноте и немоте, не отзываясь ни на что. Теперь и он обрёл этот дар. Всё к тому и шло — шло с тех давних дней в Чернигове и Глухове, когда его душа надломилась страхом перед царём, а ныне безвозвратно отделилась от мира.
Иоанн слушал слова литургии: старинные, вычурные, тяжеловесные… Мало кто может изъясняться оной речью и ведать её смысл. Иоанн смотрел на высокую стену иконостаса: пёстрые картины совсем не похожи на то, что видят очи, ибо се — тайные означения, символы, иносказания… Но всё какое-то детское, рукотворное, нелепое… Многосложное искажение в мучительном поиске подобия божьему мироустройству. А ему той искусной премудрости теперь уже не надобно. Он и так понимает. Он преображён больной, вещей прозорливостью, будто на него снизошла благодать, но без всякой радости.
Служба в соборе завершилась, дьякон пропел «аллилуйю», и люди, отдуваясь от духоты храма, повалили наружу, на площадь. А площадь была запружена толпой. Казалось, что здесь собрался весь Тобольск. Звенели колокола. Вдоль куполов и шатров башен носились всполошённые стрижи. Синее июньское небо сияло. Толпа расступалась перед губернатором и чиновниками, и взору Матвея Петровича наконец открылось выстроенное в ряд войско Бухгольца: оба полка, Московский и Санкт-Петербургский, шведский шквадрон, артиллерийская команда и обозная часть. Бухгольц шёл вслед за Гагариным и заметил, что губернатор даже слегка оторопел.
Драгуны в синих мундирах с позументом, с бахромой на шляпах, в ботфортах с юношами и шпорами, а на ремнях — палаши и пистолеты. Офицеры в париках и треуголках с пряжкой, с медными горжетами на груди, с шарфами на поясе и в ботфортах с крагами. Солдаты-фузилёры с косицами, все в зелёных кафтанах с деревянными пуговицами, обтянутыми полотном, в юолотах и белых чулках; кожаные перевязи натёрты мелом; на плечах — ружья, сбоку — подсумки, на ногах — тупые башмаки со стоячими языками. Гренадеры в высоких шапках-«стрюках», с пышными шейными платками и обшлагами в раструб; полы камзолов подвёрнуты вверх исподом; от плеч до бёдер — портупеи-панталеры с лядунками и гранатными кобурами. Канониры и бомбардиры при дюжине гаубиц и двух мортирах — они в красном и чёрном, что означает дым и пламя. Прапорщики с разноцветными знамёнами. Флейтисты с гарусными кистями на плечах, а у барабанщиков барабанные чехлы обшиты галунами. Ездовые и обозные — карпусы на головах и ранцы за спинами. Тобольск никогда не видел такого большого и нарядного войска.
— Сила, брат! — оглядываясь на Бухгольца, с чувством сказал Гагарин.
Семён Ульянович, волнуясь, вытягивал шею, выискивая в солдатском строю Петьку, не нашёл и в досаде пихнул кого-то: ведь Петька должен быть такой бравый и красивый, а его засунули куда-то в задние шеренги!
— Головы обнажить! — выходя вперёд, скомандовал Бухгольц.
Солдаты и драгуны одинаковым заученным движением сняли шапки.
К началу строя уже подводили митрополита Иоанна. Владыка опирался на архиерейский посох, под наверши-ем повязанный парчовыми платками, но сзади следовал верный Николка, готовый сразу подхватить Иоанна, если тот пошатнётся. Другой монах нёс перед владыкой чашу-кропильницу, в которой под ярким солнцем искрила святая вода. Владыка медленно окунал в чашу кисть-кропило, медленно поднимал руку и с усилием крест-накрест махал кистью на солдат, благословляя на воинский поход.
— Храни господь, — тихо говорил он. — Храни господь. Храни господь.
Он не смотрел, куда опускает кропило, — монах сам ловил чашей кисть, — он смотрел на солдат. Совсем молодые мужики и парни, все безбородые, кто с усами, кто безусый, белобрысые, рыжие, чернявые, красивые и некрасивые, хитрые и простодушные, умные и глупые, работящие и бездельники, хмурые и лёгкие нравом… Все они одинаково испуганно жмурились, словно дети, когда на их лбы и скулы падали капли святой воды. В безоблачном небе, ликуя, горело солнце, но владыке вдруг показалось, что на лица солдат надвигается какая-то глубокая мрачная тень. И лица жутко преображались: становились бледными и ангельски прекрасными, но глаза меркли и тонули в холодной синеве. Иоанн понял, что для него, подошедшего к пределу своей жизни, смерть сняла с бытия печать тайны, и теперь он увидел тех, кто не вернётся из похода. Будущие мертвецы составляли почти всю шеренгу.
Иоанн пошатнулся, и Николка сразу подхватил его, не давая упасть. К владыке побежали другие монахи. Кто-то вынул кропило из ослабевшей руки Иоанна. Солдаты, не двигаясь, испуганно смотрели на митрополита.
— Переживает за вас владыка, — торопливо пояснил монах с кропилом, успокаивая солдат. — Я довершу благословение, братцы.
— Дурной знак, Иван Митрич, — шепнул Бухгольцу майор Шторбен.
— Предрассудки, сударь, — сухо ответил Бухгольц.
Матвей Петрович в смущении потрогал бант.
— Плох владыка, — с сочувствием тихо сказал он.
Благословение довершили, солдаты перекрестились на главы собора и надели шапки, а потом командиры колоннами повели их вниз по Прямскому взвозу к пристаням, где войско ожидали уже загруженные суда. Вслед за колоннами толпа потекла с Верхнего посада на Нижний.
Десятки дощаников и больших лодок-набойниц стояли у причалов или просто на мелководье у берега, зачаленные за вкопанные ряжи пристаней или друг за друга. На остриях высоких тонких мачт висели, чуть пошевеливаясь, цветные вымпелы с номерами и литерами, обозначающими роту и батальон. Работники с бряканьем закидывали на борта судов длинные сходни. Сторожа амбаров заслоняли собою двери, чтобы в суматохе не пролезли воры. Бурьян на этом берегу давно вытоптали; всюду валялся мусор — поломанные доски и раздавленные бочки; в мутной воде плавали щепки и клочья коно-пати; воняло смолой, гнилой рыбой и дымом. Под старыми барками, вытащенными на сушу, летом ночевала всякая пьянь и рвань, что промышляла копеечной работой на погрузках и сбором хлама — лопнувших бондарных обручей, потерянных гвоздей и скоб, тряпичных клочьев и верёвочных обрывков.
Командиры распустили солдат, чтобы те поклонились родне и всем, кто пришёл на проводы. Гомонящая толпа заполнила весь берег. Бабы с воем повисли на плечах уходящих мужей и братьев, всюду обнимались и хлопали друг друга по спинам, старики крестили сыновей, шныряли жадные до впечатлений мальчишки и вертелись собаки, не понимая, что за переполох. Бухгольц и офицеры подъехали на конях, спешились и поднялись на взвоз высокого амбара, чтобы сверху наблюдать за сборищем. Через толпу, ругаясь на всех подряд, артиллеристы с трудом катили по колдобинам пушки. Какой-то пьяный дурачок плясал сам для себя вприсядку и стрекотал на домре. Пяток солдат-бобылей, которых никто не провожал, укрылись от командиров за грязным балаганом смолокурни и распивали водку из кожаной фляги.
Сержант Андреян Кичигин, сосед Ремезовых по улице, возле мостков прощался с домашними, уже не чая вырваться из объятий родни.
— Я тебя знаю, Андрюха, — тряся головой, говорил отец, — ты шальной, ты там не буйствуй, понял? Налетят калмыки — издаля коли их пикой, из пистоля пальни, а саблю не хватай, они на саблях сноровистые. Помнишь Михайлу Зеленцова? Он на Ишиме в дозоре тоже с калмыками сбежался, их четверо было, а калмыков — дюжина, так они сразу за фузеи взялись…
— Да помню о том, батя, помню.
— Молись ежеутренне, Андреюшка, Христом Богом прошу, — не слыша отца, говорила мать, поправляя камзол на груди сына. — Отец Лахтион тебе на бумазейку канун списал, так ты его читай тихонечко, Бог-то услышит! Кто в молитвословии усерден, того анделы хранят…
— Буду, матушка, буду.
— Возьми, Андрюшенька, возьми, — твердила жена, пихая в руки мужу расшитый мешочек. — Я тебе ещё туда зверобой и чабрец сушёные положила, в скляночке там притирка, коли спину заломит, и узелочек мягонький такой — это я ветошь всю ночь теребила, можно под перевязку насовать, ежели рана.
— Уходите домой, Аграфена, — страдальчески попросил Андреян.
Сынишка дёргал его за рукав и добивался внимания.
— Батя, батя, батя, батя, — ныл он, — привези мне нож кривой калмыцкий!
Шведские офицеры, записанные в драгунский шква-дрон, сдав коней ездовым, которые погонят табун в Тару по гужевой дороге, стояли у сходней своего дощаника и принимали наставления от ольдермана фон Вреха. Фон Врех обеими руками бережно держал узкую шкатулку, в которой на атласном платке покоилась рукописная тетрадь, свёрнутая в трубку и красиво перевязанная голубой лентой. Ветерок шевелил бант на шляпе ольдермана.
— Господа, в знак нерасторжимого духовного единения с общиной, которая возносит молитвы за ваше благополучное возвращение, примите список наставлений профессора Франке. Это самые поучительные выдержки из сочинений господина профессора, книга которых была благословлена самим архиепископом в Уппсаль-ском соборе у погребения короля Густава.
Лейтенант Эрик Ульфспарр принял шкатулку, закрыл её на крючок и сдержанно поцеловал монограмму короля Карла, вырезанную на крышке, — семиконечную звезду, оплетённую венком с римскими цифрами «XII».
Шведские офицеры не препятствовали, чтобы солдаты тоже выпили водки. Солдаты собрались в круг и передавали друг другу пузатую бутыль из тёмного стекла. Пожилой солдат, утирая усы, сказал:
— Ничего хорошего в этом предприятии я не вижу, друзья. Утешает только то, что можно развеяться от бесконечной русской скуки.
— Дозволят ли нам оставить себе мундиры после похода?
— Думаю, через два года эти мундиры будут годиться лишь для пугал.
— Остаётся надеяться, господа, что, когда мы вернёмся, король Карл уже обезглавит царя Петера на Стортор-гете, и нас сразу отпустят домой.
— Говорите осторожнее, Людвиг. Русские уже понимают по-шведски.
Среди солдат был и Цимс — конечно, он не мог упустить бесплатную выпивку. Он пожимал руки уходящим, хлопал по плечам и всякий раз подставлял кружку, когда кто-ни-будь наклонял бутылку. Однако Цимс не забывал про Бригитту и то и дело искал её глазами. Он нарочно взял жену с собой: пусть она увидит, как её любовник отправляется на два года в поход к чёрту на рога. Цимс торжествовал. Хотя он — простой солдат, а господин Ренат — офицер, он не позволил Ренату отобрать у себя жену. Цимс был уверен, что отъезд Рената объясняется тем, что офицер испугался его.
Бригитта смиренно стояла в стороне, сложив руки на праздничном переднике, как служанка в ожидании указаний хозяина, но она давно уже отыскала Рената взглядом. Цимс не заметил этого, потому что отвлекался на водку. Ренат помогал русским артиллеристам закатить орудие по сходням. Бригитта смотрела, какой Хансли ловкий, гибкий и сильный, как туго натягивается рубашка на его спине, когда он упирается в станину лафета, и не сомневалась, что через полгода они будут вместе. Хансли справится, а она вытерпит. Хансли сказал, что у него созрел удивительный план: зимой с обозом Бригитта поедет в лагерь Бухгольца, там они с Ренатом соединятся и сбегут к степнякам. Бригитта допускала, что план Хансли может привести их к гибели. Но Хансли — здравомыслящий мужчина. Он всё взвесил. План должен удаться. И незачем ей сейчас изводить себя сомнениями, которые только сокрушают волю. А если небо уготовило им поражение, значит, они достойно примут смерть. Но вдвоём. Это тоже приемлемый выход.
Ренат оглянулся, увидел Бригитту и бросил пушку. Он стоял у сходен по колено в воде — длинные волосы собраны в косицу, белая рубашка с бантом намокла от пота, сборные манжеты испачканы коломазью пушечных колёс, короткие кюлоты с пуговицами оголяют крепкие икры и щиколотки… Ренат молча прижал ладонь к сердцу. Бригитта спокойно повторила его жест, не заботясь о том, смотрит на неё Цимс или нет.
Ходжа Касым тоже наблюдал за отправкой русского войска. Он купил себе хорошее место на гульбище одного из пристанских амбаров и сидел на лавке, покрытой ковром. На гульбище друг за другом поднялись Асфан-дияр и Хамзат — молодой татарин, который добивался места в лавке Касыма.
— Я насчитал пятьдесят четыре лодки, господин, — торопливо сказал Хамзат первым, даже забыв поклониться.
— Тридцать две большие лодки и двадцать семь малых, — сообщил Асфандияр. — А ещё четырнадцать пушек, из которых две в рамах.
— Учись зоркости у тех, кто умудрён опытом, Хамзат, — наставительно произнёс Ходжа Касым. — Иначе тебе не стать добрым саркором.
А Ремезовы еле нашли Петьку. Он стеснялся, что семья провожает его, как маленького, — товарищи засмеют, а потому умело затерялся среди солдат и сразу шмыгнул на дощаник. По пути он уцепил Володьку Лего-стаева и велел передать Ремезовым: дескать, Пётр искал-искал отца и мать, да не успел отыскать, сердитый командир погнал его на воинское место, но Пётр попросил не тужить, а его шапку с красным подбоем пусть матушка приберёт и Лёшке не даёт, а то он истреплет. Семён Ульяныч чуть не схватил Володьку за горло, и Володька сразу сдался: открыл, где Петька прячется, сам побежал на дощаник и привёл солдата к разъярённому родителю.
Семён Ульяныч отвесил Петьке затрещину, но Ефи-мья Митрофановна обхватила сына руками и зарыдала, и у Семёна Ульяныча тоже затряслась борода. Все толпились вокруг Петьки: Леонтий, Семён, Машка, Варвара с Федюнькой и Танюшкой, Лёшка, Лёнька и даже Фим-ка Волкова, которая увязалась на пристань за Машкой. Ефимья Митрофановна всё совала Петьке в руки узел со стряпнёй, и Петька незаметно передал его Володьке.
— Помни, дурень, стрясётся что с тобой — мать не переживёт! — грозил Семён Ульянович и норовил дёрнуть Петьку за чуб, а Петька уворачивался. — На меня наплевал — ладно, мне в гроб пора, а её-то пожалей!
— Защитит, — сказала Варвара, навешивая Петьке на шею крестик.
— Дай пистолет посмотреть, — шёпотом просил сбоку Лёшка.
— Мы, Петька, с тобой в молитвах, — серьёзно произнёс Семён.
Леонтий вложил Петьке в руку берестяную коробочку.
— Берегись там в степи, братик, — Леонтий как-то по-бабьи погладил Петьку по голове. — Я тебе кремней принёс и пружины, наменял добрых у Никиты Усольце-ва, он сам для своего ружья калил и крутил, не сломятся.
Маша потихоньку отделилась от родни — им сейчас не до неё. Она хотела увидеть Ваньку Демарина. Он ведь в тот же поход идёт, а проводить его некому. Жалко, что не сложилось меж ними, ну да Богу видней.
Ванька стоял на причале и курил трубку — нелепое занятие в общей сутолоке. Маша сразу поняла, что он чувствует себя потерянно. Ему некуда деться. Если сидеть на судне, то все увидят, какой он жалкий и одинокий. Лучше торчать здесь, на берегу, будто бы он занят какими-то важными мыслями или наблюдениями, требующими сосредоточения с трубкой. Маша подошла, теребя концы платочка, и не знала, что сказать. Он хороший, Ванька. Только слишком гордый. Думает, что все должны ему покоряться.
— Вань, давай я буду тебя ждать? — предложила Маша.
Ванька глядел в сторону, окутываясь клубами дыма.
— Не утруждайтесь, Марья Семёновна, — надменно ответил он.
Маша вспомнила Петьку, которому никакая любовь и забота не нужна, а вокруг него пляшут, как на Масленице вокруг чучела. А Ваня не такой. Он словно лучина — твёрдый и острый, но сломить — только пальцем нажать. Он в армии не научен с людьми уживаться. Не умеет отступать и миловать. Но ведь и она его, в общем, тоже не помиловала: откуда ему уметь? От кого?
— Ты сердись, сколько хочешь, только возвращайся, — искренне сказала Маша в порыве жалости и великодушия.
— Как бог даст, я на службе, — мрачно ответил Ваня.
Маша поняла, что он имеет в виду. «Лучше мне погибнуть, чем снова о людей обжигаться и мучиться», — вот что. Маша внимательно смотрела на Ваньку. Конечно, ему хочется погибнуть, а все потом из-за него раскаются и будут горевать. С такими мыслями и лезут на рожон. Из рук вырываются и лезут всем назло. И удержать такого дурака от глупости можно только одним способом — заставить беречь не себя, а другого. Маша осознала всё это без слов — одной только врождённой мудростью будущей женщины.
— Я тебя попрошу, Ваня, за братом моим последить, — серьёзно сказала она. — Ты в воинском деле учёный, а у него ветер в башке.
— Как угодно, Марья Семёновна.
Маша спокойно шагнула к Ване, поцеловала его в скулу, словно это было делом обычным, и пошла прочь.
Через толпу на пристанях вдоль линии причалов ехала карета Матвея Петровича, запряжённая четвёркой лошадей. Кучер орал, разгоняя народ, а на запятках висел лакей Капитон. Тяжёлый кузов кареты, щедро покрытый золочёной резьбой, покачивался и скрипел, подвешенный к раме на прочных ремнях. Под сиденьем кучера время от времени глухо скрежетала железная «лебяжья шейка» — поворотная станина колымаги. Приоткрыв дверку, Матвей Петрович рассматривал толпу и суда на реке. Напротив губернатора сидел Дитмер, стараясь при толчках сохранить достоинство.
Матвей Петрович увидел Рената.
— Стой, стой! — высовываясь, закричал он кучеру и, задвигаясь обратно в карету, сказал Дитмеру: — Ефимка, сбегай-ка мне вон за тем офицером.
Дитмер не стал спорить, хотя задание было для лакея, а не секретаря.
Ренат осторожно забрался в карету, и Гагарин захлопнул дверку, оставив Дитмера снаружи. Ренат опустился на сиденье, глядя на губернатора. Матвей Петрович поднёс палец к губам, давая знак молчать, и задёрнул на оконце занавеску. Он был уверен, что Дитмер постарается подслушать. Ренат ждал. Матвей Петрович снял шляпу, расстегнул крючки на вороте камзола, извлёк из-под кружев мешочек с пайцзой и через голову стащил шнурок.
— Уговор помнишь? — почти беззвучно спросил он.
Ренат кивнул. Гагарин протянул ему пайцзу.
— Это жизнь твоя, — также беззвучно сказал Гагарин и для наглядности провёл ребром ладони по шее: не исполнишь — сниму башку.
Ренат надел пайцзу и спрятал на груди.
— Иди, — приказал Гагарин и открыл дверку, выпуская Рената. — Ефимка, позови Бухгольца. Пора ему отваливать. Долгие проводы — лишние слёзы.
Матвей Петрович сделал свой ход и желал, чтобы игра пошла быстрее.
Отплытие было объявлено выстрелом из сигнальной пушчонки. Звонкий хлопок лопнул над пристанями, эхо проскочило сквозь частокол мачт на простор Иртыша и разлетелось вверх и вниз по реке. Толпа загомонила с новой силой. Гнусаво запели рожки сержантов. Солдаты, уже уставшие от прощания, выдирались из рук родни, кланялись и бежали к своим судам. Офицеры пересчитывали людей по головам. На берегу рыдали и что-то выкрикивали вдогонку. Гулко плескала вода под сброшенными сходнями.
Отвальный выстрел услышали и на Верхнем посаде. Митрополит Иоанн приподнял голову с подушки и посмотрел на инока Николку.
— Это войско отходит от пристани, отче, — пояснил Николка.
С Софийской площади монахи под руки привели ослабевшего владыку в Архиерейский дом, в свою палату, бережно освободили от торжественного облачения, уложили на топчан и натёрли виски уксусом. Иоанну требовался покой, и рядом с ним остался только Николка. За окном щебетали птицы.
— Мало будет вернувшихся, — тихо сказал Иоанн.
— Ты о чём, отче?
— О солдатиках.
— Зачем пророчествуешь недобро? — испугался Ни-колка.
— Я не от себя.
— Ты лучше отдохни. Смущённому духу и видения злые.
Иоанн вздохнул и отвернулся. Николка немного подождал, поднялся с лавки и наклонился над владыкой, прислушиваясь: Иоанн спал.
Он спал весь день и весь вечер, но сон его был тревожным, мутным. Плыли по реке дощаники, раздувая паруса, поднимались и опускались вёсла, смеялись солдаты, блестя из-под усов белыми зубами, солнце сияло на меди офицерских горжетов, сильные руки, крепкие плечи, молодость и здоровье, весёлый голод перед ужином, хохот у костров, шуточная борьба, сладкая немощь честной усталости, горячий ветер из степи, жаворонки в небе — и вдруг свист метели, стужа, грохот, огонь и отточенное железо, рассекающее живые тела… А потом люди снова плывут по реке: торчат мокрые клинья задранных мужских бород, бабы лежат в ореоле распустившихся волос, а дети коротенькие-коротенькие, и в тёмной воде среди льдин и трупов покачиваются вещи — шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки… Нет, это не то войско, что ушло в степь! Это мертвецы из города Батурина, которых он видел пять лет назад!..
Иоанн открыл глаза. Ночь. В глубоком окошке светится бессолнечное северное небо. Серые каменные башни пустого Софийского двора, серый собор, пепельная трава. В келье — никого, лишь тлеет лампада перед иконой.
Иоанн медленно поднялся со своего лежака, добрёл до столика и вытянул из поставца чистый лист бумаги.
Перо. Чернильница. Свеча — для старческого зрения света из окошка не хватает… Он ведь может спасти этих молодых солдат. Он напишет царю письмо и расскажет о своём видении. Он, Иоанн, — не убогий монашек из какой-нибудь захудалой обители в лесах под Костромой. Он — сибирский митрополит. Он знает цену своему слову. Царь должен ему поверить. Должен. И царь вернёт войско обратно, отменит поход.
Иоанн поднёс свечу к лампаде в киоте. Огонёк выявил лик Богоматери — её печальные очи и лазоревый убрус. Этот образ владыка привёз с собой из Чернигова. Сколько его молитв слышала Богоматерь — не счесть. И пред её ликом Иоанн вдруг понял, что всё бесполезно. Солдат уже не вернуть. Пока его письмо доберётся до Петербурга, пока указ царя прибудет обратно в Тобольск, войско уйдёт так далеко в степь, что никакой гонец его не догонит. Что предначертано, то исполнится. А ему, владыке, — только новая печаль. Но зачем ему такая горечь на излёте жизни?
— Избави меня, дево, — всей силой души попросил Иоанн у Богоматери.
Вдруг раздался тихий стук в дверь. Наверное, это был Николка.
— Войди, — разрешил Иоанн.
Дверь открылась, но за ней никого не было. Сквозь дверной проём Иоанн видел угол сеней и Николку, спящего на лавке. А в келье по углам что-то зашуршало и бесплотно зашепталось. Сумрачный воздух вокруг затрепетал, по своду и стенам заметались невесомые острые тени, словно от чьих-то крыл. Иоанн поднял глаза на икону, озарённую его свечой.
— Ныне отпущаеши, — жемчужными губами произнесла Богоматерь.
Иоанн почувствовал, что тяжёлое, уже непослушное тело его легчает, становится пустым, словно облетевшее по осени дерево, и освобождающаяся душа, не скованная теперь ничем, обретает изначальную красоту и величие. Оказывается, он уже сидел на полу под киотом, ещё держа в руке свечу. Покоряясь, Иоанн расслабленно лёг, ощутив щекой деревянную половицу. Ноги его вздрогнули, будто он во сне перешагивал через порог.
Дверь сама собой закрылась.
Иоанн лежал мёртвый, теряя последнее тепло, но худая старческая рука владыки и после смерти сжимала свечу. И огонёк свечи не угасал.
Глава 6 Рогатая деревня
Ещё зимой владыка Филофей понял, что скучает по рекам и тайге, по дыму костра на стане, по плеску вёсел дощаника. Тридцать лет назад в Киевском коллегиуме он, молодой монах, полагал, что старость его будет протекать в диспутах с учёными богословами Рима и Праги, — а его тянет к разговорам с вогулами и остяками. Неисповедимы пути господни.
В этом, 1715-м, году Матвей Петрович, растратившись на Бухгольца, снарядил для владыки только одно судно, но Филофей счёл, что одного и достаточно. Конечно, Конда и Ваентур — самое гнездилище идолопоклонства, но ведь не станут же язычники бросаться на русских с ножами. Инородцы усвоили горький урок Певлора. И сейчас с Филофеем была давно испытанная команда: два казака — Яшка и Лексей, четверо бывших служилых, а с ними десятник Кирьян Кондауров, отцы Варнава и Герасим, остяцкий князец Панфил Алачеев и непременно — полковник Григорий Ильич Новицкий.
Нахрач Евплоев, ваентурский князь-шаман, казался похожим на паука: кривоногий, горбатый, плечистый, с растопыренными локтями. Впрочем, его дикая рожа была непростая и умная. Он приготовил жилище для гостей: на своём дворе, огороженном жердями, очистил от хлама большой балаган, покрытый пластушинами коры и дёрна. Балаган был сооружён из тонких и неровных брёвен; весь в длинных щелях, он не имел растёсанных окошек.
— Откуда ты узнал, князь, что мы явимся? — спросил Филофей.
— Меня предупредили мои боги, — с вызовом ухмыльнулся Нахрач.
Владыка кивнул, принимая вызов.
В прошлом году он уже видел вогульские деревни. Они очень отличались от селений остяков с их плоскими и обширными жилищами-полуземлянками и амбарами на ножках. Рогатые избы вогулов стояли на столбах, имели толстые кровли из лапника и узкие волоковые окна, глядевшие с опасным прищуром. В облике вогульских деревень было гораздо больше русского — и гораздо больше языческого, чащобного, древнего.
К вечеру вогулы заполнили двор Нахрача, расселись на брёвнах и в траве. Все хотели послушать русского шамана. Владыка оглядывал жителей Ваентура. Смуглые лица, тёмные глаза, одежда из шкур, пояса с ножами… Среди вогулов находился и князь Сатыга из Балчар, который в прошлом году принял крещение, а сейчас рвался спорить и дёргал плечами от нетерпения.
Перед этой поездкой Филофей подробно поспрашивал о народе вогулов у Ремезова. И рассказ Ульяныча насторожил владыку. Остяки столкнулись с русскими только после похода Ермака, а вогулы сошлись с ними ещё во времена новгородского веча. Вогулы многое переняли у русских — вон и деревни их немного похожи на русские, — однако Христа вогулы к себе не допустили. У них было гораздо больше опыта сопротивления. Они были злее к русским, потому что первые сибирские воеводы извели и перебили всех князей Мансипала — так вогулы называли свою землю. Вогульские кумиры были щедро обрызганы вогульской кровью, которую без жалости проливали русские. В том числе и кумир в Ермаковой кольчуге, спрятанный этим горбуном — Нахрачом. Недаром ведь в прошлом году, сжигая у Сатыги Медного Гуся, Филофей и все, кто был с ним, увидели то, чего никогда не видели у смиренных остяков, — свирепого демона, вырывающегося из костра.
— Говори первый, князь Сатыга, — распорядился Нахрач.
— Скажи, где живёт ваш бог? — сразу напал Сатыга. — На небе?
— Я не знаю, где он живёт, — спокойно ответил Филофей. — Иногда люди видят его в облаках, поэтому считают, что он живёт на небе.
Нахрач усмехнулся неведению Филофея и кивнул другому вогулу:
— Дозволяю тебе, Епьюм.
Епьюм погладил себя по груди, собираясь говорить долго и умно.
— Наши реки стерегут вакули, — начал он. — За лесами следят менквы. Зверей рожает Калтащ. Волков пасёт злой Хынь-Ика. Весь мир каждый день верхом на лосе объезжает Мир-Суснэ-Хум, он охраняет порядок…
— Мы их кормим за это! — строго вставил Нахрач.
— Все наши боги заняты своими делами, — завершил Епьюм. — А как твой бог будет делать все дела один? Как он всё успеет?
— А как ты сам успеваешь сразу дышать, думать и говорить? — Филофей улыбнулся. — Ты успеваешь делать сразу несколько дел, и бог успеет.
— Пусть сейчас бог покажет нам что-нибудь, — предложил Нахрач.
Вогулы загомонили, надеясь увидеть чудо. Князь Пантила заволновался.
— Тогда и Торум пусть сейчас покажет! — ревниво выкрикнул он.
— Нельзя просить бога показать себя, — сдержанно сказал Филофей. — Это значит искушать его. Нельзя никого искушать — ни бога, ни людей.
Владыка видел, что вогулы не поняли его, но объяснять не стал.
— Покажи мне своё сердце, Нахрач! — пылко потребовал Пантила, отвечая за владыку. — Я хочу видеть, как оно бьётся, и знать, что ты живой!
Филофей понимал молодого остяцкого князя. Католики говорят, что неофит святее папы. Новообращённый охвачен восторгом обретённой веры и готов растерзать любого, кто не воспламеняется от жара его чувств.
— Ты путаешь след, старик, — снисходительно заметил Нахрач.
Филофей не возразил. Он внимательно наблюдал за князем-шаманом.
— Спрашивайте другое, — командовал Нахрач. — Говори ты, Юван.
— Твой бог даст мне удачу на охоте? — спросил Юван.
— Не знаю, — покачал головой Филофей. — Это он решает.
— Говори ты, Пуркоп.
— Он вылечит мою жену? — спросил Пуркоп.
— Я не знаю, сделает ли он это.
— Говори ты, Микай.
— Мне нужен сын, твой бог пошлёт мне сына?
— Ничего этого я не знаю.
— Ты ничего не знаешь, а твой бог ничего не может! — сказал кто-то.
Пантила переживал, что у владыки нет ответов.
— Бог может всё! — горячо крикнул он.
Нахрач, торжествуя, ухмыльнулся:
— Твой бог может всё, но не всегда делает. А наши боги всегда идут исполнять наши просьбы, но не всегда могут. Однако дырявая лодка с веслом лучше, чем целая лодка без весла. Чем тогда твой бог лучше наших богов?
— Он даст мне вторую жизнь без конца.
— У меня, у мужчины, пять душ, — для убедительности Нахрач положил на живот растопыренную пятерню. — Это птицы. Они не знают смерти. Я умру, а они улетят и поселятся в деревьях, в зверях, в других людях. Но они могут собраться вместе, и я тоже буду жить второй раз.
— Нахрач будет, — подтвердили вогулы. — Нахрач — большой шаман.
— Щенька, — Нахрач указал пальцем на Щеньку, — плохой охотник. Один раз я заманил в него душу его деда Артанзея, хорошего охотника, и Щенька убил медведя. Мы тоже можем жить и второй раз, и третий, и ещё много.
— Я говорил внутри себя с Артанзеем, да! — важно сообщил Щенька.
— Биса ты йому пидсадыв! — вдруг сказал Новицкий.
Он почему-то был мрачный и не вступал в спор.
— Отче, ответь ему! — отчаянно потребовал Пантила.
— Не хочу, Панфил, — устало отказался Филофей. — Хорошо, Нахрач, ты победил меня. Да, твои боги подчиняются тебе, и ты умеешь возвращать души в людей. Ты могучий колдун. Тогда сожги своего идола в Ермаковой кольчуге, ведь ты и без него можешь всё. А мы после этого уйдём.
Нахрач пристально и с пониманием поглядел в глаза владыке.
— Ладно, старик, — недобро согласился он. — Я притащу Ике-Нуми-Хаума с Ен-Пугола, и мы вместе его сожжём.
Вогулы расходились, довольные тем, что Нахрач переспорил русского шамана. А князь Пантила негодовал. Он не мог поверить, что владыка без боя уступил язычнику. На лице Пантилы горели красные пятна.
Пантила сдерживался до вечера, но потом его прорвало.
— Почему ты так сделал, отче? — он гневно смотрел на Филофея. — Почему ты не отвечал вогулам? Они задавали вопросы, на которые ты уже отвечал остякам! Нахрач смеялся над тобой! Ты обидел бога!
В балагане дымно горел чувал. Яшка Черепан и Лексей Пятипалов, казаки, рубили дрова. Служилые сушили возле огня подмокшую одежду. Отец Варнава и дьяк Герасим кашеварили. Владыка безучастно сидел боком на лежаке из жердей и о чём-то размышлял.
— Ты ведь сам князь, Панфил, — нехотя напомнил он. — Разве ты можешь приказывать остякам так, как Нахрач приказывает вогулам?
— Нахрач сильнее меня! — признал Пантила. — Но он не сильнее тебя!
— В этом и хитрость, — Филофей вздохнул. — Пока Нахрач княжит над своими людьми, спор о богах — тщетное и лукавое суемудрие, Панфил. Оно лишь тешит гордыню Нахрача и уводит от правды.
— А в чём правда?
— Правда в том, что Христос не придёт сюда, пока властвует Нахрач. Сначала надо лишить его власти, лишь потом можно говорить о боге.
— Ты хочешь позвать войско? — поразился Пантила.
Он преклонялся перед умением владыки побеждать
без оружия, и сейчас владыка в его представлении едва не потерял всё своё величие.
— Конечно, нет, Панфил, — печально усмехнулся Филофей. — Власть Нахрача обрушится тогда, когда будет повержен его кумир. Вогулы должны увидеть, что Нахрач не повелевает демонами, а служит им, и потому не может защитить тех, кого сам слабее.
Пантила легко понял мысли владыки. Как он не догадался сам? Он ведь много раз спрашивал себя: почему Нахрач сразу и князь, и шаман? Потому что шаманство подпирало княжение Нахрача! Пантила сморгнул, словно в глаз попала соринка, и его затопило стыдом за глупость и малодушие.
— Завтра мы сожжём Палтыш-болвана! — яростно выпалил он.
— Об этом я и думаю, — тихо сказал владыка.
…А Новицкому в этот день выпали свои испытания.
Когда владыка разговаривал с вогулами во дворе у Нахрача, Григорий Ильич увидел Айкони. Вместе с другими вогульскими женщинами она стояла за жердяной изгородью и слушала спор. Новицкий сначала даже не поверил, что нашёл эту девчонку. Окаменев, он смотрел на Айкони и не мог насмотреться. Такая маленькая, ладная, подобранная… Она была одета как мужчина — кожаная рубаха, штаны и широкий пояс, — но потом Новицкий разглядел вышивку на вороте и рукавах, разглядел женскую сумочку на левом боку — там, где у мужчин висел главный нож, медвежий. Айкони как-то одичала… Нет, не одичала, а сделалась совсем лесной, чужой. Она стояла совершенно неподвижно — так олень замирает в укрытии за кустами, чтобы не выдать себя хищнику. И неподвижность давалась ей легко, без усилия.
После спора Айкони ушла в дом вместе с Нахрачом, и Григорий Ильич, не показывая вида, весь вечер караулил её. Она появилась только в сумерках. Она вынесла из дома короткое весло и мешок и направилась к берегу Конды.
Время белых ночей уже завершалось, и в глубине тайги по логам и урочищам наливалась силой свежая ночная темнота. В мертвенно-бледном, угасающем небе проступал иззубренный серп месяца. Река блёкло и слепо отсвечивала и не отражала прибрежных ельников, что срослись в единую мохнатую толщу. Из плоской пелены остывающего тумана вздымались крыши рогатой деревни, словно коровы погрузились в омут по хребты.
Айкони подтащила лодку-калданку носом на приплё-сок и с тихим стуком вычерпывала воду деревянным ковшиком.
— Здрастуй, ластывка моя, — негромко сказал Григорий Ильич, чтобы не напугать девчонку. — Я же поклявся знайты тэбэ — ось и знайшов.
Айкони посмотрела на него и не ответила. Она уже заметила его на дворе у Нахрача и не сомневалась, что он непременно подойдёт.
— Як ти живешь, мила? Чи добрэ всэ у тэбэ?
За год с лишним Новицкий отвык от неё. Думал неотступно, а видеть отвык. Разлука уже не терзала тоской. Григорий Ильич словно зачерствел в долгой и безвыходной горечи. Без этой девчонки его жизнь оказалась какой-то потусторонней, призрачной. Даже вера не воскрешала. Вера питала только разум, а душа черпала силы жизни из этой девчонки, словно из чужого колодца. Девчонка исчезла — колодец пересох. Григорию Ильичу ничего не надо было от Айкони, лишь бы находиться рядом.
— Я хранить бог, — распрямляясь, сообщила Айкони. — Ике-Нуми-Хаум. Я живу на Ен-Пугол. Ты не знать. Вогулы знать и бояться.
Григорий Ильич не мог сообразить, что ответить. Он сказал то, во что уже не верил; он просто повторил своё приглашение, потому что эти слова ещё цепляли его за привычный порядок вещей:
— Приймэш хрэщення, кохана моя? Зараз найкращий час.
Айкони тяготил этот высокий и печальный мужчина с вислыми усами, синей щетиной и серьгой в ухе. Она не забыла, что сама сломала ему судьбу, но не испытывала жалости. Пусть просит освобождения у своего бога.
— Ты любить меня?
— Да, — послушно кивнул Новицкий.
— Тогда тебе взять меня, — предложила она. После князя у неё не было мужчины. Этот русский порадует её ненадолго и, быть может, отпустит её, утолив свою печаль. — Плыть на лодке, лес, ты и я. Бери, я тебе. Ты хороший.
Новицкий задохнулся. Он не мог. Он не для этого искал её.
— То нэ гоже, — хрипло сказал он. — Цэ нэправэдно.
Айкони шагнула к нему поближе, и он отступил. Этот
русский не понимает, как надо жить. Он только богу молиться хочет.
— Я — сила, огонь! — веско и внушительно произнесла Айкони. — Я убить! Я сама! Я волк, не собака! Твой крест — мне верёвка. Ты бояться мне.
— Я не боюся тэбэ, — бессильно прошептал Новицкий.
— Лезь в лодку, — властно указала Айкони. Она переняла эту властность у Нахрача, а Нахрач умел держать свою жизнь. — Ты и я. Я тебе. Лезь.
— Цэ грэх.
Айкони стало мучительно скучно с этим несчастным человеком: будто ловила тайменя, а поймала мелкую плотвичку. Она повернулась к калданке, столкнула её на воду и, подхватив весло, перескочила через борт.
— Тогда не ищи! — велела она.
Точным толчком весла она развернула калданку носом от берега.
Новицкий не сомневался, что скоро он снова встретит Айкони. Если она сторожит идола, которого Нахрач обещал отдать владыке на сожжение, значит, она будет у назначенного костра. Надо просто дождаться, и Григорий Ильич приготовился ждать. Так верный пёс, изгнанный хозяином с подворья, никуда не уходит и терпеливо сидит у ворот.
Нахрач сдержал слово. Через день вечером к владыке пришёл Пуркоп.
— Нахрач привёз Ике, — сказал он. — Ике будет гореть. Иди туда.
Нахрач решил казнить Ике-Нуми-Хаума за околицей рогатой деревни на опушке ельника. За чёрными, изодранными вершинами елей мрачно тускнела дымнокрасная полоса заката. Ползучие сумерки наполнились беспокойными тенями, словно нелюдимые духи тайги тоже бесплотно явились посмотреть на жертвенный костёр. На Конде тревожно кричали какие-то птицы.
Вогулы расступились, пропуская владыку и русских. Длинное и толстое бревно идола вытянулось на крепких козлах, обложенное нарубленными сухими дровами, хворостом и лапником. Идол яростно вперился глазами-гвоздями в угасающее небо и раззявил пасть, словно гневно кричал богам перед гибелью. Владыка рассматривал Ике-Нуми-Хаума с отчуждённым интересом — так рассматривают огромную убитую змею. Неужели вот это грубое деревянное чудовище могло владеть людскими душами?
К владыке, расталкивая вогулов плечами, приблизился Нахрач.
— Ике-Нуми-Хаум готов умереть, — сказал он. — Ты рад, русский старик?
— Это он? — негромко спросил Филофей у Пантилы.
— Я видел Палтыш-болвана, когда сам был таким, — Пантила указал на вогульского мальчика в толпе.
Пантила тоже разглядывал идола, но со страхом и недоумением. Корявый лик истукана, вырубленный топором, не мог сравниться с тонкими и тёплыми ликами икон, прописанными трепетной кистью. Разве можно изобразить бога топором? Топор — торопливое орудие дьявола, когда надо просто поскорее выпустить зло на волю, не заботясь о его облике.
— Вот железная рубаха, которую носил Ике, — Нахрач бросил под ноги Филофея ржавый ком старой кольчуги. — Ике возвращает её тебе.
Филофей наклонился и поднял кольчугу. Она оказалась неожиданно тяжёлой, словно впитала в себя величие своего хозяина — Ермака.
— Возьми, Кирьян, — Филофей протянул кольчугу десятнику Кирьяну Кондаурову. — Увезём в Тобольск. Для нас эта вещь драгоценная.
— Дать тебе огонь, чтобы зажечь Ике? — усмехаясь, спросил Нахрач.
— Зажигай сам, князь.
Новицкий молча озирался, разыскивая Айкони, но не находил её.
Пламя вспыхнуло в нескольких местах и почти сразу охватило длинное тело идола с двух сторон. Казалось, что Ике упал в огненную траву. Вогулы, взволнованно переговариваясь, попятились от жара огромного костра. Сухие дрова трещали и стреляли искрами. От дуновения ночного ветра с Конды языки пламени качались и гнулись, словно пеленали идола, как младенца.
Филофей вдруг понял, что происходит что-то не то. У костра не было князя Сатыги — он отправился домой в Балчары, точно низвержение божества было делом обыденным, недостойным внимания. А вогулы вовсе не были напуганы или сокрушены истреблением своей святыни. Они с любопытством поглядывали на владыку: чувства русского шамана почему-то были им важнее, чем гибель почитаемого истукана. Нахрач, щурясь, следил, чтобы огонь нигде не ослабевал, ходил в толпе и распоряжался, куда ещё подсунуть дров. Вогулы подчинялись ему по-прежнему; они тащили поленья, и никто не противился воле князя-шамана. Костёр не умалил власти Нахрача.
Новицкий наконец увидел Айкони. Она сидела на земле, освещённая пламенем, как некогда в мастерской Ремезова сидела с рукоделием возле печки. Лицо её было безмятежным. Рядом на корточки опустился Пантила.
— Здравствуй, Айкони, — сказал он.
— Здравствуй, Пантила, — ответила она, не поворачивая головы.
— Ты теперь шаманка Нахрача?
— Меня все прогнали. Я живу на Ен-Пуголе.
— Теперь уйдёшь, как идола сожгли?
Айкони промолчала, тихо улыбаясь огню.
Новицкий подался ближе к Филофею, чтобы никто его не услышал.
— Цэ Аконя, бэрэгыня сэго выстукана, — угрюмо сказал он. — Вона же повынна сумуваты, плакаты… А вона спокийна, яко нэмаэ скорботи.
— И что это значит, Гриша? — помедлив, спросил Филофей.
— Чую, цэ не той выдол. Мы порожнэ брэвно жжэм.
— Я тоже о том догадался, — тихо произнёс Филофей.
Для Григория Ильича это означало только одно: если идол уцелел, значит, он снова увидит Айкони. И пусть Нахрач обманет хоть тысячу раз.
Владыке показалось, что в тесном пламени костра идол вдруг немного повернул на него большое чёрное рыло и ухмыльнулся обугленным ртом.
Филофей перекрестился, отступил и потихоньку выбрался из толпы. Вогулы уже не заметили его ухода. Владыку укрыла темнота. Что ж, сатана его провёл. Не в первый раз — и жаль, что не в последний. Значит, надо ломать Нахрача и дальше. Непростой оказался язычник. Дерзкий и коварный. Досадно только то, что все вогулы полюбовались, как русский священник стоит облапошенный и ничего не понимает. Филофей неторопливо перешёл луговину выпаса, мокрую от вечерней росы, и пошагал по кривым проулкам Ваентура к дому Нахрача, над которым тихо шумел высокий кедр. Рогатая деревня дремала в полночи без единого огонька в окнах-щелях. В избах вогулов не было икон — не было и тёплого мерцания неугасимых лампад.
Владыка снял жердину, закрывающую проход во двор, и увидел, что на брёвнышке возле балагана сидит какой-то человек.
— Кто пожаловал? — спросил Филофей, подходя к балагану.
— Я, — прозвучал знакомый голос.
Филофей застыл на месте.
— Отче Иоанн? — изумился он. — Да как же ты очутился здесь?..
— А я не здесь, — ответил Иоанн.
Филофей вглядывался в митрополита, словно сотканного из невесомого пепельного света. Он был в простой монашеской рясе и клобуке с намёткой, на плечах — омофор, на груди — наперсный крест и панагия. Филофей понял, что в этом облачении Иоанн лежит в гробу где-то далеко в Тобольске.
— Ты умер, отче?
— Возвращайся в Тобольск, брате, — сказал Иоанн. — Хочу проститься с тобой молитвенно. Не скоро свидимся.
— Владыка, владыка! — раздалось на улице.
Филофей обернулся на ворота. Во двор торопливо входил Пантила, за ним спешили служилые и казаки.
— Не дело тебе, отче, одному тут бродить! — сердито проворчал Кирьян.
— Нахрач обманул! — Пантила схватил Филофея за рукав. — Истукан не тот! Настоящий идол на капище в болоте! Айкони ему жертву понесла!
Филофей посмотрел на брёвнышко у стены балагана, где только что сидел митрополит Иоанн. Брёвнышко было пустым. Иоанн исчез.
— Я могу выследить Айкони! — всё горячился Пантила. — Я найду, где она прошла! Надо завтра идти на Ен-Пугол, жечь там идола!
Филофей, успокаивая, потрепал Пантилу по плечу.
— Нет, Панфил. С рассветом, брате, выплываем в Тобольск.
— Вогулы посмеялись над нами! — отчаянно крикнул Пантила. — Нахрач скажет, что мы глупцы, а Христос слепой и слабый!
Кедр за домом Нахрача блестел в свете месяца.
— С рассветом — в Тобольск, — негромко повторил Филофей.
— А что стряслось, отче? — с подозрением спросил Кирьян.
— Митрополит Иоанн скончался.
— Откуда известно? — удивился Кирьян.
— Я знаю.
Но Пантила пылал праведным гневом, а смерть кого-то там в Тобольске для него ничего не значила.
— Нельзя уступать вогулам! — потребовал он.
Пантила готов был хоть сейчас мчаться на капище и рубить идола, доказывая Нахрачу, кто сильнее. Филофей понял, что молодой остяк не примет его решения без объяснений — слишком горела душа от обмана.
— Мы уже сделали главное, Панфил, — мягко сказал он. — Мы нашли у Нахрача слабину. Теперь и мне, и тебе, и вогулам ясно, чего боится Нахрач и что он прячет. Остуди сердце. В грядущем году и завершим начатое. Или ты сам опасаешься, что через год твоя вера иссякнет?
Пантила, вспыхнув от стыда, отвернулся. Конечно, отче прав. Желание победить немедленно — от неверия в свои силы. Дуют только на сырые дрова. Его, Пантилы, вера — ещё пока сырые дрова, и владыка это увидел.
Короткой летней ночи хватило лишь на то, чтобы вытолкать тяжёлый дощаник с берега на глубокую воду и перенести на судно из балагана грузы и припасы. Над тайгой занялся рассвет. В тальнике чирикала одинокая ранняя горихвостка. За рогатой деревней курилось огромное кострище, и белый пар стелился над плоскостью Конды, неподвижной и гладкой в безветрии.
Служилые привязывали парус на релю, лежащую поперёк дощаника. Кирьян и Кузьма Кузнецов, кряхтя, навешивали на кормовой крюк увесистое рулевое перо. Новицкий, где-то пропадавший всю ночь, потерянно сидел на перевёрнутой вогульской лодке. Пантила умывался на мелководье. Филофей, стоя на коленях, задумчиво разглядывал иконы, разложенные на большом полотенце, брошенном поверх травы. Где-то у вогулов запел петух. От деревни к дощанику, покачивая кривыми плечами, шёл горбатый Нахрач.
— Ты покидаешь нас, старик? — спросил он у владыки. — Ты не будешь благодарить нас за то, что мы сожгли Ике-Нуми-Хаума?
— Вы сделали это для себя, а не для меня.
Нахрач недовольно поморщился. Всё получилось так, как он хотел, — и в то же время не так. Чего-то не хватало. Бегство русских смущало Нахрача.
— И ты не будешь надевать на нас кресты, как на Са-тыгу?
— Не стану торопиться, — Филофей бережно складывал иконы в стопку. — Я снова приеду к вам будущим летом.
Филофей завернул иконы в полотенце и с трудом поднялся на ноги, держа свёрток с иконами перед собой.
— Ты недоволен нами, старик? — испытующе спросил Нахрач.
— Я доволен вами и благодарю тебя, князь Нахрач Евплоев, — Филофей смиренно поклонился вогулу. — Вы сделали шаг к богу, и это правильно. Я хочу оставить вам эти иконы, — Филофей протянул Нахрачу свёрток.
Нахрач не спешил принять подарок.
— Я не знаю, что с ними делать.
— Просто раздай людям, и пусть держат их в своих домах, как дорогие вещи. Привыкайте к ним. А потом я всему научу.
Нахрач нехотя взял подарок владыки и сунул подмышку. Его тревожили подозрения: неужели старик догадался, что идол ненастоящий? Догадался, обиделся на вогулов и уходит домой, не прощаясь?.. Тогда не получится восторжествовать над ним на глазах у всего Ваен-тура… Или старик очень умный и отпустил судьбу бежать по тому следу, который чует только она одна? Но как старик мог догадаться? Ему подсказал его бог?
— Я хочу сказать тебе, старик, что верю в твоего бога, — честно сказал Нахрач. Он и не сомневался в том, что русский бог существует. — Твой бог очень сильный. Я вижу это по тебе, — Нахрачу приятно было признать могущество соперника: победа над слабым не приносит удовлетворения. — Поговорим о твоём боге, когда ты снова приедешь к нам.
— Поговорим, — согласился Филофей.
Глава 7 Возле худука
— И далеко он, Трёхглавый мар?
— Ещё в трёх днях.
— Может, за два дня дойдём? Мы же налегке. Они и вправду были налегке, без больших припасов для долгой дороги: четверо конных и четверо — на двух телегах. Из телег высовывались рукояти лопат, лестница и длинные кованые стволы допотопных крестьянских фузей, а всадники, и Леонтий тоже, были вооружены мушкетами покороче, чтобы стрелять с седла, и пистолетами. Над овчинными шапками торчали пики.
— Как хотят, по степи не ходят, Левонтий, — щурясь против низкого утреннего солнца, снисходительно пояснил Савелий Голята. — Ходят от худука до худука. Пройдёшь трёхдневный путь за два дня — будешь всю ночь облизываться всухую между двумя худуками.
— Сам-то ладно, ежели дурак, — добавил Макарка, — а коням пить надо.
Леонтий знал, что худуками называют степные колодцы. Их выкопали ещё в незапамятные времена, может, каракалпаки, может, казахи, а может, и монголы Чингисхана, когда в Тургайской степи воцарился Джучи.
— Везде свои премудрости, — признал Леонтий.
— А ты как думал? — хмыкнул Голята. — Степь — она непростая. Это лишь кажется, что она как доска плоская на все четыре края света. А в ней и горы есть, и леса, и реки кое-где, и овраги, и утёсы, и яры неприступные.
— Даже пещеры есть, — сказал Макарка Демьянов.
— А пещеры-то откуда? — не поверил Леонтий.
— Провалы с каменными стенами. На дне — лужа, в стенах — дырья.
Леонтий помнил отцовские чертежи. Тургайские степи растянулись от Яика до Ишима, а на полудень уходили к пределам Хорезмского моря, сменяясь раскалёнными такырами Турана, где в тростниках рычали красные тигры. Тобол вершиной вторгался в плодородные и дикие просторы Тургая.
— Видишь вон там косяк тарпанов? — Голята указал пальцем.
Степняки считали лошадей, тарпанов или сайгаков косяками; в косяке был жеребец, до десятка кобылиц и молодняк; русские поселенцы из степных слобод переняли такой счёт у джунгар и казахов.
— Не вижу косяка, — морщась от солнца, сказал Леонтий.
— В лощинку спустились, нас боятся.
— И лощинки не вижу, Савелий.
— А я вижу. И Макар видит. И все наши видят.
Да, здесь жили не так, как в тайге. Леонтий озирался с высоты седла. Бесконечная холмистая равнина раскатывалась во все стороны, неподвижная, но живая. По склонам скользила прозрачная тень облака, а на солнце жёлто-зелёные июльские травы вдруг бегуче серебрились под порывами ветра. Люди ехали по земле, а им казалось, что они летят — вокруг открывался такой простор, какой видят только птицы. Окоём растворялся в синеватом мареве, и невозможно было понять: то ли там плывут волны каких-то взгорий, то ли двоятся пологие очертания дальних холмов, колеблясь в горячем воздухе.
О том, что придётся отправиться в степь бугровать, Семён Ульянович сообщил Леонтию ещё весной. Они тогда пилили бревно во дворе.
— Слышь, Лёнька, нужда обозначилась, — Семён Ульяныч решительно работал локтем. — Хочу в кузьминки отправить тебя с Тобольска.
— А как же сенокос?
— Как-нибудь сами отмашемся. А ты в степь езжай.
— Куда и почто, батя? — не спорил Леонтий.
— Куда-то на Тургай. Есть два мужика в Царёвом Городище, Савка Голята и Макарка Демьянов, они курган укажут. Бугровать будете. Матвей Петрович сам придумал. Надо царю подарок добыть, чтобы дозволил кремль завершить. А нам не найти подарка лучше могильного золота.
От бревна, лежащего на козлах, с треском отвалился чурбак, и Ремезовы распрямились, переводя дух.
— Зачем же лета ждать? — спросил Леонтий. — С половодья бы и двинулся. Успел бы вернуться, чтобы Петьку в поход проводить.
— За свежей травой степняки кочуют. Уйдёт трава — и они уйдут.
— Что ж, ясно, — кивнул Леонтий. — Как прикажешь, батя.
Губернатор выдал денег, чтобы нанять сотоварищей, коней и телеги. В слободе под Царёвым Городищем Леонтий отыскал Савку Голяту и Макара Демьянова. Голята рассказал, что курган называется Трёхглавым маром, и к нему можно подобраться по старинному караванному пути через худуки. От барабинских татар Голята слышал, что в кургане похоронен Чимбай, сын хана Джучи. Будто бы в могилу его закатили на золотой колеснице.
— Брешут, — уверенно возразил Голяте Леонтий. — У татар в степи под каждой кочкой по Чингисхану лежит.
— За что купил — за то продал, — пожал плечами Савелий.
Худук, около которого был назначен ночлег, выглядел как все худуки в степи: яма-воронка шириной больше сажени, обнесённая глинобитной стеной. На дне чернела вода, в которой плавало разбухшее сено. Ни ворота, ни журавля тут не имелось — из худуков черпали бурдюками или кожаными вёдрами на верёвках. Окаменевшая земля вокруг колодца была изрыта копытами верблюдов и коров. Но куда интереснее худука была большая каменная постройка в сотне шагов от водопоя.
— Это что за храмина? — спросил Леонтий у Савелия.
— Барабинцы говорят — Таш-тирма, каменная юрта. Видишь — крыша на восемь рёбер, как у юрты. Привал, мужики.
— Жусипка Мухитов, наш казак слободской из крещёных степняков, брешет, что это ихняя ханака, — сказал Макар. — Погребалище для хана.
— Караван-сарай это, — заявил один из мужиков.
— Маловат для караван-сарая, — возразил Леонтий.
— Ну, мечеть.
— Мечети при жилье строят.
— Да кой пёс разница? Поганая изба басурманская, и всё.
Леонтий отстегнул седло и сбрую, стреножил лошадь, чтобы паслась сама по себе, и отправился взглянуть на ханаку.
Четырёхугольное здание было сложено из тёсаного камня-плитняка, скреплённого раствором, и сверху его венчал шатёр из мохнатого саманного кирпича, замешанного с соломой и высушенного на солнце. С южной стороны возвышалась толстая стена со стрельчатым входом. Шатёр и стены ощетинились пучками белёсого пырея. Угол гробницы обрушился, открывая тёмное внутреннее пространство, безжизненное, как заброшенная печь. Из кладки шатра высыпалась одна грань, но дырявый шатёр ещё держался. Закатное солнце окрасило две его плоскости в медный цвет. Возле пролома валялись спёкшиеся в глыбы обломки стен, занесённые горячим песком и оплетённые узловатой ползучей вишней с мелкой тёмной листвой.
Леонтий уже видел подобные гробницы у башкир, когда ходил в поход против ополчения батыра Алдара на озеро Кисегач и под Далматову обитель. Башкиры называли эти гробницы «кешэнэ». Башкиры и татары уверяли, что их велел построить сам Тамерлан. Будто бы Железный Хромец разгромил хана Тохтамыша на Волге в сече на речке Кондурче и обратно в Самарканд шёл через Общий Сырт и Башкирию. В дороге умерло шесть его сыновей, раненных в битве, и Тамерлан похоронил их на священном кладбище Акзират близ реки Агидель. До Акзирата Леонтий не добирался, но каменные юрты башкир стояли и в степях между Яиком и Тоболом.
Леонтий вернулся на стан. Он думал, что отцу любопытно было бы увидеть эту ханаку. Можно развести чернила из золы и зарисовать её.
— Нету ли, мужики, клочка бумаги? — спросил он у слобожан.
— Мы не писари, — свысока ответил Макар Демьянов. — А тебе на что?
— Думаю, это ханака Чимбая, — уклонился от объяснений Леонтий. — Ежели он в этих степях погребён, то лежит здесь, а не в Трёхглавом маре.
— Могилы-то в Таш-тирме нету, — рассудительно сказал Савелий.
— Татары и калмыки тут уже все углы обшарили, как у пьяного в карманах, — добавил Макар. — Порожняя башня.
Леонтий решил, что спорить незачем.
Древние степняки хоронили своих покойников в курганах. Или же так, как самого Чингиза: его закопали на пологом склоне горы Бурхан и трижды прогнали по склону табуны, чтобы лошади стёрли с лица земли все следы последнего пристанища хана. Священный склон охраняли урянхайцы, и на нём вырос лес. Монголы не любили оставлять указаний тех мест, где под травами спят их властелины. Только после того, как хан Узбек, правитель Улуса Джучи, принял махометанскую веру, монголы стали возводить над могилами ханаки. Ханаку построили и над погребением Джучи.
Джучи, первенец Чингиза, в глазах отца навеки был в подозрении, ибо мать его Бортэ, возлюбленная жена Чингисхана, вышла к мужу в тягости из меркитского плена, и все советники Потрясателя Вселенной сомневались: Чингиза ли кровь течёт в жилах Джучи? Старшему сыну Чингисхан отдал в улус степную Сибирь и Туркестан. Несколько лет белоснежная шестикрылая юрта Джучи стояла под хвостатыми знамёнами на Иртыше — там, где ныне у джунгар был город Доржинкит. Джучи не захотел идти на Русь войной и рассорился с отцом. Чингиз принялся готовить войско против сына, однако поход не понадобился. На соколиной охоте стрела предателя вонзилась Джучи в спину, и первый чингизид упал с коня в кусты караганника. Его похоронили в степи, что простиралась как раз между Тургаем, Иртышом и Тура-ном. А через столетие над могилой возвели ханаку, но не такую, как здесь, на окраине Тургая, а куда богаче: из обожжённого кирпича и с дутым круглым куполом, облицованным бирюзовыми изразцами. А Русь для монголов завоевал сын Джучи — беспощадный Батый.
Про ханаку Джучи Семёну Ульянычу рассказывал казак Федька Скибин. Двадцать лет назад воевода Нарышкин отправил Скибина в Туркестан к Тевке-хану с посольством. В те годы джунгары Бушухты-хана перешли реку Чу и прорвались в благодатную Фергану, и казахи искали союза с Россией. Федька Скибин поневоле обошёл всю Азию по кругу: Тобол, Тургай, Туран, Туркестан, Бухара, Хива, Хвалынское море… Из Астрахани он перебрался к калмыкам Аюки-хана, через Общий Сырт попал на Яик, а оттуда — наконец-то к своим в Уфу. Батюшка много дней расспрашивал Федьку, составил несколько больших чертежей. Леонтий тоже слушал тогда истории Скибина. Скибин и поведал о ханаке Джучи, нацарапал пером на листе рисунок.
Тургайская ханака, вот эта Таш-тирма, изрядно напоминала гробницу первого чингизида. Её могли построить только махометане, кто же ещё? Джунгары верили в Барахмана и своих покойников сжигали, бросали в степи на съедение зверям либо отправляли в Тибецкие горы, в Лхасу. В ханаке на Тургае должен был лежать Чимбай, внук Чингиза. Ну и что, что могилы нету? Просто не отыскали её. Но доказывать это мужикам Леонтий не стал. Батюшка — он бы кинулся в склоку, всех бы носом натыкал в их невежество, обозвал бы дурачьём стоеросовым. А Леонтий как-то по-девичьи стеснялся своих познаний, обретённых от батюшки. Кому все такие познания нужны? Разве что книжникам, вроде Семёна Ульяныча. Но не этим мужикам. Не народу. Леонтий почитал отца, как люди почитают святых, здраво понимая, что святость для мира неприменима, с ней не проживёшь, одни терзания.
Огонь мужики разожгли в яме, уже почерневшей от прежних костров. Дров в степи не было, и слобожане везли с собой несколько больших корзин с пластухами сушёного кизяка. Наломав пластуху об колено, Савелий бережливо подкладывал куски кизяка под мятый котелок с пшённой кашей.
— Почему в яме жжёте? — спросил Леонтий, расположившись у костерка среди мужиков. — Для жару?
— Чтобы калмыки издали не заприметили.
Ночная степь не спала. Кое-где стрекотали кобылки, тёплый ветер с еле слышным шёпотом ворошил беспокойные травы, шуршали мыши. Изредка над головами людей в отсвете костра вдруг бесшумно мелькали совы-сипухи.
— Часто они наведываются?
— Да каждый год, — хмуро сказал Савелий.
— Есть у них тайша Онхудай, юргу держит на Дор-жинките, — заговорил один из мужиков. — Возомнил себя князем, нойоном по-ихнему, объявил своими кочевья от Иртыша вдоль Ишима до Тобола. Когда просто косяки ведёт — непременно угодья нам вытопчет. Но особо баранту любит, гадюка.
— Что за баранта?
— Скот угонять. Это у калмыков за доблесть почитается.
— Хуже, когда калмыки войной идут, — Макарка Демьянов растянулся на земле на боку, ожидая ужина, и подпёр скулу кулаком. — Грабят, поджигают, ясырь погромный берут — рабов то есть, и угоняют в Хиву. У меня брата в Ичан-Калу увели. Пропал братишка.
В Хиве, в глиняной твердыне Ичан-Кала, у восточных ворот Кул-дарваз находился самый большой невольничий рынок Туркестана. На пыльных плитах под огромными, расплывшимися книзу башнями сидели сотни рабов, в том числе и русских. Саркоры-покупатели в полосатых бухарских халатах ощупывали плечи и руки людей, лезли толстыми пальцами пленникам во рты, считая зубы, разрывали рубахи и смотрели спины — много ли рубцов от плетей: если рубцов много, значит, пленник непокорный, и цена ему ниже. Гомонила толпа, кричали с минаретов муэдзины, ругались погонщики верблюдов, скрипели арбы, ревели ослы и рычали на людей бродячие собаки. Воняло потом, мочой и гнилой одеждой; затхлостью несло из рва; смердели головы изловленных беглецов, для устрашения насаженные на шесты.
— Ежели калмыков боитесь, почто тогда от служилых отказываетесь? — спросил Леонтий. — Какая-никакая, а защита.
— Да нет от них прока, Левонтий, — покачал головой Голята. — Они завсегда лишь на шапочный разбор поспевают.
— Мы своим миром слободу стережём, — сказал один из мужиков.
— На кой ляд нам тобольские дармоеды? — добавил другой.
— Кумышку пить и баб щупать мы и сами умеем.
— Лучше попу платить, чтоб божий гнев на калмыков обрушил.
— Из коей пропасти вылезли эти дьяволы — калмыки? — Голята гневно посмотрел на Леонтия. — Ведь не было их в Сибири при Ермаке, верно?
— У меня батя лет десять назад строил земляной вал вокруг Тобольска, — сказал Леонтий. — Тоже от них обороняться думали.
— Вот и считай! — почему-то рассердился Макар-ка. — Коли ваш Тобольск под калмыцкой угрозой в тайге стоял, каково нашим слободам в степи?
Леонтий не стал растолковывать, что слобожане смешивают калмыков и джунгар. Дело в том, что калмыки и джунгары были единым языком — ойратами. Об этом батя повествовал в своей книге «Описание сибирских народов». Жаль книгу — она сгорела при поджоге, устроенном Аконькой…
Ойраты жили в Мунгалии бок о бок с мунгалами, и никто не смог бы их различить. Ко временам Тамерлана ойраты потихоньку овладели всей своей страной и вытеснили соседей с добрых кочевий. Среди мунга-лов созрело недовольство. Мунгальский контайша Шолой Убаши объединил мунгалов земли Халхи в державу Алтын-ханов и вышвырнул ойратов из Мун-галии на Иртыш. Это случилось примерно тогда, когда в Сибирь явился Ермак. Ойраты принялись собирать силы для отпора. В тот год, когда русские в низовьях Иртыша основали Тобольск, в верховьях реки ойраты сразились с ордой Алтын-ханов и остановили натиск соперников. Однако Мунгалия всё равно принадлежала мунгалам. Ойраты, потерявшие родину, нашли себе пристанище в степях между Алтайскими и Тянь-Шаньскими горами.
Ойраты состояли из четырёх народов: дербетов, тор-гутов, хошутов и джунгар. Хошуты, которых возглавлял тайша Байбагас, и джунгары, которых возглавлял тайша Хара-Хула, решили жить в горах. А дербеты тайши Да-лай-Батыра и торгуты тайши Хо-Орлюка решили искать себе новое отечество и откололись от сородичей. Вот их-то, ушедших, и называли калмыками.
Столетие назад на среднем Иртыше калмыки впервые столкнулись с русскими. Русские шли на восток по тайге, а калмыки шли на запад по степи. Калмыцкое кресало высекло искры из русского кремня: таёжно-степное по-граничье вспыхнуло сражениями. Но большой войны никто не желал. В Таре посланцы Далай-Батыра шерто-вали воеводе Силе Гагарину — предку Матвея Петровича. Царь Михаил Фёдорович дозволил дербетам кочевать по вершинам Иртыша, Ишима и Тобола. А свирепый Хо-Орлюк не захотел присягать русскому царю. Он повёл своих торгутов дальше — во владения башкир и ногайцев. В конце концов торгуты прорвались к берегам Волги. Нынешний калмыцкий хан Аюка был правнуком Хо-Орлюка.
Батя объяснял все эти давние и дальние расклады ясно и просто. Но для бати минувшие распри народов представлялись божьими бурями, и в блеске их молний мелькали скуластые лица степняков, шлемы с ястребиными султанами, ледяные вершины гор и летящие демо-ны-тенгрии. А для Леонтия степные войны были чем-то муторным и путаным, как чужие склоки, когда не поймёшь, кто прав. Не о чем тут рассказывать этим мужикам у костра.
…Джунгары не ужились с хошутами. Вскоре после ухода калмыков хошуты тоже покинули Джунгарию и, потеснив китайцев, перебрались жить в пределы Китая на мёртвое озеро Кукунор. А джунгарский тайша Хара-Хула и его сын Эрдени-Батур воздвигли в горных степях Джунгарское ханство. Непокорные, но нищие джунгары со всех сторон были окружены врагами: Алтын-ханами Халхи, китайцами, Казахским ханством и ханством Мо-гулия со столицей в Кашгаре. С полуночи джунгар начали подпирать русские. Они приняли в своё подданство бурят и барабинских татар — былых данников, которые кормили скудную пропитанием Джунгарию. Перед лицом этих угроз требовалось удержать воедино раскатившихся по миру ойратов. И Эрдени-Батур созвал под хребтом Тарбагатай в урочище Улан-Бур великий чуул-ган — съезд властителей. Чуулган принял Степное Уложение — правила жизни ойратов на Волге и Кукуноре, на Иртыше и в пустыне Курбантонгут. В это время в юргу Эрдени-Батура с подарками для Дары Убасанчи, жены контайши, приехал тобольский казак Мосей Ремезов — прадед Леонтия.
На Улан-Буре ойраты поделили Вселенную. Калмыкам досталась Волга, а джунгарам — Сибирь. Русские отмахнулись от притязаний джунгар: разве эти полуголодные степняки способны соперничать с ними? Но Джунгария неудержимо укреплялась. Пали в прах Могулия, держава Алтын-ханов и Старший Жуз Казахского ханства в благодатном Семиречье. Хива и Бухара смиренно платили Джунгарии дань. И даже сам непобедимый Китай потерял предгорья Тибета и города на Шёлковом пути — Турфан, Кашгар и Яркенд. Джунгары не трогали русских лишь потому, что Россия тягалась с Китаем за Амур, однако Нерчинский договор обрушил надежды Джунгарии на союз с Россией. От войны с северным медведем Джунгарию удерживало только то, что Китай ещё владел Лхасой. Все помыслы джунгар были связаны с этим священным городом. Но в брюхо России на всякий случай был нацелен джунгарский нож — Калмыцкое ханство. И джунгарские набеги на степные слободы Сибири становились всё более дерзкими и беспощадными.
Леонтий всё это знал, но молчал, ничего не говорил мужикам. Зачем пугать их, когда сунули руку прямо в пасть дракону?
— Кыш, зараза! — вдруг рявкнул Голята и швырнул в темноту камень.
В траве зашумело.
— Корсак, — пояснил Голята Леонтию. — Эти лисицы — хитрые скотины, ни перед кем не трусят. Давеча у меня хлеб прямо в мешке сожрали!
— А часто приходится далеко в степь забираться? — спросил Леонтий.
— Слава богу, не часто. Наше дело — стада и пашни. А в степь ездим к барабинцам поторговать или когда кто наймёт с товаром до Туркестана.
— Курганов-то много?
— Да есть, коли поискать, — неохотно признал Голята. — Они ведь не все, как Царёво Городище на Тоболе или Трёхглавый мар. Куда чаще малые. Многие и вовсе оплыли так, что не видно ничего. Но бывало, что пашут на ровном вроде месте, а плуг в борозду железку какую-нибудь выворачивает.
— А сами бугруете? — осторожно допытывался Леонтий.
— Дурное дело, — отрезал Макар.
— Нечисти боитесь?
— Боимся. В могилах бесы зарыты. Раскопаешь — и принесёшь в свой дом беса на закорках. У бугровщи-ков избы горят, дети болеют, скотина дохнет. Это бес изводит. Были такие мужики, что после клада в петлю залезали.
— У меня крестник однажды коня золотого нашёл, — припомнил пожилой мужик. — Захотел его в церкви освятить, чтобы духа отвадить. Поп окропил святой водой — а золото в пепел рассыпалось, и чёрт в подпол юркнул.
— Степняки хуже чертей, — сказал Савелий. — Мстят за свои раскопанные могилы. Моего деда в бунт Сары Мергена убили. Нам набегов не надобно.
Башкирский батыр Сары Мерген — Жёлтый Мертвец — поднял свой бунт шестьдесят лет назад. Башкиры разъярились, когда яицкие казаки разрыли курганы в Айтуарской степи. Орды обрушились на Яицкий городок, на скит старца Далмата, на Уфу и Бирск, на Ирбит и Катайск, на Чусовую. По Тоболу тогда заметался царевич Девлет-Гирей, потомок хана Кучума: он объявил, что возрождает Сибирское ханство. Остяки разоряли русские зимовья на Полуе, Ляпине и Казыме и готовились осадить Берёзов и Обдорск. Самоеды сожгли Пу-стозёрск. Усмиряли инородцев рейтарский полк воеводы князя Голицына из Тобольска и стрелецкий полк воеводы князя Волконского из Казани. После тех битв русские построили крепости Кунгур и Шадринск.
— Инородцы напрасно лютуют, — задумчиво произнёс Леонтий. — Там, в курганах, не их предки. Не башкирцы, не казахи и не джунгары. Верно?
Мужики не ответили, промолчали. Потому что врали чужаку. Они все бугровали, и не по-мелкому. Они сами знали, что в могилах лежат такие мечи и доспехи, каких нет и в помине у нынешних хозяев степей. Но незачем открываться человеку из Тобольска. Пускай лучше считает, что они обходят курганы стороной, и нет у них в тайниках никакого могильного золота.
А Леонтий понял опасения слобожан. Дело обычное. Что бугровщик, что промышленник, что рыбак — один хрен: богатых мест они не выдают.
Леонтий смотрел на ночную степь. Где-то там, вдали, лежал Трёхглавый мар. А ещё дальше находились пустыни и горы, джунгары и мунгалы. Вечно тревожная, вечно кипящая степь на самом деле была вечно неизменна. Из столетия в столетие кочевые народы перекатывались по ней из края в край. Собирались какие-то несметные полчища, вожди взывали к небесам, ржали кони, воины лавой неслись на врага, раскосые женщины глядели в пустой простор, ожидая возвращения возлюбленных, верблюжьи караваны тянулись через бесконечные пески под заунывные песни погонщиков, волки грызли чьи-то голые рёбра… И всё завершалось безмолвными курганами, в которых обрели покой былые властелины, их сокровища и забытые боги.
Глава 8 Погромные ясыри
Леонтий никогда не видел тигров, но сразу догадался, что это — тигр. Зверюга вроде кота, зубастая пасть, толстые лапы, а длинный хвост закручен в кольцо. На бока зверюги насечкой были нанесены полоски. Золотая бляшка лежала на заскорузлой ладони. Леонтий кулаком оттёр её от земли.
— Ещё один тигр, — сказал он.
Савелий воткнул лопату в дно ямы, шагнул поближе и осторожно взял бляшку двумя пальцами, повертел перед глазами и трижды плюнул на неё.
— Везучий ты, Левонтий, — с уважением признал он.
— Не каркай, сглазишь.
Савелий бережно опустил бляшку в кожаный кошель, висящий на поясе, и затянул ремешок. Бугровщики знали, что в этом кошеле хранятся все их драгоценные находки: шесть одинаковых тигров, перстень, четыре гривны, витой обруч с камешком, накладки на колчан, два широких браслета, серьга, серебряная тарель с отчеканенным оленем и серебряная личина.
Глубокий ров вспорол курган по вершине, как разрез на подушке. На взрытом дне валялись истлевшие доски и тонкие брёвна, лошадиные черепа, кости, выгнутые обломки объёмистых глиняных горшков, зелёный медный меч без рукояти, мятые бронзовые блюда. В кучах земли, как слёзы, блестели рассыпанные голубые бусины. В дальнем конце раскопа лежали в ряд три бурых человеческих черепа. Леонтий, долгогривый Савелий Голята и ещё два мужика — Афоня и Евдоким Уфимцев — копали дно коваными заступами и ссыпали землю в развалистую плетёную корзину, которую на верёвках вытаскивали наверх два других бугровщика. На покатой верхушке кургана рябой Макарка Демьянов и Андрюха Костылёв опрастывали корзину, граблями разгребали комья земли в поисках золотой мелочёвки, а потом сталкивали пустую породу вниз по склону. В сумрачной яме царила прохлада, а на холме бугровщиков жарило беспощадное степное солнце.
Под лопатой Леонтия что-то звякнуло.
— А вот и ещё! — негромко сказал Леонтий, присаживаясь.
Из суглинка торчал золотой козлик с загнутыми рогами.
— Крепко за тебя молятся, — позавидовал Афоня.
Бугровщики склонились над Леонтием.
А наверху пофартило Макарке. Он уже нашёл золотую гривну, которую бугровщики проморгали в яме, и теперь гривна была завязана у него в кушак. Это его прибыль, а не общая, хоть и не по заповедям так, конечно. Макарка граблями крошил комья земли, вываленные из корзины, и выцепил взглядом ещё одного тигра. Макарка как бы невзначай наступил на него разношенным поршнем и покосился на Андрюху Костылёва — заметил ли он бляшку?
Андрюха щербатым ножом ковырял меж прутьев корзины, извлекая что-то застрявшее. С высоты кургана степь открывалась вокруг на десятки вёрст — волнистая, жёлтая, подёрнутая маревом и горячая, как печной под. Макарка увидел вдали клубящуюся полосу пыли. Это к кургану мчались всадники.
— Калмыки, твою мать! — охнул Макарка.
Андрюха оглянулся на степь, и Макарка быстро цапнул тигра из-под ноги, а потом бросился к раскопу.
— Калмыки! — крикнул он в яму.
Хуже этого и придумать было нельзя. Евдоким отшвырнул лопату и кинулся к приставной лестнице, что вела наверх — из тёмной ямы к свету.
— Не к добру удача была! — плачуще воскликнул он.
Афоня полез вслед за Евдокимом, нетерпеливо подталкивая.
— Погоди, погоди, мужики… — забормотал Леонтий.
Он по-прежнему стоял на коленях и щепкой лихорадочно выцарапывал золотого козлика из плотного, окаменевшего суглинка.
Савелий быстро посмотрел на Леонтия, поправил кошель с добычей и поднял голову. Макар топтался на краю ямы. Он видел спину Леонтия. Встретившись глазами с Савелием, он похлопал себя по боку, намекая на кошель, и махнул на Леонтия рукой. Савелий сразу шагнул к лестнице.
— Ещё чуток… — виновато умолял Леонтий.
Он за рог выдернул козлика из земли и вскочил.
Савелий был уже наверху. Макар вытаскивал лестницу.
— Вы чего, мужики? — обомлев, крикнул Леонтий.
— Прости, друже, — сказал Савелий и исчез с края раскопа.
— Для тебя рыли, тебе и отвечать, — добавил Макар и тоже исчез.
Леонтий понял, что его бросили на расправу степнякам. Может, они отведут душу и не пустятся в погоню. А золото останется тем, кто убежал.
— Эй! — гневно заорал Леонтий.
Он схватил лопату и начал яростно копать стену, надеясь соорудить себе подъём, но вскоре остановился. Бесполезно. Надо взять себя в руки. Леонтий озирался. Сейчас его обнаружат степняки. Что ему сделать для облегчения своей участи? Увязая в рыхлой почве, Леонтий стал ногами крушить черепа и глиняные горшки, вдавил подошвой в землю золотого козлика. Зачерпывая лопатой, он завалил обломки и осколки. Злоба степняков будет не так велика, если они увидят, что раскоп пустой: могилы нет, и предки не оскорблены.
Сверху донеслись конский всхрап и чужие голоса, и затем на краю ямы появились степняки. Они стояли и смотрели на Леонтия, как на дикого зверя, попавшего в ловушку. Один из степняков — самый толстый — вдруг нагнулся над раскопом и харкнул на Леонтия. Потом сверху упала лестница.
Леонтий медленно вылез из ямы наружу. За неделю работ бугровщики истоптали макушку холма. Кругом были насыпаны кучи земли, валялись корзины, на боку лежала вывороченная каменная баба со стёртым лицом. По склонам сползали сухие осыпи. Вдали виднелось стадо из полусотни коров, его вели два погонщика. С другой стороны степь курилась пылью: это был след погони. Конечно, степняки помчались за грабителями кургана.
На кургане находились всего шесть воинов. Четверо сидели на конях, а двое стояли, спешившись. Леонтий угрюмо разглядывал их кожаные шапки с длинными ушами, халаты-тэрлэги на голое тело, грязные штаны, сапоги с выгнутыми носками… Неподвижные лица с тёмными щелями глаз, кирпичные скулы, медные серьги. Командиром был толстый степняк, одетый богаче других — в жёлтой шёлковой рубахе и кожаном нагруднике с круглым железным зерцалом. Шапка его была оторочена мехом, широкие свисающие наушники были пробиты заклёпками, остриё макушки украшала алая кисть.
Командир с ненавистью хлестнул Леонтия плетью. Леонтий отвернулся, заслоняясь локтем. Другие степняки тоже вытащили плети и с высоты коней принялись сечь этого дерзкого русского. Но русский не завопил, а только зарычал, и не упал ничком, а сел, скорчившись, и закрыл голову руками.
В степи же сбежавшие бугровщики отчаянно пытались оторваться от погони. Крестьянские лошади, конечно, уступали джунгарским в беге, но кони степняков уже утомились за полдня. Макарка, Савелий, Афоня и четвёртый мужик, задирая зады, летели верхами намётом; лошади вытянули шеи и распустили хвосты; копыта туго барабанили по высохшей земле, поднимая душную пыль. Позади, отставая, мчались две телеги; колёса их визжали, и в ступицах пузырилась бурая коломазь; возницы нахлёстывали лошадей кнутами; кузова подбрасывало на сусличьих горках; две пыльных полосы тянулись назад на версту. В передней телеге с вожжами в руках на коленях стоял Андрюха Костылёв, в задней телеге сидели двое — рыжий парень и Евдоким Уфимцев. Евдоким, валясь с бока на бок, заряжал фузею.
Джунгар было около десятка. В напряжении преследования они почти легли на шеи своих скакунов. Длинные наушники их кожаных шапок вились за плечами; горячий встречный ветер надувал раскрытые на груди потные халаты; на пиках, что висели у степняков за спинами, трепались бунчуки. Джунгары неудержимо нагоняли русских. Телеги были совсем близко.
Евдоким поднял фузею, выцеливая врага пляшущим дулом, и выпалил. Отдача повалила его в кузов. Одного из джунгар выбило из седла, он мелькнул в пыльной полосе и исчез, а конь, испугавшись, стремглав понёсся в степь. Несколько степняков, не приподнимаясь, выдернули из седельных налучий круторогие луки и, полулёжа боком, наладили стрелы; быстро распрямляясь, они выстрелили по телеге. Одна стрела вонзилась рыжему вознице в затылок, другая — в лопатку, остальные прошли мимо. Возница ткнулся головой в передок кузова, вожжи выпали у него из рук. Измученные лошади тотчас сбросили ход, и джунгары поравнялись с телегой.
— Не руби! Не руби! — завопил Евдоким, заслоняясь руками.
Андрюхе Костылёву тоже не повезло. Правое заднее колесо его телеги соскользнуло с оси; телега, перекосившись, рухнула углом кузова на землю и поволочилась, задымив густой бурой пылью. Андрюху выбросило в траву. Он перекувырнулся через голову, но сразу вскочил, выхватив саблю. Его шатало, но сдаваться он не собирался. Он крест-накрест махал саблей и орал:
— Убью!..
Трое конных джунгар окружили его и что-то закричали по-своему.
— Убью! — ничего не соображая, орал Андрюха.
Джунгары тоже вынули сабли. Андрюха вертелся, отбивая удары, но степняки умели рубиться лучше мужика. Андрюхе рассекли темя, и он упал.
Остальные джунгары догоняли верховых бутровщиков.
Макарка и Афоня отставали, затравленно оглядываясь. Степняки были неумолимы, как волки на охоте. Хищность их была такой природной, что казалось, будто джунгары — не люди, которым можно сопротивляться, а сама безжалостная судьба. Два степняка раскачивали в руках кожаные арканы; они готовились ловить не людей, а лошадей — им это было привычнее. Ремни свистнули в воздухе. Лошадь Макарки влетела мордой в петлю и захрапела с передавленным горлом; Макарку бросило вперёд, и он сорвался с седла, повиснув на узде и стремени. Мотая мордой и брыкаясь, его лошадь пошла боком и встала, отфыркивая пену. А кобылу Афони аркан рванул за голову в сторону, и лошадь на скаку всем большим телом могуче опрокинулась набок, на землю, и подмяла всадника. Она попыталась подняться, но повалилась обратно, нелепо лягнула воздух ногой и обмякла. Она сломала шею. Афоня, оглушённый и раздавленный, елозил под тушей кобылы и не мог выбраться.
За Савелием и другим мужиком гнались уже только три джунгара. Они почти настигли бугровщиков, и один степняк стряхнул с плеча на локоть пику, собираясь тупым её концом выбить Голяту из седла. Джунгарин почти дотянулся до Савелия, но Голята вдруг повернулся и саблей отсёк древко пики. Другой бугровщик выволок из-за пояса пистолет, приготовленный на крайний случай. Грохнул выстрел, и у кого-то из джунгар отчаянно заржал раненый жеребец. Джунгары поняли, что этих русских им так просто не взять — огрызаются, а силы почти равны. Джунгары закричали друг другу и сбавили бег. Два бугровщика удалялись от погони — они спаслись.
…Леонтий очнулся от пинка по рёбрам. Он лежал там же, где упал, — на вершине кургана возле разрытого погребения. Над ним возвышался степняк.
— Встань, орыс, — приказал он по-русски.
Леонтий медленно поднялся. Руки и ноги не слушались, спина горела, исполосованная плетью, и распухла. Рубаха присохла к запёкшимся рубцам.
Под курганом паслись коровы и кони. Вверх по склону к Леонтию шли джунгары вместе со своим толстым начальником. Среди степняков Леонтий увидел Макара Демьянова и Евдокима Уфимцева. Два степняка под руки ташили стонущего Афоню. «Догнали… — понял Леонтий. — А где остальные? Убиты? Или всё же вырвались?..» Над курганом с щебетом носились стрижи.
Русских выстроили в ряд перед ямой спинами к раскопу.
— Господи, помоги, — оглянувшись на яму, прошептал Евдоким.
Смуглые лица джунгар были непроницаемы.
— Онхудай, тебе дадут выкуп за нас, — хрипло сказал Макарка.
Леонтий понял, что Онхудай — это толстый командир степняков.
— Вы раскопали могилы наших предков, — ответил Онхудай по-русски. — Мертвецы хотят мести. Золото возьму я, а им нужна кровь.
Бугровщики молчали.
— Первый ты, — Онхудай указал на Афоню. — Твои кости сломаны, ты не дойдёшь до Хивы. Потом ты, — он указал на Леонтия.
У Леонтия дрогнула нога, а душа будто оборвалась с высоты.
Один из степняков что-то сказал Онхудаю.
— Нет, ты, — переменил решение Онхудай и ткнул пальцем в Евдокима. — Ты убил Нохой-Цэцэга.
Джунгары оттолкнули Леонтия и Макара от ямы, а Евдокима и Афоню повернули лицом к могиле и поставили на колени. Один из воинов обнажил саблю. Леонтий знал, что срубить голову — позорная казнь у степняков. На неё обрекают врагов и преступников. Почётная казнь — когда душат.
Измученный Афоня молча смотрел куда-то вдаль, в небо, словно уже увидел что-то важное за его синим стеклом. На лице джунгарина с саблей появилось ка-кое-то горделивое выражение. Он вольно размахнулся и одним сильным движением снёс Афоне голову. Голова полетела в яму, шлёпнулась о стенку и упала на дно. Потом и тело наклонилось и нырнуло вниз.
— Пощади! — без голоса попросил Онхудая Евдоким и принялся широко креститься, словно бы чем больше знаменье, тем лучше видно богу.
Как ледяной водой, Леонтия обжало страшным предчувствием, что и он сейчас, обезглавленный, свалится в эту могилу. И в душе исчезла ненависть к степнякам — не до них стало, исчез гнев за так внезапно оконченную жизнь; остался только ужас перед немыслимым переходом за грань, будто умереть было невозможно трудным делом, на которое не хватало сил. «Только не на коленях!» — твердил себе Леонтий. Пусть убьют, как хотят, но не на коленях.
— Убери руку, — приказал Евдокиму Онхудай. — Ты мешаешь Басаану отрубить тебе голову.
Евдоким с суетливой угодливостью поспешно прижал руки к бокам.
Басаан снова махнул саблей. Леонтий успел отвернуться и услышал только двойной мягкий удар упавших в яму порознь головы и тела.
Леонтия толкнули в грудь, и он будто опомнился. Степняк протягивал ему лопату. Другой джунгарин совал лопату Макару.
— Заройте яму, жалкие крысы, — приказал Онхудай. — Вы мои рабы.
Степняки торопились. Возле кургана не имелось водопоя, надо было ещё идти до худука, а коровы ходят медленно. Погонщики погнали стадо, когда пленные только начали закапывать могилу. Онхудай и воины прилегли отдохнуть в тени холма, а сторожа, сидя на корточках, наблюдали, как русские забрасывают яму землёй. Леонтий и Макар работали молча. Оба они ощущали себя какими-то невесомыми. У Леонтия при наклонах присохшая к рубцам рубаха отдиралась от спины с такой болью, точно его снова секли плетью, но Леонтию эта боль сейчас казалась божьей благодатью.
Под вечер толстый Онхудай проснулся и приказал выходить в путь. Засыпать огромный раскоп бугровщики не успели, но Онхудая это уже не беспокоило. Русским связали руки и посадили их на свободных коней задом наперёд — так не сумеют ускакать. Отряд двинулся вслед за стадом к ещё далёкому худуку. Всадники ехали по пути недавней погони, и Леонтий увидел в истоптанной траве мёртвых лошадей, с которых сняли сбрую, брошенные телеги и убитых бугровщиков. Своего мертвеца джунгары тоже не подобрали, только распрямили его и развернули ногами к западу.
Леонтий и Макар теперь стали погромными ясыря-ми — пленниками, предназначенными для продажи в неволю. Онхудай, зайсанг Доржинкита, с двумя десятками воинов совершал баранту — набег за скотом. Леонтий понял, что джунгары обшаривали в Тур гайской степи верховья правых притоков Тобола. Они уже где-то разжились коровьим стадом, но зайсанг посчитал, что этого мало. Он направил свой отряд ближе к Тоболу, где было больше русских деревень и заимок, то есть больше наживы. Леонтий догадался, что ожидает погромных ясырей. Без сомнения, Онхудай пригонит захваченный скот в Доржинкит на Иртыш, а ясырей осенью или в начале зимы отошлёт в город Кульджу, где держит свою юргу контайша Цэван-Рабдан, властитель джунгар. В Кульджу приезжают саркоры из Хорезма, чтобы скупать рабов и перепродавать в Хиве. Но Леонтий надеялся, что до Кульджи дело не дойдёт. Сразу же, в первые же часы плена, Леонтий решил бежать. Вряд ли удастся бежать на Тоболе — возле русских джунгары будут держаться настороже и не ослабят охраны ясырей. Однако у Доржинкита они расслабятся, тогда и можно попытать счастья. К Доржинкиту, вернее, к Ямыш-озеру, осенью подойдёт войско Бухгольца. От Доржинкита до Ямыша полторы сотни вёрст. Это не так уж и далеко. Люди прорывались из степи и за тысячи вёрст.
К худуку отряд вышел уже в темноте. Джунгары развязали Леонтия и Макара, дали им воды в кожаном мешке и бросили по холодной лепёшке. Спать предстояло просто в траве, без кошмы, а в ночи похолодало.
— Давай спиной к спине ляжем, — предложил Макар.
— То губишь, то выручаешь? — усмехнулся Леонтий.
— На бугре про тебя врасплох решено было. Крови твоей не хотели.
— Всё одно не прощу, — спокойно сказал Леонтий.
— Да я и не просил, — равнодушно ответил Макар.
А утром Леонтий обнаружил, что они с Макаром — не единственные пленники. Вместе с коровами джунгары вели ешё трёх русских мужиков. Ясырей, всех пятерых, друг за другом привязали за шеи к длинной жерди, скрутив руки за спинами. Невольники должны были идти вместе с коровами. И коров, и людей охраняли два конных погонщика. Стадо двигалось неспешно, и Леонтий мог поговорить с мужиком, который шагал впереди.
— Эй, вас где взяли? — негромко спросил Леонтий.
— На заимке, — нехотя ответил мужик.
— А скот ваш?
— Наш.
— Вы чьи?
— Божьи.
Погонщик услышал разговор и издалека стегнул ясырей пастушьим бичом. Больше мужик ничего не сказал Леонтию.
А на полуденном привале Леонтий понял, что причина молчания — не угрозы погонщика. Привал джунгары устроили в степном логу — в ложе пересохшей речки под невысоким красноглиняным обрывчиком. Снятые с жерди ясыри сидели в узкой полосе тени, привалившись спинами к откосу.
— Давно попались? — спросил Леонтий соседа — кудлатого парня.
— Не говори с ним, — вдруг сказал парню один из мужиков. — Я его знаю. Он сыщик тобольский.
— Я? — изумился Леонтий и наклонился, чтобы рассмотреть мужика.
Леонтий узнал его не сразу, но узнал. Это был Мисаил — один из тех раскольников, которых вывел из неволи одноглазый чёрт Авдоний. Мисаил не раз видел Леонтия на стройке рядом с Семёном Ульянычем и Гагариным.
— Вот так встреча! — искренне обрадовался Леонтий. — Значит, нашли вы себе укромное место? Все ли целы?
Он вспомнил, что с Авдонием сбежала и Епифания, неизбывная мука Семёна, младшего брата. Эх, дать бы знать Семёну, что его баба жива!..
— Молчи, Малахия! — прикрикнул Мисаил на парня. — Они оба в степи по наши души рыщут, слуги антихристовы!
— Да не сыщики мы, — подал голос и Макарка.
— Поклянитесь и знамением осенитесь, — потребовал Мисаил.
Леонтий и Макар послушно перекрестились.
— Узрели? — с торжеством спросил Мисаил у раскольников. — Лжут и кукишем закрещивают! Их всех геенна ждёт!
— Сначала Хива, — с досадой буркнул Макар.
— Не искушай! — убеждённо прошептал Мисаил. — Нас господь из пущих теснот и злополучий вызволял, и поднесь вызволит. А вас я ночью придушу!
— Экий ты непримиримый! — разозлился Макар. — Тогда от воды откажись, чтобы с нами из одной баклаги не пить!
— А я и не пил, уста не поганил!
К вечеру стадо и ясыри добрели до Таш-тирмы, полуразрушенной ханаки Чимбая, сына Джучи. Джунгары сразу загнали пленников в ханаку и посадили двух караульных — у входа и в проломе.
В ханаке было гулко и пыльно. Пол загромождали обвалившиеся куски кладки. Всюду валялись кучи сухого навоза — в прохладе гробницы порой прятались от солнца овцы и коровы скотогонов, джунгар или русских. В сумраке сквозь дыру купола красный закат озарял пустую стрельчатую нишу, в стену которой была вмурована белая плита с какими-то письменами. Пленникам снова бросили по лепёшке и кожаную бутыль-бортогу. Макар и Леонтий уступили бутыль раскольникам: пусть пьют первыми.
— Слышь, Мисаил, — придвинувшись поближе, зашептал Малахия, — нас ведь с порога райских врат калмыки украли… Я с женой уже пост держал, чтобы мученический венец в чистоте надеть… А как же теперь? Что делать-то, ежели отец Авдоний Чилигино в купель без нас окунёт и нас осиротит?
Леонтия пробрал озноб, когда он осознал, о чём говорит раскольник. Этот парень, Малахия, вместе с женой — да, видно, и вместе со всей деревней, — готовился к гари: огненному вознесению. Вот, значит, что хотел совершить Авдоний, — народ хотел пожечь! А Малахия боялся, что все сгорят, все на небо улетят, а он один на земле останется, будто проклятый.
— Молчи! — зашипел Мисаил. — Терпи — и обретёшь!
Он метнул взгляд на Леонтия — слышит ли? Леонтий быстро отвернулся, но было поздно: Мисаил понял, что тоболяк поймал это слово — Чилигино. Леонтию стало тесно, душно. Ох, не к добру он узнал тайну раскольщиков.
А джунгары у худука устроили себе пир. Где-то в пути они наткнулись на берёзовый колок и нарубили дров. Значит, можно было вместо вяленого мяса сделать бо-одог. Джунгары зарезали телёнка, отделили голову и ноги, достали потроха и обожгли тушу над огнём; потом насечённые потроха сварили в казане с черемшой, влили варево в тушу, зашили шкуру на брюхе и принялись томить тушу над углями, поворачивая на жердине. Это хлопотное занятие увлекло всех, даже толстого зайсанга Онхудая. Джунгары сидели у костра на корточках, шумно нюхали и смеялись. Отсветы костра играли на стенах ханаки, поросших травой, и на треугольных гранях шатра.
Леонтий никак не мог уснуть. Он старался не терять из виду Мисаила: опасался, что раскольник задушит его спящего или раскроит ему голову камнем. Снаружи доносились довольные голоса степняков, потом их унылые песни, а потом всё затихло. В степи, успокоившись, затрещали сверчки.
Внезапно Леонтий уловил слабый шорох и сразу вскинулся, выискивая взглядом Мисаила. Но злой раскольник был ни при чём. Яркая степная луна призрачно озаряла всё ту же стрельчатую нишу, а в косом потоке лунного света, как видение, парил человек. Вернее, он висел на верёвке, которая была сброшена вниз из прорехи в своде. Казалось, что Леонтий смотрит со дна реки на изнанку льда, а человек бесшумно опускается из проруби. Он мягко упал на пол сразу на ноги и на руки и, увидев Леонтия, прошептал:
— Тихо, Левонтий!
Леонтий в изумлении узнал Савелия Голяту.
А из-под свода вслед за Савелием спускались другие люди.
Савелий, пригибаясь, ловко пробрался к Леонтию.
— Макар, Евдоким, Афоня тут? — спросил он.
— Только мы с Макаром живы, — ответил Леонтий. — А кто с тобой?
— Раскольщики с Чилигино. Я их у Батырдайского яра встретил, они к степнякам ехали своих выручать.
Разбуженные ясыри просыпались, и им сразу закрывали рты пятернями. Нельзя было, чтобы в ханаку на шум заглянули сторожа — поднимут тревогу. Среди раскольников Леонтий увидел одноглазого Авдония и отодвинулся в тень. Авдоний обнимал и целовал Мисаила.
— Слава тебе господи, отче! — плакал Мисаил.
— Вы как подобрались-то? — подползая, спросил у Савелия Макар.
— Да мы с полудня уже тут, — в сумраке блеснули в улыбке зубы Голяты. — Ждали, когда степняки с вами приедут. Лежали на крыше за кустами. Снизу не заметить. Чуть не зажарились… Принимай оружье!
У товарищей Авдония для пленников были припасены сабли и луки. Леонтий получил саблю и даже не поверил её тяжести в своей руке.
— Замрите, братья! Замрите! — призвал Авдоний. — Сепфор, давай!
Сепфор с луком крадучись двинулся вдоль стены к пролому, наполовину заваленному кусками стены. На одном обломке, прислонившись спиной к другому, сидел караульный и дремал. Он не сомневался, что пленники не приблизятся к нему, не захрустев камнями развала, и он услышит. Сепфор остановился, до предела натянул лук и сронил стрелу. Стрела воткнулась караульному в висок; тот и не дёрнулся, а сразу мягко опрокинулся набок.
— Теперь второго, — распорядился Авдоний. — Готовьтесь, братья.
— Стан у них левее худука, — напомнил Голята. — И четверо у коновязи.
Раскольники обступили арку выхода, не показываясь в проёме. Леонтий увидел в руках Авдония страшное крестьянское оружие — косу на боевом ратовище. Авдоний держал её крепко, ловко и уверенно.
Второй караульный джунгарин сидел на земле, скрестив ноги, лицом к ханаке. Луна освещала высокую переднюю стену усыпальницы, пустую и плоскую, но стрельчатый выход в глубине был заполнен мраком.
Джунгарии не различил, что в арке появился Сепфор и поднял лук. Стрела полоснула степняка по скуле; он встрепенулся и увидел, что из арки ханаки выбегают люди — и не пять человек, как было, а гораздо больше. Эти орысы — злые докшиты, они размножились в своей норе, как черви в трупе!
— Эмээлгэх! — истошно закричал джунгарин.
Он засуетился, вытаскивая саблю, съехавшую куда-то вбок, но Авдоний с разбега рубанул его косой по шее, и он рухнул. Русские бросились к стану.
Джунгары не сооружали ни шатров, ни навесов; они спали просто в траве на кошмах, подложив под головы сёдла. Крик караульного всполошил их, однако они успели только вскочить, как сразу налетели русские. Сколько их было, джунгары уже не сообразили. Сражаться пешими они не привыкли, а русские напали с такой быстротой и яростью, что степняки сразу кинулись в степь, к лошадям. Русские гнались с ними, секли по плечам и кололи в спины. Кое-кто из джунгар разворачивался, встречая врагов лицом к лицу, но русские набрасывались с разных сторон. В темноте под луной степняки и мужики дрались почти без воплей, осатанело и беспорядочно, лишь бы поразить, искромсать, повалить врага. От лютых замахов трещали суставы, и в каждый удар вкладывали всю силу. Бояться боли или смерти было некогда; потеряв выбитую саблю, мужики прыгали на джунгар, как рыси, душили, крушили кулаками или, схватив руку врага с оружием, впивались зубами. От топота людей и звона железа коровы проснулись и тупо смотрели на схватку, а лошади заволновались, переступая копытами и вздёргивая хвосты.
Зайсанг Онхудай выскользнул из побоища и помчался к табуну, не думая о своих воинах. Пусть управляются сами, как могут. Конечно, он не трус, но какой смысл сражаться? Его отряд смяли, расшвыряли, и уже ничего не изменить. Надо спасаться в степи. У него много других воинов в юрге, и в платке, что засунут за пазуху, спрятан золотой тигр и сложенная пополам золотая гривна — то, что один из ясырей завязал в кушак, а он нашёл и отнял.
— Тарлан! — закричал Онхудай, на бегу подзывая своего коня.
А Леонтий не заметил, как в нём очнулся тот служилый, который ходил на батыра Алдара, тайшу Баяра и мурзу Кильдея; тот служилый, которого товарищи по Тобольскому полку ценили за сноровку и спокойствие в бою. Леонтию не обносило голову бешенство, и он умел держать в руке саблю. Он сразил одного джунгарина и теперь теснил другого; клинки вспыхивали под луной; Леонтий ловил миг, чтобы его враг раскрылся. Когда степняк отбил летящую сверху саблю, задрав локоть выше, чем следовало, Леонтий нанёс ему тяжёлый удар левым кулаком в грудь. Степняк, охнув, попятился — и сразу получил железным окладом сабельного крыжа в лицо. Джунгарин упал, и Леонтий без колебаний рассёк ему горло. Это было правильно.
Чутьё служилого сработало у него раньше сознания. Он уклонился от нападения в спину, и мимо пронеслась рука с хутагой — джунгарским ножом, длинным, прямым и узким. Леонтий захватил эту руку, вывернул, заламывая в развороте, и сразу всадил хутагу тому, кто нападал, под нижнее ребро. И лишь тогда увидел, кто это был. Хрипя, на хутаге висел Мисаил. Наверное, он подобрал кинжал у кого-то из убитых степняков. Мисаил трясся всем телом, по усам и бороде у него расползались кровавые пузыри.
— Зарезать… сыщика… — выдохнул он и рухнул лицом в траву замертво.
Леонтий оглянулся. Бойня у худука завершилась. В измятой траве и на истоптанных кошмах кучами тряпья или шкур валялись джунгары и русские, хотя русских было гораздо меньше; некоторые корчились и выли, кто-то полз на четвереньках. Вдали бегали кони, несколько всадников уносились в степь. Голята джунгарской пикой докалывал кого-то лежащего. Макар рвал рубаху на полосы и обматывал плечо раненого мужика. Авдоний ещё не опомнился и, пригибаясь, с косой в руках рыскал среди мертвецов. Какой-то раскольник стоял и крестился, словно отчитывался перед богом за сделанное дело.
Никто не заметил, что Леонтий убил Мисаила.
Ведь он, Мисаил, с первой встречи вызверился на Леонтия — «сыщик, сыщик»!.. Хотя он был прав. Леонтий всё равно рассказал бы в Тобольске о том, что нашёл ны-рище Авдония — деревню Чилигино. Бугровщики были раскольникам своими, они бы не выдали, а Леонтий — чужак. Его следовало убить. Это удобно. Он тут один. Бугровщики заберут себе золото. А вину за всё можно спихнуть на джунгар… У Мисаила не получилось убить тобо-ляка, но у Авдония получится. Счастье, что Авдоний ещё не опознал Леонтия.
Надо немедленно уносить ноги, пока это возможно. Вон сколько пустых джунгарских коней, есть уже и осёдланные. Стараясь казаться незаметным, Леонтий не спеша направился к табуну, словно хотел просто посмотреть на добычу. Он был готов побежать, если его окликнут. Но его не окликнули.
Леонтий взял за узду тонконогого чёрного жеребца и, успокаивая, похлопал его по крупу. Чёрный конь в ночи будет почти не виден.
— Удираешь? — раздалось сзади.
Леонтий оглянулся. Рядом стоял Голята. Леонтий молчал.
— Я знаю отца Авдония. Кончит он тебя как сыщика, это уж наверняка, — уверенно сказал Савелий. — Я свистну, и не ускачешь далеко.
— И чего ты ждёшь? — угрюмо спросил Леонтий. — Свисти.
— Я грешен перед тобой, что бросил в яме, — усмехнулся Савелий. — А чем бугровщик грешнее, тем меньше фарта. Мне искупленье греха надобно.
— Бог простит.
— Я не буду свистеть, уходи. Но обещай не выдать воеводе, что золото у меня. У нас в слободе указ читали: царь велел в острог сажать, ежели кто из могилы чего себе возьмёт. Скажи в Тобольске, что калмыки хабар отняли. Ты — Ремезов, я тебе на слово поверю, коли пообещаешь.
Леонтий сунул ногу в стремя и взлетел в седло.
— Не выдам, — сказал он Савелию, тронул коня и направил в степь.
Глава 9 Дьявол в Чилигино
Они вдвоём лежали на верхушке высокой скирды, а с синего неба на них светило нежаркое солнце бабьего лета.
— Травой скошенной пахнет, прямо пьянит… — прошептала Епифания, поднося к лицу клок сена. — Не жалко тебе мира этого, батюшка?
— Мир меня не жалел, и я его не жалею, — беззлобно ответил Авдоний. — Там, где мы будем, воздух сладкий и трава шелковая.
Епифания повернулась набок и посмотрела на Авдония.
— Рассказывай мне, наслушаться тебя не могу.
— Осинки там как девочки, и на ветвях птицы сирины сидят, крылами радужными машут — важно так! — и поют ангельски, — глядя в небо, говорил Авдоний. — Кругом ходят львы кудрявые, и на хвостах у них листья и цветы.
— Неужели ты всё это видел?
— Видел, сестрица. Вот на груди у меня смотри — клеймо, — Авдоний оттянул ворот рубахи. — Как палач прижал мне печать раскаленную, так и у меня душа поплыла, поплыла, и вижу я, что кудрявый лев груди мои мягким языком лижет ласково так…
Епифания подалась вперёд и поцеловала клеймо на груди Авдония. Не по крестьянскому правилу было в страду, в самый полдень валяться на сене и ничего не делать. Но ржаные поля вокруг Чилигино оставались неубранные, с колосом, а сено уже никому не пригодится: его сожгут, а коров порубят.
— А Исуса ты встретил там, отче?
— Да куда мне, малой твари? — усмехнулся Авдоний. — Может, как приведу к нему стадо свое, так он и выйдет ко мне, а без подвига я нечист, от меня земным тленом смердит.
— Нет, отец, от тебя клевером пахнет, — ласково прошептала Епифания.
— Ты, божья душа, слышишь благоуханье, которое я оттуда принёс, — Авдоний подсунул руку под Епифанию, обнял её и прижал к себе. — Ох, как зовёт оно… Иной раз уснуть не могу — тревожит, манит, бежать хочу, лететь.
— А крылья у нас там будут?
— Будут, — уверенно сказал Авдоний.
— Ты летал там? — замирая, спросила Епифания.
— Там не летал. Я ведь паки живый был. Но когда меня на дыбе ломали, я почуял, что палач крыла из моих плеч выворачивает.
Отец Авдоний не убеждал, он просто рассказывал то, что видел и знал. Убеждали его увечья, истовость его стремления; убеждало то, что у него всё получилось: он выжил в муках, он бежал из неволи и вывел людей, а теперь строит свой Корабль. Епифания верила ему, но с какой-то девичьей робостью — прежде она и сама не чаяла, что в смраде и грехе своей жизни сумела сохранить в себе изначальную целомудренную боязливость.
— А как там любовь промеж людей творится? — тихо спросила она.
Пусть там, в раю, искалеченный и одноглазый отец Авдоний во плоти окажется прежним иноком с Сельги — прямым, красивым, златокудрым.
— А любовь там простая: смотришь в глаза — и блаженство.
— Я там в твои глаза буду смотреть, а ты в мои смотри, — она просила, но на самом деле требовала; без этого обещания она не взойдёт на Корабль.
— Семь тысяч лет взгляда не отведу, — сказал Авдоний.
Епифания откинулась на спину. Душа изнывала в каком-то томлении.
— Неужто ныне осенью обретём всё это? — страдальчески спросила она.
— Там нет осени. Там всегда весна.
Авдоний говорил правду. Он ведал тот мир как улицу за окошком.
…Деревня Чилигино была небольшая — в полсотни дворов. Она стояла на берегу мелкой речки Чилижки. Авдоний привёл сюда своих людей через две недели после побега. Путь к деревне ему указали тобольские наставники: Чилигино давно и прочно укоренилось в древ-леправославии. Чилигинские жители разобрали беглецов по избам. В первый же день, выйдя за ворота, Авдоний увидел посреди деревни заброшенную церковь. Она высилась под снегом среди нетронутых сугробов, и даже тропка-частоступочка не тянулась к висячему крыльцу-рундуку с трухлявыми ступенями; мёртво зияли окошки с выбитыми косяками. Авдонию сказали, что иконостас в церкви давным-давно рассыпан: образа дониконова письма мужики унесли по своим домам, а доски нико-новой работы спустили вниз по течению Чилижки. Глядя на разорённую и пустую храмину, Авдоний понял: се будет его Корабль.
Деревню основал беглый московский стрелец Стёпка Решетников. Он явился в Сибирь при воеводе Годунове. Коров и лошадей на обустройство он взял в долг в Дал-матовой обители. Далматовские иноки познакомили его со старцем Авраамием Венгерским. Авраамий совлёк Стёпку в раскол.
До поры до времени Стёпка держал свою веру втайне. Деревня его росла. Митрополит Павел прислал в Чи-лигино попа, и мужики построили церковь. Но лет двадцать назад поп умер. А вскоре в деревню нагрянули воеводские переписчики. Решетников стряс с мужиков деньги и сунул взятку казённым людям, чтобы те не указывали Чилигино в оброчных книгах и на чертежах. Так деревня исчезла с глаз митрополита и воеводы — стала для властей невидимой, словно Китеж-град. Никонианский вертеп заколотили, и Чилигино, затерянное в перелесках на краю Тургайской степи, обратилось к чистому исповеданию отцов. Духовным отцом для чилигинских жителей стал Авраамий, а Степана Решетникова деревня признала уставщиком.
Десять лет назад донеслась весть, что тюменские служилые изловили старца Авраамия и увезли в архиерейский каземат. Из этого бездонного застенка расколоучи-тели уже не выходили. Уставщик Степан решил, что дни его исчислены. Вместе с сыновьями он соорудил мо-рильню: в лесочке за околицей Решетниковы выкопали большую яму и сложили в ней сруб без окон и дверей с бревенчатым накатом вместо крыши. Вся семья уставщика — сам Степан, его жена, два сына с жёнами и детьми и незамужняя дочь — через последнюю щель в накате спустились в сруб. Чилигинские мужики закрыли шель бревном и засыпали морильню землёй. Четыре дня из недр слышались псалмы, потом всё стихло. Мученики вознеслись. А деревня на долгие годы лишилась наставника. Новым наставником оказался Авдоний.
Он вроде бы и не принуждал никого слушать себя. Хрисанф, Иефер, Мисаил, Пагиил, Сепфор, Елиаф, Навин, Урия, Саул, Аммос — все они, братья, сами, своей волей, приходили в пустой овин, где Авдоний молился, проповедовал и рассказывал о видениях, и вскоре за братьями потихоньку потянулись чилигинские мужики, а потом и бабы. Авдоний говорил о том, о чём подозревали повсюду на Руси, и в Чилигино тоже: царь Пётр — чадо погибели, немецкий подкидыш. Прежний царь, Лексей Михалыч, уповал на сына, а царица Наталья Кирилловна родила дочь; убоявшись мужнего гнева, она подменила девочку мальчиком из Немецкой слободы. Диавол и потянул подменённого царя в свои тенёта. Латынники и жиды царю-немцу оказались ближе своих-природных. С латынников пошли новые порядки в державе — от подневольной армии и казённых канцелярий до постыдного челооголения и мертвяко-вых волос на головах. Что творит сей лихой царь? Кать-ке-царице он крёстным отцом своего сына пихнул, то есть женился на духовной внучке! Столицу забросил, а ведь Москва — не просто город! Первый Рим пал и лежит невсклонно, погрязнувши в латинской ереси, и второй Рим — Царьград — тоже повержен махометанами; последним оплотом оставалась Москва — третий Рим, а царь её покинул и новый стольный град в чухонских болотах возвёл!
В чём же причина оному? В том, что иссякли времена, и с дьявола пали оковы, наложенные на тыщу лет архангелом Михаилом. Освобождённый дьявол учуял, где ему кровавая пожива, — на Руси! — и сунул сюда хобот свой — Никона. И рухнула Святая Русь. Царство лишилось святости, а церковь — благодати. Взреял над Русью, как коршун, латинский крыж вместо креста. Троеперстие утвердило лжетроицу — змия, зверя и лжепророка. Новый канон в истине Господа сомнение посеял. Амвон от евангельского четверокнижия переделали на пяти-столпный — в честь папы и его патриархов. Белый клобук сменили на рогатую колпашную камилавку — так сподручнее сатане поклоны бить. Коленопреклонение и метания запретили — гордыня не дозволяет. Крестный ход посолонь навыворот водить повелели. Сугубую аллилуйю, провозглашённую самой Богородицей, заменили на трегубую. Да мало ли чего ещё!.. И со смрадной земли отступать уже некуда. Только в рай. А туда дорога не торная, и пройти по ней непросто.
— Ты о гари говоришь? — сразу спросил Авдония один из мужиков.
— Мы сюда гореть прибежали, — ответил Авдоний.
Он оглядел братьев. Никто ему не возразил. И Епифания не возразила. Но чилигинские мужики смотрели угрюмо, недоверчиво.
— У нас по Тоболу многие сожглись, — сказал мужик, которого звали Максимом Скобельцевым. — И топились, и в морильнях запирались. Степан Решетников себя и семью похоронил. Божий страх. Истинный ли это путь?
— Давай вскроем его морильню, — вдруг предложил Авдоний.
— Грех.
— Грех не знать.
На морильне в лесочке уже выросли кусты. Мужики расчистили снег, выдрали орешник с корнями и раскопали землю до склизкого бревенчатого наката. Епифания смотрела в разверстую могилу. Отец Авдоний стоял в толпе и улыбался — как-то надменно и криво. Мужики поддели багром одно из брёвен и сдёрнули его на сторону. В кровле морильни образовалась щель. Неужто кто-то полезет туда, чтобы потревожить тленные кости мучеников? Но из щели вдруг поплыл густой запах миро. Люди попятились от ямы.
— «Подай руку твою и вложи в ребра мои, — насмешливо сказал Авдоний Максиму, — и не будь неверующим, но верующим».
В тот день Чилигино склонилось на гарь.
Потом отец Авдоний объяснил, что гарь — не просто взять и спалить себя. Гарь должна повторять соловецкий подвиг: сперва насмертники примут монашеский постриг; потом нужна казённая воинская сила, угрожающая обители; потом учителя вступят в прения с пришедшими никонианами, чтобы нечестивцы, потерпев поражение, кинулись в бой в звероярости своей, и тогда начнётся оборуженное пружание; и лишь потом, затворившись, насмертники предадутся огненному свирепству. Так воздвигается небесный Корабль. И для него надо всё подготовить — пики и ружья, смолу и хворост, запоры и саваны. Словом, Чилигино вознесётся не раньше осени. К той поре, даст бог, по окрестным деревням пролетит слух о скорой гари, и те, кто возжелают успеть на Корабль, тоже явятся в Чилигино.
Эта весна стала самой безмятежной в жизни Епифании. Словно мягкое сияние опустилось с небес и обволокло деревню. Мужики не ссорились из-за покосов, не требовали друг с друга долгов, не припоминали обид. Бабы не ругались на скотину и на детишек. Истаял снег, запели птицы, зазеленела свежая трава, и в богородичные ризы облачились черёмухи. Отец Авдоний посветлел лицом, как-то выправился и выпрямился, движения его стали плавными, а в волосах и в бороде заблестело былое золото. Он ходил по домам, помогая кому в чём была нужда: рубил дрова, таскал воду, сгребал снег; он был ласков с любым встречным, он играл с детьми, а на Радуницу, когда девушки за околицей водили хоровод, он со смехом побежал в девичьем круге, и Епифания, глядя на это, не поверила своим глазам.
— А ну, быстрее, горлицы! — весело кричал Авдоний. — Давай, милые!
Епифания увидела в Авдонии того давнего инока с Сельги — его облик проступил сквозь изуродованного мужика, словно чудотворный образ сквозь копоть. И не было человека добрее и чище.
Епифания не вспоминала о Семёне Ремезове. Семён выцвел, поблёк, будто износился. Он не причинил ей никакого зла — а её память хранила только зло; его было так много, что оно вытеснило всё остальное. Дожди, бесконечные дороги каторжан, грязь, кандалы, гнилая солома, зловоние, голод и стужа, вши, плети, жадные руки стражников, чужая похоть… Но ведь на земле могут быть не только муки. На земле может быть и рай, и даже не в Беловодье, и не на блаженных островах Макарийских, а здесь, в деревне Чилигино, где нет ни печали, ни воздыхания. Зачем тогда сжигаться?
Авдоний, Мисаил и Епифания жили в доме чилигин-ского старосты Лупана Девятова, теснились в горнице вместе с матерью, женой, дочерями и неотделёнными сыновьями Лупана, их жёнами и детьми; Авдоний и Мисаил спали на широкой лавке, придвинутой к печи, а Епифания — на полатях с девками Лупана. Епифании редко удавалось застать Авдония одного, но как-то раз весенним синим вечером она заметила, что Авдоний задержался в бане, стоящей на задворках у берега Чилижки. Семейство хозяина уже отпарилось, а Мисаил куда-то ушёл. Епифания тихонько закрыла за собой дверь предбанника, задвинула деревянную щеколду и разделась до исподней рубахи. Она сама не знала, зачем делает это. В любви Авдония к ней никогда не было ничего плотского, греховного, и самой ей не хотелось мужчину — те угольки, которые раздувал в ней Семён, давно угасли. Но её влекло желание вернуть жизнь в правильный порядок, как от века заповедано, а правильный порядок — это когда муж знает жену и жена знает мужа. Здесь, в Чилигино, люди жили правильно, как бог повелел, — по милосердию друг к другу, значит, и ей с возлюбленным, за которым она прошла через ад, надо идти дальше — к божьему предустановлению для колен Адамовых и Евиных.
Авдоний сидел на приступочке под полком — голый, костлявый, мокрый; на груди его темнело клеймо, на рёбрах багровели рубцы от плетей. Он смотрел на Епифанию расширенными, почерневшими глазами. Движением плеч она сбросила рубаху к ногам, открывая себя Авдонию. А он вдруг пополз задом по приступочку прочь от неё, отвернулся и, сжавшись, уткнулся лбом в стену, как испуганное дитя. Руки его дрожали.
— Не надо, сестрица, — застонал он. — Не могу зреть наготу твою…
Епифания присела у него за спиной и погладила по руке.
— От бога нагота, — успокаивающе прошептала она.
— От бога? — она поняла, что Авдоний ощерился, как волк. — Ужели от него? Сколь раз при мне в узилищах невинных дев разоблаченных кнутами рвали, на дыбу вздымали, жгли и резали?.. Не могу видеть бабьего тела голого! Ножи, ножи, крюки, клещи!.. Чрева разъятые!.. Сгинь, морок!..
Авдоний трясся, будто в припадке. Епифания смотрела на него, и в душе её всё обугливалось. Никуда им обоим не деться от своей памяти. Нет рая на земле. И здесь, в Чилигино, нет преображения. Только доброе прощание. А дальше — Корабль. И Авдоний постиг эту страшную правду глубже их всех.
…Урочный час Чилигиной деревни пробил в грозовой Ильин день.
В июле на заимку, где жители Чилигино держали скот, напали степняки, увели всё стадо и трёх мужиков — Мисаила, который помогал пастухам, Перфильку Ферапонтова и Ваньку Стопырева, который уже постригся у Авдо-ния в монахи и теперь звался Малахией. На коровушек Лупан Девятое махнул бы рукой, на Корабль их не возьмёшь, но людей следовало выручать. Краденое стадо двигалось медленно, и степняков можно было догнать. Лупан собрал для погони охочих мужиков, к ним присоединились Авдоний и трое братьев. Погоня ускакала в степь. У Батырдайского яра чилигинцы встретили бугровщи-ков — Савелия Голяту с товарищем; совокупно с бугров-щиками, раскольники подстерегли степняков у ханаки. А после ночной резни Мисаил сказал Авдонию, что среди пленных бугровщиков был Леонтий Ремезов.
В Чилигино отец Авдоний стал уже главнее Лупана; он собрал сход на площади возле заброшенной церкви. Некошеная густая трава была полна воды от прошедшего дождя, и раскольники промокли по колено.
— Наш закров боле не тайна, братья, — объявил Авдоний.
— Старый Ремез нас не выдаст, — возразил Хрисанф. — Злоухищрений он не имеет, хоть и никонианин.
Хрисанф, старый зодчий, не забыл свои долгие разговоры с Семёном Ульянычем, тобольским архитектоном.
— А ты, брате, сказал ему о том изъяне в его храмине, от коего сей вертеп вборзе обвалится? — напомнил Авдоний.
Он имел в виду разлом в подвальном своде ремезов-ской церкви.
— Не сказал, — мрачно ответил Хрисанф.
— Ты ему не услужил, а векую он тебе услужит?
— Ремезы не смолчат, — поддержал Авдония Мисаил. — Небось, воевода уже готовит войско против нас.
— Пора гореть, — сурово произнёс Авдоний, внимательно оглядывая толпу раскольников. — Еде ли чей дух в нестоянии?
Раскольники молчали. Над ветхой кровлей церкви, над тесовым шатром звонницы, мокрыми после грозы, со стрёкотом носились стрижи, испуганные недавним громом. В промытом небе висели тучи: те, что не пролились, были сырые и синие, а пустые облака светились изнутри алым пламенем заката.
Епифания тоже была на сходе, как и многие чилигин-ские бабы. Она смотрела на жёсткое, беспощадное лицо Авдония, слышала его приговор, но не понимала, хочет ли она покинуть эту жизнь. Она ведь и не испытала её, этой жизни: она не жила, а лишь в скорбях искала своего возлюбленного. А возлюбленный искал истину. И ежели он прорвался сквозь немыслимые беды и терзания, значит, он нашёл то, что искал. Все эти годы он брёл по горло в погибели, но не отдался ей, — значит, ему нужна была не погибель. Надо ему верить, хотя от его приговора у Епифании подкашивались ноги.
С Ильина дня Авдоний начал готовить Корабль.
Возле церкви скосили траву и на глаголь повесили било — железную доску с молотком, чтобы трижды в день призывать людей на моления; колокола-кампаны в расколе были запрещены. Моления вёл сам Авдоний. Брат Сепфор сколотил для него престол, а у чилигинских мужиков нашлись припрятанные с дедовских времён ветхий антимис, Евангелие дониконова письма и мятый оловянный потир. Авдоний по памяти читал ектении, стихиры и зачала из посланий святых апостолов, а братья и чилигинцы пели. Моления удерживали паству в решимости на огонь.
Чилигино оставило прежние крестьянские заботы. Бабы сидели по домам и стучали кроснами — ткали холсты и шили саваны. Мужики нарубили в перелесках тонких сухих дров и хвороста; дровами заполнили под-клет заброшенной церкви, а хворостом и сеном обложили стены. Днями напролёт звенела работа в кузнице: чилигинский кузнец вместе с братьями Хрисанфом и Елиафом перековывали косы и серпы на оружие и ладили «железное утвержденье» — решётки на окна церкви, скобы и крюки. Храм надобно было укрепить, чтобы в час горения никониане не прорвались в него снаружи, а насмертники не вырвались бы изнутри. Меж подворий мужики вкапывали частоколы: здесь они будут держать оборону от никонианского войска, пока не придёт время отступить в храм — в «згорелый дом» — и зажечься.
Брата Мисаила, брата Саула и брата Навина Авдоний определил в попречники: они будут спорить со стратила-тами никониан, будут обвинять в богохульстве и требовать ответов, которых и у самого Никона не имелось. Для попречников Авдоний списал на бумагу когда-то заученные им избрания из челобитной суздальца Никиты Добрынина, что никонианами был прозван Пустосвятом; Никита с пером в руке прочёл Скрижаль и Никоновы книги новопечатные и всю ересь из них выковырял. Никто ещё лучше Никиты не обличал отступников, а сам суздальский поп за правду своих слов заплатил усекновением главы. Словом, попречники прениями остановят воинство никониан, и насмертники успеют собраться в «згорелом доме».
А потом Авдоний начал пострижения: мужики и бабы, парни и девки вступали в иноческий чин и получали новые имена, и это было главным — до гари, конечно, — отречением от мира. Чилигинцы принимали игуменство Авдония, отказывались от хозяйства, супружества и родства. Епифания видела, как глупые девки ревут под ножницами, вместе с косами теряя надежду на замужество и будущих детей. Но отец Авдоний утешал:
— Оно на благо, милые. Чем боле грехов — тем доле гореть, мучиться. А вы ныне стали чистые, как ангелицы, сгорите вмиг, словно пушинки.
Сам Авдоний и братья его приняли постриг ещё на пути в Тобольск — в Соликамске, в подвале Соборной колокольни, куда по тайному ходу пролез старичок отец Мелетий, настоятель усольской киновии.
…Однажды вечером Епифания услышала тихий разговор отца Авдония с братом Мисаилом. Мисаил задержал Авдония у крыльца.
— Помнишь, отче, Корабли на Палеострове? Ты сам о них нам поведал.
— Как не помнить?
— Чёрный дьякон Игнатий отослал с первого Корабля своего выученика Омелия Повенецкого. Вторым был Корабль кормчего Пимена. А Омелий пособил кормчему Герману и вознёсся толие на третьем Корабле.
— К чему ты клонишь, брате? — насторожился Авдоний.
— Отдай кормило мне, я буду кормчим в Чилигино, — горячо зашептал Мисаил. — А ты беги. По Тоболу, по Ишиму и далее вглубь Сибере другие тайные деревни ести. Сколь много иных Кораблей ты воздвигнешь, отче, ежели от сего Корабля уклонишься? Зачем тебе гореть? Ты на земле нужен!
— Я подумаю, — глухо ответил Авдоний.
В эту ночь Епифания не могла уснуть. Неужели отец Авдоний уйдёт из Чилигино? Неужели возлюбленный предаст её пламени, а сам останется?
Авдоний разбудил её ещё до рассвета.
— Сестрица, поспеши по избам, где наши братья, — еле слышно приказал он, — повели от меня на моление с дрекольем быти.
Гулкие удары в било раскатились по улочкам Чилигино. Сонные люди потянулись на утреннее служение. Сепфор, Навин, Урия, Хрисанф и Саул несли в руках дубинки и обломки жердей. И Авдоний тоже пришёл с крепкой палкой — древком от косы. Он принялся раздвигать толпу, освобождая место.
— Брате, станьте по кругу, станьте по кругу, — говорил он.
— Что ты задумал, отче? — не понимал Хрисанф.
— Мисаиле, поди предо мною, — распорядился Авдоний.
Мисаил вышел на пустое пространство среди толпы. Он недоумённо оглядывался. Авдоний поднял руку, призывая к вниманию.
— Ответи мне, друже, — сурово сказал он, — векую ты в ту нощь, егда мы с братиями вас из полона от степняков выручали, не заколол Ремеза?
— Духу недостало, отче, — Мисаил виновато опустил голову. — Грешен.
Епифании почему-то сделалось тревожно.
— А векую Ремез тебя не заколол? — потребовал объяснений Авдоний. — Ибо же ты о нем бы мне рек, а я бы его вживе не выпустил.
— То у Ремеза спрашивать надобно.
Авдоний распрямился и свысока посмотрел на толпу чилигинцев.
— Се не Мисаиле глаголет, — веско произнёс он. — С брате Мисаиле мы сквозе преисполню продралися. Брате Мисаиле и сам смущения не ведал, и протчу в смущение не вводил! Ты не Мисаиле, бес!
Толпа замерла. Епифания не успела даже испугаться, когда Мисаил вдруг сжался, будто огромный кузнечик для прыжка, но Авдоний не дал ему прыгнуть, а сбил с ног страшным ударом древка от косы.
— Бей его, братове! — взревел Авдоний.
Мисаил вскочил, и Авдоний снова ударил его древком. Лицо Мисаила окрасилось кровью.
— Бей! — орал Авдоний.
Мисаил кинулся в толпу, но теперь его ударил Хрисанф. Отброшенный, Мисаил заметался в кругу былых товарищей, и всюду его встречали ударами. Обычный человек свалился бы, оглушённый, но Мисаил рычал и вырывался с нечеловеческой силой, словно не чувствовал боли. И братья тоже будто обезумели — они лупили Мисаила дубьём со всех сторон, и наконец он упал.
Он корчился в вытоптанной траве, хрипел, впивался пальцами в землю, и вдруг изо рта у него пошла пена. Его подбросило, переложило на спину и выгнуло дугой. Раскинув руки, он встал на темя и на пятки и покачался, потом ослаб и безвольно рухнул навзничь, а потом невозможным движением внезапно извернулся и покатился кубарем. Толпа с воплем шарахнулась назад. Мисаил — вернее, бес — растопырился и на руках прокрутился перед людьми колесом, подобно скомороху, а затем оказался на ногах и побежал мимо братьев по кругу, заглядывая в лица и хохоча. Глаза его были жёлтые.
— Всех возьму! Всех возьму! Всех возьму! — лаял он.
Авдоний снёс его смертельным ударом древка в висок.
Мисаил отлетел и распластался, обмякнув уже без содроганий. Он был облит кровью, одёжа его порвалась, он лежал как тряпка — убитый наповал. В толпе от ужаса выли бабы, мужики тяжело дышали, кто-то бубнил молитву.
— Зрите, брате! — яростно крикнул Авдоний и харкнул на тело Мисаила.
И тело начало темнеть на глазах в распаде тлена. Лицо и руки раздулись, пополз смрад разложения, а слева на боку, где задралась рубаха, раскрылась чёрно-багровая гнилая дыра — это была рана от джунгарского ножа, который в ту давнюю ночь у ханаки Левонтий вонзил Мисаилу под ребро.
Авдоний обвёл потрясённую толпу бешеным взглядом.
— Довольно ли свидетельства, человече? — яростно спросил он у народа. — Дьявол весь мир уже в зев положил, и даже к нам проник! Где убо спасение обресть, понеже Корабля?
Глава 10 Сплетая нити
Семён Ульяныч уже привык к новой мастерской, выстроенной взамен сгоревшей, обжил её, хотя старая мастерская ещё мерещилась ему: то рука привычно тянулась туда, где раньше была полка с чернильницами, то ноги несли к поставцу с книгами, на месте которого теперь стоял сундук. Старая мастерская всегда казалась Семёну Ульянычу словно бы намоленной его трудами и помогала в работе, а новая ещё никак не отзывалась.
Леонтий выбрал время, когда в мастерской у отца не было брата Семёна. Леонтий тщательно закрыл дверь, прошёл к столу Семёна Ульяныча и присел рядом на лавку. Его мучила совесть, и он устал спорить с собой. Он знал, как истово отец мечтал достроить кремль, знал, зачем Семёну Ульянычу так нужно было могильное золото, которое забрал Савелий Голята.
— Я виноват, батя, перед тобой, — Леонтий виновато смотрел в сторону. — При домашних я тебе всего не открыл. Не хочу молчать больше.
— Ну, говори, Лёнька, — серьёзно согласился Ремезов.
И Леонтий рассказал. Рассказал про плен у степняков, про казнь двух бугровщиков, про Голяту, ушедшего с золотом, и про засаду на ханаке.
— С Голятой, батя, не слободские были, а расколь-щики. Они своим на выручку направлялись и с Голятой заединились. А вёл тех раскольщиков знаешь, кто? Авдоний одноглазый. Вот где он всплыл.
— А я думал, он на Ирюме, — хмыкнул Ремезов. — Но что же золото?
— Один из раскольщиков — Мисаил, помнишь такого? — меня признал. В той драке у колодца он на меня с хутагой бросился. Опасался, что выдам их убежище. И я его, батя, зарезал.
— Грех, — твёрдо сказал Семён Ульяныч.
— А мне деваться некуда было. Или он, или я. И не я начал.
— Не оправдывайся.
Леонтий вздохнул.
— Словом, батя, надо было мне бежать. А поперёк пути Голята очутился. И он мне предложил: я ему золото оставлю, а он меня отпустит. Получается, я твоим кремлём себе живот выкупил. Стыдно мне перед тобой.
Семён Ульяныч свирепо засопел. Гнев на Леонтия толкнулся в сердце. Ремезов яростно глянул на киот: зачем же ты, господи, со мною так?.. В киоте рядом с образом Спасителя стоял образ Иоанна Богослова. После пожара Семён Ульяныч сам написал для себя эту икону и освятил в соборе. Иоанн, склоняясь над книгой, двумя пальцами запечатывал себе уста. Не суесловь. Не ропщи, человече. Думай, в чём вышний замысел на тебя. Ты ли Авраам, готовый заклать Исаака? Бог и без кремля Тобольск видит, а у тебя нет сына вернее Лёньки, пусть и простоват он, и не ученик тебе. Сенька-младший — богомолец, Петька — ветрогон, Ванька своей дорогой ушёл, а Лёнька всегда с тобой, во всём опора, даже в том, чего не понимает. Ведь говорили же владыки в ту встречу при митрополите Иоанне, царство ему небесное: проси, Семён Ульяныч, чтобы Матвей Петрович помог кремль достроить, проси. А он всё равно не попросил. Он решил купить и Гагарина, и царя. Не укоротил свою гордыню, и она, хоть боком, да выперла наружу.
— Нет твоей вины, Леонтий, — скрипуче сказал Семён Ульяныч.
— Спасибо, батя, — Леонтий взял руку отца и поцеловал.
Семён Ульяныч вдруг ощутил, что они с сыном — вдвоём во всём мире.
— А что с раскольщиками делать? — Леонтий смотрел на отца.
— А чего с ними делать? — Семён Ульяныч, отвернувшись, утёр глаза. — Сбежали к лешему, да и плюнуть им вслед.
— С ними Епифания. А Сенька по ней убивается.
— Унесли черти ведьму, и поклон чертям. Не нужна она ни нам, ни ему.
— Нельзя того от Сеньки утаить. Не по совести.
Душевного просветления Семёну Ульянычу хватило ненадолго.
— Ты чего, Лёнька, в праведники заделался? — вспыхнул он. — И предо мной покаялся, и пред братом грешен! Поди в Киев за просфоркой!
— Ежели я Сеньке про неё скажу, так он ополоумеет, помчится выручать. А его там прирежут, как меня хотели. Воинская команда туда нужна.
— Я не царь, у меня войска нету!
— У Матвей-Петровича есть.
Семён Ульяныч подпрыгнул от возмущенья.
— Да я ещё не сказал ему, что золота не добыл! Боюсь! Не время мне сейчас воинскую команду требовать! Петрович меня подсвешником забьёт!
Леонтий не знал, куда себя девать.
— Батя, надо войско, — обречённо повторил он. — Я краем уха слышал, Авдоний готовит гарь. Он всех спалит в Чилигине.
— Где? — поразился Семён Ульяныч.
— В Чилигине. Деревня ихняя где-то на притоке Тобола.
Семёну Ульянычу почудилось, что с неба опустился перст и тюкнул его в голову. Чилигину деревню Семён Ульяныч прекрасно помнил.
Лет двадцать назад, когда ещё не был архитектоном, Семён Ульяныч, служилый человек, плавал по рекам с отрядами воеводских переписчиков. Переписчики чуть ли не каждый год обшаривали глухие углы Сибири: искали новые жительства, укромно и самовольно выросшие в тайге, считали дворы по известным деревням и слободам, выспрашивали о разведанных угодьях. Всё это записывали в чертёжные книги, по которым потом дьяки Приказной избы окладывали мужиков тяглом. Только так воеводы могли узнать, сколько народу живёт под их рукой и какие подати следует собирать. Мужики ненавидели переписчиков хуже степняков. Прятались от переписей. Подпаивали казённых людей. Совали взятки, чтобы обошли учётом. Бывало, что полслободы пролетало мимо чертёжной книги, а переписчик, похмелясь, возвращался в Тобольск с парой десятков рублей в кармане. В иных слободах числилось по сотне дворов, а стояло три-четыре сотни. А бывало, что и вся деревня целиком ускользала от воеводского ока. На деле — есть, а на бумаге — ничего нету, однако у каждого переписчика по две новые коровы.
Матвей Петрович эту вольницу сразу придушил. Помнится, Васька Чередов, который со всякой переписи свой навар имел, с досады целый месяц пил не просыхая. И при Матвее Петровиче обложное населенье выросло вдвое, как опара на дрожжах; государь хвалил губернатора за умножение людишек. А дело было вовсе не в том, что бабы больше рожали, или с Руси беглых поднапёрло. Просто надо было знать, как в Сибири жизнь устроена.
Служилый человек Семён Ульянов сын Ремезов ходил в переписи охотно, но не ради взяток. Он измерял реки и селения и составлял карты. Однако невозможно это — быть у моря и не напиться. И ему тоже доставались деньги за утайку, хотя особо он не корыстовался. Хотя был случай, был. На Тоболе, на дальней речке, он убрал с чертежа деревню Чилигино. За эту услугу получил от чилигинцев восемь рублей с полтиной и три четверти ржи. Оно бы и ладно, только беда в том, что ежели деревни нет в описи, то на деревню нет и казённой управы. Воевода ни сном ни духом не ведает, что там творится. И в Чилигине, значит, обосновались раскольники. Деревня стала будто зачумлена. Дело там, выходит, уже до гари докатилось. А виной тому — он, сучий потрох Ремезов, пожива его давняя и бездумная. Вот так господь ука-зует на грех и требует исправить, пока не поздно.
— Знаю эту Чилигину, — глухо сказал Семён Ульяныч Леонтию. — Завтра пойдём к Петровичу за войском.
Губернатор принял Ремезовых с особой честью — в своём кабинете. Он благодушно развалился в кресле-корытце, покойно сложил руки на животе и вытянул ноги. Он ждал добрых вестей. Семён Ульяныч боком неловко сел на скамью и всё кряхтел и возился. Леонтий стоял поодаль, как истукан. Лакей Капитон принёс Матвею Петровичу миску со свежей морошкой.
— Словом, не привезли мы золота из могилы, — наконец объявил Семён Ульяныч. — Сорвалось. Не обессудь, Петрович. Степняки налетели и отняли всё, что найдено, да ещё и четверых бугровщиков смерти предали.
Матвей Петрович сел ровнее и убрал ноги под кресло.
— Ох, огорчил ты меня, Ульяныч, — сказал он с сожалением. — А я крепко на те побрякушки надеялся… Без них у царя ничего просить не могу.
— Да почему же? — с досадой открыто взъелся Семён Ульяныч.
— Потому что не подмажешь — не поедешь, — неприязненно ответил Гагарин. — Не первый день на свете живём.
— Раньше-то ехали!
— Я и раньше подмазывал, Ульяныч, — устало возразил Гагарин. — А ныне я под подозрением, и денег просить не с руки мне.
— Ну, меня возьми с собой к Петру Лексеичу! — вдруг загорелся Ремезов. — Я не заробею сказать! Вот просто так сам возьму и попрошу!
— Просто так поганки растут, а при дворе просто так ничего не делается, — наставительно и горько сообщил Гагарин. — Для всего свой день нужен, свой подход и свой расход! Не твоё у меня время сейчас, Ульяныч! Понял?
— А как твою шкуру спасать — так моё время было? — дерзко напомнил Ремезов, понимая, что переходит черту дозволенного.
У Матвея Петровича от злости побелели скулы.
— Ты что, посчитаться решил?
— Я тебе помогал — на тебе долг! — отчаянно заявил Семён Ульяныч.
— У меня перед тобой, Ремезов, никаких долгов и быть не может! — свирепо осадил Гагарин. — Зарываешься ты, старый! Я — губернатор, а ты — архитектон, и цена тебе — сколько я заплатить готов!
— Ну, просветил, Матвей Петрович! — Ремезов вскочил и глумливо поклонился. — Оно и верно! Что-то сдурил я, за друга тебя почитая! А твоя дружба — пока досуг пустой и штаны не дымятся! Тьфу!
Нахлобучив шапку обеими руками, Семён Ульяныч кинулся прочь из кабинета — Капитон еле успел открыть дверь. Леонтий с каменным лицом остался стоять там, где стоял. Матвей Петрович вытащил кружевной платок, промокнул лоб и искоса глянул на Леонтия.
— Нехорошо с твоим батькой вышло, — поморщился он. — Разлаялись.
— Это дело не моё, Матвей Петрович, — бесстрастно сказал Леонтий. — У меня другое дело.
— Какое? — с подозрением спросил Гагарин.
— На Тоболе я тайную деревню расколыциков нашёл. В переписи она не учтена, податей не платит.
— Ну, добро. Пошлю туда секретаря с писцом.
— Туда можно только с воинской командой. Они отбиваться будут.
— Нет войска у меня. Всё Бухгольц увёл.
Леонтий помолчал, словно оттаивая.
— Хоть кого надо набрать, Матвей Петрович, — проникновенно сказал он. — Хоть пленных шведов. И без проволочки. Это долг христианский.
— Ещё один долг на мне, Ремезов? — едва не зарычал Матвей Петрович.
— Они гарь готовят.
— Господи ты боже мой! — Матвей Петрович шлёпнул ладонями по ручкам своего креслица и закрыл глаза. — Опять напасть на мою голову!
А Семён Ульяныч от дома губернатора отправился на Софийский двор. Ещё позавчера монашек принёс ему записку от владыки Филофея: владыка приглашал зайти. Разъярённый разговором с губернатором, Семён Ульяныч ковылял прямо по лужам, злобно тыча палкой в грязь. Он тащился мимо амбаров, мимо своего мамонта, мимо часовни годовалыциков, Воинского присутствия, Приказной палаты, Прямского взвоза, Софийского собора…
После смерти митрополита владыка жил в Тобольске, а не в своём тюменском монастыре. Филофей занимал малую келью в Архиерейском доме. Семён Ульяныч склонился под благословение, но не успокоился.
— Не могу я, отче! — заявил он, опускаясь на лавку и бросая шапку в угол кельи. — Всё помню, о чём вы, отцы, мне тогда говорили: проси, мол, у кесаря смиренно, ласковое теля двух маток сосёт, а не могу я! Душа горит! За себя — дак попросил бы, только я не за себя прошу, а за правду! А как за правду — с цепи срываюсь! Всё вдрызг!
— Опять с князем рассорился? — проницательно спросил Филофей.
— Да в клочья! Носы друг другу порасшибали. Я его, бесстыжего, всеми грехами по харе хлестнул, а он меня дворовым холопом обозвал.
Филофей сокрушённо покачал головой.
Семён Ульяныч по лавке подъехал задом немного ближе к владыке.
— Отче, в посаде слух ползёт, что тебя снова в митрополиты поставят, — Семён Ульяныч испытующе поглядел на Филофея. — Оно правда?
— Бог ведает.
— Шепчут, что тебя местоблюститель к себе в Москву вызывает.
— Писал он мне.
— Хиротонисать-то всё одно при царе будут.
— Говори, чего хочешь, — усмехнулся Филофей. — Не юли.
— Коли ты на поставлении царя увидишь, так попроси его за кремль.
Филофей перекрестился, с кротостью покоряясь своей участи.
— Попрошу, — сказал он.
— А я тебе сень на могилу Иоанна вырежу, — пообещал Ремезов.
Митрополита Иоанна погребли возле Софийского собора в наскоро построенном деревянном приделе. Придел освятили в честь Печерских преподобных Антония и Феодосия: пусть киевские праведники, зачинатели Лавры, осеняют последнее пристанище инока из своей обители.
— Сень — это хорошо, — согласился Филофей, поднимаясь. — Но и у меня до тебя есть вопрос, Семён Ульянович.
Владыка вынул из сундука холщовый свёрток, раскрыл его и разложил на топчане ржавую и рваную кольчугу. Эту кольчугу ему в Ваентуре отдал князь-шаман Нахрач Евплоев, когда сжигали идола Ике-Нуми-Хаума.
— Посмотри, — предложил Филофей. — Это Ермакова железная рубаха?
Ремезов встал и, опираясь на палку, навис над кольчугой.
— Не Ермакова, — после размышлений заключил он. — Не она. Ермакова кольчуга бита в пять железных колец, рукава и подол медные, на груди был орёл золотой, а на крыльцах сзади — мишень, печать такая медная. А у тебя простой работы рубаха, не княжеская.
— Значит, обманул шаман, — в голосе Филофея звучало удовлетворение. — Не подвело меня чутьё. А правда, что Ермаковы кольчуги чудотворные?
— Верят, что чудотворные, — Семён Ульяныч сел обратно на лавку. — Но дело-то не в чуде. Кольчуга тепло Ермака хранит. Кто наденет её — тот словно духом Ермака облекается и сам свою доблесть в себе возжигает. Чудо человек творит, а не кольчуга. Кольчуга — железо, икона — доска, а торжествует божий дух. Откуда эта рубаха у тебя, владыка?
— Вогулы на Конде отдали.
— Истинную кольчугу они не отдадут, не надейся. Истинную кольчугу с тела Ермака на Баише забрал себе кодский князь Алача. В этом доспехе он и потомки его с нашими казаками в походы ходили, покуда Кода служилой была. А как отставили Коду от службы, Анка Пур-теева, кодская княгиня, отправила кольчугу на Белого-рье, чтобы на идола натянули.
— А вторая кольчуга где?
— Вторую отдали джунгарскому тайше Аблаю.
Семён Ульяныч многое мог рассказать об этом. Вторую кольчугу увёз в степь его отец Ульян Мосеич. Но с этой поездкой была связана тайна отца, которую Семён Ульяныч не хотел открывать. Не время и не место.
— Откуда ты всё знаешь, Ульяныч? — восхищённо спросил владыка.
— С юности по ниточке в ковёр вплетаю.
Семён Ульяныч покинул владыку в прекрасном расположении духа. Он шёл домой не спеша и даже не заругался, когда на Казачьем взвозе дорогу ему перегородило нерасторопное коровье стадо. За лето заплоты Тобольска обросли понизу лохматым бурьяном. По улицам плыл дым от летних кухонь во дворах. Ехали возы с огромными шапками свежего сена. Дожди прибили пыль, и дышалось легко. Бело-сизые пороховые облака заполнили полнеба, солнце то разгоралось в лазоревых просветах, то угасало, и где-то вдали за Сузгунской горой дрожала тихим рокотом подползающая гроза.
А к владыке Филофею вечером пришёл Матвей Петрович.
— В Питербурх собираюсь, — сказал он. — Жена отписала, что Лёшка, сын мой непутёвый, наконец-то изволил обжениться. Надо благословить. Да и следствие по мне снова учинили. Не унимается Нестеров. Буду отбиваться.
Филофей молчал, сдержанно улыбаясь.
— Поедешь со мной, владыка, ежели я петлю через Москву сделаю? Обратно в Тобольск прикатим по первопутку.
— Поеду, — согласился Филофей.
— Значит, примешь кафедру? — догадался Матвей Петрович.
Если бы владыка не пожелал снова стать митрополитом, то отсиделся бы в Тобольске. Чтобы отказаться, незачем тащиться в такую даль.
— Приму, — кивнул Филофей.
— Ну, хоть какая-то весть хорошая, — вздохнул Гагарин.
С митрополитом Иоанном отношения у него не сложились. А после кончины Бибикова Иоанн и вовсе считал Матвея Петровича душегубом. С владыкой Филофе-ем — другое дело. Филофею чужие грехи очи не застят.
— Отчего же в этой келье ютишься? — Матвей Петрович обвёл взглядом тесную каморку Филофея. — Переберись в келью, где Иоанн жил.
— Нельзя, — просто ответил Филофей.
— Без сана в митрополичий покой не хочешь?
— При чём тут сан? — улыбнулся Филофей. — Пойдём, покажу.
Филофей вернулся с Конды, когда с кончины Иоанна миновало уже три недели, однако Иоанна тогда ещё не похоронили. По правилам, отпевать митрополита должен был архиепископ или другой митрополит, пусть и бывший. Тобольский клир ожидал Филофея, чтобы владыка провёл должную службу, и лишь после этого тело митрополита предали бы земле. Для Иоанна уже построили придел, но тело лежало в холодном подклете Софийского собора. Филофей попросил пустить его в под-клет попрощаться.
Отец Клеоник, эконом, большим железным ключом отпёр маленькую окованную дверь. В тёмной глубине подклета под низкими сводами светила лампада. Крестясь, Клеоник подвёл Филофея к открытому гробу с Иоанном. Конечно, прохлада подклета хранила усопшего, хотя остановить телесный распад она не могла. А Иоанн лежал в гробу бледный, но словно бы живой.
— Он нетленный, — шёпотом сообщил Клеоник.
Но это было ещё не всё.
Филофей открыл дверку в келью Иоанна и пропустил Матвея Петровича вперёд. Гагарин молча озирался. В келье всё оставалось так, как было при кончине митрополита. Окошко распахнуто. Лежак смят. На столе — бумага, перо и чернильница. В углу в киоте — черниговский образ Богоматери в голубом убрусе. А на полу под киотом, где упал и умер Иоанн, стояло серебряное блюдечко с тонкой свечкой, и на свечке мерцал огонёк.
— Когда его нашли, эта свечка у него в руке была, — негромко сказал Филофей. — И она горела. Гасить её не решились. Думали, сама собой истает, и оставили её на блюдце, вот как сейчас. Видишь — она до сих пор светит, и не убавилась ни на вершок. Здесь чудо было, князь.
Матвей Петрович потрясённо глядел на простенькую восковую свечу, которая не угасала уже два месяца.
— А я думал, святым будешь ты, — прошептал Гагарин Филофею.
Глава 11 Лазутчик
Степные травы полегли в октябре, и ночные заморозки окрасили волнистые просторы степи в неровный бурый цвет: местами красноватый, кое-где — с выморочной позолотой, а на пятнах ещё стоящих ковылей — в пушисто-белёсый. Травы мёртво хрустели под копытами драгунского дозора. Тусклое и желтоватое небо оставалось чистым, но гулял ветер, предвещая скорую непогоду. Ямыш-озеро лежало в неглубокой котловине и под ветром серебрилось мелкими волнами, будто покрытое дохлой рыбой. Казалось, что у берегов его уже оцепляет первым льдом, но это была шершавая корка соли, грязная от нанесённой степной пыли. «Табберту было бы любопытно ознакомиться со столь странным явлением, — подумал Ренат. — Но не мне».
Ямыш-озеро находилось в двух верстах от ретраншемента Бухгольца. Шведский драгунский дозор ехал осмотреть дальние берега озера на предмет леса: есть ли подходящие заросли вишни, осины или ольхи. Дрова — главная ценность. Драгун было два десятка. Отправляясь в дозор, драгуны обычно брали с собой и несколько артиллеристов, чтобы те не скучали в крепости.
— Похоже, что в голой скале, торчащей из моря где-нибудь в Тьюсте, и то больше жизни, чем в русских степях, — сказал Ренату Игго Берглунд, когда-то, давным-давно, драбант Скараборгского полка.
— Здесь не русские степи, — задумчиво возразил Ренат.
В отличие от многих своих товарищей по экспедиции, он знал, куда завёл их всех полковник Бухгольц. Ещё весной Ренат взял с собой Бригитту и отправился в мастерскую к Симону Ремезову, этому сибирскому географу и навигатору. Всё равно больше не у кого было спрашивать.
— Я прошу, Симон, показать мне ландкарты степей от степного города Доржинкит до российского города Астрахань.
Доржинкит по меркам степи находился недалеко от Ямыш-озера.
Гита стояла в стороне, в тени печки, терпеливо, как и должно, ожидая результата, а бородатый Ремезов рылся на полках, в шкафах и сундуках, с кряхтением выкладывая на стол свои нелепые самодельные книги.
— Да где же они, дьяволы? — ворчал он.
Ренат вежливо помогал старику доставать тяжёлые фолианты.
— Единого-то чертежа у меня нет, — сказал Ремезов, переворачивая толстые листы книги, — но из разных можно составить понимание.
— Посмотри, Гита, — по-шведски предложил Ренат.
Бригитта тоже подошла к столу, к книге, освещённой лучиной.
— Вот глядите. Это Ямыш-озеро и Доржинкит на Ир-тыш-реке, — длинный палец Ремезова ткнул в рисунок странного города. — Дале Барабинская степь до Ишима.
Дале полуночный предел Тургайской степи, и через вершины Тобола на Яик. По Яику — полуночная граница Бухарских степей. А затем — Общий Сырт и Волга. Вот она щепится на себя и Ахтубу, а вот Астрахань.
— Зачем мне это видеть, Хансли? — тихо спросила Бригитта по-шведски.
— А ходил ли кто от Доржинкита до Астрахани?
— Ха! — возмущённо воскликнул Ремезов. — Так калмыки же и ходили! Всем народом! Когда тайши Хо-Ор-люк и Далай-Батыр их из Джунгарии вывели, они свои улусы на Барабе держали, с татар ясак драли. Потом тайши меж собой рассорились, как это у калмыков завсегда ведётся, а Орлюк ещё и с нашими воеводами сцепился. Ну, и решил он все свои дымы вслед за солнцем влечь. Пошёл на Тургай, на Яик, на Общий Сырт. Ограбил кочевья каракалпаков, казахов, башкирцев, ногайцев. В конце концов его кибитки докатились до Рын-песков, до горы Богдо и Ахтубы. Это уже, почитай, где Астрахань. Орлюк-то Волгой не напился, переправился на другой берег и попёр на Терек. Там-то, в Кавказийских горах, ему башку и срубили.
— А джунгары калмыкам кто? Братья? — Ренат тщательно выговаривал эти головоломные русские названия народов.
— Братья и по крови, и по духу. Только год от года бьются друг с другом. Но им это не за обиду.
Ренат смотрел на чертежи с напряжением человека, который пытается за один раз запомнить множество сведений. Бригитта начала догадываться, зачем Ренат взял её с собой. Ремезов должен убедить её поверить Хансли.
Уже на улице, у ворот подворья Ремезовых, Бригитта сказала:
— Ты можешь объяснить мне всё это, Хансли?
— Я не вправе сообщить всего, но поверь мне, — Ренат мрачно смотрел в сторону. В конце заснеженной улицы с высокими заплотами и наезженными колеями возвышалась деревянная колокольня с шатром. — Через год, Гита, мы можем оказаться в городе степняков. Вдвоём, без твоего мужа. Свободные. И степняки помогут нам через все эти степи добраться до калмыков. Калмыки отведут нас к границам Турции. А Турция — союзник Швеции. И мы вернёмся домой. Не скоро, но вернёмся.
— Я увидела, насколько бесконечен этот путь, Ханс-ли, — честно ответила Бригитта. — Я убеждена, что следовать этим путём — безумие.
— Ты можешь остаться, — сухо сказал Ренат.
— Конечно, я пойду за тобой, Хансли.
И вот сейчас, осенью 1715 года, он на Ямыш-озере. Его путь начался. Вернее, его путь начался, когда войско Бухгольца вышло из Тобольска.
Войско поднималось вверх по Иртышу. Шесть десятков дощаников и объёмистых лодок растянулись на четыре версты. Солдаты сидели на вёслах, а при попутном ветре поднимали паруса. По берегу, то приближаясь, то отдаляясь, двигался табун в тысячу голов. Плыть было трудно, однако солдатам нравилось. Бритые лица, мундиры, воинское равенство и дорога объединили русских и шведов, и драк не случалось. И справа, и слева стояла тайга, то вознесённая на длинных и крутых ярах, а то вровень с тёмной водой Иртыша. Летнее пекло только раз пересеклось быстрым ливнем. На ночлегах вместо шатров раскладывали костры-дымокуры от гнуса и спали на земле.
Последним русским городом на пути была Тара. До неё войско доползло в начале августа. Бревенчатый острог, колокольни и луковки, обширный посад, обнесённый валом, россыпь татарских юрт… В Таре войско получило ещё полторы тысячи лошадей. Здесь для солдат отслужили молебен.
За Тарой глухая жара ослабла, а хвойная тайга посветлела, пробитая лиственными деревьями. Приближалась осень и приближалась степь: её дыхание разрывало плотную тайгу, открывая обширные луговины. Когда над Ир-тышом потянулись стаи перелётных птиц, берега преобразились: ивняк, берёзы, липы и рябины пожелтели и покраснели. На большом перекате возле устья реки Омь солдатам впервые пришлось тащить суда на руках. Переправа заняла целый день. Бухгольц ходил по берегу, осматривался и размышлял. Перекат служил бродом, по которому джунгары перебирались через Иртыш в набеги на Барабинскую степь; так в Тобольске Бухгольцу пояснил Ремезов. Приказ государя требовал от полковника построить на пути от Тары до Яркенда не меньше пяти крепостей. Здесь, на Оми, для крепости было самое место: защита брода. Однако возведение ретраншемента отняло бы неделю, и пришлось бы оставить здесь гарнизон. А ведь будет ещё и крепость на Ямыше, где намечена зимовка, и в ней тоже следует оставить гарнизон для охраны соляного промысла. И Ямыш-озеро — только половина пути до Яркенда. Натыкаешь везде крепостей с гарнизонами — и придёшь в Яркенд с одним бата-лионом вместо двух полков. Бухгольц решил строить крепости на обратном пути. Не стоит распылять силы, пока не достигнута главная цель.
За устьем Оми стало ясно, что Иртыш течёт уже по степи, а не через леса, хотя повсюду ещё виднелись обширные облетающие рощи. Осенняя степь пылала яркой медью. Над ней, медленно вздуваясь и клубясь, плыли бесконечные тучи; землю то и дело подметали дожди. Они смывали, смывали медь, и пространство теряло краски. К концу сентября степь во все стороны стала серой и бурой. 1 октября с головной лодки прозвучал гулкий выстрел: это дозорные увидели на берегу высокий крест — знак Ямыш-озера.
От Иртыша до Ямыша было четыре версты. Солдаты вытащили свои суда на прибрежную луговину и перевернули их вверх днищами. От Ямыша до Яркенда войско двинется пешком. Но этот марш начнётся только весной, а сейчас требовалось позаботиться о зимовке. В двух верстах от Иртыша Бухгольц указал место для ретраншемента. Оглядывая степи, Ренат подумал, что здесь можно умереть с тоски, пускай даже вокруг два полка, артиллерия и табуны. Штык-юнкеру Юхану Густаву Ренату не было так тягостно даже в одиночестве таёжной корчмы под Тобольском.
…Дозор, в котором ехал Ренат, огибал озеро и приближался к брошенному лагерю степняков. Там стояли коновязи, покосившиеся плетёные загородки и две юрты из драных шкур, в прорехах которых виднелись решетчатые стенки. Ренат знал, что на Ямыш-озере русские и степняки ежегодно летом устраивают ярмарки. На противоположной стороне имелся такой же заброшенный лагерь русских с балаганами, покрытыми гнилым камышом.
— Тяжело жить, когда соль необходимо добывать так далеко от дома в таких вот озёрах… — заговорил было Игго Берглунд.
Одна из юрт вдруг словно взорвалась: через прорубленный выход из юрты вырвался наружу всадник и сразу кинулся прочь, нахлёстывая коня. Это был степняк. Откуда он взялся, что здесь делал и почему спрятался?
— За ним! — тотчас крикнул ротмистр Берент Кунов, командир дозора.
Драгуны сорвались в погоню.
Степняк припал к шее коня, а драгуны привстали на стременах. Ренат тоже скакал вслед за ними, хотя ему, артиллеристу, не имело смысла даже пытаться поспеть за передовыми драбантами — лучшими всадниками, лучшими воинами короля Карла. Пусть и пленные, драбанты в любом деле всё равно оставались лучшими. Русские брали у них уроки сабельного боя.
Игго первым настиг джунгарина. Ловкий степняк сразу перевесился на одну сторону своего коня, чтобы его не выбили из седла и не закололи пикой. Игго на всём скаку вытянул из ольстры — седельной кобуры — заранее заряженный двуствольный пистолет. Без всякого колебания он выстрелил джунгарскому коню в голову. Конь полетел с копыт, а степняк покатился по жухлой траве. Драгуны сразу окружили его, держа сабли наготове.
— Не руби! — отчаянно закричал джунгарин по-русски. — Не руби!
Ренат с холодным любопытством разглядывал степняка. Кожаная шапка с длинными ушами, большой запашной халат, кушак, кожаные штаны, сапоги с острыми и загнутыми носами. Тёмное скуластое лицо, узкие глаза.
— Разведчик, — понимающе сказал ротмистр Кунов и усмехнулся: — Наконец-то дикари заинтересовались нами. Доставим в ретраншемент.
Ретраншемент — земляная крепость — был достроен уже на три четверти. Солдаты выкопали рвы и отсыпали квадрат из валов-куртин с четырьмя бастионами по углам. Ворота в ретраншементе имелись только одни. Их прикрывал треугольный редут из валов пониже, тоже окружённый рвом. Внутри укреплений зияли длинные ямы для казарм и цейхгауза. Однако работы оставалось ещё много. Солдаты покрывали скаты валов срезанными пластушинами дёрна и прикрепляли его, втыкая длинные деревянные спицы. Весной дёрн прирастёт, и земляной ретраншемент не расползётся под дождями даже за сорок лет. Разобрав несколько дощаников, работники сооружали кровли над казармами и цейхгаузом, сколачивали ворота и барбеты — боевые площадки на бастионах и редуте, где потом встанут пушки. Множество солдат плели из лозняка сетки — будущие стены землянок, вязали толстые снопы из прутьев — фашины, которые будут установлены в ряд на гребнях куртин. Огромная взрытая стройка выглядела как свежевспаханное поле с гомонящей стаей грачей. Солдаты катили тачки, тащили доски и брусья: офицеры ходили с большими угломерами или с мерными верёвками, намотанными на локоть; чёрная, вывернутая из глубины земля истекала тёплым паром; дымили костры. Поодаль виднелся табун. Бухгольц объезжал строительство верхом; конь до брюха был перемазан грязью; в грязи были и ботфорты Бухгольца с высокими крагами, и ножны сабли.
— Господин Ожаровский, вы завершили трамбование эскарпа на западной стороне? — спрашивал он в одном месте.
— Так, Ыван Дмытржэвич. Утоптаныи плотны, яко на плацу. Провьерил на багынет — клинец не вошьол йи до сэрэдзыны.
— Каков уклон откоса, господин Шторбен? — спрашивал Бухгольц в другом месте.
— Две трети от прямого, господин полковник. Для конницы довольно.
Бухгольц двигался дальше.
— Рогатки готовы, господин Демарин?
— Гвоздей не хватило. Послал сержанта тягать из судов.
— Господин Кузьмичёв, вы подумали относительно апрошей?
— Предполагаю их излишними, Иван Дмитриевич. Снегом забьёт.
Ротмистр Кунов направил коня к Бухгольцу. Дозор ехал за командиром.
— Господин полковник! Я осмотреть озер! — отрапортовал Кунов по-русски. — Лес не иметь. Иметь много… э-э… трауэнверде…
— Плакучая ива, — перевёл находящийся рядом Кузьмичёв. — Ивняк.
— Да, — согласился Кунов. — И добавок много каммич.
— Камыш, — поправил Кузьмичёв.
— Что ж, ясно, — кивнул Бухгольц и указал пальцем: — А сие кто?
— Взять в плен на озере. Который смотреть тайно.
— Лазутчик, — подсказал Кузьмичёв.
Изловленный степняк стоял среди всадников дозора. Его руки были связаны, а верёвку держал Игго Бер-глунд.
Офицеры подходили поближе, чтобы посмотреть на первого пленника.
— Он говорить русский, — сообщил ротмистр Кунов.
— Ты кто? — с коня спросил Бухгольц, глядя на степняка.
— Я Бямбадорж, каанар зайсанга Онхудая!
— Тарабарщина, — поморщился Бухгольц, ничего не поняв.
— Его зовут Бямбадорж, Иван Митрич, — объяснил поручик Демарин. Он помнил рассказы Ремезова о джунгарских обычаях и владениях степняков на Оби. — По их меркам, он знатный человек, охранник при местном князе Онхудае. Этот Онхудай владеет всем здешним улусом и держит свою ставку в городе Доржинките в двух сотнях вёрст отсюда вверх по Иртышу.
Солдаты вокруг побросали работу и тоже глазели на пленника.
— Ты лазутчик? — напрямую спросил Бухгольц.
— Я смотреть, кто пришёл на Ямыш. Зайсанг хотел знать. Убить, жечь, взять коней зайсанг не хотеть.
— Вот, значит, и первая весточка, — удовлетворённо сказал Бухгольц. — А я всё гадал: куда азиаты провалились? Драбант, развяжи его.
Берглунд спешился и развязал верёвки на руках степняка. Потирая запястья, степняк недоверчиво глядел на Бухгольца снизу вверх.
— Ты — гость! — громко и внятно, словно глухому, объявил Бухгольц каанару Бямбадоржу и обвёл рукой строительство деташемента. — Ходи, где хочешь, смотри всё. Мы не враги. В твой город мы не идём. Здесь мы перезимуем и пойдём в Яркенд. Понимаешь меня?
Бямбадорж заулыбался и кивнул.
— Иван Григорьич, — обратился Бухгольц к Демари-ну, — сделайте ему визитацию ретраншемента. Ничего не укрывайте, на вопросы ответствуйте искренно. Потом накормите кашей, дайте шапку в подарок и пускай выберет себе любую лошадь.
— Слушаюсь! — Демарин шагнул к степняку и дружески хлопнул его по спине. — Пойдём, каанар, покажу нашу крепость!
— Эй, как тебя, Бамбар… дож, — окликнул Бухгольц. — У твоего князя есть люди, которые письменно читать по-русски в способности?
— У зайсанга много умелых русских невольников! — заявил степняк с простодушной гордостью.
Бухгольц хмыкнул и покачал головой.
— Митрофан Гаврилыч, — он глянул на поручика Кузьмичёва, — отпишите письмо для ихнего князя. Так, мол, и так, идём в Яркенд, намерения на баталию не имеем, словом, сами знаете. Письмо принесите мне под печать.
— Будет исполнено, Иван Митрич. Пускай Тарабу-кин мне бумаги даст.
Солдат Тарабукин был ординарцем Бухгольца.
— Тарабукин, поди дай.
Ренат потихоньку отъехал в сторону и направился к батарее.
Орудия были выстроены на будущем плацу ретраншемента в три ряда. Вокруг суетились артиллеристы в шапках-бомбардирках, красных камзолах без рукавов и полосатых чулках-цунках, перепачканных в грязи. Канониры и фузелёры ключами подтягивали болты и молотками подстукивали заклёпки на лафетах; приподняв стволы, мазали коломазью окованные железными шинами вертлюжные гнёзда; в нужном порядке укладывали в длинные колёсные тележки свои инструменты: правила, ганд-шпиги, пальники и шуфлы. Зарядные доставали из ящиков ядра, гранаты и стаканы с картечью, чтобы поменять под ними венчики из слежавшейся ветоши, иначе у снарядов тонкие запальные трубки из меди утыкались в днища ящиков и сминались.
Ренат думал о тайном поручении губернатора Гагарина. Под одеждой на груди у него висела золотая пайцза. Он должен вручить её джунгарскому князю — зайсангу. Но если этот каанар, лазутчик, привезёт зайсангу письмо от Бухгольца с заверением о мире, зайсанг, быть может, и не потащится за сто вёрст к ретраншементу, чтобы всё узнать самому. Быть может, он вообще куда-нибудь надолго откочует. Как же тогда передать ему пайцзу?
Артиллерией у Бухгольца командовал старый лейтенант Сванте Инборг. Он сидел на станине лафета и курил трубку. Из-под белых усов шёл дым.
— Господин лейтенант, — обратился к нему Ренат. — Дозвольте снова отлучиться с батареи.
— А в чём причина, штык-юнкер? — медленно спросил Инборг.
— Я был в дозоре с ротмистром Куновым. Мы гнались за лазутчиком. Я обронил шляпу. Хочу вернуться за ней.
— Обмундирование следует беречь, — наставительно сказал Инборг. — Разрешаю отлучку, штык-юнкер. По возвращении отчитайтесь.
В рекогносцировочных доездах Ренат уже изучил ближние и не очень ближние окрестности ретраншемента. Он знал, где надо ждать джунгарина — в небольшой глинистой лощине верстах в трёх от русских судов. В свой Доржинкит джунгарин отправится берегом Иртыша вверх по течению. Он не минует этой лощины. Туда Ренат и поскакал.
Он сидел в седле, смотрел по сторонам и ждал степняка. Над головой желтело тоскливое и пустое небо. Ренату совсем не нравилось то, что он задумал. Но это надо было сделать. В своей судьбе после плена он всё время отступал от жестокого выбора, отступал, отступал. Он не убил Цимса, когда никто бы и не дознался про убийцу, а в итоге оказался в таёжной корчме. Он не убил Дитмера — и попал в такую неволю, с которой и плен не сравнится. И вот он здесь — в степи, за полторы тысячи вёрст от Бригитты. Если он снова отступит, то потеряет и Бригитту, и жизнь. Князь Гагарин не простит ему неисполненного задания. Что ж, надо сделать этот шаг. Надо.
Конный джунгарин появился на краю лощины и начал осторожно спускаться. Ренат тронул коня и поехал ему навстречу. На голове у степняка была нахлобучена русская треуголка, к груди степняк прижимал русский горшок — видимо, с кашей в дорогу. Степняк заулыбался Ренату, и Ренат тоже улыбнулся ему, возненавидев себя за эту подлую улыбку.
— Здравствуй, орыс! — поравнявшись, сказал степняк. — Я друг!
— И ты здравствуй, — глухо ответил Ренат.
— Баярлалаа, орыс! Тёплой зимы тебе!
Степняк не спеша поехал дальше. Ренат развернулся в седле, доставая из-под полы камзола приготовленный пистолет, и выстрелил степняку в спину. Джунгарин упал лицом на шею лошади, лошадь испуганно прыгнула, и джунгарин боком вывалился из седла. Он шлёпнулся на мокрую землю, и рядом шлёпнулся горшок. Горячая каша поползла из горшка в грязь.
Глава 12 Русская ГЕКАТОМБА
Эти лодки — длинные, узкие и лёгкие — назывались насады. Они лучше прочих были приспособлены для передвижения по малым извилистым рекам или по большой реке против течения. Табберт, чьё детство прошло у гавани балтийского Штральзунда, полагал, что удобнее пользоваться распашными вёслами, но русские предпочитали шесты с окованными наконечниками. Русские весьма искусно управлялись с этими неказистыми орудиями, хотя на Тоболе, многоводном по осени, насады перемещались преимущественно вдоль берегов, где было неглубоко, чтобы шесты доставали до дна.
Под командованием капитана Филиппа Табберта фон Страленберга находилось тридцать человек: уволенные губернатором комбатанты, которых называли служилыми, также казаки, и ещё волонтёры, по-русски — «охочие люди». Конечно, сей отряд — не баталион и даже не рота, однако всё равно воинское подразделение, исполняющее тактическое задание. А иметь хоть какое-то дельное задание — большая удача в скуке русского плена. Табберт был признателен губернатору, который вспомнил о нём, когда потребовался офицер, чтобы возглавить небольшую гишпедицию против беглых крестьян.
Перед отправлением Табберт привёл в порядок свой мундир: заплатил хозяйке своего дома, чтобы она заштопала и отгладила камзол, рубашку, кюлоты и чулки, начистила пуговицы, пряжки и горжет, размягчила ремни в тёплой воде и смазала их деревянным маслом. Пистолеты и шпагу он отдал на проверку в оружейную мануфактуру мастера Пилёнка, а ботфорты отнёс к сапожнику на починку. Впрочем, вряд ли в этой гишпедиции ему придётся стрелять или сражаться, а мундир не соответствовал погоде сибирской осени.
Но Табберту всё равно нравилось. Ему нравилось командовать. Он сам выбирал места для биваков на берегах, пускай даже его подчинённые были недовольны, желая ночевать в попутных деревнях. Он расставлял караулы, невзирая на то, что здесь некому было нападать на его отряд. Он взыскивал провиант от старост в слободах. Каждое утро он проводил построения и принимал рапорты от караула и отчёты о состоянии оружия и лодок.
Табберт четыре года просидел в Тобольске безотлучно, и вот наконец-то границы его мира раздвинулись. Он прекрасно помнил ландкарту Тобола, которую так тщательно копировал из рукописей Симона Ремезова, и сейчас умозрительный чертёж животворно наполнялся содержанием. Табберт словно бы осматривал свои владения. Все названия, все объекты были здесь уже знакомы ему, и поэтому он странным образом ревновал к людям, что жили по берегам Тобола в слободах и деревнях: они поселились на его карте без дозволения, как в подвале дворца без дозволения хозяев заводятся мыши.
В насаде вместе с Таббертом плыли два казака и сыновья Симона Ремезова — Симон-младший и Леон. В самом начале гишпедиции Табберт отвёл их в сторону и предупредил, что дружеские отношения остались в доме их отца, а здесь он — командир, и называть его надо «господин капитан».
— Как скажешь, господин капитан, — покладисто согласился Леонтий.
А Симон сохранял мрачную и напряжённую сосредоточенность. Как командир, Табберт должен был следить за боевым духом своих солдат.
— Что иметь твой брат? — осторожно спросил он у Леона так, чтобы Симон не слышал. — Я не видеть его прежде столь… э… чужой людям.
— Сенька всю душу истерзал. В Чилигино у расколь-щиков — его баба. Она с единоверцами сбежала. Сенька боится, что не успеет из гари её выхватить.
— Скажи Симон, мы успеть, — покровительственно пообещал Табберт.
Разумеется, он слышал о расколе. Семьдесят лет назад русская церковь претерпела большую реформу, но часть православных не приняла новшеств. Эти несогласные были названы раскольниками. Власть преследовала их, а они бежали на дальние и неосвоенные окраины державы. В приверженности старым порядкам они были настолько упорны, что иной раз даже устраивали добровольные самосожжения. Таёжные аутодафе были весьма необычными и любопытными явлениями. Впрочем, их дикарский характер не вызывал у Табберта сомнений. Скажем, прекраснодушный Курт фон Врех был склонен видеть в раскольниках некий русский аналог протестантов, но Табберт с Куртом не соглашался. Европейская Реформация влекла за собой огромные изменения: папа лишался власти, монастырские земли переходили коронам, создавалась новая система церковных иерархий, отличная от католической, и так далее. Однако русская реформация не вызвала особых перемен. Русское церковное византийство после реформ оставалось таким же полновластным и пышным, каким было и прежде, и лишь незначительно отличалось в обрядах. Здравомыслящий человек примет эти отличия без сопротивления: не всё ли равно? Но русские фанатики согласны были погибать за форму креста или за произношение пары звуков в Символе веры. Это было признаком варварства. А варварство возбуждало чрезвычайный интерес, и Табберт был убеждён, что впечатления этой гишпедиции пригодятся ему для будущих трудов.
Под осенней моросью насады поднялись вверх по тёмному Тоболу и свернули в устье притока — в Чилиж-ку. Летом, в межень, лодки не смогли бы пройти по извилистой речонке, зажатой густым тальником и глухо заросшей по мелководью какими-то лопухами, а сейчас дожди наполнили Чилижку и очистили русло. Насады, словно щуки, вереницей скользили по узкой речке, усыпанной выцветшей палой листвой. От Тобола до Чилигино по прямой было десять вёрст, а по речным петлям — полтора дня ходу.
Их заметили раньше, чем сами они обнаружили Чилигино. Мальчонка, что сидел в кустах с удочкой, тихо пополз от речки, выбрался из зарослей и во всю прыть дунул через луговину к деревне.
— Мамка! Солдаты! — кричал он. — Мамка! Антихристы!
Чилижка привела насады в деревню. На отлогом берегу стояли бани, портомойни и жердяные сушила, вверх днищами валялись лодки-шитики, в воду заходили дощатые мостки на сваях. Насады мягко выехали на песчаную отмель. Служилые и казаки выбрались на замусоренный приплёсок.
Поодаль виднелись дома, амбары и ограды. Табберт заметил, что за домами и заборами мелькают люди в странных белых одеяниях. Где-то стучала железная колотушка. Табберт понял, что им не удалось захватить деревню врасплох. В небе плыли хмурые осенние тучи, и в красных рябинах шумел ветер. Его порыв донёс с улицы заунывное нестройное пение:
— Исусе, храме предвечный, покрый мя. Исусе, оде-ждо светлая, украси мя; Исусе, бисере честный, осияй мя. Исусе, каменю драгий, просвети мя; Исусе, солнце правды, освети мя…
— Лёнька, они уже саваны надели, — помертвев, сказал Семён Леонтию. — Им зажечься — только искру сронить…
Где-то там, в толпе раскольников, облачённых в погребальные одежды, к месту скорой гари шла его Епифания: просторный саван холодил её нагое тело, босые ноги ступали по ледяным лужам, ветер трепал хоругви.
— Перехватим, — ответил Леонтий, хотя и сам не очень верил в это.
— Зарядить ружья! — бодро распорядился Табберт.
— Надо «згорелый дом» отбить!.. — Семёну невыносимо было ждать, пока воинская команда изготовится. — Где он? Который?
— Не иначе как храмина, — сказал Леонтий. — Вон шатёр торчит.
Служилые и казаки торопливо заряжали мушкеты.
— Идут до нас какие-то! — вдруг крикнул один из казаков.
Из проулка от ближайшего подворья к отряду Табберта направлялась небольшая процессия раскольников — человек десять. Впереди шагали двое в белых балахонах и с иконами в руках, за ними — мужики с косами и вилами.
— Парламентёры! — догадался Табберт, вытащил из-за отворота камзола платок и красиво взмахнул им над головой, приглашая к переговорам.
Раскольники остановились.
— Благоволи выслушать, изволь ответить, — сурово произнёс один из них.
— Я весь внимать! — благосклонно улыбнувшись, пригласил Табберт.
Служилые и казаки смотрели на раскольников недоверчиво. Вдали по-прежнему тревожно стучало било, словно сердце деревни Чилигино.
— Господин капитан, нельзя время терять! — негромко сказал Леонтий.
— Возможен быть, крестьян, который здесь, сам выдать нам беглец, — снисходительно пояснил Леонтию Табберт.
Он не исключал, что здешние мужики, не вступая в оборону от воинской команды, откупятся теми, кого прежде укрывали. Это было бы разумно. Хотя в глубине души Табберт всё же надеялся увидеть настоящую гарь. За этим опытом он и явился сюда, в Чилигино.
С иконами к отряду Табберта пришли братья Саул и Навин.
Саул откашлялся в кулак.
— Священника бо дело обличити, а молчание вражда Богу и человеком, — сказал он. Это были слова из челобитной Никиты Пустосвята, заученные им от отца Авдония. — Понеже и врачом достоит с прилежанием прилагати пластырь тамо, идеже есть телесная язва, воином же воздвизати оружие и ополчатися крепко тамо, идеже есть супостатная брань, а кормчим искусство хитрости своея показывати во время зимы и ветря-наго волнования…
Табберт свысока улыбался, поощряя раскольника, хотя не мог уловить смысла слов на этом причудливом изводе русского языка.
— Попречник! — догадался Леонтий.
— Зубы заговаривает, пока там подпаляют, — зло сказал кто-то из казаков.
— Такоже и священником лепо о правых догматах по-борати во время церковные скорби и находящаго на ню бурнаго противления, сирень правыя и непорочныя веры повреждения, — продолжил за Саулом Навин.
В деревне стучало, стучало дошатое било. Семён знал, что там одноглазый дьявол Авдоний загоняет в «згоре-лый дом» насмертников — баб, даже тех, что с младенцами, парней и девок, детишек, стариков. А с ними и Епифанию.
Семён упал на одно колено, поднял заряженное ружьё и выстрелил. Саул изумлённо уставился на две половинки иконы у себя в руках — пуля расколола икону пополам и пробила ему грудь. Саул рухнул.
— Не сметь! — яростно взревел Табберт.
Но его не послушали. Грохнул ещё выстрел, и Навин тоже повалился. Чилигинские мужики, сопровождавшие попречников, на мгновение замерли, а потом молча повернулись и кинулись прочь в проулок.
— В храме гореть будут! — крикнул Леонтий. — Давай туда!
Служилые бросились за чилигинцами, не ожидая приказа командира.
— Стоять! — Табберт выхватил пистолет. — Стоять!
Он ничего не понимал. В гневе он был готов выстрелить по своим — но всё же не выстрелил, бессмысленно подняв ствол пистолета к пасмурному небу. Что происходит? К ним явились парламентёры — это начался торг об условиях капитуляции!.. Почему же служилые убили посланцев? Сие какие-то недобрые хитрости русской жизни, о коих он не осведомлён?..
Проулок, который вёл с берега на площадь, где стояла церковь, был основательно перегорожен: между крепкими заплотами подворий чилигинцы вкопали частокол. В нём оставался проход, однако там толпилась охрана — другие мужики с вилами и косами на ратовищах. Похоже, чилигинские раскольники готовились драться врукопашную. Мужики, что пришли с попречниками, спасаясь от служилых, неслись к проходу в частоколе.
Табберт на бегу подумал, что атакующим надо остановиться: командир должен изложить им план взятия прохода на приступ. Крестьянская оборона не выдержит правильно организованного штурма. Но служилые гнались за мужиками и без колебаний стреляли в спины. Табберт догадался: служилые хотят с разгона смять сопротивление крестьян у ограды, чтобы прорваться на площадь и перебить всех, кто попытается поджечь церковь. В приказах Табберта служилые не нуждались: этот швед не знал, как устроена гарь, а они знали и действовали на опережение. Табберт понял, что он тут лишний.
Пальба и вид убитых мгновенно развеяли решимость обороняющихся. Чилигинские мужики отскочили от частокола и помчались к площади. У них не получилось ни прений с антихристами, ни пружания, — весь порядок, замысленный Авдонием для Корабля, сломался. А служилые не отставали.
Вокруг церкви заполошно суетились те, кого ещё не загнали внутрь: отбившиеся дети в маленьких саванах; испуганные девки, в последний миг отпрянувшие от райских врат; неуклюжие старики и старухи, что запутались непослушными ногами в подолах смертных одежд и упали на полпути. Кто-то рыдал, кто-то отчаянно вопил, кто-то выкручивался из цепких чужих рук. Мужики-раскольники подхватывали отставших и тащили к храму, взашей толкали вверх по крутой лестнице висячего крыльца. Бревенчатая церковь, грозно раскинув тесовые крылья кровель, вздымалась над вытоптанной площадью, словно огромная птица, которая приземлилась здесь только на мгновение, чтобы подобрать птенцов, и готова тотчас взлететь в небо.
Служилые ворвались в белую толпу насмертников, как волки в стаю лебедей; не разбирая, ударами прикладов они валили на землю всех подряд: пусть избиты, зато не сгорят. Церковь понизу была обложена валом из дров, хвороста и соломы, и кое-где этот вал уже густо дымил; служилые хватали брошенные мужиками вилы и отгребали подожжённые кучи от стен. Леонтий увидел, как за угол храма нырнул брат Сепфор с огневищем в руке; Сепфора Леонтий помнил по Тобольску. Леонтий метнулся за раскольником, но опоздал: Сепфор, торжествуя, сунул своё огневище в узкую щель волокового окошка. Конечно, наглухо заколоченный подклет церкви тоже был заполнен дровами и соломой, и загасить в нём пожар уже никто не смог бы. Леонтий вскинул ружьё к плечу и безжалостно выстрелил Сепфору в лицо.
Табберт вышел на площадь, опустив пистолет, и просто наблюдал. Гнев его сменился глубоким недоумением: Табберт не знал, что ему делать. Он окунулся в самую гущу русской жизни — и оказался чужим и бесполезным.
В суматохе служилые оставили без внимания высокое крыльцо храма — никто не сомневался, что насмертники уже заперлись внутри, а оттащить горящие дрова сейчас было важнее. Но дверь под навесом крыльца вдруг приоткрылась. На лестницу с топором в руке скользнул брат Пагиил; он упал на колени и принялся рубить опорное бревно-косоур — если его перерубить, то лестница обрушится, и высокое крыльцо окажется недоступным, как птичье гнездо на дереве. В проёме двери появился Авдоний. Усмехаясь, он оглядывал площадь: с борта Корабля кормчий прощался с берегом.
Авдония увидел только Семён. Его мушкет был пустой после выстрела по Саулу. Семён бросился к Таббер-ту и рванул у него из руки пистолет. Табберт растерянно выпустил оружие, отступая перед ошалевшим Ремезом.
— Заряжен? — бешено спросил Семён.
— Так, — кивнул Табберт.
Семён вытянул руку и прицелился в Авдония, но, ругаясь, перевёл ствол на Пагиила и выстрелил. Пагиил мешком свалился с крыльца на землю. Авдоний замер в проёме, осознавая случившееся, потом отшагнул назад и захлопнул дверь. Всё, его Корабль отплывает.
— Заколачивай! — приказал Авдоний Хрисанфу.
Хрисанф перекрыл дверь толстой доской и обухом топора принялся вбивать большие плотницкие гвозди длиной в полторы пяди. Никто из насмертников не сумеет отодрать такую доску и распахнуть дверь.
Церковь была полна народу. Детский плач, торопливый шёпот, кашель, молитвенный бубнёж и стоны сливались в сплошной гомон. Сквозь щели меж половицами уже курился дым, и всё вокруг заволакивала душная мгла. Авдоний расталкивал людей, пробираясь вглубь храма. Душа его вздувалась, как парус, в каком-то страшном вдохновении.
— Мы успели, братия! — голос его легко перекрывал шум. — Возлетаем! Корабль наш солдаты окружили — се беси! Они на главах рога прячут под мертвяковыми волосами! У них кафтаны куцые, дабы змеевитие хвостей не сковать! У них на стопах верзни аршинные, дабы копыта уместить! Они глаголят, как лают, а из пастей серный дым смердит! Обаче беси на ны не посягнути, ибо зде твердыня веры истинной, и не отвергнемся от нея!
— Надолго ли мука наша? — страдальчески спросила какая-то баба.
— Ненадолго, сестра! — широко улыбнулся Авдоний, будто ощерился. — Малый миг стерпи, и купно воспарим, как стая голубиц! Нам на небеси уже светы возожгли неизъяснимые, апостол Петр у райских врат ключами звенит, слышишь? — Авдоний наклонил голову, вглядываясь бабе в лицо. — Все на колена воздвигнитесь и молитесь! — закричал он, поворачиваясь направо и налево. — Сей час купель огненная на нас опрокинется, тягота земная от нас отыдет, дух возвеется, и вознесемся бестелесно в объятья божии!
Насмертники вокруг него опускались на колени, обнимая друг друга.
А снаружи Семён подобрал топор Пагиила и взлетел по лестнице на висячее крыльцо. Он толкнулся в дверь, чтобы убедиться — здесь заперто, и сразу обрушил топор на косяк, прорубаясь в церковь. Из-под двери полз дым, за досками слышались голоса — жуткие, будто из могилы. Рядом с Семёном уже не было места для другого человека, и три казака, чтобы не мешать, отступили вниз по лестнице, готовые броситься в храм, едва дверь упадёт.
У крыльца толпились служилые, вокруг церкви валялись избитые или убитые люди в саванах, из рук Леонтия вырывался парень в погребальном балахоне — Малахия, товарищ Леонтия по джунгарскому плену.
— Пусти меня! — выл он. — Пусти! Алёнушка моя! Меня забыли!..
Табберт смотрел, как Семён крушит дверь, и его пробрал озноб. Капитан Табберт нутром почувствовал, какой запредельный ужас сейчас запечатан в бревенчатой коробке церкви. Две стены её уже покрылись прозрачным бегучим огнём, а с третьей стороны от подножия храма из окошек подклета валил дым. Табберт снял треуголку и перекрестился дрогнувшей рукой.
Дым уже заполнил всю церковь изнутри; надрывались младенцы, в голос ревели дети. Авдоний прижимал к себе Епифанию, и она слышала, как у Авдония в груди что-то клокочет — то ли кашель, то ли смех. К Авдонию сквозь толпу пролез Хрисанф. Хватая кормчего за плечо, он проскрежетал:
— Внучеки мои ждут меня на небушке, я их вижу! — глаза у Хрисанфа налились кровью. — Скорблю токмо, что вертеп тобольский я не обрушил!
— Сам рухнет… — выдохнул Авдоний.
Хрисанф заглянул Авдонию в лицо, глаза у него были безумные.
— Тот вертеп — мой грех! Я за него долго сейчас умирать буду, пока до самых косточек не обуглюсь, и чашу страданий испью до дна!
— Отойди, брате!
Авдоний оттолкнул Хрисанфа, чтобы Епифания не слышала, но она слышала — и видела всё, что вокруг творится. Её колотило, и Авдоний сжимал её всё крепче. Из-под половиц вверх по бревенчатой стене вдруг плеснуло яркое пламя, освещая дощатый потолок, расчерченный длинными тяблами, и люди завопили, шарахнулись прочь от огня, в давке сшибая друг друга с ног. Завизжала и забилась девка, у которой затлели саван и коса.
— Больно вам?! — вдруг заорал Авдоний, подаваясь вперёд. — Больно?! Терпите, паскудники! Терпите, ироды! Это ваши грехи на душах обгорают!
Епифания уже не боялась умереть — ей страшно было увидеть, как люди вспыхнут заживо, но она не могла зажмуриться, не хватало сил. И огонь наконец прорвался. Всё вокруг мгновенно засияло, толпа повалилась, а над горой из людей Епифания вдруг увидела дьявола — огромного пламенного змея, который в бурлящем дыму выгибал и крутил кольца своего тела. У него была собачья голова с рогами, и он глянул прямо в душу Епифании.
В это время Семён нанёс последний удар топором, и дверь отскочила внутрь, но уткнулась во что-то мягкое. Семён упал на неё плечом, расширяя проход, и протиснулся в щель. Казаки с лестницы сунулись вслед за Семёном, но им навстречу из проёма двери попёрла вопящая толпа в саванах.
А в церкви были пекло, смятение и сплошной крик. Одна стена пылала до потолка. Люди метались, потеряв разум, роняли и топтали друг друга; бесновались, охваченные огнём, валились в шевелящиеся кучи, по которым ползли те, кто ещё мог двигаться. Семён расшвыривал насмертников с дороги, наступал на кого-то, задыхаясь, лез через упавших, как через живой бурелом. Он увидел Авдония. Авдоний стоял во весь рост и раскачивался в каком-то исступлённом упоении. У его коленей скорчилась Епифания.
— Ризою твоею облачи!.. — хрипел Авдоний. — Аллилуйя!.. Радуйся, Дево!.. Ключ от Царствия врат!.. Ника-коже отыде!.. Бога невместимого!.. Приимя мя кающа-ся!.. Ада победителю!.. Силою свыше!..
Семён за плечи дёрнул Епифанию к себе, но она ещё крепче вцепилась в колени Авдония. Тогда Семён ударил Авдония в лицо, однако тот не упал. Семён ещё раз ударил его, Авдоний покачнулся, и Семён оторвал от его ног Епифанию. Схватив за волосы, он поволок её к выходу. Авдоний остался стоять — он и не заметил, что Епифании рядом больше нет.
— Да низринется враг!.. — слышал Семён за собой сквозь вопли насмертников. — Крылия вознесенные!.. И пребуду вовеки!..
Теряя рассудок в дыму и зное, шатаясь и оступаясь, Семён не добрёл бы до двери, но откуда-то из мглы и бреда вдруг вынырнул Леонтий.
— Её возьми… её… — сипел пересохшим горлом Семён, переваливая на руки брата обвисшую Епифанию.
— Да что же ты за дурак, Сенька! — простонал Леонтий, принимая ношу.
Капитан Филипп Табберт фон Страленберг с площади наблюдал за этой русской гекатомбой в таком смятении чувств, какого не испытывал даже в битве под Полтавой. Война есть война, а тут — чудовищное извержение человеческого страдания, неукротимой веры и варварского самозверства. Конечно, он, швед, был здесь чужой, но он видел всё это своими глазами, и перед ним разверзлись такие глубины жизни сего народа, какие невозможно вообразить или измыслить. Если ему дорого христианское человеколюбие, он должен рассказать миру о своих открытиях. Конечно, эта история будет грозным предостережением от дикости нравов — но здесь, пред огнедышащей церковью, она вызывала в нём противоестественное восхищение.
Табберт смотрел, как его казаки и служилые вытаскивают людей из горящего храма — обожжённых, ополоумевших мужиков, баб и детей в обугленных лохмотьях. И у Табберта перехватило горло, когда он подумал, что, может быть, впервые в жизни видит, как одни люди спасают других, а не убивают их в сражении, не принуждают в работах и не обманывают на торжище. Ради такого духовного опыта стоило претерпеть лишения плена.
А потом крыша храма с пылающей главкой, затрещав, осела внутрь; вверх с гулом выдуло блистающее облако искр; освобождённый огонь взметнулся из сруба столбом и поглотил шатровый пик колокольни. На месте церкви ярился исполинский костёр, в котором таяли бревенчатые углы, сложенные в обло. В сыром осеннем воздухе, мешаясь с водяным паром, дым заклубился в непонятном гневном возмущении, и показалось, будто над пожарищем всплывает огромный невесомый парусник.
Глава 13 Степное чудовище
Разделённые десятью саженями пустого пространства, ворота редута и ворота ретраншемента глядели друг на друга. Днём их держали нараспашку для удобства коммуникации — проще говоря, чтобы солдаты и офицеры ходили из фортеции в фортецию без пароля на карауле. Воинское уложение требовало пропускать через затворённые ворота только с паролем, однако здесь, в степи, это не имело смысла — все были свои, и ворота не закрывали.
Кутаясь в епанчу, Ваня Демарин вошёл в редут. Кур-зон — внутренний двор, огороженный двумя куртинами-фланкадами и горжевой куртиной, — по размеру был не больше подворья Ремезовых в Тобольске. Барбеты на фланкадах белёсо курились — это канониры щётками сметали с орудий и боевых площадок тонкую и сухую ледяную пыль. Центр курзона занимала приземистая полуземлянка цейхгауза. На её плоской крыше и по всему курзону десяток солдат в одних камзолах лопатами сгребали снег в кучи и переваливали на волокуши; другие солдаты вручную вытаскивали волокуши в степь и опорожняли. На курзоне махал лопатой и Петька Ремезов.
— Как служба, Пётр? — заботливо и строго спросил Ваня.
Петька распрямился и улыбнулся. В походе он заматерел. Продёрскую его физиономию украшали противные реденькие усишки, а башку он брил у полкового цирюльника, чтобы не заводились вши. Глубоко напяленная треуголка оттопыривала красные от мороза уши.
— Да скукота, Ванька, — с весёлой досадой сказал он.
По отношению к Ване Петька так и не научился субординации. Для него Ваня всё равно оставался постояльцем, которого батька выгнал из дома.
— В транжементе хорошо. На зерцицах тоже здорово, только стрелять дают мало. А тут, в редуте, делать ни шиша нечего. Дай трубку курнуть.
В походе Петька чувствовал себя прекрасно. Ему всё было интересно: движение по реке, строительство укреплений, ружья, пистолеты, пушки, учения, байки старых солдат. На еду Петька сроду не обращал внимания — он и дома лопал всё, что дают; спать мог где попало, лишь бы не стоя; блохи — тьфу; командиры были не страшнее батьки, когда тот начинал орать.
— Гляжу, курить пристрастился? — спросил Ваня, хмурясь напоказ.
Ему приятно было ощущать себя бывалым и требовательным офицером, который опекает неопытного новобранца. Впрочем, он и без самолюбования чувствовал свою ответственность за Петьку. Петька оказался в армии из-за него, из-за Вани, и потому он должен следить за Петькой, хотя в попечении тот нуждался не больше, чем хитрый уличный пёс, шныряющий по ярмарке.
— Солдату курить положено, и в карауле греет, — заявил Петька.
— А что, мёрзнешь? — обеспокоился Ваня.
— Кто ж в степи зимой не мёрзнет?
— Как в ретраншементе будешь, зайди ко мне в казарму. Я тебе дам пуховый платок. Оберёшь вокруг тела под камзолом — тепло будет.
— Чей платок? — тотчас спросил Петька. — Машкин?
— Матушкин. Но твоя сестра просила беречь тебя.
— Машка дура, и ты дурак, — легко обобщил Петька.
Ваня молча полез под епанчу, достал трубку и кисет, натрусил табаку и умял пальцем. Петька лукаво наблюдал за ним.
— Принести от пушкарей огоньку, господин фи-цер? — спросил солдат, что махал лопатой поблизости, а сейчас остановился передохнуть.
Ваня знал, что солдата зовут Ерофей, а прозвище — Колоброд.
— Принеси, будь другом.
— А вы мне курнуть потом дадите.
— И мне тоже, — быстро сказал Петька.
— Не обижают тебя тут? — спросил Ваня, глядя вслед Ерофею, который направился к барбету. У канониров всегда теплились фитили в фитильниках.
— Да я сам кого хошь обижу.
Конечно, Петька не обидел его, но разбередил душевную рану. Ваня часто думал о Маше Ремезовой, хотя старался не думать. Он убеждал себя, что всё в прошлом. Да, единый раз дал себе волю, склонился к девице, но всё напрасно. Ей не такие нужны. Он — воин. Он ушёл в поход отвергнутый, отринутый, и вот он далеко-далеко от Тобольска, в снежных степях, и где-то рыщут орды. Но он защитит ту девицу, быть может, погибнет, исполнив долг чести, а она пускай никогда не узнает об этом; в том и слава, в том и горечь.
Ерофей вернулся, оберегая в ладонях тлеющий обрывочек фитиля. Ваня раскурил табак, выдохнул дым и протянул трубку Ерофею.
— Дядя Ерофей научил меня саблю у врага из руки выбивать, — сказал Петька. — Доставай свою саблю, Ванька, я покажу. Считай, что лопата у меня — это ружьё с багинетом.
Петька схватил лопату и встал в стойку, нацелясь на Ваню.
— Локоть повыше, Петька, — посоветовал Ерофей, пуская дым.
— Не будем ребячиться, Пётр, — с достоинством ответил Ваня. — И без того твою выучку увижу, если доведётся в бой пойти.
— Да какой тут бой, Ванька! — разочарованно вздохнул Петька, втыкая лопату в снег. — Я-то обрадовался, когда степняки явились. Думал, война начнётся! А они сэргэ вкопали и засели у себя в юртах, как барсуки, тара-сун свой лакают из плошек. Так всю зимовку и прокукуем в транжементе! Даже не дадут пальнуть во врага!
Ваню тоже огорчало, что военных действий не ожидалось.
— Я попрошу майора Шторбена, чтобы принял тебя в ночной драгунский караул, — пообещал Ваня. — Почувствуешь хребтом, что значит боевая опаска. Она, Петя, вовсе не щекотит.
За куртиной, где-то в ретраншементе, вдруг раздался отдалённый треск барабана. В редуте все замерли, бросив работу и прислушиваясь к сигналу.
— «Го-род бе-ре-ги, И-лья-про-рок»! — прошептал Петька барабанную речёвку, которую придумал сам, а сейчас знало всё войско. — Тревога!
Из цейхгауза поспешно выбрался офицер, придерживая треуголку.
— По местам! — закричал он. — Всем построение!
— Ладно, братцы, мне пора, — заторопился Ваня.
Ерофей Колоброд ещё раз пыхнул трубкой и протянул её Ване.
— Эх, не дали покурить толком, ироды.
Ваня побежал к воротам, возле которых засуетились караульные.
Джунгары появились в окрестностях ретраншемента пять дней назад. Орда пришла из Доржинкита — больше неоткуда. Всадники со сменой лошадей, навьюченные верблюды, волокуши с поклажей, санные кибитки, овечья отара на прокорм… Высланный из ретраншемента дозор подсчитал, что степняков около трёх тысяч — немногим больше войска Бухгольца. С такими малыми силами нельзя атаковать крепость, вооружённую пушками, окружённую рвами, с рогатками на подступах, да ещё когда неоднократно облитые водой откосы куртин и бастионов покрыты льдом.
Джунгары обосновались за день: словно ниоткуда появились юрты, ограды для табунов и скота и сэргэ — вкопанные столбы-коновязи. Если степняки ставили прочные резные сэргэ, значит, они хотели остановиться на этом месте надолго. Лагерь степняков назывался юргой. От транжемента до юрги было четыре версты пустой и заснеженной декабрьской степи.
Майор Шторбен с караулом и какой-то тайша с каа-нарами встретились ровно посередине пути между ретраншементом и юргой. Майор заверил, что русское войско идёт в Яркенд мирной гишпедицией. Тайша удивился, словно в первый раз слышал об этом, но его убедили подарки — сукна, золочёные сабли и сёдла. Парламентёры разъехались, а на другой день съехались вновь. Великий зайсанг Онхудай решил поверить орысам и захотел прибыть в гости в русскую крепость. Надо было договориться о заложниках. Свою персону зайсанг оценил в десять старших офицеров. Полковник Бухгольц согласился. На рассвете назначенного дня майор Шторбен возглавил делегацию офицеров, и вот теперь из степи ехала к ретраншементу делегация джунгар.
Гарнизон, поднятый по тревоге, разглядывал степняков. Штык-юнкер Ренат стоял на бастионе возле своего орудия и хорошо видел джунгар сверху. Они показались ему мохнатыми пауками: растопыренные, в треухих волчьих малахаях, в чёрной кожаной броне, отороченной мехом, с длинными пиками, саблями, луками и щетинистыми колчанами стрел.
Поручик Демарин нёс службу у раскрытых ворот ретраншемента. Мимо него надменно проплыл грузный зайсанг Онхудай. Ваня рассчитывал увидеть в зайсанге пугающего величием степного вождя, но увидел свинорожего мужика с узкими глазами; монгольские усы и бородка тонкой чёрной нитью окольцевали презрительно изогнутый жирный рот; накладные кожаные латы топорщились, как шишка.
Зайсанг и четверо его тайшей спешились и спустились в землянку полковника Бухгольца. Бухгольц ожидал степняка со старшими офицерами из тех, кто остался после ухода заложников Шторбена: со старым майором Ионовым и капитанами Торекуловым, Ожаровским и Рыбиным. Каанары зайсанга тоже спешились и молча уселись у входа в землянку на корточки. И больше ничего не произошло. Через час офицеры скомандовали отбой, и ретраншемент продолжил жить обыденной жизнью со сменой караулов, экзерцициями на плацу и прочими привычными делами.
Короткий декабрьский день прогорал быстро, будто ворох хвороста. Холодное красное солнце коснулось горизонта, окрасив снежные равнины широким алым разливом. Приземистые бастионы отбросили длинные синие тени, словно были высокими, как лес. Дверь землянки Бухгольца наконец-то отворилась: переговоры завершились. Офицеры и джунгары выбирались наружу. Каанары зайсанга вскочили на ноги. К землянке направился поручик Каландер — дежурный по гарнизону; за ним торопились вестовые.
Бухгольц глубоко вдохнул свежий воздух — вся его землянка провоняла кислятиной кожаных одежд степняков. Полковник устал от недоверчивости и подозрительности зайсанга Онхудая. Он чувствовал, что ни в чём не убедил джунгарина, хотя честно рассказал о целях и сроках гишпедипии. Впрочем, это было ожидаемо. Для европейца война — когда армия идёт против армии, и вторжение двух полков есть куриоз, а не баталия держав. Но дикие степняки могут драться улусом против улуса, и для них оное означает войну народов. Бухгольц вспоминал слова тобольского архитектона: в степи свой закон.
Зайсанг Онхудай не спеша вышел на улочку ретраншемента, которая соединяла плац и ворота, и остановился, важно выпятив живот. Бухгольц, внутренне сокрушаясь, последовал за степняком: так на выпасе баба ходит за стельной коровой, которая ищет место, чтобы лечь и отелиться. Офицеры и джунгары пошли вслед за командирами. Онхудай заложил руки за спину, левой ладонью обхватив правое запястье. Джунгары понимали: так делает лишь тот, кто в роду главный. К закрытым воротам ретраншемента подъехал отряд из дюжины конных драгун, укутанных в кавалерийские тулупы. Караульные солдаты оттащили с пути отряда широкие рогатки и отволокли одну створку. Драгуны друг за другом выехали из крепости.
— Куда отправились твои унасаны? — спросил Онхудай у Бухгольца.
— Сие смена дозора. Всю ночь вкруг фортеции движимы разъезды.
— Ты боязливый, а я смелый, — с презрением сообщил Онхудай. — Ты покажешь мне свои стены и пушки?
— Изволь, любезный, — сквозь зубы согласился Бухгольц.
Онхудай не сомневался, что этот орыс, зайсанг оры-сов, ему солгал. Ведь он убил каанара Бямбадоржа, а говорит, будто принял его с честью как гостя и отправил с ним послание в Доржинкит. Куда же подевался Бямбадорж?
И не может быть, чтобы войско орысов шло в Яркенд за золотом. Все знают, что золота в Яркенде нет. Если бы оно там имелось, его непременно добывали бы китайцы, пока Яркенд принадлежал богдыхану, да и сейчас на речках под Мустыгом трудились бы невольники контайши Цэван-Рабдана. Однако орыс очень хочет, чтобы он, великий зайсанг Онхудай, поверил в сказку о золоте и мирном походе. Что ж, из желания орыса надо извлечь выгоду, пока сюда не пришёл с войском грозный нойон Цэрэн Дондоб.
Направляясь к куртине, Онхудай и Бухгольц шагали рядом.
— Ты сказал, что ты мой друг, но ты не уважаешь меня, — надменно заявил Онхудай. — Ты не снял саблю, когда говорил со мной в подземном доме, и не подавал мне вина двумя руками в пиале с золотом.
— Я не знаю ваших обычаев, зайсанг, — не скрывая неудовольствия, ответил Бухгольц. — Если бы знал, сделал, как указует обычай.
— На Ямыш-озере надо обмениваться аманатами.
Аманаты Онхудаю были не нужны, но ему хотелось унизить орыса.
— Нет, я не дам тебе заложников, — сухо ответил Бухгольц.
Достаточно того, что он подверг опасности офицеров во главе с майором Шторбеном, которые сейчас в юрге дожидаются возвращения этого борова.
— Значит, ты не хочешь мира со мной.
— Моё войско сильнее твоего, но я не атаковал тебя, — сдерживаясь, сказал Бухгольц. — Сие знак, что мы идём в степь с дружелюбием.
Для Онхудая это означало только то, что зайсанг орысов — глупец. Не стоило ему надеяться обмануть такого мудрого воина, как зайсанг Онхудай. Надо было напасть подобно ястребу, пока для орысов не потеряна возможность сразиться с равными силами, ведь скоро на Ямыш придёт большое войско, и преимущество окажется у джунгар. Неужели зайсанг орысов полагал, что хозяева степей просто так пропустят его к Яркенду?
Ещё две луны тому назад Онхудай послал гонца-элчи в Кульджу, где контайша Цэван-Рабдан и нойон Цэрэн Дондоб, главный полководец Цэвана, собирали войска для похода на Лхасу. Вернувшись, элчи рассказал, как разгневались контайша и нойон, узнав о вторжении орысов. Нойон передал Онхудаю, что сам придёт на Ямыш и разрешит судьбу орысов. Конечно, зайсанг Онхудай, великий воин, легко мог уничтожить пришельцев и без нойона, приняв на себя всю славу победы, однако нельзя было не оповестить контайшу. Они, ойраты, казнили смертью только за два преступления: если бросил в бою командира и если не сообщил о приближении врага. Так постановили великие предки на чуулгане под Тарбагатаем.
Онхудай и Бухгольц поднялись на бастион, занятый батареей Рената. Три орудия на колёсных лафетах были нацелены в амбразуры между фашин. Из лафетов торчали концы гандшпигов, наживлённых, но не вбитых глубоко. Вокруг каждой пушки стояли ящики с различными снарядами, накрытыми жестяными колпаками, и вёдра. К брустверам были прислонены длинные банники, прибойники, шуфлы и трещотки. Тихо дымили фитильницы.
— Во фрунт! — скомандовал артиллеристам офицер.
Артиллеристы вытянулись перед Бухгольцем — унтеры, штык-юнкеры, канониры и зарядные. Ренат угрюмо разглядывал Онхудая.
— Сколько у тебя воинов? — спросил степняк у Бухгольца.
— Я не скажу.
— Ты мне не доверяешь.
— Я же пустил тебя в ретраншемент, зайсанг, — Бух-гольцу уже надоело убеждать упрямого степняка. — Ты видишь мою оборону. Это доверие.
Онхудай подошёл к пушке и поласкал её, как лошадь: подержал в ладони округлую торель, погладил герб на казённике, подёргал за скобы-дельфины на вертлюжной части, ощупал цапфы.
— Если ты мой друг, сделай мне подарок.
— Что тебе подарить? — вздохнул Бухгольц.
— Пушку.
— Нет, — твёрдо ответил Бухгольц.
Вдруг сигнальщик на бастионе затрубил в рожок.
— Тревога! — негромко крикнул командир батареи. — Господин полковник, отойдите в сторонку с этими… э-э… Картечь готовь!
Артиллеристы бросились по своим местам: кто-то выдёргивал пробки из стволов, кто-то хватал банник, кто-то склонился над зарядным ящиком. Ренат знал, что тревога не настоящая. Тревогу объявляли всегда, когда из степи возвращался дозор, — до тех пор, пока не станет различим звук барабана у дозорных. Но, действуя по уставу, Ренат вынул из подсумка медный прицел-полудиск с прорезью и насадил его на ствол пушки, а потом опустился на правое колено, как требовалось для прицеливания, ощутив сквозь кожаную крагу холод барбета. Канонир с молотком изготовился по команде Рената стучать по гандшпигам, изменяя наклон ствола. Онхудай оторопел, увидев столь быстрые, сложные и слаженные приготовления. Бухгольц усмехнулся.
Издалека долетел треск барабана. Дозорный бил артикул «шагом марш».
— Отбой тревоге! — сразу приказал командир.
Онхудай шагнул к узкой фузелёрной амбразуре и посмотрел наружу.
— Ты убрал охрану из степи? — спросил он у Бухгольца.
— Нет. Это возвращается смена.
Онхудай пронаблюдал, как драгуны проехали мимо бастиона и скрылись в тени редута. Донеслись голоса караульных, которые открывали ворота.
— Я ухожу! — решил Онхудай. — Высылай эмчи, чтобы в югре отпустили твоих людей.
— Тарабукин, Ожаровского ко мне! — приказал Бухгольц ординарцу.
— Ты плохой друг, — зло сказал Онхудай. — Ты ничего мне не подарил.
Ренат почувствовал, что пайцза под одеждой на его груди словно потяжелела. Пайцзу надо отдать вот этому отвратительному степняку. Ренат мрачно смотрел вслед Онхудаю, уходящему с бастиона. Неужели такому чудовищу он должен вверить не только свою жизнь, но и жизнь Бригитты?
Часть вторая Ярость в снегах
Глава 1 Обоз
Петра Лексеича в ту осень в Петербурге не оказалось — он ушёл в море на воинском фрегате, и слава богу: без него дела делались быстрее. Главной семейной заботой Матвея Петровича в столице была свадьба сына Лёшки. Сей прохвост не хотел жениться, и Матвей Петрович ещё из Сибири пугнул его страшным письмом, в котором обещал лишить наследства; Лёшка, согнув выю, побрёл под венец с Анькой Шафировой, дочкой барона Петра Палыча, вице-канцлера. Государь ценил Шафирова за умение со всеми договориться и всему найти такое обоснование, при коем он, Пётр Лексеич, — спаситель мира и отечества. Матвей Петрович был доволен тем, что упрочил свою персону при государе. И Шафиров тоже был доволен, потому что он, холопий сын и смоленский жидовин, породнился с Рюриковичами.
Дале Матвей Петрович взялся за Правительствующий Сенат. В Сенате ожидало суда и вердикта длинное доно-шение обер-фискала Нестерова на губернатора Гагарина: ворует, мол, обеими руками, не зная меры. Господа сенаторы тайно ненавидели обер-фискала, но были сокрушены духом — все, кроме боярина Тихона Стрешнева, который когда-то вытащил Нестерова из запечья на свет и ныне уповал на его благодарность. В Сенате Нестеров уже свалил князя Григорья Волконского и боярина Василья Апухтина: полгода назад по розыскам обер-фискала царь велел их казнить, но в последний миг заменил плаху обрезанием языков. Не считая Стрешнёва, сенаторов осталось всего шестеро. Граф Мусин-Пушкин приходился Матвею Петровичу своим человеком, почти роднёй: их связывало общее отцовское горе. Князь Долгоруков имел свою прибыль в китайских караванах. Князь Голицын слыл дураком. Ему и трём другим сенаторам Матвей Петрович отправил дорогие подарки — собольи шубы и шкатулки с червонцами, а в Сенате выложил на стол окладные, доходные и ясачные книги своей губернии. Пусть секретари сверят: у князя Гагарина казённому интересу ущерба нет, а доносы фискала — изветы и поклёпы. Матвей Петрович нашептал сенаторам: судите, как оно вам надобно, судари, ибо жаловаться на ваш суд Нестеров не сможет; царь запретил жаловаться на Сенат под угрозой петли, и Нестеров утрётся. И сенаторы постановили: князя Г агарина от облыжных обвинений избавить.
В Питербурхе Матвей Петрович поимел приват с канцлером графом Гаврилой Иванычем Головкиным: Ванька, сын Гаврилы Иваныча, был женат на Дашке, дочери Матвея Петровича, и князь Гаврюшка, любимый внук князя Гагарина, был назван в честь деда по отцу. Гаврила Иваныч, мудрый и спокойный, сказал Матвею Петровичу:
— Потерпи, свояк. Не навеки фискал. Он за яблочками до верхних веток тянется, а лесенка у него зыбкая. Придёт час — и дерзкий сверзится.
Успокоенный, Матвей Петрович поспешил в Москву.
Он рассчитался с купцами Евреиновыми, которые торговали в Сибири табаком и держали таможни, и условился о товарах с купцом Истопниковым, который готовил новый китайский караван. Матвей Петрович торопливо съездил в Сенницы — родовое имение, где со старшим братом Иваном он построил Вознесенскую церковь. Иван, царство ему небесное, и лежал под приделом этого храма. Матвей Петрович поставил свечи и поплакал о брате, вспоминая, как на иркутском воеводстве они срывались на Байкал порыбачить.
В Успенском соборе кремля Матвей Петрович смотрел на хиротонию владыки Филофея. Службу вёл сам отец Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола. Он возложил Евангелие на главу владыки, возвращая всю полноту апостольской власти. Филофей вновь стал митрополитом.
Матвей Петрович даже опасался верить своей судьбе — пробовал её, как первый тонкий лёд: выдержит ли? И судьба держала. У него всё получалось: обвинения сняты, сын женат, Филофей — рядом, губерния зажата в кулаке, и в Москве собирается новый караван в Китай… Нет пока известий от войска Бухгольца, но в полковнике Матвей Петрович не сомневался. Бухгольц не избежит западни, всё равно попадётся, потому что он прямой и негнущийся, как оглобля. Словом, надо продолжать то, что задумано, — надо снаряжать обоз для Бухгольца, в котором к своему кавалеру-любовнику поедет эта шведская раскрасавица. И с ними исчезнут последние улики.
Обоз состоял из двух частей — воинской и купеческой. В огромной Сибири всё делалось медленно; Бухгольц уже вышел в поход, а в Тобольск ещё прибывали рекруты, повёрстанные по призыву губернатора в Иркутске, Якутске и Селенгинске. Матвей Петрович приказал обучить их и отправить вдогонку Бухгольцу. На-скреблось семь сотен новых солдат. Командиром этому воинству Гагарин назначил полуполковника Прокофия Ступина — больше было уже некого, не Ваську же Чере-дова вытаскивать из запоя.
Ступин должен был выйти, когда замёрзший Иртыш окрепнет. Каждый день Матвей Петрович навещал Военное присутствие и требовал от Ступина отчитаться о наличном состоянии солдатского обоза.
— Ты ведь меня знаешь, Матвей Петрович, — обижался Ступин. — Я тебе не Карпушка Бибиков, упокой, господи, его душу. Я казённые припасы на чужую сторону никогда не продавал.
— Не скули, показывай по описи. Дьякам я не верю, всё сам посмотрю. Бухгольцу в степи каждая пуля как золотая.
Матвей Петрович ничуть не лукавил. Обоз он собирал честно. Это было ему выгодно. Чем изобильнее он снабдит Бухгольца, тем ожесточённее тот будет сражаться с джунгарами. А чем жарче будут сражения, тем лучше он, Матвей Петрович, исполнит свои обещания, данные Тулишэню.
Загруженные поклажей и увязанные сани загромождали весь двор Военного присутствия. Без Бухгольца прежний строгий порядок утратился; сани стояли как попало. Всюду ходили солдаты и работники — таскали туда-сюда тюки, толкались, что-то теряли и с руганью разыскивали. Ступин и Матвей Петрович протискивались меж саней; Ступин отворачивал рогожи.
— Вот ядра трёхфунтовые половинчатые, — сверяясь с бумагой, пояснял полуполковник, тыча пальцем в короба с нумерами. — Вот двухфунтовые. Вот пистолеты в ящиках — триста пар. Вот мушкетные стволы в связках.
— Сколько?
— Считай, двадцать связок по дюжине.
— А полозья-то выдержат?
— Выдержат, я велел обозникам дополнительные копылья вбить… Вот мешки с чугунной дробью пятилотовой, по пуду каждый. Вот железная дробь, рубленная жеребьями. Далее смотри. Сто лядунок. Колёса храповые. Ящики с кремнями. Здесь верёвок просмолённых двадцать буртов. Двести конских попон. Скобы. Там — до-щаничные припасы. В бочонках — смола. В кулях — пороховые картузы, есть по три мерки, есть по четыре.
— А где аптека? — как бы невзначай спросил Матвей Петрович.
— Вон баба принимает, — Ступин указал под навес летнего стойла.
Аптекой занималась Бригитта. Она бережно раскладывала в два сундука на санях какие-то мешочки и горшочки, доставленные в берестяных ларях.
— Здорова будь, кошка-бабочка, — заходя под навес, сказал Бригитте Матвей Петрович и незаметно подмигнул. — Прокофий, какого пса ты её на аптеку взял? Она же по-русски еле кумекает.
— Я говорить по-русски, — с достоинством возразила Бригитта.
— Она у шведов аптеку покупала, у вольдермана, — пояснил Ступин. — С ним по-ихнему говорить надо было.
Матвей Петрович сам попросил фон Вреха отрядить Бригитту вместе с обозом, но полуполковнику об этом знать было ни к чему.
— Ну, растолкуй тогда, что тут у тебя, — предложил Бригитте Гагарин.
— Это есть честнок от скорбут, — послушно начала показывать Бригитта. — Это чиповник. Варительный капуст в квасе от раненый гниль. Тереть хрен. Тщавель. Зверобой. Тщистотел. Сок полиыни.
— Ладно-ладно, — оборвал Матвей Петрович. — А муж при тебе?
— Мой солдат, — кивнул Ступин.
— До хмельного его не допускай. Он запойный.
— Запьёт — повешу.
— Ежели через неделю выйдете, когда думаешь у Ямыша быть?
— Через три месяца.
— А чего так долго? — удивился Матвей Петрович.
— Чем больше обоз, тем дольше провоз. Прикажи купцам от моего войска отцепиться, и быстрее поспею. Их шесть сотен человек — небось, сами себе защита. И без солдат не пропадут.
Вторую половину обоза составляли купцы с товарами. Они сами прилипли к Матвею Петровичу: возьми да возьми. Причина была в том, что с воинским обозом князь Гагарин отправлял казну — жалованье солдатам и офицерам. Ушлые купцы хотели там же, у крепости, устроить торг. Солдаты расхватают любые товары. Ради этой выгоды купцам не лень было тащиться за полторы тысячи вёрст. Матвей Петрович махнул на купцов рукой.
— Ладно, не ворчи, — сказал он Ступину. — С купцов тоже польза есть.
В Тобольске в торговом обороте вечно не хватало медной монеты, и купцы вернут солдатские деньги обратно в город.
Матвей Петрович издалека увидел, что на дворе Военного присутствия появился Ходжа Касым в толстом стёганом халате и в меховой шапке. Он пробрался между саней и работников и поклонился Матвею Петровичу.
— Дозволит ли мой господин поехать в его обозе и мне? — спросил он.
— А куда ты навострился, Касымка? — добродушно поинтересовался Гагарин. — Хочешь в воинской крепости лавку с коврами открыть?
— Нет, мой господин, — Касым ещё раз поклонился. — Я еду без товара. Хочу попасть в Кашгар к брату Юсуфу по торговым делам. С твоим обозом я хотя бы половину пути буду в безопасности. Я заплачу за твою милость.
— Ну, езжай, коли каждому солдату по кисету табака дашь, — хмыкнул Матвей Петрович.
— Семьсот кисетов? — против воли изумился Касым. — Это очень дорого!
— Тогда дуй в Кашгару в одиночку и кури свой табак сам.
— Один я погибну, ведь у нас война со степняками!
— Не бреши, нету никакой войны! — мгновенно разозлился Гагарин.
Касым спохватился, что сказал лишнее.
— Не гневайся, мой господин! — он согнулся ещё ниже. — Я уже согласен дать твоим солдатам табак! Я глупец!
Матвей Петрович недоверчиво оглядел Касыма с головы до ног.
— Ох, боюсь, это я глупец, — признался он. — Пускаю козла в огород.
Касым попятился, чтобы Гагарин не взял обратно своё разрешение.
Он еле удерживал себя в смирении перед губернатором. Каждое слово и каждое движение Гагарина казалось Касыму воплощением зла и разжигало ненависть. Касым шагал в Бухарскую слободу так широко, так стремительно, что верный Сайфутдин еле поспевал за ним. Что ж, пускай губернатор пока наслаждается своим непрочным счастьем, пускай торжествует. Его радость протечёт сквозь пальцы. Ходжа Касым умеет сдержать нафс — свои тёмные страсти, коими человек единоприроден с джиннами; значит, он всё равно одержит победу над тем, кто утратил зоркость духа, любуясь собой в зеркале удачи. Не зря Пророк предостерегает тех, кто возвысился: «Не криви лица своего пред людьми и не ходи по земле горделиво…»
Касым успокаивал себя намазом и дополнительной молитвой. Низкие поклоны-суджуды и божественные слова аятов гасили пламя его гнева, и он поднимался с молитвенного коврика с благодарностью в сердце, ибо предел его испытаний был очевиден и не слишком далёк. Китайская пайцза, без сомнения, окажется у зайсанга Онхудая, ведь Онхудай — хозяин Доржинкита: это он придёт к крепости Бухгольца, получит пайцзу из рук перебежчика и потом нападёт на русских. Касым поедет с обозом — конечно, не в Кашгар к Юсуфу, а на Ямыш-озеро к Онхудаю; он отыщет зайсанга и выкупит у него пайцзу, как мудро посоветовала Назифа. А пайцза — это жизнь Гагарина. И тогда Гагарин ответит за все свои бесчинства.
В безвыходной ярости и в напряжении ожиданий единственной отрадой для Ходжи Касыма была Хамуна. Каждый вечер Сулу-бике мыла её горячей водой и умащала аргановым маслом, а Назифа расчёсывала её чёрные волосы и заплетала два десятка косичек с бисерными нитями жамалак. Назифа уже давно перестала при этом дёргать Хамуну за пряди и причинять боль — всё равно эта бесчувственная дикарка не вскрикивала и не плакала. Назифа приводила Хамуну к ложу с балдахином, провожала мужа за полог и сидела на скамеечке, глядя в огонь светильника и размышляя о своей судьбе.
Когда-то и она скидывала одежды и уединялась с мужем, а сейчас её место — скамеечка перед ложем, хотя тело у неё ещё упругое и свежее, и оно не меньше, чем в юности, томится по ласкам любимого мужчины. Годы не победили её — они победили мужа. На пороге осени мужчина хочет ощутить весну, как будто чужое цветение способно остановить собственное увядание. Нельзя корить мужа за желание жить. Хотя это очень горько. Можно покорно испить эту горечь, если любишь мужа так, как она, Назифа, любит Касыма, можно принести себя в жертву… но не Хамуне! Назифа слышала всё, что происходило за пологом. Слышала тяжёлое дыхание Касыма и хриплый рык его наслаждения — но не слышала Хамуну. Юная любовница должна стонать, метаться, выкрикивать имя возлюбленного, и перед такой страстью мудрая и верная жена должна отступить, скрыв лицо в тени. Но Хамуна молчала. Молчала как земля, как могильная плита. И Назифа ненавидела эту дикарку за то, что Касым растрачивает остатки своего пламени на ту, что не способна понять и почтить последнюю яростную песню мужчины.
А Касым видел то, чего не видела Назифа. Он знал женщин, которые не хотели отдавать себя: они бились и сопротивлялись, а потом, сломленные, смирялись, или же терпели, сжав зубы, и ждали, когда мужчина насытится. В конце концов они покорялись своей участи, и женская природа необоримо отзывалась наслаждением. Но с Хамуной всё происходило иначе. В тот миг, когда женщина теряет волю, растворяясь в своём естестве, Хамуна просто исчезала, уплывала, ускользала. Её душа переносилась неведомо куда, и тело словно засыпало, ибо огненный джинн страсти входит в душу, а не в тело.
На ложе Хамуна принадлежала Касыму как вещь. Мужчина должен был разгневаться и покарать женщину за такое пренебрежение, но Касым понимал: это гнев глупца, который хлещет плетью арбу, а не осла. Душу Ха-муны поглощала какая-то тёмная сила, и Хамуна с этой силой справиться не могла. Касым догадывался, что эта сила, наверное, и породила Хамуну — и забирала по праву материнства. И он ничем не мог помешать тёмной силе, и лишь стискивал Хамуну в объятиях с жадностью и нежностью. Хамуна — теперь его лола урмондан, его таёжный тюльпан, пусть и краденый.
Касым скатился с Хамуны и вытянулся в изнеможении. Хамуна немного полежала и осторожно села, чтобы спуститься с ложа и убежать. Однако на ложе на четвереньках забралась Назифа. Касым смотрел в недоумении, но ничего не говорил. Назифа, стоя на коленях, взяла Хамуну за подбородок.
— Почему ты не рада, когда муж берёт тебя, Хамуна? — спросила она.
Хамуна уже хорошо понимала по-чагатайски, однако молчала.
— О чём ты думаешь, когда муж берёт тебя? — Назифа вглядывалась в чёрные, бездонные глаза дикарки. — Где ты в это время?
Где она была? Она была в Айкони. Хомани уходила в сестру не только на ложе своего хозяина; она уходила, когда укладывалась спать, когда тихо вышивала бисером, когда просто сидела где-нибудь в углу, заворожённая огоньком в светильнике. Здесь была неволя. Сытная, тёплая и неизбывная. А сильная и храбрая Айкони жила, как хотела, в домике на сосновом острове среди дивного болота. Там пахло водой, хвоей, древесной прелью, дымом костра. Там шумели под ветром ельники, плыли облака и на папоротники с тихим шёпотом падали дожди; там хлопали крыльями журавли, рысь точила когти о ствол, скулили волчата в логове, шуршали мыши и ухала сова, низко пролетая над берегом; там поскрипывали, оседая, заплесневелые буреломы и духи тихо пели свои вечные песни. Айкони никому не отдала свою свободу, даже князю не отдала; она не покорилась ни любви, ни медведю-людоеду. Хомани дышала свободой сестры — и только в это время жила по-настоящему.
— Я думаю про Айкони, — прошептала она по-чага-тайски и поползла с ложа мимо Назифы.
Касым сразу вспомнил, как Ремезов привёл к нему свою холопку Аконю — сестру-близняшку Хамуны; вспомнил, как сёстры бросились друг к другу и ощупывали друг друга, спрашивая и отвечая без слов: их быстрый разговор шёл на кончиках пальцев. Вот, значит, куда уносится душа Хамуны!..
— Кто такая Айкони? — Назифа смотрела на Касыма.
— Её сестра-шайтанка.
— Пошли Сайфутдина, пусть зарежет её, — жёстко сказала Назифа.
— Зачем?
— Я забочусь о твоём счастье, мой муж. Не станет сестры — и Хамуне уже некуда будет скрываться от тебя.
Касым погладил Назифу по голове. Аллах наградил его прекрасной женой, достойной Хадиджи, Зубейды и Шахразады. Разум у Назифы был холодный и ясный, как Зульфикар, меч Пророка; Назифа всегда находила один-единственный точный и безжалостный удар для изменения судьбы.
— Это верная мысль, Назифа, — согласился Касым, — но неисполнимая: сестра Хамуны убежала в леса, и никто не знает, где она.
— Тогда я могу бить Хамуну каждый день, пока ты будешь в отъезде.
— Зачем? — опять спросил Касым.
— Когда я была молода, а ты отлучался из дома, Бобо-жон всегда сёк меня плетью, и я ждала тебя как избавителя. Я мечтала о твоём возвращении. И Хамуна под моей плетью будет мечтать о тебе.
— Я не хочу причинять боль Хамуне, — подумав, отказался Касым.
— Ты любишь её больше, чем меня, — в голосе Назифы звучала горечь.
— Я старею, Назифа, — грустно произнёс Касым и снова погладил Назифу по голове. — Мой огонь разгорается только от Хамуны. Но придёт время, и её ложе остынет, как остыло твоё ложе. А мой очаг не остынет никогда, пока я жив. И твоё место всегда возле моего очага. Я очень добр к тебе, Назифа.
Глава 2 Зайсанг и нойон
Январская вьюга неслась по степи свободно и обвально, не встречая преград, и вдруг натыкалась на куртины и бастионы крепости, как ровная стремнина быстротока налетает на каменную гряду. Над ретраншементом клокотал шурган — воздушный порог, метельный котёл, снежный взрыв. В непроглядной ночной тьме над барбетами и кровлями казарм взвивались крутящиеся столбы, рвались полотнища, катились невесомые громады. Люди в землянках с тревогой слушали, как снаружи всё трещит и гулко хлопает.
Холодно было даже у офицеров. Даже офицеры спали, прижимаясь друг к другу, словно каторжники в острогах. Низкий потолок землянки оброс толстым серым инеем. Сырое бельё, развешенное на верёвках, раскачивалось от сквозняков. Дров не хватало всему гарнизону, и в блюде-жаровне горел крохотный костерок из хвороста: этот огонёк согревал только взгляды окоченевших людей. Офицеры сидели вокруг жаровни, напялив на себя всю одежду, и накрывались конскими попонами.
— Господа, можно уже без сомнения полагать, что гарнизону угрожает скорбут, — сказал капитан Рыбин. — У меня у половины баталиона поясницу ломит и колени, и синяки по всему телу. Надобно аптеку, а её нет.
Все знали, что аптеку должен доставить караван из Тобольска.
— Я захватил с собой мешок сушёной хвои, — сказал поручик Кузьмичёв. — Ежели у кого обнаружатся признаки скорбута, я готов помочь.
— Синяки и ломота — ещё терпимо, — вздохнул подпоручик Ежов. — Вот когда зубы начнут вываливаться — значит, беда.
— У меня в роте у нескольких солдат открылись язвы на руках и шее, — мрачно сообщил поручик Демарин. — Кто-нибудь знает, господа, бывают ли при скорбуте язвы? Или это какая-то другая зараза?
— От степняков могло всего нанести.
— Вряд ли. Четыре версты до юрги — изрядная дистанция.
— Попроси, Демарин, у Ивана Митрича, чтобы отвёл больным особливое жительство, — посоветовал Кузьмичёв. — От греха подальше.
— Когда скученно, всякий мор что огонь в соломе, — подтвердил Ежов.
Ренат слушал негромкие и невесёлые разговоры офицеров и думал, что ему пора уходить из ретраншемента. Он оттягивал это решение, сколько мог. Среди товарищей, пусть даже в холоде, ему лучше, чем среди степняков. И к калмыкам его отправят всё равно только весной. Однако в ретраншементе — скорбут и какие-то язвы. Язвы даже страшнее. На его батарее у одного из канониров тоже появились язвы. А скорбут — у каждого третьего.
И ещё караван с Бригиттой. Он идёт сюда по льду Иртыша. Наверное, он уже близко. Много ночей Ренат размышлял, как ему заполучить Бригитту. Дождаться её здесь и бежать вместе с ней? Но возле Бригитты всегда будет Цимс — куда же он денется от жены? Сумеет ли он, Ренат, обезвредить Цимса и вывести женщину из крепости, где полным-полно караулов? Вряд ли. Этот план ненадёжный. Лучше склонить степняков к нападению на караван, пока тот ещё не добрался до крепости. Степнякам — добыча, а ему — Гита.
Ренат поднялся с лежака и начал собираться: зарядил два пистолета, застегнул все застёжки, натянул на треуголку башлык и завязал шнурок.
— Вы куда, господин штык-юнкер? — спросил поручик Демарин.
— Проверю пушки. Нельзя, чтобы стволы забило снегом.
— Поторопитесь с возвращением, Юхан, — сказал поручик Каландер. — А то хворост в жаровне закончится.
На улице шурган ударил Рената в лицо, хлестнул по плечам снегом. Согнувшись, прикрываясь рукой, Ренат боком побрёл к бастиону.
Здесь всё кипело и бурлило. Вихрь трепал холщовые вожжи пушечных отвозов, звенел короткими цепями на передках лафетов, рвал колпаки на фитильниках. Двое караульных скорчились у амбразур, но в мути ничего не было видно. Если бы сигнальщики сейчас затрубили в рожки или забили в барабаны, их никто бы не услышал за свистом ветра. Только неуязвимые чугунные пушки, омытые снежными ручьями, как прежде целились в пустую степь. Ренат хлопнул одного из караульных по спине, оповещая о себе, и пошёл прочь. Вьюга укрыла его через два шага.
Под дощатым настилом барбета у него были спрятаны лыжи, грубо вытесанные из досок от дощаника. Ренат украл их ещё две недели назад у вестового. Бежать из ретраншемента на лыжах было сподручнее, чем на коне. С лыжами в охапке Ренат двинулся по куртине. К январю запасы дров в ретраншементе иссякли, и Бухгольц разрешил брать фашины; теперь на куртинах в ограждении зияли прогалы, перекрытые брустверами из плотно сбитого снега. Ренат тяжело перелез через бруствер, сел и на заду съехал с ледяного откоса вниз, в ров, опоясывающий ретраншемент.
Солдаты чистили ров каждый день, но шурган замёл его так, что Ренат провалился в сугроб по грудь. Побарахтавшись, выправляясь, он пополз вперёд, к противоположному склону рва, потом полез вверх по эскарпу. Он упирался локтями и коленями и сам себя благодарил, что не стал дожидаться Бригитту в ретраншементе. Гита не выгреблась бы из этого снежного ада.
На ровном пространстве он наконец поднялся, нацепил на ноги лыжи и оглянулся. Громада ретраншемента была совсем рядом — но буря полностью скрывала её. Значит, и его самого не видно ни с куртины, ни с бастиона. Лишь бы не потерять направление. Слава Деве Марии, что вне пределов шургана ветер установится ровнее, и по нему можно будет ориентироваться.
Проваливаясь по щиколотку, Ренат пошёл в сторону юрги.
Офицеры хватились его только через час.
— А куда пропал штык-юнкер? — спросил у всех Ваня Демарин. — Весь ретраншемент уже можно было три раза обойти!
Ване никто не ответил.
— Я пойду поищу его, господа, — вздохнув, сказал Ваня. — Не дай бог какая неприятность стряслась.
— Я с тобой, Демарин, — сказал поручик Кузьмичёв.
В это время Ренат пересёк дорогу, натоптанную за зиму драгунскими дозорами, которые каждую ночь безостановочно объезжали ретраншемент и конский загон по большому кругу. От дороги в дымящихся снегах осталась только мелкая ложбина, взрытая недавно прошедшими всадниками.
Ещё через час офицеры явились в землянку Бухгольца. Полковник, как и все, спал в одежде, а потому офицерам не пришлось ждать, пока он приведёт себя в порядок. Тарабукин впустил Демарина, Кузьмичёва и Ожа-ровского.
— Мы весь ретраншемент обшарили, но нигде его нет! — взволнованно сообщил Ваня. — На втором бастионе караульный видел его, и с тех пор всё!
— В редуте проверяли? — растирая лицо ладонями, спросил Бухгольц.
— Я ходил, спрасшивал, — кивнул Ожаровский. — Сей нотчею Йоган там не появисша, Ыван Дмытржэвич.
— Надо искать, пока он не замёрз, — Бухгольц наклонился за башмаками. — Демарин, поднимай свою роту. Пускай солдаты шомполами проверят снег во рву. Он мог сломать ногу, упасть, и его замело. К делу, господа.
А Ренат, уже выбиваясь из сил, всё брёл по степи, затерянный в темноте и вьюге. Ему было жарко, и он расстегнулся, хотя знал, что это опасно. Он зачерпывал ладонью снег и совал в рот. Лицо горело. Ноги были как тумбы, Ренат еле перетаскивал неуклюжие, тяжёлые, обледеневшие лыжи. Неужели он промахнулся, прошёл мимо юрги и теперь только удаляется в пустыню?.. Надо подать сигнал. Ренат полез за пазуху за пистолетами и обнаружил, что каким-то образом потерял один из пары. Чёрт с ним! Ренат поднял пистолет над головой и нажал на курок. Пшикнули остатки пороха, а выстрела не последовало — заряд рассыпался, когда Ренат возился во рву в сугробах.
Нет, лучше вернуться, пока следы ещё хоть чуть-чуть видны. Впереди — только смерть. Летящий снег залеплял глаза, мешал дышать, леденил горло. Ренат долгодолго тащился обратно, пока не понял, что давно уже идёт наугад — следы замело, или он их потерял. Боже, как это нелепо — замёрзнуть в степи при попытке побега!.. Но нельзя останавливаться, нельзя ложиться. Надо двигаться хоть куда, хоть по кругу, пока не рассветёт. Утром, даже издалека, он должен увидеть дымы над ретраншементом…
Из снежной темноты на Рената вдруг надвинулись конские морды.
— Господа, слава богу! — прохрипел Ренат. — Я заблудился!..
— Та нар хэн юм бэ? — прозвучало сверху.
Это был джунгарский разъезд.
…Он думал, что удалился от любого жилья на десяток вёрст, а юрга оказалась совсем рядом. И вскоре он уже сидел у огня в полутёмной, тёплой, дымной и вонючей юрте, и какая-то узкоглазая старуха с седыми косами подала ему плошку с мутной жижей. Поганая на вкус кислятина обожгла, как русская водка. Это и была молочная водка степняков — арха.
Ренат озирался, приходя в себя. Он был в камзоле и штанах, но босой. Пистолет, кисет с табаком и пайцзу у него отняли. Перед ним был очаг, обложенный по кругу плитняком; невысокий огонь бегал по каким-то бурым комьям — это горел аргал, топливо кочевников, сушёный навоз; под аргалом и углями угадывались три булыжника — священные для любой юрты отцовские камни. Ренат протянул руки к огню. Юрта была небольшая, шестигранная, войлочная. Стены её были составлены из косых деревянных решёток. По окружности тянулась земляная ступень, застеленная кошмами и шкурами; на этом ложе спали воины — человек пять. Над ними на решётках висели сабли и круглые щиты. Два воина на корточках сидели у входа, занавешенного пологом; эти воины — караульные — молча и бесстрастно наблюдали за Ренатом. Старуха за очагом возилась с посудой: чем-то тихо позвякивала, что-то переливала. Рядом с очагом стояла железная подставка с плоским котлом и высокий деревянный сосуд-домбо, перехваченный обручами из лозы. Бегающие красные отблески пламени освещали отодвинутую к дальней стене резную лавочку — алтарь; на лавочке в ряд выстроились пузатые бронзовые фигурки каких-то божков — бурханы. Ренат поднял голову. В куполе юрты над очагом темнело круглое отверстие с ободом; его подпирал длинный косой шест; с обода на верёвке свисал ещё один священный камень в оплётке. Это был мир, совершенно чужой для шведского штык-юнкера, и Ренат впервые осознал, что роковой шаг уже сделан.
Караульные вскочили, полог отдёрнулся, и в юрту, склоняясь, вступил зайсанг Онхудай, одетый в длинную волчью шубу. Распрямившись, он коснулся ладонью стенки над входом, приветствуя дом, и караульные сняли шубу с его плеч. Ренат увидел, что на груди зайсанга висит золотая пайцза. Онхудай угрюмо прошёл мимо очага к дальней стороне юрты и, пыхтя, как все толстяки, опустился на кошму возле алтаря с бурханами.
— Я зайсанг Онхудай, великий воин, — помолчав, сказал он по-русски и положил руку на пайцзу. — Где ты взял это моё золото, орыс?
Ренат догадался, что именно сейчас и состоится тот разговор, ради которого губернатор затеял свою сложную интригу с пленным офицером и его любовницей. И Ренат ответил так, как приказал Матвей Петрович:
— Я украл этот знак у губернатора Гагарина.
— А зачем ты принёс его мне?
— В уплату за то, что ты для меня сделаешь, — твёрдо сказал Ренат, не отводя взгляда от степняка.
Онхудай засопел: ему не нравилось, что этот человек ставит условия. Можно, конечно, пренебречь его условиями, однако надо знать, по какой причине он так уверен, что условия должны быть исполнены.
— Что хочет орыс от великого зайсанга?
— Я хочу, чтобы ты переправил меня к калмыкам.
— Здесь мало золота для такого дела, — поморщился Онхудай.
— Важно не золото, — спокойно сказал Ренат, понимая, что должен сохранять уверенный вид, — а то известие, которое заключено в этом знаке.
— Какое известие?
Ренат не знал, какое. Просто он давно уже догадался, что такое известие существует, и Гагарину очень нужно обиняком донести его до джунгар.
— Истолкуй его сам.
Онхудай усмехнулся, колыхнувшись всем телом.
— Ты смелый, орыс, — сказал он и с трудом поднялся на ноги. — Тебе повезло. Завтра в мою юргу приедет Цэрэн Дондоб. Он не такой великий воин, как я, но контайша Цэван-Рабдан сделал его нойоном. Если ему понравится твоё известие, то я не буду отрубать тебе голову.
На ночлег Рената оставили в этой же юрте, и он впервые за месяц уснул в тепле — глубоко и без сновидений. А проснулся от того, что ему на шею лёг холодный клинок сабли. В дымовом отверстии купола синело чистое небо. Воин с саблей стоял над Ренатом, давая понять: если Ренат попробует поднять тревогу, ему смерть. За пологом юрты, совсем рядом, слышались русские голоса. Это к джунгарам приехали посланники от Бухгольца.
Их было десять человек: поручики Демарин и Кузьмичёв и простые драгуны. Степняки задержали их на окраине юрги — как раз возле юрты Рената, а Демарина повели к юрте зайсанга. Ренат слышал, как драгуны негромко переговариваются, но он бежал из ретраншемента не для того, чтобы сейчас его вернули обратно.
Джунгарская юрга была настоящим городом из сотни юрт и кибиток на полозьях. Острые макушки юрт дымились. Возле сэргэ стояли привязанные кони и верблюды. Самые большие юрты были обнесены красным шнуром на столбиках; в этих оградах под снегом громоздились хозяйственные шалаши, крытые шкурами. Всюду ходили воины и работники-араты, бегали собаки. В стороне от юрги виднелись жердяные загоны для скота и увязанные стога сена на волокушах. Возле белой юрты зайсанга на шесте лениво колыхалось расшитое бисером знамя. Онхудая ожидали два десятка конных каанаров. Онхудай вышел на воздух, зевнул, и конюх-моричи подвёл ему лошадь.
— Эрдэнэ, моя птица, — Онхудай ласково потрепал её по гриве. — Ты самая лучшая кобылица на плечах у Тенгри.
— Зайсанг, из нашей крепости пропал человек, — громко сказал Демарин, привлекая внимание Онхудая. — Мы ищем его. Твои люди его не видели?
В поисках штык-юнкера солдаты Демарина всю ночь перекапывали ров вокруг ретраншемента и подобрали пистолет Рената. Бухгольц предположил, что Ренат ка-ким-то образом сорвался с куртины в ров, выбрался из него и направился к воротам, но в темноте и вьюге сбился с пути и убрёл в степь.
— Ты говоришь с великим воином, когда тебя не пригласили говорить, — ответил Онхудай по-русски.
Демарин не знал, что возразить.
— Я не видел твоего орыса, — снизошёл Онхудай, потому что хотел, чтобы русские поскорее покинули юргу. — Мои дайчины тоже его не видели. Возвращайся в свою крепость. Я занят своими делами.
Слуга-котечинер подсадил толстого Онхудая в седло.
— Цог! — прикрикнул Онхудай, хлестнул лошадь и поскакал прочь.
Каанары поскакали вслед за ним. За всадниками помчались собаки.
Онхудай не соврал Демарину: для него сейчас не было дела важнее, чем встреча нойона Цэрэн Дондоба. Ещё вчера в юргу явились ертаулы нойона — передовой дозор, который готовил дорогу для войска. Ертаулы приказали расчистить местность для юрги Дондоба. Нойон был вторым человеком в ханстве после контайши Цэван-Рабдана, однако боялись его больше, чем контайшу. Он возглавлял военные походы, он почти дошёл до Туркестана и до Лхасы. Онхудай, захудалый окраинный зайсанг Джунгарского ханства, и ненавидел Дондоба, и завидовал ему. Душу Онхудая наполняла злорадством мысль о том, что он заставил могущественного Дондоба отложить войну с казахским Богенбай-ба-тыром и тибетским Лавзан-ханом. Где-то там, далеко, в ледяных ущельях Тибета и на цветущих равнинах Же-тысу, потрясали саблями и плясали на конях многотысячные полчища врагов, насмехаясь над полководцем джунгар, а нойон был вынужден идти на зов доржинкит-ского зайсанга. И приятнее всего было то, что ночной перебежчик дал Онхудаю священное право отвлечь нойона от его подвигов и славы.
Отряд Онхудая встретил войско Дондоба на льду Иртыша в пяти верстах от юрги. Люди Онхудая посторонились, пропуская дозор из лучников на быстрых и приземистых монгольских лошадях. За дозорными следовали знаменосцы с хвостатыми знамёнами, на которых извивались шитые золотом драконы и вздымали крылья бирюзовые орлы. Потом на огромных и косматых верблю-дах-бактрианах ехали могучие воины хошуна — войскового клюва; потом конные воины баруна — правой руки, воины зюна — левой руки, и воины запсора — войсковой груди; они были в кожаных латах и железных шлемах с меховой оторочкой, на остриях шлемов раскачивались цветные бунчуки. Цэрэн Дондоб двигался в окружении каанаров-охранников и гонцов элчи. Он восседал на прекрасной белой верблюдице, которую знала вся степь. Верблюдицу звали Солонго.
Нойон повернул Солонго в сторону Онхудая, приблизился к зайсангу и остановился. Онхудай поспешно соскочил с лошади. Один из каанаров нойона тоже спешился и легко стукнул кнутовищем по коленям Солонго. Верблюдица неторопливо легла в снег, и нойон, перекинув ногу, спрыгнул с седла. Страшный Цэрэн Дондоб был маленьким и сухоньким старичком с седой бородкой клинышком. Грузный Онхудай, склоняясь, протянул к нойону руки ладонями вниз, и Дондоб покрыл их своими руками. Затем они трижды соприкоснулись щеками и присели на корточки в орлиной посадке, как положено двум важным людям, отягощённым властью.
— Что произошло в твоих владениях, зайсанг? — с участием спросил Цэрэн Дондоб. — Почему в наших аймаках оказались русские?
— Ты должен сам разобраться, нойон, — угодливо ответил Онхудай.
Мимо тянулся обоз нойона: волокуши с поклажей, санные кибитки со снятыми колёсами, что стояли в кузовах по бокам, навьюченные верблюды, бесконечные запасные табуны. Пастухи-араты гнали яловые стада на прокорм войску. Собаки из обоза нойона разгавкались на собак из юрги.
— Совсем недавно на Поющих песках под пятиглави-ем Львиных гор я разбил армию богдыхана, — прищу-рясь, задумчиво сказал нойон. — Но ты, Онхудай, вынудил меня остановить наступление на Синьцзян и направиться на твой призыв сюда, к тебе на север. Контайша недоволен мной. Если твоя причина окажется недостойной, ты заплатишь мне три тысячи дымов.
Нойон встал и шагнул к верблюдице.
Зайсанг Онхудай стал ясен нойону с первого взгляда. Тщеславный, спесивый и ограниченный человек, не разумеющий того, что происходит в огромной вселенной. Возможно, это он, Цэрэн Дондоб, является отдалённой причиной вторжения русских в степи Доржинкита. Четыре года назад нойон разгромил орды казахов и отнял у Старшего Жуза благодатное Семиречье. Но владыки ойратов не были чингизидами, и для чингизидов Маве-раннахра их победы означали оскорбление. Казахи получили помощь от Бухары, Хивы и Самарканда. Пока Цэрэн Дондоб сражался в Тибете, казахский полководец Богенбай потеснил контайшу Цэван-Рабдана. Осмелев, казахи ударили не только по джунгарам, но и по башкирцам, по калмыкам и по русским казакам на Яике — подданным русского царя. Если русский царь — мудрый правитель, то он понял, что причина бедствий на окраинах его державы — не казахи, а джунгары. И он воистину мог послать своё войско против джунгар.
Вечером нойон Цэрэн Дондоб отправился в гости к Онхудаю.
Этому глупому толстяку хватило ума уступить нойону своё место в хойморе — в почётной части юрты. Нойон опустился на ковёр возле алтарной скамеечки, уставленной бурханами и свечками юодже; на стене над алтарём висели шёлковые полотнища с яркими изображениями олгонов. Нойон быстро оценил людей Онхудая, которые безмолвно сидели у стен: каанары-воины и котечинеры-слуги. Нет ни одного учёного элчи, опытного в истории народа, и даже старого бакчея нет, хотя по годам зайсан-гу ещё должно иметь бакчея. Мальчиков из знатных родов в своих кибитках растили и учили не отцы, а бакчеи; потом, когда мальчики мужали, становились зайсангами или нойонами, они как сыновья заботились о воспитателях, возили бакчеев при себе и принимали их советы. Но самонадеянному Онхудаю никто не нужен.
На правой ладони, поддерживая правый локоть левой рукой, Онхудай с поклоном подал гостю пиалу с мутной молочной водкой, на дне которой блестели кусочки золота. Цэрэн Дондоб принял пиалу, обмакнул в неё кончики пальцев, брызнул на бурханов, отпил и вернул пиалу хозяину.
— Ты должен увидеть одну вещь, — важно произнёс Онхудай и вытащил из-под хантаза, туго завязанного на брюхе, золотую китайскую пайцзу.
Пайцза лежала на широкой ладони зайсанга, словно скорпион, который ужалил нойона прямо в сердце. Конечно, Цэрэн Дондоб знал о китайском посольстве к калмыкам. Лифаньюань неутомимо искал способ остановить или даже уничтожить джунгар. И вот зримое свидетельство его коварства!
— Расскажи мне, мой друг, о том, как эта вещь оказалась у тебя, — смиренно попросил Цэрэн Дондоб. — Расскажи всё, что знаешь.
Полузакрыв глаза, нойон слушал о Яркенде, о золоте, о тобольском губернаторе Гагарине, о двух полках Бухгольца, о заверениях в дружбе, о ретраншементе и пушках, о перебежчике и его бесценном известии.
Онхудай закончил и глядел на Цэрэн Дондоба.
— Я понял, — тихо кивнул нойон. — Русские сговорились с китайцами и нанесли нам удар в спину, — Цэрэн Дондоб наклонился и накрыл руки зайсанга своими руками, выражая одобрение. — Я прощаю тебя, зайсанг, за то, что ты отвлёк меня от похода на Лхасу. Ты прав. Я должен быть здесь.
Онхудай надулся от гордости.
— Я не только смелый, но и умный, — высокомерно сказал он.
— Я хочу увидеть перебежчика.
По знаку Онхудая котечинер вскочил и выбежал из юрты. Вскоре штык-юнкер Юхан Густав Ренат уже стоял у очага перед нойоном и зайсангом.
— Нойон спрашивает, кто ты? — перевёл Онхудай слова Цэрэн Дондоба.
Ренат догадался, что сухонький старичок перед ним — самый главный степняк; это он привёл огромное войско, которое возводило вторую юргу.
— Я офицер. Артиллерист. Я стреляю из пушек.
— Какая у тебя причина предавать своих людей?
— Это не мои люди, — устало ответил Ренат. — Я не русский. Я из далёкой страны у северного моря. Мой король ведёт войну с русским царём. Я попал в плен. В плену я уже седьмой год. И я хочу вернуться домой. Я надеюсь, что в обмен на это золото, — Ренат кивнул на пайцзу, висящую на груди Онхудая, — вы отправите меня с женой к калмыкам. От них я уйду к туркам.
— А где твоя жена?
— Она скоро приедет в крепость с караваном. Вы можете захватить его.
Цэрэн Дондоб долго раздумывал над словами Рената, которые ему перевёл Онхудай. Ренат ждал.
— Мы возьмём русский караван, — наконец сказал он. — Мы уничтожим русскую крепость и перебьём русское войско. И я хочу сделать это быстрее.
Онхудай хищно заулыбался, довольный решением нойона. Ренат не понимал, о чём по-своему говорят степняки.
— Голову этого изменника, — Онхудай кивнул на Рената, — можно забросить в крепость, чтобы устрашить русских перед гибелью.
— Нет, — возразил нойон. — Он может пригодиться. Пусть даст клятву.
— Тебя пока пощадили, — сказал Онхудай Ренату по-русски, поглядел на одного из слуг и приказал по-монгольски: — Беспалый, приведи собаку.
Один из котечинеров выбежал из юрты.
— Ты сделаешь шахан на моей сабле, — сообщил Онхудай.
— Что это такое? — мрачно спросил Ренат.
— Клятва.
Ренат опустил глаза. Ему это было уже безразлично.
Прислужник вернулся с собакой на верёвке. Он поставил собаку рядом с Ренатом и отступил, не выпуская верёвки. Онхудай поднялся, подошёл к Ренату, вытащил саблю из ножен и протянул её.
— Целуй.
Ренат взял саблю из рук зайсанга и поцеловал клинок.
— Теперь разруби собаку пополам. Это шахан, слово с кровью.
Ренат ошарашенно поглядел на пса. Пёс улыбался, вывесив язык, и вертел мохнатым хвостом. Он был точь-в-точь такой же, как Юсси. Верный Юсси, которого убил пьяный русский полковник, — а с гибели Юсси началась та страшная драка на ярмарочной площади в Тобольске. И вот снова судьба Рената, судьба Бригитты зависят от жизни собаки. Нойон Цэрэн Дондоб, прищурясь, испытующе смотрел на штык-юнкера. Онхудай ухмылялся: он ждал, что перебежчик откажется — и тогда его можно казнить.
Ренат отступил на шаг и поднял саблю для удара.
Глава 3 Душа в подклете
Табберт опять зачастил к Ремезовым. Охваченный новым замыслом — замыслом книги о России, он обрёл в Семёне Ульяновиче столь же полезного знатока старины, сколь полезен Ремезов был ему как картограф. Табберт расспрашивал и записывал в тетрадь об Иване Грозном и Гришке Отрепьеве, о Рюриковичах и Романовых, о Ермаке и патриархе Никоне. Все сведения сего сибирского фантазёра, разумеется, нуждались в последующей проверке с должным усердием, но для начала Табберту требовалось составить общую картину событий. Сыновья старого Ремеза тоже пригодились для книги: Леон знал воинское дело, а Симон-младший разбирался в вопросах веры. У Симона Табберт попросил дозволения поговорить с Епифанией.
— Ну, попробуй, господин капитан, — с сомнением согласился Семён.
Самолюбию Табберта льстила близость к семье Реме-зовых, которая в Тобольске, да и во всей Сибири, без сомнения, стояла особняком. Табберт надеялся, что Реме-зовы понимают важность его работы, и ему разрешено у Ремезовых больше, чем любому другому чужаку, а то и члену семьи.
Семён-младший и Епифания жили в подклете мастерской, как это было и до побега раскольников. Табберт повесил на гвоздь треуголку и епанчу, потопал ногами, сбивая снег, и присел у стола на лавку. В подклете горела лучина. Семён-младший скрежетал напильником — разводил зубья кованой пилы. Епифания стояла у стола и крутила жёрнов ручной меленки. Табберт разглядывал эту бабу с доброжелательным интересом. Епифания казалась ему не совсем человеком: так прирученного волка нельзя считать собакой.
— Как твой чувство себя? — осведомился он с любопытством лекаря.
— Благодарствую, — ответила Епифания.
— Скажи, ты по-прежнему расколчица?
Епифания молчала. Семён-младший стиснул напильник.
— Скажи, правда есть, что перед гарь вы держать пост, а ваш вожак обратить вас в монах, и вы быть братья и сьостры?
— Правда, — скупо сказала Епифания.
— А что хотеть ваш вожак? Власть над вами? Слава среди расколчиков? Страх царя перед ваша вера?
Семён понимал, что Епифании невыносимы такие холодные и жёсткие вопросы об Авдонии, однако усилием воли она не даёт себе закрыться.
— Батюшка души спасал.
Такой ответ ничего не объяснил Табберту.
— Когда начало пожар, мои люди открыть дверь, а твои люди, много, не выходить, — сие что есть? Упорство? Или терять рассудок?
По Епифании покатились волны липкого жара. Этот швед выпытывал самое главное. Она помнила, о чём думала в тот безумный миг: она боялась боли и смерти. Даже нет, не самой смерти, — она боялась умирания. Боялась перешагивать через порог. Она видела тогда в храме, как мужик свернул шею своей жене, чтобы та не мучилась, сгорая заживо. Видела, как мать задушила младенца. Видела, как девка бросилась в полымя, желая скорее завершить погибель. В храме Епифания понимала, что Авдоний не убьёт её, не избавит, и молилась, обнимая его колени, чтобы он каким-то чудом перенёс её через огонь — отсюда сразу в рай. Но через огонь её перенёс Семён. Ей не хватило веры и силы, чтобы дотерпеть, земное пекло стало для неё страшнее адского. Однако были и те, кто преодолел ужас и боль. И отец Авдоний преодолел.
— Кто верил истинно, тот и не вышел, — глухо сказала Епифания.
Легче было голой пройти через площадь, чем исповедаться этому шведу. Но она предала свою веру, и будет нести печать, которую видят все, — это её наказание. На ней Агасферов грех. Она оттолкнула Господа. И она должна говорить о своём грехе: каяться в нём, даже если ему нет искупления.
— Скажи, те, которых мы спасать, они позднее снова делать гарь?
Глаза у Табберта горели. Он словно бы ощупывал пальцами бьющееся сердце живого человека: таковое исследование невозможно по природе, ибо разъятое тело умирает, и потому опыт беседы с этой бабой был бесценным.
— Довольно, господин капитан! — угрюмо оборвал Семён, откладывая пилу. — Жестоко о том выпытывать! Ступайте к батюшке, а её не трожьте!
Табберт вздохнул и поднялся.
— Сожалеть! — искренне сказал он.
Табберт забрал треуголку и епанчу и закрыл за собой дверь, а Епифания всё так же крутила жёрнов меленки, стоя у стола. Семён сзади взял её за плечи и уткнулся лбом ей в затылок.
— Помилуй, Епифанюшка, — прошептал он. — Сдурил я, что пустил его.
— Ничего, Сеня, — твёрдо ответила Епифания. — Так бог хотел.
…За события в Чилигино никакой кары от властей для Епифании не последовало. За что её карать? Она не убегала из-под стражи, как Авдоний с братьями. И гарь готовила тоже не она. Епифания, девка Алёна, по бумагам — всего лишь холопка Ремезовых. Ежели сами Ремезовы не требовали проучить её кнутом, так это ихние дела, а не начальства.
Всю обратную дорогу от Чилигино до Тобольска Семён присматривался к Епифании, пытаясь понять, что с ней происходит. Она будто очнулась. Треснула и развалилась скорлупа ожесточения, отчуждения и непокорства. Епифания почти всегда молчала, но Семён чувствовал, что она теперь видит этот мир — эту реку, эту осень, эту землю. Семён хотел верить, что после потрясения морок слетел с души Епифании, что Епифания воскресает.
Раздумывая о доме, Семён сказал, что ей надо примириться с Семёном Ульянычем и Ефимьей Митрофановной, и Епифания согласилась. В горнице она встала на колени и до половиц поклонилась Ремезовым.
— Простите меня, — глухо сказала она.
— За что? — тотчас взъелся Семён Ульяныч.
— За всё, в чём виновной почитаете.
— Бог тебе судья, — пожалела Ефимья Митрофановна. — Душу береги.
Но вся семья Ремезовых вздохнула с облегчением, когда Семён увёл Епифанию в подклет отцовской мастерской. Пусть там живут — отдельно. И Епифания почти не появлялась в доме. Работа у неё была на дворе и на улице. Она рубила дрова вместо мужиков, ходила за скотиной вместо Машки и Варвары, разгребала снег вместо Лёньки и Лёшки, стирала на Тырковке, вдвоём с Семёном возила воду с Иртыша. И кормились Семён с Епи-фанией тоже сами по себе: в их печку легко помещался собственный чугунок.
По первому снегу Семён ездил с Епифанией на дальний покос, где с лета в балагане осталось сено. Гуня тянула волокушу, а Епифания шагала рядом — и как-то незаметно отошла в лес. Спохватившись, Семён вернулся за ней. Епифания была как заколдованная: брела, поглаживая стволы деревьев, нагибала к лицу гроздья рябины и срывала ягоды губами, задирала голову, глядя в блёкло-голубое небо за ветвями, и платок свалился с её плеч.
— Что с тобой, Епифанюшка? — тревожно спросил Семён.
— Всё здесь живое, Сеня, — ответила она; глаза у неё были словно подо льдом. — В деревьях тепло, и соки сокровенные, и снег пуховый, добрый, и божье дыханье в высоте… Смотри — стёжка, заяц проскакал. А тишина какая, Сеня… Луч на снежинке сверкнёт — и то слышно.
— Владыка Филофей говорил на проповеди, что мир и дан как Благая Весть, — осторожно сказал Семён.
— Верно говорил, — прошептала Епифания. — Только кому Весть?
— Всем.
Епифания лишь тускло улыбнулась, словно знала что-то своё.
Детское её изумление Семён истолковал как горькую радость от возвращения к жизни. Но потом заметил, что Епифания засматривается. То вдруг затихнет у проруби на Тырковке, а в проруби чистая вода дрожит в беззвучном токе над тонким промытым песком и камешками. То вдруг не может отойти от коровы, заботливо обирая с её шкуры мелкие мусоринки. То уставится на огонёк, ползущий по острой лучине. А то с полным беременем дров замрёт у поленницы, глядя на закат за Троицким мысом — студёный, по-петушиному яркий, разметавший краски во все стороны: алый цвет — на облака, золото — на снежные склоны, дерзкую зелень — в глубину синевы. В такие мгновения, немного выждав, Семён робко трогал Епифанию за руку, и она будто пробуждалась от наваждения: бездна, которую она видела, исчезала, как в озёрной глади исчезает отражение, потревоженное касанием.
А ночами всё было иначе. Ночами она вся была обращена к Семёну и открыта для него. Она отзывалась на всякое движение, на всякое желание. В её жаркой нежности чудилось что-то жертвенное, словно это она искала его, звала и спасала, а вовсе не наоборот. И Семён не мог насытиться: целовал её мягкие губы, сжимал её груди, а она бесстыже обхватывала его ногами. В их соединении не было страсти — только неутолимая жажда. А может быть, Епифания просто отдавала то, что он дарил ей сам.
— Счастлива ли ты, Епифанюшка? — однажды спросил он.
— Да, Сеня, — ответила она.
Но у него в душе отчаянно билось: не верю, не верю, не верю.
Он чуял: Епифания что-то скрывает от него. Нет, она не лжёт, однако её жизнь дополнена чем-то ещё, о чём он не знает, и потому она говорит, что счастлива. После того, что случилось в Чилигино, счастья быть не могло.
Тайна, которую скрывала Епифания, существовала не мыслезримо, не бестелесно, как душевная червоточина; эта тайна воплощалась во что-то обыденное, требовала времени, уединения и встреч. Такой тайной у баб бывает полюбовник, но, конечно, Епифания не имела полюбовника. Волей-неволей Семён заметил: Епифания порой подгадывает так, чтобы отлучиться с подворья в одиночку, уклоняется от его, Семёна, присутствия. Для чего она это делала? Для кого? Семён не пытался следить за Епифанией, не крался за ней по улицам, прячась за углами, не доискивался до сути того, о чём она молчала. Он был убеждён, что всё равно узнает.
И однажды ночью узнал.
Он проснулся, когда Епифания осторожно поднялась с лежака, накинула шубейку и вышла на улицу. Зачем? Дров хватало. Лохань для ночной нужды стояла в закуте. Ни скотина, ни птица не шумели, растревоженные лаской или хорьком. Разве что кто-то постучался в ворота?.. Семён тоже встал, но услышал приглушённые голоса прямо за дверью подклета.
— Ныне убежище наше на Керженце, — звучал мужской голос. — Тамо по лесам доброе множество скитов учинилось — Оленёвский, Корельский, Комаровский, и первый из них — Шарпан. Учителя — все чистые адаманты.
— Далеко от Тобола до Волги, — робко отвечала Епифания.
— Ты с Онего досюда в кандалах дошла. Неужто своей волей до Волги не довлечёшься? Чрез Яик иди, тамошние казаки такоже наши. Ильбо чрез Весёлые горы — невьянцы с керженцами в духовном общении укреплены.
Семён понял: Епифанию подбивают бежать из Тобольска на Керженец. Расколыцицкий мир — вторая вселенная; он всюду, он невидим, но всё опутал заповедными тропами; у него везде свои люди и свои пристанища. И здесь, в Сибири, огненной гибелью Чилигиной деревни ничего не закончилось. Упрямые тобольские расколыцики отыскали Епифанию, что уцелела в чили-гинской гари, и вновь раздувают в ней угасшие угли.
— На Керженце знатный девичий скит прославлен, его мать Голендуха утвердила. У Голендухи тебе рады будут, сестрица.
Голос раскольника был пугающе знаком Семёну.
— У меня душа истязается, батюшка, — услышал Семён слова Епифании. — Мне покаяние не поможет.
— А я и не каяться тебя зову. На Керженце скоро пламя запылает. Тамо нижегородский архиепископ Пити-рим дьяволовой серы надышался и войной идти готов. Он всё сожжёт. Все скиты. Грядут великие гари. С Кер-женца много Кораблей взлетит. Восходи на любой, сестрица, а мы тебя ждём. Всё наверстаешь, родная моя, чего здесь упустила. Твоя печаль не потеря.
У Семёна шевельнулись волосы. С Епифанией говорил Авдоний. И он опять тянул её к огненной купели.
Скрипнула дверь, дохнуло холодом, Епифания повесила шубейку на гвоздь и увидела Семёна, сидящего на лежаке.
— Он же мёртвый, — охрипнув, сказал Семён.
Епифания присела рядом с ним.
— Он живой, Сеня. Он выбрался тогда.
Но Семён знал, что Авдоний никак не мог выбраться из горящей церкви.
Семён внимательно смотрел на Епифанию. Она оставалась спокойной, будто ничего не случилось, но внутри — Семён это почувствовал — словно окаменела, не желая соглашаться с правдой.
— Давай выйдем из подклета, Епифанюшка, — мягко предложил Семён. — Ты сама увидишь: твои следы на снегу есть — а его следов нет. Но хуже того, коли там копыта отпечатаны.
Епифания напряжённо глядела на икону в красном углу, резной киот был трепетно освещён лампадой. И Семён увидел, как сквозь лицо нынешней Епифании — вроде бы освобождённой от приговора на гарь, — проступает лик прежней насмертницы: лик жёсткий, озлобленный, источенный страданием.
— Ежели он мёртв, так я проклята, — убеждённо произнесла Епифания.
Да, она проклята богом. Она убоялась святого огня — и господь от неё отвернулся. Отсюда и вся красота мира, которая ей открылась, и новая жизнь безмятежная, и любовь Семёна: это всё не для неё. Она изгнана из чертога, и теперь господь не прячет своих сокровищ. Она уже ничего не украдёт.
— Ты не проклята, — мягко возразил Семён. — Живи, Епифанюшка. У тебя всё есть, родная моя. Дом есть, и я рядом с тобой, и годы впереди. Только похорони былое, отрекись от смущения, себе не мсти.
— Я проклята, — упрямо повторила Епифания. — Ко мне сатана приходит.
Она молилась под киотом до рассвета, а Семён сидел на лавке, сжимая голову руками. Он не знал, что делать. Прошлое держало душу Епифании в плену и не желало выпускать. Тело Епифании истерзали царские стражники, а душу изувечил Авдоний. Он, Семён, вырвал тело Епифании из пылающей церкви — а душа продолжала гореть в том бесконечном пожаре.
Утром Семён отправился на Софийский двор к владыке Филофею. Забот у владыки было невпроворот, но он нашёл время выслушать Семёна. Владыка сидел в своей келье в креслице, а Семён рассказывал. Филофей долго смотрел в ледяное окошко, словно искал ответа в письменах инея.
— Мне нужна от неё исповедь, — наконец сказал он. — Без исповеди ничто не действенно. Уговоришь её?
— Уговорю, — кивнул Семён, хотя не очень надеялся на это. — Только прошу, владыка, приходи в ночь, когда батюшка с матушкой уже лягут. Не хочу, чтобы они о таких страстях проведали.
В подклете Семён встал перед Епифанией на колени.
— Исповедуйся владыке, — попросил он. — Владыка поможет. Он идолов в тайге валит, он не боится князя мира сего.
— Никонианского священства не приемлю, — прошептала Епифания.
— Ну до того ли тебе? — взмолился Семён. — Ты у беса в когтях! Он наш двор копытит! Хочешь душу спасти — так хватайся хоть за соломинку!
Епифания склонила голову и заплакала. Она же от всего отступалась. От светлого инока с Сельги, от надежды своей, с которой брела в кандалах в Сибирь, от очищающего огня в Чилигино, от древлего завета…
Филофей пришёл заполночь. Семён снял с него ямщицкий тулуп, и Филофей положил на печной бок замёрзшие ладони. Епифания затравленно смотрела на владыку из угла, прячась в тени.
— Ты, Семён, на улице подожди, — велел Филофей. — Так лучше будет.
Филофей сел на лежак и похлопал ладонью рядом с собой.
— Иди сюда, — позвал он.
— Не пойду.
— Ну, оттуда говори, — согласился владыка. — Грешна?
— Грешна, — проскрежетала Епифания, будто разматывала спёкшуюся в ком, заржавленную цепь. — Я воровала. От нужды брала, но чужое.
— Грех, — с сожалением кивнул Филофей.
— Я в блуде жила. А звали моих полюбовников…
— Богу именуй, не мне, — перебил Филофей.
Епифания осеклась. Она глядела на этого священника с ненавистью — он вскрывал все раны души.
— Я гневалась — до тьмы в глазах, — медленно распаляясь, продолжила Епифания: пускай никонианский прихвостень хлебнёт страха божьего, как она хлебнула, авось поперхнётся. — Я любила без памяти. Я пять лет в расколе, я священство отрицала, от мирян таинства приемлела, царя лаяла! Я в гордыне над всеми вознеслась и отвратилась от того, кто мне добра желал!
— Грех, — подтверждая, опять кивнул Филофей.
— Я человека убила! Я себя своей рукой хотела смерти предать!
— Грех. А ещё что?
— Мало тебе? — закричала Епифания. — Коли хватит, так отпускай!
— Дьявола видишь? — спокойно спросил Филофей.
Епифания задохнулась.
— У-хо-ди! — вкладывая весь гнев, утробно прошипела она.
— Сокрушается ли душа твоя? — спросил Филофей.
— Сокрушается, — с мукой выдавила Епифания. — Уходи, не то убью!
Филофей вздохнул и поднялся.
На улице к владыке бросился Семён. Он так и не застегнул полушубок, однако не чувствовал ночного холода. В тёмном небе над мастерской мелко крошился иззубренный звёздный лёд. Двор сверкал ровной белизной.
— Горько мне говорить тебе это, Сеня, — Филофей, глядя в сторону, поднял воротник тулупа, — но женой твоей ей не быть.
— Почему? — Семён искал глаза митрополита.
— Хочешь спасти её — отдай в монастырь, даже против воли. Её душа на волоске над пропастью висит. И дьявол от неё не отступится.
Семён стащил шапку и мял в руках.
— Я матушке Ефросинье передам, чтобы она приняла твою суженую в обитель на покаяние. Ежели ты привезёшь её, конечно.
Владыка похлопал Семёна по плечу и, сутулясь, пошагал к воротам.
Семён в отчаянье распахнул дверь подклета.
Подклет был озарён неровным красным светом, словно от углей в печи, но свет не казался тёплым и мягким — он был каким-то прогорклым, грязным, перекалённым. За столом, будто вечеряя, сидели Епифания и Авдоний. Глаза Епифании зияли темнотой. Однако Семён ничуть не испугался мертвеца. Слова владыки означали, что всё, чего Семён боялся, уже свершилось. Чем же ешё может угрожать ему адское исчадие? Горшки переколотить?
— Снова ты? — с презрением спросил Семён. — Снова терзать явился, бес?
— Я не бес, — Авдоний с мрачной важностью покачал головой. — Я ангел возмездия. И я не к ней прилетел, а к тебе.
— Зачем?
— Судить тебя.
— За что? — едва не засмеялся Семён.
— Ты её с райского порога украл. Ты её миром соблазнил.
— Сгинь, перекрещу! — устало пообещал Семён.
— Режь его, сестрица! — бешено приказал Авдоний.
Епифания молча цапнула со стола большой кухонный нож, кинулась к Семёну и со всей силы ударила его ножом в живот — полушубок у Семёна был распахнут. Семён удивлённо покачнулся. Епифания ударила опять, а потом опять и опять.
Семён сжал её запястье, поднял её руку, преодолевая сопротивление, и поднёс к её лицу. Епифания держала нож за лезвие, а тыкала в Семёна рукояткой. Ладонь Епифании, разрезанная до кости, была залита кровью.
— Смотри, Епифанюшка, — тихо сказал Семён, — смотри, родная, это же твоя кровь. Твой гость — дьявол. А меня ангел хранит. Я же не один.
Епифания оплыла вниз и скорчилась на полу. Авдо-ния в подклете уже не было. Адский красный свет угасал, сжимался, и в полумраке осталась лишь лампада под сплошь закопчённой иконой в обугленном киоте.
Два дня Епифания пролежала в подклете на лавке лицом к стене: не ела, не пила, не подавала голоса. На третий день Семён и Леонтий подняли её и натянули ей на плечи тулупчик. Варвара, жена Леонтия, повязала ей голову платком. Семён и Леонтий вывели Епифанию на улицу. Возле подклета ждали сани-розвальни. Маша раскрыла створки ворот. С гульбища смотрели Семён Ульяныч и Ефимья Митрофановна; Митрофановна крестилась.
Розвальни ехали по заснеженной улице. Гуня привычно мотала головой. Люди шли мимо, занятые своими делами, и никто не обращал внимания на Ремезовых. Где-то на кого-то лаяли собаки. Леонтий держал вожжи. Семён, точно потерянный, просто сидел рядом с Епи-фанией, которая скорчилась ничком, накрытая сверху для тепла старой полстью. Наконец Епифания заворочалась, тоже села и огляделась по сторонам. День был пасмурный.
— Я в монастырь не отдамся, — тихо предупредила Епифания. — Я убегу.
— Давай сейчас, чего тянуть, — хмуро отозвался Леонтий.
— Хватит бегать, Епифанюшка, — сказал Семён. — Разве мало тебе? От лукавого не скроешься. И в рай окольных тропок нету. Спасай душу.
Епифания вдруг ловко выпрыгнула из розвальней, но никто за ней не дёрнулся. Она пошагала рядом с санями.
— Побежали вместе, Сеня? — вдруг умоляюще предложила она. — Иную жизнь начнём. Забудем всё. Только не здесь, Сеня.
— Нет, родная моя, — ответил Семён. — Куда я без батюшки, без Лёньки, без Тобольска?
— А говорил — любишь меня!
— Ты моё счастье, мой свет, другого вовек не надо. Но не искушай.
— Тогда я одна уйду! Мне лучше в могилу, чем в схиму!
— Не бунтуй, — буркнул Леонтий. — Нагрешила — кайся.
— Ежели ты убежишь сызнова, меня тревога за тебя с ума сведёт, — задумчиво произнёс Семён, не вылезая из саней. — А ежели ты в обители останешься, я буду спокоен. Значит, для своей любви я тебя в обитель отдать должен. А куда тебя твоя любовь зовёт — я не знаю. Да и есть ли она у тебя ко мне, Епифанюшка, чтобы я тебя послушал?
— Верно, Сенька, — согласился Леонтий. — Садись, дева. И верь тому, кто за тебя страдал. Много ли таких у тебя было-то?
Епифания закрыла лицо руками. Она шагала, ничего не видя, и Семён потянул её к себе за кончик кушака. Епифания боком бессильно повалилась в розвальни, и Семён нежно приобнял её.
Глава 4 «Спаси барабанщика!»
С высоты седла меж горбов Солонго, белой верблюдицы, нойон Цэрэн Дондоб внимательно разглядывал лежащий вдали ретраншемент. Нойон был в простом кожаном доспехе-куяке, поверх которого надел шубу ючи из мерлушки, а зайсанг Онхудай, рисуясь, красовался в железной броне. Броня на его огромном теле весила, наверное, как два барана, и кобылица Эрдэнэ вспотела, несмотря на мороз. Загубит этот дурак кобылицу.
— Русские облили склоны валов водой, и на них скользкий лёд, — говорил Онхудай, — а во рвах снегу до плеч. Крепость надо брать через ворота.
— Прошедшим летом во второй нарн месяца така я взял крепость Кумул, — задумчиво ответил Цэрэн. — В битве за ворота погибли три тысячи воинов.
Он вспомнил ту битву. Синьцзянская полупустыня, полынь и молочай, светлые пески, которые громко скрипят и стонут под ногой, жара, суховеи, пыльные колеи Шёлковой дороги… Среди миражей стоял могучий дзонг — крепость с зубчатыми стенами и прямоугольными башнями, что сужались кверху и были увенчаны двускатными кровлями с выгнутыми краями… А русская крепость — плоская, будто Тенгри раздавил её стопой. Но русские построили её за считанные дни, в голой степи, без брёвен и кирпича, и эта крепость действительно была очень трудна для приступа. Умудрённый военным опытом нойон ещё не встречал таких оборонных сооружений. Вроде бы ничего особенного — а прочнее дзонга. Воистину, эти русские — дети докшитов, свирепых и коварных степных богов.
— Я уже знаю, как захватить крепость, — пыхтя, сообщил Онхудай. — Мы перебьём русский дозор, мои воины переоденутся в одежду дозорных, и русские сами откроют нам ворота, приняв моих воинов за своих. Надо лишь сохранить русского барабанщика и заставить его стучать в барабан.
Глядя на заснеженную степь, нойон обдумывал слова зайсанга. Мнение Онхудая для Цэрэна ничего не значило, но сейчас возразить было нечего.
— Сколько человек в русском дозоре?
— Десять.
— Ты узнал это от перебежчика?
— Нет, я видел своими глазами.
Онхудай помнил, как сменяются дозоры в ретраншементе, — он не напрасно ездил в гости к русскому командиру: это была разведка.
— Смогут десять твоих воинов удержать ворота, пока подоспеет войско?
— Я пошлю таких же яростных, как я сам, — самодовольно пообещал Онхудай. — Им надо будет продержаться совсем недолго. Они смогут. Ты должен приехать ко мне сегодня вечером, нойон, и ты сам всё увидишь.
Вечером Цэрэн Дондоб вновь поднялся в седло Солонго и отправился в юргу Онхудая. Вдали за русской крепостью полыхал тусклый вишнёвый закат, обещая непогоду. По становищу Онхудая с лаем носились собаки. Над верхушками юрт дрожал воздух — это остывали покинутые людьми очаги. Все воины Онхудая облачились в доспехи, сели на коней и выстроились за юргой в несколько длинных рядов. Нойон увидел целый лес поднятых пик, с которых свисали разноцветные бунчуки.
— Пусть вперёд на пять шагов выедут смелые воины, которые захватят для меня ворота русской крепости! — закричал Онхудай. — Мне нужно десять человек! Из них в живых останется только один!
Нойон Цэрэн Дондоб с интересом смотрел на лица воинов, освещённые морозным красным закатом. Кто из воинов согласится сегодня ночью уйти к Тенгри? Смуглые скуластые лица были бесстрастны. Наконец из ряда не спеша выехал один всадник. Он сидел в седле с лёгкой небрежностью, будто бы с вызовом. А потом выехал ещё один всадник. За ним — ещё трое. Затем — десять человек, затем — сто, и наконец всё войско нестройно подалось вперёд на пять шагов. Нойон скупо улыбнулся. Нет в мире никого храбрее джунгар.
А в русском ретраншементе вечер проходил как обычно: поверка, ужин, развод караулов, молитва на сон грядущий в холодных и сырых землянках. Петьке Ремезову в эту ночь предстояло отправиться в дозор, и он, ожидая команды, сидел у выхода и курил трубку на пару с солдатом Юркой. Петька сдружился с этим парнем, потому что тот знал бездну уловок для облегченья солдатской службы. Вот и кисет с табаком Юрка тоже хитростью выудил у какого-то дурня из соседнего баталиона: дурень заболел скорбутом, а Юрка наврал ему, что имеет снадобье от болезни, и обменял мешочек рубленой соломы, смешанной с солью и порохом, на полный кисет.
— За девками к старому Панхарию подаваться надо, — поучал Юрка про тобольскую жизнь. — Панхарий остячек и вогулок при банях держит, а они дешевле наших. Я, слышь, в Берёзове-то пристрастился к остячкам. Им в ухо кулаком сунешь — и всё, затихли, не бьются, не орут. Твори, что хочешь.
— Одному боязно идти, — честно признался Петька.
— А чего одному? Мы по трое бегали. Оно и выгодней на всех.
— Как же вы из казармы удирали? — удивился Петька.
— Солдат — он тварь пронырливая, — покровительственно сказал Юрка. — Откуда угодно сорвётся. Его в печь посади — так он в трубу вылетит.
Уже в дозоре, покачиваясь на коне с барабаном у седла, Петька всё размышлял о словах Юрки. Девка — это хорошо, но дело ли в торговые бани соваться? Там вертеп, это все в Тобольске знают. Стыдобигца. Может, лучше жениться? Матушка подберёт невесту, чтобы собой была пригожа и бойкая. Дозволено ли солдатам жениться? Надо у Ваньки Демарина спросить.
С чёрного неба невесомо валил густой снег. Протоптанная дозорами дорога тянулась, казалось, в совершенной пустоте — ничего вокруг не видно. Дозорные мёрзли. Юрка ехал рядом с Петькой и бурчал:
— Ну и холодина… Я в Берёзове служил, где самоедские тундры под боком, так там теплее было, чем здесь, в степи.
— И оставался бы там.
— Я бы и остался, дак меня воевода Толбузин сдал.
— Невзлюбил? — нехотя спросил Петька.
— Наказал за то, что я оброчных остяков в Оби утопить хотел.
Петька не посочувствовал Юрке. Таким, как Юрка, сочувствовать незачем, они и без того не пропадут. Петьке хотелось поскорее попасть в казарму, выпить горячего, полежать, распрямившись. Необозримые снежные просторы ему надоели. Места много, а делать нечего. Ну когда же весна? Весной они уйдут отсюда туда, где враги, сраженья, чужие города…
Во тьме послышались голоса — это приближался дозор на замену. Два десятка всадников сошлись на полуза-несённой дороге.
— Застыли, братцы? — бодро спрашивали сменщики. — Всё спокойно?
— Колотун собачий, — отвечали им. — Скорей бы к огню.
— Тихо в степи, как на погосте, — сказал командир Петькиного дозора.
— Эй, братцы, я на дороге рукавицу обронил, — Петька с досадой шмыгнул носом. — Кто подберёт — отдайте, я свою чарку уступлю.
Дозорные не замечали, как вокруг них из сугробов тихо поднимаются джунгары, что прятались там, накрывшись овчинами. Джунгар было около сотни. Они натягивали луки, выцеливая русских. Снегопад мягко поглощал любой звук, а лошади дозорных позвякивали сбруями — и никто из драгун не услышал воздушного трепета стрел. Петька даже не понял, почему люди рядом с ним вдруг обросли какими-то перьями, а потом начали медленно и безвольно оползать с коней. Кто-то охнул, и тогда Петька осознал: засада!
Не всякий раз стрела пробивала толстый зипун, однако одежда сковала движения дозорных. А джунгары накинулись со всех сторон; они стаскивали русских на дорогу и били их ножами в горло. Неуклюжие драгуны пытались выдернуть сабли или пистолеты, но всадников вынимали из сёдел на пиках, будто снопы соломы. Истребление обрушилось из холодной темноты, словно темнота ожила и рассыпалась на каких-то демонов, налетающих отовсюду.
— Миленькие, не надо, не надо! — где-то неподалёку завизжал Юрка, и голос его превратился в мученическое кудахтанье — Юрке перерезали глотку.
Петька, остолбенев, сидел в седле, а тьма вокруг металась и ворочалась. Лошади беспокойно переступали с ноги на ногу, но не взвивались на дыбы и не ржали — они не чуяли крови и не понимали, что за возню устроили люди. А джунгары валили на дорогу убитых драгун и хватали лошадей под уздцы. Два степняка уткнули копья Петьке в грудь, а третий степняк вытянул из ножен Петькину саблю и выволок из седельных кобур пистолеты. Петька всё не мог поверить в то, что случилось. Как так?.. Дозор перебит, а он в плену?.. Он сморгнул, надеясь, что задремал на ходу и всё это ему снится.
На гнедую кобылу, на которой прежде ехал Юрка, тяжело вскарабкался толстый джунгарин в кожаном доспе-хе поверх шубы. Петька узнал его — это был джунгарский командир. Он стронул кобылу и приблизился к Петьке.
— Это ты стучишь в него, в бемберийн? — спросил зайсанг Онхудай, указывая на барабан, притороченный у Петьки к седлу.
Петька молчал, не соображая. Пеший степняк перевернул копьё и тупым концом древка больно ударил Петьку в спину, приводя в чувство.
— Я, — качнувшись, ответил Петька.
— Ты должен стучать в бемберийн, как ты делаешь это, чтобы твои орысы открыли нам ворота вашей крепости, — сказал Онхудай. — Ты понял?
— Да, — ответил Петька.
Он смотрел, как джунгары, ворочая на дороге убитых драгун, снимают с мертвецов зипуны и напяливают на себя, как нахлобучивают треуголки с распущенными полями — для тепла солдаты повязывали головные платки и застёгивали поля шляп на пряжку под подбородком. Для большего сходства с русскими степняки навьючивались портупеями и опоясывались ремнями с лядунками. Вся эта дикость ещё никак не умещалась у Петьки в разуме.
— Если ты будешь стучать в бамберийн, мы не убьём тебя, — Онхудай смотрел Петьке в глаза. — Если ты у ворот прекратишь стучать, Чакдаржийн заколет тебя, понял?
— Да, — повторил Петька.
— Заткни ему рот, — по-монгольски распорядился Онхудай.
Петьке сунули в рот рукавицу и обмотали голову верёвкой, затянув её под затылком на мёртвый узел, чтобы пленник не выплюнул кляп.
— Всё! — сказал Онхудай, оглядывая десяток джунгар, одетых в зипуны и треуголки. — Садитесь на коней и езжайте. Вы умрёте, но откроете ворота.
По взрытой борозде дороги десять всадников ехали в снегопаде через степь, направляясь к ретраншементу. Все молчали. Стискивая зубами стылую рукавицу, Петька потихоньку разбирал свои мысли. Дозор перебит. Он один и в плену. Джунгары хотят захватить ворота, чтобы в крепость прорвалось их войско. Он, барабанщик, должен барабанить, чтобы караул открыл врагам проход в ретраншемент. Если он не будет барабанить, его убьют.
Вокруг простиралась всё та же бесконечная степная тьма, наполненная призрачно падающим снегом. Снег укрывает мёртвых драгун, что лежат на пустой дороге; снег сыплется на полчища степняков, что притаились где-то поблизости, готовые ринуться к крепости; снег застилает крыши казарм, плац и барбеты ретраншемента. Товарищи погибли — да бог с ними, сейчас не до них. Важно лишь то, что случится с живыми. И Петьку медленно разогревала обида. Почему степняки взяли его, а не кого-то другого? Он хочет стрелять по врагу с куртины, он хочет бежать на врага с багинетом! Он не желает барабанить, как заяц по пеньку, когда другие солдаты будут сражаться! Петькина обида перерастала в строптивое упрямство — может, собственное, мальчишеское, а может, и батькино, родовое. Нет, он ни за что не останется с рукавицей в зубах в стороне от драки! Он же так долго ждал настоящей войны! Он не будет покоряться ка-ким-то косоглазым степнякам, которые надеются лишить его главного дела — пальбы и рукопашной!
Треск Петькиного барабана услышали двое караульных на бастионе.
— Хорошо драгунам, — ёжась, сказал Антоха, караульный помоложе. — Покатались — и в тепло. А нам ещё чёрт-те сколько стоять…
Антоха уныло и бесцельно бродил по бастиону от пушки к пушке и для сугрева хлопал себя руками по плечам. Дядя Фома отгребал снег лопатой.
— Что-то там не то, — пробормотал он, распрямляясь.
Сдвинув треуголку набок, дядя Фома освободил ухо от платка.
— Чего барабанщик колотит?
Антоха, скрючившись, замер и сосредоточился. От ворот ретраншемента донеслись голоса — тамошние караульные тоже уловили рокот барабана, а потому принялись доставать из воротных скоб засовы и оттаскивать рогатки.
— «Тревогу» он бьёт, что ли? — не поверил себе дядя Фома.
Барабанный стук отчётливо укладывался в слова: «Го-род бе-ре-ги, Илья-про-рок! Го-род бе-ре-ги, Илья про-рок!».
— А ведь точно, седьмой артикул! — растерялся Антоха.
Оба бастионных караульщика подошли к амбразуре и вгляделись во тьму. Стук барабана медленно приближался из степи. В стороне от бастиона заскрипели петли — там воротные караульщики открывали створки ворот.
— Что они, артикулы забыли? — удивился дядя Фома.
— Мозги отморозили, — поддакнул Антоха.
Антоха и дядя Фома уже различили вдали тёмные фигуры всадников. А барабан дозорного захлёбывался «тревогой»: «Город береги, Илья-пророк! Город береги, Илья-пророк! Город береги, Илья-пророк!».
— Эй, на воротах! — заорал дядя Фома. — Затворяй! Тревога!
Но от ворот по-прежнему доносились весело-ожив-лённые голоса.
— К пушке, Антоха! — рявкнул дядя Фома.
Он кинулся к ящику, отбросил крышку и вытащил картуз с порохом, поднёс его к орудию и пихнул в дуло. Антоха умело дослал картуз вглубь жерла длинным прибойником. Дядя Фома уже поднимал к дулу тяжёлый матерчатый стакан с картечью. Антоха прибойником загнал стакан к заряду. Дядя Фома выдернул молоток из крепления на лафете и принялся колотить по гандшпигам, поднимая казённик пушки и опуская ствол. Чугунная пушка захрустела цапфами по льду, что нарос в вертлюжных гнёздах.
— Запыжим? — быстро спросил Антоха.
— Сойдёт и так! Запальник мне!
Антоха схватил запальник и осторожно сунул к пламени фитильницы. Дядя Фома вынул из складки на треуголке кованую иглу протравника, встал возле орудия на колени и сквозь дырку запала в казённике пушки проткнул иглой картуз с порохом, плотно забитый в жерло до задней стенки.
Антоха стоял наготове, лёгкий ветерок раздувал язычок огня в клюве запальника. Дядя Фома снова пролез к амбразуре, опираясь рукой на ствол пушки. Он хотел ещё раз посмотреть на дозор, выходящий под выстрел.
Чёрные всадники были уже совсем близко. Барабан бил «тревогу».
— Эй, драгуны, отзовись! — крикнул дядя Фома.
Дозорные должны были слышать его — но никто не отозвался, будто на конях ехали безгласные мертвецы.
— Степняки не говорят по-нашему! — догадался Ан-тоха.
Дядя Фома отпрянул от амбразуры и перекрестился.
— Пали, Антоха! — приказал он. — Господи, спаси барабанщика!
Антоха опустил клюв запальника и подвёл огонёк к отверстию запала. Пушка грохнула и откатилась назад, пробороздив станинами лёд барбета.
Джунгары ехали уже мимо бастиона и с опаской смотрели на его ровные покатые откосы. Впереди открывался проход между куртиной редута и куртиной ретраншемента — там находились ворота в русскую крепость. И вдруг на бастионе полыхнуло. Картечь с визгом хлестнула по джунгарскому отряду, раненые лошади заржали и вскинулись, несколько воинов упали с сёдел. Петька выронил барабан и уцепился за гриву коня. Он слышал окрик с бастиона и понял, что хитрость степняков разгадана, но не ожидал выстрела из пушки. Картечина распорола зипун у него на плече.
— Хэрэв та ууртай хулгана байна! — где-то позади Петьки завопил охранник Чакдаржийн.
Петька хотел оглянуться, но вдруг его словно пронзило молнией. Какая-то неимоверная сила разломила его изнутри пополам, точно горбушку хлеба. Петька выгнулся, извиваясь под зипуном, как рыба на остроге, и всплеснул руками. Снегопад бросился в глаза, и каждая снежинка запылала, ослепляя. Это Чакдаржийн ударил Петьку в спину пикой и пробил его почти насквозь.
Шестеро уцелевших джунгар дружно помчались вперёд — в проход между редутом и ретраншементом, к воротам русской крепости, но створки ворот захлопнулись прямо перед степняками. За досками брякнул засов. В крепости раздавались крики, бой барабанов, звуки сержантских рожков. С куртин бабахнули выстрелы. Не сбавляя скорости, джунгары пронеслись по проходу мимо ворот, пролетели мимо другого бастиона и устремились в степь. Им не удалось ничего сделать — затея с дозором сорвалась.
А с другой стороны к ретраншементу уже катилась конная лава зайсанга Онхудая. Всадники визжали, свистели, гикали, улюлюкали, вопили, махали саблями и потрясали пиками с развевающимися бунчуками. Кони, храпя, вспахивали сугробы, и над ордой клубилась снежная пыль. Казалось, что орда снесёт, затопчет ретраншемент, плоско приникший брюхом к земле, как прижимается мышь, когда видит в небе коршуна. Однако с бастиона, а потом и с куртины редута в лицо орде из темноты вдруг гавкнули пушки. Железный ветер картечи, бурля, промёл просветы в рядах степняков.
Войско Онхудая, войско окраинного доржинкитского улуса, никогда не сходилось в битве с врагом, который обладал бы пушками, — ни с русскими, ни с китайцами. Дикие степняки, воины зайсанга Онхудая не умели давить сопротивление; их обычаем было внезапно напасть и растерзать, а ломить врага, гнуть его, теснить шаг за шагом, держаться под обстрелом, — нет, такому степной разбой их не учил. Потому при первом же залпе левое крыло орды — зюн — сразу откололось и завернуло налево, огибая редут, а правое крыло — барун — завернуло направо, огибая ретраншемент. Хошун — «клюв» орды — с разгона влетел в ушелье между редутом и ретраншементом и завяз в узости, а сзади его подпёр запсор, основная сила войска.
Ворота крепости были затворены, а куртины загрохотали мушкетной пальбой. Пули вышибали джунгар из сёдел, всадники сталкивали друг друга во рвы, пространство между редутом и ретраншементом превратилось в долину погибели, которую поперёк перехлёстывал беспощадный железный ливень ружейного обстрела. Пути назад не было, и джунгары рвались вперёд, прочь из западни. Потеряв половину воинов, хошун еле выдрался из теснины и помчался на простор, а вслед ему харкали картечью две батареи с двух бастионов. Запсор беспорядочно столпился, закружился сам в себе, избегая смертельной ловушки, и в гущу конников били картечью две другие батареи с двух других бастионов. Джунгар охватило смятение, они уже не понимали, куда им скакать, кого рубить, откуда их косит артиллерийский огонь. Воины запсора поворачивали коней, и запсор стремительно рассеивался по степи. Снежные подступы к русской крепости, дорога к воротам и рвы были густо усыпаны телами людей и коней; раненые люди стонали и пытались уползти, а раненые кони ржали, поднимались и падали обратно в сугробы.
Войско Цэрэн Дондоба приблизилось к ретраншементу, однако нойон, услышав канонаду, остановил свою белую верблюдицу и предостерегающе поднял руку. Впереди в темноте сверкало и рокотало. Нойон понимал, что это значит: стрельба из русских пушек ничем не отличалась от стрельбы из китайских пушек. Вестники-элчи с криками помчались по рядам всадников, распространяя приказ нойона не двигаться с места. Верблюдица Солонго, задрав голову, жевала жвачку и отфыркивалась от снегопада.
— Доржинкитский тарбаган вместо гамбира укусил навозную лепёшку, — ухмыльнувшись, сказал Дондоб своим спутникам, советникам из числа опытных воинов. — В эту ночь мы напрасно лишили оружие отдыха.
— Утром мы будем смеяться над Онхудаем, — согласился советник.
Полковник Бухгольц в это время стоял на бастионе возле амбразуры и всматривался в темноту за рвом. Из темноты доносились жалобные вопли.
— Предпримем вылазку? — спросил майор Шторбен.
— Там уже не должно быть способных к баталии воинских сил, — сухо ответил Бухгольц. — Сии кочевники получили достаточный отпор, дабы освободить себя от желания вторичной конфузии.
— А раненые?
— К утру их умертвит мороз.
Глава 5 Вундерланд
Табберт составил план своей книги о России и приятно удивился объёму того, что он может сообщить об этой стране. Замысел обрёл определённость и потому стал для Табберта вдвойне притягательнее. Эту книгу образованная Европа должна читать с таким же неугасающим интересом, с каким читает знаменитые «Приключения Телемака» господина Фенелона.
В первом разделе книги он расскажет о природе сей страны во всех её восьми губерниях: о погоде, о земледельческих достоинствах и минеральных богатствах, о древесном царстве и зверях. Во втором разделе — о городах, дорогах и каналах. В третьем — о древних правителях династии Рюриковичей и царе Иване Грозном; раздел он закончит падением династии, убийством царевича Димитрия, Гришкой Отрепьевым и нашествием Речи Посполитой. Четвёртый раздел он посвятит становлению династии Романовых и первым двум царям. Пятый раздел — государю Петру, его преобразованиям и войне с королём Карлом. Шестой раздел будет о религиозной жизни России: о принятии христианства от Византии и о расколе патриарха Никона. Седьмой раздел — о доходах Российского государства. Восьмой — о войске. Девятый раздел, последний, — о российской знати, о наиболее известных фамилиях. В конце января Табберт скромно поздравил себя с началом десятого года своего производства в дворянское достоинство, и тема аристократии — не важно, русской или не русской, — ненавязчиво указывала, что автор книги находится на той же сословной ступени, что и герои его сочинения.
Для предварительного наброска столь масштабного труда вполне хватало древлехранилища Софийского двора и архива губернской канцелярии, а также удивительной памяти Симона Ремезова, однако Табберта смущало, что перед Ремезовым он был не совсем честен. Табберт имел в виду «Служебную чертёжную книгу» Симона. Конечно, он заполучил этот фолиант без ведома Симона, и это есть большая неловкость, но корыстных целей он не преследовал, а фолиант собирался вернуть, и не его вина, что сие намерение не осуществилось. Глупая дикарка Айкон, скрывая пропажу «Служебной книги», подожгла мастерскую Симона и этим лишила Табберта возможности, так сказать, завершить дело миром. Впрочем, с того поджога прошло уже немало времени, губернатор помог Ремезовым восстановить мастерскую, и ущерб от преступления дикарки уже восполнен. Со своей стороны Табберт был готов заплатить Симону разумную сумму в качестве компенсации за понесённые расходы. Табберт надеялся, что негодование русского чудака не выйдет за пределы приличия, а благородство его, Табберта, признания отзовётся уважением старого Ремеза.
Составляя свою карту, Табберт распустил ремезов-скую книгу на листы, а теперь сшил обратно в изначальном порядке и подклеил. Тщательно завернув фолиант в холстину, Табберт явился в мастерскую Ремезовых.
Горницу освещали лучины. Семён Ульяныч сидел за столом и читал. Леонтий дресвой очищал какой-то пергамент для вторичного использования. Табберт вытер ноги о тряпку, положил свёрток на лавку, повесил на гвоздь епанчу и треуголку, прошёл к столу и присел возле Ремезова.
— Я сказку Михайлы Стадухина в Приказной избе откопал, — сказал Семён Ульяныч. — Тут про Яну, Колыму и Анадырь. Что-то Михайла сам видел, что-то от анаулов узнал. Думаю, может чертёж Чукотки поновить — от Лены до Необходимого носа? Хочешь, Филипа, вместе сверять будем?
— Пока есть другой дел, — возразил Табберт. — Говорить желание.
— Ну, говори, — согласился Ремезов.
— Я видеть пожар раскольчик, — Табберт посмотрел на Леонтия. — Леон там быть, Симон-сын. Это большой… — Табберт смешался, не находя слова, раскинул руки и потряс ими, — эйндрюк! Трясти мой душа! Европа не знать ваша страна. Россия — вундерланд! Я хотеть писать книга Россия!
— Ты мне уже раз сто об этом дрюке талдычил, — хмыкнул Ремезов. — Добро! Пиши, ежели ума хватит.
— Нужен твой помощчь. Ты колодец знания.
— Помогу, чего уж там, — Семён Ульяныч был польщён.
Табберт встал, одёрнул камзол и поправил пышный бант на груди.
— Симон, я хочу быть честным тебе, — торжественно произнёс он. — Нельзя быть дружба, когда тайна. Я сделал грех. Я прошу твой прощений.
Табберт уже заметил, что русские не любят каяться, но любят прощать кающихся. Причины этого очевидны.
Когда у государства нет интереса к справедливости суда, а у виноватого нет денег для возмещения убытка пострадавшему, простить кающегося — единственный способ показать своё превосходство. А русские весьма ревнивы к вопросу превосходства.
— Что за грех? — насторожился Семён Ульяныч.
Табберт сходил за свёртком, торжественно освободил
фолиант от холстины и с поклоном водрузил его на стол перед Ремезовым, как подарок.
— Книгу взять я, — кратко сообщил он.
— Святы господи!.. — у Семёна Ульяныча от волнения задрожала борода. — А ведь я её уже оплакал!
Он раскрыл книгу, перекинул несколько листов, потом поднялся на ноги, повернулся к киоту и широко перекрестился. Леонтий привстал, чтобы увидеть, какую книгу отдаёт Табберт. Лицо у Леонтия стало отчуждённым.
— А как ты её взял, господин капитан? — негромко спросил он.
— Я просить Айкон. Она принести мне, — честно рассказал Табберт. — Я понимать: сие мой дурной дело. Я жалеть, Леон.
Семён Ульяныч вперился в Табберта.
— Аконька украла? — изумлённо переспросил он.
— Так.
— Вот почему она горницу подожгла, — мрачно кивнул Леонтий.
— Я готов платить денег, сколько потеря.
Семён Ульяныч мгновенно вспомнил ту ночь — словно заново окунулся в пламя, пляшущее по его книгам и рукописям, вспомнил смертный ужас, когда огонь пожирал самое главное в его жизни.
— Ах ты змей подколодный!.. — без голоса, с бесконечным сокрушением прошептал Семён Ульяныч. — Ах ты дрюк чухонский!..
Семён Ульяныч и сам не сообразил, что делает: его костлявый кулак ударил Табберту в челюсть, и треуголка господина капитана полетела на кучу поленьев у печки. Табберт отшатнулся, всплеснув руками. Леонтий кинулся к отцу и успел обхватить его, не позволяя устроить драку.
— Да я ему душу выколочу! — завопил, вырываясь, Семён Ульяныч.
Табберт потёр челюсть, озадаченно глядя на Ремезова. Неужели Симон поднял на него руку? Симон, с которым он так увлекательно беседовал о географии и гиштории?.. Варварство какое-то! Однако Табберт почему-то не почувствовал себя оскорблённым. Он, конечно, виноват и получил по заслугам — впрочем, возмездие это было не дворянское, а простонародное. Даже забавно. Но чего иного ждать от Ремезовых? Судебного иска? Дуэли?
Табберт подобрал шляпу и хлопнул ею по колену, очищая от мусора. Леонтий отпустил отца. Семён Ульяныч тяжело дышал. Он снова посмотрел на киот и перекрестился, а потом как мальчишка во второй раз метнулся к Табберту и вцепился в бант, намереваясь, похоже, придушить шведа.
Табберт с силой оттолкнул старика.
— Нельзя, Симон! — рявкнул он на Ремезова, будто на собаку, надеясь образумить. — Ты не сметь! Я дворянин фон Страленберг, а ты мужик!
Симон вправе гневаться сколько угодно, но не должен забывать, кто перед ним! Ему следует гордиться, что с ним как равный дружит дворянин!
Табберт не успел додумать эту мысль: в его голове всё лопнуло цветной и звенящей вспышкой. Это ему в челюсть опять ударил кулак — теперь уже кулак Леонтия. Треуголка полетела обратно в дрова.
Табберт выскочил с подворья Ремезовых в совершенном бешенстве, но по дороге домой неожиданно быстро успокоился. Злость сменилась досадой. Конечно, откуда Ремезам знать о достоинстве аристократа? Они коров пасут, они сено косят! В конце концов, они — русские, они — гунны! Нельзя распространять на них кодекс чести. Но что же они за болваны-то? Разве они не понимают, какими последствиями грозит рукоприкладство по отношению к дворянину, к офицеру? В армии за такое расстреливают! Будь он подлец, он, Филипп Юхан Табберт фон Страленберг, капитан Померанского полка королевы Ульрики Элеоноры, обрёк бы Ремезовых на кнут при губернской канцелярии!.. Конечно, он так не поступит. Он понимает необходимость снисхождения. Как и подобает человеку его ранга, он великодушен. Однако воистину: не совершай добра — не получишь зла! И теперь Симон Ремезов откажется от сотрудничества с ним, с Таббертом. А книга о России стала уже дорога душе, и забросить этот замысел Табберт не желал и не мог.
Несколько дней он раздумывал, как ему помириться с Ремезовыми, а потом отправился на Софийский двор. Прислужник Архиерейского дома посоветовал Табберту искать митрополита в соборе.
Народу в тот час в соборе оказалось немного. Сквозь окна били косые лучи света, высокий резной иконостас сиял золотом и огоньками лампад, пахло воском и ладаном. Филофей стоял в стороне, чтобы не мешать прихожанам, и о чём-то беседовал с Григорием Новицким, облачённым в подрясник. Новицкий держал в руках медный сосуд с лампадным маслом.
— Вы ко мне? — спросил Филофей, заметив Табберта.
— Так, господин митрополит, — кивнул Табберт.
— Обожди, Гриша, — попросил Филофей.
— Добрый день, господин Табберт, — сказал Новицкий и отошёл.
— И зачем же я понадобился протестанту? — улыбнулся Филофей.
— Моя просительность не касать религий, — Табберт вежливо улыбнулся в ответ. — Мне следует начать далеко. Господин митрополит, я хотеть писать книга о Рос-сий для европейского читательства.
— Благое начинание.
— Да, так. Но мне нужен знатец… э… знаватель страна. Я хотел бесед с Симон Ремезов.
— Лучше него никто не пособит, — согласился Филофей.
— Но мы иметь ссора. Я просить вас идти где середина между меня и Симон для примирений.
— А в чём суть вашей распри, господин Табберт?
— О, увы, совершить ошибка только я! — Табберт на мгновение наклонил голову, обозначая признание своей вины. — Изволите знать?
— Думаю, надо. Говорите по-немецки, господин офицер, — и Филофей сам перешёл на немецкий. — Надеюсь, моих познаний хватит.
— Превосходно! — оживился Табберт.
Григорий Ильич не хотел подслушивать, но Табберт, сменив язык, уже не приглушал голоса, и Новицкий всё равно слышал его рассказ об Айкони, украденной книге Ремезова и пожаре в мастерской. Григорий Ильич застыл у канунного стола, утыканного горящими свечами. Слова Табберта словно бы разбили тонкий стеклянный пузырь, в который Григорий Ильич заключил свою любовь, и сейчас сердце Новицкого окатило внезапной болью: ничто в нём не умерло — ни тоска, ни горечь. Озноб иголками побежал по спине.
— Уверяю вас, господин митрополит, что у меня и в мыслях не было присваивать эту злополучную книгу Симона, — говорил Табберт. — Всему несчастье та де-вочка-дикарка, служанка. Она поступила в высшей степени глупо. Вместо того чтобы просто указать Симону на меня, она предпочла поджечь мастерскую, скрывая следы моего проступка!
«Потому что она любила тебя! — беззвучно и гневно крикнул Табберту Новицкий. — Потому что она не могла дозволить Ремезовым думать о тебе дурно! Тем огнём она тень с тебя сгоняла!»
— Да уж, господин Табберт, — вздохнул владыка. — Судьба порой состоит из сцепления нелепостей… Хорошо, будь по-вашему, я поговорю с Семёном Ульянычем. Он человек горячий, но воззовём к его разуму и милосердию.
Табберт вышел из храма в отличном расположении духа. Он был весьма доволен собой. Он правильно рассчитал тактику. Симон уважает митрополита, а митрополит обещал помочь. По Прямскому взвозу Табберт спустился к Троицкой площади. Снег сверкал на солнце, и Табберт щурился.
— Господин Табберт, остановитесь! — донеслось сзади по-немецки.
Табберта догонял Новицкий.
— В чём дело, Григорий?
— Я слышал ваш рассказ, — задыхаясь от спешки, сказал Новицкий.
— Подслушивать недостойно, — лукаво улыбнулся Табберт.
— Вы правы, — Новицкий раскраснелся, серьга в его ухе блистала. — Мне следовало не слушать до конца, а остановить вас пощёчиной.
Улыбка исчезла с лица Табберта. От Ремезовых он мог стерпеть даже удар в челюсть, а слова Григория о пощёчине всколыхнули в нём ярость.
— Объяснитесь, — холодно потребовал Табберт.
На площади галдел небольшой торг, мимо проходили мужики с мешками и бабы с корзинками, шныряли собаки.
— Для достижения своей цели вы использовали неразумную Аконю, на которую теперь и возложили вину за случившееся.
Новицкий сказал правду, и она ошпарила Табберта.
— Какое вам дело до этого? — надменно спросил он.
— Вы низкий человек, — взгляд у Новицкого был тёмный и тяжёлый. — Я вызываю вас на поединок.
— Вот как? — удивился Табберт с наигранной наглостью. — О-ля-ля!
— Вы дворянин, я шляхтич, — усмиряя себя, сказал Новицкий. — Вы капитан, я полковник. У вас нет оснований отклонить мой вызов, кроме, разумеется, трусости.
Табберт тоже взял себя в руки. Жаль потерять такого друга, как Новицкий, но ничего уже не изменить. Хотя убивать Григория не следует.
— Это мальчишество, господин полковник. Я согласен принять ваши извинения, и мы забудем об этом происшествии.
— Не вынуждайте меня публично бить вас по лицу, — сказал Новицкий.
— Что ж, как угодно, — Табберт отдал честь, прикоснувшись к треуголке двумя пальцами. — Жду вашего письма с указанием времени и места.
Григорий Ильич прекрасно понимал, почему он вдруг так вскипел. Разумеется, дикарке Аконе, живущей где-то в тайге на колдовском болоте, было безразлично, что говорят о ней в Тобольске. Да и самого Новицкого не слиш-ком-то волновало мнение Табберта о девочке-остячке. Но Григория Ильича неизъяснимо тяготило существование без Акони. Ему хотелось причастности к её жизни. И пускай будет причастность поединком — хоть такая, если уж другая невозможна. А Табберт всё одно заслужил наказания.
Новицкий не стал тянуть. Уже вечером он написал записку и назначил поединок на утро; он сам и отнёс послание к Табберту, но передал не лично, а через хозяина того дома, где Табберт жил. Долгая ночь светила всеми огнями, и созвездия над Тоболом были совсем не те, что над Днепром, словно сказочный зверинец Зодиака в Сибири одичал и переродился: здесь брёл сквозь звёздный лес пернатый медведь, бесшумно неслись по небосводу птицемыши, плыли по тёмным течениям рогатые рыбы, в сияющих безднах вздымали бивни косматые мамонты, и люди с лосиными головами беззвучно играли на дудках возле огромных холодных костров. Григорий Ильич думал: если его вещая тоска имеет смысл, то завтра он победит. А если эта тоска бессмысленна, тогда Табберт убьёт его и прекратит страдания.
Новицкий хотел встретиться с Таббертом в одном из пустых овинов за околицей Тобольска. Плоские лучи низкого утреннего солнца по касательной скользили над снежными полями, и наст просторно блестел, как стеклянный. Сияла бестелесная ледяная пыль. Бледная и свежая небесная лазурь ещё не отяготилась полуденной мощью. Новицкий шагал по той же дороге, по которой он два года назад провожал Айкони. Вот здесь Айкони бестрепетно убила ножом сторожа и своим платком сняла с него душу мертвеца, а потом сказала Григорию Ильичу: не ищи меня. Но он всё равно искал. И нашёл.
В большом щелястом овине было светло и пусто. В дождливой Сибири овины использовали и для обмолота, и поэтому пол был ровно застелен плахами. Новицкий взял из угла метлу и принялся расчищать вымостку, хотя снега нанесло немного, и он не помешал бы поединку.
Табберт приехал на лошади.
— Знаете, Григорий, — разминая руки, сказал он по-немецки, — мне не нравится драться из-за дикарки. Это не в правилах нашего сословия.
— Меня не интересуют правила сословия, господин Табберт, — Новицкий убрал метлу обратно в угол. — Извольте ответить на вызов.
Они сбросили тулупы и остались в камзолах. Табберт развернул холщовый свёрток и протянул Новицкому две шпаги эфесами вперёд.
— Надеюсь, вы не рассчитывали на сабли? — с насмешкой спросил он. — Мы же не драгуны, повёрстанные от борозды. Я попросил шпагу для вас у своих товарищей по плену, офицеров. Выбирайте клинок, сударь.
— Мне всё равно, какой, — Новицкий взял шпагу и повертел, примеряясь.
— Что ж, але!
Табберт отсалютовал и встал в позицию, заложив левую руку за спину.
— Терция гардия, — пригласил он.
Новицкий тоже нехотя отсалютовал, встал в позицию и первым начал атаку. Правильному бою он учился в далёкой молодости, когда гетман Мазепа привёз в Глухов двух польских мастеров шпажного боя, и давным-давно не упражнялся даже с саблей, но тело помнило былые навыки. А Табберт сразу увидел, что Новицкий двигается тяжело и по-ученически предсказуемо; отсутствие практики сделало его слабым соперником.
— Предупреждаю вас, Григорий, я очень хороший фехтовальщик, — сообщил Табберт, не выходя из плавных дефансивов, которыми встречал несложные и прямолинейные батманы Новицкого. — К тому же я постоянно совершенствовался в этом искусстве. Вам меня не одолеть.
Новицкий молчал, упрямо пробиваясь через защиту Табберта. Клинки нежно звенели, скрещиваясь в выпадах под острыми углами.
— Если вы бросите шпагу, я согласен признать ваш проигрыш даже без крови, — предложил Табберт.
Он изящно провёл леман, откинув шпагу Новицкого так, что тот совсем открылся, и лишь обозначил остриём возможное поражение в правое плечо. Он вовсе не щадил воинское самолюбие соперника, а как бы удваивал свою будущую победу, показывая Новицкому её варианты.
— Вы просто отвергнутый любовник, Григорий, — с насмешкой продолжал Табберт. — В этом и кроется причина вашего гнева.
— Замолчите, капитан! — прорычал Новицкий.
Табберт улыбнулся: гнев полковника был важнее возгласа при ранении.
Весь поединок Табберт вёл на контрах, уступая и отбивая удары. Новицкий терялся уже на третьей фигуре аташа, и не представлял опасности: его можно было достать с любого дегажемана. Но он ринулся в натиск, уже совсем фраппируя, и тогда Табберт скользящим движением фруассе отослал его клинок в сторону и воткнул шпагу Новицкому в грудь.
Новицкий рухнул на одно колено и выронил оружие. Табберт сразу вздёрнул клинок и отсалютовал, обозначая завершение поединка.
— Я остановил удар, господин Новицкий, чтобы не проткнуть вас насквозь, — глядя сверху вниз, сказал он. — Прошу запомнить это. Вы проиграли, схватка закончена.
Новицкий не поднимался. Он опёрся правой рукой в заледеневшие плахи настила, а левую руку прижимал к груди. Сквозь пальцы текла кровь.
Табберт опустился рядом с Новицким.
— Уберите руку, я перевяжу вас, Григорий, — сказал он. — Вам придётся сесть на мою лошадь. Потерпите, пока я довезу вас до лекаря.
Табберт доставил Новицкого к ольдерману: капитан Курт фон Врех занимался аптекой и разбирался в медицине. Табберт не стал тревожить фон Вреха историей о поединке и сказал, что Григорий случайно напоролся на косу в полутьме амбара. Фон Врех напоил Новицкого каким-то отваром, обработал рану, перебинтовал по всем правилам полевой хирургии и обещал прислать особые пластыри, которые надо менять по утрам. Григорий Ильич на своих ногах поковылял домой. Он не поблагодарил Табберта за помощь и не попрощался с ним, но Табберт принял это как должное.
Несколько дней Новицкий пролежал в своей каморке в одиночестве и совсем ослаб, потом его нашёл Леонтий, заглянувший с каким-то поручением от Семёна Ульяныча. Ремезовы взялись присматривать за Новицким — иначе зачахнет. Григорий Ильич ничего от них не утаил.
— Ты, Гриша, учёный, а ей-богу, дурак, — в сердцах заявил Семён Ульяныч. — Из-за какой-то девки остяцкой, поджигательницы, беглой холопки, на железо грудью кидаться — это сколько ума надо? А ежели он заколол бы тебя, как борова? Сдохнуть — разве ж это верный ответ?
Семён Ульяныч боком сидел на лежаке Новицкого, а Маша разжигала щепки в жаровне, которую притащил Леонтий: у Григория Ильича в каморке, переделанной из бани, даже банной каменки не имелось.
— Да правый ты, Вульяныч, правый, нэ спорув, — слабым голосом отвечал Новицкий. — Мэнэ жэ ево хор-дусть бида како разлютыла…
Новицкий имел в виду Табберта.
— Гордый он — это да, — согласился Семён Ульяныч. — Павлин заморский.
— Повэрнэшься ти с йим в дружэствэ, яко володыка Фылофый хотыв?
— Гори он в пекле, этот швед! — непримиримо заявил Семён Ульяныч.
Новицкий едва заметно кивнул.
— А дывчину ти, Вульяныч, просты, — тяжело вздохнул он. — Аконю нэ ото зла пыдпалыла тэбэ. Обманув швид ей, заплуталася вона, зробэла.
— Ты её жалеешь, а у меня книга в пепел и нога пополам! — сварливо напомнил Ремезов. — Палку видишь? Вот как дам по башке!
— А мне, батюшка, тоже почему-то жалко Аконь-ку, — сказала Маша.
— Это потому что у вас с Гришкой на двоих одна придурь — любовная! — сразу всё растолковал Семён Ульяныч. Он ведь заметил, что Машка о ком-то тихонечко думает себе в углу. О ком? О Ваньке Демарине, о ком же ещё! — Вот и сиди с Гришкой, кукуйте обоюдно, страдальцы!
— Ну и посижу! Дядя Гриша хоть не лается на меня!
— Два сапога пара — оба левые!
— Матушка тебе пироги прислала, дядя Гриша, — Маша указала на стол, на берестяное лукошко. — Подогреть тебе, или вечером сам подогреешь?
— Подогрий, дыточка. Дякую, добрэ сэрцэ у тэбэ.
Семён Ульяныч хлопнул себя по коленям и поднялся.
— А я пошёл, раз уж я кощей такой злоболюбивый, — прокряхтел он. — Знаешь, Гришка, что скажу напоследок? У Аконьки сестра-близняха есть. Одна морда на двоих. Хоманька зовут. Она у Касыма наложница. Коли тоска шибко грызёт, так сходи до бухарца и перекупи девку. Касым-то, небось, уже натешился. Когда девка рядом трётся, особливо ежели дура, так у мужика всякую блажь сердечную мигом сдувает.
— Сэстра? — удивился Новицкий. — Вона тут?
Семён Ульяныч оглянулся из открытой двери.
— Тут, тут. Лучше с ней душу отвести, чем со шведским дьяволом, — подтвердил он и захлопнул дверь за собой.
Глава 6 Натиск
Нойон Цэрэн Дондоб, настоящий полководец, понимал значение пушек, а потому оценил Рената — артиллерийского офицера. В этой баталии Дондоб приставил к Ренату дайчина Санджирга. Среди джунгар, идущих на редут, Санджирг был единственным, кто говорил по-русски, и нойон обязал его переводить воинам распоряжения этого орыса и охранять его от случайной гибели. Если же орыс попытается как-то ускользнуть от исполнения приказа нойона, Санджирг должен будет силой вынудить его подчиниться.
Цэрэн Дондоб и придумал штурмовать ретраншемент через редут.
После провала первой попытки он насмешливо спросил Онхудая:
— И как теперь ты хочешь овладеть русской крепостью?
— Мы повторим всё то, что было! — сердито и упрямо ответил Онхудай. — Мы снова перебьём на дороге караул, пленим барабанщика и заставим его стучать. Русские откроют ему, и тогда мы захватим ворота.
— Русские уже никогда не поверят барабану, — возразил Дондоб. — Даже собака не берёт мясо у нохойчи, который поколотил её палкой.
— Тогда я отправлю весь хошун, и воины разрубят ворота на щепки.
— Не разрубят, — уверенно сказал нойон. — Если ворота будут закрыты, русские расстреляют из пушек и хошун, и барун, и зюн, и запсор.
Онхудай стиснул в кулаке золотую пайцзу. Нойон подводил к тому решению, на которое зайсанг очень не хотел соглашаться.
— Тебе надо, чтобы я снял своих воинов с коней? — спросил он.
— Да, — кивнул Цэрэн Дондоб.
Он давно уже простился с наивными степными убеждениями, что война может быть только конной. Неприступные китайские дзонги в горах Тибета войска Цэрэн Дондоба взламывали в пешем строю.
— Ты желаешь унизить меня? — побагровел Онхудай. — На своих ногах дерутся только несмышлёные дети!
— Слава — это победа, а не седло под глупым задом.
Онхудай возмущённо засопел.
— Хорошо, — еле смирился он. — Пусть часть моих воинов по твоему повелению уподобятся жалким ящерицам. Они перелезут через стену, займут ворота и откроют их для всадников, которые добудут победу.
Цэрэн Дондоб заслонил глаза рукой, представляя ход битвы.
— Сделать так, как ты сказал, зайсанг, не получится, — сообщил он.
— Почему? — окончательно разъярился Онхудай.
— Русских больше. Они убьют тех, кого ты пошлёшь к воротам пешими.
— Я не понимаю тебя, нойон! — отчаявшись, признался Онхудай. — Ты полагаешь, что русские сильнее нас, и мы должны отступить?
— Нет, я этого не говорю, — Дондоб, приняв решение, провёл ладонями по лицу. — Теперь слушай, зайсанг. Я объясню, как мы прорвёмся в их логово. Пешие воины должны захватить не ворота, а маленькую треугольную крепость перед ними. В этой крепости есть пушки. Пушки разрушат ворота большой крепости, и тогда наша конница получит доступ внутрь.
Таким способом Цэрэн Дондоб прошлым летом взял китайский дзонг Кумул: сначала орудия джунгар прошибли ворота дзонга насквозь, затем в зияющий пролом ринулось войско нойона.
Но Онхудаю замысел Цэрэна показался неисполнимым.
— Мои воины побеждают врага саблей. Они не умеют стрелять из пушек.
— У меня здесь тоже нет таких людей, — вздохнул Цэрэн Дондоб. Своих артиллеристов он оставил в Кульдже уконтайши Цэвана-Рабдана. Нойон не рассчитывал, что артиллеристы могут понадобиться на степном Ямыш-озере, у которого никто никогда не жил. — Но из пушек умеет стрелять перебежчик.
Котечинеры Онхудая нашли Рената и привели в юрту, где совещались нойон и зайсанг. Онхудай переводил слова Цэрэн Дондоба.
— Малое треугольное укрепление называется редут, — неохотно пояснил Ренат. — Его сооружают для защиты ворот от прямого удара.
— Нойон сказал, что это разумно. Сколько там пушек?
— Три. Но я не буду стрелять по своим бывшим товарищам.
— Я легко могу казнить тебя.
— Я уже заплатил и больше ничего не должен, — напомнил Ренат.
— В твоей пайцзе мало золота.
— О чём он спорит с тобой? — спросил Цэрэн Дондоб.
— Он говорит, что ты несправедлив, нойон. Он уже заплатил за всё и не желает служить нам.
— Переведи ему, зайсанг, что он заплатил за себя и за свою женщину. А ещё нужно заплатить за войну, которую он породил.
И вот сейчас Ренат вместе с воинами пробирался по снегам к редуту, а дайчин Санджирг был готов отдать жизнь за него или убить его.
Дозоров, которые ночь напролёт объезжали ретраншемент и загон для табуна, уже не было — Бухгольц их отменил. Нападение джунгар показало, что дозоры не справляются со своей задачей, а табун угнал Онхудай, и нечего стало караулить. Обе орды — войско Онхудая и войско Цэрэн Дондоба — подошли к ретраншементу на версту и остановились, укрытые темнотой безлунной полночи. Всадники были готовы броситься к крепости, как только падут ворота. Об этом степняков оповестит пушечная пальба.
Нойон Цэрэн Дондоб возвышался над всеми на верблюдице Солонго. Вместе с каанарами и тайшами он выдвинулся вперёд, чтобы наблюдать за очерёдностью выступления санов — частей своего войска. Нойон решил не жертвовать воинами хошуна, самыми дерзкими и сильными, и отправил к редуту воинов запсора, стойких и упрямых. Четыре сотни степняков, а среди них и Санджирг с Ренатом, ползли по снегам, волоча длинные лестницы, сколоченные плотниками-модочи из запасных решёток для юрт. Атакующие накрывались белыми овчинами или белыми войлочными попонами, поэтому их называли «цаган сан». «Белый батальон» — перевёл для себя Ренат.
На редуте не заметили приближения врага, не заметили, как странно шевелится снежное поле за кромками рвов. Джунгары бесшумно скатились с эскарпов в глубокие сугробы, заполняющие рвы. Из сугробов на покатые контрэскарпы и откосы куртин полезли штурмовые лестницы. Приподняв голову, Ренат разглядывал светлеющую во тьме плоскость склона. Редут, обставленный лестницами, напоминал теперь многовёсельную галеру.
— Жди, ты не пойдёшь первым, — прошептал Сан-джирг и положил руку на плечо Рената, предостерегая от броска.
Санджирг, конечно, заботился о своём задании, а не о перебежчике-орысе. А Ренат думал о том, чтб сейчас случится там, на редуте.
Караульные на фланкадах и барбетах не успели понять, откуда взялись степняки — мохнатые в своих одеждах, словно звери, и запорошённые снегом. Они вдруг возникли над брустверами прямо из тьмы и обрушились сверху с саблями и ножами. Кто-то из солдат успел охнуть, кто-то выстрелил, кто-то выхватил палаш и отбил смертельный удар, но тотчас был сражён в спину. Джунгары сыпались на куртины из ниоткуда, как репа из порванного мешка. Они бежали по боевым ходам, спрыгивали с куртин на площадку курзона, врывались на барбеты. Где-то затрубил рожок, и ему отозвались рожки в ретраншементе. Ренат слышал, как со стены крепости кричат:
— Эй, что у вас? Тревога? Эй! Отзовись!
Но редут не мог отозваться — он погибал. На барбетах возле орудий джунгары добивали ночную артиллерийскую прислугу. Караульных на фланкадах и горжевой куртине уже зарубили. Степняки заполнили курзон, заскочили на крышу цейхгауза. Солдаты в расстёгнутых камзолах вылетали из казармы с мушкетами, стреляли и сразу падали под саблями. Ренат, лежащий на дне рва, слышал вопли, звон клинков и редкий грохот ружей.
— Теперь иди! — приказал Санджирг и толкнул Рената.
Ренат стремительно вскарабкался по ступеням лесенки, перемахнул бруствер и оказался на куртине. Внизу, на курзоне, всюду сновали джунгары и валялись убитые. Из глубины цейхгауза доносились вопли — там, в тесноте, ещё оборонялись последние защитники с багинетами в руках.
— Говори, что надо! — велел Санджирг, очутившийся у Рената за плечом.
Ренат огляделся.
— Вон ту пушку, — он указал на ближний барбет с одиночным орудием, — подкатите сюда, к воротам. К пушке надо поднести ящики, которые стоят рядом с ней, и вон те палки, которые прислонены к брустверу, а также огонь в той лампаде. Затем надо подкатить вторую пушку.
Санджирг слушал внимательно и вглядывался в лицо Рената.
— Если ты говоришь ложь, тебе будет больно умирать, — пообещал он.
Ренат не ответил.
Санджирг властно закричал джунгарам по-монгольски.
Ренат снял рукавицы, сбросил с головы джунгарский колпак с ушами и посмотрел в чёрное небо. Вот оно какое — небо предателя. Неужели он подлец? Ренат словно бы осторожно проверял свою душу — нет, он такой же, какой был. Его вынудили предать, и вынудили не страхом за себя. Однако от этого предательство не перестаёт быть предательством. И виноват он один: не Бригитта, не Цимс, не Гагарин и не Дитмер. Он сам. И душа у него теперь омрачена. Конечно, человеку свойственно забывать плохое, и человек охотно поддаётся столь спасительной склонности своей натуры, но он, штык-юнкер Юхан Густав Ренат, обязан будет всегда помнить это проклятое чёрное небо. Чёрный провал останется в его совести неизбывно. И он не простит себя, даже если судьба никак его не накажет.
Джунгары спустили пушку с барбета, подкатили к горжевой куртине и нацелили дулом в закрытые ворота редута; приволокли ящики с пороховыми картузами и гранатами; принесли банник, прибойник, гандшпиги, запальник и фитильницу с огоньком внутри; потом подкатили вторую пушку.
— Пусть твои воины соберут для меня шляпы всех людей, которых убили возле пушек, — сказал Ренат Сан-джиргу.
Он быстро и сноровисто зарядил оба орудия: картуз, прибойник, втулка на трубку гранаты, снова прибойник, пыж, правёжные рычаги, гандшпиги… Потом Ренат прощупал принесённые шляпы артиллеристов и за отворотом одной из них нашёл кованую иглу протравника. Опустившись на колени у первой пушки, он ткнул иглой в запальный канал и прорвал полотно картуза.
В ретраншементе уже трубили тревогу, доносился стук барабанов. Там были товарищи — они делили с ним тяготы плена и не меньше него хотели вернуться на родину. Но он их больше не увидит. Наверное, они погибнут, когда степняки прорвутся в крепость. Однако все решения уже приняты.
— Открывайте ворота, — вставая, приказал Ренат Санджиргу, взял шест запальника и поднёс его клюв к огоньку фитильницы.
Джунгары вытянули засов из скоб и оттащили створки. Ворота редута смотрели прямо на ворота ретраншемента.
— Отойдите.
Ренат подвёл язычок пламени в клюве запальника под чугунное гузно пушки. Грохнул выстрел, пушка в отдаче выскочила из дымного облака, а степняки присели и вскрикнули. Ренат посмотрел на ворота ретраншемента. Ядро пробило в них дыру, но не разорвалось — створки стояли, как прежде.
— Оттащите её! — сразу приказал Ренат, указывая на порожнюю пушку.
Джунгары подхватили станины лафета и оттянули пушку с линии огня. Ренат сунул запальник под гузно второй пушки. Снова грохнул выстрел.
Теперь граната, пробив створку ворот, взорвалась, и ворота вышибло наружу: одна створка вывихнуто распахнулась, другая расселась на доски. Проход в крепость был открыт. Степняки в редуте завопили.
К ретраншементу уже мчалась джунгарская конница. Ренат видел, как в проёме разбитых ворот суетятся солдаты, пытаясь перегородить проём рогатками. С бастионов загрохотали пушки Бухгольца: две батареи ударили по степнякам картечью. На валах яростно затрещали ружья. Но остановить натиск степняков гарнизон уже не мог. Конница влетела в проход между бастионом и ретраншементом. Джунгары ворвались в крепость. Ренат молча смотрел на столпотворение вопящих всадников за воротами редута. Снежная туча всплыла над горжевой куртиной. Ренат повернулся и пошёл прочь от пушек. Он сделал то, что потребовал Цэрэн Дондоб, — он здесь уже не нужен.
А по улочкам и закоулкам ретраншемента расползалось, гневно вскипая, рукопашное сражение. Джунгары порубили всех караульных у ворот, и никто уже не препятствовал доступу в крепость; ретраншемент напоминал корабль, получивший страшную пробоину, и в него потоком вливались враги. Но гарнизон, поднятый по тревоге, сопротивлялся умело и ожесточённо. Свист и боевые кличи степняков смешивались с дробью барабанов, ржанием коней, редкой мушкетной пальбой, криками офицеров и отчаянной руганью солдат.
Солдаты без командиров сбивались в толпы и перегораживали проходы между казарм, выставив багинеты. Джунгары с саблями врубались в эту стальную щетину; их израненные кони визжали и подымались на дыбы; людям не хватало места для разворота и для замаха; в темноте голые руки хватались за окровавленные клинки, а лезвия застревали в живых телах; всюду были вытаращенные в ужасе глаза и раззявленные в диком крике рты. Натиск джунгар увязал в человеческом месиве. Из узких окошек казарм высовывались и жалили штыки, с крыш стреляли из ружей и пистолетов.
Орудия всё равно продолжали извергать огонь, и несколько всадников по артиллерийскому взвозу выскочили прямо на бастион, которым командовал Сванте Инборг. Степняки завертелись на дощатом настиле барбета, полосуя канониров саблями; канониры заметались вокруг пушек, уворачиваясь, но падали друг за другом; один из них ткнул банником в морду лошади, и, отпрянув, лошадь сбросила седока. Инборгу рассекли голову, и он обвис на мортире, держась за ещё горячий ствол. Рядом с ним тепло мерцала жестяная фитильница. Инборг потянулся, подцепил её сведёнными пальцами и перебросил в ящик с пороховыми картузами. Пламя лизнуло картуз. Грянул такой взрыв, что всех всадников снесло с барбета прочь, а чугунные пушки, роняя колёса и лафеты, подлетели, кувыркаясь в столбе огня.
Капитана Ожаровского степняки оттеснили на куртину и полезли к нему пешими. Ожаровский ловко и красиво отбивался на две стороны офицерской шпагой и стволом пустого пистолета. Он крутился как в танце, подныривал и делал плавные, длинные выпады; он проткнул двух соперников, но кто-то из конных степняков снизу метнул пику, и она вонзилась Ожаровскому в грудь пониже медного горжета. Джунгары набросились на поверженного врага.
Несколько степняков на конях запрыгнули на плоскую кровлю казармы, откуда стреляли русские солдаты. Кровля, сооружённая из тонких брусьев от разобранных дощаников, не выдержала тяжести и с шумом провалилась; всадники рухнули в яму. Казарма была гошпита-лем, битком набитым больными язвой и скорбутом. И со всех сторон из темноты к степнякам потянулись, полезли, поползли бледные призраки — раздетые, измождённые люди с пятнистыми лицами, запавшими глазами и чёрными ртами. Слабые, костлявые руки жадно вцеплялись в коней и в джунгар, и рук этих было бесконечно много: всадников поглотило сплошное немощное копошение. Больные солдаты голыми руками душили и раздирали степняков.
Ретраншемент содрогался в мучительных усилиях сопротивления. Два бастиона ещё грохотали батареями и блистали пламенем. Всюду бежали и кричали люди, карабкались по кучам мертвецов на куртины, напрыгивали на всадников, облепляя их, как волки, вгрызаясь, облепляют оленей. Косматые скопления конницы в проулках упирались в многозубые ряды багинетов. На крышах казарм, как на плотах, толпились стрелки, безостановочно палившие в тесноту и неразбериху общей свалки. Кожаные доспехи джунгар блестели от крови, а рваные камзолы русских дымились от жара последней схватки. Из ворот в ретраншемент толчками вкатывались всё новые и новые плотные кучи конных степняков, и казалось, что общее чудовищное и беспощадное смертоубийство затеяно лишь для того, чтобы им хватило места в крепости.
Полковник Бухгольц с несколькими офицерами тоже забрался на крышу своей землянки. Командовать было поздно: никто не услышит ни голоса, ни горна, ни барабанного артикула. Бухгольц просто ждал итога: куда качнётся чаша весов? Он выпрямился во весь рост и, деловито прицеливаясь, стрелял из ружей. Бесполезные сейчас вестовые и ординарец Тарабукин торопливо заряжали мушкеты, подавали ему и принимали пустые на перезарядку. Рядом с Бухгольцем, заложив руки за спину, стоял майор Шторбен. Он спокойно наблюдал за развитием событий, словно был в штабе перед ландкартой.
— Капитуляций нигде не замечаю, Иван Дмитриевич, — сухо сказал он.
— Молодцы солдаты, — с чувством ответил Бухгольц.
— Ещё не всё потеряно. Думаю, ежели возможно было бы прекратить пополнение противника, гарнизон получил бы авантаж.
— Тарабукин! — прижимая приклад к щеке, позвал Бухгольц. — Найди любого офицера, у которого есть в подчинении хотя бы полбаталиона, пусть предпримет дескурацию к воротам.
— Слушаюсь! — подскочил Тарабукин.
А наступление джунгар остановил поручик Кузьмичёв. Каким-то чудом в суматохе он сумел собрать своих солдат и сержантов, вывел их на плац и выстроил плутонги в несколько рядов, будто на экзерцициях. Галуны его мундира поблёскивали даже в темноте. Он зло и звонко выкрикивал приказы и махал саблей, словно отсекал сомнения в успехе.
— Полка! Патрон! Дуло! Мушкет! На взвод! Цель!
Солдаты дружно рвали зубами бумажные патроны, сплёвывали порох и орудовали шомполами. Единое для всех воинское дело укрепляло веру в собственную силу, способную отразить любой натиск.
Конные степняки попёрли из проулка на плац, как дым из трубы.
— Пли! — скомандовал Кузьмичёв.
Залп — перестроение — залп — перестроение — залп — перестроение — залп. Плутонги, сменяя друг друга, неутомимо поливали огнём противоположную сторону плаца, и степняки никак не могли преодолеть эту преграду: кони кувыркались, ржали и падали, убитые воины вылетали из сёдел и волочились на стременах. Безостановочная мощь слаженной ружейной пальбы казалась нечеловеческим действием, противостоять которому невозможно. Джунгары попятились обратно в проулки, сбиваясь стадом, которое с крыш кололи ба-гинетами и обстреливали другие солдаты. Грозный прежде натиск джунгар превращался в гибельную давку среди своих.
А ординарец Тарабукин не нашёл никакого офицера с полубаталионом, но наткнулся на поручика Ваню Де-марина, который с двумя десятками солдат оборонял пороховой погреб.
— Ванька! — вцепился в него Тарабукин. — Иван Ми-трич велел ворота перекрыть, иначе погибель! Бери служивых, и туда!
— Вон там капитан Рыбин дерётся, у него народу втрое больше, и драбанты шведские! — ответил Ваня. — Беги к нему!
— Убьют, не донесу приказ! Иди ты!
Приказ Бухгольца означал верную смерть, но Ване почему-то стало легче: значит, Иван Дмитриевич ещё руководит сражением; значит, есть воля, управляющая сопротивлением и устремлённая к виктории.
Ваня с солдатами переметнулся к куртине и по боевому ходу устремился в сторону ворот. Увидев какое-то осмысленное движение, возглавляемое офицером, другие солдаты тоже присоединялись к отряду Вани Дема-рина.
Створки ворот были сорваны напрочь; одну гранатой разнесло на еле скреплённый ворох изломанных досок, другую отбросили и затоптали. В проходе грудами лежали убитые караульные, убитые джунгары и убитые кони. Степняки скакали в ретраншемент прямо по трупам.
— Бьём двумя залпами первый-второй по моей команде! — распоряжался Ваня. — Завалим просвет мертвецами, по-другому не получится!
Солдаты изготовились, подняв ружья.
Ваня выждал, когда в проём, толкаясь, протиснулись сразу несколько всадников, и крикнул:
— Огонь!
Первый залп скосил всех, кто был в проходе. Джунгары, подпиравшие сзади, не смогли остановиться, — их скосил второй залп. Ворота перегородил шевелящийся, вопящий вал из людей и лошадей. Солдаты бросились к этому валу, чтобы добить раненых штыками, полезли по телам.
— Закидывай, чем есть, ребятушки! — отчаянно командовал Ваня и сам схватил за ноги какого-то мертвеца.
Солдаты тащили и швыряли в кучу и людей, и доски, толпой запихивали наверх мёртвых лошадей, волокли рогатки. Из страшной горы торчали руки, ноги и головы, и кто-то внутри этой горы ещё жалобно стонал. Снаружи джунгары вертелись перед воротами, но не могли преодолеть препятствие, да и кони шарахались от запаха смерти. Вход в ретраншемент был перекрыт.
Джунгары, что прорвались в крепость, теперь оказались в ловушке. Солдаты соединялись друг с другом в роты и батальоны, наступали строем, рассекали орду степняков на части и уничтожали по отдельности. Где-то застучал барабан, и как-то сразу стали видны офицеры. Гарнизон обретал утраченный было порядок, и казалось, что число русских возрастает. Откуда-то появились драгуны верхом на изловленных джунгарских конях. Даже темнота потеряла свою густоту и силу, и страх поражения растворился.
С крыши своей землянки полковник Бухгольц уловил эту пока ещё неявную перемену. Он ждал её и надеялся на неё. Он знал: надо вдолбить в головы новобранцев правила армии, пусть даже и непонятные недавним крестьянам. Когда враг прижмёт, солдаты вспомнят сей аксио-мат, и тогда случится чудо: из смятённого и ошалелого сброда само собой вдруг начнёт лепиться войско, совершенное в своём устройстве и неуязвимое. Кто хочет спасения — тот уповает на законы. Спасение — это армия, это виктория, это держава. Так учил царь Пётр. В его правоте Иван Дмитриевич убедился под Полтавой, когда шведы смяли фланг русского войска, но напоролись на каре преображенцев. В том каре с ружьём стоял и капитан Иван Бухгольц.
И вот теперь гарнизон переломил ход битвы, и солдаты сами загоняли и сокрушали степняков. Окружённым джунгарам некуда было деваться. На снежных куртинах замелькали быстрые тени — это степняки, забыв о чести, бросали лошадей и обращались в бегство, перелезая через стену.
— Достаточно, — удовлетворённо сказал полковник Бухгольц, выстрелив в последний раз. — Уже и не нахожу, в кого целить.
Бухгольц протянул мушкет вестовому.
— Надобно из арсенала батареи зарядами довольствовать, — предложил Шторбен. — Снаружи ещё изрядно кочевников. Требуется отпугнуть, дабы окончательно избавиться.
— Капитан Торекулов, исполните, — Бухгольц обернулся к офицерам. — Перейдём на куртину, господа, оттуда нам будет выгоднее наблюдать.
За положением следили и Цэрэн Дондоб с Онхудаем.
Окружённые каанарами и тайшами, они находились в полуверсте и не могли видеть ретраншемент в темноте, однако вспышки выстрелов время от времени очерчивали линию куртин и бастионов. Выстрелы означали, что крепость не пала и даже не сдаётся. До нойона и зайсанга доносился треск стрельбы и невнятные вопли. Ретраншемент дрался самоотверженно, и нойон не мог не оценить мужество орысов. Ему нравилось, когда враг — достойный соперник, хотя, разумеется, он не желал, чтобы враг остался непокорённым.
Верный Санджирг привёл Рената, но Цэрэн Дондоб не удостоил того вниманием: оказалось, что взятые ворота — ещё не ключ к победе. Дондоб мрачно сидел на Солонго, возвышаясь над всеми конниками, и не желал ни с кем обмениваться мнением. Битва в крепости затягивалась. Время шло, обе орды кружили вокруг ретраншемента, шум сражения не утихал, и русские пушки по-прежнему метали молнии в степь. Никто не мчался к нойону с радостными криками, извещающими о победе. Видимо, тенгрии были чем-то рассержены на предводителя джунгар и улетели с Ямыш-озера, пожертвовав торжество нойона кровожадным докшитам. Онхудай, чуткий к любой опасности, как заяц, первым понял, что их воины потерпели поражение. И зайсанг тихонько отодвинулся подальше от нойона. Одно дело, если неудача постигает его, зайсанга, — нойон может лишь снисходительно посмеяться; но куда страшнее, если на виду у всех неудача обрушивается на самого нойона — тогда лучше убирайся с глаз долой. И Онхудай убрался.
А потом из тьмы начали появляться измученные и окровавленные воины, бесславно отступающие от ретраншемента.
Глава 7 «Гуляй-город»
За версту перед обозом двигался дозор — драгунская полусотня. Драгуны торили путь по снежной целине на льду. Когда Иртыш поворачивал, драгуны скрывались за белыми отлогими берегами, но время от времени кто-нибудь трубил в рожок, оповещая, что всё спокойно. Впрочем, предосторожность казалась напрасной: уже давно — после Тары — вокруг было безлюдье, только заиндевелые леса, леса, леса, а потом — перелески и просторы лесостепи. Однако в этот раз вдалеке тревожно завыли сразу несколько труб. Караван насторожился. Солдаты полезли в поклажу за ружьями. Драгуны скакали обратно к обозу и что-то кричали, а между ними мелькала лошадь с санями.
— Гонец! Гонец! — донеслось до обоза.
Полуполковник Ступин, дремавший под тулупами в кожаном возке, встряхнулся, откинул тулупы, нахлобучил треуголку и выбрался наружу.
Архип Мироныч командовал войском и всем обозом. Он отслужил в Тобольске уже сорок лет, готовился выбыть из казённых списков и получить награду, а губернатор Гагарин вдруг взял да назначил его начальником воинского отряда, отправленного на Ямыш-озеро в помощь Бухгольцу. Сей отряд по-новому назывался деташемен-том. В нём были и солдаты, и драгуны, и даже артиллеристы, правда, без пушек. Архип Мироныч изрядно пенял судьбе, что вместо мирной возни отставника на своём подворье он ни с того ни с сего загремел на два года в дурацкий поход до Яркенда.
Закрещивая зевающий рот, Ступин поджидал драгун, шагая рядом с возком. Драгуны протискивались между санями обоза, и приближение их обозначалось руганью ямщиков. Наперекор общему движению, драгуны тащили за собой гонца, которого встретили на льду Иртыша.
— Здравия желаю! — заулыбался гонец, слезая с облучка своих саней.
Рожа у него была обросшая не по-солдатски и красно-отмороженная.
— Я полуполковник Ступин, а ты кто?
— Солдат Ерофей Быков! Послан господином полковником Бухгольцем с доношением к господину губернатору!
— И как там Бухгольц? — осведомился Архип Мироныч.
— Извольте водки дать, а то замёрз, — дерзко ответил гонец. — А потом всё доложу доподлинно, вам оно крепко сгодится знать!
Ерофей Колоброд сам изъявил согласие поехать из ретраншемента в Тобольск. Когда Бухгольц вызвал охочего человека на сие задание, никто не откликнулся: до Тары — семьсот вёрст, и это зимой, одному, по безлюдью. Но в крепости никто, пожалуй, не знал, каковы джунгары, а Ерофей знал. Семь лет назад он подрядился на строительство Бикатунского острога; острог построили, а через год откуда-то из Мунгалии нагрянули джунгары. Они прошли под священной ледяной горой Сумерой и спустились до Катунь-реки, напали на Кузнецкий острог, но были отбиты, и тогда обрушились на Бикатун-ский острог. Резня случилось страшная. Ерофей еле ноги унёс. Острог сравняли с землёй. А Ерофей усвоил: где появляются джунгары, оттуда надо бежать. Джунгары всё равно возьмут своё. Вцепятся как волки и не разожмут челюстей. Ни Бухгольц, ни офицеры этого не понимают. Их войско обречено. Если джунгары не смогут взять транжемент зимой, то добьют русских летом на пешем марше к Яркенду. Ерофей немало побродил по Сибири с гулящими людьми, привык к воле, а потому в армии от души пожалел, что записался в солдаты: нужда заставила и бес попутал. Он не был трусом, но знал, что не следует надеяться на удачу и совокупную стойкость — нужно спасаться без оглядки на других. Он не пропадёт на пути по Иртышу, а в степи с войском — пропадёт. К тому же он рассчитывал вёрст через двести встретить обоз, а обоз оставляет за собой такую накатанную дорогу, что никакой спотычки до Тобольска больше не будет, лети со свистом.
О делах ретраншемента Ерофей рассказал Ступину уже в возке.
— Да, люто степняки приступились, — Архип Миро-ныч покачал головой. — Жалко наших солдатушек, что там полегли. А Бухгольц — молодец. Я думал, он барабан надутый, только брюхом вперёд вышагивать умеет. А он вояка добрый, из ружей жжёт и на багинеты горазд. Полтавская закалка.
— Молодец, кто спорит, — согласился Ерофей, но, приглушив голос, добавил: — Только закалка ему не поможет. Нападение-то это — чёрт с ним: получили джунгарцы в рыло — и отлезли. Однако ж не убрались восвояси. Юргой стоят. И осада похуже натиска будет. Она всю кровь высосет.
— Голодуха, что ли, у вас? Провианта не хватает?
— Харчей в достатке, а дров нету. В транжементе холод. Всякое полено берегут. От холода люди слабнут, а где слабость — там хворь.
— Скорбут? — догадался Ступин.
— Скорбут, — кивнул Ерофей. — И чем дале, тем боле. Многие помрут.
— Не каркай, мы аптеку везём.
— Опоздали вы. На скорбуте язвенный мор начался. И то беда, так беда. Полковник Бухгольц гошпиталь завёл. Молитесь, чтобы удержал падёж. Я на Жигане видал, как язва народ постелью кладёт. Бич божий.
Ступин совсем помрачнел. Язва была куда опаснее осады и скорбута.
— А ещё степняки коней наших почти всех угнали. Как до Яркенда идти? Пёхом? Это вдвое дольше, а вокруг — конные орды. Везде пропасть!
Ерофей глядел в глаза Архипу Миронычу, словно тот должен был тотчас скомандовать отход. Ерофею хотелось, чтобы полуполковник разделил его убеждение в неизбежной погибели войска и тем оправдал для него не шибко-то праведное спасение. А полуполковнику оставалось только разозлиться.
— Да хватит меня пугать! — в сердцах огрызнулся он. — Ты сам себя настращал и почесал в Тобольск!
— Я тебе ни единым словом не солгал, — обиделся Ерофей.
— Ну, не солгал, и ерой! А моим обозным ни о чём не говори!
И вечером на стане у костра Ерофей рассказывал лишь о подвигах: как, отстучав «тревогу», принял смерть барабанщик; как солдаты врукопашную сшибались со степняками между казарм; как закрыли ворота и прикончили врагов, которые проскочили в транжемент. Новобранцы и купцы слушали Ерофея даже с завистью: ох, лихо там было, в крепости-то, и обидно, что они не поспели к потехе и не погрели душу молодечеством.
В толпе вокруг Ерофея стоял и Ходжа Касым. Он ехал в ретраншемент вдвоём с верным Сайфутдином, и груз у него был совсем небольшой: два пуда табака и три бочонка солонины. Выгода от продажи не стоила участия в деле самого Касыма, но Касым ехал не за выгодой, а товар взял для отвода глаз, чтобы не выделяться из числа прочих торговцев. Главное богатство — сорок лянов золотого песка — было зашито в пояс под одеждой Касыма, и Касым каждый миг ощущал его убедительную тяжесть на своём теле.
Известие о нападении джунгар на ретраншемент Ходжа Касым принял с удовлетворением. Значит, замысел губернатора начал исполняться. Гагарин сумел натравить кочевников на войско Бухгольца.
— Скажи, добрый человек, а как зовут предводителя у степняков? — обратился Касым к Ерофею, с поклоном подавая кисет.
— Я не помню, — Ерофей щепотью набрал табака из кисета. — Вроде, прозвище Худой. Только он жирный, как боров.
— Онхудай?
— Точно. Худай.
Всё сходилось. Пайцза — у зайсанга Доржинкита!
Свои соображения были и у Бригитты, которая тоже пришла послушать Ерофея. Хансли не открыл ей своего плана полностью, но сказал, что они вместе сбегут к кочевникам. Вот появились кочевники. Следовательно, план Хансли приведён в действие. Остаётся только ждать. Неужели она скоро увидит Хансли, обнимет его, отдастся ему? Люди присылают письма домой даже с войны, даже из плена, а она полгода не имела никаких сведений о штык-юнкере Ренате. Похвальба этого русского солдата, пришедшего из степи, — первый знак того, что её ожидание было не напрасным.
На землю опустилась ночь. Костёр трещал и стрелял искрами, освещая сидящих вокруг бородатых людей в зипунах. Над бесконечными снегами, над бесконечной рекой загорелись звёзды. Бригитта протолкалась из толпы и пошла к своим саням. Когда закончились хвойные леса с их избытком дров и лапника, солдаты и купцы перестали сооружать на ночь шалаши; теперь они спали на санях, на грузах, укутываясь во все шубы и тулупы и накрываясь полстями. Бригитта забралась под овчины и прижалась спиной к Цимсу.
— Ты где пропадала? — заворчал Цимс. — Высматривала себе торговца побогаче в любовники? Ты потаскуха, Бригитта! Ты на всё согласна ради денег! Из-за твоих денег я мёрзну в этом адском походе! Будь всё проклято!
Взволнованная надеждами, Бригитта не обратила внимания на Цимса.
Утром Ерофей пришёл к Ступину попрощаться.
— Вы там сторожитесь перед крепостью, — предупредил он напоследок.
— А тебе провожатого не надо? — спросил Ступин.
— Овса отсыпь, и довольно. Я за вами уже как за Христом.
— Ну, тогда с богом.
Огромный караван продолжил свой путь вверх по ледяному Иртышу. Низкие белые берега и синее небо. Почти полторы тысячи людей, полторы тысячи лошадей, полторы тысячи повозок — саней, кибиток, коробков, лёгких кошёвок и даже розвальни с припасами. Мягкий топот копыт по снегу, скрип упряжи, конское фырканье, шорох полозьев, звяканье оружия, разговоры, покрики-ванье командиров. Купцы, работники, ямщики, солдаты, драгуны, офицеры, обозники… Караван растянулся на полверсты, хотя сани двигались в несколько рядов, а за караваном на льду оставался гладко укатанный тракт с бурыми пятнами лошадиной мочи и растёртого навоза.
Джунгары нагрянули, когда до ретраншемента оставалось всего вёрст сорок, дневной переход. Драгунский дозор, идущий далеко впереди обоза, вдруг разразился отчаянными воплями рожков, повернул коней и помчался назад. Драгуны даже не попытались вступить в бой.
— Степняки! — кричали они. — Тревога! Степняки! Орда!
Орда — это не разведка, не вылазка, которую может отразить шквадрон; это настоящий большой бой, натиск. Обоз остановился, и по нему как ветер промахнул ужас. Солдаты без команды бросились вытаскивать ружья.
— Всё-таки влипли, — с горечью признал полупол-ковник Ступин, вылезая из возка, и приказал сигнальщику: — Труби «гуляй-город»!
Сигнальщик вздёрнул горн.
Любой солдат и любой купец знали, что делать, если степняки нападают на обоз в чистом поле: надо быстрей составлять «гуляй-город» — кольцевое укрепление из скреплённых повозок. Полуполковник Ступин, умудрённый долгим опытом сибирских караванов, не раз и не два растолковал солдатам и обозным, кому как действовать в опасности, и сейчас это пригодилось. Люди не суетились и не путались. Возницы безжалостно резали ножами ременные гужи, освобождая оглобли; сани стаскивали в линию, наваливали одни на другие, направляя оглобли наружу, и увязывали постромками; лошадей сгоняли в табун внутри оборонного круга; солдаты заряжали ружья и пистолеты. «Гуляй-город» рождался прямо на глазах: ограда из повозок с товарами, ощетинившаяся жердями и пиками, а за оградой — стрелки. Вместе с солдатами и драгунами к отпору готовились и торговцы, и ямщики.
Обозников, что оказались бесполезны для сражения, отпихнули к табуну и беспорядочной куче повозок, не использованных для «гуляй-города». В этой толпе были те, кто в дороге заболел, а также бабы, ожиревшие купчины, неспособные к битве, и разные дураки, не знающие, куда себя девать. К обозникам присоединились и Касым с Сайфутдином. Бригитта сразу полезла вверх на грузы. Она хотела видеть, что происходит на рубеже защиты.
Зайсанг Онхудай вёл на обоз всё своё войско. Три тысячи всадников заполонили Иртыш от берега до берега. Зайсанг, униженный недавним поражением, жаждал хоть какой-то победы и не позвал с собой нойона — он одолеет врага сам, один. И его лишь злобно позабавило, что упрямые орысы решили сопротивляться, нагромоздив заграждение из саней. Конная лава катилась на русский вал, визжала и улюлюкала; лучники натягивали луки.
Волна джунгар распалась пополам, обтекая «гуляй-город» с двух сторон. Клубы снежной пыли окутали обороняющихся. В левом крыле орды среди степняков скакал и штык-юнкер Ренат. Он был одет по-джунгарски и держал в руке пику; он поднимался на стременах и высматривал за повозками Бригитту. Вряд ли её можно было увидеть в этой суматохе, но Ренат увидел: Бригитта сидела на верхушке из груды саней, платок её сбился, и ветер трепал волосы — она вертела головой, разыскивая взглядом его, Рената. На миг Ренату показалось, что их глаза встретились — словно молния бесшумно пронзила пространство.
Туча стрел взметнулась ввысь и посыпалась на «гу-ляй-город» как свистящий, длиннохвостый ливень. Стрелы втыкались в мешки, в людей, в снег; среди русских раздались вопли. Полуполковник Ступин, пригибаясь и придерживая рукой треуголку, побежал вдоль ряда своих бойцов.
— Пали, братушки! — закричал он по-старинке. — Пали без команды! Пали через одного! Пики, багинеты к бою! Гренадеры, зажигай ядра!
«Гуляй-город» затрещал чехардой мушкетов и пистолетов, кованых фузей и дедовских кремнёвых пищалей. Из пролетающей толпы джунгар, которая выглядела бесконечной, повалились убитые. Заржали раненые кони.
— Эх, пушку бы нам! — страдальчески простонал какой-то служилый. — Жахнули бы картечью, смело бы дьяволов!..
Степняки промчались мимо русского укрепления впустую, собрались вдали обратно в общую орду и поскакали назад. Теперь они все держались с одной стороны «гуляй-города», чтобы обогнуть его и завертеть вокруг русских смертельный конный хоровод, непрерывно хлещущий по обороне пернатым ливнем. Русские успели перезарядить оружие и метко бабахали по всадникам, летящим вдоль линии повозок. Степняков вышибало из сёдел под копыта хоровода, но и русские падали, утыканные стрелами: степняков было вдвое больше, и луки стреляли вдвое быстрее ружей. Однако перепрыгнуть заграждение из саней джунгарские кони не могли — слишком высоко.
Ренат нёсся за спиной Онхудая и видел, что зайсанг вскипает яростью: орысы опять оказались неприступны, и войско джунгар может хоть до вечера крутиться вокруг «гуляй-города»! Рената и самого трясло от нетерпения: Бригитта совсем рядом, а до неё не добраться! Ренат уже не вспоминал, что там, за санями, защищаются те, с кем он мог быть в одном строю. Всё, былые связи оборваны, прошлого нет, и в «гуляй-городе» — только чужаки, враги.
Бригитта смотрела на атаку джунгар и понимала, что набег срывается, проскальзывает вхолостую. Однако она ничего не могла изменить и лишь пыталась снова найти взглядом Рената. А Касым лихорадочно размышлял. Если «гуляй-город» выстоит, он, Касым, попадёт в крепость Бухгольца, а ему необходимо в юргу Онхудая. Зачем ему, Касыму, спасение обоза? Обоз усилит войско Бухгольца и затянет узел войны со степняками. Значит, обоз должен погибнуть. Пайцза нужна, чтобы убрать Гагарина, а гибель крепости нужна, чтобы завершить войну, которая мешает пушным караванам бухарцев пройти по степям из Тобольска в Кашгар, на Шёлковый путь.
— Сайфутдин! — позвал Касым. — Смотри туда! — по-чагатайски сказал он, указывая пальцем. — Вот в тех санях лежат бочки с порохом!
За время пути Касым изучил, где у солдат какие припасы.
— Порох надо взорвать.
— Гренадеры, мечи ядра! — кричал в обороне полу-полковник Ступин.
Рослые гренадеры в шапках-колпаках с медными лбами скрючились, поджигая запалы, а потом полезли вверх на сани; широко размахиваясь, они метали в джунгар чугунные ядра с дымящимися хвостами. Ядра шлёпались в снег под копыта конницы, звёзды фитилей искрили и шипели, а потом гранаты взрывались, расшвыривая всадников и лошадей. Но конная лава всё равно мчалась безостановочно — джунгары просто не знали, как понимать эти внезапные удары огня, грохота и неведомой силы, как уклониться от них. Степняки отвечали стрелами, на ходу целясь в любое движение.
Один из гренадеров вдруг упал и вниз головой съехал с саней на лёд со стрелой в глазу; граната с горящим фитилём выкатилась из его ладони. Гранату быстро схватил Сайфутдин и запихал за пазуху чапана. На бухарца никто не обратил внимания. Сайфутдин опрометью кинулся к розвальням с порохом, выдернул гранату, сунул её под бочонок и побежал прочь.
За его спиной грохнуло — сначала несильно, по-гра-натному, однако гранатный взрыв мгновенно разросся в могучую и слитную гроздь страшного взрыва всего порохового запаса. На месте розвальней с бочонками вдруг взметнулся столб пламени, воды, льда, снега, дыма и белого пара — высокий, как дерево. Тугая ударная волна смела и разбросала и груду саней, и солдат, и джунгар. Люди, возы, мешки и лошади полетели как шляпы, сорванные ветром. Сайфутдин покатился, махая руками. Водяное и дымное дерево бурно обвалилось, а мир вокруг ещё продолжал звенеть, заглушая все звуки.
Кольцо «гуляй-города» было пробито: в линии обороны раскрылась брешь на добрую четверть окружности, а посреди этой бреши зияла кипящая чёрная полынья. И в брешь, беззвучно крича, хлынули конные джунгары. Многие из них летели в воду, но большинство прорвалось в «гуляй-город». Степняки рубили оглушённых, потерявших соображение солдат и купцов, кололи и топтали ползущих по снегу. Полуполковник Ступин, шатаясь, побежал куда-то, разевая окровавленный рот, и ему в спину воткнули копьё. Всё пространство внутри круга из повозок, окутанное облаком взвихренного снега, вмиг заполнилось всадниками. Уцелевшие защитники других сторон «гуляй-города», ошеломлённые, даже не пытались отбиваться багинетами: они в ужасе бросали ружья, падали на колени и поднимали руки.
Ходжа Касым лежал на льду, сброшенный с саней, и ощупывал пояс с золотом. Увидев над собой степняка с саблей, он закричал по-монгольски:
— Я сдаюсь! Я друг зайсанга Онхудая! Я сдаюсь, дай-чин!
Бригитта тоже упала с кучи саней, на неё навалило рваные мешки, из которых потёк овёс, а сверху ещё рухнул какой-то зарубленный солдат с палашом. Бригитта забилась, выбираясь наружу, и запуталась в своём платке.
— Бригитта! Бригитта! — орал кто-то совсем рядом.
— Хансли! — отчаянно отозвалась она.
Но это орал Цимс. Он стаскивал с Бригитты мертвеца с такой злостью, словно мертвец был её любовником. Цимс и сейчас увернулся от гибели, будто его хранил дьявол; он был без шапки, с рассечённой скулой, весь в крови зарубленного солдата — но живой, живой, гадина, живой!
— Бригитта! — кричал уже Ренат.
Он вынырнул из сутолоки всадников, спрыгнул с коня и заметался среди разломанных саней, мешков и мёртвых обозников, разыскивая Бригитту. Цимс оглянулся на него и глухо зарычал по-собачьи. Бригитта увидела, как Цимс достаёт из-за пояса пистолет, поднимает его и прицеливается в Рената.
Бригитта всем телом откинулась набок, освобождаясь, что было сил потянулась к убитому солдату и схватила его палаш, потом привстала, по-женски стиснув рукоять палаша обеими руками, и вонзила клинок Цимсу под лопатку. Выронив пистолет, Цимс ничком ткнулся щетинистой мордой в мешок с овсом и захрипел. Бригитта, навалившись на палаш, толчком своей тяжести с хрустом вогнала оружие в спину мужа как можно глубже, словно желала солдату Михаэлю Цимсу не одну смерть, а сразу две.
Зайсанг Онхудай, упиваясь победой, ехал по разгромленному «гуляй-городу», где его воины, смеясь, вязали пленных, и торжествующе хлестал плетью всех русских, которые попадались ему на глаза.
Глава 8 Холод в ретраншементе
Поручик Митроша Кузьмичёв умирал. Это понимали все: и Ваня Демарин, лучший друг, и больные солдаты по соседству, и сам Кузьмичёв. На шее и на правой щеке у него темнели бурые, мокрые струпья, окружённые багровым воспалением; его лихорадило; в свете жаровни на висках блестел пот; отросшие волосы свалялись колтунами; редкая юношеская щетина слиплась от засохшего гноя. Оба длинных лежака вдоль стен гошпитальной землянки были плотно забиты умирающими, но солдаты уступили офицеру место поближе к теплу. Кузьмичёв чувствовал, что скоро наступит конец.
— Я же хотел в баталии погибнуть, Демарин, — жарко шептал он, цепляясь за руку Вани. — Не думал, что сгину от язвы в пустой степи…
— Ты не умрёшь, Кузьмичёв, — убеждал Ваня. — Скоро обоз с аптекой прибудет, поставят тебя на ноги…
В землянке было холодно, темно и смрадно. Больные бормотали в бреду, ругались или молились. Потолочные брусья от дыхания множества людей обросли грязным ноздреватым инеем. В узких окошках висели сосульки.
— Не поможет уже аптека, — с тоской выдохнул Кузьмичёв. — Ты потом напиши моему братцу в Коломну, Демарин, соври, что меня в бою сразили…
— Напишу, Кузьмичёв, — с комом в горле пообещал Ваня.
Душу его терзали жалость и жестокая досада. Ведь две недели назад они с Кузьмичёвым, молодые и здоровые, были героями, и сам полковник Иван Митрич Бухгольц хвалил их перед общим войсковым строем. При штурме ретраншемента полурота Кузьмичёва правильными ружейными залпами отразила атакование джунгар, а отряд Демарина перекрыл ворота в фортецию. Два поручика переломили ход сражения. И всё было так славно!
Впрочем, конечно, нет. Уже тогда было не славно. Уже тогда всем стало ясно, что в гарнизоне появился огневой язвенный мор, хотя поначалу его принимали за скорбут. А скорбут обнаружился ещё на Введенские дни. Но эту хворь ждали. Скорбут при зимовке — дело обычное. С ним справилась бы аптека, которую, хотя и с опозданием, выслали вслед войску в обозе.
Скорбут начинался затяжным бессилием и лёгким помрачением ума. По телу расползались синяки, глаза потихоньку желтели, дыхание делалось тухлым, царапины не заживали. Вскоре под волосами проступала кровь. Цирюльники брили солдат, но головные платки у больных, рубахи и подштанники заскорузло коробились. Люди теряли волю, их дёргало от любого громкого звука. Поражённых скорбутом отправляли в гошпиталь.
Солдаты не хотели в гошпиталь, подолгу скрывали признаки скорбута, но рано или поздно напасть брала своё: у заболевших опухали ноги, а ломоту во всём теле ночью выдавали стоны. Впрочем, гошпиталь не был смертным приговором. Скорбут убивал медленно. Больные могли исцелиться чесноком или хвойными отварами. Вот только запасы чеснока в ретраншементе уже закончились, а ёлки и пихты не росли в степи. Нужные лекарства должен был доставить обоз. И в ожидании исцеления больные тлели, как сырые головни. У них темнели дёсны и выпадали зубы, а раны источали зловонный гной.
Одной казармы для гошпиталя не хватило, и Бухгольц приказал отдать для больных вторую, а потом и третью землянку. Он лично каждый день навещал гошпитали и подбадривал солдат, а караульных наказал нарядами за то, что не проветривают казарму и не переворачивают тех, кто без сознания.
— Господин майор, — обратился Бухгольц к Шторбе-ну, — нельзя ли хотя бы недужным постирать платье и прожарить его от вшей?
— Невозможно, господин полковник. Снег топить дрова надобны.
— У нас не боярская портомойня, чтобы тряпки щёлоком в лоханях с горячей водой стирать. Способно будет просто вальками в проруби отбить.
— Ежели в прорубях бельё отбивать, Иван Дмитриевич, тогда сушить его людям придётся у себя на теле, — пояснил Шторбен. — А для малодвижных сие означает неизбежную простуду и смерть. Лучше в грязи, но в тепле.
Бухгольц недовольно поморщился.
— И много у нас грязных, но тёплых?
— На нынешний день в гошпиталях триста семьдесят семь душ.
— Спаси нас боже, — мрачно произнёс Бухгольц.
— Господин полковник, — подошёл подпоручик Ежов, — дозвольте обратиться? Мне матушка говорила, что в крайних случаях за недостатком средств от скорбута у нас в деревне крестьяне смоляную воду пили или ржавые гвозди в меду настаивали и затем облизывали.
— Сумраки народные, — презрительно усмехнулся Шторбен.
— В нашем положении даже бабкиному шёпоту доверишься, — хмуро возразил Бухгольц. — Медов в провианте нет, а смоляной водой озаботимся. Благодарю, Ежов. Кто из офицеров ещё чего вспомнит — сообщайтесь.
Но оказалось, что скорбут — ещё полбеды. Из батальонов командиры докладывали, что у солдат завелась другая зараза — язвенная. Сперва всем казалось, что язвы — от скорбута: мол, расчесали укус от вши или блохи, он и загноился, или чирей вылез от грязи и прорвался. Потом стало ясно, что дело не в скорбуте. Скорбут выглядел не так. Язва зарождалась с красной сыпи, которая за неделю превращалась в пузыри, а пузыри лопались, и открывались гниющие дырки. Человека охватывал жар, за три-четыре дня разгоралась лихорадка, и заболевший умирал. Язва убивала стремительно.
— Сие не скорбут, проистекающий от лежалой пищи, — сказал Бухгольцу Шторбен. — Полагаю, оное есть некая опаснейшая пестиленция.
— Откуда?
— Полагаю, надуло от степняков. Экие ветра катились.
Первым офицером, который умер от язвы, оказался Кузьмичёв.
Здесь, в ретраншементе у Ямыш-озера, умерших и убитых не хоронили — не имело смысла долбить промёрзшую землю. Джунгар просто спихнули в лощину за северным бастионом, и снегопад быстро засыпал степняков. А своих покойников складывали в степи поодаль от крепости в длинный ряд друг на друга. Могилу решено было выкопать весной, когда земля оттает. Мертвецы лежали без гробов и саванов, в одних лишь куцых камзолах: для гробов не имелось досок, а для саванов не хватало холстов. Жуткий вал из трупов солдаты прозвали «поленницей»; вместо «умер» говорили «пошёл в дрова». Караульные на куртинах старались не глядеть в сторону могильника; каждый поневоле примерял на себя: каково ему будет лежать в «поленнице»? Окоченевших покойников заметало порошей, но потом обдувало ветром.
Где-то там, в нижнем слое мертвецов, покоился и Петька Ремезов. Ваня сам отыскал его под бастионом наутро после первой джунгарской попытки взять ретраншемент. Ваня помнил тот безмятежный рассвет, когда маленькое блестящее солнце в алом молоке зарева поднялось над краем опустевшей степи. Солдаты, озираясь, выступили из крепости. Проход между редутом и ретраншементом был завален убитыми джунгарами, из снега торчали ноги лошадей. Ваня оттаскивал и переворачивал тела степняков, видел смуглые лица с узкими, будто зажмуренными глазами — в их морщинах уже сверкал иней. Сначала Ваня заметил барабан, а потом и Петьку. Петька скорчился на боку. В зубах у него торчал кляп из рукавицы. Ваня содрогался, выдирая эту рукавицу с таким усилием, какого не применяют к живому человеку: из горла у Петьки натекла кровь, и кляп замёрз во рту комом бурого льда. Ваня еле закрыл Петьке челюсть — наверно, сломал застывшие хрящи.
Теперь Петька лежал под грудой товарищей, и это очень мучило Ваню. Похоронить — значит, попрощаться, чтобы усопший отпустил на волю. А Петька не отпускал. Своей незавершённой смертью он томил Ванину совесть. Ваня не сумел уберечь Петьку. Старался, но не сумел. А ведь обещал Маше, что убережёт. И в душе у Вани рушились все те гордые и печальные картины, которые он себе вообразил, — будто гибнет в дальнем походе, отвергнутый Машей, но во имя неё. Да пусть он трижды погибнет, пропадёт и сдохнет, — он её обманул, он потерял её брата, и Маша уже никогда не станет вспоминать о нём, о Ване Демарине, хотя бы с сожалением. Вина за Петьку была жестоким ударом по наивным мечтаниям. Раньше Ване незачем было жить, а сейчас незачем стало умирать. И что делать дальше?
Однако всё изменилось после второго джунгарского приступа. В том ночном бою Ваня не думал ни о чём, кроме исполнения приказа. Маша, Петька, былые мечты и муки совести — всё куда-то провалилось: надо было любой ценой перегородить ворота, и ничто больше в мире не существовало. А потом, уже на другой день, Ваня осознал, какой он молодец. Не герой, конечно, — истинному солдату приличествует скромность, — но почти герой.
Когда Бухгольц на плацу похвалил их с Кузьмичёвым перед строем, Ваню переполнило воодушевление. Он смотрел на Бухгольца влюблёнными глазами. Ему хотелось, чтобы джунгары тотчас напали снова, а он доказал бы, что полковник трижды прав; хотелось, чтобы скорей пришла весна, их поход продолжился, и со всех сторон напали враги. И с того времени Ваню не отпускало желание что-то делать, ещё раз сразиться с кем-нибудь, повести солдат на штурмование, победить или пожертвовать собой.
Уныние от вины за гибель Петьки Ремезова отступило — молодость с её надеждами брала своё. Теперь Ване казалось, что в его отношениях с Машей всё поправимо. Он вернётся в Тобольск года через два, когда горе у Маши уже утихнет. А он, Ваня, будет другим человеком — будет суровым воином, закалённым на степных ветрах; возможно, мужественное лицо его украсит рубец от сабельного удара. Маша увидит, что он, Ваня, тоже не щадил своей жизни, однако уцелел, потому что умнее и сильнее, чем Петька. Невзгоды, преодолённые Ваней, оправдают его перед Машей, сделают смерть Петьки печальным и далёким прошлым, в котором уже остыл былой гнев.
Ваня думал об этом, пока тащил от ворот ретраншемента епанчу с телом Кузьмичёва. С трёх других концов епанчу держали капитан Рыбин, поручик Каландер и подпоручик Ежов. По ногам секла острая позёмка, небо затянуло тусклой и стылой мглой. Но Ване сейчас всё представлялось прекрасным: и приземистый ретраншемент в заснеженной степи, и скорбное товарищество, и война, и жизнь. Его ничуть не пугала пестиленция, о которой говорил майор Шторбен. Ваня не чувствовал у себя никаких признаков скорбута — он был худенький, но крепкий; и язва, сгубившая Кузьмичёва, его почему-то не тревожила: конечно, он не заговорённый, но он не может сейчас подхватить заразу и умереть, потому что впереди столько всего волнующего. Ваня не скорбел по Кузьмичёву, вернее, не ужасался тому, что случилось с ним, но сожалел о том, чего с ним теперь уже не случится никогда: ведь Кузьмичёв не пойдёт дальше, не совершит подвигов, не изведает чужого восхищения.
Тело Кузьмичёва положили в общий вал на труп усатого драгуна. Ваня и офицеры отошли на три шага, сняли треуголки и перекрестились. Солдаты караула, сопровождавшие офицеров, подняли ружья и выстрелили в воздух, отдавая салютацией последнюю почесть. С бастиона бабахнула пушка — гарнизон тоже простился с отважным поручиком.
Пороха на салютацию не жалели — боеприпасов имелось в достатке. Гарнизону хватало и оружия, и снаряжения, и одежды, и провианта, и даже фуража, ведь много народу погибло или заболело, а лошадей осталось лишь полторы сотни — все из-под убитых на приступе джунгар. Угрозой для войска были язвенный мор и холод. Причём холод терзал всех без исключения.
Дрова давно закончились. В глинобитных очагах и в жаровнях солдаты сожгли весь мусор, всякую найденную щепочку и веточку. Поколебавшись, Бухгольц разрешил жечь фашины, заменяя их снеговыми кирпичами. И всё. Больше жечь было нечего. Отряды ходили на Ямыш-озе-ро рубить лозняк, но эти вылазки не оправдывали себя. Степняки нападали на лесорубов, потери всякий раз были велики, а крепость получала разве что три десятка охапок почти бесполезных сырых прутьев. Солдаты днём согревались работой и экзерцициями, а ночью спали в выстуженных казармах вповалку, в тесноте и смраде немытых тел и грязных одежд, кишмя кишащих вшами и блохами. Не бодрила даже водка. От холода люди ослабевали и поддавались скорбуту. К больным в гошпиталях прибавлялись обмороженные: у них от почерневших ступней отваливались мёртвые пальцы, а потом человека добивал антонов огонь. Порой усталые караульные замерзали возле пушек насмерть.
Однажды двое караульных дезертировали с поста. Они спустились в ров, выбрались в степь и побрели в сторону джунгарской юрги. Утром их догнали по следам на снегу и доставили обратно в ретраншемент. Сержант Назимов привёл их в землянку полковника Бухгольца на допрос.
— Сил же нет, господин полковник, — страдальчески признался старший из дезертиров. — Без огня вся душа насквозь простыла, жрать не надо — согреться хочется, а у степняков в юрге дымы как лес стоят!
— И скорбута с язвой у них нет, — тихо добавил младший дезертир.
— И потому, значит, можно царя и присягу предать? — спросил Бухгольц.
Дезертиры опустились перед ним на колени. Эти солдаты утратили дух: они уже не стриглись и не брились, не чистили оружие и одежду. Бухгольц смотрел на них сверху и видел, что в их волосах белеют гниды.
— Грешны, смилуйся, господин полковник!
— Я на приступе троих свалил!..
Сержант Назимов с презрением отвернулся от дезертиров.
— Перед стужей и мором мы все равны! — строго сказал Бухгольц. — Я, командир, терплю, а вам невмоготу? Вас обоих аркебузируют перед строем!
Дезертиры заплакали.
— Увести? — спросил Назимов.
Бухгольц вгляделся в сержанта. Глаза у того предательски пожелтели, на опухшем лице расплывались синяки, подбородок темнел затёртой кровью.
— У тебя скорбут, Назимов, — сказал Бухгольц.
— Никак нет! — твёрдо отрапортовал сержант, не отводя взгляда.
— Ну, как знаешь, — тяжело вздохнул Бухгольц.
Гарнизон вышел в степь и выстроился побатальонно.
Дезертиров поставили перед шеренгой из десятка солдат с мушкетами. Ваня наблюдал за расстрелом со смятением в душе. Он не мог согласиться ни с чем — ни с бегством, ни с казнью. Как можно так бессмысленно загубить свою жизнь? Дезертиры дрожали — но от холода, а не от страха. Измучившись, они ждали пули как избавления от мук и ни о чём уже не просили.
— Полка! Патрон! Дуло! На взвод! Цель! — командовал Шторбен.
Грянул залп, и дезертиры упали.
После этого события полковник Бухгольц решил пустить на дрова часть имеющихся дощаников. Он вызвал Ваню Демарина.
— Сколько в вашей роте солдат на ногах, поручик? — спросил он.
— Шестьдесят один! — тотчас ответил Ваня.
— Возьми топоры и пилы. Присовокуплю к тебе полусотню драгун. Ступай на Иртыш. Дозволяю разломать два судна.
— Исполню, господин полковник! — радостно вспыхнул Ваня.
Бухгольц посмотрел на него оценивающе.
— Увидишь степняков — сразу отходи на ретираду. Дистанция до Иртыша от ретраншемента дальняя, артиллерийского бедекена у тебя не будет, в случае нападения прислать на сикурс мне некого.
Ваня догадался, что Бухгольц заметил его желание боя, и покраснел.
— Слушаюсь, господин полковник, — сказал он.
От шестидесяти дощаников и лодок, вышедших из Тобольска, ныне сохранилось меньше половины — суда были разобраны для строительства казарм. Иван Дмитриевич не знал, пригодится ли ему уцелевшая флотилия. Весной он поведёт своё войско на Яркенд в пешем порядке. Поскольку нести больных с собой дело немыслимое, их придётся отправить в Тобольск по реке. На это хватит пяти-семи дощаников. Прочие суда можно разбить на дрова. Жаль, конечно. У войска не будет никаких средств для возвращения, кроме собственных ног, пока эти ноги не дойдут до крепких лесов, где можно соорудить плоты. Если повезёт и его солдаты отыщут золото у Яркенда, он купит лошадей у тамошних азиатов. Но это если повезёт. Однако выручаться из беды требуется сейчас, а как оно всё сложится в дальнейшем — господь ведает: авось и тогда найдётся способ к спасению.
— Иди, Ванюша, — напутствовал Ваню Бухгольц.
Ретраншемент находился в двух верстах от Иртыша, и вылазка к судам была серьёзным воинским предприятием. Впереди отряда, прокладывая путь в глубоком снегу, по трое в ряд двигались драгуны. Они были на косматых степных конях, брошенных джунгарами во время ночного приступа. Драгуны зарядили ружья и пистолеты и держали наготове пики. За всадниками колонной шагали солдаты с мушкетами, топорами, пилами и мотками верёвок. Крепость исчезла из виду, и вокруг распростёрлась бесконечная снежная степь, в которой затерялся плоский ледяной Иртыш, незаметный издалека меж низких берегов. Ваня тоже ехал верхом, ведь он — командир. Он озирался и размышлял: чем бы таким лихим ему отличиться? Может, притащить к ретраншементу сразу пять дощаников — волоком, как сани?..
Две дюжины судов лежали вверх дном под толстыми сугробами, словно широкие и осадистые стога. Ваня залез на один из дощаников и прошёлся взад-вперёд, прицениваясь, будто имелась разница, какое судно ломать.
— Сумкин, твой плутонг разбивает вот эту барку, — Ваня указал пальцем, — а твой плутонг, Макухин, вон ту. Остальные увязывают доски.
Спешивать драгун Ваня посчитал опасным — пусть караулят.
— Господин Берглунд, — по-немецки обратился он к командиру драгун, — ваша задача — наблюдать за спокойствием.
— Я уже вижу степняков, — вглядываясь куда-то вдаль, ответил Берглунд.
Ваня повернулся, щурясь на слепой белый простор.
— Бог ты мой! — изумился он. — Это же наш обоз!..
Из-за поворота Иртыша, из-за снежной складки выползала вереница чёрных саней, а рядом с санями возвышались всадники. Зоркий драбант Игго Берглунд сразу понял, что это — джунгары. Обоз попал в плен.
Свои основные силы зайсанг Онхудай увёл в юргу ещё вчера, и ночной снегопад укрыл следы конного войска на льду. А обоз тащился медленно, и его сопровождали две сотни стражников. Этого было достаточно.
— Всем лечь! — спрыгивая с дощаника, сразу приказал Ваня. — Укроемся! Господин Берглунд, уберите драгун за борта судов!
Солдаты и драгуны засуетились.
Обоз приближался. Лёжа в сугробах, солдаты молча и угрюмо смотрели, как еле тащатся сани с унылыми ямщиками, как понуро бредут пленные, привязанные по десятку к жердинам — так перегоняли невольников в Азии. Захват каравана означал, что гарнизон не получит аптеки и скорбут убьёт всех больных. До судов уже доносились требовательные окрики джунгар.
Ваня заелозил, охваченный новым замыслом. Это было как раз то, о чём он мечтал. Ему даже стало жарко, он утёр лицо снегом и пополз к Берглунду.
— Господин драбант, — горячо зашептал он по-не-мецки, — сейчас обоз поравняется с нами, и мы бросимся драгунами в атакование.
— Степняков больше, чем нас, — возразил Берглунд.
— Наш авантаж — неожиданность. Степняки растянули строй и не смогут отразить драгун всем числом. А у нас пистолеты и ружья. Авангард начнёт баталию, потом его нагонят солдаты. И нас должны поддержать пленники! Возницы свободны, и они развяжут остальных!
Ваня выкладывал все свои соображения, убеждая шведа.
— Всё равно победа сомнительна, — упорствовал Берглунд.
Ваня и сам понимал, что победа сомнительна, однако его душа жаждала действия, подвига, а смелость и дерзость — уже превосходство над врагом.
— Там наши пленные! — зашептал он с показным гневом. — Недостойно воина покинуть товарища в неудаче!
А джунгары, которые сопровождали караван, уже устали. Разумеется, устали не от дороги и не от сёдел, а от невыносимой медлительности обоза. Лошади, сани и всадники двигались со скоростью пеших пленников, боолов, привязанных к шестам. Боолы еле волочили ноги. Их невозможно было подогнать плетью — плеть не пробирала через толстые одежды, а бить боола тупым концом копья в спину приходилось осмотрительно, иначе весь косяк пленных упадёт вместе со своей жердью. Джунгары не смотрели по сторонам — чего им опасаться? Всё их внимание было поглощено идущими: кто затягивает ход? Срубить бы голову ненавистному орысу, но нельзя: боол — это товар, и за него в Кульдже хивинские перекупщики дадут добрую цену.
Русские возникли словно из ниоткуда. Мгновение назад на льду Иртыша никого не было — и вдруг на обоз уже скакали конники с пиками. Джунгары засвистели, заулюлюкали, и дайчины из хвоста каравана тотчас рванули коней, устремляясь вперёд по чистой, наезженной дороге, чтобы собраться в лаву. Никого из них нападение не застало врасплох. А драгуны ошиблись в расчёте: они не сумели разогнаться по снегу и потеряли преимущество внезапности. Джунгары оказались быстрее. Их лава с боевым воем грозно развернулась и покатилась на атакующих, чтобы встретить врага на полпути к обозу. И пленные ничем не помогли драгунам. Трусливые ямщики увидели, что джунгар гораздо больше, и побоялись слезать с саней, чтобы освободить солдат, прицепленных к жердям. Да и оружия у пленных не имелось.
Ваня мчался в атаку вместе с драгунами. Он, поручик от инфантерии, никогда не участвовал в конных баталиях, но думал, что всё это просто, и он справится. Он размахивал над головой офицерским палашом, а в лицо ему летели комья снега из-под копыт тех лошадей, что скакали впереди. Ваня был счастлив; он упоённо выискивал взглядом противника, с которым ему суждено сойтись на клинках, но в непривычной тряске сбивался, и степняки смешивались, как горох. Ваня уже не мог оценить того, что происходит.
— Виват! — тонко закричал он.
Густо загремели выстрелы драгун, заржали раненые джунгарские кони, кто-то из степняков кувыркнулся из седла, а потом оба отряда вонзились друг в друга, как вилы в вилы. Всё перепуталось в сумятице, топоте и снежной пыли: руки, локти, плечи, лошадиные гривы, сабли, пики, копья, искажённые лица, шведские проклятья, русская брань и монгольские ругательства. Ваня вертелся на коне и махал палашом направо и налево, не соображая, рубит он кого-нибудь или нет, нападает или отбивается. В яростном столпотворении не было никакого смысла и порядка, к которому Ваня приучился в пеших сражениях батальонов и полков; здесь побеждала злобная, безоглядная и неудержимая, как судороги, сила количества; в конном бою всё клокотало и перехлёстывало друг через друга, словно тряпичные клочья в кипящем котле.
А потом оказалось, что драгуны — те, что ещё уцелели, — уже стремглав скачут назад, к дощаникам, прочь от джунгар, и Ваниного коня за уздечку тянет Игго Берглунд, а сам Ваня почему-то бросил поводья и, пригнувшись, просто мёртвой хваткой держится за гриву, чтобы не сорваться, и он не знает, куда делся его палаш, и не помнит, откуда у него на рукаве окровавленный порез. Впереди Ваня увидел своих солдат, которые с ружьями бежали со льда Иртыша на берег под прикрытие судов, чтобы оттуда стрелять по степнякам. А степняки визжали где-то близко за спиной, пытаясь нагнать драгун.
Ваня вытащил из седельной кобуры заряженный пистолет и оглянулся на преследователей, протягивая руку, чтобы выстрелить. И тотчас что-то жёстко, будто железом, перепоясало его поперёк груди, и он вмиг очутился в воздухе. Это степняк ловко набросил на него аркан и выдернул из седла.
Ваня с высоты пластом рухнул на истоптанный снег, покрывающий лёд. Руки и ноги Вани, пистолет и шляпа, — всё разлетелось в разные стороны, и в упавшую шляпу тотчас ударило конское копыто. Драгуны уносились прочь, а Ваня, оглушённый и ошеломлённый, лежал посреди Иртыша, и вокруг него, хищно радуясь добыче, кружил конный степняк с арканом в руках.
Глава 9 Цена пайцзы
Когда орда зайсанга Онхудая сорвалась с места на перехват русского обоза, орда нойона Цэрэн Дондоба осталась в юрге. Нойона не интересовала мелкая добыча. Поднявшись на Солонго, свою белую верблюдицу, Дондоб поехал взглянуть на крепость орысов. Конные каанары следовали за ним в отдалении, чтобы не отвлекать нойона от созерцания. Хотя созерцать Цэрэн Дондобу было нечего. Плоский и низкий ретраншемент почти затерялся в степных снегах. Не крепость, а сурочья рытвина. Но такие рытвины коварны и опасны. Даже самый быстрый и сильный конь может угодить ногой в нору тарбагана, упасть на всём скаку и сломать себе шею.
Нойон медленно возвращался в юргу и вспоминал Лхасу — шумный город из глинобитных домишек. Лхаса стояла на берегах реют Джичу, а река петляла по цветущей долине, окружённой голыми морщинистыми хребтами. Над тростниковыми крышами лачуг возвышалась гора Путуо, на которой Далай-лама Пятый возвёл Пота-лу — огромный дворец. Уступы и зигзаги длинных лестниц; нагромождение прямоугольных зданий; ряды узких окон, стёкла которых покрыты чёрным лаком; наклонённые внутрь стены; крыши с золотой чешуёй и пузырчатые шпили… Галереи, молельни, книгохранилища, покои, дворики, толстопузые ступы, церемониальные залы, светильники, занавеси, цветные мандалы на полах и стенах, Будды, драконы и львы… Верхняя часть Поталы была подобна рубину — это под синим солнцем Тибета пламенел Потранг Марпо, Красный дворец. А понизу, словно оправа, сиял Потранг Карпо, Белый дворец. Дондоб помнил, как воздвигали эти дворцы. Он был отроком, когда началось строительство Карпо, а завершение Марпо встретил уже пожилым человеком. Монахи двенадцать лет скрывали смерть Далай-ламы Пятого, чтобы не омрачать зодчим их путь к обретению бодхи. В последнее своё посещение Поталы Дондоб видел в Зале Жертв погребальную пагоду, в которой покоилось забальзамированное тело Далай-ламы Пятого, — сооружение из сандалового дерева, высотою превосходящее юрту. Оно было украшено золотом, жемчугом, лазуритом, кораллами и сапфирами.
Нойон Цэрэн Дондоб думал о том, что Лхаса ждёт его.
В Тибете правили Далай-ханы — подданные китайского императора, но вскоре после великого тарбагатай-ского чуулгана Далай-лама Пятый призвал в Тибет ойра-тов. Хошуты с озера Кукунор подчинили себе Далай-ха-нов и провозгласили Далай-лам властелинами Тибета. Вот тогда Лхаса и стала столицей, а Далай-лама Пятый задумал Поталу. Однако кукунорские хошуты не ушли из Тибета. Летом они кочевали в долине Дам, а зимой жили в Лхасе во дворце Галдан-Кангсар. Богдыхан же, вопреки очевидности, продолжал считать и Тибет, и Кукунор своими вотчинами; Далай-ламу, Далай-ханов и тайшей Кукунора он отечески наставлял в искренности «чэн» и верности «чжун». Хан Лавзан, хошутский правитель Тибета, задумал положить предел заблуждениям императора. Тринадцать лет назад Лавзан отравил Далай-хана Ванджала, стал новым Далай-ханом и отказался подчиняться Китаю. Против Лавзана поднял мятеж тибетский князь Санджай, но Лавзан отравил и его.
И всё было бы хорошо, но Далай-лама Шестой оказался воспитанником Санджая. Он возненавидел убийцу своего учителя. А вместе с Далай-ламой враждебность к Лавзану затаили великие монастыри Лхасы — Галдан, Сэра и Джебунг. Щедрые дары Лавзан-хана не склонили монахов к примирению. Обители опять воззвали к ойра-там — хошутам и джунгарам, которые были недовольны самовластьем Лавзана. И Лавзану пришлось просить защиты у императора Канси. С недавним непокорством Тибета было покончено.
По наущению китайцев Лавзан объявил, что дух Далай-ламы Пятого покинул плоть Далай-ламы Шестого. Богдыхан потребовал, чтобы Далай-лама Шестой приехал в Пекин. Понимая, что Пекин — это смерть, Далай-лама заперся в монастыре Джебунг. Войско Лавзана расстреляло монастырь из пушек. Далай-ламу схватили и всё равно повезли в Китай, но Лавзан решил не тянуть с расправой и в пути отравил пленника. Император Канси, узнав об этом, велел выкинуть тело Далай-ламы, где придётся. От такого святотатства Тибет содрогнулся, гнев вскипел от вершин Куньлуня до вершин Наньшаня. Все ойраты озлобились на Лавзана, видимо, обезумевшего от жажды власти. А Лавзан отныне мог полагаться только на милость богдыхана.
Хитрый Лавзан отыскал мальчика, в которого якобы переселился дух Далай-ламы Пятого, и объявил его Далай-ламой Седьмым. Но монахи в местности Литанг тоже нашли мальчика, в которого переселился дух Далай-ламы Шестого. Никогда ещё не бывало, чтобы существовали одновременно два Далай-ламы! Лавзан послал в Литанг лазутчиков, чтобы они убили мальчика-пере-рожденца. Хошуты укрыли его на озере Кукунор в монастыре Гумбум. Богдыхан потребовал прислать мальчика в Пекин, но хошуты отказались.
Галдан, Джебунг и Сэра, великие монастыри Лхасы, умоляли джунгар свергнуть ненавистного Лавзан-хана, который надругался над Далай-ламой, принял к себе христиан-капуцинов и даже, по слухам, склонился к древнему почитанию Тенгри. А Лавзан очень не хотел ссориться с могущественной Джунгарией. Он даже взял в жёны сестру контайши Цэван-Рабдана, а сына Данжина отправил в Кульджу, чтобы тот женился на красавице Бойталак, дочери контайши. Однако Цэван-Рабдан понимал: если он свергнет Лавзана, то сам станет владыкой Тибета, и при этом его поддержат все обители, все монахи и ламы. Что может быть желаннее для ойрата?
От похода на Лхасу джунгар ненадолго отвлекла пограничная война с Китаем, но вскоре всё было готово к выступлению. В Хотане собралось большое войско, и контайша Цэван-Рабдан поручил его нойону Цэрэн Дондобу, своему дяде. Из Джебунга в Хотан пришли выносливые монахи, которые обещали провести войско джунгар в Тибет через ледяные перевалы Куньлуня. Данжина, сына Лавзана и жениха Бойталак, схватили и сожгли. Цэрэн Дондоб помнил, как кричал этот юноша, заживо зажариваясь в костре между двумя чугунными котлами. И вдруг — вторжение русских: какой-то странный поход на Яркенд, где никогда не было золота! Коварный богдыхан просто подкупил орысов, чтобы спасти шкуру Лавзан-хана и остановить войско Цэрэн Дондоба! А земляная крепость орысов в этих бессмысленных снегах не пожелала сдаться нойону или погибнуть! И что теперь делать?
Цэрэн Дондоб не сомневался, что Онхудай разгромит русский караван — на подобное хватит ума даже такому толстому барану, как этот зайсанг. Но присутствовать при торжестве Онхудая Цэрэн Дондобу не хотелось. И он решил поехать в Доржинкит. Доржинкитский дацан был самой славной обителью от Боргойской степи до реки Зя. Здесь возле многоцветного дугана из глиняных кирпичей стояли семь высоких башен-субурганов. В дацане нойон сможет достичь Внутреннего Безмолвия, а знающие ламы составят ему гороскопы, погадают на чётках и овечьих костях, истолкуют положения брошенных монет по Книге Перемен и скажут, на какой стороне юрты ему поставить шест с Конём Ветра — знаменем его удачи. Ламы помогут ему понять, как действовать дальше, или расположат невидимые сущности жизни так, чтобы он, Цэрэн Дондоб, сам увидел свой путь в Общей Степи.
Не дожидаясь возвращения Онхудая, Цэрэн Дондоб отбыл в Доржинкит. За белой верблюдицей Солонго следовали каанары и тысяча воинов.
Онхудай прекрасно понял, почему нойон уехал из юрги. Прославленный Цэрэн Дондоб со своими десятью тысячами всадников не добыл на Ямыше ни одной победы, а он, зайсанг, с тремя тысячами одолел орысов на Иртыше. И нойон убежал от вида чужого торжества, как собака, облитая помоями. Так ему и надо. Пусть ламы его утешают. А зайсанг Онхудай будет делить добычу, чтобы оставшиеся в юрге воины Дондоба смотрели и завидовали.
Удовольствие от дележа Онхудаю испортил Ходжа Касым.
Онхудай не любил Касыма. Он ощущал какую-то надменность в хитром бухарце, хотя тот всегда вёл себя очень почтительно, будто Онхудай был ему отцом. Расположение доржинкитского зайсанга было необходимо Касыму затем, чтобы тобольские караваны беспрепятственно проходили через степи Доржинкита в Кашгар. Онхудай знал это, и потому отдал бухарцу в жёны свою самую некрасивую сестру — Улюмджану, напоминающую лошадь. Бухарец заплатил хороший калым, а потом с каждым караваном посылал ещё и богатые подарки: он не верил степнякам, ибо им не верил никто. Онхудаю не в чем было упрекнуть Касыма, и это лишь разжигало его неприязнь.
А Касым в душе презирал джунгарина. Презирал за глупость, жадность и чванство. Презирал за то, что тот не ведает святости клятв, семейных уз и деловых договорённостей. Такое вероломство свойственно дикарям из орды, а не подданным достойного государства. Онхудай — просто кашкыр, волк.
Как полагается многоопытному тожиру, Касым знал языки тех народов, с которыми вёл торговлю, и при разгроме обоза джунгары не тронули его, не обшарили и не отобрали пояс с золотым песком, за который Касым боялся больше, чем за свою жизнь. Касыма не избили и не загнали в общую толпу пленных, а отвели к Онхудаю. Зайсанг встретил нелюбимого сродственника с неудовольствием. Он предчувствовал какой-нибудь подвох со стороны бухарца и пообещал поговорить с Касымом позже. До юрги Касым добрался вместе с войском на коне, а там ему выделили старую кибитку с дырявыми стенами и велели ждать, когда зайсанг соизволит позвать.
Зайсанг позвал только на другой день.
В юрте из белого войлока кисло воняло молочной водкой архи. Касым опустился у очага на ковёр-хубсыр, не попросив подушку-боксо — искатели милости не просят у хозяина боксо. Место себе Касым выбрал униженное — сторону барун-урда, ближе к выходу, и сел на корточки по-монгольски в позу «харасагэ» — робкую позу ласточки. Онхудай это заметил, но всё равно не снизошёл к гостю. Страдая похмельем, зайсанг молился под шёлковыми полотнищами шутенов, висящих на стене, и возжигал благовонные свечки-кюдже, расставленные на алтаре между бронзовых бурханов. Бара-онгон, шаман-лев, возвращал телесную силу, а Солбон-онгон — образ утренней зарницы — освобождал дух от скорби после излишеств пиршества.
Наконец Онхудай завершил тайлаган, брызнул водкой на бурханов, тоже сел к очагу и молча поднял руку. Виночерпий-архичи сразу вложил в его пальцы пиалу с шубатом — верблюжьим кумысом.
— Приветствую тебя, брат моей жены и мой брат, — сказал Касым. — Всё ли благополучно в твоём доме?
Однако Онхудай посчитал, что любезная беседа по закону уважения — слишком большая честь для бухарца.
— Зачем ты ехал в русском обозе? — без приветствия спросил он.
На груди Онхудая Касым увидел золотой знак на шнурке — двух тигров, кусающих друг друга. Без сомнения, это была пайцза заргучея Тулишэня, о которой рассказал толмач Кузьма Чонг, — пайцза Дерущихся Тигров.
— Я держал путь к тебе в Доржинкит, великий зайсанг, — Касым с трудом отвёл глаза от пайцзы и поклонился. — С русским обозом мне было просто по пути. Ты знаешь меня, храбрый воин, — я купец, и слишком боязлив для путешествия в одиночку.
— Ты ехал совсем один? — удивился Онхудай.
— Конечно, при мне был мой верный охранник Сай-футдин, — поправился Касым. — Это он по моему приказу взорвал порох, чтобы твои могучие воины сумели прорваться за ограждение русских. Я очень помог тебе, зайсанг.
Касым надеялся, что Онхудай оценит его услугу, и ошибся.
— Я победил вовсе не из-за того, что взорвался какой-то порох! — оскорблённо зарычал Онхудай. — Ты лжёшь, чтобы придать себе важности!
Касым едва не плюнул, сообразив, что уязвил этого спесивого хряка.
— Прости меня, великий зайсанг, я не сведущ в военном деле. Мой разум обманул меня, потому что не в силах постичь науки сражений.
Но злоба Онхудая не утихла. Проклятый бухарец оказался свидетелем его воинского бессилия! Онхудай сверлил Касыма гневным взглядом.
— Твой слуга может подтвердить, что ты приказал ему взорвать порох, а он исполнил приказ?
Ожидая приглашения к зайсангу, Касым уже расспросил воинов, как обстоят дела. Он узнал, что нойон Цэрэн Дондоб привёл войско из Кульджи. Значит, замысел губернатора Гагарина исполняется в полном объёме. Из-за Бухгольца джунгары отложили поход на Лхасу, и контайша Цэван-Рабдан прислал на Иртыш главного военачальника. Цэрэн Дондоб увидел пайцзу, поверил, что русские подкуплены богдыханом, и напал на русскую крепость. Глупый Онхудай полагал себя повелителем этой степи, однако нойон властно отодвинул его в сторону. Конечно, Онхудай заревновал. Он захотел показать, что тоже умеет сокрушать врагов. И тут вдруг откроется, что он не захватил бы караван без помощи какого-то бухарца! Касым с горечью осознал, чем ему придётся пожертвовать, чтобы сохранить благосклонность Онхудая.
— Сайфутдина нет сейчас при мне, зайсанг. Его отбросило взрывом, а потом твои воины забрали его в плен. Наверное, он умрёт от полученного удара. А я даже не помню, что крикнул ему в тот миг. Я очень испугался.
Онхудай не отводил тяжёлого взгляда, словно испытывал Касыма, и Касым выдержал этот взгляд. Конечно, жаль Сайфутдина. Онхудай убьёт его. Но отдать жизнь за своего господина — долг телохранителя.
— Забудем об этом глупом происшествии, — предложил Касым. — Я ведь твой родственник и должен угождать тебе.
Онхудай засопел, размышляя, потом шумно допил из пиалы шубат и вытер рот рукавом бушмюда.
— Ты привёз мне подарки? — спросил он как ребёнок.
— Конечно, — снова поклонился Касым. — Но твои воины разграбили их.
Для джунгарина грабёж был достоинством, а не проступком.
— Я переграблю своих воинов, — сказал Онхудай. — Что ты мне вёз?
— Я вёз тебе, мой брат, сорок красных лисиц и сорок белых песцов.
Касым соврал. Он не думал, что предстанет перед Онхудаем почти как пленник, и не взял подарков; он полагал, что его плата за пайцзу и будет выгодой Онхудая. Что ж, пускай тогда джунгары сами потратятся на своего алчного зайсанга. Красные лисы и белые песцы найдутся в скарбе любого степняка — поди докажи, что это не добыча из русского обоза.
— Зачем ты ехал ко мне?
Касым тихо щёлкнул пальцами, отгоняя от своей удачи рогатого тагута.
— Я желаю купить у тебя вот эту вещь, — Касым указал на пайцзу.
Выпятив губы, Онхудай посмотрел вниз, на свою выпирающую грудь.
— Я давно ищу этот китайский ярлык, мой господин. Скажи мне, какими путями он попал в твои руки?
— Я взял его в сражении, — распрямляясь, гордо заявил Онхудай.
Касым не поверил. Трусливый Онхудай ни за что не полез бы в битву сам, а какой-либо другой джунгарский воин, завладевший пайцзой в схватке, утаил бы своё золото от зайсанга. Пайцза не может быть военной добычей. Скорее всего, здесь опять какая-то хитрость Гагарина.
— А зачем тебе пайцза? — с подозрением спросил Онхудай.
— Надобно ли мне отягощать твой слух делами, которые ниже твоего достоинства, великий зайсанг?
— Говори, — важно дозволил Онхудай.
— Китайцы подкупили не русского хана, а тобольского нойона Гагарина. Это он прислал войско, которое ты взял в осаду. А русский хан не знает о затее нойона. Я отдам русскому хану твою пайцзу, и хан казнит тобольского нойона за то, что тот продался китайцам. Нойон Гагарин — мой враг.
Онхудай задумался.
— А какую цену ты дашь за пайцзу? — наконец спросил он.
— Две её тяжести в золотом песке.
На глаз, в пайцзе было пять-семь лянов веса. В поясе Ходжи Касыма содержалось сорок лянов золотого песка.
— Две тяжести слишком мало, — не согласился Онхудай. — Я хочу десять.
— За пятьдесят лянов мне проще нанять в Тобольске мастера, который отольёт другую пайцзу и придаст ей черты твоей, — осторожно возразил Касым. — Конечно, сходство будет отдалённое, но русский хан не видел настоящей пайцзы и не опознает подделку. А я сберегу сорок лянов.
Онхудай опять запыхтел, соображая, как ему выгадать.
— Мне надо подумать, — недовольно сказал он. — Я решу завтра.
Ходже Касыму пришлось вернуться в своё драное жилище.
Кибитки слуг-котечинеров — кибиток было десятка три — находились в той части юрги, которую отделили для взятых в плен. Онхудай рассчитывал взять большой погромный ясырь, а потому привёз с собой на Я мыш дюжину старых юрт. Котечинеры зайсанга, тоже невольники, поставили эти юрты в два ряда и обнесли колышками с красным шнуром. Пленным запрещалось выходить за шнур под угрозой казни. Да они и не смогли бы убежать: пустая степь просматривалась во все стороны, а юрга была полна конных воинов.
Касым отошёл от невольничьего стана подальше, на чистое место, проверил, нет ли поблизости верблюжьих следов — нельзя поминать Аллаха вблизи животных, которые в любой момент могут заорать или плюнуть, — расстелил на снегу кусок шкуры, заменяющий коврик-михраби, опустился на колени и совершил полный намаз. Под лучами низкого закатного солнца в степи просторно и стеклянно блестел нетронутый наст. На пригреве Иртыш просел и обозначился бесконечной впадиной в снегах. Весна уже наступила, и всё вокруг казалось с просинью, даже белое, красное и чёрное. В синеве открывалась божественная сущность мира, которая в месяц Раби аль-авваль пробудилась ото сна к Мавлиду — празднованию дня рождения Пророка.
Возвращаясь к себе, возле одной из кибиток Касым увидел офицера: тот ломал в медную жаровню куски аргала, чтобы не мусорить там, где его ложе. Касым сразу узнал офицера. Касым видел его в Тобольске у пристани при отходе войска Бухгольца, когда Хамзат и Асфандияр считали лодки. Этого офицера губернатор Гагарин позвал к себе в карету. Касым подошёл ближе.
— Кто ты? — прищурившись, спросил он.
Офицер не был пленным. Пленные живут в юртах, а не в кибитках, и не имеют жаровен, чтобы согревать своё жалкое обиталище.
— Штык-юнкер Юхан Густав Ренат, — помедлив, представился офицер.
Касым всё понял. Если офицер не пленный — значит, он перебежчик. Вот как пайцза попала от губернатора Гагарина к зайсангу Онхудаю!
— Это ты передал зайсангу золотой ярлык?
Лицо офицера, и без того хмурое, окаменело.
Из кибитки встревоженно выглянула Бригитта.
— Он торговец из нашего каравана, — сказала она Ренату по-шведски. — Что ему нужно от тебя, Хансли?
— Не беспокойся, Гита, — по-шведски ответил Ренат.
Касым помнил и Бригитту. Эта женщина везла в обозе аптеку для войска Бухгольца. Значит, губернатор заплатил офицеру за измену тем, что прислал ему женщину. Красивую женщину. Наверное, возлюбленную, с которой офицер по какой-то причине не мог соединиться в Тобольске. Касым знал, на что способна любовь. Он сам за Хамуну убил Улюмджану.
— Я тебе не враг, — сказал Касым. — Быть может, наши пути пересекутся.
Он повернулся и пошагал к своей кибитке.
Заворачиваясь на ночь в шкуры, чтобы не продуло сквозняками, Ходжа Касым поправлял поудобнее пояс с золотом и вспоминал Хамуну — её вечно отчуждённые тёмные глаза и медовые груди. Когда он выберется из этой степи? Когда вновь увидит, как Хамуна вышивает бисером у светильника?..
Два дайчина грубо растолкали Касыма на рассвете и сразу поволокли к юрте Онхудая. Недоумевая, Касым торопливо запахивал халат-чапан.
Похоже, Онхудай не спал всю ночь. Он сидел с опухшим лицом, и от него пахло тарасуном. В юрте было натоптано, в очаге выросла куча головней и пепла, на алтаре погасли все свечки. Касым сразу увидел, что в тёмной части юрты рядом с лежаком-модоном на полу вытянулся мертвец, накрытый кошмой в бурых пятнах крови.
— Что-то случилось, мой брат? — испуганно спросил Касым, делая вид, что очень озабочен мрачным состоянием духа у зайсанга.
— Это Сайфутдин, — Онхудай презрительно кивнул на мертвеца.
Касым опять опустился на хубсыр в робкой посадке ласточки, угодливо глядя на Онхудая, но в душе содрогнулся от смерти своего давнего слуги — скорее всего, смерти долгой и страшной.
— Сайфутдин, мой бедный хизматчи, был очень плох после того удара взрывом, и Аллах призвал его к себе, — сокрушённо произнёс Касым.
Онхудай фыркнул, как ишак.
— Твой Аллах не звал его никуда. Я сам послал его к Аллаху. Его пытали всю ночь. Ты отдал этого разбойника мне, а он отдал мне тебя.
Касым молчал, предчувствуя что-то нехорошее. Дай-чины, стоящие на страже у полога юрты, с готовностью положили ладони на рукояти сабель.
— Сайфутдин открыл мне под пыткой, что своими руками похоронил мою сестру Улюмджану — твою жену, бухарец. Ты перерезал ей горло.
Небеса обрушились на Касыма, но лицо его не дрогнуло. Он лишь вздохнул и переменил положение: взял подушку-боксо, подсунул под себя и вместо унизительной позы «харасагэ» сел так, как ему было привычно.
— Твоя сестра заслужила то, что сделал с ней я, её супруг и повелитель, — пренебрегая виной, спокойно и с достоинством сообщил Касым. — А ты не можешь убить меня, зайсанг. Я — добрый друг контайши Цэван-Рабдана. Когда приезжаю в Кульджу, я всегда пью с ним по две пиалы чая.
Онхудай рыгнул, выпуская дух тарасуна. Участь Улюмджаны, этой глупой лошади, ничуть его не трогала.
— Я не могу тебя убить, зато могу ограбить, — без смущения ответил он. — Сайфутдин знал про твой пояс.
Касым мгновенно пожалел, что вчера не закопал пояс под кибиткой.
— Снимите пояс с бухарца, — приказал Онхудай дайчинам.
Ходжа Касым боролся как лев, однако дюжие воины повалили его на хубсыр, разорвали завязки чапана и ру-баху-куйлак и безжалостно сдёрнули с тела тяжёлый и толстый шёлковый пояс, хрустящий внутри золотым песком. Потом они отпустили Касыма. Пояс полетел к ногам Онхудая.
— Сколько там? — ухмыляясь, спросил Онхудай.
— Сорок лянов, — угрюмо ответил Касым, сел обратно на боксо и, тряхнув плечами, принялся приводить одежду в порядок.
— Значит, моя пайцза стоит сорок лянов.
Касым метнул на зайсанга острый взгляд. Онхудай всё-таки продолжает торг? Он не собирается казнить своего вероломного родственника?
— А за Улюмджану ты должен выплатить мне пятьсот лянов золота. Зарго — наш суд — согласится с такой ценой.
Касым подумал, что он — тожир, для которого прибыль важнее всего, — не принял бы выкуп за убитого родственника. Он убил бы убийцу. А этот бурдюк с салом, называющий себя воином, всё измеряет деньгами.
— Не слишком дорога тебе сестра, — не удержавшись, хмыкнул Касым.
Онхудай не уловил смысла этих слов.
— Пятьсот лянов для тебя не дорого? Я могу потребовать тысячу.
Пятьсот лянов для Касыма были непомерной ценой. Даже если бы он продал свой дом и всё имущество, он не выручил бы такую гору золота.
— Сто лянов, — предложил Касым.
— Пятьсот.
— Двести.
— Я прикажу высечь тебя верблюжьим бичом, если будешь торговаться.
— Хорошо, — сдался Касым. Незачем понапрасну дразнить злобного глупца. — Отдай мне пайцзу, и я поеду домой, чтобы собирать плату. Если не доверяешь, можешь отправить вместе со мной десять воинов.
Онхудай понимающе ухмыльнулся.
— Я не верю тебе, бухарец, и не доверю воинам пятьсот лянов золота. Я умнее тебя. Я заберу твой пояс и оставлю себе пайцзу. Считай, что ты купил её, но возьмёшь в руки только тогда, когда привезёшь мне выкуп за Улюмджану. А теперь убирайся из моего жилища.
Дайчины сунулись было к Касыму, чтобы волоком вытащить его из юрты, но Касым властным жестом остановил их и поднялся сам.
— Я дозволяю тебе взять любую лошадь из моего табуна взамен тех лошадей, на которых ты ехал в обозе, — свысока добавил Онхудай. — Поскорее отправляйся к себе в Тобольск и собирай выкуп. Но не забудь отдать мне мою лошадь, когда привезёшь мне плату за Улюмджану.
Касыму всё стало ясно: золото у него отняли, и пайцзы ему не видать.
Глава 10 В поисках выхода
Из всех планов соединиться с Ренатом, какие она строила, исполнился самый невероятный, самый немыслимый план. И вот сейчас рядом уже нет опостылевшего Михаэля, а вокруг нет русских, и совершенно не важно, как складывается война короля Карла с царём Петром. Не надо прятаться от чужих, не надо спешить расстаться, чтобы не вызвать подозрений. Пусть они сами ныне и не совсем свободны, зато свободна их любовь. И от неё под решёткой терме запотевали кожаные стенки джунгарской кибитки.
Хансли рассказал Гите те части своей истории, которые прежде должен был скрывать. Рассказал, как секретарь Дитмер бестрепетно застрелил в корчме солдата Ма-тюхина. Рассказал, как губернатор Гагарин хотел взвалить на штык-юнкера вину за бунт, а потом передумал и предложил переправить степнякам этот золотой медальон. Хансли рассказал, как он в снежную бурю бежал из крепости, как вынужден был стрелять из пушки по своим бывшим товарищам. Никакие угрызения совести Бригитту не мучили. Плевать на Цимса, плевать на товарищей по плену, плевать на присягу. Все эти люди и обязательства только разлучали их с Ренатом. А разве много они просили от жизни? Быть вместе, и не более того.
И Хансли справился со всеми препятствиями, сумел остаться живым во всех превратностях судьбы. Он сделал это даже не ради любви, а ради одной лишь надежды на любовь. Такой мужчина не имел цены. О таком мужчине Бригитта мечтала всегда. И сама она ради такого мужчины без колебаний рискнула бы головой.
Она вспоминала, как девочкой любовалась Бэкаску-гом — поместьем, где служил её отец. Хозяева называли главный дом замком, хотя прежде он был аббатством. Когда король Густав I поссорился с папой Климентом VII и лютеране вытеснили католиков, аббатство превратилось в поместье. На главной башне Бэкаскуга между арками свода ещё сохранялся ржавый вал, на котором некогда был укреплён колокол. Маленькая Гита воображала, как хорошо жить с мужем в старом доме из красного кирпича, в тихой буковой роще неподалёку от озера, на берегу которого светлеют валуны с древними рунами. Она верила, что у неё непременно появится такой дом.
— В детстве, там, в Сконе, я думала, что моим домом будет замок возле озера, — Бригитта потрогала пальцем стенку кибитки. — Я бы не поверила, что мой дом окажется палаткой кочевников посреди дикой степи…
Ренат, сидя на шкурах и войлоках, завязывал шнурки на эрмеге. Он уже не носил камзола, чтобы ничем не выделяться среди джунгар.
— Это ещё не наш дом, Гита, — серьёзно сказал он.
— Я знаю, Хансли. Но мой дом — там, где я с тобой.
Ренат вздохнул.
— Мы по-прежнему в опасности. Нас могут разлучить, могут убить.
— И это я тоже знаю. Но я всё равно счастлива.
Она и вправду давным-давно не была так спокойна.
— Принесу нам шубата или кумыса, — Ренат натягивал сапоги-гутулы. Ему подарили самые дешёвые гутулы, всего с восемью узорами.
— Это противное пойло, — сказала Бригитта.
— Ты привыкнешь, — усмехнулся Ренат, нахлобучил собачий колпак-малахай и полез из кибитки.
Шубат или кумыс ему давали хончины — пастухи. Косяки лошадей и верблюды паслись в степи за юргой. Сначала на тебенёвку хончины гнали лошадей, потом — верблюдов, которым труднее было разрывать снег своими мозолистыми ступнями, да и ели они то, что лошади не едят, — колючку. Верблюдицы приносили приплод в конце зимы, и сейчас за ними ковыляли верблюжата. Хончины доили верблюдиц прямо на ходу. В кибитке прислуги Ренат получил бурдюк с шубатом — простоквашей из верблюжьего молока.
На обратном пути его всё-таки узнали и окликнули по-русски:
— Это вы, господин Ренат? Вы здесь? Вы живы?
Ренат неохотно оглянулся. Вслед за ним шёл совершенно изумлённый поручик Ваня Демарин. Ренат сразу понял, что Демарин взят в плен в бою: голова перемотана грязной тряпкой с бурыми следами крови, епанчи и горжета нет, камзол на локте порван, медные пуговицы и пряжки срезаны.
— А мы так искали вас тогда! — сказал Ваня. — В какой юрте вы живёте?
Все пленные жили в юртах.
— Я не пленный, господин Демарин, — сухо и по-немецки ответил Ренат.
Ваня наконец увидел, что Ренат — в джунгарской одежде, хоть и небогатой: козьи штаны и сапоги, овечий эр-мег, собачья шапка. И в руке у него — небольшой бурдюк, а пленных кормили из общего котла.
— Как изволите это понимать? — тихо спросил Ваня.
— Я сам перешёл к степнякам.
— Сам?.. — ошеломлённо повторил Ваня. — Вы… изменник?
— Да, — подтвердил Ренат.
— Это же низость! — прошептал Ваня, еле поверив услышанному.
— Я был чужим в Тобольске. Ваша неустроенная страна и эта степная война — не мои. И у меня имелись свои цели, — жёстко сказал Ренат.
— Вы подлец! — убеждённо заявил Ваня.
Конечно, Ренат помнил, каков Ваня Демарин. И с грустью сознавал, что этот пылкий юноша не поймёт его. Ренат переложил бурдюк в другую руку.
— Я честный человек, — сказал он. — Подлецом меня сделала неволя. Наши пути разные, господин Демарин. Прошайте!
Ренат развернулся и пошагал прочь.
Те несколько дней, что Ваня уже провёл в джунгарском плену, были полны для него невыносимой душевной муки. Рухнула вся его жизнь. И не в воображении, как это было после гибели Петьки Ремезова, а в самой что ни на есть нелицеприятной действительности. Он, поручик Демарин, оказался никудышным офицером. Совершив достойное и храброе деяние при обороне ретраншемента, он начал полагать себя если не стратегом — таковое всё-таки ещё рановато, — то ловким тактиком. Но он не рассчитал схватку при обозе, и два десятка его драбантов погибли, а ещё десяток всадников угодили в плен. Остальные сумели укрыться за солдатами, которые отстреливались от судов, и вместе с солдатами вернулись в крепость сами — с необходимыми гарнизону дровами и без мудрого командования поручика Демарина.
А почему? Потому что Ваня проявил себя как себялюбец. Полковник Бухгольц предостерегал его от любых баталий со степняками, а он пренебрёг указаниями, ибо жаждал подвига. Он не послушался здравого смысла, ибо собственное желание затмило ему разум. И теперь Ваню беспощадно терзал стыд. Жгучий, честный, ошпаривающий стыд. Он же всегда был себялюбцем: ради славы бросился в драку и попал в плен, да и с Машей поссорился из-за себялюбия. А самое позорное началось с Петькиной смерти. Ваня не был в ней виноват — это правда. Однако же он испугался обвинений Ремезовых. Ему, себялюбцу, было куда легче, чтобы Маша сама пришла к нему, поняла его и защитила от семьи. Пусть Маша борется, а не он. И он выдумал себе жизнь героя, пред которым склоняются и супротивники, и возлюбленная девица. И вот грянула расплата. Героя из офицера Демарина не получилось. Даже приличного солдата не получилось. Что же ему делать?
Поначалу, в первые часы плена, Ваня хотел броситься на какого-нибудь охранника, убить его голыми руками и затем погибнуть под саблями остальных караульных. Однако в таком деянии заключалось то же самое себялюбие, только униженное до крайности. Стыдно, господин поручик.
Пленные помещались при юрге на особом стане, обнесённом красным шнуром. За шнуром столпились кибитки прислуги и старые юрты, в которых жили солдаты и купцы, уцелевшие от обоза. По оценке Вани, русских здесь было около тысячи человек. Им было запрещено выходить за красный шнур, а в остальном же — делай что хочешь. Степняки никого не связывали и не избивали, но у всех отняли шапки, рукавицы, верхнюю одежду и обувь. Днём охранники забрасывали в каждую юрту по два десятка стоптанных поршней, чтобы пленные по очереди сбегали в отхожее место и хотя бы чуть-чуть размялись на улице. Вечером обутку отнимали. В общем, невольники сидели в юртах, греясь друг о друга. Очагов у них не имелось, а на ночь давали бронзовую жаровню с аргалом, сухим навозом. Кормили неплохо, но раз в день: притаскивали котёл с горячей похлёбкой.
— Господа, что с нами будет? — спросил Ваня у товарищей.
— Весной угонят в Доржинкит, — сказал толстый и бородатый купец. — Если наши не заплатят выкуп, то через год перегонят в Кульджу. Там нас заберут торговцы из Хивы, приведут к себе и продадут у Палван-Дар-ваза.
— Куда?
— Всякого по-своему.
— А кто даёт выкуп?
— За служилых — воевода, а за прочих — семейства.
Ваню обдало ужасом и тоской.
— Нельзя ждать! — взволнованно заговорил он. — Надо бежать!
Смрадная, переполненная народом юрта ответила смешками.
— Экий ты стригунок, — сказали Ване.
Ваня и сам всё понял. Зипуна и обуви нет — беглец замёрзнет. Всякий след в снегу — как борозда в целине, и догонять беглецов будут конники. Зимняя степь была надёжнее каземата, а холод — страшнее кандалов.
— Можно ведь ноги обмотать тряпками… — виновато предположил Ваня.
— Через версту обрежешься настом до кости и сам ляжешь сдохнуть.
Но встреча с Ренатом воодушевила Ваню. До этой встречи Ваня думал, что нет ему прощения, а пример Рената показал, что есть преступления и похуже его глупого себялюбия. Значит, он ещё не опустился на самое дно жизни. Только на дне умирает надежда. Ежели ты хоть на вершок выше дна — уже можно барахтаться. Ваня лихорадочно размышлял о побеге.
— Господа, — горячо обратился он к пленным. — Нельзя смиряться! Я предлагаю бежать иначе! Мы украдём коней!
— Не ершись, — ответили ему. — Есть порядок, как невольников выкупать, — так сиди, терпи и жди. Кто мятежит, тех степняки быстро укорачивают.
Ваня с осуждением оглядел товарищей по плену. Все они, и он сам, теснились кучей на полу юрты. Без огня было сумрачно, над нечёсаными и кудлатыми головами высоким шатром подымалась овчинная кровля, где-то вверху светлело дымовое окошко, подпёртое косым шестом, и казалось, что люди сидят на донышке глубокого кувшина. Лица у пленников были разные, но одинаково мятые, скорбные, обросшие щетиной или бородами. Кто-то дремал, кто-то играл в зернь, кто-то просто отупел от безделья, некоторые негромко разговаривали, и откуда-то доносился глухой бубнёж:
— Всещедрый Боже, раба Твоего, нами ныне молящегося, от уз и заточения свободи и от всякаго злаго об-стояния избави… Христе Боже, не презри в скорбех и бедах Тебе верою призывающих, но яко щедр помилуй и от уз скоро свободи, да поем Ти: аллилуия…
Купцы и работники — они понятно, мужики, но и рекруты-солдаты — тоже мужики, не избавившиеся от мужичьего смирения перед чужой волей. Они не побывали в бою, как побывал Ваня, не изведали свою совокупную силу и потому не преодолели в себе страх. И у них желание сопротивляться, которое распирало Ваню, вызывало только унылую снисходительность: дурачок, плетью обух перешибить хочет. Молодой, зелёный — видно же.
Ваня решил, что ночью пойдёт в побег в одиночку.
А Ходжа Касым вечером того дня отправился поговорить с Ренатом.
Ренату неловко было принимать Касыма у себя в кибитке, будто в спальне, но он догадался, что общение с бухарцем таит в себе нечто опасное, и потому не следует, чтобы кто-нибудь в юрте увидел их двоих в беседе. Касым сел по-турецки — скрестив ноги, и Ренат повторил эту азиатскую позу: он уже освоил её, пока жил у джунгар. Бригитта поодаль полулежала на локте; она по пояс укрылась шкурами. Касым едва заметно поморщился.
— Твоя жена не покинет нас?
— Нет, — сухо сказал Ренат.
— Хорошо, — поклонился Касым. — Я не буду задавать тебе вопросов, ибо ты не дашь на них ответов. Но через размышления и умозаключения я уяснил себе тот путь, который привёл вас двоих в это место и в это положение.
Ренат пожал плечами, выражая безразличие.
— Я буду перед тобой откровенным как перед другом, — продолжил Касым. — И скажу, с какой целью здесь нахожусь я.
— Говори.
— Я желал бы, чтобы царь казнил губернатора Гагарина. Гагарин — мой враг, он душит мою торговлю. Но он и ваш враг.
— Это уже не важно.
— Смиренно прошу: дослушай меня, — Касым прижал руки к груди. — Склонить царя к мысли о том, что губернатор Гагарин заслуживает смерти, возможно лишь одним способом: показать царю пайцзу, которую ты принёс степнякам. Пайцза означает, что Гагарина наняли китайцы, враги царя. И я приехал сюда, на Ямыш, чтобы купить у зайсанга этот знак предательства. Но Аллах отвернулся от меня. Зайсанг не продал мне пайцзу.
Ренат посмотрел на Бригитту. Бригитта спокойно улыбалась.
— И я подумал о тебе, уважаемый, — закончил Касым. — Ты — вольный человек, хотя и пребываешь в зависимости от степняков. Но ты можешь взять жену и уйти.
Я прошу тебя: поедем со мной к царю. Ты расскажешь ему правду. Эта правда заменит мне пайцзу. А я щедро вознагражу тебя.
— Расскажи царю сам, без меня, — усмехнулся Ренат.
— Он не поверит мне, — вздохнул Касым. — Я мусульманин, я бухарец, я — давний противник губернатора. А тебе поверит. Ты — офицер чужой армии, и у тебя нет интереса в делах Сибири. Не сомневайся, мой друг: царь не осудит тебя за то, что ты совершил в принуждении от губернатора. Царь милостив к людям твоего народа. Он поблагодарит тебя, ибо ты откроешь ему истинное лицо изменника и злодея, который выдаёт себя за верного раба.
Ренат думал, опустив глаза.
— Зачем тебе Юхан? — вдруг спросила Касыма Бригитта. — Рассказать твою правду мочь нойон Тсэ… Дзэ-рэн Дондоб. Он писать письмо. Ты брать письмо и отдать цар Петер. Дзэрэн важнее человек, чем Юхан.
Ходжа Касым подумал, что преданные и любящие жёны — такие, как его Назифа, — всегда находят самый простой и верный выход.
Конечно, он уже примерялся к такому повороту. Но всё было сложно. Старый нойон Цэрэн Дондоб ненавидел китайцев и презирал всех остальных, кроме, разумеется, джунгар. Презирал халхасцев за то, что покорились Китаю. Презирал калмыков за то, что покорились России. Презирал бухарцев — просто так, хотя джунгары покупали у бухарцев порох. Презирал казахов за то, что отбивали свои земли, захваченные Джунгарией. Презирал хошутов Кукунора, а с ними и Лавзан-хана, за то, что они — не джунгары. И русских Цэрэн Дондоб тоже презирал. Живут себе в лесах — и ладно, однако едва только русские пробовали сунуться в степи или горы, Цэрэн Дондоб сразу бросался в поход возмездия. Когда семь лет назад русские пришли на Катунь, нойон напал на Кузнецкий острог и разрушил Бикатунский острог.
Хотя Касым и говорил Онхудаю, что он друг контайши и пьёт с ним по две пиалы чая, это была не совсем правда. Чай-то Касым пил, но принимал его контайша лишь потому, что Касым привозил из Бухары ткани, украшения и умащения для Цэдэрган, любимой жены Цэван-Рабдана, и их дочерей. И нойон Цэрэн Дондоб знал подлинное значение этого бухарца для контайши.
Цэрэн Дондоб не соизволит написать письмо русскому царю по просьбе ничтожного торговца. Он вообще не станет писать царю, а сообщит обо всех делах контайше. Пусть тот сам решает, что предпринять. Возможно, Цэ-ван-Рабдан и напишет желаемое письмо, но как будет изложена суть? «Нойон сказал мне, что зайсанг сказал ему, что некий перебежчик из числа пленных шведов сообщил…» Таким сведениям правитель не доверится. Словом, для Ходжи Касыма питать надежду на помощь джунгар в борьбе с Гагариным — всё равно что строить минарет Калян из шёлковых подушек. Очень-очень зыбко. И очень-очень долго. Однако незачем разъяснять всё это шведу.
— Я — купец, а не воин, — сокрушённо сказал Касым Ренату и Бригитте. — Я робок, друзья мои. Я боюсь докучать тому, кто может отрубить мне голову. По этой причине обращение к нойону — для меня крайнее средство. К нему я прибегну лишь тогда, когда исчерпаю все другие возможности.
Сколь бы ни был убедителен и красноречив этот бухарец, Ренат ни на миг не соблазнился его обещаниями. Он, штык-юнкер Ренат, не может вернуться в Россию. Он стрелял по своим товарищам из пушки. Такому нет оправдания. Такое не прощается. Однако незачем разъяснять всё это бухарцу.
— Мой ответ — нет, — прямо сказал Ренат Касыму.
Бригитта одобрила его взглядом. Хансли научился говорить «нет».
Из кибитки Рената Ходжа Касым выбрался в полном недоумении. Как же так? Он предлагал этому глупому иноземцу деньги и возвращение к достойной жизни, а иноземец предпочёл нищету в орде кочевников! Дело, казавшееся таким простым, — поезжай и купи золотую безделушку! — превращалось в неисполнимое! Может, рогатый тагут всё-таки сглазил его?
Луна висела над равниной как бледная ведьма, и юрга погрузилась в пронзительную синеву сырой и холодной весенней ночи. Вокруг не было ни одного огня. Кровли юрт одинаково серебрились полукругами. Истоптанный мокрый снег замёрз, и стан рябил мелкими чешуями блеска и тьмы. Арба, оставленная прислугой, отбросила огромную паучью тень. Бескрайняя и безлюдная степь была словно околдована куфром — неверием, и по простору здесь беззвучно неслись невидимые и бестелесные громады джиннов.
Касым увидел, как из дальней тёмной юрты осторожно выскользнул человек в офицерском камзоле и тряпичных чунях вместо обуви. Пригибаясь, он устремился к ограде стана и ловко перепрыгнул через красный шнур. Если это был пленник-беглец, то он ошибся с направлением побега: русская крепость находилась совсем в другой стороне. А там, куда устремился этот офицер, ночью стояли многоголовые табуны, и среди конских косяков разъезжали бдительные караулы. Касым сделал несколько шагов к ограде, желая знать, что сделает беглец. А тот домчался до неподвижно стоящего табуна, согнулся ещё ниже и нырнул лошадям под животы.
Это был Ваня Демарин.
На четвереньках он пробирался вглубь табуна между лошадиных ног, словно в тонкоствольном и частом лесочке. Выскочив на прогал, будто на поляну, он распрямился и огляделся. Дозора не видно. Сейчас надо заскочить какой-нибудь лошади на спину, распластаться и в неспешном полусонном перемещении коней потихонечку подвести свою лошадь к краю табуна. А там вылучить момент, когда дозорные далеко, и со всех сил погнать лошадь в степь — туда, где за четыре версты от юрги под луной лежит родная крепость. Он сумеет удержаться на лошади без седла и стремян — поскачет охлюпкой. Есть надежда, что караульные не успеют догнать его.
Ваня приметил крепкую буланую лошадь: похоже, она была способна рвануть с места и потом держать взятую скорость. Вытащив из-за пазухи самодельную уздечку из верёвочного обрывка, Ваня быстро надел её кобыле на голову, а потом бесшумно, как ночная птица, взлетел на широкую спину лошади. Лошадь испуганно фыркнула и заиграла, топчась. Ваня замер, лёжа на животе. Успокаивая, он поглаживал свою кобылу по шее. И вдруг в ногу Вани вцепился какой-то человек. Это был конюх-моричи; он драл скребком шкуру коня неподалёку от Вани, и Ваня не разглядел его среди табуна.
— Эргэдэл! Эргэдэл! — завопил конюх в тишине.
Весь табун дрогнул, просыпаясь. Ваня лягнул конюха в лицо, но тот не разжал руку и могуче дёрнул Ваню на себя. Ваня съехал с крутого бока лошади и повалился на конюха. Вдалеке послышались крики дозорных. Конюх кинулся душить Ваню, но Ваня был легче одет и двигался быстрее. Он крутанулся в лапах степняка, выхватил из-за пояса противника нож-хутагу, бешено оттолкнул джун-гарина, чтобы освободить пространство, и замахнулся, чтобы вонзить клинок. Конюх завизжал от ужаса.
Чья-то сильная рука уже в полёте перехватила руку Вани и вывернула. От внезапной боли Ваня выронил нож и выгнулся. Конюх тотчас нанёс Ване сокрушительный удар в лицо. В глазах у Вани всё вспыхнуло, и он упал. Он ничего не видел среди малиновых кругов, но услышал, как кто-то властно и тихо приказал ему по-русски:
— Уймись, или убьют, глупец!
Расталкивая табун, конные дозорные пробились к месту драки. Конюх-моричи вытирал кровь из уха и прятал на место хутагу. Молоденький русский офицер в распустившихся чунях стоял, тяжело дыша, а за шкирку его держал бухарский купец в дорогом, шитом золотом чапане.
— Я Ходжа Касым, муж сестры зайсанга Онхудая! — громко и свободно крикнул караульным бухарец. Он говорил по-монгольски.
Он торжествовал. Аллах его не оставил! Аллах указал ему путь! Шведского перебежчика он может заменить русским офицером!
— Это пленный русский! — глядя на караульных, конюх указал на Ваню. — Он хотел украсть лошадь и сбежать! Я схватил его!
Караульных было четверо. Они вытащили сабли и не сошли с коней.
— Ты очень достойный человек, — величественно сказал Касым, кланяясь конюху. — Ты делаешь своё дело как должно. Назови своё имя, моричи.
— Очирбат, — сердито буркнул конюх, ещё ничего не понимая.
— Я награжу тебя, Очирбат. Но ты немного ошибся. Этого русского мне дали в слуги. Я послал его в табуны выбрать для меня лошадь. Зайсанг Онхудай дозволил мне выбрать любую. Однако мой глупый слуга не знает наших порядков, и он не спросил дозволения у вас, каанары.
— А почему ночью? — недоверчиво спросил один из дозорных.
— Чтобы не бегать за табуном по степи.
— Ты лжёшь, — сказал другой дозорный. — Ты спасаешь беглеца.
Ходжа Касым покровительственно улыбнулся.
— Очирбат, какую лошадь выбрал мой слуга?
— Вот эту, буланую трёхлетку. Её зовут Буудал.
— Достойная ли это лошадь?
— Она лучшая на восемь косяков, — признал конюх.
— Вот видишь, — блеснув зубами, улыбнулся Касым, словно достоинство лошади оправдывало конокрада, и негромко, спокойно приказал Демарину по-русски: — Поклонись командиру караула.
— Я офицер! — строптиво ответил Ваня.
— Ты виноват, а он из знатного рода.
Гневно сопя, Ваня нехотя поклонился джунгарскому воину.
Караульные посмотрели друг на друга, размышляя.
— Верни русского туда, где ему должно быть ночью, бухарец, — наконец решил командир. — Моё имя Цог-гэрэл. Меня ты тоже обязан наградить.
Касым опустил голову, прижав правую руку к сердцу, а левой рукой придерживая правый рукав, — так изъявляют глубокое почтение.
Караульные повернули коней. Касым и Ваня смотрели им вслед.
— Вернёмся на стан, юноша, — сказал Касым по-русски. — Ты не ведаешь, насколько ты будешь мне благодарен. Как тебя зовут?
…В этот поздний час Ренат и Бригитта тоже ещё не спали.
Они долго обсуждали предложение Касыма, а потом устали и просто лежали, размышляя. Стены кибитки полоскались под ветром с Иртыша. Казалось, будто Ренат и Бригитта плывут в лодке, а над ними хлопает парус.
— Я снова попал в беду, Гита, — наконец сказал Ренат. — Зайсанг Онхудай глуп. Он ничего не понял. Нам он не страшен, потому что хочет сражаться. Но бухарец пойдёт к нойону Цэрэн Дондобу. Нойон узнает, что я солгал. Узнает, что я выполнил коварный приказ губернатора Гагарина. Я помог ему обмануть степняков и заставить их воевать. Меня казнят.
Бригитта приподнялась на локте, с нежностью глядя на Рената.
— Значит, мы должны убить бухарца, пока нойон не вернулся, — просто ответила она. — Иного выхода нет. Ты сможешь это сделать, Хансли?
— Смогу, — задумчиво произнёс Ренат.
Глава 11 Родные люди
Кремль стоял в недоделке уже вторую зиму. Бессмысленная стена без зубцов, обрывающаяся на иолпути, и уродливые обрубки башен стали как-то привычны взгляду, и Семён Ульянович боялся, что скоро люди утвердятся во мнении, будто так и надо. Незавершённость перестанет причинять боль — значит, замысел погибнет. Стена незаметно обросла пристроенными сараями, а башни использовались вместо амбаров. Семён Ульянович карабкался по сугробам, осматривая арки, тыкал своей палкой в кладку, проверяя прочность кирпича, и думал, что кремль возведён даже больше, чем наполовину. Как можно бросать? Столько сил вколотили — и так немного остаётся до конца!
Матвей Петрович ничем не помог, хоть и обещал. Он не застал Петра Лексеича в столице и не поговорил с ним. И владыка Филофей, когда ездил на хиротонию, тоже не поговорил. Матвей Петрович сказал, что напишет царю из Тобольска письмо, однако написал ли — бог ведает.
И Ремезову было очень горько. Чем больше он смотрел на кремль, тем сильнее закипала злоба. Он поднялся на стену, с которой местами уже обвалилась временная кровля, и, успокаивая сердце, дышал ветром с Иртыша. За широкой плоскостью реки взъерошенная сизая тайга, убегая вдаль, сливалась с низкими облаками.
Лакей Капитон, не пробравшись к стене через сугробы, закричал снизу:
— Ремезов! Ремезов! Тебя барин ищет!
Может, Матвей Петрович всё-таки послал государю прошение о кремле, а сейчас получил ответ? Зачем губернатору потребовался архитектон? Семён Ульянович торопливо поковылял к лесенке. Ох, нелепо надеяться на чудо и спешить на первый же зов, подобно глупой собачке, но Семён Ульянович очень хотел, чтобы всё изменилось к лучшему. Он почти убедил себя, что подоспело какое-то радостное известие, и скорее всего — о кремле.
Терем Матвея Петровича был хорошо натоплен. В просторных сенях пахло свежими калачами, уютно поскрипывали половицы, из-под драпировок поблёскивали зеркала. Семён Ульяныч обмёл ноги веником и сдёрнул шапку.
— Одёжку сыми, не в конюшню припёрся, — сказал Капитон.
— Заткнись, — ответил Семён Ульяныч.
Он спешил поскорее всё узнать — и вырваться из тоски.
Князь Гагарин ждал его в гостевой горнице. Длинный стол, покрытый льняной скатертью, был уставлен посудой только с одного конца: Матвей Петрович готовился кого-то принять и велел сервировать на пять кувертов. Но Семён Ульянович не рассматривал все эти блюда, тарелки, судки, кубки, ложки, ножи и вилки, — он не жрать сюда явился; не посмотрел он и на конклюзии в простенках, как обычно смотрел, втайне любуясь свой работой.
Гагарин сидел у стола, и рядом лежали какие-то бумаги. Напротив Матвея Петровича вытянулся в струнку солдат в потрёпанном камзоле.
— Звал? — требовательно спросил Семён Ульяныч.
— Звал, — неохотно кивнул Гагарин. — Знакомься. Солдат Ерофей Быков. Доставил донесение из крепости на Ямыше от полковника Бухгольца.
Матвей Петрович легко похлопал ладонью по бумагам.
— А мне-то что? — строптиво ответил Ремезов.
— Сообщи ему, — со вздохом велел Гагарин солдату.
Солдат смущённо откашлялся в кулак.
— Погиб геройски Петро, — сказал он.
Ерофей почему-то назвал Петьку на хохляцкий лад, словно так было легче сообщить отцу о гибели сына.
— Какой Петро? — не понял Семён Ульянович.
— Сын твой младший, — пояснил Гагарин. — Пётр Семёнов Ремезов.
Семён Ульянович опирался на палку и чуть покачивался. Он ничего не мог сообразить. Петьку убили? Так, значит, не было никакого письма от царя о достройке кремля? А Петька здесь при чём? Петька-то ни при чём! Душа у Семёна Ульяныча сделалась бесчувственной, словно отмороженной. Он же говорил Петьке — не надо записываться в солдаты, а Петька разве слушает? И на тебе — убили! Лучше стало, да? Ни сына, ни кремля! Ладно, им Петька не нужен, он отцовское наказание, а кремль-то?.. Неужто красоты не видят? Сына забрали, так хоть кремль бы дали!.. Семёна Ульяновича затопила чудовищная досада, словно его обманули или украли у него башмаки.
— Вот оно выходит как? — Семён Ульянович обвёл пустым взглядом и Гагарина, и Ерофея, и Капитона, стоящего в стороне с салфеткой на руке. — Улетели гуси за море, да и прилетели тоже не лебеди?
Гагарин, Ерофей и Капитон не понимали, что случилось со стариком.
Ремезов вдруг поднял палку и ударил по столу, разбивая куверт вдребезги. Осколки тарелок и судков брызнули во все стороны, осыпали колени Матвея Петровича. Ерофей, не шелохнувшись, в ужасе зажмурился. А Семён Ульяныч принялся молотить палкой по столу, пока не разнёс всю посуду. Капитон дёрнулся было к Ремезову, но Матвей Петрович кратким движением руки остановил лакея. Семён Ульяныч, задыхаясь, стащил на пол скатерть и начал топтать её ногами, потом опять поднял палку и врезал по стеклянным дверкам поставца, за которыми нежно голубел китайский фарфор. Матвей Петрович сидел и ждал. Ремезов оттолкнул стол, бросился к окошку и выбил оконницу; холодный ветер дунул в столовую, колыхнув портьеры. Ремезов колотил всё подряд, срывал занавеси, сшибал палкой со стен рогатые канделябры, будто сухие сучки с древесного ствола.
Матвей Петрович смотрел, как бушует архитектон, и не мешал. Он жалел старика. Не по чину, конечно, Ремезов распоясался, но горе есть горе. Ремезовский разгром как-то очень правильно ложился на душу Гагарина. Ведь у Матвея Петровича всё получилось. Где-то там, далеко в глухой степи, полковник Бухгольц упрямо оборонял свою крепость. Ерофей донёс, что к зайсангу До-ржинкита на подмогу подоспело большое войско; если судить по времени, то оно пришло как раз из Кульджи, где обретались Цэван-Рабдан и Цэрэн Дондоб. Значит, джунгары заглотили наживку. Война разгорелась. Бухгольц сражается. Он, князь Гагарин, исполнил то, что богдыхан хотел получить от русских. И новые караваны скоро поползут в Пекин. Дерзость губернатора увенчалась успехом, а успех обернётся золотом. Но слишком уж всё гладко. Матвей Петрович боялся довериться удаче. И буйство старика Ремезова было той жертвой, которая в душе князя Гагарина окупала победу. Пускай Ремезов уничтожит китайского фарфора хоть на пять тыщ.
Семён Ульяныч наконец опустил палку и побрёл к выходу.
— Много золота, говоришь, в Яркенде? — обернувшись в дверях, вдруг спросил он у Матвея Петровича. — Ну, дак я, дурак, запомню!
Он брёл по Воеводскому двору, а потом по Соборной площади, никого и ничего не замечая. В одной руке он держал палку, а в другой сжимал треух, который забыл надеть. Ветер трепал его волосы и бороду. Ремезов что-то рассерженно бормотал, споря сам с собой, как полоумный, и махал шапкой. Ноги принесли его к Софийскому собору. Дверь в собор была заперта. Сторож разметал снег перед входом в собор.
— Пусти меня! — властно крикнул ему Ремезов.
— Так закрыто же на зиму, Семён Ульяныч, — испуганно ответил сторож.
— Пусти!
Сторож достал ключ, открыл замок и перекрестился.
В полутёмном пустом соборе еле тлело несколько лампад. Ремезов вытащил из свечного ящика целый пучок свечей. Ворча что-то под нос, Семён Ульянович зажигал одну свечу за другой и втыкал без всякого порядка везде, где придётся. Последняя свеча озарила образ святой Софии в нижнем чине иконостаса. Семён Ульянович уставился на эту икону, будто узрел впервые, хотя сам же — вернее, с отцом — и написал её тридцать три года назад. Он тогда ещё только входил в художество, живописное и словесное, и многого не знал. Он изобразил Софию не по канону: без огненных крыл, без Христа над головой, без Богоматери и Предтечи, предстоящих одесную и ошую. София была без царских барм и не в багряном далматике, а в тунике и мафории, как Дева Мария. На ладони она держала храм — вот этот самый Софийский собор, который в тот год едва успели заложить. Храм Семён Ульянович нарисовал трёхглавым, потому что его ещё не допускали к делу зодчества, и никто не сказал ему, что собор увенчают пятиглавием, а сам он никогда не видел каменных соборов и не ведал, какими они бывают.
Ведь он, Семён Ремезов, не сразу пришёл к своему призванию. Немало годов он потратил на обычную службу, не испытывая никакой тяги ни к перу, ни к беличьим кистям. Он помнил, как тогда изумлялся отец: откуда глаз у сына знает, какую краску по скольку брать? Откуда рука у сына знает, как наложить мазок, чтобы образ обрёл объём и волнение? Это был божий дар, открытый лишь зрелым летам Семёна Ульяновича. А в молодости он был как Петька: не хочу читать, не хочу писать, хочу драться! В Петьке Семён Ульяныч узнавал себя; в Петьке — а не в Леонтии, Семёне или Иване! От него, от Семёна Ульяныча, дерзкий Петька и унаследовал своё неуёмное жизнелюбие, которое не умещалось в дозволениях. А сейчас Петька убит. Убит где-то в зимней степи. И Семёну Ульянычу не изведать того отцовского счастья, которое от сына изведал Ульян Мосеич, потому что это не мальчик Петька, а он сам, старый архитектон Ремезов, лежит вниз лицом в степном снегу. Это его убили. Петька — ныне ангел, а ему, отцу, вырвали сердце.
…Какие-то люди привели Семёна Ульяныча домой, потому что он рыдал, старчески взвизгивая, не видел, куда идёт, и ноги его подкашивались. Его уложили на лавку под киотом. Вокруг хлопотало всё семейство. Семён Ульяныч всегда был крепким, сварливым и непокорным, невозможно было вообразить его сломленным, и эти жертвенные вопли, всхлипы и метания перепугали всех Ремезовых до оторопи. Семён Ульяныч провыл, что Петьку убили, но страх родни за самого Семёна Ульяныча лишил страшное известие сокрушительной силы: пока было не до мысли о Петьке — не помер бы отец. Семён Ульяныч словно откричал за всех. И потом каждый из Ремезовых уже просто осознал горе в себе, не умножая свою боль болью близких.
Семёна Ульяныча укрыли зипунами, он лежал на лавке и стонал, как раненый. Митрофановна сидела рядом с ним и тихо, безудержно плакала, вытирая лицо углом платка. Петенька умер. Петенька. Её Петя-петушок. Горе Ефимьи Митрофановны было простым и ясным — бесконечная материнская жалость к маленькому мальчику, который заблудился в дремучем лесу, боится волков и зовёт свою матушку, а матушка бежит к нему по лесу в тоске и смятении, бежит на детский зов, но не найдёт сыночка уже никогда.
Маша в тёмных холодных сенях забилась в угол и таращилась в пустоту, царапая стену ногтями. Она не могла представить, что Петьки больше нет. Как это?.. Петька всегда был такой живой, ершистый, жадный до всего — и вдруг его не стало? Воспоминания о брате приобретали какое-то странное значение, будто любое слово Петьки на самом деле было вещим, а она этого не понимала, будто любой поступок Петьки был тайным назиданием, смысл которого проявился только сейчас. Петька что-то говорил ей — она видела, как шевелятся его губы и блестят глаза, но ничего, ничего не слышала.
Леонтий на дворе в одной рубахе колол поленья и время от времени встряхивал головой, словно отгонял морок. Петька, меньшой брат, да как же это?.. Леонтию словно отрубили руку или ногу — и он в ответ тоже рубил. Чем ему было больнее, тем яростнее он всаживал топор в сосновые чурбаки. А Лёшка и Лёнька, старшие сыновья Леонтия, убежали к соседям.
Семён укрылся в подклете мастерской, где уже не жил после Епифании. Здесь, в подклете, хранилась его печаль, как лёд в погребе. Здесь бог всегда слышал его.
И Семён просил бога принять отрока Петра как-нибудь помягче, просил быть к нему помилостивее. Детские грехи Петра — не грехи. Пусть Петя больше не знает ни смут, ни страданий. Дай ему, боже, безмятежности.
Никто не знал, что чувствовала Варвара. Когда Семён Ульяныч затих, она просто ушла за печку и пропала, а потом вышла такая же, как прежде, — суровая и неразговорчивая. Девятилетнему Федюньке, что ревел на полатях, она велела спуститься, одеться и вместо Машки задать корма скотине, а ревущую шестилетнюю Танюшку просто уложила спать. В стойле Федюнька нагрёб корове сена, насыпал Гуне овса, а потом молча присоединился к отцу. Леонтий в бессильном ожесточении разваливал кряжистые чурбаки на поленья, а Федюнька собирал поленья и таскал под гульбище, укладывая в поленницу. Оба они понимали друг друга и знали, что дело не в дровах.
Смерть молоденького солдатика ничего не изменила в этом мире, не остановила бег времени. Полная луна неудержимо истаивала до серпа, восходили Рыбы и клонился Водолей, день всё теснил и теснил ночь. Подо льдами и снегами Иртыш тихо и упорно пробирался на север, к океану; в окоченевших стволах деревьев живые соки медленно поднимались от корней к ветвям; в городе ошалели коты и полезли по чужим подворьям, а в тайге на токовищах бились друг с другом, разбрасывая вороные перья, глухари.
Когда отец чуть оправился, Леонтий разыскал в гарнизонных избах солдата Ерофея Быкова и расспросил о гибели Петьки. Ерофей рассказал, как было дело. Рассказал, как степняки уничтожили дозор, как заставили Петьку барабанить, чтобы русские открыли ворота, и как Петька стучал «тревогу», предупреждая караульных об опасности. Леонтий обречённо кивал. Да, Петька — он такой, он непримиримый, он не мог иначе. Эту историю
Леонтий пересказал домашним. Семён Ульяныч слушал, чернея лицом, и глаза его метали молнии. А Митрофановна опять заплакала.
Маша запомнила это имя — Ерофей Быков. Переждав несколько дней, она тоже пошла в гарнизонные избы. Она хотела узнать о Ване Демарине.
— Дяденька Ерофей, — осторожно спросила она, — а ты не знал там на войне такого фицера — Ваню Дема-рина?
— Да как же не знал? — усмехнулся Ерофей. — Он над твоим братом как курица над яйцом трясся.
— Жив он? Не ранен? Не болен?
— Когда я уходил, живой был. Но шибко по Петьке горевал.
Маша сама не ожидала, что так обрадуется. Словно солнце блеснуло в мрачных тучах. Она ведь и не сомневалась, что Ваня будет исполнять её просьбу. Конечно, Ваня упрямый и самолюбивый, однако он честный, если обещал — будет делать. Видно, у него всё-таки не вышло уберечь Петьку, но он старался. Может быть, об этом ей беззвучно говорил Петька? Брат всегда терзал её, драл за косы, подслушивал, о чём она шепчется с подругами, на Курдюмке кидал в неё лягушками, пугал её в бане — выл под окошком, но, если кто обижал её, он защищал, и даже дрался с Володькой Легостаевым. И Петьке понравился Ванька. Петька не разозлился бы, что Маша даже сейчас думает не только про него, но ещё и про фицера Демарина.
Горе в семье Ремезовых потихоньку обживалось, обретало своё место, как новый постоялец: оно глядело месяцем в окошко, трещало огнём лучины, стрекотало сверчком за печью, сидело со всеми за общим вечерним столом и бормотало что-то во сне. Но никто из Ремезовых не заметил, что происходит с Ефимьей Митрофановной. Она не колотилась в отчаянье, не рвала волосы, не причитала, не убивалась. Она затихла, будто уступила горе своим родным людям: пусть отведут душу, пусть быстрее отмучаются и опустошатся.
Как-то раз Лёнька с Лёшкой запропастились куда-то и не привезли воды с Курдюмки; за водой уехали Варвара с Машей, а Семён Ульяныч за ужином принялся ворчать на мальчишек:
— Морды вы бродяжьи! Забыли своё дело, да? Петька вон за товарищей живот положил, а у вас мать на проруби горбатится!
Эти попрёки означали, что Семён Ульяныч в душе уже принял гибель сына. А Ефимья Митрофановна, ничего никому не говоря, не приняла. И утром она не поднялась с лавки. Она пролежала весь день, а потом и второй день, и третий. Она не жаловалась, ничего не просила и не плакала — просто молчала, глядя в потолок, и угасала. Теперь семья засуетилась вокруг неё. И больше всего суетился Семён Ульяныч. Он и представить не мог, что жена умрёт раньше него. Он не знал, что делать и за что хвататься; в сенях и во дворе он орал на сыновей и внуков, а по горнице ковылял на цыпочках, обмотав тряпкой конец своей палки, чтобы не стучать, и говорил с Ефимьей Митрофановной заискивающе, виновато, хотя она всё равно не отвечала.
Семён Ульянович позвал батюшку Лахтиона из Никольской церкви — Митрофановна очень уважала его. Батюшка пришёл. Вздыхая, он посидел рядом с Митрофановной и попросил домашних выйти из горницы. Ефимья Митрофановна исповедовалась и причастилась.
— Отпустит её? — в сенях тревожно спросил Семён Ульяныч у батюшки.
— Бог знает, — неохотно ответил батюшка и удалился.
Митрофановну не отпустило. Она не хотела жить.
Через два дня Семён Ульянович привёл владыку Филофея. Это было последнее средство, которое Семён Ульянович придумал.
Все младшие Ремезовы, смущаясь владыки, перебрались в мастерскую. Семён Ульяныч принял шубу и шапку Филофея.
— Вот она, владыка, — бормотал он, словно Филофей мог не заметить Ефимью Митрофановну. — Неделю уже лежит… Ни слезинки не уронила, молчит, не молится, не ест ничего, только ночью встаёт водички попить…
Филофей тоже присел возле Митрофановны и погладил её по лбу.
— Ох, матушка… — печально произнёс он.
— Скажи ей что-нибудь, владыка, пусть встанет, — жалобно просил Семён Ульяныч. — Псалом какой прочти или святой водой окропи.
Филофей поглядел в тоскующие глаза Митрофановны.
— Что я ей скажу? Она о жизни больше моего знает.
— Умрёт ведь Фимушка моя, — едва не заплакал Семён Ульянович.
— Может, покормить её? — как-то простецки предположил Филофей.
Семён Ульяныч даже рассердился на такое глупое лечение.
— Разве ж мы не предлагали ей?
— А что она любит?
— Не знаю! — потихоньку понимая владыку, удивился своему неведению Семён Ульянович. — Всё ест… На Масленицу стопу блинов сметала.
— Давай тесто сделаем и блинов ей напечём.
— Так Великий пост.
— Господь простит.
— Сейчас Варвару позову, — дёрнулся Семён Ульяныч.
— Не надо Варвару, — остановил его Филофей. — Давай сами. Когда-то в Киеве я в просфорне послушание исполнял. Ищи муку, молоко и яйца.
Семён Ульяныч достал большую деревянную миску, в которой обычно заводили тесто для блинов, и натрусил в неё муки из берестяного туеса, правда, частью просыпал и на стол. Владыка Филофей налил в миску молока из кувшина, тоже плеснув на стол. Потом Филофей принялся половником перемешивать муку с молоком, а Семён Ульяныч нашёл лукошко с яйцами. Пытаясь разбить яйца в миску, он уронил одно яйцо на пол и поковылял за тряпкой. Филофей, перепачканный белым, неумело месил вязкое тесто, а Семён Ульяныч, кряхтя, ползал под столом, вытирая растоптанный впопыхах желток; он неловко толкнул стол и опрокинул туес с остатками муки.
Митрофановна неохотно, будто через силу, повернула голову. Два старика, митрополит и архитектон, возились у стола, претворяя тесто, чтобы порадовать её хоть чем-то. Но они ничего не умели, олухи. Митрофановна тяжело задышала, шевельнула плечом, потом тихонько заскулила и наконец закричала в полный голос. По морщинам её лица побежали крупные слёзы. Она кричала, выпуская из сердца нестерпимую боль, кричала и кричала, а Семён Ульяныч уже стоял рядом на коленях, вытирая ей щёки платком, и Филофей трясущимися руками протягивал ей кружку с холодной водой. Душа очнулась. Ангелы летели на помощь.
Глава 12 Путь, озарённый солнцем
Иртыш стронулся на рассвете, словно решил больше не откладывать путь. Весенняя степь казалась безрадостной: бесконечная, грязно-серо-белая и неровная. Кое-где снега бессильно просели, и сквозь них темнела земля, а кое-где ещё держались мёртвые острова наста. Иртыш был неразличим, но вдруг через всё пространство что-то захрустело, затрещало, зашевелилось, и прямо из небытия обозначилась длинная полоса единого движения. Коробясь и трескаясь, лёд на русле сам собой пополз среди такого же льда берегов. А потом проступила чёрная вода, проявляя реку в её истинной природе.
Нойон Цэрэн Дондоб возвращался в юргу по берегу Иртыша. Он ехал впереди на Солонго, которая бежала ровным тротом, его окружали дайчины и каанары, а следом скакало войско в тысячу пик. Иртыш был сплошным месивом из льдин, которое шуршало, скрипело, хрустело и ползло вдаль в неизъяснимом нечеловеческом упорстве. Ледоход жил своей беспокойной жизнью: льдины лезли друг на друга, ухали в воду, грузно переворачивались, тонули, всплывали, рушились на части. От реки веяло холодом.
Ламы Доржинкита не помогли нойону. Они сказали, что судьба нойона — у него в руках, и он знает всё, чтобы выбрать правильную дорогу, но ещё не понимает многое из того, что находится прямо перед ним. Ламы не ответили, оставаться ему здесь или нет. «Ты там, где нужен себе», — сказали они.
А где он нужен себе? Здесь, на задворках мира? Нет, он нужен себе в Лхасе. Отбить у китайцев священный город — значит вонзить нож в грудь нефритового дракона. Отплатить за всё: за годы унижений, за ложь, за чёрные косы Ану-хатун. Неведомый и безымянный китайский воин убил её на Дзун-Мод уже двадцать лет назад. За прошедшие годы нойон почти забыл, как выглядела Ану-хатун. Любовь остыла и умерла. А ненависть, рождённая этой любовью, до сих пор была горяча и жива — зазвенит, только тронь.
Ану-хатун, прекрасная и неистовая, как злой докшит, была женой тайши Сенге. А Сенге был старшим сыном великого контайши Эрдени-Батура. Это Эрдени-Батур, воин от кости Чороса, первый хан Джунгарии, созвал ойратов на чуулган под хребет Тарбагатай, и ойраты приняли общие законы жизни. Чтобы крепче породнить джунгар и хошутов, Эрдени-Батур женил Сенге на Ану-хатун, дочери хошутского тайши. Цэрэн Дондоб помнил эту свадьбу, ведь он был братом Сенге. Ану-хатун родила Сенге сына Цэван-Рабдана.
Всего у Сенге было восемь братьев, но всю власть над Джунгарией отец отдал одному Сенге. Власть была «гар-гу» Сенге — законным преимуществом старшего сына. Но прочие сыновья Эрдени-Батура оказались недовольны малым выделом, полученным от отца. Цэцэн, сын Эрдени-Батура от его любимой жены Дары Убасанчи, поднял мятеж против Сенге. Сенге убили.
Цэрэн Дондоб не претендовал на «гаргу» Батура. Он полагал, что власть над Джунгарией после смерти Сенге должен получить не Цэцэн, а маленький Цэван-Рабдан. Цэрэн Дондоб умчал Ану-хатун и Цэван-Рабдана от воинов Цэцэна. В огне тех погонь и схваток воспламенилась любовь Дондоба к Ану, вдове старшего брата. Казалось, что любовь эта взаимна. Цэрэн Дондоб помнил, как яростно полыхали алые облака над лазурной вершиной горы Мустыг. Но в битве за Джунгарию победил не Цэцэн, а другой сын Эрдени-Батура — Галдан. Победил — и напал на юргу Цэрэн Дондоба. Цэрэн Дондоб сумел спасти Цэван-Рабдана, а Галдан захватил в плен Ану-хатун.
Цэрэн Дондоб укрыл Цэван-Рабдана в городе Тур-фан, что лежал под свирепым небом пустыни в окружении бесчисленных глинобитных руин. Турфаном управляли китайцы. Дальновидный и коварный Лифаньюань взял джунгарских изгнанников на иждивение: вдруг они на что-нибудь сгодятся? Китайский император полагал себя владыкой Юйнэй — Вселенной, а не одной лишь своей империи; мудрецы учили богдыханов, что для них не существует «внешнего» и «внутреннего», поэтому Китаю до всего было дело. Однако жизнь под властью китайцев была позорной и нищей. У Цэрэн Дондоба вскипала кровь, когда он вспоминал, как приходилось кланяться чиновникам, облачённым в косые расписные халаты с оплечьями и нагрудниками.
А у Галдана всё складывалось прекрасно. Он провозгласил себя ханом ойратов, и Далай-лама увенчал его титулом Благословенный. Галдан водил джунгар за Алатау, подчинил себе Сайрам и Фергану, захватил Кашгар, Яркенд, Чимкент и Ташкент. Он наслаждался любовью Ану-хатун, которая, видно, забыла и сына, и убитого мужа, и Цэрэн Дондоба, который спасал её в междоусобицах братьев. Цэрэн Дондоб мог бы проклясть изменницу — но не проклял. Такова божественная суть её души. Потому он её и полюбил.
Погибель Галдана зародилась в степях монгольской Халхи. Лифаньюань подстрекал тамошнего хана Тушэту освободить Халху от власти джунгар. Тушэту поднял мятеж. Самонадеянный Галдан с войском вторгся на Халху и занял город Хархорин на Орхоне. Тушэту бросился за помощью в Китай. На Халху пошагали сразу два китайских войска, одно из которых возглавлял сам богдыхан Канси. Джунгары сражались храбро, и Галдан даже разгромил войско Канси, но китайцы всё равно покорили Халху. В битве у местности Дзун-Мод китайские полчища окружили орду Галдана. Ану-хатун была рядом с мужем. Она облачилась в доспехи, взяла саблю и сама повела воинов на прорыв. Сквозь строй врага она пробила путь, по которому Галдан бежал из западни, но сама уйти не смогла — её пронзила китайская стрела. Галдан же с последними дайчинами бежал на реку Тамир-Гол. Но дальше ему некуда было идти, потому что он не мог вернуться в Джунгарию. И он принял яд.
А вернуться в Джунгарию Галдану не позволял Цэ-ван-Рабдан, вернее, Цэрэн Дондоб. Когда Галдан рванулся на Халху, его опустевшей страной задумал овладеть Лифаньюань. Турфанские изгнанники получили войско и были отправлены восстанавливать преемство сына Сенге. Джунгария покорилась Цэван-Рабдану. Воля Китая сделала Цэвана контайшой.
И теперь пришло время освободиться от власти богдыхана. Довольно мелких стычек, хватит отгрызать у Китая кусочки по краям. Велеречивые поучения богдыхана и вежливая самоуверенность чиновников Лифаньюаня уже нестерпимы для вольного духа джунгар. Пора отплатить за милости, которые были горше наказания, и за гибель Ану-хатун. И Цэван-Рабдан, и Цэрэн Дондоб жаждали сразиться с империей и вырвать ей сердце — Лхасу. Всё было готово. И вдруг — русские у Доржинкита… Это удар в спину.
Чем больше нойон размышлял, тем жёстче его душу раскалял гнев. И даже холод ледохода его не остужал. А в юрге зайсанга Онхудая, к которой приближался нойон, о тех же вещах — о Китае, Джунгарии и русском походе на Яркенд — в это же время разговаривали Ходжа Касым и Ваня Демарин.
Касым пригласил Ваню к себе в кибитку, подбросил аргала в жаровню, опустил полог и сел по-турецки, отгораживая собою Ваню от выхода, будто намекал, что молодой офицерик не выйдет отсюда, пока не согласится на предложение бухарца. За стенками кибитки слышались взволнованные голоса пленников, наблюдающих за ледоходом, шум Иртыша и лай собак.
— Вчера я спас тебя от казни, — для начала напомнил Касым.
— Свобода мне дороже, чем жизнь, — хмуро ответил Ваня.
— Отрубленная голова не принесёт тебе свободы.
Возразить Ване было нечего.
— Чего тебе надо от меня? — сердито спросил он.
Касым расположился поудобнее.
— Скажи, ты заметил на груди у зайсанга Онхудая золотой ярлык?
— Не слепой.
— Мне надо, мой друг, чтобы ты свидетельствовал перед своим царём о том, что видел этот ярлык своими глазами, — вкрадчиво сообщил Касым. — Я хочу, чтобы ты отвёз своему царю моё письмо и рассказал про ярлык. Царь поверит тебе, ведь ты его преданный и отважный воин.
— Как я отвезу письмо? — опешил Ваня.
Он в степи, в плену, и выживет ли ещё — никому не ведомо, и вдруг — Петербург, Нева, фрегаты, государь!.. Это не умещалось в голове.
— Ты поможешь мне бежать? — вскинулся Ваня, опалённый надеждой.
Он мучительно остро переживал свою оторванность от ретраншемента. Он сроднился с товарищами, привык к распорядку службы, к заботам осады, к распланированной тесноте крепости, а сейчас всё вокруг было другое. И уже не узнать, как и чем живёт гарнизон. Крепость была совсем рядом, но замолчала, будто замкнулась в отчуждении. А ведь возвращение возможно! Почему бы этому бухарцу не помочь офицеру? У бухарца есть лошадь; он приведёт её в условленное место, приготовит обувь и саблю; Ваня ускользнёт из юрги, доберётся до лошади и ускачет в ретраншемент! Всё так просто!
Но Касым понимал, что будет после того, как он переправит Ваню в крепость. Весной Ваня двинется в поход с Бухгольцем и вместе с войском погибнет в степях, песках или горах. Джунгары не пропустят русских. А сам Ходжа Касым лишится того, на кого возлагал надежду в деле с пайцзой.
— Нет, — Касым покачал головой. — Я не стану помогать тебе бежать. Я сделаю иначе. Я выкуплю тебя из плена. Это будет через полгода, но будет.
Ваню придавило разочарование.
— Через полгода уже не считается, — сказал он по-мальчишески горько.
Касым усмехнулся. Этот сеголетка ничего не видел дальше своего носа.
— Я не хочу, чтобы ты вернулся в отряд к своему военачальнику, — терпеливо пояснил он. — Его отряд погибнет, а ты нужен мне живым, чтобы поехать к царю.
— Степнякам нас не одолеть! — непримиримо встопорщился Ваня.
— Нет сомнения, что вас одолеют. Вас умышленно послали на смерть.
— Государь бережёт своих солдат! — гневно крикнул Ваня.
— А не он вас обрёк. Вас обрёк губернатор Гагарин.
— Как это? — удивился Ваня.
— Знак вашей гибели — золотой ярлык зайсанга. Но я должен рассказать тебе многие вещи, чтобы ты понял. Желаешь ли ты слушать?
И Касым заговорил, глядя Ване в глаза. Обряд «коу-тоу» и оборона Албазина, посольство Будун-нойона и китайские караваны, Нерчинский острог и воевода Гагарин, джунгары и калмыки, Халха и Лхаса, контайша Цэван-Рабдан и богдыхан Сюань-Е, посол Тулишэнь и хан Аюка, смарагды Голконды и соболя Турухана, Лифаньюань и пайцза Дерущихся Тигров, таможни губернатора и льготы бухарцев… Ходжа Касым, словно искусный ткач, выплетал перед Ваней затейливый и яркий узор сибирской гиштории, и Ваня в какой-то миг вспомнил старика Ремезова. Ремезов знал все эти узелки и завитушки. Наверное, о чём-то таком он и беседовал с Иваном Ми-тричем Бухгольцем в избе Воинского присутствия в Тобольске. А Ваня тогда решил, что старик притащился жаловаться на него, и убеждал Ивана Митрича не доверять архитектону, который завяз в своей замшелой старине с кремлями и кривыми чертежами и не понимает новой жизни. И вот теперь сын у старика убит, грозные пророчества архитектона исполнились, а сам Ваня в плену.
Ходжа Касым чувствовал, что уже овладел душой этого офицерика. Надо лишь немного дожать, чтобы закрепить успех.
— Я хочу, чтобы царь покарал губернатора. Это губернатор виноват в том, что степняки напали на вас и погибли твои товарищи. Гагарин отступил от воли царя во зло державе. Подумай о своём долге, Ваня.
Ваня тоже понимал, что бухарец старается за собственный интерес. Но его интерес совпадал с интересом государства. А более всего он совпадал с отчаянным желанием Вани вырваться на свободу.
Видимо, на улице уже сгустились сумерки. Голоса пленников за стенами кибитки утихли: это охрана отобрала обувь, и пленники поневоле убрались в юрты. Слышался только широкий и тихий шорох ледохода.
Полог за спиной Ходжи Касыма бесшумно отодвинулся, и в угасающем отсвете из жаровни Ваня увидел на входе в кибитку штык-юнкера Рената. Касым сидел к Ренату спиной. Ренат обвёл внутреннее пространство кибитки каким-то странным, тоскующим взглядом и высвободил из-под полога плечо, чтобы замахнуться. Блеснул нож. Ваня не успел осознать, что делает. Он кинулся на Касыма и оттолкнул его в сторону. Жаровня опрокинулась, и угли, вспыхнув, рассыпались по шкурам. Удар пришёлся вскользь — нож Рената лишь пропорол рукав красивого чапана бухарца.
— Вы что?! — крикнул Ваня почему-то по-немецки.
— Шайтан! — взревел Ходжа Касым, всё поняв.
Ренат с бледным и ожесточённым лицом ринулся в кибитку всем телом, чтобы достать Касыма вторым ударом, а Ваня схватил штык-юнкера за руку и повалил на шкуры. Касым же извернулся — ловко, точно змея, — и единым толчком локтей и коленей выскользнул из кибитки на брюхе — словно вытек. Ренат рванулся вслед за ним, но Ваня вцепился штык-юнкеру в ворот и в пояс на спине. Штык-юнкер хотел убить бухарца! Хотел убить как раз тогда, когда бухарец предложил Ване спасение из плена!
— Не смейте! — заорал Ваня.
Ренат отбросил его ударом кулака в челюсть и вывалился из кибитки.
Барахтаясь в шкурах, что задымились от углей, Ваня путано поднялся и тоже выскочил из кибитки, волоча за собой какое-то покрывало.
Касым бежал от кибитки к реке — вниз по лёгкому уклону берега. Иртыш призрачно и просторно светлел в темноте шевелящимся ледоходом, а в чёрном небе мерцали джунгарские созвездия, перекрещиваясь, будто следы степных колесниц, — никто не знал их древних названий. Ренат погнался за бухарцем, но поскользнулся и упал — и этого промедления было достаточно, чтобы Ваня долетел до штык-юнкера и снова набросился на него.
— Не трожь его! — хрипел Ваня, пытаясь обломать плечи Рената.
Ренат в бешенстве стряхнул Ваню и молча всадил нож ему в рёбра.
Ваня задохнулся — не от боли даже, а от странного ощущения огромной дыры в себе, от отсутствия самого себя там, где он должен быть, — и ноги его подогнулись. Прижав ладонь к раскалённой ране в боку, Ваня опустился на колени, а потом ему очень-очень захотелось лечь лицом в снег. «Куда побежал бухарец? — теряя мысли, успел подумать Ваня. — Он надеется уплыть?.. Хорошо бы — уплыть… Там прохлада, а здесь палит пламень…»
Но Ходжа Касым и не помышлял бросаться в талую воду. Он мчался к всадникам, что не спеша двигались берегом реки по направлению к юрге. Первым на белой верблюдице ехал нойон Цэрэн Дондоб.
— Нойон! Господин! — закричал Ходжа Касым по-монгольски. — Защити!
Каанары Цэрэн Дондоба увидели, что на них из темноты сломя голову несётся какой-то растрёпанный человек. Каанары сразу опустили пики с пышными хвостами, не подпуская бегущего к нойону. Однако человек ловко увернулся от широких наконечников, одним прыжком очутился возле белой верблюдицы и почти повис на стремени Цэрэн Дондоба.
— Защити меня! — отчаянно кричал он. — Нойон Цэрэн, сын Батура, потомок Чороса! Я знаю то, чего ты не знаешь!..
— Кто ты? — недовольно спросил нойон, движением руки останавливая каанара, который уже замахнулся пикой, чтобы заколоть нечестивца.
— Я торговец Касым из Бухары, гость зайсанга Онхудая!.. Прикажи своим воинам схватить человека, который напал на меня!
Касым указал куда-то назад в сторону кибитки. Кибитка горела костром, в темноте освещая лёд на пологом склоне берега.
— Что ты хочешь мне сказать? — не обратив внимания на просьбу, сверху надменно спросил нойон. — Чего я не знаю, а ты знаешь?
— Я знаю о сговоре Лифаньюаня с русскими!
Цэрэн Дондоб ощерился. Всюду тайные козни китайцев!
— Свяжите бухарца и того, кто гнался за ним, — бросил нойон каанарам.
А Ренат понял, что Касым для него теперь недосягаем. Ренат разглядел нойона: значит, убийство сорвалось, и всё кончено. И Ренат вдруг ощутил облегчение — огромное и разрушительное. Да, он погиб. И Бригитта, скорее всего, тоже погибла. Но больше не надо бороться, не надо предавать и ждать предательства. Пусть будет как будет. Ренат увидел, что от нойона к нему поскакали несколько всадников. Он встал прямо и бросил нож.
Цэрэн Дондоб не дожидался, когда каанары приведут того, кто гнался за бухарцем, и продолжал путь к своему стану. Тяжело дыша, бухарец покорно бежал трусцой у стремени Солонго. Нойон надеялся, что этот ничтожный человек принёс ту подсказку, о которой он, великий ойрат от кости Чороса, просил судьбу через лам Доржинкита. Цэрэн Дондоб самым тщательным образом обдумал положение дел и не нашёл ошибок в своих решениях, но почему же тогда его душу разъедает гнетущее неудовольствие? Значит, изъян рассуждений незаметен изнутри событий, и нужно какое-то указание извне.
Котечинеры уже приготовили юрту нойона: разожгли очаг, расстелили постель, поместив в неё для тепла жаровню, и засветили лампады. В котле доваривалась баранина, виночерпий держал бутыль со свежим тарасуном. Цэрэн Дондоб затеплил свечки-кюдже у бурханов и, кряхтя, устало сел возле огня. Толойчи сразу протянул нойону длинную трубку с тлеющим табаком.
— Сэргэлэн, позови бухарца, — сказал Цэрэн Дондоб придвернику-удечи.
Касым переступил порог, не задев его ногами, благоговейно коснулся ладонью стенки юрты и поклонился, прижав правую руку к сердцу, а левой рукой приспустив правый рукав до локтя. Нойон ответил сдержанным кивком. Касым помнил, что у степняков считается неуважением стоять, когда более значимый человек сидит, поэтому он без приглашения прошёл к очагу, но в самое скромное место, и сел в смиренной позе «сухрэх», положив руки на колени. Нойон внимательно наблюдал за действиями бухарца.
— Ты знаешь обычаи и почтителен, — сказал он. — Можешь говорить.
И Ходжа Касым снова принялся излагать историю губернатора Гагарина и посланника Тулишэня. Цэрэн Дондоб попыхивал трубкой и глядел в огонь очага. Морщинистое, старое лицо его не отражало никаких чувств.
Касым завершил рассказ, тронув лоб двумя пальцами, и замолчал.
А нойон испытал глубочайшее удовлетворение. Да, все его сомнения оказались не напрасны: его дух чувствовал неподлинность пути, но разум не находил доказательств — и вот доказательства явлены! Нойону почудилось, что в тёмной ткани мира между ним и Лхасой наконец открылся прямой ход, озарённый солнцем. Ламы и гелюнги Доржинкита были правы: истина находилась перед его глазами, а он не осознавал этого. Надо было мыслить шире и глубже! Разве мог тобольский нойон иметь у себя императорскую пайцзу, которую вручают лишь контайшам или ханам? Такое обладание беззаконно. Он, Цэрэн Дондоб, в неумеренном презрении полагал русских лесными невежами, но в надменности и заключался его жестокий просчёт.
— Есть ли в случившемся вина зайсанга Онхудая? — спросил нойон.
— Да, мой господин, — охотно подтвердил Ходжа Касым. После смерти Улюмджаны Онхудай стал ему никем, да ещё и ограбил, зачем же тогда его щадить? — Зайсанг должен был подвергнуть перебежчика пытке, чтобы проверить его слова болью. Но зайсанг этого не сделал.
— Почему? — Цэрэн Дондоб глянул на Касыма из-под белых бровей.
— Потому что он глуп. Он хотел войны и получил повод к ней. Желание затмило для него здравость рас-суждений.
Бухарец всё больше нравился нойону. Он умело предлагал убедительные причины, по которым виноват был Онхудай, а не сам Цэрэн Дондоб.
— Сэргэлэн, прикажи, чтобы позвали Онхудая, — распорядился нойон.
Удечи опять выскользнул из юрты.
— А какой тебе прок в установлении истины? — спросил нойон у бухарца.
— Я — торговец. Война мешает торговле. Мои караваны не могут пройти в Кашгар. Я хочу, чтобы войны не было, а войско, которое сейчас заперто в крепости, погибло. Поэтому я взорвал порох в обозе. Если обоз не дойдёт до крепости, русское войско ослабнет и скорее сдастся. И наступит мир.
— Я видел тебя прежде?
— Да, мой господин. Я привожу товары для достопочтенной Цэдэрган.
От поклона при входе в юрту толстый Онхудай сразу запыхался. Шумно отдуваясь, он оглядел юрту, увидел Касыма и нахмурился.
— Самбайну, нойон. Солонго у твоего сэргэ подобна лебедю в гнезде, — сказал он. — Что тебе сказали гелюн-ги в моём городе?
— Они мне сказали, что ты глуп, зайсанг, — холодно улыбнувшись, ответил нойон. — У нас нет войны с русскими.
— Это сказали не гелюнги, а он, бухарский шакал! — ткнув пальцем в Касыма, тотчас злобно заявил Онхудай.
— Я ведь не буду спорить с тобой, не правда ли? — Цэрэн Дондоб бережно отложил длинную трубку. — Сэргэлэн, пусть придёт Баатаржаргал.
— Зачем нам Баатаржаргал? — испугался Онхудай, почуяв недоброе.
— Сейчас я мог бы жить в Потранг Марпо, — задумчиво произнёс Цэрэн Дондоб. — Русские просидели бы зиму в своей крепости, а летом пришли бы в Яркенд, и я, покинув покорённую Лхасу, утопил бы их в песках Так-ла-Макан. Вместо этого я морожу Солонго в снегах До-ржинкита. А виноват ты, зайсанг, и твоё тщеславие потомка Бодорхона, обделённого наследством.
Могучий воин еле пролез через вход в юрту.
— Баатаржаргал, сломай зайсангу правую руку, — приказал нойон.
Онхудай побледнел, но не возразил ни слова.
Баатаржаргал присел рядом с Онхудаем в позе «туулай», спокойно наклонил зайсанга, положил его руку себе на колени и ударил сверху вниз локтем. Хрустнула кость. По лицу Онхудая покатились капли пота.
— Это ещё лёгкое наказание за те полгода, которые я подарил Китаю, — сообщил Цэрэн Дондоб. — Теперь уходи, зайсанг.
Безмолвно корчась от боли, Онхудай убрался из юрты.
— Мне кажется, тебе приятно было видеть его унижение, — тонко заметил нойон Ходже Касыму.
— Я много претерпел от глупости этого человека, — согласился Касым. — Могу ли я попросить тебя о милости, могущественный нойон?
— Проси.
— Я здесь — гость зайсанга, но его расположение для меня потеряно. Дозволь мне считаться твоим гостем, чтобы уклониться от гнева зайсанга?
— Что ж, считайся моим гостем, бухарец, — разрешил нойон.
Глава 13 Ева без яблока
Назифа не признавала Хамуну мусульманкой. Шахада, принесённая невесть где невесть когда, — не клятва. Хотя, конечно, дело было не в шахаде. Если Хамуна мусульманка — значит, она жена Ходжи Касыма, и обладает такими же правами, как сама Назифа. Однако гордая Назифа не могла с этим смириться. Нет, Хамуна — язычница и всего лишь наложница, и прав у неё никаких нет. Поэтому Сулу-бике Назифа брала с собой в мечеть, а Хамуну — только на рынок. Там и встретил их обеих Новицкий.
Григорий Ильич давно уже бродил вокруг Бухарской слободы, желая увидеть сестру Акони, но женщины бухарцев слишком редко выходили на улицу, к тому же почти все они носили паранджу. Впрочем, здесь, на севере, волосяную сетку чачван, закрывающую лицо женщины, делали редкой, чтобы зимой не индевела от дыхания и не мешала смотреть, и зоркий человек мог угадать облик той, что скрывалась под одеянием. А Григорий Ильич был зорким. Он быстро определил Назифу, старшую жену Касыма, — немолодую, но стройную, холёную и властную красавицу. И вот теперь Назифа вела за собой по рынку невольницу Ходжи. К удаче Новицкого, Назифа облачала язычницу Хамуну даже не в паранджу, а в чадру, хоть и глубокую.
Невольница робела, сутулилась, смотрела под ноги, и Григорию Ильичу не удавалось разглядеть её лицо. Новицкий через толпу пробирался вслед за Назифой и её спутницей. Ярко светило словно бы умытое мартовское солнце, галки с граем метались вокруг обтаявшего тесового шатра Троицкой церкви, в толпе пестрели бабьи платки. В рыбном ряду Назифа придирчиво выбрала и купила две мороженых нельмы; торговец насадил рыбин на верёвочный кукан, и Назифа повесила его на спину Хамуны. Потом Назифа направилась к кабаку. Она не могла дозволить, чтобы наложница входила в это жилище шайтана, а потому оставила Хамуну ждать у крылечка.
Григорий Ильич наконец-то приблизился к девушке в чадре. Девушка стояла в тени, опустив голову, но неподалёку вдруг заорали два пропойцы, и девушка испуганно обернулась на них. И Новицкий увидел Айкони.
Нет, конечно, Хомани, Хомани. Григорий Ильич уже встречался с ней: в Певлоре она передала ему платок для Айкони. Но в то время Айкони была рядом с Новицким — в Тобольске, и удивительное сходство сестёр показалось Григорию Ильичу какой-то нелепой странностью. Оно ничего не значило, потому и не коснулось сердца, забылось. А сейчас оно значило всё.
В кабаке у Назифы — верной жены, посвящённой в заботы мужа, — было важное дело, и кабацкая грязь не могла запятнать её чести. Просторную низкую горницу перегораживали столы, за которыми без шапок, сбросив на пол тулупы, сидели русские мужики: ели кашу с общего деревянного блюда, пили квас или брагу. Густо и кисло пахло хлебом, кожей, опилками и навозом, что отогрелся на обутках. Большая обшарпанная печь дышала теплом, из её окошек-печур торча™ воткнутые на просушку рукавицы. Часть горницы была отделена засаленной занавеской, и за ней стучали ножами и бренчали горшками стряпухи. У прилавка дюжий краснорожий кабатчик мял в руках овчинный треух. Рядом суетливо топтался какой-то пьянчуга.
— У кого спёр? — спрашивал кабатчик.
— Бог свидетель — моя! — клялся пьянчуга. — За семь копеек отдам!
— Три копейки, и дров мне наколешь.
— Да чёрт с тобой, но спервоначалу опохмели!
Назифа надменно отстранила пьянчугу.
— Мой господин приказал мне к лету, к своему возвращению, купить ему новый казённый чех, по которому добропорядочному человеку дозволяется не брить усов и бороды, — сказала она. — Я знаю, ты продаёшь такие чехи.
Брить бороду и усы требовал безумный русский царь. Те мужчины, которые не желали постыдно оголять своё лицо, должны были ежегодно уплачивать пошлину в губернскую канцелярию, проще говоря, покупать медную медаль — чех. Чехи присылали в Тобольск из Москвы. Разумеется, на всех жителей их не хватало, и чиновники канцелярии легко примирялись с брадоношением, когда распродавали запас чехов. Но любой бородач без чеха был уязвим. При желании его мог закрыть в каземат любой стражник у городской заставы и любой караульщик с базарной площади.
Ходжа Касым, да будет рад ему Аллах, принял на себя хукм бороды, как поступал и Пророк, придерживаясь меры Ибн Умара, что борода должна помещаться в кулак. Дабы никакой казённый мздоимец не цеплялся к бороде, мешая делам уважаемого тожира, Касым каждой весной покупал чех. В этом году, 1094-м от Хиджры, а по-русски — 1716-м, чех стоил пятьдесят рублей. Эту сумму Касым оставил Назифе с поручением приобрести медный знак.
Кабатчик порылся в кожаном кошеле и выложил на прилавок чех.
— Пятьдесят рублёв, Назифа, — сообщил он.
Однако Назифа не собиралась тратить деньги супруга понапрасну.
— За эту цену я куплю чех в Приказной палате, — ответила она, называя губернскую канцелярию по старинке, как привыкла. — Ты требуешь царскую цену, а твой чех украден у пьяного купца. Десять рублёв.
— Борода — лишняя тягота, — ухмыльнулся кабатчик: такая надпись была отчеканена на чехе. — Давай двадцать рублёв.
Назифа рассердилась. Эти люди не ведают, каким трудом достаются деньги, они умеют только обманывать или барышничать своим пойлом.
— Десять рублёв мне придётся ещё заплатить писцу в Палате, чтобы он внёс достойное имя моего супруга в свои нечестивые бумаги! Я не могу дать тебе больше, чем ему, виночерпий!
Всех, кто оплатил пошлину, полагалось записывать в бородовые книги губернской канцелярии, чтобы никто не торговал чехами себе в карман.
— Вот только из уважения к мужу твоему, Назифа, пятнадцать рублёв.
— Ну, хорошо, — неохотно согласилась Назифа. — Но ты жадный шакал.
— А ты щука сушёная, — весело ответил кабатчик.
А на улице в это время Григорий Ильич изумлённо разглядывал Хомани.
Она была точь-в-точь как Айкони, издалека или вскользь и не заметишь разницы, но вблизи — Новицкий сразу это уловил — спутать сестёр было невозможно. В Аконе таилась гроза, а эта девочка сохраняла безмятежность. Судьба ещё не оставила своего следа на её чистом лице. Хомани была словно бы новой и нетронутой Аконей, Аконей до грехопадения, Евой без яблока, девой. Конечно, Григорий Ильич имел в виду духовную суть, а не телесную. Он помнил, что эта двойняшка Ако-ни — наложница бухарца-многожёнца. Но она, в отличие от своей сестры, не предалась демонам тайги, не напиталась той тёмной дьявольской силой, которая отделила Аконю от людей.
Этот яркий мартовский день выдался каким-то мла-денчески-радостным: гомонила толпа, прыгали солнечные зайцы, весело хрустел влажный снег, ветер раскидал по синему небу облака — то белые, ещё зимние, то жемчужно-серые, словно они линяли к лету. И Новицкого вдруг охватила надежда на счастье, искушение к обновлению. Он может начать всё сызнова. Он ничего не скажет Хомане об Аконе, и его проклятие останется в горьком прошлом. Хоманя — не такая, как Аконя. Она не влюбится в бессердечного человека, не подожжёт дом благодетеля, не будет резать людей ножом, чтобы снять душу. Она — обычная, и в этом божье чудо. Господь даёт ему, Новицкому, вторую жизнь, как он дал её владыке Филофею, исцелив от смертельного недуга. И Григорий Ильич сможет жить этой жизнью правильно, как смог владыка.
Назифа вышла из кабака и сразу поняла, что случилось нечто недоброе. Хамуна вся сжалась, словно перед ней появился шайтан. Кто-то посмел прицепиться к Ха-муне? Или пьянчуга её испугал? Назифа гневно посмотрела по сторонам и увидела высокого худого мужчину с чёрными усами, острыми скулами и серьгой в ухе; этот мужчина вперился в Хамуну. Назифа дёрнула чадру Хамуны, сильнее прикрывая лицо драгоценной наложницы своего мужа, крепко схватила Хамуну за руку и решительно повела прочь.
Хомани безропотно подчинилась, потому что больше не могла быть рядом с этим человеком. Он не сказал ей ни слова, не сделал и шага к ней, не пошевелил рукой, но ворвался в неё, разрушая покой, будто был ей давным-давно знаком. Она его узнала. Эти вислые усы, синяя щетина и серьга. Она видела этого человека в Певлоре: он приплыл с русским шаманом, и она передала ему ула-му для Айкони. Тогда она ещё не ведала, кто он. А теперь его пронзительные глаза мгновенно растревожили её, и она обмерла от жуткого понимания: это же князь, которого любила Айкони!
Хомани видела его через чувства сестры. Сестра любила князя — и она тоже полюбила его, как иначе? Но тогда князь был совсем другим. Он был весёлым и богатым, его часто навещали друзья, дух его был спокоен, и он всегда думал о каких-то непонятных вещах, которые рисовал на большой белой бумаге. А человек с серьгой — иной: он грустный, бедный, одинокий, как сама Хомани, и дух его мечется в тёмном замкнутом пространстве.
Может, мужчина с серьгой — не князь? Но почему же душа Хомани так бурно отозвалась на случайную встречу? Душа Хомани узнала душу князя, вот и отозвалась. Не может ведь душа князя быть в груди другого человека. Такое бывает только с теми, кто хочет кого-то убить. Отнять чью-то жизнь — значит, поневоле принять в себя одну из пяти душ убитого. Это большая беда, потому что и свои-то пять душ порой мучают человека так, что жить ему невыносимо тяжело, а тут ещё взять шестую!.. Остяки опасаются даже говорить про убийство, ибо кто помыслил о таком — тот уже украл чужую душу, пускай и не убил никого. Так объяснял шаман Хемьюга в Певлоре. Убийца — всегда немного тот, кого он убил. А грустный мужчина с серьгой — не убийца. Он умеет жалеть. Он несчастный и добрый, очень добрый.
Айкони словно отрубила в себе все воспоминания о князе и тем самым скрыла от Хомани, что сталось с её возлюбленным и куда он подевался. Айкони отреклась от него, и весёлый князь исчез из её мыслей. Наверное, поэтому сейчас он такой печальный. Он стал ничей. Он больше не нужен Айкони. Наверное, он забыл, что на свете, кроме Айкони, есть ещё и Хомани — с тем же лицом и той же душой. И вот они встретились. «Теперь князь принадлежит мне», — холодея, догадалась Хомани.
А истерзанную душу Григория Ильича опять охватила смута. Он никак не мог разобраться в себе. Что с ним случилось? Жизнь его сломалась уже давно — и не тогда, когда Аконя бежала из Тобольска, подпалив мастерскую Ремезова, а когда Мазепа бежал из Батурина, изменив царю Петру. С тех пор миновало уже семь с лишним лет. Гетманский «резиденций» превратился в сибирского ссыльного. И вдруг он ощутил, что его корни в чужой земле всё-таки прижились, что на его ветвях распускаются листья. Это возрождение — чудо? Божья милость? Или дьявольская ловушка? А может, ни то ни другое, и он, забытый небом и пеклом, просто обманулся? Жаль, что нет рядом владыки Иоанна. Только он мог понять Григория Ильича, потому что тоже познал тяжесть греха. А владыка Филофей безгрешен, он весь будто из света. И Новицкий не хотел говорить с ним о своей тьме. В борениях с демонами тайги владыка не должен сомневаться в надёжности своего защитника.
Владыка Филофей сам позвал к себе Григория Ильича. В Архиерейских палатах он всё-таки перебрался в митрополичью келью — келью, где умер Иоанн. Филофей почти ничего здесь не изменил, только на столе теперь лежали другие книги, а под киотом, обозначая место смерти Иоанна, стоял лёгкий раскладной аналой-про-скинитарий с негасимой свечой. Сейчас за столом владыки расположился князь Пантила Алачеев, Панфил. Владыка зимой обучил его грамоте; шевеля губами, Пантила сосредоточенно читал рукопись. Григорий Ильич узнал страницы — это был его труд об остяках.
— И я прочёл твоё сочинение, Гриша, — сказал Филофей. — Присядь.
Владыка сидел на лежаке. Новицкий опустился напротив на скамейку.
— Чи сподобалося тоби, како выкладэно?
Филофей улыбнулся.
— Я господа благодарил, что дал мне тебя в сподвижники, Гриша.
— Нэ хвалы мэнэ, — Новицкий покачал головой, желая непредвзятости.
Сочинение его заняло почти сто листов скорописью. Григорий Ильич разделил текст на главы, а главы — на параграфы, и предварил своё писание длинным посвящением Матвею Петровичу, который и повелел ему заняться этой работой, заранее выплатив деньги.
— Знаю, что Матвей Петрович поручил тебе, как Пи-гафетте, наши стези запечатлеть, — владыка, понятно, посмеивался над той важностью, которую Матвей Петрович придавал этой хронике, — но я тебе, Григорий Ильич, поклонюсь, что ты не увлёкся моей персоной. Не во мне ведь дело.
Григорий Ильич и не сомневался, что владыка одобрит его замысел — более обширный, нежели хотел Матвей Петрович. Григорий Ильич взял пример с Ремезова и описал не столько путешествия владыки, сколько всю Сибирь, которую увидел и узнал. Он рассказал о реках и пространствах, о Камчатке и островах в Льдистом океане, о мамонтах и пушных зверях, о древней чуди и Стефане Пермском, о сибирских ханах и Ермаке, но более всего — об остяках. Какие они. Как живут, как бьют зверя, как ловят рыбу, как возводят жилища и какими законами управляются. Григорий Ильич изложил то, что понял на своём опыте: «Сей народ остяцкой в добре хранит естества закон, и многие его добродетели на том утверждаются. Не слышно между остяками про содеющих кражи, убийства или иные обиды друг другу; однако же, ежели по злоключению какому оное сотворяется, то от жестокой нужды, и таковых лиходеев остяки от среды своей извергают». Свою книгу Григорий Ильич озаглавил «Краткое описание о народе остяцком».
— И про язычество их ты пламенно сказал.
«…тьмой идолобесия издревле слепотствующие…» — в уме повторил Григорий Ильич собственные слова.
— А боле меня поразило сострадание твоё, Григорий Ильич. Хоть ты и приводишь слова Овидия, Овидий боярам нашим не указ. Осудят они тебя за потачку язычникам. А я поблагодарю за милость к ним.
Григорий Ильич и эти свои слова помнил. «Исходят от жилищ своих в дальние страны пустые и леса, промышляют соболей, драгоценных чёрных лисиц, горностая и белок, и всякого потом восхищает богатство одежд из сих зверей, а оных остяк добывает от нищеты и скудости своей в налимьем кожане, в коем в зимнее время лютость тягчайших морозов претерпевает».
— И твоя правдивость, Григорий Ильич, предостой-на. Я вижу мужество сердечное в том, что ты не утаил согрешений остяков: как они детей продают в невольники, как лечиться отказываются, как в многожёнстве погрязли…
Григорий Ильич не забыл своих сомнений, когда зимой при лучине сидел у себя каморке над этими листами и размышлял: говорить или не говорить? Он выбрал истину. И сейчас его жалость к остякам, умноженная сочувствием владыки, возросла втрое — до боли в груди.
— А ты что скажешь, Панфил? — спросил Филофей.
— Я плачу над своим народом, — глухо ответил Пантила.
— Таких сочинений ни про какой язык нашей державы ещё нет, — сказал Филофей. — Я велел монахам переписать его трижды. Одну книгу — Матвею Петровичу, другую царю поднесу, а третью здесь в вивлиофике сохраню.
— Это честь, — преодолевая волнение, признался Новицкий.
— Заслужил, — пожал плечами Филофей. — Петра Лексеича я весной намереваюсь увидеть. Мы с Панфилом как раз в Москву едем. Пока я по делам хожу, Панфил храмы посмотрит, причастится, святыням поклонится.
— Заздрю тоби, Панфыл, — признался Григорий Ильич, представляя, какое впечатление ожидает Пантилу.
— Я за тебя помолюсь, Гриша, — пообещал Пантила.
— Ну, добре… А колы назад будэте, вотче?
— Матвей Петрович везёт. У него тоже какие-то дела в Монастырском приказе у графа Мусина-Пушкина. Обещал к осени вернуться.
— Выходить, цэ лэто не плавати нам до вогуличев?
— Выходит, пропустить придётся, — согласился Филофей. — Я Семёна Ульяныча обнадёжил, что попрошу у государя изволения на достройку кремля. Сие особенно сейчас важно. Сам понимаешь.
Григорий Ильич кивнул. Строительство действительно отвлекло бы Ремезова и утешило в горе. Жаль Петьку, ох, жаль.
— Да, шкодую Вульянычу и родове ево… Зовсим мо-лодий Пэтро був.
— А ты со шведом тем не примирился? С Филиппом Таббертом?
— Ни, — сухо ответил Новицкий.
— Дело твоё, — вздохнул Филофей. — Я про другое хотел сказать. Ежели доведётся с государем говорить, думаю замолвить слово и за тебя, Гриша. Ты же не пленный, чего конца войны ждать? Авось Пётр Алексеич помилует тебя и домой отпустит?
Григорий Ильич был поражён. Он и не надеялся хоть когда-нибудь вернуться обратно в Малороссию — в Батурин или Глухов, в Чернигов или в Киев… Неужто они вообще где-то ещё есть на белом свете? Немыслимо и представить снова там оказаться… И что ему там делать? Там он теперь уже никто. А здесь он первообразное творение видит. Здесь всё в будущем. Здесь вечное воскресенье. Здесь райский сад и Ева ещё без яблока. Здесь правая вера вторгается в непокорную тайгу. Здесь божья брань. А он полковник.
— Нэ трэба, вотче, — тяжело признался Новицкий. — Тут покаянье моё.
Филофей зорко вгляделся в Григория Ильича.
— А помиловать тебя, Гриша, для души Петра Лек-сеича не менее важно, чем для тебя в отчизну вернуться.
— Я вжэ тут врыс в Сибэре, яко дрэво, — твёрдо ответил Григорий Ильич. — Нэ трэба, вотче. Тэпэр моя справа тут.
Стёклышки в оконницах кельи вдруг дружно звякнули. Это на Троицком мысу бабахнула пушка. Орудийный выстрел возвещал о начале ледохода — Иртыш начал лопаться под напором вешних вод из полуденных степей. И ледоход для Григория Ильича тоже стал божьим знамением возрождения.
Глава 14 Исход после Пасхи
Огонёк жировой лампады еле озарял измождённые лица. В маленькой землянке полковника Бухгольца собралось десятка два офицеров; они сидели вокруг стола тесно, как святые на иконе. Даже при тусклой лампаде Иван Дмитриевич видел, что половина его командиров поражена скорбутом: на скулах темнели синяки, глаза пожелтели, в волосах запеклась кровь. Однако скорбут лучше плена или гибели. Это сравнение напрашивалось у офицеров поневоле, потому что среди них уже не было поручиков Кузьмичёва и Демарина, лейтенанта Сванте Инборга, капитанов Морозова и Ожаровского, майора Шестакова… Немалые потери для мирного похода в ничейную степь.
— Господа, я нахожу, что при великих затруднениях нашей гишпедиции надобно каждому изъясниться в откровенности, у кого какое есть суждение о дальнейшем нашем действии, — негромко предложил Бухгольц. — Обещаю, господа, что сию откровенность не расценю за трусость, ибо на опыте знаю, что колебания вам неведомы и про измену долгу никто не помышляет.
На столе перед Бухгольцем лежали мятые листы с рапортами офицеров о состоянии дел и сводная ведомость, подписанная старшими командирами, — экстракт, извлечённый из рапортов майором Шторбеном. Иван Дмитриевич знал, что в двух его полках, в шквадроне, артиллерии и обозе осталась только четверть солдат — тех, кто здоров, и тех, кого скорбут пока не свалил с ног; ещё три сотни числились больными, но больные здесь не выздоравливали.
— Чего же рассусоливать-то, господа? — первым высказался седенький майор Пасичник, ссыльный мазепо-вец из Тюмени. — О чём государь повелел державно, то и трэба сполняти. Яркенд — так Яркенд, и хоть голову потеряй.
Бухгольц чуть заметно поморщился. Своей казёнщиной старый служака сбил настрой офицеров на искренность. Офицеры молчали — выжидающе и неловко. Тогда капитан Рыбин, вздохнув, прервал тягостную тишину.
— Ежели как на духу, Иван Митрич, то думаю, что сей Яркенд для нас недосягаем, — заявил он. — До Яркенда три месяца пешего пути. Не дойдём.
— Ежели провиант на конях везти, то можем, — возразил майор Ионов.
Но коней в ретраншементе было мало — голов шестьдесят.
— А как же пушки? — спросили у Ионова. — На руках в такую даль их не укатишь, а без пушек степняков не отразить. Их и ныне вдесятеро против нас, в степи же ещё и новые подтянутся.
— Имеем ли вероятность заключить мир? — спросил поручик Каландер.
— По здравомыслию, мир и степнякам тоже надобен, — сказал кто-то из полумрака, — однако следует ли доверяться дикарям, даже ежели они на мир склонятся? Особливо когда ихние вожаки узрят воочию, насколько наша сила ничтожна сделалась. Они не удержатся от соблазна истребить.
Офицеры глухо загудели, обсуждая возможное развитие событий.
— Продолжайте, господа, — поощрил Бухгольц.
— А ежели вылазку предпринять? — юный подпоручик Ежов посмотрел на офицеров, немного смущаясь своей пылкости. — Внезапным атакованием на юргу отобьём коней и пленных освободим! Сие всё дело переменит!
— Безрассудство, — хмуро возразили Ежову.
— В дерзости спасение! Александр Македонский малое число дерзостью умножал и викторию непременно одерживал!
— Оружия у нас теперь в избытке, — согласился с Ежовым майор Ионов.
— И оружия с припасами, и провианта.
— Коней недостаток, друзья. Без коней внезапности не достигнуть.
— Простите меня, дурня, господа, но лазутчики доносят, что Иртыш вскрылся, и суда наши степняками не тронуты, — вступил пожилой капитан Курилов. — Разумнее отступить, а на другой год заново испытать воинскую удачу. Золото Яркенда никуда не денется. А мы сил подкопим.
— Что в степь, что к Иртышу — всё одно из крепости выходить. А как выйдем — баталия неминуема. Сомнут нас.
— Иртыш поближе Яркенда будет. Прорвёмся.
— Стыдно, господа, государя в его надежде обмануть. Недостойно сие. Как я сыну в глаза посмотрю?
— Отставим таланты, — сурово сказал Бухгольц. — Не в наших угрызениях дело. Вопрос: имеем ли мы вероятность достигнуть Яркенда?
— Имеем! — отчаянно заявил Ежов.
— Не имеем, — покачал головой Курилов.
А полковник Бухгольц вдруг вспомнил тобольского архитектона. Этот старик всё знал. Вот у него бы спросить: дойдут они или нет?
— Вижу, что совокупного мнения офицерское собрание не складывает, — подвёл итог Бухгольц. — Получается, господа, что я вынуждаем извлекать желаемое предрасположение посредством простейшего исчисления голосов подобно графу Левенгаупту на совете под Переволочной.
— Прискорбная аналогия, Иван Митрич, — заметил Ежов.
— Воистину прискорбная, — мрачно подтвердил Бухгольц. — Но полноту тяготы, господа, я принимаю на себя. А от вас желаю просто знать, прав ли буду в своём приказе перед вами, царём и Господом, или же не прав.
Иван Дмитриевич понимал: он — командир, и он отвечает за всё. Нельзя перекладывать на офицеров вину за своё решение. Это горько, но выхода нет.
— Прошу поднять руку тех, кто видит правильным продолжение похода.
Оглядываясь друг на друга, офицеры поднимали руки. Бухгольц обвёл собрание потемневшими глазами. Большинство офицеров были «за».
— Благодарю, господа, — сухо сказал Бухгольц. — Завтра на плацу я объявлю приказ по войску. Расходитесь.
До глубокой ночи Иван Дмитриевич сидел за столом при свете лампады и перечитывал рапорты офицеров. В окошко, заткнутое тряпкой, поддувало. За тонкой перегородкой из плетня бессовестно храпел денщик Тара-букин. Иван Дмитриевич думал: не того ожидал он от своей планиды, не того…
Он вспоминал, как ещё недорослем под командованием царя оборонял потешную фортецию Пресбург в садах У села Преображенского, как они, юнцы, хохоча, палили в таких же юнцов из пушчонок репами. Война тогда казалась весёлой забавой. Отец, обедневший стрелецкий по-лусотник, отдал его с братом Абрамкой на выучку в царское войско. Юный Пётр полюбил братьев и однажды, когда гостевал у князей Хворостининых в Китай-городе, зашёл в гости в покосившийся домишко Бухгольцев, чтобы выпить бражки.
А потом был Преображенский полк, и зелёные мундиры, и кряжистые стены Азова, за которыми торчали тонкие минареты. В тот жаркий день, когда из степи накатывали суховеи, граф Апраксин повёл преображенцев и семёновцев на штурмование, и фузилёра Ваньку Бухгольца перед куртиной сразило турецкой картечью. И была снежная буря под Нарвой, и шведские драбанты, что налетали из белой мглы как дьяволы, и оборона за телегами среди гранатных разрывов. И была другая Нарва, летняя, когда разбитый бомбардировкой бастион Гонор пополз в ров осыпью земли и кирпичей, и русские солдаты бросились в брешь. И, конечно, была истоптанная трава полтавского поля, и атака строем с пальбой, а затем на багинеты, и победа — столь поразительная, что сердце металось в груди. И для чего всё это? Чтобы потерпеть поражение в неведомой сибирской пустыне на пути неведомо куда? Чтобы его победили не турки, известные своей необузданной яростью, и не шведы, славные своим ратным зверострашием, а какие-то дикие джунгары, про которых в державе никто и не слыхал…
Иван Дмитриевич накинул епанчу, надел треуголку, а Тарабукин и не проснулся. Иван Дмитриевич вышел из землянки. Ретраншемент лежал в полной темноте, только яркая и голая луна, окружённая радужным ледяным кольцом, освещала улочки, склоны куртин, с которых облезал белый снег, и крыши казарм, поблёскивающие настом…Нет, их победили не джунгары. Не холод и даже не скорбут. Их победил повальный язвенный мор.
Что это за болезнь? Откуда она взялась? Как её усмирить? Никто не знал. Начиналась она почти незаметно: на теле появлялось зудящее красное пятнышко, вроде укуса блохи. Но за день это пятно вырастало и вздувалось волдырём, волдырь лопался, и на его месте разверзалась язва, которая быстро загнаивалась, а вокруг неё рассыпались новые красные пятна. Человека охватывала лихорадка, бросало из жара в холод, силы уходили, в глазах мутилось. Человек ложился — и уже больше не вставал. Без сознания, в бреду, в поту, он бился, сдирая одежду, багровел, оплывал, покрывался какими-то червоточинами, из которых выпирала бурая, зловонная плоть, и наконец умирал. И всё это происходило за три-четыре дня.
Ничто не помогало. Ни уксус, ни порох, ни прижигание железом, ни бабкины заговоры, ни исступлённые молитвы. В сравнении с грозной язвой скорбут казался лёгким недомоганием. По ретраншементу словно бы летал невидимый демон смерти — на кого дохнёт, тот погибнет в муках и смраде. Солдаты боялись спать, чтобы не прижиматься друг к другу во сне, — вдруг подцепят заразу? А заболевшие скрывали болезнь, сколько могли, надеясь, что как-нибудь переможется, пройдёт. Но не было ни одного исцелившегося.
Когда майор Шторбен произнёс страшный приговор — «пестиленция!», — Бухгольц распорядился выделить для заболевших язвой отдельные казармы — не те, где лежали умирающие от скорбута, а другие. И казармы язвенных превратились в ямы смерти. В первые дни повального мора караульные ещё выносили мертвецов, а потом перестали. Живых опасливо подкладывали к мёртвым, а порой, когда офицеры не видели, просто бросали прямо на груду тел. Солдат, изловленных на таком бесчеловечии, секли шпицрутенами. Но чем здоровые могли помочь страждущим? Уход и забота не облегчали конец, а сердобольных и самих через несколько дней утаскивали к покойникам.
Иван Дмитриевич вышел на пустой плац. Солдатик, что стоял на посту под флагштоком, при виде командира вытянулся и шмыгнул носом. Бухгольц похлопал его по плечу. За плацем, в западном углу ретраншемента, находились самые страшные казармы — землянки, доверху набитые трупами. Это были огромные могилы. Когда мор разбежался по гарнизону, нельзя уже было выносить мертвецов из крепости и укладывать в тот вал, в котором лежали погибшие при джунгарском приступе. Степняки непременно заметят, что количество мертвецов неудержимо увеличивается, и сообразят, что в крепости осталось совсем немного защитников; значит, надо нападать. Мор требовалось скрывать от врага. И землянки стали захоронениями.
Каждый день умирало по десять-двадцать человек, а бывало, что и тридцать. Бич Божий хлестал по ретраншементу. Никакие сражения не уносили бы столько жизней, сколько забирала язва. Крепость была будто зачумлена. А Иван Дмитриевич усилил караулы на куртинах и бастионах. Он больше всего опасался перебежчиков. Солдаты, понятно, роптали, и многие примерялись: а не кинуться ли к степнякам в юргу, где, вроде, нет никакой болезни? Лучше в плен, чем в землянку с трупами. Но любой перебежчик выдал бы джунгарам тайну обескровленного ретраншемента и сгубил бы всех, кто не желал сдаваться ни врагу, ни скорбуту, ни язве. Поэтому в караулы Бухгольц велел наряжать только самых надёжных служивых. И пусть они бьют из ружей сразу наповал, если заметят предателя-беглеца.
Иван Дмитриевич думал о том, что приближается весна. Снег уже тает на южных склонах куртин, сугробы на крышах покрылись настом, в окошках повисли первые сосульки. Когда потеплеет, трупы начнут разлагаться.
Ретраншемент превратится в душегубку. Отсюда надо уходить. И уходить не через месяц и не через две недели. Могильные казармы были хуже мин. В них, окованная холодом, затаилась смерть; сломаются оковы — и ничто не спасёт. Трупный яд потечёт по улочкам, смрад отравит всякое дыхание.
Остаться в крепости — погибель, но и покинуть её — тоже погибель. У него, у полковника Бухгольца, будет семь сотен пеших солдат, отягощённых ранеными и припасами, а на него набросятся десять тысяч конных степняков. Такая лавина сомнёт даже самое искусное сопротивление. Честь дворянина призывала Ивана Дмитриевича пойти на Яркенд и умереть, повинуясь воле государя. А долг командира требовал с боем прорываться к Иртышу и спасти хотя бы малое число людей. Солдаты его поймут. И офицеры поймут. И в Тобольске его тоже поймут. А вот поймут ли в столице? Поймёт ли брат Абрам — комендант Шлиссельбурга? Поймёт ли царь Пётр? Что увидят в его решении: самоотверженность человеколюбия или малодушие трусости?
Иван Дмитриевич смотрел на тихие землянки мертвецов и с горечью осознавал, что все его соображения о милосердии есть просто оправдания перед самим собой. Здесь, в этом ретраншементе, он впервые по-настоящему устрашился гибели. В Азове, под Нарвой или под Полтавой он не боялся. Тамошняя смерть, военная, была выборочной: может, убьют тебя, а может, и нет. А здешняя смерть, степная, была поголовной: никто от неё не уклонится. Военная смерть была быстрой, как перемена лошадей: хлоп — и убили; сейчас ты — тело, а потом — панихида, холмик с крестом и райские небеса. А степная смерть сосала сердце какой-то невыносимой безнадёжностью. Замёрзшие тела лежали неизменными по многу недель, словно изо дня в день убеждая: смерть навсегда, и за ней ничего нет. Никакой загробной жизни. Здесь казалось, что души не воспарили ввысь, а вморожены в мертвецов и никуда отсюда не делись, будто прокляты. Нет им ни прощения, ни упокоения.
Видимо, это ночь была такая — исполненная тоски. Великая Страстная суббота перед Пасхой, звёздные слёзы Богородицы, умолкший Христос во гробе, и вместо Благодатного огня — радужное кольцо вокруг стылой луны.
Наутро солдаты были выстроены на плацу. Иван Дмитриевич, бледный от бессонницы, вышел перед строем, оглядывая свои поредевшие роты и баталионы. Мундиры у солдат были мятые и грязные, руки и лица — красные, распухшие от холода и ветров. В голубом небе сияло солнце; всюду пылали огни отражений — на льду, на лужах, на стали багинетов; колыхался флаг. Офицеры смотрели на полковника в ожидании его решения.
— Вижу, солдаты, как тяжело вам, — негромко сказал Иван Дмитриевич. — Но духом вы не пали, за что всех вас хвалю. Однако же мне, командиру, с прискорбием сердечным надобно признать, что для достижения цели нашей гишпедиции мы утратили надлежащую достаточность, хотя и не по своей вине. Виктории мы, увы, не одержали, но и конфузии, братцы, не потерпели. И посему приказываю назавтра готовиться к ретираде. Дело будет жаркое. Всем сегодня выдадут по две чарки водки.
Солдаты молчали, словно задохнувшись. Они не могли поверить, что суровый командир помиловал их и отменил самоубийственный поход. Иван Дмитриевич заметил, что облегчение мелькнуло в глазах даже тех офицеров, которые вчера голосовали за продолжение марша на Яркенд.
— Христос воскресе, — сказал Иван Дмитриевич.
— Воистину воскресе, — нестройно и глухо ответили солдаты.
Но отдыхать и праздновать Пасху солдатам не пришлось. Отступление требовало подготовки. Опрокинув чарки и выкурив трубки, солдаты принялись латать одежду и амуницию, чистить оружие, приводить в порядок шанцевый инструмент — он потребуется, чтобы вызволить дощаники изо льда и снега. Иван Дмитриевич задумал спустить на воду все суда, которые имелись. Пускай их число избыточно — потом ненужные дощаники сгодятся на дрова, ведь безлесная степь закончится ещё не скоро. Солдаты кормили лошадей. Паковали припасы. Сооружали и загружали волокуши.
К Бухгольцу подошёл артиллерийский офицер.
— Господин полковник, два орудия в неисправности, и ещё у двух орудий лафеты негодные, надобна замена.
— Замены не будет. Заклепайте пушки, оставим их здесь.
— А какие заряды прикажете начинить?
— Только картечь. По две дюжины стаканов на ствол.
— Опасаетесь нападения? — осторожно спросил офицер.
— Полагаю, оное неминуемо.
Артиллеристы заклепали четыре орудия — заколотили в запальные отверстия стальные ерши, чтобы из пушек нельзя было стрелять.
Ночью конные команды начали перевозить порох, воинское имущество и провиант из ретраншемента к дощаникам на берег Иртыша. Волокуши с поклажей выезжали из ворот и тихо растворялись в темноте. Бухгольц уповал на то, что джунгары, привыкнув к угрюмому отчуждению крепости, уже не высылают к ней дозоров, ограничиваясь караулами вокруг своей юрги, а потому и не обнаружат муравьиной возни осаждённых. Похоже, расчёт Ивана Дмитриевича оказался верным: ночная тишина не взрывалась пальбой. Обозы сделали четыре конца. Все припасы были переправлены к судам.
Уже светало, когда у ворот ретраншемента столпились солдаты.
— Шляпы долой, — сурово приказал Бухгольц.
Солдаты сдёрнули треуголки.
В засиневшем небе печально торчал флагшток, и вниз по нему поползло знамя гишпедиции. Прапорщики быстро перецепили его на древко. Свернув полотнище, знаменосец положил древко на плечо и поспешил к войску.
Позвякивая оружием, сдавленно кашляя и хрустя свежим настом, войско потекло из ворот ретраншемента. На свободном пространстве офицеры сноровисто выстроили солдат по артикулу ретирады: две длинные колонны по три человека в ряд; между ними — волокуши с больными; в авангарде, в арьергарде и посередине — орудия, которые артиллеристы катили вручную.
— Две версты, братцы, — задумчиво произнёс Бухгольц, — две версты. Помоги нам, господи, защити и сохрани.
Рассвет разгорался чистый и ясный, нежное алое свечение по окоёму словно бы с дальнего края приподняло тяжёлый купол небосвода. Войско двинулось вперёд по заледеневшей лощине. Солдаты шагали с заряженными мушкетами в руках, и за плечами у них висело по второму заряженному ружью, и в кобурах на портупеях торчали заряженные пистолеты.
Но войско одолело только версту. Над лощиной в зареве появился всадник, потом другой, потом ещё десяток, и ещё, и сотня, и, наконец, тысячи. Джунгарская орда чернела над лощиной, как сплошной частокол.
Хуже этого и вообразить было нельзя. Крепость — позади, и уже не вернуться за её надёжные куртины. А все припасы, без которых войску не выстоять, — впереди, и степняки могут попросту утопить их в Иртыше, а заодно столкнуть на реку дощаники, лишив русских средств к спасению.
Войско остановилось само собой.
— Не повезло, братцы, — обречённо сказал Иван Дмитриевич. — Что ж, будем биться до последнего. Барабанщики, артикул четыре!
Барабанщики торопливо доставали палочки.
Барабаны затрещали, и войско послушно раскололось: солдаты быстро перестраивались в квадрат-каре и поднимали ружья наизготовку. В пустой сердцевине каре находились волокуши с ранеными. Во фронт артиллеристы выволокли десяток пушек, повернув их жерлами на врага. Однако степняки не двигались с места. Они молча наблюдали, как русское войско решительно приуготовляется к обороне. Там, в лощине, русских было очень мало — просто горсть в сравнении с ордой. Конечно, они собирались ожесточённо сопротивляться, но им не уцелеть под градом стрел и при конном натиске.
Полковник Бухгольц рассматривал джунгар в подзорную трубу. Он понял, кто у степняков главный. Вон тот седой старик на белом верблюде. Этот старик чего-то ждал, не посылал своих воинов в атаку. И каре стояло как вкопанное, ощетинившись длинными ружейными стволами. Ветерок трепал гривы лошадей, шевелил космы на джунгарских малахаях; калёный утренний холод выжигал злой румянец на скулах русских солдат; дымились фитильницы канониров. Бесконечная степь расстилалась во все стороны, и непонятно было, отчего этим людям не пройти друг мимо друга стороной, без смертоубийства, — места хватает всем, простора не объять и взглядом.
Иван Дмитриевич увидел в трубу, как седой старик подозвал воина в рыжей собачьей шапке и что-то сказал ему. Воин кивнул и поскакал вниз по склону лощины к русскому войску. Он скакал один. Он приблизился к пушкам и закричал по-русски, гарцуя перед стволами:
— Я Санджирг! Нойон передал: войны нет! Уходи домой, не бойся!
Русский строй молчал.
— Войны нет! — снова крикнул воин в собачьей шапке. — Уходи, орыс!
Он засмеялся, блестя зубами, развернулся и поскакал обратно.
Полковник Иван Дмитриевич Бухгольц стащил треуголку и медленно перекрестился. Это было чудо. Истинное чудо. Солдаты в изумлении опускали ружья и тоже крестились на всплывающее солнце.
Часть третья Пленники и простор
Глава 1 Не пропасть в степи
Зайсанг Онхудай желал безжалостно покарать коварного перебежчика, который обманул его с помощью китайской пайцзы. Вина перебежчика была не в том, что джунгары Доржинкита потеряли много воинов, а в том, что нойон Цэрэн Дондоб унизил зайсанга, назвал дураком и велел сломать ему правую руку. Разумеется, карой для штык-юнкера Рената была смерть, но требовалось выбрать такую казнь, чтобы её ужас проявил величие зайсанга.
— Ты будешь обнимать мои колени, крыса! — пообещал Онхудай.
Придумать хорошую казнь оказалось не так-то легко. Онхудай решил не спешить, а для начала просто избил Рената. Наносить удары левой рукой зайсангу было неловко, да и брюхо мешало, поэтому связанного Рената били два дайчина. Ренат не удержался на ногах, упал на войлок, устилающий пол в юрте Онхудая, и тогда Онхудай уже сам принялся пинать предателя в живот, в рёбра и в лицо. Ренат не кричал и не молил о пощаде. Он надеялся, что его убьют, и ад, который ему уготован, примет его уже по ту сторону жизни, а не по эту. Ренат не хотел видеть и знать, как степняки уничтожают Бригитту.
Онхудай с охотой овладел бы этой бабой на глазах у её мужа, и это было бы славное торжество, но опять же мешало огромное брюхо и рука в лубке. Онхудай досадовал, что не сумеет выглядеть победителем, тем более если женщину станут держать два его дайчина. Пришлось прибегнуть к другому унижению. С Бригитты сорвали одежду и, обнажённую, привязали к сэргэ перед входом в юрту зайсанга. На каждом столбе-сэргэ были прорезаны три круговых желобка, чтобы накручивать уздечку: нижний предназначался для лошади гостя, средний — для лошади хозяина, а верхний — для невидимой лошади бога. Для Бригитты на сэргэ Онхудая выдолбили четвёртый желобок, почти у земли, и Бригитта, согнувшись, стояла на коленях. Конюх-моричи хлестал её плетью по спине и заду. Бригитта кричала. Посмотреть на порку собрались джунгары со всей юрги. И Онхудай тоже смотрел, наслаждаясь страданием невольницы и постыдностью её положения. Женщины орысов — и народов севера — были белотелыми, как непропечённый хлеб. Это потому что Тенгри не пожелал их доделать и обжечь в своём очаге подобно тому, как гончар обжигает новые кувшины. Тенгри доделал только людей степи.
Рената и Бригитту, потерявших сознание, джунгары отволокли в юрту пленных. Если бы люди в юрте знали, что война со степняками разгорелась по вине этих шведов, может, никто из русских и не стал бы их выхаживать, ведь пленение обоза тоже было на совести тех, кто подстроил войну. Однако солдаты и обозники не догадывались о делах офицера и его жены. Шведов перевязывали, кормили и укрывали, чем было, от холода.
Однажды ночью Бригитта прижалась к Ренату и прошептала:
— Мы выживем, Хансли.
— Я больше не хочу, — помолчав, тихо ответил Ренат.
— Со мной и прежде делали то, что гораздо хуже этой порки.
— Зайсанг ещё только начал мстить. Дальше будет страшнее.
— Мы выживем, — упрямо повторила Бригитта.
В той же юрте лежал и Ваня Демарин. За ним как за сыном заботливо присматривал Ходжа Касым. Он наведывался к Ване по пять раз в день: приносил шубат в бурдюке, чистые холстины и какие-то целебные настойки, а однажды привёл лекаря-эмчи. Лекарь изучил рану и сказал, что юноша должен есть варёную тёртую печень с козьим творогом, солью и углём от черёмухи, и тогда он исцелится, но всё равно не так скоро, как желает Касым. Касым ухитрился достать снадобье, которое назначил эмчи, и уговорился с пленным купцом, что тот не будет спускать с Вани глаз. В уплату за услугу Касым согласился отвезти в Тобольск письмо к родственникам купца.
— Ты мне нужен, — говорил Касым Ване, сидя у него в изголовье по-турецки. — Ты не умрёшь. Ты станешь моим свидетелем перед вашим царём.
Ваня почти всё время был в забытьи и не слышал Касыма.
В юрте пленников Касым встретил и Рената с Бригиттой. После порки Бригитта могла лежать только на животе, а Ренат еле ковылял. У него были сломаны рёбра, лицо сплошь заплыло синяком, болели грудь и живот; его тошнило; он порой мочился во сне, и моча была с кровью. Оглядев шведа, обросшего, грязного и смердящего, Касым брезгливо сморщился и сказал:
— Ты сдохнешь, шелудивый пёс, и это будет хорошо.
— Иди отсюда, бухарец, — ответил Касыму кто-то из русских.
Кроме излечения Вани, другой заботой Касыма был разговор с нойоном.
Цэрэн Дондоб сидел у входа в свою юрту на низкой резной скамеечке и, щурясь, грелся на солнце. Он напоминал безобидного дедушку, который выполз из душной избы на свежий воздух. Рядом стояла верблюдица Со-лонго, и два котечинера вычёсывали её железными скребками, обдирая свалявшуюся зимнюю шерсть. Третий прислужник удерживал норовистую Солонго за верёвочную петлю, наброшенную на шею. Время от времени котечинеры снимали белые клочья со своих скребков и бережно складывали в открытый мешок, лежащий на земле. Лёгкое дуновение ветра шевелило в мешке груду грубой шерсти. Один маленький клочок вылетел и подкатился к ногам Цэрэн Дондоба. Нойон, кряхтя, заботливо поднял его.
— Это священная верблюдица, — сказал нойон коте-чинерам. — И шерсть её священная. Если будете терять её, то потеряете руки.
Цэрэн Дондоб хотел, чтобы из шерсти Солонго ему изготовили тёплый пояс, спасающий от болей в пояснице, одеяло и зимние чулки.
Касым, кланяясь, робко приблизился к нойону.
— Дозволено ли обратиться мне, великий нойон? — спросил он.
— Говори, бухарец.
— Мой господин, как ты распорядишься мною?
— Ты свободен, — усмехнулся Цэрэн Дондоб. — Ты послужил хорошо. Можешь ехать в моём войске в Кашгар.
Касым положил ладони на сердце.
— Не оскорбит ли тебя, если я вернусь в Тобольск? Ты завершил войну, и я лучше поскорее буду готовить новый торговый караван.
— Твоё дело, — пожал плечами Цэрэн Дондоб.
— Но у меня нижайшая просьба, мой господин… Зай-санг Онхудай отнял у меня всё — и сани, и лошадь, и он убил моего слугу! Теперь у меня нет ничего, кроме твоей милости! Дай мне двух лошадей и припасы, иначе я умру в степи, не добравшись до своего дома!
— Ты нигде не умрёшь, — покровительственно сказал Цэрэн Дондоб. — Я прикажу тайше Баточиру дать тебе то, в чём ты нуждаешься.
— Благодарю тебя! — Касым опять поклонился.
Он до последнего мига не мог решить, втягивать ему Дондоба в борьбу с губернатором Гагариным или не втягивать.
— Дозволь ещё мне спросить, — осторожно подступился Касым. — Будешь ли ты, мой господин, карать нойона Гагарина за его злодеяние?
Цэрэн Дондоб задумался. Нойон Гагарин — такой же враг, как Лавзан-хан, засевший в Лхасе. Самозванец, затеявший войну против Джунгарии. И Гагарин, и Лавзан-хан заслужили, чтобы их затоптали табуном. Но Цэрэн Дондоб не мог сражаться одновременно на двух концах Джунгарии. Или Лхаса, или Тобольск. А Лхаса гораздо важнее Тобольска.
— Пока я оставлю нойона Гагарина без возмездия, — мрачно сообщил Цэрэн Дондоб. — Его время тоже придёт, но позже.
Касым понял, что для Дондоба возмездие — это военный поход.
— Если нойон возьмёт у зайсанга Онхудая китайскую пайцзу и отдаст её мне, — вкрадчиво сказал Касым, снова сгибаясь в поклоне, — то я сделаю так, что русский хан сам казнит нойона Гагарина.
Касым не распрямлялся, ожидая ответа. Цэрэн Дондоб зорко посмотрел на него и подумал, что бухарец — хитрый змей. Он жалит исподтишка. Но достойно ли принять его содействие? Хочет ли он, Цэрэн Дондоб, чтобы какой-нибудь подкупленный виночерпий на застолье отравил Лавзан-хана? Нет, не хочет. Он хочет сразить Лавзана в бою и добыть себе славу честного покорителя Лхасы. Он — воин, а не подлый убийца. Только Китай пользуется такими средствами. Война кривых кинжалов в рукавах — это война жирных богдыханов, погрязших в роскоши дворцов и садов Запретного Города.
Ходжа Касым уже пожалел, что завёл речь о пайцзе. Он встал на колени.
— Я разгневал тебя, мой господин?
Но Цэрэн Дондоб не разгневался. Кто такой этот ничтожный продавец женских румян, чтобы прогневить нойона?
— У каждого своё оружие, — сказал Цэрэн Дондоб. — И воин не берёт в руки оружие торговца. Уходи.
Касым подполз и припал к ногам нойона.
— Дозволь мне ещё одну просьбу, великий нойон…
— Не слишком ли много корма для саранчи?
— Моя просьба о воине… Этот воин — орыс. Он храбро сражался с тобой, он не такой, как я, — Касым умоляюще поглядел на Цэрэн Дондоба. — Если он выживет, он будет подобен тебе, нойон. Он спас мою недостойную жизнь, и я должен отблагодарить его, как торговцы должны благодарить воинов…
— Что это за человек? — смягчился Цэрэн Дондоб.
— Он в плену у зайсанга Онхудая. Он русский тайша. Я прошу, чтобы зайсанг не продавал его в Хиву вместе с остальными невольниками. Пусть зайсанг согласится взять за него выкуп, какой сам назначит.
— Хороший враг делает войну желанной, — усмехнулся нойон. — Я полагал, что ты, бухарец, помойная крыса, но ты ещё помнишь о долге. Я исполню и эту твою просьбу. Я скажу зайсангу об этом воине.
Касым на четвереньках пополз от Цэрэн Дондоба задом наперёд.
А нойон поднялся на ноги и велел котичинерам седлать Солонго.
Степь почти освободилась от снега и открылась взгляду; последние тёмные наледи оставались только по северным склонам холмов, а ложбины наполнились водой. Земля лежала гнедая, буланая, соловая, чалая. Зелень пока ещё не пробилась. Когда встанут первые травы, орда нойона двинется на юг, и чем дальше она будет идти, тем выше и сочнее будет трава, пока всё вокруг не запылает алым маком. И где-то там, очень далеко отсюда, плоская степь тревожно всколыхнётся, начнёт вздыматься, и за протяжными синими волнами плоскогорий могуче полезут вверх алмазно сверкающие лезвия Алтая. Но пока — только нагота пробуждения, журавлиные клинья в толще чистого света, сонные суслики и первые жаворонки.
С тех пор как русские ушли, нойон каждый день ездил в покинутый ретраншемент, разглядывал куртины, рвы, бастионы и казармы. Нойона поразило то, что он увидел у русских: длинный вал из слипшихся тел, откуда торчали человеческие ноги и головы, и землянки, наполненные водой и раздутыми покойниками. Русские оказались упрямы до безумия. В своей крепости они умирали сотнями, но не выносили мертвецов в поле, чтобы не показать свою слабость, а сидели на трупах, как падальщики. Это исступлённое непокорство вызывало оторопь, а не уважение. Такое бывает только у диких животных, которые друг по другу прорываются из пожара, или у докшитов — злых демонов, которые от голода раскапывают могилы.
— Этой весной на Ямыш-озере будут самые жирные лисицы, а вороны разучатся летать, — сказал Цэрэн Дондоб сопровождающим его дайчинам.
Однако нойона интересовало вовсе не сумасшествие русских. Он желал понять, как устроена земляная крепость. Таких сооружений он не встречал ни в Китае, ни в Туркестане. А ведь это очень просто, и притом очень хитро. Ров и вал всадникам не преодолеть. Редут прикрывает ворота. С выступающих бастионов можно обстреливать внешнюю сторону стен. Но для обороны необходимо очень точно рассчитать орудийный огонь. Как орысы делали это? Сколько пороха закладывали в пушку для выстрела? Какой подъём придавали стволу? Почему их батареи палили так быстро? Нойон осмотрел четыре пушки, брошенные орысами. Пушки — хорошая добыча, хотя орысы заколотили железом дырки в стволах и привели пушки в негодность. Можно ли восстановить их? На эти вопросы ответов не было. Вернее, ответов не было у джунгар. Однако в плену у зайсанга находился канонир орысов — тот самый перебежчик с пайцзой. Он доказал своё умение, когда на приступе разнёс ворота крепости. Надо спросить у него. Он должен рассказать всё.
Нойон Цэрэн Дондоб не знал, что артиллерист Юхан Густав Ренат уже обречён. Зайсанг Онхудай наконец-то придумал, как его казнить.
Джунгары были беспощадными воинами и легко убивали пленников, которые не годились ни для продажи, ни для работы. Но убить и казнить — разные вещи. Казнить — это наказать смертью, а смертью в степи наказывали редко, и только за два преступления: если воин бросил командира и если кто-либо не предупредил своих о приближении врага. Таким отрубали голову. За прочие проступки выкалывали глаз, отрезали язык, жгли огнём живот, били по щекам, надевали колодки — «хонгур ад-жиргу», клеймили, ломали руку — как сломали её самому Онхудаю, зашивали ногу в мокрую кожу, которая, высыхая, сжимала, как железный сапог. Впрочем, гораздо чаще степняки просто грабили виноватого. За воровство скота привязывали к шее седло и водили по юртам для позора. За трусость обряжали в женскую одежду. Но всё это не производило такого впечатления, какого хотел добиться Онхудай. И он вспомнил древнюю казнь Темучи-на, Чингисхана. Вот что требуется! Ведь он, зайсанг Онхудай, — великий воин, который почти равен Чингизу!
Ближе к вечеру, когда нисходящее солнце нежно позолотило облака, джунгарские воины вытащили Рената и Бригитту из юрты пленных, связали им руки за спиной и погнали к юрте Онхудая. Ренат издалека увидел, что там собралась большая толпа: кто-то сидел на корточках, кто-то стоял, кто-то возвышался на коне. Степняки переговаривались и даже добродушно пересмеивались. Онхудай, подбоченясь, красовался в кожаных доспехах. К толпе верхом на белой верблюдице приближался нойон, его сопровождали дайчины. Но толпа не глядела на Цэрэн Дондоба, толпа глядела на Рената и Бригитту. И Ренат понял, что их обоих ведут на казнь.
— Ты не умрёшь, Хансли! — побледнев, сипло сказала Бригитта.
Она никогда ещё не была такой красивой, как сейчас.
Она догадалась, что жирный зайсанг решил казнить её вместе с Ренатом, и думала сейчас только о Ренате, а не о себе, — лишь так она могла сохранить мужество перед лицом гибели. Ей невыносимо было ощущать своё живое тело, которое через несколько минут каким-то диким образом вдруг станет мёртвым и чужим. Надо забыть о нём, и страх за Рената позволял ей забыть.
А Рената переполнил гнев. Неужели его чувства, разум и опыт, все годы его жизни, все его усилия, вся его вселенная, вообще всё! — будет принесено в жертву мимолётному тщеславию дикаря, словно это равноценный обмен? Бригитта — такая молодая, такая красивая, ни в чём не виноватая перед этими людьми — сейчас забьётся перед ними в агонии, и они будут наблюдать с обыденным любопытством, а потом пойдут жрать варёную баранину?
Он мог рвануться в последнюю драку или бесноваться от ужаса — увы, это ничего не изменило бы. Сейчас на глазах равнодушной толпы произойдёт страшное и постыдное таинство противоестественного умирания. Сейчас у него безжалостно заберут то, что от бога принадлежит одному ему, — его жизнь и его женщину. А солнце в небе даже не дрогнет.
Посреди толпы лежал рыжий верблюд. Он недовольно задирал голову на изогнутой шее и щерил жёлтые зубы. Рената и Бригитту подтолкнули к нему и поставили на колени перед Онхудаем.
— Я придумал, как вы умрёте, — ухмыльнулся Онхудай. — Я повешу вас двоих на одной верёвке через спину верблюда. Так делал Чингиз.
— Не убивай её, — глухо попросил Ренат, движением головы указывая на Бригитту. — Это я принёс пайцзу, а не она. Казни меня, а её отпусти.
— Скажи: «Я молю тебя, великий зайсанг», — потребовал Онхудай.
— Я молю тебя, великий зайсанг.
Ренат подумал: если Бригитту сейчас освободят, ужас слетит с его души бесследно, как тень. Ему не жаль будет умереть — не страшно ни на миг. Неужели возможно такое огромное счастье — живая Бригитта?..
— Слышали? — спросил Онхудай у своих воинов по-монгольски.
Воины одобрительно засмеялись.
Цэрэн Дондоб с высоты Солонго молча смотрел на забавы Онхудая.
— Помилуй нас! — отчаянно крикнула Бригитта.
— А ты подставишь свой зад каждому моему воину? — Онхудая распирало от удовольствия.
— Да! — крикнула Бригитта.
— Она сказала, что возляжет с каждым из вас, как любящая жена, — по-монгольски передал Онхудай своим воинам.
Воины зашлись в дружном хохоте.
— Ты должен умереть, потому что обманул меня, — дружелюбно сказал Онхудай Ренату. — Но я не могу казнить тебя одного. Верблюд вешает сразу двоих. Вешать одного у него не получится.
Цэрэн Дондоб рассматривал лицо обречённой женщины. Почему-то он подумал про Ану-хатун. Он не помнил, как выглядела Ану-хатун, да и не могло быть внешнего сходства между степной красавицей с Кукунора и этой ободранной бабой из неведомой северной страны. Но обе они ради желанного мужчины согласны были отречься от всего, и от самих себя тоже.
Нойон презрительно поморщился, когда пленники, такие жалкие в своём порыве, бросились друг к другу, хотя руки их были связаны, и прижались лицом к лицу. Воины растащили этих любовников и привалили спинами к бокам лежащего верблюда: мужчину — к левому боку, женщину — к правому. На шее мужчины завязали петлю, перекинули верёвку через ложбину между горбами верблюда и завязали петлёй на шее женщины. «Ханс-ли!» — крикнула женщина, а мужчина не ответил. Полулёжа, он странно шевелил ногами.
— Подними верблюда, — приказал Онхудай погонщику.
— Бос! Бос! — погонщик ладонью хлопнул верблюда снизу по челюсти.
Верблюд качнулся вперёд, упёрся коленями в землю, толчком задрал зад, распрямляя задние ноги, и толчком распрямил передние ноги. Ренат и Бригитта, уравновешивая друг друга, повисли в петлях по разным бокам верблюда. Они задёргались, не находя опоры, и лица их исказились.
Воины смотрели на повешенных с жадным и бесстыжим интересом.
Нойон тихонько послал Солонго поближе к Онхудаю.
— Ты убил их? — помедлив, спросил он у зайсанга.
— Убил, — гордо подтвердил Онхудай.
— Мёртвые тебе не нужны, — спокойно сказал Цэрэн Дондоб. — Я возьму их. Эй, — окликнул он погонщика, — уложи верблюда обратно, да поскорее.
Погонщик испуганно дёрнул за уздечку, прикреплённую к палочке в верхней губе верблюда.
— Цог! Цог! — прикрикнул он.
Верблюд, недовольно ворча, подогнул передние ноги.
— Ты не можешь так унижать меня, нойон! — задохнулся Онхудай.
Лицо его от ярости наливалось синюшной кровью.
— Ты сделал всё, что хотел, зайсанг, — надменно ответил Цэрэн Дондоб. — Я не мешал тебе. А мне нужен человек, который умеет стрелять из пушек.
Ренат и Бригитта лежали на земле возле верблюда и дышали с хрипом.
Цэрэн Дондоб поплыл над толпой в сторону своей юрги. Он был уверен, что Онхудай не посмеет ослушаться его повеления и не добьёт пленников.
На закате Онхудай сам явился в юрту к нойону. Пьяный, распустивший себя, он забыл об учтивости и не оказал юрте и её хозяину тех знаков почтения, которые должен оказывать гость, но Цэрэн Дондоб согласился пренебречь этим. Онхудай грузно сел на корточки перед очагом нойона.
— Почему ты невзлюбил меня? — спросил он обиженно, как ребёнок. — Что я делаю не так? Я напал на русских, и ты похвалил меня. Мои люди погибали так же, как твои. Я хотел, чтобы ты взял меня с собой в Лхасу, потому что я великий воин. Но ты смеёшься надо мной и унижаешь меня. Причина в том, что я — потомок Бодорхона, а ты — потомок Чороса?
Цэрэн Дондобу стало жаль этого толстого и глупого человека.
— Дело в том, что эта война была ненужной, — терпеливо объяснил он.
— Но это была хорошая война! Я взял много пленных и обоз!
— Мне пришлось отложить поход на Лхасу.
— Лхаса никуда не денется! А ты получил четыре пушки и пушкаря!
Цэрэн Дондоб тяжело вздохнул. У него никак не получалось вбить в тупую говяжью башку зайсанга понимание того, что его недальновидность создала Джунгарии опасного врага — Россию. Тогда Цэрэн Дондоб решил свалить всю вину на контайшу — так, наверное, будет проще.
— Цэван-Рабдан будет недоволен мной, а значит — тобой. Не приходи в Кульджу год или два, иначе он сломает тебе вторую руку.
— Как мне вернуть расположение контайши? — тотчас спросил Онхудай.
— Я не знаю, — убито ответил нойон; это была совсем не его забота. — Доброе расположение возвращают добрым подарком.
— А что мне ему подарить? У него уже всё есть!
Нойон подумал: не позвать ли котечинеров, чтобы выбросили Онхудая из юрты и отправили восвояси пинками под зад?
— Я могу купить у бухарца большое одеяло из чёрных и красных лисиц, — Онхудай смотрел на Цэрэн Дондо-ба. — Оно понравится контайше?
— Для начала отпусти из плена того русского, на которого тебе укажет бухарец, — вспомнил нойон. — Разрешаю взять за него пятьдесят лянов золота.
— Бухарец — плохой человек! — пьяный Онхудай не удерживал в уме ни одной последовательной мысли. — Он убил мою сестру Улюмджану, которую я отдал ему в жёны! Он слишком мало платит мне за свои караваны!
— Уходи, — осознавая бесполезность разговора, устало приказал Цэрэн Дондоб. — И запомни три вещи.
Не являйся в Кульджу. Найди подарок для контайши. Отпусти русского. Больше нам не о чем говорить.
Три дня Онхудай пил хмельной тарасун, а тем временем орда нойона готовилась к походу. Воины переставляли кибитки с полозьев на большие колёса и разбирали юрты: сворачивали холстины и войлок стен и крыш, складывали решётки-терме, увязывали жерди-баганы, которые подпирали дымовое кольцо, и жерди-уни, которые поддерживали купол. Столики-алтари превратились в ящики, куда с молитвой помещали бронзовых бурханов и «отцовские камни» очагов. Погонщики сгоняли стада и досушивали аргал.
Протрезвев, Онхудай вызвал к себе Ходжу Касыма.
— Отныне ты мне не друг и не родня, — сказал он.
— Я скорблю, мой господин, — Касым склонился в поклоне. — Чем я могу искупить свою вину перед тобой?
— Ты будешь отдавать мне пятую часть товаров со своих караванов.
— Это счастье для меня! — искренне признался Касым.
Он не лукавил. Хитрый тожир, он отлично знал, как сделать так, чтобы пятая часть оказалась меньше десятой и состояла из самого дрянного товара.
— Ещё ты должен указать мне орыса, которого нойон просил отпустить.
— Конечно, я укажу его! — охотно пообещал Касым.
Он не подал вида, но душу его переполнило торжество.
— Летом я пойду грабить казахов и каракалпаков. Затем пойду на Тургай. Там, неподалёку от кургана Чимбая, есть худук и ханака. Знаешь их?
— Я найду, мой господин.
— Я привезу твоего орыса к ханаке и буду ждать тебя первые пять дней месяца Синей Коровы. Аты привезёшь мне туда плату за Улюмджану и ещё пятьдесят лянов золота за орыса. Так назначил нойон.
Касым сразу сообразил, что Онхудай может и не отдать Ваню Демарина, если не получит выкуп за сестру, а платить за неё Касым не рассчитывал.
— Орыс — не мой человек, — сказал он. — За него будут платить другие орысы, а не я. Они и приедут к ханаке.
— Мне всё равно, — буркнул Онхудай. — А когда ты заплатишь за жену?
— Ты очень дорого оценил Улюмджану, мой господин. Я скоплю столько золота лишь через год, и тогда сам привезу его тебе в Доржинкит.
— Ты всё делаешь долго, — помрачнел Онхудай. — Ты плохой торговец.
— Прости, мой господин. Мои умения вызывают жалость, но я не в силах угождать тебе лучше, чем у меня получается.
— Когда ты разоришься и будешь продан в рабство, я куплю тебя и заставлю собирать овечий навоз вместе со старухами.
Ходжа Касым, поклонившись, вышел из юрты.
Угрозы и оскорбления Онхудая давно не трогали его. Он поспешил в юрту пленников к Ване Демарину. Ваня выздоравливал и уже мог сидеть.
— Я принёс добрую весть, мой друг, — усаживаясь рядом, весело сказал Касым. — Тебя выкупят этой осенью. Я обо всём условился. Тебе придётся провести лето в плену, но это не страшно, не правда ли?
Ваня без слов схватил руку Касыма и сжал в ладонях.
— Я выполняю свой долг, ведь ты меня спас, — Касым глядел на Ваню ласково, как на драгоценное приобретение. — Я дам за тебя золото, а ты в благодарность откроешь царю правду о сговоре губернатора с китайцами.
— Я тоже не подведу тебя, Касым, — с чувством пообещал Ваня.
…Через несколько дней орда Цэрэн Дондоба тронулась в путь вверх по Иртышу. Впереди лежали город Доржинкит и озеро Зайсан, отроги Тянь-Шаня и пустыня Такла-Макан. Первым двигался дозор из лучников; за ним следовали знаменосцы со знамёнами, украшенными драконами и орлами; потом на косматых верблю-дах-бактрианах ехали могучие воины хошуна; потом — конница баруна, зюна и запсора в кожаных латах и железных шлемах; потом на белой верблюдице Солонго в окружении каанаров ехал и сам нойон. Огромным хвостом тащился обоз из тысяч кибиток и повозок. В этом обозе в скрипучей арбе с непомерными колёсами сидели штык-юнкер Юхан Густав Ренат и солдатская вдова Бригитта Цимс. Они знали, что их везут куда-то в бесконечность, в неведомые горы на чужую войну — в какой-то поднебесный Тибет, где стоит какая-то священная Лхаса, захваченная китайцами. На штурме этой Лхасы штык-юнкер Ренат должен командовать пушками нойона Цэрэн Дондоба. Однако ледяные вершины Тибета и скалистые шхеры Скандинавии находятся на разных сторонах Земли.
— Мы исчезнем в Азии, Хансли, — без боли, но печально сказала Бригитта. — Нам никогда не вернуться домой. Степь нас не выпустит.
— Степь прекрасна, Гита, — тихо ответил Ренат.
Глава 2 Меджнун
Григорий Ильич узнал о Хомани всё, что было возможно. Ему рассказал лавочник Турсун, у которого Григорий Ильич покупал бумагу, а Турсу-ну разболтал евнух Бобожон, который ходил в лавку за румянами и красками. Остячка Хамуна — не жена, а наложница Ходжи Касыма, и Назифа, старшая жена Ходжи, ревнует недавнюю язычницу. Узбечка Назифа — главная в доме, но муж давно не водит её на ложе, потому что сейчас ему нравится остячка. Есть ешё и младшая жена — татарка Сулу-бике. Была и другая наложница — калмычка Улюмджана. Она хотела отравить Хамуну, и Касым её зарезал, хотя все говорят, что она сама умерла. Касым уехал в русскую крепость на Ямыш-озеро, хотя все говорят, что он уехал в Кашгар к брату. А Хамуна несчастна. Никто не знает, что ей надо, и все говорят, что она сама не знает.
Назифа редко выводила Хамуну из дома, и только на базар. Григорий Ильич целыми днями пропадал на Троицкой площади, надеясь снова увидеть Хомани, и наконец увидел Назифу. Стройная и неприступная, она ходила по торговым рядам в чадре, а старый прислужник Суфьян таскал за ней корзину.
— Сколько стоит твоя мочёная морошка? — спросила Назифа у торговки.
— Три копейки большой туес.
— Ты мошенница. Я дам две копейки.
— За две копейки сама собирай, — ответила торговка.
Снег уже растаял, и многолюдная площадь превратилась в растоптанное озеро грязи и жидкого навоза. Между торговых рядов сикось-накось были брошены дощатые мостки. Новицкий выждал, когда неповоротливый Суфьян со своей корзиной отстанет где-нибудь в сутолоке, и приблизился к Назифе.
— Назыфа, зробишь ласку, послухай мэнэ, — торопливо попросил он.
Назифа прошла мимо, не оглянувшись. Новицкий поспешил за ней.
— Назыфа, прошу, допоможи мэни с жонкой Хасыма побачитися, — просил Григорий Ильич. — Хоманя мэни дюже потрибна…
Назифа ничего не ответила. Но она вспомнила этого мужчину с серьгой. Она видела его в Тобольске и раньше, а недавно он напугал Хамуну, когда Назифа оставила её возле кабака, чтобы купить у кабатчика чех на бороду.
Григорий Ильич не прекратил попыток достучаться до сердца Назифы. Бродить по Бухарской слободе ему, русскому, было несподручно — там он слишком заметен, и он продолжал караулить суровую жену Касыма на рынке. Через несколько дней он снова встретил её.
— Назыфа! — тотчас отчаянно окликнул он. — Звэди мэне з Хоманею!
На этот раз Назифа остановилась и пристально всмотрелась в Григория Ильича. Откуда он знает Хамуну? Неужели она, Назифа, плохо исполняла свой долг хранительницы очага, и наложница её супруга, оказавшись без присмотра, снюхалась с другим мужчиной? Этого не может быть!
— Откуда тебе известна Хамуна? — строго спросила Назифа.
— Зустрив ей, ковды вона жыла ще в Пэвлоре, — пояснил Новицкий. — Допоможи мэни с ею побачитися…
— Зачем?
— Трэба мэни, — беспомощно пробормотал Григорий Ильич.
Назифа не сводила глаз с Новицкого. Хвала Аллаху, она не виновата: этот мужчина знал Хамуну ещё по языческой жизни в тайге. Назифа уже видала Новицкого раньше — он всегда был рядом со старым русским имамом, а Касым рассказывал, что русский имам со своими подручными плавал по Оби и крестил инородцев. Вот, значит, каким образом Новицкий, спутник имама, встретил остяцкую девку — будущую наложницу тобольского тожира.
Но не просто встретил. Назифа рассматривала Новицкого как опытная женщина. Он болен любовью. Это видно. В его тёмных глазах — тоска умирающего зверя. Его дух иссушён жаждой по возлюбленной. Он исхудал, потому что его жизнь — бесконечная погоня за ускользающим счастьем. Может, этого счастья и вовсе нет, и мужчина гонится за обольстительным гулем, злым джинном. Он меджнун — безумец, одержимый тягой к своей Лейле. Если бы этот человек чтил веру Пророка, его исцелил бы аят «Уль-Курси» или сура «Бакара», однако меджнун, конечно, не ведает истинного бога, а потому сгинет. Все меджнуны погибают.
Но к ней, к Назифе, меджнуна прислал Всевышний! Ведь она искала средство извести Хамуну. Отравить её Назифа боялась: Касым догадается и убьёт отравительницу, как он убил Улюмджану. А меджнун всё сделает за Назифу сам! Надо лишь помочь ему сойтись с Хаму-ной — и потом как бы ненароком указать супругу на связь его наложницы с другим мужчиной. Оскорблённый и уязвлённый в сердце, Касым изгонит Хамуну, продаст её — или даже задушит. Конечно, такой способ избавиться от соперницы будет жестоким по отношению к Касыму, но Касым — муж, сильный духом, и он выдержит. Зато потом у него не останется никого, кроме Нази-фы, чья любовь принадлежит ему навеки, как навеки луна принадлежит ночному небосводу.
— Допоможи, — всё просил Новицкий. — Я тоби грошей дам…
— Хорошо, — решительно согласилась Назифа. — Давай деньги.
Деньги тоже пригодятся. Во внутреннем дворе дома в корнях акации у Назифы был закопан кувшин с монетами. Разумеется, она прятала его не для себя. Вдруг случится беда, пожар, ограбление, и Касым разорится? Тогда она выкопает кувшин и с поклоном отдаст его Касыму.
Григорий Ильич суетливо выгребал из карманов деньги.
— Ось всё, що я маю… Возьми.
— Мало, — непреклонно сказала Назифа. — Надо ещё столько же.
— Прынэсу! — горячо заверил Новицкий. — Ковды встрэча будэ, прынэсу!
Назифа оглянулась по сторонам — не подслушивает ли кто? Он уже придумала, как устроить свидание медж-нуна с Хамуной.
— На первую траву я поеду с Хамуной в Баиш на умру, — негромко сообщила она. — Будь там. И деньги не забудь. Я пришлю тебе Хамуну.
— Дякую тоби, Назыфа! — едва не заплакал Григорий Ильич.
Назифа посмотрела на него с жалостью и презрением.
— Ты меджнун, — честно сказала она. — Твоё счастье, что ты не знаешь, куда придёшь.
Большая вода в этом году помиловала Тобольск: половодье растянулось, Иртыш скатил свой избыток потихоньку и затопил лишь несколько убогих подворий на околице и слободку с торговыми банями. Солнечные лучи, длинные и яркие, били вдоль улиц напрострел. Дождевые тучи быстро пролетали над городом, словно их кто-то волочил за верёвку. Воздух, ещё пока студёный, стал хрупко прозрачен. Весна открыла все окна и двери мира.
Шейх Аваз-Баки объявил умме, что рамадан начнётся с ближайшего новолуния. В рамадан Назифа задумала совершить давно желаемую умру — малое паломничество, и целью умры, конечно, была астана Хаким-аты на кладбище Баишевой деревни. В окрестностях Тобольска, да и во всей лесной Сибири для правоверного не было места священнее, чем астана у Баишево. Мужави-ры Мекки говорили, что семикратное поклонение этой астане можно приравнять к хаджу.
Ходжа Касым в своей доброте научил Назифу читать, хотя шейх Аваз-Баки не одобрил такого потворства женскому любопытству, то есть пороку; Назифа прочла ри-сале Хаким-аты — его жизнеописание. Рукопись дал ей табиб Мудрахим, лекарь уммы. Шейх Хаким-ата жил пять столетий назад, а то и раньше. Он происходил из потомков знаменитого имама Шафиги. Его отдали на обучение великому мудрецу Ахмеду Ясави, которого именовали Хазрет Султан. Однажды Ясави собрал у себя в Ясах десять тысяч мюридов — учеников — и прочитал им длинное наставление, а потом спросил: кто заметил в его словах противоречие Корану? Из всех мюридов противоречие заметил только юный Хаким. Он стал любимым учеником Ясави.
Особенно трогало Назифу то, что Хаким-ата жил в Бухаре. Но однажды он услышал зов далёкой страны
Сибири, которая скорбела по истинной вере. Хаким-ата был вали — святым, и ещё провидцем. Он понял, что Сибирь просит его дать ей веру Пророка. Он запряг быков, посадил в повозки своего брата, жену с детьми и слуг и поехал на север. Путь, по которому он прошёл, потом стали называть Канифа-Юлы. Этой дорогой пользовались все бухарцы, обосновавшиеся в Сибири ещё до хана Кучума и Ермака.
Тобольска тогда ещё, конечно, не было, не было Ис-кера, не было Кашлыка и даже города Сибыр не было. На Иртыше жили татары-язычники, которые молились на телят и на куклы курцак. От устья Тобола караван Хаким-аты двинулся вверх по Иртышу, и вдруг бык-вожак остановился как вкопанный и замычал, отказываясь идти дальше. Хаким-ата понял, что это знак свыше, и сказал, что его путь закончен. Быка-вожака принесли в жертву.
Поблизости находилось селение местного бая-тата-рина. Хаким-ата попросил у бая выделить ему землю для поселения — столько, сколько можно накрыть бычьей шкурой. Бай согласился, полагая, что отдаёт крохотный клочок. Но Хаким-ата нарезал шкуру жертвенного быка на ленточки, связал их в верёвку и обвёл ею такое пространство, что хватило и на селение, и даже на кладбище. Селение назвали Бакырган — «бык кричал», или Баише-во — «подарок бая». Здесь Хаким-ата провёл вторую половину жизни.
Он проповедовал истинную веру и обращал сибирских татар в ислам. Его сыновья тоже стали проповедниками. Аллах наделил их даром творить чудеса. Хаким-ата предсказал день своей смерти и умер в назначенный срок. Хасим-ата, брат Хаким-аты, похоронил его, положив начало Баишевскому кладбищу. Над могилой возвели бревенчатую астану. И вот уже пять веков благодарные мусульмане Сибири воздают здесь почести тому, кто зажёг над водами Иртыша сияющий полумесяц.
Дорога от Тобольска до Баишево тянулась по лесам, после Абалака она опустела. Лошадка шлёпала копытами по лужам в колеях, арбу потряхивало на корнях, скрипели колёса. В арбе сидел старый Суфьян, а Назифа, Сулу-бике и Хомани шли за повозкой пешком. Хомани очень хотелось идти по лесу, а не по дороге, но сейчас на ней было узкое и длинное платье абайя, как полагалось женщинам в исламе, а в таком платье не пробраться через чащу с буреломами и бочажинами, заполненными талой водой.
Хомани так давно не была в лесу, в тайге, что не могла насмотреться и надышаться. Голова её закружилась от смолистой свежести чёрного, мокрого ельника. В потаённом полумраке кое-где ещё белел последний снег — грязный, заледеневший, издырявленный звериными следами. Запах хвои, прель разбухшего мха и холод, источаемый снегом, порождали ощущение бесконечного таёжного простора, заполненного тихой жизнью, прошитого извилистыми тропками, заселённого духами и опасного для чужака.
Хомани приотстала от Назифы и Сулу-бике.
— Здравствуй, Большой Лес, — негромко заговорила она по-хантыйски. — Я так давно не была у тебя… Мне очень грустно и одиноко. Меня держат в неволе и бьют. Моя сестра прячется от людей, а мой народ принял другого бога. Никто тебя уже не слушает, Большой Лес, и никто не слышит меня.
Она видела, что в глубине ельника перемещаются ка-кие-то бледные отсветы. Там что-то смутно зашепталось, еле различимо зашумело в тревоге, между деревьев расползалось какое-то волнение. Невысокая придорожная пихта провела по лицу Хомани мягкой лапкой, словно утёрла слёзы.
— Волчице ты посылаешь волка, а глухарке — глухаря. К печальным охотникам приходят лесные женщины
Мис-нэ. А я никому не нужна, словно людоед Когтистый Старик. Я погибаю без тебя, Большой Лес.
Где её князь? Почему он не пробрался к ней, не украл её из чужого и нелюбимого дома? Не обманулась ли она, встретив князя? Может, и нет его — князя? Он умер, брошенный Айкони, а его неприкаянная душа заблудилась в людях и случайно увидела Хомани из глаз другого человека? Но такая душа бессильна, она может только смотреть, и ничего не сделает для Хомани.
Вечером второго дня пути лесная дорога привела в Баишево. Маленькая деревня стояла немного в стороне от излучины Иртыша. Домики и заплоты были обмазаны глиной, кровли из дёрна щетинились космами прошлогодней травы. На окраине особняком возвышалась небольшая мечеть с дощатой вышкой-минаретом. По улочкам плыл сладкий дым кизяка.
Назифа повернула к самому добротному жилищу — жилищу имама Мунасипа. Имам происходил из «шейх тугума» — из рода шейха Хаким-аты. Салиха, жена имама, считалась караулче — хранительницей астаны Хакима. Мунасип и Салиха приняли Назифу и её спутников с радушием, а после заката, как полагается в рамадан, разделили с ними трапезу за дастарханом.
Ночью, когда Иртыш пронзительно засинел под луной, к баишевскому берегу приткнулась лёгкая лодка. Это приплыл Новицкий. Собаки в деревне подняли лай, когда Григорий Ильич бегал по улочкам, отыскивая дом имама. На робкий стук открыл прислужник, а потом появилась и Назифа.
— Я прынис гроши, — глухо сказал Новицкий.
— Завтра жди у Ермаковой сосны, — принимая деньги, ответила Назифа.
Кладбище располагалось неподалёку от деревни. Оно сплошь заросло соснами и малиной и не имело никаких оград. Кое-где из бурых свалявшихся папоротников, полуистлевших под снегом, косо торчали невысокие, как пни, каменные плиты с округлёнными верхушками. На их плоскостях подо мхом змеилась резьба арабской вязи. Такие плиты привозили из Бухары двести и триста лет назад, пока вера Пророка была на Иртыше самой сильной. Потом татары просто строили погребальные срубы в три венца, стёсывая середину верхних брёвен, чтобы углы срубов казались приподнятыми. Внутри этих клетей в могилы были вбиты колья с привязанными ленточками. Своими размерами выделялись астаны — шестигранные бревенчатые сооружения высотой по пояс человеку. Их на Баишевском кладбище было штук десять.
— Анбар-ана, женаХаким-аты, — поясняла Сулу-би-ке и Хамуне Назифа, указывая пальцем на срубы, — и Занги-ата, последний муж Анбар-аны. Хаким, провидец, знал время своей смерти и перед концом сам выдал жену замуж за своего пастуха. А там — сыновья Хакима, они тоже были хазраты и тоже совершали карамэт, чудеса. Однажды они оживили быков, принесённых в жертву. Достойнее всех был Хубби, Султан-эпе. А там — Че-лятдин Ходжа.
Астаны стояли на этом кладбище уже несколько столетий, хранители-караулчи обновляли срубы каждые тридцать-сорок лет.
— А вот астана Хаким-аты, — с благоговением сказала Назифа и нежно погладила бревно. — Здесь мы совершим намаз и катым по святому.
К одному из углов астаны был привязан большой ржавый колоколец. Его история взволновала Назифу ещё в молодости. В Бухаре жила женщина, которая обещала пройти в Баиш, поклониться Хаким-ате Бакыргани и принести ему в жертву быка. Но женщина заболела и не смогла исполнить обещание. И её бык сам, один, отправился из Бухары в Сибирь. Он преодолел пустыни и степи, реки и леса и пришёл к астане. Караулчи заколол его и повесил здесь его колоколец в память о путеводной воле Аллаха.
— А ты, Хамуна, недостойна молитвы в таком месте, — сурово сказала Назифа. — Ты плохая мусульманка. Ты произнесла священные слова шахады без понимания и ничего не знаешь о вере. Иди к сосне вашего Ермака и жди там до вечера, пока мы совершим моление и почистим астану.
Хомани была только рада изгнанию.
Жители Певлора, потомки кодичей, помнили предание о погребении Ермака, и Хомани тоже помнила его. Татары выловили тело Ермака, и мурза Кайдаул — он был из «шейх тугума» — привёз его на кладбище Хаким-аты. Мёртвый Ермак шесть недель лежал на священном помосте, и все князья тайги и степи приезжали сюда, чтобы увидеть поверженного богатыря. Тело точило живую кровь, из капель которой вырастали цветы жарки, а птицы боялись пролетать над Бакырганом. Наконец душа Ермака разгневалась. Она принялась ночами вторгаться в сновидения князей, и кое-кто из них утром пробуждался безумцем; у князя Сейдяка душа Ермака потребовала предать тело земле. И тогда татары похоронили Ермака, а для поминовения зарезали тридцать коров. От Ермака остались две волшебные кольчуги. Одну забрал мурза Кайдаул, а другую — хитрый кодский князь Иги-чей Алачеев.
За прошедшие сто с лишним лет на могиле Ермака выросла огромная, кряжистая, разлапистая сосна. Её толстые медные ветви, корчась в изломах, торчали во все стороны. Хомани уселась под этой сосной и закрыла глаза, слушая шум ветра в хвое, дыхание отогревающейся земли, звон солнечного света и гул огромного пространства. Её охватило блаженство. Давно уже ей не было так спокойно, свободно и хорошо.
Ненависть Назифы и любовь Касыма для Хомани были равно тягостны, а близость с Касымом — тягостна вдвойне. Она не дарила наслаждения, не утешала нежностью, не избавляла от одиночества, и потому Хомани сбегала к Айкони. Однако Касыма уже полгода не было дома, и Хомани давно не ходила душой к душе сестры, не знала, как Айкони попрощалась с зимой и встретила весну. И сейчас Хомани вдруг снова ощутила Айкони, уловила запахи и звуки Ен-Пугола. Это Ермак соединил её с сестрой. Хомани сидела под деревом, которое выросло из тела Ермака, а железная рубаха, впитавшая силу Ермака, висела на идоле Ике-Нуми-Хауме, под которым сейчас точно так же сидела Айкони. И она была счастлива. Она улыбалась сама себе и ждала Нахрача. А Нахрач шагал к ней через поляну с подснежниками.
Он очень нравился Айкони. Конечно, он горбун. Он всегда согнут, будто готовится напасть, у него широкие плечи и длинные, растопыренные руки, у него лицо в щетинистых морщинах, и он похож на огромного мохнатого паука. Он словно бы немного зверь — но ведь он и не совсем человек. Он не признаёт непокорности, как не признаёт её волк-вожак. Он не боится того, чего боятся все люди. Он не чтит богов: он дерётся с ними, хотя иногда боги его бьют; он силой и коварством заставляет богов исполнять его волю, и кормит только тех богов, которые сумели дать ему отпор. Он жаден к жизни, ему всё надо. Он упрямый, смелый и яростный. Он жестокий, но честный. Он держит своё слово. Он не предаст, как предал её князь.
С князем всё было не так. С князем были надежды, мечты, ожидания, смех бессмысленной радости. С князем Айкони была человеком. Но ведь она тоже не совсем человек. Она — Мис-нэ. И ей нужен не добрый людской князь, а вещий таёжный воин, соперник демонов, наездник мамонтов.
В прошлый раз он сказал ей, что возьмёт её как женщину. А она сказала ему, что убьёт его, если он попытается её взять. А он сказал, что всё равно попытается. А она сказала: хорошо, приходи. А он сказал, что придёт, и хочет, чтобы она ему обрадовалась. И вот она сидит под Ике-Нуми-Хаумом, держит в руке нож, но, конечно, не будет убивать Нахрача, потому что она очень ждала его, и пусть этот паук скорее заплетёт её своей паутиной.
Сильные и жёсткие мужские руки обвили её, и поче-му-то мужских рук было много, будто это ветви Ермаковой сосны, наверное, четыре, а может, восемь, и они оторвали её от земли, точно дерево схватило её и торопливо понесло куда-то, и небо перевернулось, и ей показалось, что она — заяц в пасти волка, но это было сладостно, и её тело раскалилось, и с него исчезала одежда, словно истлевала от жара, и всё было правильно, как надо, как того хотела она сама — то ли Айкони, то ли Хомани. И щетинистое, но ничуть не страшное лицо Нахрача исказилось в таком желании, что можно было даже засмеяться: разве она еда, разве она вода, чтобы так её жаждать?
— Кто ты, Нахрач? — задыхаясь от смеха, спрашивала Айкони. — Тебя послал ко мне Большой Лес?
— Я стыльки тэбэ шукав, радысть моя… — хрипло бормотал в ответ Нахрач. — Красуня моя… Како я важко тужил по тэбэ, кохана моя…
Еле отделяя себя от сестры, Хомани увидела над собой качающуюся серьгу. А потом и Хомани, и Айкони опять накрыло счастьем и перемешало до неразличимости — всё в общий костёр: и мужчин, и небо, и судьбу.
…Хомани осознала себя ещё не скоро — душе пришлось спускаться в тело долго и осторожно, будто с крутого и высокого обрыва. Хомани лежала под Ермаковой сосной голая: платок, абайя и башмаки валялись поодаль. Прохладный ветерок шевелил полупрозрачные кусты на краю луговины. Новицкий сидел, привалившись спиной к сосне, и глядел на Хомани как-то со стороны, отчуждённо, с виноватой жалостью. Хомани поползла к нему.
— Как ты ходить, князь? — спросила она. — Ты искать меня, правда?
— Правда, — кивнул Григорий Ильич.
Хомани обняла его и приникла к нему, легко уместившись в его руках.
— Как ты знать меня?
— Тако выйшло, мила…
Хомани не потревожили никакие сомнения. Князь нашёл её. Он любит её. Отныне они всегда будут вместе. Поначалу — втайне от всех, но рано или поздно они что-нибудь придумают, чтобы не разлучаться.
— Почему мне от тебя нет страха? — в тихом изумлении задумчиво зашептала Хомани. — Я тебе не видеть, а мне думать — видеть, ты как мой давно-давно. Я тебе. Ты мне. Вчера — не быть, сегодня — всё. Ты колдовать?
— Нэт, мила, — печально улыбнулся Григорий Ильич. — Колдовать не я.
Она, эта девочка, очень напоминала Айкони. Очень. Она была как отражение Айкони в чистом роднике. Ясная. Понятная. Простая. Доверчивая. Григорий Ильич, опустошённый любовью, держал Хомани осторожно, точно драгоценный и хрупкий сосуд. Он чувствовал под руками её тёплые плечи и бёдра, её волосы пахли как пихтовые лапы. Она была из тайги — или, может быть, в ней самой была тайга, как вода в кувшине, но просто тайга, Большой Лес: деревья, буреломы и мхи, звери и птицы, лето и зима. А в тайге Айкони были ещё и демоны. Были сила, воля, страсть и сопротивление судьбе. И Григорий Ильич с горькой трезвостью осознавал, что его зовут не ёлки и не кедры тайги, а демоны, которые прячутся в хвое и в сплетении корней. Это с ними он борется за свою возлюбленную, а не с бухарцем Касымом.
— Зачем мне хорошо? — тихо спрашивала Хомани. — Я тебе, да?
Хомани — не Айкони, думал Григорий Ильич. Он обманулся.
— Ты — не вона, мила моя… — с нежностью и болью сказал Новицкий.
Глава 3 «Хуже, чем украсть»
Лександр Данилыч Меншиков был человеком рослым и полнокровным: плечи — хоть хомут надевай, грудь бочкой, длинные руки, крепкий зад и длинные ноги. Казалось, что одежда ему мала: кружева на груди торчали вперёд, точно борода, камзол трещал подмышками, фалды топорщились павлиньим хвостом, а золотые пуговицы на туго натянутых чулках готовы были отстрелиться, как пули. Меншиков трубно высморкался в сенях дворца прямо на паркет и вошёл в зал, вытирая крупный лепной нос.
— Здорово-здорово, тоболяки! — весело закричал он, кинул треуголку в угол и растопырил лапищи. — Гутен морген, Петрович!
Он крепко обнялся с Гагариным, а потом сочно поцеловал его в обе щеки, осыпав лицо Матвея Петровича мукой своего огромного парика.
— Ухты, разъел харю-то, мортира сибирская! — Меншиков дружески потряс Гагарина за плечи, едва не уронив. — Я тоже, брат, губернатор, а в Питербурхе на ржаных сухарях сижу, как лиходей в каземате!
Конечно, Лександр Данилыч прибеднялся и врал.
Зал во дворце Матвея Петровича был обставлен и убран по-европейски. Летнее солнце било сквозь высокие ячеистые окна с наборными стёклами, отражалось в лакированных изгибах мебели, огнём горело в зеркалах. На пышном диване с ножками в виде львиных лап сидел владыка Филофей в простом саккосе, с малым омофором и панагией на груди. Рядом на стуле притулился Пантила, обряженный в длиннополый русский кафтан. Пантила чувствовал себя очень неловко: не знал, что делать и что говорить.
— Богу — богово, спасённому — рай, — хитро подмигнул Меншиков и, склонившись, поцеловал руку Филофея.
— А это, Александр Данилыч, кодский князь Панфил Алачеев, остяцкий новокрещен, — представил владыка.
Меншиков захохотал и хлопнул Пантилу по спине:
— Я светлейший князь, а ты темнейший!
Пантила неуверенно улыбнулся.
Вдоль стены бесшумно прокрался лакей Капитон, поднял брошенную треуголку Меншикова и благоговейно понёс в сени.
— Юпитер-то наш Лексеич с государыней ныне из Данциха в Саксонию на воды перекинулся, — пройдясь по залу, сообщил Меншиков. — А меня на Адмиралтейство метнул. Так что, ежели царь нужен — терзай меня.
— Придётся, Лександр Данилыч, — вздохнул Гагарин. — Я сундук бумаг на подпись привёз, и подарки матушке Екатерине, и фарфор китайский для государя, и корешки всякие растительные в Аптекарский огород.
— Всё мне перешли, я со своей почтой в Питербурх отправлю.
На низеньком столике рядом с диваном стояла ваза с ранними яблоками, а ешё блюдо с виноградом, корзинка баранок, кофейные чашки, хрустальный кувшин с вином и кубки. Меншиков схватил кувшин и налил себе в кубок.
— Эх, Матюша, стали мы брюквоеды, крапивное семя, а ведь были рубаки, пьяницы! — шумно вздохнул Меншиков, выпил и сморщился. — Тьфу, кислятину подсунул, змей! — он сплюнул на пол. — Дворец твой кто строил?
— Ванька Фонтана, или не помнишь? Сразу после того, как тебе на Яузе Лефортов дом переделал. Да он горел лет десять назад. Это всё тут, — Матвей Петрович махнул рукой на потолок, — Лёшка, сын мой, заново заводил.
— А карета твоя цела? Не разбил в Тобольске?
— Цела, — кивнул Матвей Петрович. — Только дворня гвозди золочёные повыдёргивала. Решили, дураки, что чистое золото.
— Продай мне её, а? — вдруг попросил Меншиков. — Я ж её с первого взгляда полюбил. Там у тебя такая баба вырезана!.. — Меншиков ладонями показал внушительные женские груди. — Продай, скопидом сибирский!
— Не дороговато ли будет из Тобольска сюда катить?
— Ты же укатил в Тобольск — не разорился.
— Подумаю, — нехотя пообещал Матвей Петрович.
— Как там твой поход на Яркенд?
Матвей Петрович удивился, что Меншиков знает такие подробности.
— Войско ещё в пути, — осторожно ответил Гагарин.
— Пока твои ползут, наши-то Яркенд с другого бока возьмут. Слышал, государь войско в Индию отправил? Яицких казаков и солдат. Командиром поставил какого-то мурзу из Кабарды — князя Сашку Бековича, новокрещена вроде него, — Меншиков кивнул на Пантилу.
— Что-то слышал, — уклончиво сказал Матвей Петрович.
Меншиков подошёл к этажерке, уставленной заморскими безделушками, принялся перебирать их и рассматривать. Неугомонному, жадному до удовольствий, ему всё было интересно, до всего было дело.
— Бековичу в Астрахани целый флот построили. Велено ему переплыть Хвалынь и шагать к Аралу. Как возьмёт Хиву и Бухару, чтобы строил новый флот и по реке Дарье плыл в Индию. По пути и Яркенд пощупает.
Матвей Петрович нахмурился, вспоминая чертежи Ремезова.
— Не может того быть, — уверенно сказал он. — Дарья до Индии никак не дотягивается, и Яркенд совсем в стороне от индийского пути.
— Ну, не знаю, — легко ответил Меншиков. — Крюк сделает, хлопот-то!
Он нашёл очки в роговой оправе, водрузил их на нос, подошёл к зеркалу и внимательно обозрел себя.
— Я тоже в Индию хотел, да царь не пустил. Любопытно же индийских девок посмотреть… Подари очки, Петрович. Я в них в баню пойду.
— Бери.
На столике под зеркалом Меншиков увидел табакерку, сразу открыл её и принялся набивать ноздри табаком, искоса поглядывая на владыку Филофея.
— А правда ли оно, отче, что митрополит Иоанн у вас святым оказался?
— Про святость говорить рано, Александр Данилыч, а тело его нетленно, — ровным голосом сообщил Филофей.
— Это же я его в Сибирь законопатил, — с некоторым самодовольством сказал Меншиков. — Он в моей вотчине храм мне наперекор освятил, а я осерчал. К вам его и упёк. Брешут, будто он мне напророчил, что я сам в Сибирь дальше него уеду. Правда ли это?
— Сплетня.
Меншиков закрыл глаза, открыл рот, откинулся назад и оглушительно чихнул, поклонившись в пол. Парик едва не слетел с его головы.
— Ну и славно, — сказал он, вытирая слёзы. — Ежели Иоанн нетленный, так я перед ним виноватый. На том свете буду ноги ему целовать.
— И на этом свете грешить не надо, — спокойно сказал Филофей.
На каминной полке Меншиков увидел длинный лакированный футляр, открыл его, достал дуэльный пистолет с ореховой рукоятью и гравированным стволом, повертел в руках и прицелился в Гагарина.
— А про твои грехи, Петрович, фискал Нестеров царю свистел. Пётр-то Лексеич спрашивает: чего нарыл за Гагариным? Нестеров с постной мордой — дескать, ничего покудова. Царь ему: значит, Матвей не вор. А Нестеров: «Вор!» Царь говорит: тогда лезь в телегу и кати обратно в Тобольск, копай дальше. Так что, Петрович, знай: у тебя за спиной сыск идёт.
— Пущай ищет, — сдержанно сказал Гагарин.
— Нестеров и у меня везде всё вынюхивает, — доверительно признался Меншиков. — Неймётся ему. Вот ведь мерин старый, а? В одиночку столько навалит, что десять мужиков перемажутся.
Над камином висела турецкая сабля в ножнах с золотыми узорами, и Меншиков, конечно, вытащил её и проверил остроту лезвия пальцем.
— Не пособишь ли ты, светлейший князь, чтобы государь дозволил нам в Сибири кремль достроить? — спросил владыка.
Он ведь обещал Семёну Ульянычу посодействовать перед Петром.
— Достраивайте, жалко, что ли? — хмыкнул Меншиков. — Только на шиша вам кремль? От медведей прятаться? — Светлейшего осенила новая мысль, и он развернулся на Гагарина. — Слышь, Петрович, а поехали на медвежью охоту? Под Вологдой знатные зверюги водятся! Мне туда как раз по пути будет! Я там строевой лес рублю на корабли для Адмиралтейства!
Меншиков несколько раз со свистом махнул саблей.
— Какой из меня охотник, Лександр Данилыч? — усмехнулся Гагарин. — Староват я уже. Или ты меня медведям на прикорм предназначил?
Но Меншиков, захваченный замыслом, не унялся.
— А ты, новокрешен, медведя бил? — обратился он к Пантиле.
— Бил, — робко ответил Пантила.
— Поедешь со мной? Руку мне как надо поставишь!
— Кремль достроить нам деньги нужны, — вернул Меншикова Филофей.
Светлейший со вздохом убрал саблю в ножны и вдруг заметил картину. Называлась она «Достославная битва Александра паря Македонского с царём Индийским По-ром на брегах Гидасписа». Над кровавой свалкой македонцев и индийцев возвышались боевые слоны, покрытые цветастыми попонами. Македонский, сидя на коне, вздымал меч, а царь Пор валился с коня — в плече у него торчала стрела. Меншиков внимательно изучил картину.
— Гляди-ка, — озадачился он, — а ведь у слона четыре колена! У кого из зверей ещё по четыре колена? — он задумался. — И припомнить не могу… У лошади задние ноги назад… И у козы… И у собаки… А у свиньи? Петрович, ты на усадьбе свиней-то держишь? Пойдём посмотрим!
— Наш архитектон посчитал: десять тысяч на доделку потребно, — с тихой настойчивостью сказал светлейшему Филофей.
— Ладно, десять тыщ дам, — вздохнул Меншиков. — И всё, всё, довольно о делах. Оголодал я. Поехали ко мне на обед, у меня карасики в сметане.
— Не обессудь, Александр Данилыч, дела, — поклонился Филофей.
— Да и у меня тоже, — виновато развёл руками Гагарин.
Владыку и вправду обременяли многочисленные дела в Монастырском приказе. При Петре Алексеевиче приказ в первую очередь занимался сбором податей с монастырей и церковных вотчин: государю были нужны деньги, деньги, деньги. Богатством своим церковь превосходила все губернии, и царь неутомимо тряс церковь, будто яблоню по осени. Ведомости Монастырского приказа отсылались в Сенат и Ближнюю Канцелярию государя, а распоряжения приказа для губернаторов были приравнены к распоряжениям Сената. Однако сибирские владения — не суздальские и не московские, они почти не приносили дохода, и владыка Филофей терпеливо боролся за то, чтобы его храмы и обители вписали в Руж-ную книгу — табель церковных заведений, которые состоят на руге — государевом жалованье. Над этой книгой приказ корпел уже лет десять, но работе и конца-краю не было видно. Владыка справедливо опасался, что во имя сокращения казённых истрат крючкотворы Монастырского приказа повыбрасывают сибирских попов и монахов из Ружной книги: Сибирь далеко, жаловаться оттуда трудно.
Командовать Монастырским приказом государь поручил графу Ивану Лексеичу Мусину-Пушкину, ныне сенатору и тайному советнику. Вместо платы за труды Ивана Лексеича наградили сельцом Образцовым из владений Евфимьева монастыря в Суздале. Приказ гнездился в Кремле на Патриаршем дворе, где прежде был Патриарший разряд. В трёхсветных белокаменных палатах, возведённых ещё для патриарха Никона, сидела и скрипела перьями сотня секретарей, канцеляристов, подканцеляристов и копиистов.
Дворец князя Гагарина стоял на Тверской, и от него до Кремля было совсем недалеко. Пока владыка пропадал в Монастырском приказе, Пантила ходил гулять в Китай-город или на Арбат. Хотя князь Гагарин и гордился тем, что после пожара отстроил Москву заново в камне, она всё равно была деревянной. Этот огромный русский город бесконечно изумлял Пантилу. Сколько тут всякой зелени — берёзы, липы, вербы, кругом малина. Раздвигая деревья, громоздились, расползаясь пристроями, просторные причудливые терема со стеклянными окнами, высокими кровлями, висячими гульбищами, крылечками, наличниками и резьбой. Часовни с маленькими луковками. Колодцы. Бревенчатые вы-мостки улочек. Кабаки с коновязями. Амбары, амбары и амбары. Небольшие и кудрявые кирпичные церковки, то белые, то красные. Бегучие тени листвы на траве и лёгкие облака в ярком синем небе. Лошади, телеги, бабы, детишки, собаки, татары в халатах, гуси, приказные в мундирах, солдаты, купцы, попы в рясах и мужики в армяках. Здесь пахло печным дымом, медовухой, навозом, черёмухой и свежими калачами. В Москве Пантила не почувствовал себя чужим. Тут всё было как-то радушно — пусть и небрежно, впроброс, невнимательно. Сытый и довольный город был занят собою, своей сложной жизнью, и гостей принимал свысока, из любезности, но Пантиле этого хватало: он не привык к уважению русских.
Другое дело — Кремль. Пантила почти с ужасом взирал на его багровые башни с шатрами и зубчатые стены. В очертаниях Кремля, в его жёстких гранях и крутых округлостях, в длинных глухих протяжённостях и остриях углов Пантила ощущал потаённое движение, торжественную готовность в любой миг нанести удар, сокрушить и раздавить тяжестью. Узкие бойницы смотрели надменно и безжалостно — в человеке они видели только цель для ружья. «Ласточкины хвосты» и окошки-«слухи» на кровлях напоминали уши насторожённых волков. Малые «рядовые» башни проседали под весом своих ярусов, точно их одели в бронированные колонтари. А подступы к Кремлю перегораживали рвы с мутной водой и земляные бастионы с пушками.
Зато храмы Кремля были как сети, в которых запуталось солнце. Вокруг Соборной площади, на которой Пантила дожидался владыку, всё было белое, будто берестяное. Узорчатые стены по-девичьи играли отсветами.
— В таких больших церквах Христос очень сильный, да? — задумчиво спросил Пантила у Филофея. — Здесь каждый день его чудеса?
— Не каждый день, — улыбнулся владыка, — но порой случаются.
Пантила вспоминал свой бедный Певлор на берегу огромной Оби.
— Если бы у нас часто были чудеса, мы бы все быстро поверили в Христа, — сказал он с лёгкой завистью и сожалением.
— Чудо там, где вера, а не вера там, где чудо.
— Но ведь нам всё равно не построить такие же церкви.
— Не в храмах дело, Панфил, — Филофей положил руку Пантиле на плечо. — Я ведь не из гордости хотел, чтобы ты увидел московские церкви. Не из превосходства моего народа над твоим. Я хотел, чтобы ты понял, какая сила таится в вере. Как много можно сделать, когда веришь всей душой. А господу любой храм дорог. Даже если это простая изба с крестом на крыше.
— Теперь я знаю, почему вы, русские, так упрямо тащите Христа в наши леса. Вам надо, чтобы у нас была такая же сила, как у вас.
— Иметь и не дать хуже, чем украсть, — согласился Филофей.
— С таким богом русский царь всех победит.
Филофей рассмеялся.
— Даже не знаю, что ответить. Бывало, и царь плакал от бессилия.
— Значит, русский царь не похож на того весёлого князя, который приходил? — с надеждой спросил Пантила.
Пантиле не понравился Меншиков. Жизнь людей нелёгкая и несмешная, отчего же этот князь так радовался? Наверное, он жестокий человек.
— Нет, царь на него совсем не похож.
— Это хорошо, — кивнул Пантила. — Когда я добуду тебе кольчугу Ермака у вогулов, ты привези её сюда, царю, отче. Она ему будет нужна, я знаю.
А Матвей Петрович, проводив Меншикова, поехал в Хамовники. Он напялил купеческий кафтан, чтобы на него не глазели прохожие, и взял не карету, а простенькую двуколку; управлял ею верный Капитон.
Он остановил возок на Девичьем поле среди пышных садов и грядок Аптекарского огорода. За яблонями виднелись белёные стены Новодевичьей обители и башни, украшенные краснокирпичными коронами. Князь Гагарин пешком пошёл к воротам, над которыми возвышался прямоугольный столп Преображенской церкви, сплошь покрытой узорами и увенчанной пятью главками. Возле правой арки Гагарина ожидала пожилая монахиня. Она провела Матвея Петровича через калитку в толстой створке ворот и сразу свернула направо, к монастырским келейным палатам. Матвей Петрович знал, что в эти палаты недавно поместили старенькую царевну Екатерину Алексеевну, дочь Алексея Михайловича, — на склоне лет она внезапно впала в прелюбодейство с ключником, и её упрятали сюда от греха подальше.
Князь сидел в низкой сводчатой каморе на скамеечке и ждал. Из окна доносилось чириканье воробьёв. С тихим лязгом открылась кованая дверка, и в каморе появилась молодая монашенка, стройная и красивая. Понурившись, она перекрестилась и бесшумно проплыла к другой скамеечке — напротив Матвея Петровича. Гагарин смотрел на монашенку с любовью и страданием.
— Здравствуй, Аннушка, — сказал он.
— Я Анастасия, — ответила монашенка.
— Как скажешь, доченька…
Матвей Петрович любил её куда больше Дашки и Лёшки. Может, только маленький князь Гаврюшка занимал в его сердце такое же светлое место.
— Как здоровьице твоё?
— Благодарствую.
— А что же ты бледненькая такая?
Аннушка не ответила. Она уже давно объявила Матвею Петровичу, что не хочет встречаться с ним, но Матвей Петрович поговорил с игуменьей, и та поняла, что с князем Гагариным, московским градоначальником, лучше не ссориться. Простая инокиня не могла перечить настоятельнице обители, а потому покорно приходила на свидания с отцом.
— Не обижают тебя тут?
Матвей Петрович не знал, о чём спросить. Он робел перед дочерью.
— Это обитель, батюшка, — с укором ответила Анна.
— В мир не тянет?
— Не тянет.
Ох, как он был перед ней виноват… Хотя в чём виноват? В отеческой заботе? Десять лет назад они с Иван-Лексеичем Мусиным-Пушкиным, тогда ещё не графом, решили породниться и поженить своих детей. Сашка Мусин-Пушкин был рад-радёшенек, но Аннушка воспротивилась. Матвей Петрович с Евдокией Степановной вразумляли её, да не вразумили. Матвей Петрович в гневе пообещал отвезти дочь под венец насильно. И Аннушка убежала из дома в монастырь. Этот удар едва не сокрушил Матвея Петровича.
— Какая же ты красивая, Аннушка… — прошептал он, вглядываясь в чистое лицо дочери. — Какие бы у тебя детки были красивые… За что ты себя покарала и нас с матерью осиротила?
— Грех пенять, я господу служу, — твёрдо ответила Анна.
Матвей Петрович дёрнул бант на шее, освобождая пережатое горло.
— Да как не пенять, Анька? — плачуще воскликнул он. — Вижу тебя — и сердце кровью обливается! Подумаешь, сосватали за нелюбимого!.. Да Сашку этого постылого через год под Полтавой убили! Жила бы сейчас с детушками своими сама себе как тетёрочка в золотом гнёздышке — нам с матерью вечным утешеньем! А ты променяла радость на чёрный клобук!
Анна гибко поднялась со скамеечки и одёрнула иноческое платье.
— Не все люди за деньги на всё готовы, батюшка, — холодно сказала она. — Прощайте, мне на повечерие пора.
Она вышла из каморы и закрыла дверь. Матвей Петрович заплакал.
Глава 4 Деньги губернатора
Матвей Петрович решил поговорить с Ремезовым, как должно по службе — в Губернской канцелярии. Гагарин не забыл погрома, учинённого в его доме Семёном Ульянычем. За погром Матвей Петрович не обижался: он понимал, какое горе стало причиной безумия архитектона, и сейчас просто жалел Ремезова, не хотел видом своего жилья напоминать старику о его беде.
В палату губернатора Семён Ульяныч явился хмурый и вроде какой-то ослабевший; сидел на лавке как-то боком, смотрел куда-то в сторону.
— Непросто это было, но мне владыка помог, — рассказывал Гагарин. — Государь случился в отъезде, его место покудова светлейший занимал. Ну, владыка и навалился на него. Словом, Ульяныч, привёз я десять тыщ для доделки нашего кремля. Можешь работников нанимать и приступать с богом.
— Пол-лета прошло, много ли осталось? — с горечью сказал Ремезов.
— Ну, хоть сколько-то. Припасы у тебя не растрачены?
— Всё в целости.
— Вот и хорошо, — Матвей Петрович с подозрением всмотрелся в лицо Ремезова. — Или ты перегорел, Ульяныч? Ничего тебе боле не надобно? Я не осуждаю, но ты скажи — буду другого мастера искать.
— Даже думать не смей, — буркнул Семён Ульяныч.
Он не смотрел на Матвея Петровича, как-то неловко было. Вот ведь вор губернатор, а душа-то у него не казённая. Сколько уж времени миновало, как кремль заброшен, можно и рукой махнуть на былой замысел, тем более что архитектон прекратил докучать, однако Матвей Петрович не выпустил из памяти былые мечтания. И возрождает дело именно сейчас, когда это важнее всего для сердца Семёна Ульяныча. Он чуткий, Петрович. Чуткий, как вор.
Пред внутренним взором Семёна Ульяныча забрезжили стены, арки, лестницы, башни и шатры кремля. Их красота, ещё пока умозрительная, всё равно была совершенна, как красота лесного цветка или упавшей снежинки. Тяжёлая кирпичная кладка словно бы извлечёт из воздуха бесплотные углы и линии, дуги и окружности, невесомо прочерченные божьей рукой в сияющей пустоте. Но что-то изменилось в Семёне Ульяныче. Раньше ему казалось, что зодчество — это наполнение небесного образа земной плотью, подобно иконе, которая есть наполнение предустановленного канона животворным золотом, лазурью и киноварью. Искусство растёт из неба, его корни — за облаками, оно спускается к людям с горних высот. А сейчас Семён Ульяныч думал, что всё наоборот: искусство поднимается с земли в вышину, воздвигая само себя в страдании и противоборстве. У него, архитектона, отняли сына — его надежду на продление в мире, но он всё равно достроит кремль, словно дотянется до сына, который ждёт где-то там — в сонме сибирских ангелов-воителей.
— Только ты учти, Ульяныч: государь Питербурх сооружает, и каменное дело у него по-прежнему повсюду в запрете, — говорил Матвей Петрович о чём-то своём, шкурном, но Семён Ульяныч не вслушивался. — Я лоб расшиб, кланяясь, пока дозволенье на твой кремль выпрашивал. Так что залог — моя башка. Не доделаешь — загубишь меня… Чего смурной-то?
— В эти стены я чаял свою радость вложить, — задумчиво сказал Семён Ульяныч. — А вложу печаль сердечную.
— По божьей воле печаль крепче радости, — успокоил Гагарин.
В открытое окошко вдруг донёсся звон колокола. Это был не благовест, но и не тревожный набат, оповещающий о пожаре. Колокол тяжко гудел на Софийском дворе, потом к его гулу присоединился гул Никольской церкви, потом — Знаменского монастыря, потом зазвонили храмы Нижнего Посада.
— Капитон, чего там? — крикнул в дверь Матвей Петрович.
— Не ведаю, барин! — ответил Капитон из сеней.
— Поглядим, — недовольно сказал Матвей Петрович, вылезая из-за стола.
Мужики и бабы толпились над обрывом Троицкого мыса у новой столпной церкви на взвозе. Сюда же бежали и канцеляристы в мундирах. С обрыва открывался вид на дальнюю излучину Иртыша, блещущую под солнцем. В сиянии реки еле различимы были крохотные пёрышки парусов.
Матвей Петрович распихал толпу. Ремезов шёл за Гагариным.
— Никак, наши солдатики возвращаются, — сказал кто-то из народа.
Два дня назад в Тобольск примчался гонец от тарско-го коменданта и предупредил губернатора, что войско Бухгольца разгромлено на Ямыш-озере и почти всё перебито. Кто жив остался, те плывут в Тобольск.
— Видно, полковник наш Бухгольц дошёл до загиба земли и по обратной стороне восвояси едет, — неприязненно поморщился Гагарин.
Семён Ульянович повернулся и, раздвигая людей, молча пошагал прочь с обрыва. Ему уже некого было встречать.
А колокольный звон катился по всему Тобольску. Его услышала и Маша Ремезова — она как раз вышла из дома, чтобы выплеснуть в огород ополоски.
Слух о том, что войско разбито, переполошил весь Тобольск. Давно не случалось ничего подобного! А ведь такое войско было — почти в три тыщи, с конями, ружьями, пушками! Что стряслось там, в степи?.. Но куда больше, чем воинское поражение, тоболяков ошеломило известие о том, что погибло много солдат: ведь половина рекрутов была из своих, тобольских. Кто жив, а кто нет? По ком зарыдают жёны, матери и сёстры? Бабы раскупили все свечи в церквах, будто свечами можно было исправить то, что уже свершилось.
Не вытерпев неизвестности, кое-какие мужики влезли в лодки и угребли вверх по течению Иртыша, чтобы встретить войско где-нибудь у Абалака. Видно, встретили, и встреча обожгла душу, потому что из Абалака приплыл бурмистр, на пару часов опередив возвращающееся войско, бросился на Софийский двор и крикнул пономарям: звоните! Беда! Беда! Беда!
От этих грозных новостей все Ремезовы отворачивались: своё горе они приняли на полгода раньше города и не желали второй раз совать руку в это пламя. И только Маша, скрывая чувства от родителей и братьев, безмолвно горела в мучительном ожидании. Как там Ваня Дема-рин? Вернётся ли? Когда яростное страдание о Петьке превратилось в тихую боль, Маша поняла, что Ванька никуда не делся из её сердца. И ей безразличен гнев отца с матерью или пересуды соседей, безразлична даже строптивость самого Ваньки. Она его любит. Бог велел любить. Если она не будет любить и ждать его здесь, в Тобольске, зачем господу спасать его там, в походе? Ей казалось нечестным душить свою любовь, словно этим она ослабляла у Ваньки божью защиту.
Маша кинула ведро под гульбище, выскочила за ворота и побежала к пристани. Ремезовский проулок, Етиге-рова улица, мост через Тырковку, Троицкая улица, ярмарочная площадь, Харчовский угол, Шаблинский мост, Кондюрина улица, Покровка, Собачий пустырь, Корабельный съезд… По улицам к пристаням спешил народ, и многие тоже бежали: мальчишки, девки, собаки. На дороге стояла, мыча, брошенная корова. Город стекался к Иртышу, охваченный тревогой, надеждой и тоскливыми предчувствиями.
Жалкая дюжина воинских дощаников затерялась среди разномастных купеческих судов, зачаленных у мостков и свай. Огромная толпа в смятении металась по берегу, кричала, звала и рыдала. Тоболяки разыскивали своих.
— Коля! Коленька!.. Господи боже, за что?.. Где Митя? Митя, отзовись!.. Батька!.. Мужики, Ваньку Сытина кто видел?.. Матушка, я здесь!.. Братцы, братцы, а Никита где?.. Сашка, друг, живой!.. Лёшенька, сынок!.. Сергуня, что с тобой?.. Матерь Богородица, где Мишенька, где Мишенька мой?
Солдаты спускались с дощаников по сходням. Все они были исхудалые, обросшие, в потрёпанных и грязных мундирах. Половина — беззубые. У кого-то рука висела на перевязи, кто-то ковылял с костылём подмышкой. Многих поддерживали товарищи, а некоторых выносили на берег на носилках. Над мачтами дощаников летали чайки. Солдат словно окутывала какая-то тень — ощущение несчастья, страдания, поражения, бессмысленной муки.
Тоболяков было гораздо больше, чем служивых. Толпа сразу поглощала их, закручивала, перебирала тысячью ищущих рук, как крупу на блюде, ощупывала, сжимала или отбрасывала. Кого-то обнимали, целуя со всех сторон, а кого-то трясли с криком: «Где он?.. Где?!..» Русая девчонка ревела, криво раззявившись, и размазывала слёзы по веснушчатому лицу. Старик, обвиснув на старухе, квохтал в рыданиях. Молодая баба, завывая, валялась на земле и засовывала в рот комья грязи. Маша глядела на всё это с ужасом: вернулся ли Ваня, или ей тоже предстоит закричать посреди толпы, ломаясь на части? Она сновала в сутолоке, вертелась, вытягивая шею, и платок сбился у неё на затылок. Она хватала солдат за рукава, поворачивая к себе.
— А Иван-Григорича как найти? — торопливо спрашивала Маша. — Кто видал поручика Демарина? Дяденька, поручик Демарин с вами? Эй, кто-нибудь, люди добрые, ради бога, скажите, — что с ним?..
Выгрузкой раненых из дощаников руководил майор Шторбен.
— Сержант Назимов! — командовал он через гомон. — Найди подводы, братец! Которые лежачие без родни, тех отправляй в казармы!
К Шторбену сквозь толпу, то и дело извиняясь, пробивался секретарь Ефим Дитмер. Его отправил сюда князь Гагарин. Матвей Петрович полагал, что ему, губернатору, не по чести будет личной персоной встречать офицера, который не исполнил государев приказ. Да и не хотелось попасть под гнев тоболяков. Ремезов разнёс полдома губернатора, а тут тысяча ремезовых.
— Господин майор! — призывал Дитмер Шторбе-на. — Господин майор!..
За Дитмером пристроился фискал Алексей Яковлевич Нестеров; сын Николай оберегал его от тычков и напора толпы. Нестеровы приехали в Тобольск неделю назад. Князь Гагарин уже не старался угодить фискалам и не приготовил для них хороших палат в Гостином дворе. Нестеровы сняли простую избу на Верхнем посаде. Алексей Яковлевич пока ещё не начинал никакой ревизии; он расспрашивал купцов и разных подрядчиков, выясняя, за что можно уцепиться, и осматривал заведения Гагарина: канатные и кирпичные сараи, оружейную мастерскую, казённые мельницы и плотбища, кабаки и всякие промыслы на откупе. Внезапное возвращение войска тотчас навело Нестерова на подозрения. Почему солдаты разбиты? На что деньги потрачены? Кто повинен в воинской конфузии полковника Бухгольца?
— Секлетарь, шельмец, меня погоди! — ругался Нестеров на Дитмера.
— Здесь не ваше дело, господин фискал, — оглядываясь, ответил Дитмер.
— Я око государево, сучий ты выкидыш, тут любое дело моё! — задыхаясь от спешки, прохрипел Алексей Яковлевич.
Дитмер наконец-то протиснулся к майору Шторбену.
— Господин майор, я от господина губернатора! Что случилось? Почему вы здесь? Почему остановлено продвижение на Яркенд?
Дитмер умело разыгрывал глубокое недоумение.
— Наш поход завершён, господин секретарь, — сухо ответил майор.
— Как это понимать? Объяснитесь!
— Войско уничтожено. Мы не прошли.
Дитмер даже растерялся. Разумеется, он знал, что поход провалился, и ожидал от командиров горячих оправданий, торопливых обещаний всё исправить, возможно, даже упрёков, и теперь не мог сообразить, что ему делать перед лицом этой простой и ясной правды.
— А где полковник Бухгольц? — беспомощно спросил он.
— Иван Дмитриевич с частью солдат остался на границе степи с целию основать новую крепость. А я доставляю больных и раненых.
По пути от Тары до Яркенда, согласно указу государя, Бухгольц должен был построить пять-семь промежуточных крепостей. Но ещё в начале похода полковник решил, что этими укреплениями он займётся, когда пойдёт назад. На дистанции от городка Тара до Ямыш-озера был намечен лишь один ретраншемент — в устье реки Омь на джунгарском броде через Иртыш. И теперь Бухгольц с самыми здоровыми солдатами сошёл на устье Оми, чтобы соорудить новую крепость. Вряд ли сейчас она была нужна державе — Тара вполне справлялась с отражением набегов, — но полковнику хотелось хоть какого-то успеха для своей гишпедиции. Омская крепость продвинет Россию в степь на двести вёрст от прежней границы. Хотя бы на двести вёрст.
— Иван Дмитриевич прибудет в Тобольск немного позднее, — сказал Шторбен, — когда завершит работы на избранном месте.
Дитмер понимающе улыбнулся: Бухгольц боится гнева губернатора.
— А я имею рапорт господина полковника, — добавил Шторбен.
— Хорошо, — кивнул Дитмер.
Нестеров слушал этот разговор, приставив ладонь к уху.
А Маша Ремезова продолжала искать Ваню Демарина. Она бегала от солдата к солдату, и в душе её нарастал ужас. Где Ванька, где он, где?!
— Дяденьки служивые, не видал ли кто Ивана Дема-рина? — она замерла возле телеги, в которой сидели и лежали раненые.
— Поручик, что ли, молоденький такой? — поинтересовался пожилой солдат в застиранной рубахе, побуревшей на правом боку от крови.
— Он, он! — плачуще обрадовалась Маша.
— А кто он тебе? — хмуро спросил солдат.
— Жених! — выпалила Маша.
— Ищи себе иного жениха, синица.
У Маши неудержимо повело лицо.
— У… убили?
— Чего пугаешь, Наумыч? — нервно дёрнулся другой солдат, молодой; он полулежал в телеге рядом с Наумы-чем. — Парень твой в плен попал. Я знаю.
— В плен?.. — пролепетала Маша. Такого она не ожидала.
— Нас в Таре Касымка догнал, бухарец здешний, небось знаешь его. Он тоже в плен к степнякам угодил, да откупился. Говорил, что видел там твоего поручика. Ты сама у Касымки спроси, девка.
Возница шлёпнул лошадь по крупу, и телега тронулась. Маша стояла посреди толпы, зажав рот руками.
Она вернулась домой сама не своя — бледная, дрожащая, — но ничего не сказала ни матушке с батюшкой, ни Леонтию с Варварой, не объяснила, где пропадала целых полдня. Митрофановна внимательно посмотрела на Машу — и тоже, вздохнув, промолчала. Все тайны дочери она узнавала по глазам.
Но Маша и не думала сдаваться. Выждав пару дней, чтобы усыпить бдительность семьи, она отправилась на Гостиный двор в лавку Касыма.
В сводчатой палате лавки, освещённой масляными лампами, было тесно от ковров, халатов, цветных тканей, сёдел и больших медных кувшинов. Здесь пахло пылью, дублёной кожей, сандалом, воском, крысами и сушёной гвоздикой. Толстый приказчик — саркор Сарыбек — стоял навытяжку, а Ходжа Касым бил его по лицу какой-то тряпкой и ругался по-чагатайски:
— Ты думал, Сарыбек, что я погибну и не узнаю про твоё воровство?
— Я не обманывал тебя, мой господин! — зажмуриваясь, уверял Сарыбек. — Молю тебя о прошении! Это была всего лишь ошибка!
— Разве Фархад мог ошибиться, продавая сорок локтей термезского сукна по цене тафты из Жаркента? Или старый Фархад потерял свои глаза?
— Это Асфандияр обманщик, а не я! — сваливал свою вину Сарыбек.
— Нариман сказал мне, что ты велел ему для лишнего веса подсыпать в перец толчёную соль! У Хамзата под столом я нашёл сточенные гири! Ты, шакал, крадёшь не только мои деньги, но и моё доброе имя!
— Дядя Касым, — позвала Маша.
Касым оглянулся, опустил тряпку и натужно улыбнулся.
— Дозволь поговорить с тобой.
— Уходи, наш разговор ещё не окончен, — бросил Касым Сарыбеку.
Сарыбек боком выскользнул из лавки.
— Прости меня, что осквернил твой взгляд этими недостойными делами, но я не терплю воров, — Касым поклонился. — Что тебе угодно, моя роза?
— Дядя Касым, ты правда был в плену? — робея, спросила Маша.
— Да, Мариам, был, — сказал Касым и внутренне насторожился. — Моё путешествие сложилось несчастливо. Караван, в котором я ехал, подвергся нападению. Я потерял слугу, лошадь и весь свой товар и томился в неволе, пока страдания не вынудили меня пообещать выкуп за свою свободу.
— А ты видел в плену поручика Ваню Демарина?
Касым полез куда-то за прилавок, вытащил скамеечку и усадил Машу, как боярыню, а сам сел напротив на короб и прижал руки к груди.
— Я видел его, Мариам, — сказал он, и у Маши перехватило дыхание: наконец-то хоть кто-то видел Ваньку! — Это самый благородный юноша из всех, кого я знал. Подвергая себя опасности, он спас меня от ножа убийцы.
— Он жив? — шёпотом спросила Маша.
Сердце её превратилось в камень. Сейчас она услышит главное.
— Да, он жив, моя роза. Он остался в плену у зайсанга Доржинкита.
Неверной рукой Маша убрала с лица упавшую из-под платка прядь.
— А что будет с пленными, дядя Касым?
Маша много раз слышала рассказы отца про всяких пленных. Кого-то продавали в Хиву, кого-то выкупала родня, кого-то — воевода, кто-то бежал.
— Твоя душа скорбит о пленных или о Ване?
— О Ване.
Касым изучал Машу. Хитрость тожира безошибочно подсказывала ему, где возможна выгода, и сейчас он видел, что тревогу этой красавицы он легко сумеет обернуть себе на пользу. Всё-таки пятьдесят лянов золота, которые он должен заплатить за Демарина, — это большие деньги.
— Будь со мной откровенна, Мариам, и я тоже буду с тобой откровенен, — предложил Касым. — Этот юный воин овладел твоими мечтами?
Маша густо покраснела.
— Не отвечай, я всё понял! — Касым отвернулся и прикрыл лицо ладонью, а потом повернулся обратно. — Я договорился с зайсангом, что выкуплю Ваню, твоего возлюбленного и своего друга. Но зайсанг очень жаден. У меня нет столько денег, сколько он хочет получить.
— А сколько надо? — наивно спросила Маша.
— Я не могу оскорблять твой слух словами о деньгах, — виновато сказал Касым. — Пусть твой отец придёт ко мне, и я назову ему необходимую цену. Твой отец попросит денег у губернатора, который его любит и почитает. Ведь Ваня — человек вашего царя, и его следует выкупить за счёт казны.
Касым смотрел на Машу и улыбался. Он был доволен собой: если за Ваню заплатит губернатор, это будет большая удача.
— Батюшка? — переспросила Маша и помрачнела.
— Заплатить за любовь деньгами — это всегда недорого, — сказал Касым.
Маша несколько дней думала над предложением бухарца. Она очень боялась батюшки, но потихоньку разгоралась решимостью. Ведь речь шла не о баловстве, речь шла о жизни Вани Демарина! И деньги батюшка не из своего сундука достанет! Батюшка не любит Ваньку? Ну что ж… бывает. Но не батюшке ведь за Ваньку замуж выходить. Потерпит. А ей самой нельзя поддаваться страху перед батюшкой. Нельзя затаиться и смолчать, надеясь, что как-нибудь всё само утрясётся. Бог её видит. И одних молитв для божьей помощи мало. Надо делом доказать, что Ванька ей нужен, и нельзя ему пропадать в степи. Надо себя отринуть, тогда и Господь протянет руку.
Раскрасневшись от страха, обмирая, Маша пошла к батюшке.
Семён Ульяныч и Леонтий были во дворе, пилили бревно, лежащее на козлах. Маша остановилась, сжала кулаки и окликнула Семёна Ульяныча:
— Батюшка, я сказать хочу.
От бревна отвалился чурбак. Семён Ульяныч и Леонтий распрямились.
— Ну, давай, — дозволил Семён Ульяныч, обмахивая потное лицо шапкой.
— Ваня Демарин у степняков в плену! — звонко сказала Маша. — Дядя Касым на него выкуп собирает! Он просит тебя сходить к Матвею Петровичу и денег на Ваню попросить!
Семён Ульяныч остолбенел от потрясения. Маша стояла, вытянувшись перед ним в струну, будто ожидала, что в неё будут стрелять, но не желала молить о пощаде. Разве она просит о чём-то дурном?
— Да ты умом тронулась, сестрёнка? — тихо спросил Леонтий.
Она что, забыла, какое горе Ванька принёс в их семью?
И Маша обрушилась в душе. Не гнев отца надломил её, а слова Леонтия. Если даже Лёнька ей не друг, на кого ещё ей надеяться? Лицо у Маши словно лопнуло. Она упала на колени и зарыдала, закрываясь руками.
Леонтий кинулся к отцу и обхватил его, не давая наброситься на Машу с кулаками. Семён Ульяныч колотился в руках сына и орал, надсаживаясь:
— Какой Касым?! Какой губернатор?! Да я пальцем не пошевелю ради Ваньки твоего! Он Петьку на службу сманил, и где теперь Петька?! В степи лежит, вороньё его дёргает! Мать и могилы не увидела!.. У тебя брат погиб из-за этого худородыша, а ты по нему расщелявилась! Совести у тебя нет! Я сам тебя убью, Машка! Пусть он в бездне пропадёт, Ванька твой неистовый!
Глава 5 Расход в большой торговле
О тяжких бедствиях, выпавших на долю гишпе-диции Бухгольца, Матвей Петрович слушал с увлечением, хотя и не подавал вида. Бухгольц докладывал о внезапном нападении джунгар, о скорбуте и моровой язве, о холоде и гибели обоза. Князь Гагарин искренне сочувствовал и несчастным солдатикам, и даже полковнику, но умом понимал, что всё это — лишь расход в большой торговле. Так надо, и ничего не поделать. Матвея Петровича занимал другой вопрос: сочтёт ли богдыхан сделанный вклад достаточным?
Увы, узнать удастся не скоро. Последнему каравану в Китае не чинили препятствий, но караванный водитель — купчина Григорий Осколков — вдруг заболел на обратном пути и скончал свои дни в степях Мунгалии. Его тело довезли до Байкала и погребли в Посольском монастыре. Осколков уже не поведает губернатору Гагарину, к какому решению склоняется Лифаньюань. А новый караван ещё не готов. Его собирают в Москве верные сотоварищи Матвея Петровича купцы Евреиновы, братья. Они написали, что уламывают Михайлу Гусятни-кова ещё раз сходить в Пекин. Вот когда гружёные телеги Гусятникова подкатят к воротам в башне Супруги И в Великой Стене, тогда и станет ясно, удовлетворён ли богдыхан стараниями князя Гагарина.
— Все свои обстоятельства я исчерпывающе изложил в мемории для Сената и государя, — сказал Бухгольц и кивнул на Дитмера: — А своеручную копию оной передал для вас господину секретарю.
Дитмер молча показал Матвею Петровичу стопку исписанных листов.
Гагарин, Бухгольц и Дитмер сидели в губернаторской палате Канцелярии. Все трое были при полном параде: в камзолах, париках и со шпагами. Разговор предстоял совсем не дружеский.
— Реляцию твою, полковник, я уяснил, — вздохнул Матвей Петрович. — Однако же приказ государя следует исполнить. На это мне и светлейший указал. Придётся нам собрать и снарядить другие полки и повторить поход.
Загорелое и обветренное лицо Бухгольца окаменело.
— Сие невероятно, господин губернатор, — твёрдо заявил Бухгольц. — Нам не уравнять сил. У степняков авантаж в десятки тысяч, и скопление супротив Китая они имеют как раз на Шёлковом пути, на коем стоит Яркенд.
— Следует разъяснить им, что ты идёшь без брани, — с иезуитским смирением посоветовал Гагарин, — и воинские преимущества утратят угрозу.
— Полагаете, я этого не делал? — сквозь зубы спросил Бухгольц.
— Не вижу необходимости убеждать тебя, господин полковник. Поход на Яркенд есть приказ государя. Изволь постараться.
— Вынужден отказать! — жёстко ответил Бухгольц. — Вторая попытка обречена на ещё больший неуспех, нежели первая!
— Да куда уж больше-то? — хмыкнул Гагарин.
Он отлично понимал, что Бухгольц прав, но не мог не настаивать на втором походе. Матвей Петрович знал Петра Лексеича: государь разъярится и взыщет с губернатора: почему не повторил гишпедицию? Ежели Бухгольц согнёт выю, снова пойдёт в степь и погибнет в сражениях — хорошо: это ещё больше удовлетворит богдыхана. А ежели Бухгольц воспротивится, то он и будет виноват. А губернатор сбережёт людей и деньги.
— Не хочу порочить тебя, полковник, но чую за тобой трусость, — как бы невзначай обронил Матвей Петрович.
Он хотел разозлить Бухгольца, вывести из себя, заставить при Дитмере нагородить такой крамолы, что хоть «слово и дело!» кричи. Впрочем, Матвей Петрович не сомневался, что Бухгольц был устрашён степняками, но в этой робости Гагарин не видел ничего дурного и позорного; наоборот, опасение было весьма даже разумно. Все люди боятся. Но не все люди — полковники.
— Я офицер, господин губернатор, и могу вызвать вас на поединок!
«Попал!» — убедился Матвей Петрович.
— Это мнение о тебе составляю не только я, — заметил Гагарин.
Он растравлял Бухгольца, как пса.
Бухгольц поднялся на ноги и одёрнул мундир.
— Господин губернатор! — озлобленно и строго сказал он. — Я принимаю на себя всё неудовольствие государя и согласен ответить своей головой! Я не боюсь смерти! Однако же вести солдат на верную и бесславную погибель я отказываюсь! Того требует от меня честь офицера!
— Я напишу государю о твоём решении, — предупредил Гагарин.
— Как угодно. Я тоже напишу государю об этом!
Бухгольц развернулся и, звеня шпорами, шагнул к выходу.
Дитмер смотрел на Матвея Петровича вопросительно.
— Вот и славно, что он долдон, — ухмыльнулся Матвей Петрович. — Не надо будет на новое войско вдругорядь раскошеливаться. Казна губернская пуста, как колокол. Из своего кармана бы вынимал.
А Ивану Дмитриевичу было очень горько. Пусть губернатор подлец, но укорять его не в чем. Укорять следует только самого себя и боле никого. Он уже не мог возглавить второй поход, ибо сие означало, что в первом походе он отпраздновал труса, а теперь пытается восстановить доброе имя. Ежели первый поход он свёл на ретираду, дабы спасти солдат, то и дальше должен спасать солдат — должен препятствовать второму походу. Как иначе? Надо блюсти избранную стратегию. На кону его честь и даже его жизнь. Вроде бы он, полковник Бухгольц, не совершил недостойного дела, но невозможность прежней простоты поступков угнетала его, как тайное злодеяние.
Иван Дмитриевич сидел у себя в Воинском присутствии, приказав Тарабукину никого не впускать, и мучился над новым письмом государю. В сенях раздались шум, топот, сдавленная ругань, и в горницу вступил высокий краснорожий старик с седой гривой. На его широких плечах, несмотря на август, висела дорогая соболья шуба, распахнутая по всей длине. В двери какой-то дюжий мужик удерживал, облапив, вырывающегося Тара-букина.
— Я его не пущал! — крикнул Тарабукин. — Позвать караул?
— Господин полковник, я есмь обер-фискал Алексей Яковлев Нестеров, — с важностью назвал себя старик. — А се сын мой Николай, помощник.
— Уймись, Тарабукин, — распорядился Бухгольц. — Что нужно, Нестеров?
— Поставлен государем искоренять мздоимство подданных.
— Ну, искореняй, — раздражённо сказал Бухгольц.
— Должно допросить тебя на предмет снаряжения твоего похода.
Иван Дмитриевич сунул перо в стакан. Нестеров возвышался над столом Бухгольца прямой, как доска. Николай торопливо подтащил сзади к отцу лавку и поднял отцовскую шубу за нижний край. Нестеров не глядя сел.
— Допрашивай, — предложил Бухгольц.
— Довольно ли на твой поход запасено было различных воинских орудий, провианта и фуража?
— Всё в реестрах указано.
— Я не о числе спрашиваю, а о достаточности.
Бухгольц задумался.
— За потерей коней и быстрой убылью солдат всего имелось в достатке.
— Солдаты брешут, что повальный мор проистёк от неимения аптеки?
— Аптеки не было, это верно, — мрачно кивнул Бухгольц. — Однако же она была спасением от скорбута, но не язвы. От неё единственным средством обережения нам служило удаление больных от здоровых, но за теснотой в осаждённом ретраншементе сие осуществить не располагал возможностью.
— Значит, припасы по табелям сполна получены?
— Всё сполна, — подтвердил Бухгольц. — Я сверял.
— А цена припасов потраченной на них казне отвечала?
— Сим заведовал капитан Ожаровский, — сухо сообщил Бухгольц.
— Надобно вызвать его ко мне.
— Он убит.
Нестеров засопел, будто на всём ходу влетел в тяжёлый подъём.
— Спрошу прямее, — насупился он. — Имеешь ли обиду на руковождение в закупках персоной губернатора?
— Не имею, — отрезал Иван Дмитриевич.
— Дай мне денежные книги войска на изучение.
Как всякий военный, испытавший себя в бою, полковник Бухгольц был предубеждён против разных штабных служак и штатских казуистов, которые решали судьбы солдат вдалеке от пуль и картечи.
— Не дам, — сказал он. — Верховенство в военном деле принадлежит губернатору, вот у него и требуй.
Нестеров завозился в своей шубе, поворачиваясь как-то боком.
— Слушай, Бухгольц, — заговорил он утомлённо и свысока, — ведь твой Гагарин — вор отчаянный. Ты сам сие ведаешь. Не может быть, чтобы он из твоей казны не покорыстовался. Где вода текла, там всегда мокро бывает. Дай мне денежные книги, пока он их не подчистил. Найду его воровство — с тебя же царь за неудачу спрос убавит.
Иван Дмитриевич едва не зарычал от мерзости этих слов.
— Не честь для офицера свою вину спихивать! — хрипло ответил он.
Он понимал, что ничего хорошего от Петра Алексеевича ему ждать не приходится. Он отступил, и это позор. Царь бил шведов на их земле, взял Гельсингфорс и Турку, в морской битве при Гангуте сам бросился с саблей на абордаж, — а полковник Бухгольц уступил каким-то диким степнякам!.. Разжалованьем в солдаты тут не отделаешься. Государь его повесит.
— Спесью своей ты токмо гагаринское казнокрадство покрываешь! — яростно прошипел Нестеров.
Обер-фискал был прав. И он не просил ничего незаконного или дурного. И всё же в том, о чём он просил, была какая-то низость.
Иван Дмитриевич, проклиная себя, вытащил из-под бумаг на столе журнал учёта денежных трат и бросил Нестерову.
…Ас севера опять надвигалась осень, словно весы Вселенной качнулись в другую сторону. По осиновым урёмам в лощинах ползли пятна желтизны, потихоньку вытесняя собою зелень; тайга непримиримо темнела, сплочённо и густо щетинясь; вверх по течению рек подымалась стылая синева; трава полегла; болота и старицы тихо вскипали туманами; в небе рябили гусиные стаи, прощально курлыкая над Алафейскими горами; прибылые волчата учились выть на луну вместе с матёрыми волками. Мир словно освобождался от излишней суеты и тесноты, пустел, стелил постель для будущих холодов.
Матвей Петрович приходил посмотреть, как в последние погожие дни каменщики Ремезова торопливо строят кремль. Завершить всю работу за пару месяцев, конечно, было делом немыслимым, и Семён Ульяныч поставил себе целью просто перекрыть верхи стен пятью-шестью слоями добротного свежего кирпича. Прежняя кладка под временными кровлями обветшала, а новая кладка укрепит её и предохранит от дальнейшего разрушения.
— Хоть на вершок, а вперёд, — дружелюбно сказал Гагарин Ремезову.
— Мёртвому припарки, — тотчас ответил Ремезов.
— Ты не сердись на меня, Семён Ульяныч, — искренне попросил Матвей Петрович. — Меня вон давеча владыка поучал, что не надо, мол, желать сделаться лучше всех. Надо желать, чтобы сегодня ты стал лучше, чем был вчера. А мы — хоть на два ряда — но всё же нарастили стройку. Я добра хочу.
Семён Ульяныч промолчал.
— И о Петьке твоём я тоже скорблю.
Семён Ульяныч шмыгнул носом, дёрнулся, чтобы отойти от Гагарина, но остался на месте. Была в Матвее Петровиче та душевность и щедрость, которая вновь и вновь возрождала доверие к нему.
Когда на Тобольск посыпались обложные дожди, у губернатора снова объявился обер-фискал Нестеров. Николай принёс в канцелярию записку с требованием приватной встречи. Матвей Петрович, предчувствуя очередные козни, пригласил Алексея Яковлевича к себе в дом.
Он встретил фискала в кабинете: сидел, развалясь, в кресле-корытце, и не встал, чтобы поклониться гостю. Нестеров сбросил шубу в сенях и был в кафтане старинного свекольного цвета и прадедовского покроя — прямом и длинном, как труба, с двумя рядами пуговиц от горла до колен.
— Выйди вон, — повелел Нестеров лакею Капитону.
— Выйди, — со вздохом сказал ему и Матвей Петрович.
Капитон затворил дверь кабинета.
— Изучил я расходные книги Бухгольца, — Нестеров говорил свысока, неохотно, словно делал Гагарину одолжение, — цифирь с цифирью сложил, и не сошлось у меня.
— Ну, переложи, чтобы сошлось.
— И так, и эдак перекладывал — всё одно прореха остаётся. Да и не прореха, а дырища огромадная. Сорок тыщ рублей недостачи.
Матвей Петрович едва не застонал. Если бы он воровал у Бухгольца из воинской казны, то сам и подогнал бы расход к приходу, не поленился бы. А он собирал Бухгольца честно и не озаботился проверкой. Видно, подвела его хозяйская привычка хватать деньги откуда попало, ведь всё вокруг своё, — не глядеть на повытья, не разделять канцелярские столы, путать статьи. Обычно потом секретари наводили порядок в записях, но это случалось только к Рождеству, когда завершался учёт податей и прибылей от осенних ярмарок.
— Значит, Бухгольц шельмовал, — Матвей Петрович пожал плечами, не показывая, что Нестеров уцепил его за живое.
— В сей губернии, князь, есть лишь один карман, в который столько влезет, — презрительно ответил Нестеров. — И оный карман твой.
— А докажешь?
— Иначе и не явился бы.
Матвей Петрович внимательно рассматривал Алексея Яковлевича.
— Откуда ты такой вылез, Нестеров? — задумчиво спросил он.
И вправду, откуда берутся такие настырные преследователи? Ведь не для мощи государства фискал старается, не для истины, это же видно. Матвей Петрович помнил Нестерова по Сибирскому приказу. Услужливый был дьяк, перед начальством спины не разгибал, дотемна в палате сидел.
— Своими трудами пред государем Петром воздвигся, Матвей Петрович, — гордо сказал Нестеров. — Своими трудами.
— Какой труд доносы писать? — презрительно хмыкнул Гагарин.
— Грязный труд, Матвей Петрович, ну дак я и сословия грязного.
И это Матвей Петрович тоже помнил. Нестеров был родом из деревни Хрущёвка под Лебедянью: холоп думного боярина Федьки Хрущёва. При боярине стал откупщиком по своей деревне, а потом и по вотчинам хозяина. И секли его у коновязи, и в зубы били, и в холодную кидали — всё было. Но он выкупился на волю, пропихнулся в прибыльщики, а в конце концов занял Ясачный стол в Сибирском приказе. Там и приметил его боярин Стрешнёв, московский губернатор. И дело пошло куда веселее. Алексей Яковлевич женился на столбовой дворянке Тютчевой, а сына женил на дворянской дочери Уваровой. Свалив своего начальника Желябужского, Нестеров стал обер-фискалом. А главные победы он одержал над сенаторами Волконским и Апухтиным. За лихоимство сенаторов приговорили к плахе, но в последний миг государь заменил топор на клещи и разорение: на Троицкой площади в Питербур-хе Волконскому и Апухтину вырвали языки, а имения сенаторов, выплатив фискалу половину их цены, забрали в казну.
— Видать, с холопьих времён ты привык коням под хвосты заглядывать, — презрительно сказал Нестерову Гагарин.
— Лошадками-то не брезгуй, губернатор, — ответил фискал. — У вашей кавалерии под шубами погрязнее будет.
Матвей Петрович понял. Ежели один человек разоблачает другого во имя правды, то им движет обжигающий гнев. А Нестерова поджаривала гордыня. Ему зазорно было стоять ниже бояр и дворян. Он завидовал.
— Взяли смерда на воеводство, так смерд на барина и пошёл войной, — насмешливо сказал Матвей Петрович.
— Милостью государя я тоже нынче барин, — с превосходством возразил Нестеров. — Именьями награждён. Не одним князьям с серебра кушать.
Ну, теперь ясно, что делать.
— Хорошо, — Матвей Петрович шлёпнул ладонями по коленям. — Значит, сорок тыщ с меня. Возьмёшь пушниной или товарами?
— Деньгами, — надменно указал Нестеров.
— Денег нет в казне. Есть золото из курганов.
— Деньгами, — повторил Нестеров.
Совесть у Матвея Петровича словно скорчилась от невыносимого неудобства. Деньги у Гагарина были только на кремль для Ремезова.
— Червонцами всего десять тыщ, — с неохотой выдал он.
Нестеров старчески жевал губами, размышляя.
— Приму и десять тыщ, — помолчав, согласился обер-фискал. — Ежели подашь с колена и руку мне поцелуешь, князь.
Сердце Матвея Петровича опалила чистая ненависть к этому старому и спесивому подлецу, даже лицо заполыхало. Мысли закрутились вихрем. Убить Нестерова как-нибудь потихоньку? Высечь его на конюшне? Донос написать Петру Лексеичу? Нет, ничего не спасёт. Всё откроется и только усугубит вину губернатора. Увы, надо всё принять как есть. Испить горькую чашу унижения. Дерзал своевольничать? Плати! Речь сейчас не о прибыли идёт — о жизни. Ох, грехи, ох, тоска… Но никто ведь об этом не узнает. Нестерову оно не для славы надобно, он не будет болтать. Поклон фискалу — не «коутоу» богдыхану. Надо считать всё это торговой сделкой. В торговле нет бесчестья, в ней один лишь расчёт; он ведь не душу сатане закладывает.
«Хватит скулить!» — оборвал сам себя Матвей Петрович.
— Ох, не дрожал ты у царя под топором, — сокрушённо прокряхтел он.
Матвей Петрович делал вид, что подобное бесчестье ему привычно, значит, никакой особой победы над ним фискал Нестеров не одержал: унижение князю и копейки не стоит.
Он тяжко встал с кресла, подошёл к сидящему фискалу и опустился на колени. Нестеров закрыл глаза и задрал подбородок, будто в молении. Вот оно, — торжество! Перед ним, бывшим холопом, преклонялся Рюрикович!
— Прими благодарение, Алексей Яковлевич, и окажи милость, покрой вину, — попросил Матвей Петрович и поцеловал руку фискала.
— А ты кайся, Гагарин, — прозвучало сверху. — Ты перед Богом виноват.
«Сумею забыть, не впервой бьют», — подумал Матвей Петрович.
На следующий день лакей Капитон принёс Нестерову в дом кованый сундучок с десятью тысячами Гагарина. Алексей Яковлевич принял сундучок и сел за стол пересчитывать червонцы. Рядом разложил бумаги Николай.
— Как закончишь, батюшка, начертай титлы, — негромко попросил он.
Алексей Яковлевич по-крестьянски основательно сосчитал монеты на два раза, а потом ещё и на третий раз. Всё верно. Заперев сундучок на замок, он взял перо и расписался в бумагах Николая. Это были три одинаковых списка — доносы на губернатора Гагарина с обвинением в растрате сорока тысяч из казны Бухгольца. К обвинению Нестеров присовокупил и свои соображения о том, что оная растрата послужила причиной неудачи похода.
— Всё, — подвёл итог Алексей Яковлевич. — Завтра выезжай. И поспеши, Николай, пока реки льдом не взялись. Верхотурскую таможню объехай через Уктусский завод на Кунгур — мало ли, какую западню Гагарин приготовит. В Питербурхе одно доношение дома под половицы спрячь, второе — в Сенат секлетарю, третье — государю.
— А ежели Пётр Лексеич из-за границы не вернулся?
— Тогда гони по всем Саксониям. Ищи его, хоть в окияне на корабле, и предай прямо в ручки.
— Деньги потребны, батюшка.
Алексей Яковлевич положил на стол ключик от сундучка с червонцами.
— Дозволяю принять пятьсот рублёв. А сундучок дома в подполе зарой.
Николай принялся привязывать ключ на гайтан с нательным крестом.
— Не напрасно ли стараемся, батюшка? — спросил он.
— Не напрасно, — уверенно ответил Алексей Яковлевич. — С пушной казной Гагарин в тот раз выкрутился, а с деньгами Бухгольца — дело верное.
— Сорок тыщ — князьям не барыш, — вздохнул Николай. — Светлейший вон по сотне берёт. Разгневается царь, что по мелочам его дёргаем, и нам же хуже будет, а Гагарину всё как с гуся вода.
— А ты доноси с умом.
— Научи, батюшка, — тотчас с интересом попросил Николай.
— Напомни царю о выкупе для Мехмед-паши.
Пять лет назад Пётр Лексеич водил армию на войну против турок. На реке Прут янычары окружили царскую армию и готовы были порубить всех под корень. Граф Шереметев и вице-канцлер Шафиров вступили в переговоры с турецким военачальником визирём Мехмед-па-шой и выкупили выход из западни за сто пятьдесят тыщ. Деньги эти государь потом собирал со всей державы. От Сибирского приказа князь Гагарин дал пятнадцать тыщ.
— А к чему тут Мехмед-паша? — удивился Николай.
— На царя Гагарин тогда пятнадцать тыщ дал, — наставительно пояснил Алексей Яковлевич, упиваясь своим хитроумием, — а на себя ныне сорок тыщ украл. Пущай Пётр Лексеич сравнит, кого Гагарин выше ценит.
Глава 6 От кости Бодорхона
Нойон Цэрэн Дондоб предупредил зайсанга Онхудая, что тому не стоит появляться в Куль-дже, где разместил свою юргу контайша Цэ-ван-Рабдан. Однако Онхудай пренебрёг советом Дондоба. Может, нойон сказал глупость? Немилость контайши угнетала Онхудая, он не мог терпеливо переносить это испытание вдали от контайши. В своём улусе он привык к подчинению и полагал, что люди покоряются именно ему, Онхудаю, а не званию зайсанга, которым наградил его контайша, а потому решил, что лицом к лицу Цэван-Рабдан тоже уступит и откажется от немилости. Онхудай забрал пленников и начал перекочёвку в Кульджу. Ваню Демарина он оставил в Доржинките.
Кульджа была исконным городом ойратов: по преданию, Чагатай, сын Чингиза, от горного озера Сайрам двинулся в казахские степи, и его войско прорубило в неприступном и диком хребте Борохоро узкое ущелье Талыч, по которому Чагатай вышел к реке Или. Здесь, в плодородной долине, монголы заложили город Куль-джу. Говорили даже, что сам Чингиз нашёл вечное упокоение на Или: его погребли в огромном бархане, и с тех пор бархан неумолчно воет, стонет и шепчет, переполненный бесчисленными песнями о свершениях своего хозяина. После монголов за долину Или боролись казахи и китайцы; китайцы называли Кульджу городом Инин. Хан Галдан Бошогту вернул Кульджу ойратам. А контайше Цэван-Рабдану понравилось жить на шумной реке Или — подальше от китайцев, Кукунора, Тибета и Халхи.
Онхудай приблизился к Кульдже в самой середине лета. Разбивать юргу в пределах города он не осмелился и встал на берегу Или поодаль, а в Кульджу послал надёжных дайчинов. Дайчины принесли хорошую весть: Цэрэн Дондоб с войском уже покинул Кульджу и сейчас лезет через ледяные перевалы Куньлуня в Тибет. Значит, нойон не будет наговаривать контайше на зайсанга. Онхудай ободрился. Но вскоре в его юргу приехал тайша Буурул — советник Цэван-Рабдана, всем известный эмчи.
— Зачем ты явился сюда, зайсанг? — спросил эмчи. — Нойон Дондоб ясно указал тебе, что контайша не пожелает увидеть Онхудая из Доржинкита.
— Я имею такое же право на расположение контай-ши, как любой другой зайсанг, — гордо ответил Онхудай.
— Не имеешь, — спокойно возразил Буурул.
— Мой прапрадед был повелителем всех ойратов, — напомнил Онхудай. — Мой дед был братом джунгарского контайши. Я не собака.
Ханай-нойон Хонгор, прапрадед зайсанга, был признан всеми ойратами чулган-даргой. Его слово решало всё. От разных жён у него было пять сыновей — пять «тигров». Старший из «тигров» нойон Байбагас сто лет назад привёл хошутов в Сибирь, занял верховья Иртыша, Ишима и Тобола и основал город Доржинкит. В те годы свирепый Алтын-хан Шолой Убаши, монгол, захватил Джунгарскую равнину, и джунгары тоже попятились на Иртыш. Байбагас и джунгарский тайша Хара-Хула объединили свои силы и сразились с монголами в урочище Намчи. Монголы были разбиты, а Шолой Убаши погиб. Его тело бросили в Иртыш. Но потом Байбагас рассорился с братом Чокуром, другим «тигром», и Чокур убил Байбагаса.
У Байбагаса остались два сына — Аблай и Очирту. Аблай получил от отца в наследство шестьдесят тысяч дымов — кибиток, а Очирту — семьдесят тысяч. Через много лет Очирту возглавил джунгар и получил от Далай-ла-мы имя Цэцэн. Но на излёте жизни Очирту потерпел горькое поражение в войне с Галданом Бошогту, дядей Цэван-Рабдана, и попал в плен. В плену он и умер. Джунгарию взяли в руки надменные потомки Эрдени-Бату-ра — Сенге, Галдан-Бошогту и Цэван-Рабдан. А потомки Байбагаса и Аблая прозябали в своём улусе на Иртыше — на дальней окраине ойратской вселенной.
— Не надейся меня обмануть, Онхудай, — устало сказал эмчи Буурул. — Сын Аблая не продолжил его род мужчинами, и ты — сын его дочери Цэлмэг-ану. Ты унаследовал место зайсанга от дяди, а не от отца. Твоя кость — кость Бодорхона, а не Чороса. Потому уходи на Иртыш и жди милости там.
Онхудай засопел от безвыходного гнева.
— Сколько стоит милость контайши? — задыхаясь, спросил он.
— Контайша любит изумруды.
— У меня их нет.
— Ещё ему нужны пушки.
— У меня их тоже нет.
— Тогда поди и разбей казахов Богенбая. Ты же великий воин.
— Ты смеёшься надо мной!
— Найди сам, чем может угодить контайше внук Аблая и правнук Байбагаса, — холодно сказал Буурул. — А сейчас покинь берега Или.
И Онхудай ушёл, оставив невольников в Кульдже. Для подарка Цэван-Рабдану он не мог придумать ничего, кроме золота, а золото — пятьдесят лянов за орыса и пятьсот лянов за Улюмджану — он надеялся получить от Ходжи Касыма. Вернувшись в Доржинкит, Онхудай забрал орыса и двинулся в Тургайские степи, где у хана-ки Чимбая он назначил Касыму встречу.
А Ходжа Касым в это время готовил выкуп Вани Демарина.
Дела у Касыма шли прекрасно. Лавки бойко торговали, а из Берёзова от коменданта Толбузина по Иртышу поднялся дощаник с пушниной — восемь берестяных коробов, обмотанных сыромятными ремнями. Чтобы не дразнить таможенных дозорщиков и ларёчных смотрителей, дощаник разгрузился у Сузгун-горы за три версты до Тобольска, и короба доставили в амбар Касыма ночью на лёгких шитиках. И в доме у Касыма тоже всё было благополучно. Вернувшись из поездки к джунгарам, Касым увидел, что Хамуна как-то мягко оживилась: его лола ур-мондан наконец-то зацвёл. Хамуна улыбалась и на ложе впервые ответила мужу неумелой нежностью, хотя в глазах её всё равно осталась тёмная тайна, словно в глубине проруби. И даже в Назифе, которую Касым наградил одной из ночей, исчезло прежнее ожесточение.
— Что случилось с тобой и Хамуной? — спросил Касым.
— Мы все скучали по тебе, — ответила Назифа.
— Ты била её? — Касым проницательно глянул на жену.
— Я не била её, ведь ты мне запретил делать это.
Касым внимательно осмотрел Хамуну. Медовое тело остячки показалось ему безупречным; он не обнаружил следов от плети на спине или на заду Хамуны, не нашёл синяков или кровоподтёков ни на ляжках, ни на грудях. Назифа не солгала. И Касым решил не доискиваться до причин пробуждения Хамуны. Может, и нет никаких причин: время сделало своё дело, примирило Хаму-ну с её участью, научило жить так, как выпало.
Касым часто думал о Ване Демарине. Он не испытывал благодарности за то, что этот офицерик спас его от ножа Юхана Рената. Касым не сомневался: Ваней руководило желание вырваться из плена. Ваня защищал не бухарца, а своё будущее. Ну и хорошо. Касым тоже действовал из выгоды, а не из человеколюбия, ведь он то-жир, а не праведник-салих. Тёплое чувство к Ване согревало сердце Касыма лишь потому, что Ваня был славным приобретением. Если всё получится, как надо, расходы на Ваню окупятся двадцать раз. Свалив Гагарина, Касым сможет вернуть себе Канифа-Юлы — древний путь в Бухару по Тоболу. Он обогатится на пушнине Толбузина, и ему не придётся платить Онхудаю за путь по Иртышу в Кашгар.
Встреча с Машей Ремезовой вселила в Касыма надежду обойтись вообще без трат. Таким хитрым поворотом дела Касым потешил бы и своё самолюбие: если Гагарин даст денег на выкуп Демарина, то оплатит свою погибель. В Бухаре ловкость тобольского тожира уподобят ловкости Ходжи Насредцина, и это честь. Но увы: никто из Ремезовых в лавке Касыма больше не появился. Касым выждал некоторое время и решил всё узнать сам.
Семёна Ульяныча он нашёл на строительстве кремля. Работники таскали доски и кирпичи, выкладывали стену, подбивая ряды, что-то сколачивали, обтёсывали, пилили, а Ремезов, потрясая зажатой в кулаке палкой, орал на мужиков, месивших в чане строительный раствор:
— Живее лопатами двигайте, курицы снулые! Золу раструсить надо! Ты чего песок в известь комом валишь, иуда? У тебя баба в щи тоже цельный кочан кидает или нашинкует его сперва?
— Салам, Семён-эфенди, — сказал Касым.
Семён Ульяныч оглянулся, опуская палку.
— A-а, это ты, — пробурчал он. — Чего хотел?
Ремезов всегда был крикливым и сварливым, но за шумным буйством у него прятались лукавство, тайное добродушие, понимание несовершенства людей и мира. А сейчас Касым почувствовал, что в старике остались одни только острые углы, одна только злая нетерпимость.
— Хотел спросить тебя, Семён-ата, будешь ли ты помогать мне с выкупом вашего офицера Вани Демарина. Мне к губернатору хода нет.
— Пусть этот фицер сдохнет у степняков! — отрезал Семён Ульяныч. — И пальцем не шевельну! А выручишь его — сам щенка утоплю!
— А как же твоя Мариам? — осторожно напомнил Касым.
— Обоих в мешок — и в Иртыш!
— За что такая немилость?
В глазах Ремезова блеснули слёзы.
— Убирайся отсюда, Касым! — крикнул он. — Не трави душу!
Что ж, Касым мог обойтись и без денег губернатора, хотя очень жалко. Но трудность открылась в ином обстоятельстве. Никто из бухарцев или татар не знал, где в Тур-гайских степях находится ханака Чимбая — Таш-тирма. И никто из тоболяков тоже не знал. Её место было известно лишь Леонтию Ремезову, который в прошлом году ездил на Трёхглавый мар бугровать. Правда, золото ему не далось. Леонтий рассказывал, что его ограбил зайсанг Онхудай. Однако Леонтий ведь не забыл дорогу к ханаке.
В эту осень Леонтий с сыновьями нанялся на купеческое плотбише собирать дощаники. Лёшке было тринадцать лет, а Леньке — одиннадцать: мальчишки уже годились для работы. Леонтий возглавлял артель.
Остов дощаника, сбитый из толстых брусьев, лежал на брёвнах-катках, закреплённых клиньями. Артель обшивала судовые рёбра бортовинами — длинными и широкими досками. Тяжелые бортовины поднимали снастями на «журавлях», придвигали к нужному месту и приколачивали железными костылями. Лошади тащили бренчащие ворохи разномерных досок с пильной мельницы на речке Абрамовке. Стучали топоры, скрипели верёвочные снасти, покрикивали коноводы, звенела и дымила кузня, где ковали скобяной уклад. Плотбище было загромождено кипами лыка на конопатку, кучами щепы, коры, лишней обрези и дров; чернели большие котлы, в которых будут топить смолу или дёготь, когда придёт время обмазывать судно. На чурбаках и на колодах сидели, как птицы, детишки и бабы: они принесли работникам обед. Ходжа Касым заметил Машу и, улыбнувшись, поклонился.
— Отбой, артель! — устало скомандовал Леонтий. — Полудничать!
Касым направился к Леонтию.
— Здоровья тебе, Леонтий, и сыновьям твоим, и тебе, Мариам.
Маша расставляла на тряпице горшки, Лёшка ломал хлеб.
— Как торговля, Касым? — спросил Леонтий, с кряхтеньем усаживаясь.
— Хвала Всевышнему, я в достатке, — Касым тоже уселся на полено.
— Наверняка тебе чего-то надо от меня, — усмехнулся Леонтий.
— Надо, — кивнул Касым. — Помнишь ли ты путь на Таш-тирму?
— Ещё бы, — Леонтий принял от Маши плошку с горячей кашей. — Мне там степняки чуть голову не снесли.
— Будь моим проводником на Таш-тирму. Я щедро заплачу.
— А что у тебя за нужда на пустом Тургае?
— Туда на выкуп привезут Ваню Демарина.
Касым снова широко улыбнулся и снова поклонился Маше. Маша застыла с поварёшкой в руке.
— Мне некогда. У меня артель, — помрачнев, отказался Леонтий.
— Попроси Семёна подменить.
— Лёнька, братик, помоги дяде Касыму! — вспыхнула Маша.
— Помолчи, Мария! — недовольно одёрнул её Леонтий и тяжело вздохнул. — Не умею я врать, Касым, — признался он, — но батя у нас на Ваньку шибко серчает. Он меня проклянёт, ежели я с тобой поеду.
Маша побледнела, изумлённо глядя на Леонтия.
Касым задумчиво откашлялся в кулак.
— Где же мне проводника найти? — спросил он.
— Я тебе мужика посоветую из слободы под Царёвым Городищем. Он моим вожем был. Савелий Голята, бугровщик. Его найми.
— Плохой совет, — осторожно сказал Касым.
— Почему?
— На Ямыше в плену я много слушал Онхудая. Он любит похвальбу. Но он ни разу не похвалился добычей на Трёхглавом маре. Значит, добычи не было. И ты ничего не привёз в Тобольск. Но ведь кто-то же забрал золото. Я думаю, что бугровщики. Они тебя ограбили, хотя ты был человек от самого губернатора. И меня они тоже ограбят. Я — никто. Магометанин.
Леонтий хмуро молчал. Про бугровщиков Касым всё угадал правильно.
— Иным ничем не пособлю, — глухо произнёс Леонтий.
Касым провёл ладонями по лицу и встал.
— Огорчил, — кратко подытожил он и пошёл прочь.
Маша смотрела вслед уходящему Касыму, будто надеялась, что он остановится, а потом перевела гневный взгляд на Леонтия.
— А ещё братом называешься! — тихо сказала она со злыми слезами.
— Машка… — виновато пробурчал Леонтий.
— А что «Машка»? — она швырнула поварёшку в горшок. — Для Сеньки ты в огонь полез за Епифанькой-рас-колыцицей, а для меня?
Она отвернулась, но не заплакала. Сухие глаза её горели болью.
Лёшка и Лёнька боязливо отодвинулись от отца.
Машина обида занозой засела в душе у Леонтия. О Петьке он вспоминал с печалью, а вот про Ваньку Де-марина думал с раздражением — брехливый дурачок. Бессильная ярость бати тоже была понятна Леонтию: у бати должен быть кто-то виноват, иначе он со своей неуёмностью истерзает и сожрёт сам себя. И Машу Леонтию было очень жаль. Ведь он был старше неё почти на двадцать лет; пока пожилые батюшка с матушкой тетешкались с маленьким Петькой — ненаглядным поскрёбышем, Леонтий с Варварой растили Машу почти как дочь. Леонтий и сейчас считал её за дочку, а сестрёнкой называл лишь потому, что ей хотелось ощущать себя взрослой. А Маша тосковала по Ваньке. Что же делать с Ванькой?.. Касым и вправду его не выручит. Голята вероломный. Выпотрошит кошель у Касыма, а то и вовсе прибьёт бухарца: к ответу Савелия не призовут, ибо губернатор не жалует бухарцев и выжимает из Сибири. И останется Ванька в плену у степняков… Да при чём тут Ванька? Он, Леонтий, хочет утешить Машу. Леонтий сам был совестливый и Машу вырастил такой же. Ему казалось, что совесть-то и не даёт Машке жить. Пока Ванька в плену, Маша сама себе в счастье отказывает. А Володька Легостаев ещё не женат. Всякий раз, проходя мимо ремезовских ворот, он шаг умеряет. Будь Ванька в Тобольске, так отвесить бы ему пинка под зад, чтоб катился поскорее, и выдать Машку замуж за Володьку… Варвара давно сказала про него так, как только она умела говорить — всю суть в одно слово: «Жених!»…
Леонтий не выдержал душевных мук и ночью тихонько поделился с Варварой. Варвара выслушала и перевернулась на другой бок.
— Съезди, — через плечо сказала она.
У Леонтия словно камень свалился с души.
Однако надо было всё сделать так, чтобы Семён Ульяныч ни о чём не догадался. Леонтий сходил к Матвею Петровичу и объяснил ему дело.
— Вы, Ремезы, ухо из-под колена чешете, — сказал Матвей Петрович. — Одному кремль надо, другому — раскольницу, третий от батьки прячется.
— Трудно тебе, что ли? — укорил Матвея Петровича Леонтий.
— Да не трудно, — пожал плечами Гагарин. — Ладно, считай, что посылаю тебя на Каменский завод за табелями. Недели три хватит?
— Хватит.
— Только обратным путём и вправду на завод заедь.
— Заеду. Поклон тебе, Матвей Петрович.
Семён Ульяныч всполошился, когда услышал, что Лёньку посылают на Каменский завод. Он забегал по горнице, стуча палкой.
— Я с тобой! — решил он. — Давно хотел доменну печь начертить! И к отцу Исаакию в Далматову обитель надобно!
Леонтий заёрзал на лавке, краснея как девушка.
— Негоже, батя, — робко возразил он. — Не по летам тебе…
— Помалкивай про лета! — отсёк Семён Ульяныч.
Варвара в досаде забренчала чугунами в печи.
Ефимья Митрофановна внимательно разглядывала Леонтия.
— Останься со мной, старый, — вдруг попросила она супруга. — Вот умру — тогда накатаешься, наскачешься, козёл колченогий.
— Я те умру! — пригрозил Семён Ульяныч.
В конце октября Леонтий, Касым и татары, нанятые Касымом, выехали из Тобольска вверх по Тоболу — туда, где ветра гудели над степями Тургая.
Приближалась зима. Остывшая земля затвердела, как доска; копыта коней колотили по ней, точно молотки. Мглистые рассветы, казалось, еле выползали от малокровия. Равнины заиндевели тусклыми пятнами синевы. Бежали куда-то прочь косматые шары перекати-поля. Просторы безжизненно опустели, и мучительно-высокое небо словно ввалилось от голода.
Ходжа Касым размышлял о предстоящей встрече с Онхудаем. Степняк коварен, будто скорпион. На Ямыш-озере он забрал у Касыма пояс с золотом, а пай-цзу не отдал, пообещав сделать это, когда получит плату за Улюмджану. Но Касым никогда не заплатит ему такую безумную цену — пятьсот лянов. И сейчас Онхудай может повторить свою уловку: возьмёт золото, но не отдаст Ваню — дескать, отпустит его после выкупа за сестру. Как не угодить в эту ловушку снова? Касым поделился опасениями с Леонтием.
— Думаю, что зайсангу не следует видеть меня, — сказал Касым. — Если зайсанг увидит меня, то поймёт, что я очень желаю заполучить пленника; выходит, с его помощью можно принудить меня вернуть долг. Онхудай отнимет у меня пятьдесят лянов, но оставит Ваню себе как залог.
— И что делать? — спросил Леонтий.
Они ехали рядом и говорили негромко.
— Я укроюсь, а переговоры веди ты, — предложил Касым. — Зайсанг не будет требовать у тебя выкуп, который назначил другому. А про меня скажи, что я привезу ему золото зимой, когда поеду с караваном в Кашгар.
— Я-то скажу, мне не в тягость, — неохотно согласился Леонтий, — однако же вдруг что не так пойдёт? Не хочу быть виноватым.
— Всё будет хорошо, — заверил Касым.
Едва вдали на тёмной линии окоёма проступило крохотное остриё шатра над ханакой, Касым остановил лошадь.
— Подожду вас здесь, в лощине, — сказал он.
Леонтий с татарами поскакал дальше.
Онхудай с дайчинами и пленником явился к ханаке раньше, чем обещал. Он тоже боялся ловушки — помнил засаду, в которую попал здесь прошлым летом, и потому приехал так, чтобы никто не успел подстроить ему западню.
Леонтий с неприязненным любопытством разглядывал уже знакомые каменные стены и проломленный гранёный купол ханаки. Вон там прятался хитрый дьявол Авдоний со своими раскольниками — на кровле за кустами…
Заметив всадников Леонтия, джунгары быстро вскочили на коней и приготовили оружие. Леонтий поднял руку, подавая знак, что едет с миром.
Ваня Демарин тоже сидел на лошади. Ему связали запястья ремнём, а ремень намотали на луку седла; его лошадь держал в поводу один из дайчинов Онхудая, чтобы в случае нападения угнать пленника. Ваня не верил своим глазам: к ханаке едет не Ходжа Касым, а Леонтий Ремезов!.. Ваня не видел Леонтия уже больше года, и сейчас никак не мог насмотреться на человека, который показался ему родным до боли. Но откуда тут Леонтий?! Неужто Ремезовы простили его за Петьку и помогают освободиться?
— Дядя Левонтий! — растроганно крикнул Ваня.
Всадники Леонтия остановились в ряд напротив всадников Онхудая.
— Здорово, Ванька! — ответил Леонтий. — Ты жив?
— Жив! — ликующе крикнул Ваня.
Леонтий отметил, что Ванька не поменял свою одёжу на джунгарскую, ходил в истрёпанном, нехорошо забросил себя и оброс мягкой щетиной.
— Не робей, выручим, — ободрил его Леонтий.
Ваня в плену затосковал. Он был совсем один, всех прочих пленников ещё весной Онхудай увёл за собой в Кульджу. В Доржинките жили русские невольники, взятые степняками в набегах, но эти люди держались от Вани в стороне: они давно остепнячились, обасурманились, завели узкоглазых жён и детишек и забыли русскую жизнь. Они покорились судьбе и не желали травить душу воспоминаниями, Ваня был для них чужим. А непокорных невольников не было: рано или поздно они убегали из юрги, или погибали под плетями, или уходили на продажу в Хиву и навеки исчезали в Азии.
Без всякого дела день за днём Ваня уныло слонялся по Доржинкиту, наблюдая за работой гончаров, кожевников и ткачих. Он смотрел, как сушат аргал, как доят верблюдиц, как объезжают жеребцов, как гонят тарасун. Любопытнее всего было у дацана, где сновали лысые монахи в жёлтых хламидах; здесь стояли дуганы из крашеных кирпичей и высились пугающе огромные глиняные башни-субурганы; ветер трепал цветастые флаги на шестах. Монахи проводили какие-то свои непонятные службы, пели, дудели в дудки и бряцали медными тарелками. Может, это и увлекло бы Ваню, но он думал только о возвращении. Он не сомневался: Касым сделает всё, чтобы выкупить его; но уцелеет ли сам Касым среди опасностей степи?.. Ваня хотел домой. Хотел начать всё сначала — и службу свою, и дружбу с Ремезовыми, и любовь с Машей. То, что произошло в гишпедиции, было неправильным. Ваню мучило ощущение, что прошедший год был завален и загромождён каким-то хламом, каким-то безобразием: нелепыми и страшными событиями, чудовищными уродствами судьбы. И сам он был дурак со своими обидами, надеждами и постыдным, недостойным рвением к почестям.
И вот сейчас он увидел Леонтия — и душа перевернулась. Господь его помиловал? Господь выпускает его из темницы?..
— Я привёз выкуп за пленника, — сказал Леонтий и поднял кожаный кошель с золотом. — Пятьдесят лянов золотым песком.
Леонтий, конечно, узнал зайсанга Онхудая. Этот жирный степняк рубил головы бугровщикам на вершине кургана с раскопанным погребением.
— Почему пришёл ты, а не бухарец? — с подозрением спросил Онхудай.
— Бухарец собирает деньги за свою жену. Ему твой пленник не нужен. Он доставит свой долг тебе в Доржин-кит зимой, когда поведёт обоз.
Онхудай разозлился. С золотом Касыма он хотел прямо от ханаки отправиться в Кульджу, чтобы купить милость контайши, а бухарец отложил выплату! Онхудай мрачно размышлял, выискивая, в чём подвох. И откуда ему знакомо лицо этого орыса? Онхудай, прищурившись, зорко вгляделся в Леонтия. Это же бугровщик, которого он чуть не казнил в прошлом году!
— Я видел тебя! — Онхудай ткнул пальцем в сторону Леонтия. — Я не верю тебе! Ты грабил могилу! Ты кто? Назови себя!
— Леонтий Семёнов сын Ремезов, — с достоинством сообщил Леонтий. — Мой батька — старый Ремез. Его вся степь знает. И я — не вор. Могилу я грабил по приказу губернатора, нойона по-вашему, а не по своей воле.
— Старый Ремез? — удивился Онхудай.
Его дед Аблай дружил с каким-то Ремезом. Тот Ремез привёз деду в дар священную кольчугу великого русского батыра Ермака. Аблай дал ей имя — Оргилуун. Священную кольчугу просил у русских ещё прапрадед Байбагас, но ему русские ничего не дали, а вот Аблаю — дали. И оба они, Аблай и Ремез, спрятали железную рубаху где-то в степи. Только они знали, где.
— Твой отец — Улия? — спросил Онхудай.
Его кровь загорелась от предчувствия добычи.
— Ульян, — поправил Леонтий. — Это мой дед.
Онхудай понял: вот что он подарит контайше! Оргилуун — знаменитый доспех орысов! Такой подарок куда ценнее изумрудов и пушек!
— Я передумал отдавать тебе пленника! — заявил Онхудай.
Степняки, что окружали зайсанга, услышав такие слова, сразу встряхнулись и опустили пики, нацелив их на всадников Леонтия.
— А уговор? — опешил Леонтий.
— Я меняю цену! — ухмыляясь, сказал Онхудай. — За пленника ты отдашь мне броню Ермака! Твой род должен знать, где она спрятана!
— Так нельзя! — гневно воскликнул Ваня.
Один из джунгар ударил его в спину тупым концом пики.
— Погоди, зайсанг!.. — рассердился Леонтий. — Как же можно?..
— Будущим летом, когда пройдут найры, я привезу пленника на устье ручья Карагол! — Онхудай тронул свою лошадь, и она попятилась. — Запомни мои слова, Ремез! Привези железную рубаху на Карагол после най-ров!
Степняки поворачивали коней. Леонтий молчал, поражённый.
— Поклонись Маше, дядя Левонтий! — в отчаянье закричал Ваня, и джунгарин снова ударил его в спину тупым концом пики.
Степняки засвистели, заулюлюкали, раззадоривая себя, и поскакали прочь, опасливо оглядываясь на всадников Леонтия. Ваню снова увозили в плен. Холодная синяя степь простиралась во все стороны, не имея ни конца ни края. Перед ханакой дымил, угасая, маленький костерок.
— Ну и пособил же я Касыму… — снимая шапку, пробормотал Леонтий.
Глава 7 Никто и никому
Зима перестала прятаться: она уже не подсылала разведчиков в погреба, на чердаки и под застрехи амбаров, не устраивала тихих ночных налётов, она пришла днём — повсюду, широко и открыто. На Тобольск опускался первый снег. Валило так густо, что на улицах даже потемнело. Снег застилал все дворы, пустыри и площади; он по-хозяйски укладывался на все крыши — на дома, на амбары, на собачьи будки и кровли ворот; он не пропускал ни одной плоскости, даже самой маленькой и узенькой, ни одной щели меж досок, ни одного завитка на резьбе наличников, ни одной ветки рябины. Зима плотно наполняла собою город, как лодку нагружают припасами для долгого пути.
Григорий Ильич вытянулся на лежаке, обнимая Хомани, и смотрел в узкое волоковое окошко: там шевелился сумрак, оживлённый снегопадом. Снежинки влетали в каморку и оседали мокрой пылью. В убогой избёнке Григория Ильича — в бывшей бане — теперь уже было тепло. Осенью, когда завершились работы на стройке,
Семён Ульяныч привёз Новицкому груду битого кирпича и сложил камелёк; для долблёной деревянной трубы он прорубил дырку в потолке. По каморке ползали красные отсветы углей.
Хомани вздрогнула, проснулась и приподнялась на локте.
— Я спать, — виновато сказала она и улыбнулась.
— Почивай и дале, мила, — тихо ответил Григорий Ильич.
— Не хотеть, — прошептала Хомани. — Хотеть тебе смотреть.
Князь. Её князь. Он добрый и немножко старый — вон седина блестит в чёрных волосах и чёрных усах. Но он сильный, потому что у него крепкие жилы. У него всё большое — руки, плечи, нос, а у неё всё маленькое: и руки, и плечи, и нос, только свой нос она не видит. Но свой нос никто не видит. Нет, волки видят свой нос. Медведи. Интересно, а рыбы видят свой нос?..
— Я тебя. Ты князь. Бери меня, — проурчала Хомани.
Григорий Ильич лишь ласково прижал её к себе.
Три года назад в этой каморке ему явилась Айкони –
такая же, как сейчас Хомани: голая и любящая. Но это был морок. Наваждение. И сейчас тоже морок. Если бы он был кем-то другим, то подумал бы, что полковник Новицкий на своём лежаке обнимает голую и любящую Айкони. Однако это не Айкони. И ныне Григорий Ильич ясно понимал, что он обладает только телесной оболочкой своей возлюбленной. Простодушная Хомани поведала ему, как страстно желает и берёт её муж — бухарец Касым. Но Касым тоже обладал лишь телесной оболочкой своей возлюбленной, потому что душу Хомани у него украл полковник Новицкий. А Григорию Ильичу не нужна нежная душа Хомани. Ему нужна грозная душа Айкони. И здесь, с Хомани, он словно бы не весь. Он пустой изнутри. Его любовь Айкони унесла в тайгу. И никто не счастлив, хотя все имеют то, чего хотят: и он, и Касым, и Хомани.
— А де твий муж, Хоманя? — спросил Григорий Ильич.
— Он не муж. Ты муж. Я жена тебе. Он ехать. Далеко. Он туда, я тебе.
Касым куда-то уехал. Его не было уже столько дней, сколько два раза пальцев на руках. А злая Назифа заболела. К ней приходил лекарь и тяжело вздыхал. Назифа лежала на ложе и время от времени исторгала из себя воду в блюдо, которое держал Бобожон. Никто не следил за Хомани. Она надела толстый стёганый халат старого Суфьяна и ушла на улицу. Её никто не остановил. Все вокруг привыкли, что в доме всё делается по воле Назифы, и никто не заподозрил, что Хамуна делает что-то по собственной воле. Князь не говорил ей, где в городе стоит его жилище, но Хомани безошибочно отыскала его. Это ведь не трудно. Так умеют все люди тайги. Возьми любого охотника из Певлора и скажи ему: иди на реку по имени Юконда. И он, не спрашивая пути, пойдёт и придёт, хотя никогда не был на этой реке. Ведь ему назвали имя реки. Известно имя — известен и путь: так живут в тайге. А она знала не только имя князя, смешное длинное имя, похожее на пение кедровки, — Ги-ри-го-ри, — но знала и душу князя. Разве могла она заплутать?
С той встречи под Ермаковой сосной Хомани всё время думала о князе. Вспоминала его. Когда Айкони на своём Ен-Пуголе содрогалась в объятиях своего шамана, Хомани тоже содрогалась, воображая князя, его печальный тёмный взгляд и острые скулы. Когда Касым ласкал и любил её, она закрывала глаза и представляла, что её ласкает и любит князь. Без малейшего сомнения она верила, что князь ждёт её, скучает, разжигает для неё очаг.
Григорий Ильич понимал, что Касым всё равно проведает о связи своей наложницы с другим мужчиной.
И накажет бедную Хоманю, накажет по-магометански жестоко. Григорий Ильич не хотел, чтобы Хоманя страдала.
— Аджэ муж дызнаэтса, що ти до мэнэ быгала, — мрачно сказал он.
— Да, — легко согласилась Хомани. — Бить меня. Я кричать. Не страшно.
Григорий Ильич едва не заплакал от своей вины перед этой девочкой.
— Нэ приходэчи до менэ, — тяжело попросил он.
— Нет! — безмятежно возразила Хомани. — Ты мне радость. Ты князь. Давай бежать в лес, ты и я. Дом делать. Никто не найдёт.
Почему-то Григорию Ильичу показалось, что он это уже слышал.
— Я нэ можу, мила, — он погладил Хомани по голове, как ребёнка. — Мэни пыдле богу бути надыбно.
— Я тебе дать другой бог, — легко предложила Хомани. — Много богов. Хорошие все.
— Ти нэ розумыешь, — с тоской сказал Григорий Ильич.
— Я всё понимать. Я любить.
Снегопад всё сыпал и сыпал за окошком. Мир не изменился. Ева без яблока — она была, но не было никакого воскресенья и возрождения. Просто тогда начиналась весна с её надеждами и вечными коварными обманами. Но за весной пришло лето, за летом — осень, а за осенью — зима. Григорий Ильич не перехитрил судьбу, и Хомани для его сердца не превратилась в Айкони. Он лишь напрасно растревожил эту девчоночку. Он согрешил.
— Нэ приходэчи до мэнэ, Хоманя, — опять попросил он со всей силой убеждения, на которую был способен.
Она влюбилась. Привязалась. Она зацепилась за него, как утопающая. Но он её не спасёт. Не отгонит её от себя, от своего дома. Поэтому ему надо уйти самому. Владыка звал его перебраться на Архиерейское подворье. В братских палатах есть келья. Рядом храм и скрипторий, и не надо искать пропитание. И Хомани не осмелится прийти к нему на Софийский двор. Он отгородит себя от этой девочки. Вернее, отгородит её от себя, потому что может её погубить. Ведь предупреждал господь: не соблазняй малых сих.
— Ты добрый, князь, — прошептала Хомани. — Я красивая. Я тебе буду.
Григорий Ильич давно приготовился к тому, что Хомани отыщет его жилище. Он должен отвадить девочку. Но так, чтобы не обидеть. Она же слабенькая, как птичка. Надо как-то показать ей, что она хорошая, очень хорошая. Григорий Ильич не придумал ничего, кроме подарка. Он занял денег у Ремезова и купил в лавке Турсуна браслетик с бирюзой.
Григорий Ильич поднялся, слез с лежака, пошарил в кармане камзола, что висел на гвозде, и вернулся на лежак с браслетом в ладони. Он бережно надел его на тонкую руку Хомани. Хомани замерла от восхищения.
— Подарунок мой, — глухо сказал Григорий Ильич.
Хомани кинулась на него, и он не смог не отозваться.
Хомани упала на четвереньки, и ей показалось, что она превращается в дикое животное, и это было прекрасно, потому что дикому животному можно помешать, но нельзя запретить. Перед ним распахнут весь мир. Никто над ним не властен. Ему не нужна речь, которая всё путает, потому что не способна выразить сложность и глубину жизни. Дикому зверю не важно, как он выглядит, что о нём подумают, осудят его или восхитятся им. Он чует невидимые потоки силы, которые потаённо плывут сквозь тайгу, и движется по этим потокам, как рыба выбирает чистые и холодные течения. Хомани ткнулась лицом в грубую подушку Новицкого, набитую сеном, закусила зубами холстину и тихо завыла от толчков невыносимого счастья.
А где-то далеко-далеко от Тобольска, за Иртышом и Кондой, на острове, затерянном посреди огромного болота, на капище Ен-Пугол вместе с сестрой завыла и Айкони. Её голос понёсся над чёрным болотом, тихо стекленеющим в заснеженных берегах, и растворился в пространстве; только пепельная и пятнистая рысь, которая шла по стволу упавшей сосны, услышала странный тихий звук, остановилась и оглянулась, шевеля мохнатыми ушами.
Айкони повалилась на бок и со смехом оттолкнула ногами Нахрача.
— Это была радость моей сестры, а не моя! — сказала она, поддразнивая князя-шамана. — Я не радуюсь тебе, Нахрач!
— Ты врёшь, — уверенно ответил Нахрач, натягивая меховые штаны.
— Ты медведь!
— Да, медведь, — самодовольно согласился Нахрач. — У меня есть душа медведя. Я ведь много ел медвежью печень.
Очаг прогорел, пока они валялись на лежаке, избушка начала остывать. Нахрач принялся с треском ломать об колено толстые сухие сучья. Айкони с любопытством наблюдала за Нахрачом. Ей нравилось смотреть на него, когда он что-нибудь делал. Ему приходилось преодолевать неудобство горба, и от этого он казался ещё более сильным и ловким.
— Ты злой и жадный, — продолжала дразнить Айкони.
— Я мужчина.
— Я не люблю тебя.
Он не знала, любит она его или нет. Но он был ей нужен. Был дорог, как очень-очень родной человек. С ним ей было спокойно. Он защищал и берёг её, хотя не ласкал, не говорил добрых слов и не удивлялся ей, как князь.
— Меня все любят, — заявил Нахрач. — Любят или боятся. Ты же не боишься меня. Значит, любишь.
— А ты сам не боишься меня? — спросила Айкони.
— Я никого не боюсь.
Айкони закрыла глаза, вспоминая свои ощущения.
— Человек С Крестом не забыл меня, — сказала она. — Он меня ищет. Он думал, что моя сестра — это я, и взял мою сестру.
— У женщины тоже есть нож, — хмыкнул Нахрач.
— Человеку С Крестом уже не надо Хомани. Я видела его душу через Хомани. Он сам ещё не знает своей судьбы, но он придёт за мной сюда.
— Никто не знает, где Ен-Пугол.
— Он придёт в Ваентур и схватит твой след. Ты сам укажешь ему Ен-Пугол, Нахрач. Он увидит твою лыжню от Ваентура до Ен-Пугола.
— Не увидит, — успокоил Айкони Нахрач. — Я не заяц, у которого нет длинного хвоста, чтобы заметать след. Я прикажу Икенген-Ойке или Хал-отыру заметать мои следы снегом. Их не унюхает даже голодный волк.
— Почему Икенген-Ойка или Хал-отыр послушают тебя? — Айкони приподнялась на локте, заинтересованно глядя на горбатого Нахрача.
— Боги любят то, чего у них нет. У богов леса нет рыбы. Я дам им рыбу. Я знаю добрую зимнюю яму в излучине Шугура.
— Ты хозяин тайги на Конде, — с уважением заметила Айкони.
— Да, — подтвердил Нахрач. — Мне служит Ике-Ну-ми-Хаум.
Конечно, Нахрачу помогал Ике. Это ведь он закричал через уламу, и Когтистый Старик направился на зов идола, а потом провалился в ловушку. Ике спас её, Айкони, чтобы потом отдать Нахрачу Евплоеву. Кондинскому князю-шаману, одинокому и уродливому, нужна своя прекрасная Мис-нэ.
…Айкони была права, когда предсказывала судьбу Новицкого.
Григорий Ильич прощался со своей избушкой без грусти. Он много пережил в этих стенах, но избушка не стала для него домом. Он вспоминал самые первые, самые горькие дни ссылки, когда ему казалось, что он попал в каземат, в могилу. Но потом он смирился, привык. Здесь его мучили мороки. Сюда, в эту избушку, он притащил обессилевшую от горя Айкони: её предал Табберт, и она хотела заколоть себя, но Григорий Ильич успел поймать её руку с ножом. Айкони провела здесь всего-то несколько часов, и это были самые светлые часы в жизни полковника Новицкого, хотя он тогда собирал возлюбленную для вечной разлуки. И здесь, неотступно думая об Айкони, он написал книгу об остяках. Его боль за этот обездоленный народ проистекала из его нежности к беглянке Айкони, и тоска по Айкони сливалась с тоской по недостижимой родине. Он вспоминал то, что высказал почти против воли: «Когда ночь обнимает тебя своей тьмою, бессонная мысль порождает жалобы больного сердца, лишённого отечества, которое возлюблено им более всего на земле, и плен видится бесконечной гибелью»…
Владыка определил работу для Григория Ильича: составлять вместе с ним экономию для епархии. Но работа не задалась.
В тот вечер Григорий Ильич и Филофей сверяли табель по архиерейским расходам: в Спасскую обитель в Енисейском остроге и в Троицкую обитель на Турухане отправлено по четыре пуда воска и напрестольные Евангелия, а на Турухан ещё потир чернёного серебра и дарохранительница с яхонтом; в Спасскую церковь Зашивер-ского острога выслано из Софийской казны денег восемнадцать рублей; в храмы по Томскому разряду указано коменданту выдать ржи по восемь четей в долю церковной десятины… Подсчёты прервал стук в дверь. В келью владыки, кланяясь, вошёл Пантила Алачеев.
Он еле успел добраться из Певлора в Тобольск до ледостава.
После поездки в Москву Пантила не находил себе места. Всё, что он делал в Певлоре, казалось ему недостаточным. Сила веры, которую он увидел в главном городе русских, требовала его участия.
— Отче, — виновато сказал он, боком присаживаясь на скамейку напротив Филофея. — Меня бог зовёт.
— Ты о чём, Панфил? — Филофей вглядывался в смущённого остяка.
— Я обещал, что дам богу Ермакову железную рубаху.
— Помню, — кивнул Филофей.
— Хочу на Конду, — признался Пантила. — Рубаху шаман Нахрач прячет на Ен-Пуголе. Там стоит Палтыш-болван нашей Анны Пуртеи, Старик-С-Половиной-Бо-роды. Я зиму буду жить в Ваентуре и узнаю, где Ен-Пугол. Летом ты приплывёшь, и я проведу тебя туда. Ты Палтыш-болвана сожжёшь, я рубаху для бога возьму. Я хочу благое слово от тебя.
Григория Ильича будто окатили холодной водой. На Конде — Айкони!
— Дело доброе, — задумчиво произнёс Филофей. — Шаман Нахрач — оплот язычества, а власть его над вогулами зиждется на тайне великого истукана. Свергнем идола — свергнем и Нахрача, и вогулы откроются для крещения.
— Нахрач бесами повелевает.
— Потому и боюсь. Жизнь твоя, Панфил, мне дороже подвига.
— Там моя тайга. Я не погибну, — твёрдо возразил Пантила.
Григорий Ильич, волнуясь, сломал в пальцах перо.
— Вотче, дозволь йи мэне з Панфилом поихаты, — вдруг сказал он.
Пантила и Филофей посмотрели на него с удивлением.
— Мы образа вызьмэмо, о вэре вогулычам будэмо говорыти.
— А тебя, Гриша, что в леса зовёт? — проницательно спросил владыка.
Григорий Ильич отвернулся, побледнев. Филофей усмехнулся.
— Может, и разумно мне вас двоих на Конду послать? — он задумчиво поправил на плошке покосившуюся свечу. — Не знаю… Просить о таком я не могу, но ежели вы сами дерзаете…
— Дэрзаю, вотче.
— Ну, хорошо, коли так… Однако ж снарядить вас надобно как должно. Не только иконами, но и припасами, ружьями, одёжей и подарками.
— Лёд встанет крепко, мы поедем, — сказал Пантила. — Дай благое слово.
— Благословляю, — со вздохом ответил Филофей. — Вам служенье.
В эти дни в Тобольск вернулся Касым.
Назифа ждала его с нетерпением. Она была совершенно здорова и только изображала болезнь, чтобы Хамуна почувствовала себя свободной и сбежала к своему меджнуну. Преодолевая отвращение, Назифа тайком пила настойку из корня аира, и её тошнило; табиб Муд-рахим едва не плакал, не в силах разгадать причину нездоровья Назифы. Уловка сработала: Хамуна куда-то уходила из дома. Потом Назифа заметила на запястье остячки новый браслет с бирюзой. Глупая дикарка даже не подумала прятать его. И это несказанно облегчило Назифе дальнейшее исполнение замысла. Назифа никак не могла решить, как ей выдать Хамуну. Какое время выбрать? Поверит ли ей Касым без доказательств? Без них дело может провалиться: Касым побьёт Хамуну — и простит её, оставит в доме, не отлучит от себя. А браслет покажет Касыму всё: измену и любовь Хамуны к чужаку. И Касым обнаружит браслет сам, без всякого содействия со стороны Назифы.
Касым приехал домой мрачный, опустошённый, униженный. Назифа догадалась, что он потерпел поражение и не сумел выкупить офицера, на которого возлагал такие большие надежды в борьбе с губернатором. Хоть это чувство было недостойно верной жены, Назифа обрадовалась неудаче мужа. Обозлённый, он накажет Хамуну куда более жестоко, нежели наказал бы в добром расположении духа. И Назифа ничуть не жалела дикарку.
Касым надолго затворился в своих покоях, а потом вышел, сразу прошёл на женскую половину и приказал Бобожону приготовить для него Хамуну. Назифа, вслушиваясь, застыла у полога, закрывающего дверной проём.
Касым бережно усадил Хамуну на край ложа и сел рядом с ней.
— Мои глаза томились по тебе, лола урмондан, — сказал он. — Мои руки томились по тебе. Моё сердце томилось.
Он погладил её по голове, провёл пальцем по лицу, нежно потрогал её губы, отодвинул волосы с уха и качнул серёжку. Хомани покорно ждала и глядела в пол — на рисунок ковра. Сейчас её муж овладеет ею, а она крепко зажмурится и представит князя, и ей будет хоть немножко хорошо.
— Ты — отрада в моих горестях, Хамуна. Ты — Джан-нат, прекрасный сад, где моя душа упивается бесконечной радостью.
Он взял её руки в свои ладони, поднёс к лицу и поцеловал.
Он почувствовал твёрдый браслет и, удивляясь, приподнял рукав Хамуны. Он никогда не дарил ей браслетов для рук, только золотые цепочки с подвесками-хамсами, в которые были вставлены шарики из сердолика или яшмы. Цепочки так красиво обвивали тонкие запястья Хамуны…
— Откуда у тебя эта вещь? — растерянно спросил он.
Назифа услышала утробный рык Касыма, рык, в котором звучали ярость и гнев смертельно оскорблённого мужчины. Потом раздался шум движения, треск разрываемой ткани, звон упавшего кумгана, испуганный крик Хамуны. Назифа прижалась спиной к стене и сжала зубы. Сейчас Касым убьёт Хамуну — свернёт ей шею или перережет горло, как Улюмджане. Назифа оцепенела от ужаса — и в то же время сердце её плавилось от чёрного счастья отмщения. Такой страх пополам с блаженством она испытала в жизни всего лишь два раза: когда муж впервые познал её на брачном ложе и когда начались первые родовые схватки, а табиб сказал, что по приметам будет сын.
— Боль! Боль! Боль! — закричала Хамуна.
Назифа не выдержала, откинула полог и побежала на крик.
Хамуна, голая, лежала на полу, вжимаясь в угол, и выла. Касым хлестал её плетью. На руках, на плечах, на спине, на заду и бёдрах Хамуны багровели вздутые от крови рубцы. Лицо у Касыма было искажено, как у шайтана.
Касым схватил Хамуну за волосы и вытащил из угла.
— Кто он? — хрипел Касым. — Как его имя?
Хамуна захлёбывалась от рыданий и судорожно дёргалась.
— Убей её! — торжествующе выдохнула Назифа.
— Назови его! — Касым мотал Хамуну из стороны в сторону, как тряпку.
— Ги… Ги… ри… гори! — пробулькала Хамуна.
Она хотела умереть, не в силах вынести своего малодушия.
— Какой Григорий?! — Касым наклонился к Хаму-не. — Ямщик?! Купец?!
— Он… он ходит в дом бога… на гору!..
Касым отшвырнул остячку и выпрямился.
— Убей её! — страстно повторила Назифа.
Касым вдруг шагнул к Назифе и схватил за горло.
— Что ты понимаешь, глупая женщина?! — заорал он. — Она моя жизнь!
Он толкнул Назифу к стене и стукнул затылком.
— Почему ты не уберегла её, змея? — его глаза были в дыму страдания и безумия. — Почему ты дала вору украсть моё сердце?!
Назифа ловила воздух ртом и скребла ногтями по стене.
Каким-то чудом рядом появился толстый Бобожон и, скуля, упал на колени, в мольбе обнимая ноги хозяина. Он не хотел, чтобы Назифа погибла.
Касым бросил Назифу, метнулся к Хамуне, легко поднял её на руки и переложил на шёлковую постель, приготовленную для любви.
— Боль! — взвизгнула и дёрнулась Хамуна, когда её истерзанное тело соприкоснулось с тонкими покрывалами.
— Табиба ко мне! — рявкнул Ходжа Касым Бобожону.
Конечно, он не убьёт Хамуну. Как он может отвергнуть эту милость Аллаха? Да, его душа корчится в пекле унижения, но он отплатит всему миру за глумление над его последней любовью. У него хватит и силы, и упорства, и денег. Он отыщет этого Григория. И этот Григорий ответит сполна.
У Касыма уже не было верного Сайфутдина, которому он мог поручить любую работу, и Сайфутдин выполнил бы её без колебаний. Впрочем, нет. Возмездие Касым должен совершить сам, как надлежит мужчине. Он сам вонзит кинжал в грудь соперника, и непременно скажет своему врагу, за что тот умирает, и будет смотреть, как синяя вода смерти затопит глаза врага, и он проводит врага в Джаханнам самыми свирепыми проклятиями, и швырнёт его труп в прорубь, чтобы душа врага вечно скиталась по реке без упокоения.
Но увы: шайтан был хитрее Ходжи Касыма. Через четыре дня Касым узнал, что полковник Григорий Новицкий вместе с ново крещеном Пантилой покинул Тобольск и уехал на далёкую, почти недосягаемую Конду.
Глава 8 С гроша сдача
— Хочешь — так из дома прогони меня, батя, а хочешь — убей, — мрачно произнёс Леонтий, глядя в сторону. — Только молчать я больше не могу.
Он рассказал Семёну Ульянычу всё: как ездил с Касымом на выкуп к ханаке, как увидел Ваньку Демарина, как степняк услышал, что Леонтий — из рода Ремезов, и переменил цену, вместо золота потребовал кольчугу Ермака.
— Мне жалко Ваньку стало, — добавил Леонтий. — Я про него ничего не забыл, батя. Но я его пожалел. Пропадает он.
Семён Ульяныч и Леонтий сидели в мастерской вдвоём.
— Варвара твоя знала? — скрипуче спросил Семён Ульяныч.
— Знала, — вздохнул Леонтий.
— А Сенька знал?
— Знал.
— Про Марею не говорю, а мать?
— Тоже небось догадалась, — поник Леонтий.
— Все, выходит, знали, кроме меня, — покачал головой Семён Ульяныч.
Слова Леонтия выметали из его души всё, что там было, будто ветром выдувало, и оставалась звенящая пустота. Его все предали. И его, и Петьку. Семён Ульяныч ощутил себя одиноким, как подраненная птица, которую стая, улетая по осени на юг, бросила в тундре. Вот это и есть погибель души. Сначала Петьку в омут забвения кинули, потом Ваньке грехи простили, а теперь согласны родовую святыню — кольчугу Ермака — за чечевичную похлёбку отдать. И хотят, чтобы это сделал он, глава рода. Чтобы своими руками вырвал себе сердце и бросил на корм собакам. Нет, не Ваньку они спасают. Ванька — лишь орудие сатаны. Ведь такое коварство — вспомнить давнюю историю Ульяна Ремезова — по плечу не Леонтию, не Ваньке и не Касыму, а только сатане. А сатана ополчился на архитектона. Изводит его самым мучительным образом — стараниями родных людей. Чтобы не враг человеческий, а они — те, кто ближе прочих, — растоптали отцовскую любовь, плюнули на дедово деяние, истребили бессмертную душу Семёна Ульяныча.
Семён Ульяныч не стал спорить с Леонтием, не стал ругать его или объяснять ему что-либо. Между ним и семьёй — стена. Они теперь чужие друг другу. На этом свете у него осталось только одно дело — кремль.
Он взял со стола приготовленные бумаги, скрутил в трубку, обвязал тесёмкой и сунул за пазуху. Потом напялил зипун, намотал кушак и нахлобучил шапку. Не сказав Леонтию ни слова, он вышел из мастерской.
Он ковылял по улице в сторону Никольского взвоза, тяжело опираясь на палку, и ни о чём не думал. Слишком велико было ошеломление от страшной измены, которая вдруг открылась ему и разверзлась вокруг него, превратив мир в бездну. И в этой бездне свою подлинность сохранили только две последние сути — кремль и бог, будто повсюду — бескрайний и бездонный бушующий окиян, и посреди него — малый остров, и лишь над островом — солнце. Буйство незримого окияна словно долетело до Тобольска прозрачной и лёгкой вьюгой: солнце мерцало в белом дыму, по улицам катились снеговые колёса, перекрёстки бурлили, посвистывали ветром острые шатры колоколен, а по склонам Алафейских гор сползали кипящие потоки позёмки.
Семён Ульяныч добрался до губернской канцелярии.
— С дороги! С дороги! — кричал он, грубо распихивая караульных солдат.
Губернатор в последние месяцы что-то зазнался, загордился, выставил служивых у лестницы губернской канцелярии, будто полководец какой.
Матвей Петрович сидел за столом и щёлкал кедровые орешки, сплёвывая в ладонь, а Дитмер зачитывал экстракты челобитных.
— Припиши, чтобы исполнили, а я проверю через полгода, — говорил Матвей Петрович. — Они там в Кузнецке совсем страх божий потеряли.
Семён Ульяныч вошёл, вытаскивая из-за пазухи свой свиток, сдёрнул тесёмку и шлёпнул бумаги перед Гагариным поверх россыпи орешков.
— Сметы и расходы на кремль сделал, — сказал он. — Кирпичным сараям новый чертёж и размеры на железные тяги. На пристани в дровяных складах я уже передал приказчику, чтобы брёвна на слеги положил. И артельщиков уже подрядил глину брать. Я давно приметил хороший обрыв на Сузгуне, и зимой там даже сподручнее — глина колется, не липнет к пласту.
Матвей Петрович выдвинул ящик стола, ссыпал туда кедровый мусор с ладони, а ладонь вытер о штаны.
— Остынь, Ремезов, — вздохнул он. — Не гони лошадей. Не будет работ ни зимой, ни весной. Может, летом что получится, когда подати привезут.
Семёна Ульяныча словно ударили по лицу.
— Это почему? — обомлев, спросил он.
— Не твоё дело.
Дьявол, видно, со всех сторон осадил Семёна Ульяныча: и семейство предало, и любимая работа, которая вроде бы осенью наладилась, вдруг опять полетела в тартарары, в неизвестность, в чёрную яму!
— Но деньги-то светлейший дал! — едва не взвыл Семён Ульяныч.
— Денег больше нет, — отрезал Матвей Петрович.
Уехал сундучок с червонцами светлейшего князя подмышкой у Лексей Яковлевича Нестерова, обер-фискала, и хоть платочком вслед помаши.
— Слушай, Петрович, — закипая, зарычал Семён Ульяныч, — я ведь тебе не холоп, чтобы мной помыкать да насмехаться! Я мастер городовой!
Все неудачи, все горести последнего времени подступили ему к горлу.
— Думаешь, со мной, стариком, что угодно можно творить? Утрётся колченогий? С гроша сдачи не сдают?
— Не в тебе причина, Ремезов! — раздражённо ответил Гагарин.
— Значит, в тебе? — Семён Ульяныч даже чуть присел, заглядывая под насупленные брови Матвея Петровича. — Левая рука у правой украла?
Дитмер недоумённо поднял брови и понимающе улыбнулся.
— Не заговаривайся! — обозлился Матвей Петрович.
— Пустой ты губернатор, Гагарин! — прорвало Ремезова. — Полумерок! Воевода Черкасский до тебя и Софийский двор поставил, и Гостиный, и палаты эти тоже, и оборонным валом город обнёс, а твоего старанья только на полбашни хватило и полкремля! Потому как Черкасский не воровал!
Теперь и у Матвея Петровича рвануло сердце бешенством. Знал бы этот дурень, кто ворует, а кто нет, и кто сколько сделал на своём месте!
— Пошёл вон, Ремезов! — бешено заорал Гагарин.
— Да я-то пойду, пойду! — ответил Семён Ульяныч, потрясая палкой. — Но тебя не извиню, Гагарин! Я старый, я сдохну скоро, думал грехи свои кремлём искупить, а ты спасенье моё украл! Надоело твоё воровство мне во покуда! — Семён Ульяныч воткнул пальцы себе под бороду. Отчаянье несло его вперёд, будто под уклон. — Мне уже ничего не страшно! Я на тебя царю грамоту напишу! Я ему «слово и дело» выкликну про всё лихоимство твоё! Пущай царь полюбуется, кака рожа у сибирского губернатора!
Семён Ульяныч харкнул Гагарину под стол и ринулся на выход.
Матвей Петрович схватил со стола бумаги Ремезова, скомкал и швырнул Ремезову в спину, но ком ударился в захлопнутую дверь.
— Ефимка! — утробно прорычал Гагарин. — Беги за ним, возьми солдат у крыльца и в каземат старого пса забей! Он ещё «словом и делом» грозить мне будет, Синахериб треклятый!
Известие о том, что архитектона Ремезова посадили под замок, будто какого татя с перекрёстка, за полдня облетело весь Тобольск. В кабаках говорили, что старый крикун пропил огромную гору денег, предназначенных на кремль. В церквях шептались, что Ремезов изобличил грехи Гагарина, как Филипп-митрополит изобличил грехи царя Грозного, за то и пострадал. На базарах судачили, что старик палкой побил князя за воровство. А на пристанях и в торговых банях, выпучивая глаза, рассказывали, что архитектон и губернатор делили деньги и разодрались: катались, как два кота, по всей Приказной палате, и зарезали швецкого секлетаря Ефимку Дитмера, который их растаскивал.
Никто ничего не понимал.
На следующий день князь Гагарин стоял на службе в Софийском соборе как ни в чём не бывало: без синяков и ссадин; борода, которую он отпускал в Тобольске, была целая; в облике — никакого озверения. Народ косился на Гагарина, а он держался как обычно: по завершении службы подошёл под благословение; выйдя из храма, остановился раздать милостыню.
К Матвею Петровичу в толпе приблизился владыка Филофей.
— Матвей Петрович, не убегай, — попросил он. — Не ведаю, в чём твоя распря с Ремезовым, но освободи старика из каземата. Нехорошо это.
Матвей Петрович смиренно склонился к руке владыки, лежащей на изогнутом навершии посоха, и поцеловал.
— Не могу, отче, — бестрепетно ответил он.
Семёна Ульяныча посадили в каземат под губернаторским домом. За дверью караулил солдат. В каморке стоял лежак с тряпьём, в угол была задвинута отхожая лохань, да ещё под потолком светило окошко. Семён Ульяныч почему-то сразу подумал, что жизнь его закончена. Может, это и к лучшему — помереть, когда прожил долго, но под конец всё рухнуло: сын погиб, семейство отвернулось, а отдела отлучили. Что ещё остаётся старику? Смерти он не боялся. В его годы это было нелепо. Всем вокруг и ему самому было понятно, что он скоро умрёт. Ворота на небо для него уже открылись. А заключение в каземат означало, что ворота в земную жизнь теперь закрыты.
Семён Ульяныч не принимал свою старость со смирением, но он вообще мало что принимал со смирением.
Старость была вокруг, а не в нём. Почти вся его ровня уже померла, все друзья по молодости, а те немногие, кто пока был жив, скажем честно, вылезли из разума. Сидели на скамеечках у ворот на пригреве, трясли бородами, смотрели куда-то в пустоту выцветшими и слезящимися глазами. Один лишь Семён Ульяныч где-то бегал, что-то делал, ругался, переживал, будто годы его не берут. Берут, конечно, как без этого. Однако от старческой немощи, телесной и умственной, господь его упас. А может, и не господь. Может, он сам себя упас, потому что столько лет занимался тем, что любил: зодчеством, книгами, чертежами. Эти занятия требовали неотступного напряжения ума и души. И он всегда безоглядно тратил себя, а господь щедро вливал новое вино в его старые мехи. Вот он и дотянул до таких земных сроков. Ему некогда было стареть.
Старость для него была только сокращением жизненных возможностей. Урочный-то час приближался, и Семён Ульяныч год от года отсекал от себя ненужное: сначала баб, потом вино, потом корысть, потом пустую болтовню. Без сожалений он отдавал времени то, что считал неважным, оставляя себе лишь самое дорогое. И в этом самом дорогом он был молод, как прежде.
Он ведь ничего не терял от самоотказа. Как говорится, бездомный обладает всем миром. Любимое дело и было восполнением неполноты, и восполнением стократ большим. В Тобольске нет кремля? Он сам построит кремль. Ему не увидеть Ермака? Он напишет о Ермаке летопись. Ему не побывать в Мангазее и Албазине, на Байкале и на Амуре, в Якутске и на Камчатке, в Мунга-лии и Китае? Он составит чертежи. И чем красивее он это сделает, тем ближе будет к правде. Пределы судьбы преодолимы. Судьба — не каземат, и вокруг — божий простор. Надобно только жадно желать жить.
И здесь, в холодном каземате, Семён Ульяныч с грустью вспомнил свою мастерскую. Свою молельню.
В мастерской, как в божьем оке, заключался мир во всей его протяжённости и во всей длительности. Тени мастерской были мягкими крылами ангелов странствий. Семён Ульяныч смотрел из окошка своего каземата и видел только небо. А в небе лепились друг на друга купола облаков. Облака — божье зодчество. Господь тоже архитектон.
Из семьи к Семёну Ульянычу приходила только Ефи-мья Митрофановна. Семён Ульяныч отказался видеться и с сыновьями, и с дочерью, и даже со снохой. Все они — изменники. Он бы и от встреч с женой тоже отказался — Фимка же спелась с Машкой и Левонтием, — но в каземате не кормили, харч узникам проносили домашние, а помереть с голоду было как-то уж слишком: до такого остервенения на семью Семён Ульяныч всё-таки не докатился. Да и не хотелось облегчать жизнь Гагарину — губернатор только порадовался бы кончине беспокойного архитектона. Словом, желал бы господь прибрать своего раба — так прибрал бы, а насильно господу себя навязывать — грех. Лёшка или Лёнька привозили бабку в санях, и Ефимья Митрофановна кормила Семёна Ульяныча, выдавала ему одёжу на смену и обихаживала.
В тюрьме Семён Ульяныч оброс, и Ефимья Митрофановна стригла его большими коваными ножницами, которыми стригли овец и коз.
— Ну и задичал ты, старый! Чисто дьякон в запое, — ворчала она.
Семён Ульяныч пытался понять отношение жены ко всем бедствиям семьи: за кого она в этом споре?
— Лёнюшка день и ночь с артелью пропадает, — неспешно рассказывала Ефимья Митрофановна, щёлкая ножницами. — Как отец Лахтион говорит? «На деле разум явится». Вот Лёнюшка вдела и погрузился. Варвара без него совсем говорить перестала. Скажет словечко в три дня — и всё. И в кого она такая бессловесная?
Мать у неё язык-то почесать о соседей шибко любила, и отца не переслушать было, ежели под хмельком. А Варвара — будто сундук у архирея. Лёнька и Лёшка от рук отбились. Огрызаются, живут в доме, как два пса приблудных, едва свистнут с улицы — из горницы долой. Федюнька теперь за главного мужика. Докатилась наша телега до колдобины. Сёмушка в твоейной мастерской сидит, образа пишет. Бабы говорили, что видали его возле обители матушки Ефросиньи. Думаю, Сёмуш-ку туда ноги сами несут — надеется свою Епифаньку увидеть. Одна радость — Танюшка. Тесто творить со мной учится. А Машутка с лица опала, похудела, стала не своя. Ну да что ж, девка в семье — всегда чужой кусок. Ей замуж надо.
Ефимья Митрофановна, похоже, перестала судить, кто прав, а кто виноват. Ей лишь бы детям было хорошо. А какой ценой — да бог с ней, с ценой. Грехи отмолить можно, а счастья даже у бога не выпросишь, если сам ни с чем не примиряешься и всех против себя оскалом поворачиваешь.
— Без тебя, старый, в дому всё неладно. Я уж не знаю, почему. Кто из нас от тебя затрещин не получал? Все под твоим гневом ходим, как рабы египетские под фараоном. А не стало тебя — и плохо. Печь дымит. Лисица в птичник залезла и кур передавила. Под застрехой по ночам кто-то воет, видно, домовой. А скоро ведь и годовщина Петеньке… Чем порадуем его?
— Я Ваньку Демарина вовек не прощу, — глухо ответил Семён Ульяныч.
— А тебе ведь вовсе и не о том говорили, — покорно вздыхая, укорила Митрофановна. — Ванька в неволе. Сладко ли? Себя-то попомни.
Он помнил.
Полсотни с лишним лет назад тобольский служилый человек Ульян Мосеич Ремезов, отец Семёна Ульяныча, отвёз джунгарину Аблаю кольчугу Ермака. За это опасное дело служилого Ремезова произвели в сотники. Ульяну Мосеичу тогда было сорок три. А ровно полвека назад в Тобольск прибыл новый воевода — стольник Пётр Иваныч Годунов.
Пётр Иваныч кипел замыслами, и при нём Сибирь тоже закипела. Первым делом Годунов повелел изготовить новый чертёж Сибири. Его чертили без промеров, без бывальцев — по тем казачьим сказкам и отпискам, что хранились в Приказной палате. Вот тогда-то молодой Семёнка Ремезов и попробовал себя в землеописании. Семёнке было всего двадцать пять, и он не видел толка от земных чертежей; в свои лета он желал одной лишь ратной славы, но его и в служилые-то не верстали — без него дурней хватало.
Пётр Иваныч устроил в Тобольске канатные сараи — чтобы снаряжать больше дощаников и кочей. Основал десяток слобод, и в итоге Тобольск удовольствовался своим хлебом, сибирским: не нужно стало гнать огромные хлебные обозы из Москвы. Мечтая наперёд о торговле с Китаем, Годунов составил «Ведомость о Китайском государстве». Разослал повсюду, куда смог, отряды охочих людей на поиски серебряных жил. Перетряхнул войско: заменил латников-рейтаров, тяжёлых, как бочки с брагой, на лёгких, как птицы, драгун, а вместо жалованья отписал драгунам наделы. Начал строить Засечную черту, чтобы оградить Сибирь от казахов и башкирцев. Под конец Годунов совсем распоясался: задумал отнять у Верхотурья пушной торг при таможне и отправил тобольское войско войной против верхотурцев: тоболяки держали Верхотурье в осаде целых два месяца.
На все эти затеи требовались деньги. Много денег. Москва никогда не дала бы столько. И Годунов призвал прибыльщиков. Это были служилые и охочие люди, которые искали новую прибыль для казны — а заодно и для себя. Они обкладывали ясаком ещё не обложенных инородцев. Вынюхивали деревни, которые прятались от казённых переписчиков. Выведывали новые угодья в диких краях. В прибыльщики пошли самые отчаянные головы — те лиходеи, что не боялись ни чащобной нечисти, ни коварства соперников, ни возмездия обиженных. Воровали прибыльщики бессовестно, а принуждали беззаконно. Однако от Годунова им были слава и почёт. Воеводу раздувало от самодовольства: вот какой он ловкий! Когда он шествовал в церковь, на площади палили из пушек. Гагарину, конечно, подобное и не снилось.
Ульян Ремезов тоже сунулся в прибыльщики и прихватил с собой сына Семёнку. Поначалу они попытались прижать вогулов на Пелыме и Конде, однако добыча с лесовиков оказалась небогатой. И тогда Ульян придумал заграбастать реку Ишим, которая принадлежала татарам. Ульян собрал сорок человек — таких же чертяк, как и сам. Соратнички поклялись быть Ульяну в покор-стве, не играть в зернь, не пить и не сбегать. Ульян увёл их на Ишим. Там они построили слободу, отняли у татар пастбища и рыбные ловы и даже учредили таможню для проезжающих купцов. Татары едва не забунтовали.
Но слишком уж бесчинствовал Годунов. Жалобы и ябеды летели на него в Москву целыми сотнями. Царь Лексей Михалыч заопасался, что из-за Годунова в Сибири разгорится новый бунт вроде недавнего разгула Стеньки Разина, и воеводу Годунова турнули с воеводства. Пётр Иваныч умер от горя по пути из Тобольска в Москву. А в Тобольск нагрянули царские сыщики. Они допросили много сотен сибиряков, и все жаловались на прибыльщиков. Тогда царские судьи объявили затеи Годунова воровскими и прикрыли, а самые рьяные прибыльщики загремели в ссылки. Ульян Мосеич укатился в Берёзов, а с ним укатились жена и сыновья — Семёнка и Никитка.
Никитке-то было одиннадцать годков, и ему, мальчонке, везде было хорошо, а вот Семёну — плохо. С тоской вспоминалось прежнее удальство на тёплом Иши-ме, а хуже всего, что в Тобольске у Семёна осталась невеста: Фимке исполнилось семнадцать. И тело томилось по девке, и душа томилась по девке, а вокруг был только безответный и дикий простор Оби — такой же пустынный, как простор степи вокруг Ваньки Демарина. И ничего не поделать, и никто не выручит, и неизвестно — может, господь его потерял?.. Плёсы, плёсы, отмели, низкие берега, хилая тайга, болота, болота, облака, облака… Жизнь казалась ненастоящей, выпотрошенной, выморочной… Конечно, Семён Ульяныч помнил, что такое неволя и что такое чужбина.
В Берёзове Ремезовы просидели пять лет. Потом их вернули в Тобольск. Фимка дождалась Семёнку, и они поженились. Боже мой, где тот тонкий стан, где нежные и доверчивые глаза, где губы, где грудь, где робость тех касаний? Все — и дети, и подруги, которые ещё живы, — видят теперь лишь толстую старуху с седой косой. А ту Фим-ку видит только он, муж. И для него Фимка ничуть не изменилась. Она всё такая же: и тот же стан, и те же глаза. И у Машки тоже появится кто-то, кто всегда будет видеть её такой, какая она сейчас, когда в цвету. Но это будет не Ванька Демарин, потому что Ванька Демарин любит одного себя, а иначе бы и не случилось того, что случилось.
У Семёна Ульяныча с Ефимьей Митрофановной вскоре родился сын Лёнька, потом сын Сенька, потом сын Ванька… Ульян Мосеич сделался в Тобольске зелей-ным мастером: перекручивал пороховые лепёшки в зёрна ручного, пищального и пушечного пороха. А брат Никита дослужился до приказчика Усть-Суерской слободы и умер уже семнадцать лет назад.
Семён Ульяныч сидел в каземате всю зиму. Матвей Петрович пришёл к нему только перед Пасхой — в Страстную субботу. Кряхтя, спустился в каземат и с сочувствием оглядел тёмную камору: грязный иней на потолке, промёрзшие углы, ледяные космы конопатки меж брёвен, волоковое окошко, лежак, лохань. Ремезов, побледневший в заточении, сидел на лежаке, закинувшись ворохом разной одёжи. Матвей Петрович остановился, растирая руки. Ремезов безучастно смотрел в окошко. «Обиделся», — подумал Матвей Петрович. Немудрено. Старик-то норовистый, гордый, и теперь не хочет показывать слабость, просить о милости. Матвей Петрович понимал, что в их ссоре архитектон кричал правильные слова, хотя такое архитектону было и не по чину. И кричал он в запале, в ожесточении. Ремезов не злой и не коварный. Просто он всё принимает близко к сердцу, точно юноша какой, до всего ему есть дело, во всякой бочке он затычка, годы его не остудили, не ввергли в равнодушие. Что ж, иначе и быть не может. Потому Ремезов и архитектон. Потому и пишет свои книги. Потому и неуживчивый.
— Жалко, Ульяныч, что дружба наша развалилась, — сказал Гагарин.
Ремезов повернулся от окна. Глаза его были скорбными, как на иконе.
— Знаешь, Петрович, я тут много думал, — отозвался он. — Делать-то ни шиша нечего. И думал я: почему семь грехов смертными называют?
— И почему?
— Потому что они ведут к погибели всего, а не токмо души грешника.
— Чего — всего?
— Вот ты — хороший человек, добрый, — Ремезов говорил прямо. — Поначалу вроде даже весело было, хоть ты и воровал. Ну, конечно, кто-то зубами скрипел, вроде Касымки, кто-то плакал, вроде Карпушки, однако же дела свершались, о чём-то мечталось, — вроде, и потерпеть можно твой грех. Но дьявола-то не унять. Церкву ему промеж рогов не построить. И глядишь — все благие начала в прах брошены, а певцам в глотки свинец заливают.
Гагарин поморщился:
— Не привирай про свинец.
— Ты своего архитектона в каземат посадил. Не едино ли, друг мой?
— Да выпущу я тебя, Ульяныч, — устало ответил Гагарин. — Иди куда хочешь. Празднуй Пасху. Но прошу: не пиши на меня донос. Я наверстаю, чего тебе обещал. Дострою кремль. А ты дай сначала от врагов отмахаться.
Свобода свалилась неожиданно, будто Семёна Ульяныча сбросили с саней. Никто его не встречал. Семён Ульяныч медленно брёл домой один и словно не узнавал город. Просто он не видел в этом году зимы. Всегда видел, а в этом году — нет. Зиму украли, а вместе с ней украли и часть души. Но украденное — не убитое, и нечему было воскресать на Пасху. Семён Ульяныч испытывал только горечь. Он совсем исхудал, даже сгорбился, и переступал по чуть-чуть, как древний старичок, и никто из прохожих не угадывал в нём архитектона. Ремезов отвык от солнца и подслеповато щурился, отвык от простора, от движения, и держался обочин. Церковный звон пугал его. Ему казалось, что он стал чужим не только своей семье, но и всему миру.
Он открыл калитку подворья и с трудом перешагнул порожек. Лёнька и Лёшка тащили через двор какой-то мешок. Они оглянулись на вошедшего и не сразу поняли, кто это. Бросив мешок, они кинулись к Ремезову.
— Дед вернулся! — орал Лёнька.
— Деда! Деда! — орал Лёшка.
Они облапили Ремезова с двух сторон. Семён Ульяныч качался, как дерево под ветром, но не мог даже заплакать.
Из конюшни выбежал Леонтий. Из мастерской выскочил Семён. Из сеней на гульбище, колыхаясь, вывалилась Митрофановна, и упала бы с лестницы крыльца, но её подхватила Варвара, помогая сойти. И только Маша — бледная, ожесточённая — осталась стоять на гульбище, непримиримо и молча глядя на отца сверху вниз. И Ремезов тоже поглядел на неё из объятий сынов, жены и внуков, поглядел снизу вверх — молча и непримиримо.
Отвыкнув от дома и от семьи, в горнице среди домашних Семён Ульяныч почувствовал себя всё равно как в тюрьме — в большой, тёплой, светлой, чистой и многолюдной тюрьме. Хотя и не полагалось в праздник, сыновья быстро истопили баню, внуки натаскали воды, а Митрофановна сводила, отмыла, отпарила и расчесала мужа. На печь Семён Ульяныч не влез бы, и его уложили в самой спокойной части горницы — там, где прежде укладывались Федюнька и Танюшка. И Семён Ульяныч проспал до позднего утра. Никто из Ремезовых не пошёл ни на службу, ни на крестный ход.
Воскресное солнце сияло в жёлтых слюдяных оконницах. Красный угол был убран свежим полотенцем. Горели лампады. Огромная печь дышала мягким жаром. Пахло хлебом и молоком. Леонтий помог отцу умыться и повёл его к праздничному столу, на котором высились творожная пасха, освящённый кулич и деревянная миса с крашеными яйцами.
— Садись во главе, батя, — сказал Леонтий.
— Моё ли место? — угрюмо спросил Семён Ульяныч.
— Садись, батюшка, — сказал Семён-младший.
— Садись, старый, — сказала Ефимья Митрофановна.
Семён Ульяныч недоверчиво проковылял под образа.
Вся его семья в два ряда стояла вдоль длинного стола: Ефимья Митрофановна, Леонтий, Варвара, Семён-младший, Маша, Лёнька, Лёшка, Федюнька и Танюшка. Все глядели на Семёна Ульяныча и ждали его слов.
— Христос воскресе, — глухо произнёс Семён Ульяныч и перекрестился.
— Воистину воскресе, — нестройно ответили ему.
А потом все полезли друг к другу христосоваться. А потом наконец расселись. А потом Леонтий придвинул отцу кулич. Ослабевшими руками Семён Ульяныч принялся ломать хлеб на части — каждому по куску.
И праздник худо-бедно ожил, закрутился, поехал. Всё-таки это была Пасха — что может быть радостнее? Всё-таки они были все вместе под крышей своего дома — что может быть покойнее? Но Семён Ульяныч не поверил в эту благодать. Не поверил в баню, в печку, в своё место за столом, в кулич. После тюрьмы, после ссоры с семьёй, а главное — после гибели Петьки! — этого умиротворения не существует. Всё ложь. Праздник — морок, наведённый бесом, видение узника в темнице. Вокруг — враги.
Первым заговорил Леонтий, и Семён Ульяныч с мрачным торжеством понял, что не дал себя обмануть никому — ни семье, ни дьяволу.
— Батя, весна уже на дворе, — сказал Леонтий. — Время решать про выкуп Ивана у степняков.
— Не будет выкупа! — глухо объявил Семён Ульяныч.
Над праздничным столом воцарилось тягостное молчание.
— Русский человек в плену, — терпеливо, но веско сказал Леонтий, надеясь переубедить отца. — Джунгарии Ермакову кольчугу требует. Ты один, батя, знаешь, где в степи её дед Ульян спрятал.
— Кольчуга — святыня наша! — проскрипел Ремезов.
— Дед Ульян сам её джунгарам подарил, — осторожно возразил Семён.
— От тебя, батюшка, жизнь Ивана зависит, — напомнил Леонтий.
Маша смотрела на отца страшными, расширенными глазами.
— Ваньки? — яростно скривился Семён Ульяныч. — Он нашего Петьку на службу сманил, и нет теперь Петьки! Или вы забыли про брата младшего? Нехристи вы! — заорал он. — Родству изменщики! Чума на вас, иуды!
— Мы все о Петьке плачем, батюшка, — тихо уронил Семён.
— Плачете? — затрясся Семён Ульяныч. — Да у вас душа как подошва!
Леонтий сжал тяжёлые кулаки.
— Петька служить пошёл. Мы, Ремезовы, все служим, батя. И ты служил, и дед, и прадед. Все под смертью ходили.
— Господь испытал нас жертвой, — Семён не прятал взгляд от отца.
— Господь? — взвился Семён Ульяныч, едва не выпав из-за стола. — Не господь! Ванька всё устроил! Я Петьку на службу не пускал, Ванька его увёл! Нет ему прощенья! Пусть сгинет в степи, сатана!
Варвара положила ладони на головы Федюньки и Танюшки, будто предупреждала: нельзя пугаться деда! Лёшка и Лёнька глядели в стол, как виноватые; им обоим хотелось сбежать, но глубинное чувство родства требовало от них оставаться здесь. Маша провела рукой по бледному лицу, точно вытирала слёзы, но глаза её были сухими. А Ефимья Митрофановна глядела на мужа с болью и бесконечной жалостью.
— Не по правде то, — угрюмо сказал Леонтий. — Не по-ремезовски.
— Молчи, Лёнька! — уже бесновался Семён Ульяныч. — Все молчите! За Петьку всех вас прибью!
— Спасёшь Ваньку — потом хоть прокляни, — вдруг уронила Варвара.
— Не о его вине речь, батюшка, — негромко и рассудительно продолжил Семён-младший. — Его вина при нём. Но он в плену. И там он не покается. Не искупит ничего. Не губи его душу.
— Разжалить меня хочешь, богомолец? — Семён Ульяныч вперился в сына. — Мне моё горе сердце в железо перековало! Мне отмщение, и аз воздам! — прогремел он как поп с амвона и вдруг уставил палец в Машу. — Это Марея вас подговорила! Сестре затычку ищете! На её блуде ваша праведность! — Семён Ульяныч грохнул кулаком по столу. — Машка должна в Киев босой пойти — грехи замаливать, а вы ей срам расчёсываете!
— Да в чём я грешна-то? — зло и дерзко ответила Маша. — В том, что Ваня мне по сердцу, да?
— Он Петьку!.. — уже задыхался Семён Ульяныч. — Сука ты!.. Петьку!..
Ефимья Митрофановна замахала руками на Машу: дескать, молчи!
— Чем я Петьку обижу? — сейчас Маша точь-в-точь была как сам Семён Ульяныч. — Петька меня любил и счастья мне хотел! А я-то жить не должна, да? Мне засохнуть надо, чтобы ты своё горе за срам не считал?
Семён Ульяныч вскочил, но вдруг каким-то чудом толстая и неуклюжая Ефимья Митрофановна оказалась у него на груди, обнимая его и усаживая обратно с девичьей нежностью и любовью.
— Освободи душу, отец, — прошептала она. — Прости их всех. Злобой сердце не вылечить. Прости нашего Петеньку милого, дай ему успокоиться, маленькому, не тревожь его после смерти. И себя тоже прости.
Семён Ульяныч как-то странно выгибался, закидывался в объятиях жены, будто тонул и рвался кверху, а потом, надломившись, опустился на лавку, уронил голову, захлюпал носом и по-старчески заплакал — безутешно, но освобождённо, благодатно, пасхально.
Глава 9 Опыт утрат
Капитана Табберта очаровала история ханши Сузге.
У хана Кучума, повелителя Сибири, вокруг столицы — городка Искер — располагалось несколько малых дворцов-острожков, и в каждом жила жена. Сузге, юную красавицу, хан поселил в острожке Сузге-тура, что стоял над Иртышом на крутой горе Суз-гун. Потерпев поражение от Ермака, хан Кучум бежал в городок Абалак к жене Самбуле, а Сузге осталась лишь с десятком воинов охраны и слугами. Атаман Иван Кольцо, самый лихой сподвижник Ермака, отправился на Сузге-туру с отрядом в полсотни казаков. Отважная Сузге заняла оборону. Крепостица отбила все казачьи приступы. Кольцо мог бы просто сжечь врагов вместе с домами и частоколами, но узнал, что Сузге прекрасна собою, и решил заполучить её в наложницы. Он честно изложил своё желание в письме и переправил его в неприступный городок. Сузге прочла — и согласилась, но с одним условием: казаки должны пропустить верных защитников её дома на свободу. Кольцо принял условие. С обрыва Суз-гуна юная ханша смотрела, как её воины и слуги загружаются в лодку. Когда парус исчез за дальним поворотом Иртыша, казаки вступили в Сузге-туру. Но гордая Сузге выхватила кинжал и вонзила себе в сердце.
Сия героическая басня, без сомнения, понравилась бы просвещённому европейскому читателю, но увы: Табберт понимал, что легенда о Сузге — слишком мелкий случай, и его не поместить в ту книгу о России, которую он задумал написать. Жаль, жаль.
Работа над книгой у Табберта замедлилась. Тому имелись объективные причины. Ссора лишила его общения со старым Симоном Ремезом — ценным источником сведений. Дуэль с Новицким отрезала Табберта от скрип-тория Софийского двора, откуда Новицкий приносил ему книги. А в хранилище документов Губернской канцелярии Табберта не допускали как иностранца и вообще военнопленного. Но нет худа без добра, как говорят русские.
Табберт решил, что между третьим разделом книги, повествующим о Рюриковичах и царе Грозном, и четвёртым разделом, повествующим о династии Романовых, ему следует написать раздел о Сибири, поскольку сия страна очень важна для Российского государства. Сибирь снабжает казну пушниной, то есть золотом. И это обстоятельство обеспечивает России возможность отличаться от Европы. У России нет нужды приобретать золото в обмен на плоды своего хозяйства, поэтому она может сохранять хозяйство в нетронутом древнем порядке. Ежели бы не меха Сибири, русским царям пришлось бы, как европейским монархам, избавлять крестьян от крепостного состояния и дозволять мануфактуры. Сибирь — ключ к пониманию России. И раздел о Сибири действительно необходим задуманной книге. Табберт был благодарен тем обстоятельствам, из-за которых он как учёный обрёл более глубокое понимание предмета своего изучения. В невзгодах плена капитан Табберт приучил себя находить хорошее даже в самом дурном.
Главной персоной в разделе о Сибири, конечно, был атаман Ермак — эдакий конквистадор, русский Кортес и русский Пизарро. Во имя научной добросовестности исследования капитан Табберт отпросился у ольдермана фон Вреха и предпринял поездки на городище Искер и на городище Абалак, на Баишевское кладбище, где был погребён Ермак, на гору Сузгун и на ханское кладбище Саускан, где находилась могила атамана Богдана Брязги, соратника Ермака. И в оных гишпедициях Табберт обнаружил нечто такое, о чём ему не рассказывал даже Симон Ремез. На Искере, Баише, Сузгуне и Саускане Табберт увидел некие странные сооружения: бревенчатые срубы о четырёх или шести гранях. Они были высотой по грудь человеку. Воздвигли их, без сомнения, местные татары. Но зачем?
Единственным, с кем Табберт мог поговорить, был лавочник Турсун. Табберт спросил его о своих открытиях. И Турсун пояснил: такие срубы называются астана-ми; их ставят на могилах святых шейхов; сам Турсун очень уважает обе астаны Сузгуна и время от времени ходит к ним, чтобы поклониться Хучам Шукур-шейху и жене его Хадбии, а также Мамэ Шукур-шейху и жене его Хадии. Всего же по окрестностям Тобольска рассыпано несколько десятков подобных священных погребений. Благочестивые мужи, что покоятся в этих могилах, триста лет назад принесли в Сибирь ислам. Язычники встретили шейхов с оружием, и на берегах Иртыша разгорелась кровавая война. Почти все шейхи погибли. Но татары почитают могилы праведников, воздвигая на них астаны. Табберт был приятно поражён. Эта угрюмая и неплодородная страна была полна всяких исторических чудес.
— Уважаемый, если твой ум желает обогатиться драгоценными знаниями о тех достойных событиях, — угодливо кланялся Турсун, — то я с почтением могу продать тебе сачару с повествованием о шейхах. Наш аремзян-ский караулчи сделал новую сачару, а старую отдал мне.
Турсун держал в руках какой-то ветхий свиток.
— Мой ум желать, — согласился Табберт.
— Два рубля.
Сачара оказалась рукописью на арабском языке.
— Ты мошенник! — рассердился Табберт. — Как я её читать?
Турсун направил Табберта к тобольскому шейху Аваз-Баки, но шейх отказался помогать неверному. Табберт решительно пошагал в лавчонку коварного Турсуна, чтобы поколотить хозяина. На счастье Турсуна в лавке оказался лекарь Мудрахим, табиб уммы. Мудрахим знал арабский язык и изъявил желание помочь шведу — всего за десять рублей.
Оказалось, что татары Сибири вовсе не были недавними пришельцами из Азии, как думал Табберт, полагая, что коренные сибиряки — это потомки жителей Биармии. Татары тоже были коренными сибиряками — и такими же язычниками. Вдохновившись победами ислама в Индии и в странах Чин и Мачин, великий бухарский богослов Багауддин решил обратить в правоверие и северных лесных дикарей. Иртыш азиаты называли рекой Аби-Джаруль. Триста с лишним лет назад из Бухары на Аби-Джаруль поскакал конный отряд шейхов-проповед-ников из трёхсот и ещё шестидесяти и ещё шести человек. В Среднем Жузе проповедников остановил хан Ши-бан. Узнав о цели шейхов, хан присоединился к ним с войском в тысячу семьсот воинов. С шейхами и воинами в Сибирь ехали их жёны, дети, родственники и слуги.
По Ишиму азиаты вышли на Иртыш и двинулись вниз по течению. Они бурей прокатились почти до Оби, захватив низовья Тобола и Туры. Сколько язычников полегло в таёжной резне — сие неведомо, а у пришельцев погибло триста шейхов и тысяча четыреста сорок восемь воинов. Зато татары Аби-Джаруля отныне были обращены в ислам. И они не отступились от новой веры, даже когда бухарцы ушли. В Сибири остались только три шейха.
Через несколько лет одного из этих троих — шейха Шерпети — во снах начали тревожить погибшие товарищи. Они просили почтить их затерянные в чащобах могилы. Шерпети показал татарам двенадцать могил, и татары построили на них первые астаны. Потом из Бухары приехал Давлет-шах, бывший участник похода: к нему тоже воззвали павшие собратья; Давлет-шах отыскал ещё восемнадцать захоронений. А третьим из Хорезма прибыл шейх Искандер Мамляни; в его сны из небесных садов Джанната вторглись девять сибирских шейхов. Так Иртыш обставился бревенчатыми астанами.
Табберт получил истинное удовольствие исследователя, изучая столь удивительные материи, но применить эти знания ему было негде. Да, казаки Ермака хоронили своих друзей на тех кладбищах, которые были основаны татарами вокруг священных могил. Ну и что? Это лишь малая деталь в той картине, которую намеревался создать Табберт. А двенадцати рублей жаль.
В школе господина фон Вреха Табберт встретил губернатора Гагарина. Гагарин явился узнать, чему шведы учат детей; он сидел в учебной горнице на лавке и задыхался в толстой шубе. Фон Врех, гордый собою, с грифельной доской в руках стоял перед тремя десятками разновозрастных мальчишек, что теснились за длинными столами. На доске был написан арифметический пример. Показывая всем доску, фон Врех лучился лаской.
— Арифметическое деление есть разложение числа на равные части с остатком или же без оного, — пояснял фон Врех. — Впереди строки делющим указывается делимое число, затем через обелюс пишется делительное число, обозначающее потребное делющему количество частей, а в итоге через аэквалис указывается количество делителей, имеющихся в делимом…
Матвей Петрович утирал лоб платком и не понимал ни пса.
Табберт дождался, когда Гагарин выйдет на крыльцо отдышаться.
— Господин губернатор, — с лёгким поклоном Табберт протянул Матвею Петровичу свиток. — Хотеть предложить вам смотреть древний папир.
Матвей Петрович нехотя взял сачару и небрежно развернул.
— Здесь татар излагать гишторию прихода ислам в Сибир.
— Так оно по-басурмански, — недовольно заметил Матвей Петрович.
— Я изготовить экстракт.
Табберт подал несколько листов, заполненных каллиграфическими строками. Он оставил себе запись полного содержания сачары, как прочёл ему текст табиб Муд-рахим, а для губернатора сделал краткий пересказ документа. Матвей Петрович пробежал глазами по страницам.
— И на кой оно мне?
— Это ваш страна, — пожал плечами Табберт. — В Швеции король указать кодекс унд манускрипт хранить в Риксархиве.
— А подлинная ли бумага? — усомнился Гагарин.
Табберт посмотрел на Гагарина с укоризной.
— И сколько запросишь? — вздохнул Матвей Петрович.
— Пятьдесят рублей.
— Тридцать.
— Так, — кивнул Табберт.
Весной он решил ещё раз посетить Искер, чтобы зарисовать городище хана Кучума и Ермака. В Европе хороший гравировщик сможет по рисунку создать иллюстрацию, которая очень украсила бы книгу о России.
С какими-то монахами, которые направлялись в Аба-лак, Табберт доехал до нужного отворота на телеге, а дальше пошёл пешком по лесу к Иртышу. Воздух был полон запахов сырой коры, хвои и талого снега. Где-то тоненько чирикала птичка. Табберт то и дело проваливался сквозь наст. Через версту он выбрался на берег огромного оврага, заросшего мелкими ёлочками и загромождённого на дне буреломом. Под упавшими стволами рокотала речка Сибирка. Противоположный склон оврага и был откосом городища Искер.
Сибирка впадала в Иртыш не прямо, а под углом; овраг очертил крутобокую прибрежную гору, на плоской вершине которой располагался Искер. Ханское городище занимало голый мыс и отделялось сразу тремя рвами. Из кармана камзола Табберт достал тетрадь и грифель и несколькими линиями набросал общий вид: лощина, тайга, гора с городищем и простор Иртыша, виднеющийся в створе распадка. Засунув тетрадь обратно, Табберт обогнул овраг и вышел на пустырь перед городищем. Столетие назад здесь находился искерский посад. Площадка была изрыта ямами, в которых сейчас ещё не растаял лёд, и завалена полуистлевшими брёвнами. Всюду торчали кусты. Посреди общего запустения раскорячилась большая астана. Табберт теперь знал, что под ней покоятся шейхи Назыр, Айкани и Бирий, убитые при вторжении мусульман в Сибирь, а также шейх Шерпети, которому былые товарищи явились во сне, чтобы потребовать почтения к своим могилам. Табберт обошёл астану, в которой ещё горбился сугроб, и двинулся дальше — на городище. По предыдущей визитации Искера он помнил, что на городище кое-где валяются каменные плиты с арабской вязью. Он хотел зарисовать эти плиты. Они создавали ощущение дикости и азиатчины, и будущим читателям, без сомнения, это чувство приятно взволнует душу.
Табберт преодолел три оплывших рва, поднялся на оплывший вал с последними кольями частокола — кривыми и трухлявыми, и вступил в предел ханской крепости. По правде говоря, тут было всё то же самое: пустырь, ямы, гнилые брёвна, заросли. Только с одного края — обрыв и влажное, хмурое небо над мутно-сизой дымчатой тайгой. Табберт сделал несколько шагов, и ему открылся простор Иртыша. Река была несоразмерно, мучительно, угнетающе огромной. Она воплощала в себе такую природную силу, какая приемлема только в бескрайнем море или в поднебесных горах, а плоская и невыразительная равнина словно бы не имела права обладать этой гулкой мощью. Табберт не испытывал пиетета перед русской стариной, к действию его побуждала одна лишь любознательность, но здесь, на заброшенном и унылом Искере, он ощутил странный трепет, словно вдруг обнаружил себя у подножия чего-то великого.
Ханское городище уже освободилось от снега, и Табберт легко отыскал каменные плиты, валяющиеся в бурых космах прошлогодней травы. Он выбрал плиту с самой причудливой вязью, присел и принялся зарисовывать надпись. Он так увлёкся, что не заметил, как на Искере появились шестеро татар с граблями и вилами. Они приехали, чтобы прибрать осенний мусор вокруг астаны четырёх шейхов. Увидев чужака, они переглянулись и без слов изготовились для драки. Искер для мусульман был священным местом, и чужакам здесь нечего было делать. Все русские знали это и не совались на Искер в одиночку. А иноземец в камзоле, который крал с могильных камней ду-а — обращения к Аллаху, несомненно, был посланником шайтана.
Кяфира следовало остановить. Татары не раздумывали и не колебались. Удар в ухо сшиб Табберта на землю.
Табберт выронил и тетрадь, и грифель. Он тотчас вскочил, увидел татар — и новый удар свалил его с ног.
— Что вам делать? — гневно заорал Табберт с земли.
Но татары не обратили внимания на его вопль.
— Я офицер! — Табберт попытался подняться, но снова упал под ударом.
Татары молча молотили чужака рукоятями грабель и вил. Табберт перекатывался под ногами противников, закрывая голову, и татары пинали его в плечи и рёбра, в грудь и живот. Наконец Табберт почувствовал, что избиение прекратилось — но его тотчас схватили и куда-то поволокли. Он понял, что сейчас его скинут с края пропасти в Иртыш, и бешено задёргался.
— Я жаловать!.. — успел выкрикнуть он и очутился в пустоте.
Высоченная Искерская гора почти отвесно обрывалась в тёмную, грязную и бурную воду. Иртыш, вздутый весенним паводком, под глиняной стеной вскипал жёлтой пеной. Он год за годом тесал и точил эту стену, обдирая её бок до красного мяса. Из неровной кручи выпирали венозно-синеватые окатанные глыбы и торчали корни деревьев, словно оголённые мускулы и оборванные жилы освежёванной говяжьей туши. В падении Табберт вскользь задел скат такой глыбы, и его отбросило дальше от обрыва. Он извернулся, чтобы не упасть плашмя — плашмя он разбился бы вдребезги, — и вонзился в толщу воды наискосок, как нож, — почти без всплеска.
Лютый холод обжал, обжёг и облепил его со всех сторон, подводная невесомость сбила понимание, где верх, где низ, однако Табберт не потерял присутствия духа. Сейчас он — как в бою; надо действовать не думая. Он заработал руками и ногами, по наитию выбирая направление, и не ошибся — вынырнул, будто проткнул головой жидкое полотно, и вдохнул полной грудью. В этот миг он видел только серое облачное небо — и больше ничего.
Надо было спасаться. Тяжёлые ботфорты и камзол утянут его на дно. Табберт сжался, погружаясь обратно, дотянулся руками до башмака с кожаным раструбом-крагой и стащил его, а потом стащил и второй башмак. Течение несло его, медленно переворачивая через голову, и он снова толчками устремился к поверхности. Вдохнув, он опять погрузился; ожесточённо извиваясь, он освободился от портупеи и камзола и уже легко послал себя вверх. Вот теперь можно было плыть к берегу.
Ныряя в волнах быстротока, он нёсся вдоль глиняной стены и понимал, что ему тут не за что зацепиться. Мокрая и склизкая глина была как мыло. Обрыв всё не кончался и не кончался. Табберт грёб сильными и широкими размахами, чтобы согревать себя, но чувствовал: надолго его не хватит. Если он немедленно не вылезет на сушу, его скрутит судорогой, и он утонет.
— Жись!.. — вдруг услышал Табберт откуда-то из-за волн.
Он завертел головой, однако видел только мутные гребни.
— Держись! — раздалось уже ближе.
Рядом с Таббертом словно из ниоткуда выехал огромный смоляной нос лодки-насады. Конечно, огромным он казался только тому, кто смотрит из воды. Табберт, хрипя, ухватился за борт, и борт качнулся под его руками.
— Не лезь, опрокинешь! — рявкнул знакомый голос. — Цепляйся токмо!..
В лодке, орудуя веслом на обе стороны, сидел старик Ремезов.
Табберт, сообразив, отпустил одну руку и продолжил грести, чтобы плыть рядом с лодкой. Ремезов не бросит его. Но откуда взялся Ремезов?..
Семён Ульяныч ездил в Абалак, чтобы поклониться чудотворной иконе. Обратный путь он решил проделать на лодке — так быстрее. Поравнявшись с кручей Искера, он увидел, как с самой верхотуры какие-то люди швырнули кого-то в Иртыш. Человечек бултыхнулся — а потом вынырнул и заколотился. Семён Ульяныч сразу погрёб к нему. Кто этот бедолага, заслужил ли он быть сброшенным в реку, — всё это неважно. Сейчас надо спасать тонущего.
Семён Ульяныч махал веслом, зорко присматривая, чтобы Табберт не перевернул насаду, и удивлялся своей судьбе и везучести шведа. Ведь не окажись рядом его, Ремезова, Табберт не справился бы, утоп. Господь послал Семёна Ульяныча спасти этого заморского петуха. Оно не случайно.
И вскоре капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг уже сидел на берегу в одном лишь армяке Ремезова на голое тело и согревался у костра, а Семён Ульяныч, ковыляя, собирал вокруг сучья и ломал об колено.
— Какой бес тебя, лешака, на Искер погнал? — ругался он.
— Х-х-хни… ху ш-ш-ше… лать пи… сать, — прокла-цал зубами Табберт.
— Вот тебе татары и пособили в грамоте! У нас по земле с оглядкой ходить надо! И лучше с дружками, у которых кулаки покрепче!
Табберт молча трясся.
Семён Ульяныч поглядывал на шведа с некоторым удивлением и даже сочувствием. Вот выгнал он Филипу взашей, по морде дал, отрёкся от дружбы, а швед — гляди-ка — не перестал любопытничать. Шнырял где-то сам по своему шведскому почину, разнюхивал что-то. Велика, видать, в нём тяга к познаниям, пусть и хорь он амбарный. Может, у них в Шведии так меж людей дозволено — взять чужое, не сказавши хозяину, а потом отдать, и это не грех?.. Даже если и не дозволено, даже если и грех, — бог с ним. Он, Семён Ульяныч, уже сполна испытал, что такое настоящая потеря, и былая обида за кражу книги развеялась без следа. Подумаешь, книга! Книга — не сын. А швед — молодец: согласен, чтобы ему башку раскололи, лишь бы новое узнать.
— Ладно, тварюга ты вероломная, — присаживаясь рядом с Таббертом, сварливо сказал Ремезов. — Приходи ко мне. Сызнова дружить будем.
Вечером Семён Ульянович привёз Табберта в Тобольск, однако быстро возобновить отношения у Ремезова со шведом не получилось. Табберт всё-таки простыл в ледяной вешней воде и слёг с жаром. Семён Ульяныч тщетно ждал Табберта четыре дня, с неудовольствием замечая за собой, что скучает по собеседнику, а Филипа, собака такая, всё не шёл и не шёл. Тогда Семён Ульяныч тайком от семьи послал к Табберту домой внука Лёшку. Лёшка всё разведал и сообщил деду, что швед валяется в горячке, может, сдохнет, и его лечит бухарский табиб Мудрахим какими-то басурманскими колдованиями. Семён Ульяныч ничего не сказал внуку, однако на ближайшей службе в Никольской церкви, поколебавшись, поставил свечку за исцеление Табберта.
Табберт оправился лишь к концу весны. Берёзы и липы уже зеленели, и свежая трава покрыла склоны Алафей-ских гор, пустыри, обочины и берега тобольских речек. На улице сделалось так же тепло, как в горнице. Табберт явился к Ремезовым на двор в новом камзоле и в новой треуголке — бравый и самоуверенный. Он зубасто улыбнулся Леонтию из-под щётки усов, и Леонтий, усмехаясь, поклонился. Прежнее осталось позади, и чёрт с ним.
Табберт с любопытством оглядывался в мастерской, где не был уже так давно, что и не верилось. Он был оживлён, будто с мороза у печки.
— Рад видеть тебя, Симон! — объявил он.
— Народ в огород, а мы в хоровод, — тотчас ответил Семён Ульяныч.
С собой у Табберта была тетрадка, за время болезни почти наполовину исписанная вопросами к Ремезову.
В первый же день они засиделись дотемна. Табберт расспрашивал про Ермака. Когда швед наконец-то сунул свою тетрадку в карман, встал с лавки и снял с гвоздя шляпу, чтобы идти домой, Семён Ульяныч не выдержал. Ему хотелось похвастаться своей причастностью к имени славного атамана.
— Слышь, Филипа, — окликнул он, — хочешь взглянуть на чертёж того места, где мой батька Ермакову кольчугу схоронил?
Табберт сразу повесил шляпу обратно на гвоздь и вернулся на лавку.
— Хотеть! — сказал он, блестя глазами.
— Мы с Леонтием завтра поедем забирать.
— В канцелярий? На Софиен епископ?
— Не угадал, — довольно ухмыльнулся Семён Ульяныч. — Приходи к перемене страж по часобитию, возьмём с собой, всё узнаешь.
На следующий день в назначенный час Табберт уже стоял у ворот Ремезовых. Леонтий вывел Гуню с телегой, в которой сидел Семён Ульяныч.
— Садись, — кивнул шведу Семён Ульяныч. — Едем в Софийский собор.
— Карта есть пребывать в храм? — удивился Табберт.
— Там, — подтвердил Семён Ульяныч. — Мой батька чертёж тайника на образе написал, чтобы не потерялось. А образ — в храме, как и должно.
— Хинрейсбенд! — искренне восхитился Табберт.
Он был счастлив, что снова дружит с Ремезовыми.
Телега не спеша катилась по улочкам Тобольска, а Семён Ульяныч рассказывал о заветном чертеже Ульяна Мосеича.
Ульян Мосеич и джунгарин Аблай спрятали кольчугу Ермака в степи. Аблай вскоре сгинул, и Ульян Мосеич оказался единственным, кто знал о местонахождении чудотворного доспеха. Миновало двадцать лет. Ульян Мосеич состарился. Он боялся, что умрёт, — и уже никто никогда не отыщет кольчугу. Тогда он решил всё же открыть, где она схоронена, но открыть так, чтобы понял тот, кто достоин, а не какой-нибудь бугровщик или воевода.
Семён Ульяныч в то время пробовал себя как богомаз. В Тобольске только начинали строить каменный Софийский собор, и Семён Ульяныч взялся написать образ святой Софии с будущим собором на ладони — Тот самый образ, где по неведению он изобразил собор с тремя главами вместо пяти. Семён Ульяныч написал облик девы — Премудрости Божией, а Ульян Мосеич, тоже добрый рисователь, написал бугор, на котором стоит София. Бугор, опутанный ниточками рек, и был чертежом тайника с кольчугой.
— Это есть очень хитрый ум, — сказал Табберт.
Ульян Мосеич дожил до того дня, когда новый собор отворил двери тоболякам, и сам отнёс в храм икону святой Софии. Митрополит Павел освятил образ и отвёл ему окно в иконостасе — внизу, в местном чине, справа от Царских Врат. С тех пор икона там и пребывала.
Телега выкатилась на Софийскую площадь.
В соборе было малолюдно после службы, но под высокими сводами словно бы ещё звучал гул недавнего пения. В косых столбах света пылала золочёная резьба киотов и многоярусного иконостаса. Пономарь Афиноген поправлял свечи на канунном столике. Семён Ульяныч, Леонтий и Табберт перекрестились при входе и тихонько прошли к правому крылу амвона.
И тут Семён Ульяныч не поверил своим глазам. Вместо образа святой Софии, который тридцать три года стоял в иконостасе в окошке, назначенном ещё митрополитом Павлом, сейчас находился другой образ.
Семён Ульяныч завертел головой и поковылял к Афиногену.
— Фенька! — шёпотом закричал он, хватая пономаря за рукав. — А где старая София с местного чина?
— София? — удивился Афиноген. — A-а, так её владыка Филофей взял. Он на Конду поехал вогулов крестить и образ Софии забрал. Ну, чтобы вогулы знали, кому в Тобольске главный храм поименован.
— На Конду?! — с ужасом переспросил Семён Ульяныч.
Глава 10 Найти путь
Григорий Ильич не умел рыбачить, как не умел охотиться, растить хлеб, ткать холсты или тачать сапоги. Но этой зимой он научился ловить рыбу сквозь прорубь, а весной, когда сошло половодье, освоил и невод. Тихо сплывая вниз по течению в об-ласе, он подтягивал сеть за становую снасть и ощущал сопротивление кошеля. Свежее солнце раннего лета обжигало плечи, а от воды поднимался холод, накопленный Кондой за долгую зиму. Жара была непривычна и болезненна, как пощёчина. Тёмная торфяная вода таёжной реки играла бликами и казалась густой и тяжёлой, словно масло.
Григорий Ильич с плеском вынул кошель, и сквозь сетку, сплетённую из волосяных верёвок, хлынул зелёный жидкий ил: у Новицкого, неопытного рыбака, невод опять протащило по дну. Впрочем, в жиже блеснуло несколько рыбин — судя по всему, ельцы и судаки. Григорий Ильич потряс кошель над водой, опорожняя от грязи, и перевалил через борт в лодку. Надо извлечь улов и подцепить на кукан, привязанный к держалке на носу обласа.
На Григория Ильича, изначально человека городского и знатного, который никогда не добывал себе пропитания из природы, простая рыбалка производила очень странное впечатление. Она напоминала изгнание бесов. Ведь их не видно, бесов. Вроде обыденная вещь — амбар, или мельница, или баня, и ничего в них нет, а прочитал молитву, перекрестил, окропил — и бесы полезли ниоткуда, будто крысы из затопленной норы. Здесь, в лесу на Конде, Григорий Ильич повсюду чувствовал присутствие тайной языческой жизни: в реке, в тайге, под землёй. Эта жизнь вовсе не была злокозненной. Она не замышляла пагубы надушу. Но она оплетала, как паутина, причудливыми правилами, приметами, условиями, и в конце концов порабощала, подчиняла, лишала свободной воли. Так слабенький вьюнок опутывает могучее древо, и древо сохнет, погибает. Григорий Ильич не боялся, что язычество опутает его душу и он погибнет. Он уже погиб, это ясно. Но он ещё может сделать что-то нужное, ещё пока ему неведомое, и может спасти непонятно кого.
Краем глаза он уловил какое-то движение на берегу, повернул голову, всмотрелся и понял, что там Айкони. Она шла по приплёску вдоль зарослей, незаметная, как зверь, и казалась слепленной из хвои и таёжных сумерек. Григорий Ильич не видел её уже почти три года — с того дня, когда Нахрач сжёг поддельного идола, а владыке Филофею явился умерший митрополит Иоанн. Всю зиму, проведённую в рогатой деревне, Новицкий ждал, что Айкони придёт к Нахрачу, но она так и не покинула своё колдовское болото. И вот теперь она здесь, хотя и такая зыбкая, словно не существует, а только мерещится. Она направляется в Ваентур — куда же ещё? Предчувствие беды, давно уже томившее Григория Ильича, снова защемило сердце.
Григорий Ильич бросил невод, схватил весло и погнал облас к берегу.
— Аконя! Аконя! — закричал он. — Нэ ходы до дэрэвны!
Она остановилась, и теперь он разглядел её в подробностях: маленькая, ладная, одетая по-мужски — в рубаху и штаны из серой волчьей шкуры; пояс обмотан плат-ком-уламой, лоб перевязан тесёмкой, чтобы волосы не падали на лицо, а за плечом на ремне висит короткое копьё. Айкони тоже глядела на Григория Ильича, а потом молча повернулась и скрылась в зелени.
Облас мягко вылетел на отмель; Новицкий спрыгнул в воду и, весь в брызгах, выбежал на берег. Разбрасывая ветви руками, он повертелся среди кустов, но не нашёл и следа Айкони, только в глубине глухой чащи кричали потревоженные птицы. Новицкий никого не смог бы отыскать в тайге: ни зверя, ни человека, ни лесного духа. Но он знал, куда Айкони пробирается.
Григорий Ильич оторвал от лодки кукан, чтобы не мешался, столкнул своё судёнышко на глубину и что было сил погрёб вверх по течению — туда, где через три поворота на берегу Конды стояла вогульская деревня Ваентур. Айкони не ведает, что в деревне её подстерегает опасность. Айкони угрожает князь Пантила Алачеев: потомок кодской княгини Анны Пуртеевой и хозяин Палтыш-болвана, облачённого в кольчугу Ермака.
Пантилу терзала мысль, что бездеятельная вера мертва. А что он мог сделать для бога у себя дома? В Певлоре не было ни священника, ни храма. Владыка Филофей обучил Пантилу грамоте, и Пантила пробовал читать жителям Певлора Евангелие, но сам едва понимал эту книгу: жизнь на Оби слишком уж отличалась от жизни в той стране, где проповедовал Христос. И Пантила решил посвятить себя исполнению обещания — решил добыть кольчугу Ермака, чтобы подарить её русскому царю. Нахрач Евплоев, новый хозяин Палтыш-болвана, не имел права прятать от певлорского князя идола в кольчуге, но всё равно прятал. Он сказал, что Пантила, покрестившись, отрёкся от родовых богов и потерял родовые святыни.
Новицкий и Пантила прибыли в Ваентур в декабре. Пантила потребовал у Нахрача уступить им для конюшни и жилья щелястый сарай на дворе. Нахрач не стал спорить. Первым делом Новицкий и Пантила принялись конопатить щели сарая. Нахрач принёс им два мешка лубяных очёсов и с усмешкой наблюдал, как гости ножами запихивают паклю меж брёвен.
— Того, что ты дал, нам не хватит, — сердито сказал Пантила.
— У меня больше нет конопляной шерсти. У нас мало женщин, которые ткут холсты. А вас я не звал и не ждал. Что вы хотите делать в моём селении?
Пантила не скрывал своей цели.
— Я найду Палтыш-болвана. Вогулы называют его Ике-Нуми-Хаум.
— Нельзя одно полено сжечь дважды, — ухмыльнулся Нахрач.
— Ты обманул нас. Мы сожгли бревно. Ике остался на Ен-Пуголе.
— Вы жалкие люди, — надменно изрёк Нахрач. — Никто в Ваентуре не верит в вашего бога. Вы ищете идола, который превратился в дым. Вы живёте под одной крышей с лошадьми. Все над вами смеются.
Пантила и Новицкий не ответили. Нахрач был удовлетворён:
— Вам нечего сказать.
— Прыйдэ час — скажимо, — угрюмо пообещал Григорий Ильич.
— Хорошо. Потом я послушаю вас. А сейчас я разрешаю вам взять мох с амбара Пуркопа и заткнуть дыры в стенах вашего дома. Амбар стоит у реки.
Григорий Ильич вёл хозяйство, а Пантила искал Ен-Пугол. День за днём он обшаривал окрестности Ва-ентура, уходя на лыжах всё дальше и дальше. Он бродил по диким сузёмам и урманам, перебирался через буреломы, пересекал замёрзшие болота и лесные озёра, поднимал лосей с лёжек и натыкался на продухи медвежьих берлог. Он видел таёжных демонов, что молча следили за ним из-за ёлок. Иной раз он по две и по три ночи проводил в тайге у костра нодьи. Его заносила пурга. Он обгорел на зимнем солнце и обморозил руки и ноги. Но Ен-Пугол словно провалился под землю.
Когда Пантила возвращался, Нахрач являлся в сарай и присаживался возле очага, чтобы посмеяться над молодым остяком.
— Ну что, нашёл Ен-Пугол? — спрашивал он. — Я положил его в рукавицу, а рукавицу украла ворона. Твой бог научил тебя летать, Пантила Алачеев?
— Я найду Ен-Пугол по твоим следам, Нахрач! — грозил Пантила.
Это был откровенный вызов.
Нахрач в сомнении кривил свою страшную, щетинистую рожу.
А Григорию Ильичу не было дела до поисков Панти-лы; его не волновали ни Ен-Пугол, ни кольчуга Ермака. Он занимался обыденными делами: рубил дрова, топил очаг, обихаживал лошадей, латал одежду, готовил пищу, когда Пантила приносил какую-нибудь добычу. К Новицкому в сарай повадились ходить вогулы: Щенька хвастался охотничьими победами, Миханя жаловался на жену — глупую Марпу, а старуха Нероха, которую дома не кормили, чтобы она поскорее померла, доедала объедки и на своём языке рассказывала что-то бесконечное, хотя Новицкий её не понимал. Посередине зимы Григорий Ильич вдруг осознал, что перестал молиться. Это случилось незаметно, и он не почувствовал никакого недостатка для души. Он не разуверился, но ему уже не о чем было говорить с господом. Разве Христос поможет ему обрести Айкони? Великая тишина зимнего леса хранила в себе куда больше смысла, нежели молитва. Григорий Ильич напряжённо слушал эту тишину, и в ней чудилось какое-то тайное обещание. Сквозь январскую стужу Григорий Ильич ощущал тоненькую-тоненькую ниточку тепла от Айкони.
Обозлённый неудачами, Пантила преследовал Нахрача уже открыто. Без сомнения, Нахрач время от времени наведывался на Ен-Пугол; порой он исчезал из Ваентура на три-четыре дня. Где он пропадал? На капище, где же ещё! Там жила его Мис-нэ — Айкони! Пантила дожидался, когда Нахрач, снарядившись для долгой дороги, выйдет со своего двора, а потом и за околицу деревни, и устремлялся за Нахрачом. Он думал, что просто побежит за вогулом по его лыжне — и узнает дорогу на заповедное болото, однако погоня всякий раз срывалась. Пантила, таёжник от рождения, терял лыжню Нахрача, точно слепой щенок: лыжня ускользала, словно заколдованная, и Пантила внезапно осознавал себя идущим посреди леса по нетронутому снегу. Это менквы, чащобные духи, заметали следы Нахрача, или похищали дорогу у Пантилы из-под ног, или отводили Пантиле глаза.
Об этом Пантила догадался не сразу. Однажды он метался по тайге, не веря, что снова упустил Нахрача, и выскочил на поляну. И ничего особенного на поляне вроде не было, но опыт недавнего язычника заставил Пантилу насторожиться. На него смотрели со всех сторон. Смотрели молча, смотрели без выражения. Пантила понял: вон тот большой кедр — старшее дерево. Кедр пытался выглядеть таким же, как остальные деревья, пытался ничем не выдать себя, но Пантила сразу увидел его суть. Кедр замер, как зверь, широко растопырив ветви. И вдруг с одной ветви потекла вниз струя снега. А потом с другой ветви. С третьей. С четвёртой. Разлапистый кедр возвышался перед Пантилой, безмолвно и жутко истекая снегами. Это было внятное предупреждение. Пантила обернулся: его собственная лыжня тоже стёрлась. Лесные духи не желали пропускать человека. Вернее, лесные духи не желали отдавать Нахрача Евплоева, своего повелителя.
В тот день Пантила отступил, но всё равно не сдался. Он рыскал за Нахрачом до весны, однако горбатый вогул сохранил тайну Ен-Пугола. В тайге Пантила понял, в чём причина упорства Нахрача. Язычество Ваентура зиждилось на том, что Нахрач — и князь, и шаман. Он помыкал таёжными демонами — подкупал их, бил или уговаривал. Демоны подгоняли вогулам добычу — зверя, птицу, рыбу. Поэтому вогулы верили Нахрачу безоглядно. Так Ваентур и жил. А Нахрач был неуязвим. Как отлучить его от демонов? Никак. Только убить. Но Христос не дозволяет убивать. И всё же у Нахрача имелась слабость — тщеславие. Нахрач гордился тем, что владеет идолом Ике-Нуми-Хаумом, по-остяцки — Палтыш-болваном. Палтыш-болван, одетый в кольчугу Ермака, некогда был главной святыней Коды, а Кода некогда была главным княжеством Оби. Владеть прадедовским идолом для Нахрача означало присвоить древнюю славу Коды. И Нахрач не отдаст Ике, не отдаст кольчугу. Но тщеславие — грех, и он рано или поздно сгубит Нахрача.
Весной Пантила придумал, чтб ему надо делать.
— Я больше не буду искать путь на Ен-Пугол, — сказал он Новицкому. — Пускай этот путь покажет мне Айкони.
Пантила Алачеев, князь Певлора, знал всё, что приключилось с дочерью Ахуты Лыгочина. И он встретил Айкони здесь, в Ваентуре, когда сжигали поддельного истукана. У Нахрача Айкони служила сторожем Ен-Пугола.
У Новицкого зазвенели все напряжённые тяги души. Пантила — потаённо-пылкий, но доныне смиренный молодой остяк — внезапно обретал жёсткость охотника, только охотился он теперь не за песцами, а за демонами. Остаётся ли Пантила ему другом, или превращается во врага?
— Яко же ты ей прынэволышь? — угрюмо спросил Григорий Ильич.
— Она не может сидеть на болоте всегда. Она придёт в деревню. А я захвачу её. Она поджигательница. В Тобольске её обещают бить кнутом. Она не захочет в Тобольск и покажет мне путь на Ен-Пугол, чтобы я её отпустил.
— Нахрач не дасть тобы трымати Аконю у полоны, — возразил Новицкий.
— Нахрача я не спрошу.
— Вин забэрэ ей от тоби сылою. Ты ж однэ.
— Я один? А как же ты, Гриша? — Пантила испытующе посмотрел на Новицкого. — Разве ты не поможешь мне? Или боишься Нахрача?
Григорий Ильич не знал, кто опаснее для Айкони: Нахрач с демонами или Пантила с тобольскими кнутами. Против Нахрача он бессилен, но от Пантилы он Айкони убережёт.
— Я з тобою буду, Панфыл, — решившись, пообещал Григорий Ильич.
И вот сейчас он гнал лодку вверх по Конде в деревню вогулов, куда через леса напрямик ушла Айкони. У вогулов Айкони караулил Пантила.
Избы Ваентура были косматыми от торчащей конопатки, будто медведи. Укрытые взъерошенными кровлями из бурого лапника, они стояли на коротких столбах и не имели подклетов. Дом Нахрача ничем не отличался от других вогульских домов. Айкони скинула с плеча копьё, поднялась по бревну с вытесанными ступеньками и обеими руками толкнула низенькую дверь на кожаных петлях. Пантила опрометью метнулся за Айкони, упал на четвереньки и через бурьян пополз под брюхо избы. Он надеялся, что сквозь щелястый пол услышит что-нибудь важное. Он обжигал руки крапивой и расталкивал разный хлам, выброшенный Нахрачом: рваные берестяные короба, остовы нарт, дырявые вентери, сплетённые из лозы. Если Нахрач обратит внимание на шорох под избой, то подумает, что там возятся собаки.
— Я пришла, — сказала Айкони.
— Зачем? — вопросом ответил Нахрач.
— Улама говорит, что по Конде плывёт лодка русского шамана.
— Ике страшится его?
— Ике страшится.
— Хорошо. Я понял. Уходи обратно.
— Я устала на Ен-Пуголе одна, — возразила Айкони. — Я хочу к людям.
— Ещё рано. Я позову тебя, когда будет можно. Ухоци.
— У меня кончилась соль. Я сломала топор.
— Возьми у меня соль и топор и уходи.
Нахрач проводил Айкони до ворот в ограде своего подворья. Пантила дождался, пока Нахрач уберётся обратно в избу, и на локтях пополз наружу. Надо было взять нож и верёвку и бежать за Айкони, пока её ещё можно догнать. Пантила уже придумал, что делать дальше.
А возле своего сарая Пантила столкнулся с запыхавшимся Новицким.
— Я бачив Аконю! — взволнованно сообщил Григорий Ильич.
— Она была тут. Нахрач сказал ей вернуться на Ен-Пугол, — ответил Пантила. — А где ты видел её, Григорий?
— На бэрэжи… Нижче за тэчиею на тры вэрсты.
Пантила вперился куда-то в пустоту, лихорадочно размышляя о пути, по которому Айкони пробирается на Ен-Пугол, не оставляя следов. Её болото непременно соединяется с Кондой какой-нибудь протокой, незаметной лесной лывиной. Топкая лывина затягивает следы. Скорее всего, Айкони идёт от болота до Конды по лыви-не, а дальше — по берегу в рогатую деревню. Значит, лучше всего будет схватить Айкони где-нибудь на берегу Конды, пока она не свернула в тайгу, — там её уже никто не сможет отыскать.
— Гриша, владыка на Конде, — Пантила посмотрел Новицкому в глаза, чтобы убециться, ясно понимает ли его Новицкий. — Он близко. Ты сейчас возьми облас и жди, где Щучий обрыв. Я поймаю Айкони, приведу туда. Мы трое, ты, я и она, уплывём к владыке.
Григорий Ильич скривился, будто от боли. Он не хотел, чтобы Айкони попала в плен. Лесные звери в неволе умирают от тоски. Неужто ему надо помогать Пантиле? У Григория Ильича плакала истерзанная луша.
— Панфыл… — с трудом произнёс Новицкий. — Ако-ня нэ повынна…
Пантила молчал. Григорий Ильич опустил голову.
— Трэвожно мэни… Не збыватэ ей, Пафыл… Вона дывчинка…
Пантила изумился: Гриша жалеет Айкони!.. И тотчас Пантилу опалил гнев. Айкони отвергла крещение! Она служит бесам! Она не просто живёт в неведении язычества — она пособляет Нахрачу и знает, что делает!
— Я не буду к ней злой, — твёрдо сказал Пантила. — Но к сатане буду! Бери лодку, Гриша. Жди меня, где Щучий обрыв!
…Еле усмиряя себя, он прошагал через вогульскую деревню, не подав вида, что торопится, а за деревней, в лесу, пустился бегом. Он испытывал болезненное воодушевление, ведь он впервые что-то делал для своей веры сам, по своему почину и без руководства владыки Филофея. Он бежал по едва заметной тропинке, что вилась вдоль берега Конды — низменного и дико заросшего урёмой. Он видел, что Айкони прошла здесь совсем недавно: трава была примята; в воздухе звенели комары, почуявшие и потерявшие добычу; кусты словно бы ещё беспокойно шевелились; на мокрой земле мелькнул отпечаток маленькой девичьей ноги; на стволе упавшей сосны, что лежал поперёк дороги, темнело пятно грязи — тут Айкони наступила на ствол. За кустами и ёлками на полуденном солнце бесшумно вспыхивала река.
Айкони удалилась от Ваентура уже версты на две, когда Пантила наконец нагнал её. Айкони услышала за спиной глухой топот, оглянулась, успела выставить копьё — но Пантила легко откинул его в сторону, сбил девчонку в траву, напрыгнул сверху и сразу рывком перевернул Айкони на живот, заламывая руку. Айкони завертелась, суча ногами.
— Нахрач!.. — отчаянно крикнула она.
Пантила зажал ей рот ладонью.
— Не кричи! — велел он по-хантыйски. — Это я, Пантила.
Он быстро и умело связал Айкони запястья.
— Ике-Нуми, спаси меня! Ике-Нуми, спаси меня! — заклинала Айкони.
Пантила снова перевернул её и усадил.
— Ты не убьёшь меня, Пантила! Ты хороший! — пытаясь отползти, в ужасе говорила Айкони.
— Я не убью тебя, — подтвердил Пантила. — Зачем мне убивать тебя, Айкони? Мой новый бог не разрешает убивать людей.
Тяжело дыша, Айкони затихла. Она сидела с вывернутыми назад руками и смотрела на Пантилу сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы.
— Что ты хочешь от меня? — спросила она.
— Ты проведёшь меня на Ен-Пугол.
— Нет! — она замотала головой. — Ты сожжёшь Ике!
— Сожгу, — согласился Пантила.
Айкони подёргала плечами в напрасном желании освободиться.
— Я не проведу тебя на Ен-Пугол! Меня хотел съесть Когтистый Старик, а Ике заманил Старика на смерть! Ике добрый!
— Ике — мой идол, а не твой и не Нахрача Евплое-ва, — возразил Пантила. — Я князь. Что хочу, то и сделаю с Ике.
Пантила подумал, что сейчас Айкони скажет, будто он предал родных богов, но Айкони этого не сказала. Богов нельзя предать. Богов много; когда выбираешь одного, прочие боги просто остаются без тебя, и всё. Пантила выбрал себе бога, и этот бог — не Ике-Нуми-Хаум.
— Где русский шаман? — спросил Пантила.
— Он плывёт по Конце. Ике видел его во сне.
— Он далеко?
— Близко. Он уже миновал Балчары, где Сатыга.
— Если ты не проведёшь меня на Ен-Пугол, я отдам тебя русским. Тебя отвезут в Тобольск. Там тебя казнят. А если ты проведёшь меня, я отпущу тебя, Айкони. Пусть Ике умрёт и снова спасёт тебя.
Айкони, успокаиваясь, оценивающе разглядывала Пантилу. Конечно, Пантила её сильнее. Но для Пантилы она — прежняя девочка из Певлора. Пантила забыл, что она уже несколько лет живёт в тайге сама по себе. Она многому научилась. Эти леса на Конде стали её лесами. И здесь она обманет кого угодно. Она пообещает Панти-ле то, что Пантила хочет получить, а потом сбежит. Она не позволит убить Ике-Нуми-Хаума. В этом злом мире только деревянный Ике любил её, а все, кого любила она, от неё отвернулись. И родной Певлор отвернулся, и весёлый князь в Тобольске. И даже Нахрач, который теперь берёт её, как муж берёт жену, тоже когда-то отправил её в одиночку против Когтистого Старика — мед-ведя-людоеда. Это было, да.
— Пойдём, — решительно сказала Айкони. — Я проведу тебя на Ен-Пугол.
— Нет, — возразил Пантила. — Мы поплывём к владыке, и ты покажешь Ен-Пугол нам всем.
Он думал о Нахраче. Нахрач знал, что Пантила ищет Ен-Пугол; Нахрач быстро обнаружит, что Пантила и Новицкий исчезли из деревни; Нахрачу нетрудно будет сопоставить исчезновение гостей с появлением Айкони, хранительницы Ен-Пугола. Нахрач возьмёт с собой людей и бросится на Ен-Пугол, чтобы убить Пантилу и Новицкого. Значит, с Пантилой и Новицким тоже должны быть люди. Вдвоём им не отбиться от вогулов Нахрача.
Айкони же не верила, что кто-то ринется её выручать. Она подумала о другом. Пантила боится, что не устережёт её в пути на Ен-Пугол, и потому хочет призвать своих людей на помощь. Что ж, пусть зовёт. Она обманет и Пантилу, и всех остальных. Не важно, сколько русских будут её караулить. В этой тайге она — быстрая и бестелесная тень. Её не зажать в кулаке.
— Иди к Щучьему обрыву! — приказал Айкони Пантила.
Новицкий в обласе ждал возле Щучьего обрыва. 06-лас носом вылез на песчаную бровку под кручей берега. Новицкий сидел в лодке на корме, и серьга его блистала на солнце. Айкони и не посмотрела на Григория Ильича.
Пантила не стал развязывать пленницу. Он помог ей забраться в облас, столкнул лодку с отмели и запрыгнул сам.
— Будем плыть, пока не встретим владыку, — сообщил Пантила Григорию Ильичу и с силой загрёб веслом вдоль правого борта.
Новицкий загрёб вдоль левого борта.
Лёгкий облас понёсся по тёмной реке, усыпанной искрами.
Айкони съёжилась на дне обласа. Новицкий глядел на неё с болью и жалостью. Он не знал, как ему быть. Оглушить Пантилу веслом и отпустить Айкони? Но тогда она уйдёт к демонам, и он её больше не увидит. Отвезти к владыке? Да, Айкони будет рядом — но в плену. Душа у Григория Ильича разрывалась пополам. Его любовь не была бессильной, однако ничего не могла изменить ни в его судьбе, ни в судьбе Айкони. Этой любви просто не было места. Она никак не приживалась в этом мире — так черниговские каштаны не укоренялись в Сибири. И Григорий Ильич просто влёкся по воле событий — и страдал от неправильности всего, что творилось вокруг.
— Просты мэнэ, кохана… — тихо сказал Григорий Ильич Айкони.
Она не ответила. Может, и не услышала.
Тихая таёжная Конда лежала в хвойных берегах, как в меховом рукаве, и только ветер изредка тревожил поверхность воды. Июньское солнце жарило с небосвода, перевалив за полудень, но в ярком зное северного лета не было блаженной истомы. Этот огонь лесные боги взяли не из очага, который согревает жилище; этот огонь был из кузнечного горна, и на нём раскаляли железо, чтобы ковать ножи. В тайге не гнездились певчие птицы, и тишина казалась тяжёлой, сплошной, без ангелов. Подлинная жизнь диких дебрей начиналась в сумерках, когда просыпались совы и демоны, когда зрячие деревья открывали глаза, когда вешие души туманами вздымались из болот.
Облас преодолел десяток вёрст; Пантила и Новицкий лишь дважды откладывали вёсла, чтобы отдохнуть; речные створы все были одинаковы — низкие берега, урёма, ельники и чёрный бурелом, торчащий из мелководья.
Наконец из-за поворота долетели какие-то невнятные звуки. Облас по дуге обогнул мыс — и впереди показался дощаник с хоругвью на мачте-щегле.
Дощаник застрял на мели. Казаки обступили его по пояс в воде; они подсовывали под днище слеги и пытались столкнуть судно назад, где глубже. Командовал, как всегда у владыки, Кирьян Кондауров. Голоса казаков и донеслись до обласа. Пантила и Новицкий опустили вёсла. Они издалека рассматривали, кого на этот раз позвал с собой владыка: Митьку Ерастова, Яшку Чере-пана, Кондрата Иваныча Шигонина, Лёшку Пятипало-ва, Андрюху Клеща, Кузьку Кузнецова, а с ними — дьяка Герасима. Среди казаков суетился Емельян Кичигин — вечный приятель и собутыльник тобольского полковника Васьки Чередова. В дощанике оставались отец Варнава и сам владыка Филофей. Пантила закричал и замахал руками.
Казаки, смеясь, поймали облас, остановили, принялись хлопать Пантилу и Новицкого по спинам:
— Здорово, Панфил! Здорово, Григорий Ильич! Как харчи вогульские? Всех нехристей покрестили? Вовремя поспели — только вас не хватает судно подпихнуть! А это что за красавица? Невесту украл, Панфилка?
— Мне к владыке надо, Яша! К владыке её надо, Митя! — направо и налево объяснял Пантила.
Григорий Ильич смущённо улыбался. Он отвык от дружества.
Цепляясь за снасти, свисающие с борта, Новицкий и Пантила влезли на дощаник. Лёшка Пятипалое и Ан-дрюха Клещ вынули из обласа связанную Айкони и подняли на руках, как сноп соломы, Пантила и Григорий Ильич втащили её на судно. Айкони сразу села на подмёт и отвернулась. Григорий Ильич вглядывался во владыку, словно не верил, что они встретились. Ему показалось, что мудрый Филофей вызволит его из тоски и смятения.
А владыка благословил Новицкого и Пантилу и потом обнял обоих по очереди.
— Как я рад видеть вас в благополучии, брате! — растроганно сказал он.
Пантиле же не терпелось похвастаться своей победой.
— Отче, я поймал её! — он бросился к Айкони и поставил её на ноги. — Она знает путь туда, где идол в кольчуге Ермака! Я обещал тебе кольчугу!
— Что ж, славно, — улыбнулся Филофей.
Он шагнул к Айкони, взял её за подбородок и посмотрел в глаза. Айкони ответила мрачным, непримиримым взглядом.
— Мы тебя не обидим, — тихо произнёс Филофей. — Отпусти сердце.
Владыке нельзя было не уступить, и Григорий Ильич на миг поверил, что сейчас Айкони поддастся — и всё сделается хорошо: сгинут бесовские мороки, спадёт проклятие неприкаянности, девчонка склонится ко Христу…
— Отче, вогулы! — вдруг закричали казаки из-под борта.
Вдали из-за поворота стремительно вылетали обла-сы — пять, десять, пятнадцать!.. Двадцать три!
— Похоже, на Конде нас теперь как на Оби встречают? — щурясь от солнца, простодушно спросил Филофей.
На Оби к дощаникам Филофея перед селениями часто выплывали остяки, которые ждали владыку, чтобы принять крещение.
Но Григорий Ильич сразу догадался, что это за лодки. Не напрасно его сердце тяготило предчувствие беды. Это лодки Нахрача. Нахрач понял, что случилось; понял, куда подевались его гости, когда ушла Айкони. Он собрал своих воинов и теперь мчится отбивать хранительницу Ен-Пугола.
— Трэвога, вотче! — громко сказал Григорий Ильич. — То вогулычи поспышають за дывчиной! Трэба бо-ронитыся! Воны дюже немирны!
Обласы приближались, не снижая хода, и в быстрых движениях гребцов читалась ожесточённая решимость.
— Братцы, все на судно! — закричал Кирьян Кон-дауров.
Казаки в мокрых штанах со всех сторон проворно полезли в дощаник.
Пантила побледнел. Он осознал, какой опасности подверг владыку.
— В чём дело, Григорий Ильич? — требовательно спросил Яшка Черепан.
— Ця дывчина знаэ дорогу на мольбыще. Вогулычи за нею рвуться.
— Доставай мушкеты! — сразу распорядился Кирьян.
Казаки засуетились, вороша поклажу и грузы.
— Владыка, не обессудь, не от робости говорю, — вдруг обратился к Филофею Кондрат Иваныч Шиго-нин. — Но крепко ли нам ихний идол нужен?
Филофей помолчал, раздумывая. Казаки смотрели на него.
— Крепко, — с сожалением сказал владыка.
Обласы стремительно неслись прямо на дощаник, застрявший на мели посреди реки. Тонкая мачта дощаника слегка покосилась. В каждом обласе находилось по два-три человека: один грёб веслом, другие, встав на колено, подняли луки и натягивали тетивы. Новицкий и Пантила ясно видели уже всех: Ювана, Себеду, Пур-копа, трусливого Щеньку, Епьюма, Юзорю, Лютю, Ми-кеду по прозвищу Лосиное Копыто, Миханю, седого Микая, Етьку, Панцу — у него была хорошая жена Соя, Юлыма, Щепана — его, конечно, звали Степаном, Ерки-на и других вогулов из рогатой деревни. Совсем недавно они были добрыми соседями Пантиле и Новицкому, а сейчас нацеливали на русских стрелы со свистульками в остриях. И Нахрач тоже был здесь. Он яростно махал веслом, и его лодка, взрывая волну, мчалась среди первых.
Дощаник разом превратился в маленькую крепость, ощетинившуюся ружейными стволами, жаль только, что ружей было всего шесть. Казаки прятались за бортами, изредка выглядывая поверх досок. Владыка отказался сесть и стоял у мачты во весь рост. И Пантила тоже стоял рядом, сжимая нож. Нож, конечно, не помог бы, и Пантила готов был защитить владыку от стрел своей грудью. Новицкий оттащил связанную Айкони к мешкам с припасами. Айкони упрямо извивалась, пытаясь освободиться.
— Разрежь верёвку, — тихо попросила она.
Взгляд её прожигал дыру в душе Новицкого.
— Ни, — глухо ответил Григорий Ильич.
— По лодкам бейте, не по людям! — громко сказал Филофей казакам.
— Здесь наша работа, отче, — упрямо ответил десятник Кирьян. — Не учи.
Над рекой словно тоненько взвыли бесенята — это с обласов полетели вогульские стрелы. Они впивались в борта с тупым и сочным звуком удара или перемахивали через дощаник и, бурля, уходили в воду. Вогулы кричали что-то угрожающее. Узкие, как перья, обласы скользили мимо коренастого дощаника, словно вёрткие рыбины мимо грузного валуна, и стрелы молотили по доскам. Владыка стоял во весь рост, и Пантила не выдержал: повис на владыке и повалил его на подмёт; тотчас две стрелы вонзились в мачту. Отец Варнава крестился и бормотал молитву. Обласы разворачивались. Дощаник, утыканный стрелами, молчал. Емельян и Лёшка, которым не хватило ружей, лежали за бортами с саблями наголо. Емельян оскалился в хищной улыбке.
Митька Ерастов быстро приподнялся и нырнул обратно за укрытие.
— Кирьян Палыч, лодки в десяти саженях, — хрипло сообщил он.
— Ну, значит, напросились, — вздохнул Кирьян. — Пали по одному, робя.
Митька снова приподнялся и выстрелил. Потом бабахнул Яшка, потом — Кондрат Иваныч, потом Андрюха Клещ и Кузька. Кирьян Палыч выждал, выставился над бортом и выстрелил последним. Вогулы вопили на реке, но их обласы сновали, как и прежде, и никаких потерь у вогулов не было.
— Вы что, дрянь косорукая, палить разучились? — гневно прошипел Кирьян Палыч.
— Ты и сам-то промазал, — буркнул Кузька Кузнецов.
Он уже перезарядил ружьё, вскочил и выстрелил стоя.
И тотчас выронил ружьё за борт и повалился на спину, дёргая руками и ногами: в глазнице у него торчала стрела. Казаки ошеломлённо глядели на убитого Кузьку.
И потом дощаник грянул пятикратным залпом. Обласы вогулов метнулись прочь, один опрокинулся, а с другого с криком кувыркнулся в воду раненый Себеда. Эхо запрыгало от берега к берегу.
— Назад! — заорал своим воинам Нахрач. — Возьмём их на копья!
Обласы легко развернулись к дощанику и ринулись на приступ. Стрелы снова застучали в борта, но многие вогулы уже держали наперевес короткие медвежьи копья с широкими зазубренными листами наконечников. Обласы приближались к дощанику, сужая кольцо, а в дощанике казаки лихорадочно перезаряжали ружья, однако было понятно: вогулы запрыгнут на судёнышко раньше, чем казаки успеют огрызнуться огнём. Емельян и Лёшка
Пятипалов вскочили на ноги, подняв сабли. Пантила тоже вскочил, стискивая нож, и Григорий Ильич поднялся рядом с Пантилой. У него не было оружия, и он, потянувшись, выдернул кованый шкворень от сопцово-го руля. Дощаник, посреди реки окружённый вогулами, готовился принять последний бой.
— Налетай, нежить! — кривя рот, осатанело зарычал Емельян.
Глава 11 Воля всевышнего
Никто не понял, как они появились. Ещё мгновение назад излучина Конды оставалась пустой, её изгиб сверкал на солнце, и вдруг от лесистого мыса к дощанику по блещущей воде уже неслись две большие насады — каждая на три пары распашных вёсел. Гребцы низко нагибались и потом в рывках откидывались на спины, а над гребцами стояли стрелки с ружьями. Едва насады приблизились на расстояние выстрела, ружья загрохотали.
Вогулы, которые уже изготовились прыгать на дощаник, повалились в обласы. Внезапное нападение ошеломило их; решимости на кровопролитие у вогулов хватало только при полном преимуществе, ведь Нахрач сказал, что русские должны погибнуть все до одного, должны исчезнуть, и злодеяния как бы не будет. Новые враги, появившиеся ниоткуда, сорвали приступ: пули насквозь прошибали борта лёгких лодок, оставляя огромные рваные дыры; Еркин и Юван с плеском упали в воду, убитые. А с насад всё стреляли и стреляли — ружей и пистолетов у неведомых пришлецов было куда больше, чем у защитников дощаника. Огромные громовые колёса катились по воде между обласов, и любое из них могло переехать лодку, смяв пополам вместе с лучниками и гребцами. Из свирепых волков, раздирающих медведя, вогулы превратились в затравленную стаю, обложенную загонщиками.
А казаки на дощанике, используя смятение врагов, успели дозарядить свои ружья и тоже из-за бортов ударили по вогулам огнём. Казаки видели смуглые, злые и растерянные лица таёжников. В тёмную воду рухнул Мике-да по прозвищу Лосиное Копыто. Вогулы растерялись, не зная, что делать.
Пороховой дым расползался над плёсом тонкой синей пеленой и гасил бешеное сияние солнца на взбаламученной воде. Стрелы уплывали вниз по течению, задрав оперённые хвосты. Берега взволнованно гудели — в ельниках укладывался гром пальбы. Насады приближались. И тогда проворные обласы начали пятиться от дощаника и разворачиваться, а потом скользнули прочь и, ускоряясь, врассыпную устремились к дальнему повороту реки. Горбатый Нахрач, сжимая бесполезное копьё, обернулся и мрачно глядел исподлобья.
Две насады грузно подъехали к дощанику с обеих сторон, с хрустом ломая торчащие из бортов стрелы. Казаки изумлённо рассматривали своих спасителей: в насадах сидели татары в полосатых чапанах на голое тело и в шта-нах-иштонах. Лодкой справа командовал бухарец Ходжа Касым — он снисходительно улыбался казакам, а лодкой слева — Леонтий Ремезов.
— Живы, братцы? — весело закричал Леонтий. — Владыка цел?
— Вы откуда взялись, басурмане? — сверху спросил Кирьян Кондауров.
— Принимай на борт, к вам и гнали!
Леонтий первым ловко влез на дощаник, обнял Яшку Черепана — своего приятеля, увидел владыку и низко поклонился, прижимая руку к груди.
Филофей, кряхтя, поднялся на ноги.
— Не по чину я тебя встречаю, — смущённо признался он.
— Главное — на этом свете.
— Благодарю тебя, Леонтий, друг мой, — сказал Филофей.
— Не меня надо благодарить, а вот кого, — Леонтий кивнул на Касыма, который тоже перелезал через борт. — Насады евонные, и люди тоже.
Касым распрямился, горделиво расправив грудь. Казаки расступились.
— Век бы не подумал, что меня выручит магометанин, — прищурясь, усмехнулся Филофей.
— И я бы не подумал, — дерзко сказал Касым.
За мешками и грузами он вдруг заметил связанную Айкони, и сердце его дёрнулось: Айкони была так похожа наХамуну… Её присутствие поразило Касыма — это было зримое доказательство того, что сейчас его ведёт Аллах.
— Прими почтение наше, Ходжа Касым, — Филофей склонил голову. — И твоим людям тоже почтение. От себя говорю и от товарищей своих.
— Аллах велик, — искренне ответил Касым.
Конечно, этого русского священника спас Всевышний. Так Всевышнему было угодно. Ходжа Касым ощутил его участие в своей земной жизни, когда Аллах в неизреченной милости изволил одним взмахом небесного кинжала рассечь все путы, которые сковали душу и судьбу Касыма. Это случилось две недели назад, когда в дом к Ходже Касыму пришёл Леонтий Ремезов.
— Батя согласился сменять Ваньку Демарина на Ермакову кольчугу, — сообщил Леонтий.
— Да проживёт Семён столько же лет, сколько прожил расул Ибрахим! — от души пожелал Касым.
— Но не всё ладно, — вздохнул Леонтий.
Он рассказал, что путь к тайнику с кольчугой начерчен на образе святой Софии, а образ увёз с собой на Конду владыка Филофей. А время поджимает. Онхудай назначил срок встречи: после летних найров. Найры — родовые игрища степняков — проходят перед Ильиным днём. Владыка вряд ли успеет вернуться так рано. Нужно самим поскорее плыть за ним на Конду и забрать у него икону. Но денег на такое предприятие у Ремезовых нет. И людей нет.
Касым купил две насады и нанял в умме работников — сильных гребцов. Он мог бы сидеть дома и ждать, когда Леонтий сплавает туда-обратно и привезёт икону. Однако дело было не только в иконе. Там, на вогульской Конде, обрела убежище сестра Хамуны, её двойняшка, — злая шутка рогатого тагута. Когда Касым заключал Хаму-ну в свои объятия, душа Хамуны улетала к сестре, и Касым оставался с пустыми руками и плачущим сердцем. И там же, при владыке Филофее, нахоцился полковник Новицкий, оскорбивший Касыма и укравший любовь Хамуны. Касым понял, что он должен поехать в тайгу вместе с Леонтием. Он найдёт и убьёт и Новицкого, и сестру Хамуны. И Хамуна будет принадлежать ему вся, сколько её есть на свете.
Татары помогли казакам спихнуть дощаник с мели на глубокую воду, и владыка распорядился подыскивать место для ночлега.
Поляна попалась не очень удобная, но выбирать не приходилось. Митька Ерастов и Андрюха Клещ выкопали яму на опушке леса, а Кондрат Иваныч вытесал крест-голбец. Кузьку Кузнецова омыли и похоронили в рогожном куколе, отец Варнава прочёл разрешительную молитву, а потом — Вечную память. Владыка присел у могилы с Псалтирью. К общему костру он явился только в сумерках, когда и казаки, и татары уже соорудили шалаши из лапника и отужинали. Казаки сварили в котле овсяную кашу, а татары в казане сготовили себе шурпу из вяленой баранины.
Леса потемнели, окутались мглою, и рассеянная светлая ночь затопила всё вокруг прозрачной молочной мутью, в которой еле угадывались большие мохнатые деревья и зеркальная плоскость реки. Лёгкий ветерок колыхал большой шатёр, поставленный для владыки Филофея, и шатёр поменьше, поставленный для Ходжи Касыма. Журчала вода, обтекая корму зачаленного дощаника. По смолёным днищам перевёрнутых насад прыгали какие-то птички. Изредка в небе мелькали тени — это над поляной мягко проносились совы. Тайга тихо шумела: на закате она не засыпала, а просыпалась.
Костёр догорал. Татары поодаль раскатывали кошмы. Казаки курили трубки, глядя в угли. Владыка опустился на корягу возле Леонтия.
— Объясни, Лёня, как же вы здесь очутились, — попросил он.
— Да всё просто, отче.
Леонтий не спеша рассказывал о Ване Демарине, о выкупе для Онхудая, о тайнике в степи и чертеже на иконе. Касым слушал и внимательно наблюдал за Новицким, который тоже расположился у костра, но вёл себя как-то беспокойно: то и дело смотрел куда-то в сторону реки. Ненависть уже не ослепляла Касыма. Новицкий был рядом, он никуда не денется, значит, он уже почти мёртв. Но Касым удивлялся: его появление нисколько не смутило ссыльного полковника, не насторожило. Казалось, что полковник даже в глубине души не испытывает никакой вины перед тем, у кого едва не отнял жену. Новицкий словно бы напрочь забыл о Хомани — как ничего не было. Его занимали совсем другие мысли, и о мести Касыма он вовсе не думал.
— Знал бы я, что сей образ так важен для Семёна Ульяныча, так и не притронулся бы, — сказал Филофей Леонтию. — Лёшенька, будь другом, принеси святую Софию, она в шатре в коробе.
Лёшка Пятипалов принёс к костру икону, завёрнутую в полотенце.
— И где же чертёж? — с детским любопытством спросил Филофей, разворачивая икону и рассматривая в красном отсвете углей.
Казаки, которые тоже слушали Леонтия, собрались вокруг Филофея.
— А вот он, под ногами у Софии, — Леонтий указал пальцем. — Чёрточка потолще — Тобол, а тут притоки, а охрой — Тургайские суходолы.
— Не грех ли то — на святом образе мирскую страсть запечатлеть? — недовольно пробурчал отец Варнава.
— Даже не знаю, — усмехнулся Филофей. — Такого никогда не встречал.
— А я вот всё запомню, да побегу вперёд, да выкопаю клад, — испытующе сказал Леонтию Емельян, чередов-ский приятель.
— В этом чертеже ещё вдоволь хитростей запрятано, — ответил Леонтий. — Не для дураков дед писал. Только батя все крючочки расцепит.
— Забирай, Лёня, — владыка протянул икону Леонтию.
А Григория Ильича всё это не интересовало. Его мысли были прикованы к Айкони. Она сидела на берегу, привязанная к сосне, — там ветерок с реки отдувал комаров. Айкони сторожил Пантила. Туда, на берег, и рвалась душа Новицкого. Находиться где-то в стороне от Айкони ему было мучительно.
Он не выдержал, поднялся на ноги и пошагал от костра на берег.
Айкони полулежала на земле меж корней сосны. Руки её по-прежнему были скручены за спиной, а конец верёвки Пантила обмотал вокруг ствола. В сумерках Пантила позволил девчонке размяться, а потом снова связал — а как иначе удержать её? Здесь нет ни тюрьмы, ни цепей. Наверняка у Айкони затекли и отнялись и запястья, и локти, и плечи, но неволя есть неволя.
Пантила дремал. Григорий Ильич тихонько тряхнул его.
— Иди до шалашу, Панфыл, — сказал он. — Дале я сам ей постэрэжу.
Айкони не шелохнулась. Глаза у неё были закрыты. Может, она уснула, а может, не хотела видеть Новицкого.
— Не верь ей, Гриша, — вставая, посоветовал Пантила. — Она хитрая.
— Иди, йди.
Когда Пантила ушёл, Григорий Ильич стащил камзол, скомкал и осторожно подсунул Айкони под голову. От прикосновения к девчонке душа Григория Ильича содрогнулась.
— Потэрпи ще трошки, — прошептал он. — Я нэ зав-дамо тобы худа…
Он примостился рядом с Айкони и затих. Он размышлял о том, что Айкони взяла его душу в плен. Она сделала это по ошибке, не со зла, но уже ничего не отменить. Айкони его не любит. А он принял свою судьбу, и для него нет большего счастья, чем любить Айкони. Их нерушимую связь хранят языческие боги. И как им быть дальше? Он нужен Айкони только тогда, когда она сама в плену. Чей-то плен — проклятие их единения. Связь, порождённая колдовством, требует неволи одного из них, и потому боги будут кидать их обоих из неволи в неволю, пока кто-нибудь не погибнет. И пусть лучше погибнет он, потому что он перестал сопротивляться заговору. Он и так ссыльный. Он и без Айкони утратил свою свободу. У него осталась только жалость к людям, жалость к этой девочке, которая никогда не сдаётся.
В этот час в своём шатре не спал и Ходжа Касым. Кази-бек — нанятый им охранник из татар — уже разузнал всё, что хотел знать Касым. Айкони, сестра Хамуны, двойняшка, нужна русским, чтобы указать путь на какое-то капище. На ночь её привязали к дереву на берегу Конды. А Новицкий караулит её. Прекрасно! Оба врага — в одном месте и в отдалении от казаков. Два удара ножа — и Касым навеки избавится от унижения. И никто его не увидит.
Когда голоса на стане затихли, Касым проверил кин-жал-джамбию в ножнах на поясе и осторожно полез из шатра наружу. У входа сидел Казибек.
— Я с тобой, мой господин! — тотчас сказал он.
— Нет, — возразил Касым, озираясь. — Это моё дело. Я сам.
Из шалашей доносился храп. Угасающее кострище курилось тонким дымком. Над рекой плыл туман, и в тумане плеснула рыба. Белёсая ночь не прятала во тьме, а немощно растворяла предметы, превращая всё в мохнатых зверей — и деревья, и шалаши, и дощаник на берегу, и Казибека у шатра.
Ступая почти бесшумно, Касым приблизился к призрачной сосне, что стояла на берегу, и, пригнувшись, укрылся за большим кустом. В мертвенной и бледной мгле этой выморочной и бестелесной полночи он видел и Айкони, и Новицкого. Полковник привалился к сосне, а девчонка положила голову ему на колени. Полковник укрыл её камзолом. Светлела рубаха полковника. Рука его шевелилась, поглаживая волосы Айкони. Касыму показалось, что он смотрит не на пленницу и сторожа, а на любовников — столько нежности и покоя было в близости мужчины и девочки, близости усталой и безнадёжной, словно эти двое согласились на недолгое перемирие в войне друг с другом.
Но Касым всё равно достал из ножен джамбию.
Краем глаза он уловил лёгкое движение на реке. В воде у берега чернели разлапистые коряги, заброшенные сюда половодьем. А среди коряг, среди угловатых изломов их сучьев, медленно, без плеска, вырос мокрый человек. Он повёл плечом, и в руке у него появился лук. Это был вогул, лазутчик. Он поднял лук и натянул тетиву. Он целился в Айкони. Нахрач не смог отнять Айкони у русских, значит, её следовало убить. И Нахрач послал убийцу. Только так можно было сохранить в тайне дорогу на священный Ен-Пугол.
Новицкий тоже увидел вогула — и сразу всё понял.
— Трэвога! — закричал он.
Вогул спустил стрелу с тетивы.
Новицкий не колебался ни мгновения. Он как-то нелепо нырнул всем телом вперёд и прикрыл собою Айкони. Свистнув, стрела вонзилась ему в плечо. Перепуганная Айкони спросонья забилась под Новицким, а вогул беззвучно погрузился в воду и растворился среди коряг.
Всё это произошло ошеломительно быстро, будто упал какой-то глухой и тяжёлый занавес. Потрясённый Касым по-прежнему стоял за кустом. В его глазах бесконечно повторялось, как полковник заслоняет своим телом девчонку и получает стрелу, заслоняет — и получает стрелу, заслоняет — и получает стрелу. Касым осознал, что прежде — когда в жажде отмщения он предвкушал убийство полковника и девки-двойняшки — он не догадывался о главном: почему всё это случилось с полковником и Хамуной? И вот Аллах призвал его сюда, на берег, и объяснил ему суть событий.
От шалашей, топоча, уже бежали казаки. Айкони визжала, придавленная Новицким. Пантила подлетел первым, обхватил Григория Ильича и стащил с Айкони. Он хотел убедиться, что девчонка жива. Новицкий застонал.
Никем не замеченный, Касым в суматохе ускользнул обратно в шатёр.
Всю ночь на поляне было шумно. Казаки шарили по лесу, разыскивая вогулов, потом без спроса взяли татарскую насаду и плавали по реке. Ходжа Касым слышал, как кричит и ругается Новицкий, у которого выдернули стрелу из плеча, а потом прижгли рану раскалённым шомполом. Касым лежал в своём шатре и размышлял. Аллах преподнёс ему урок.
Наутро Касым и Леонтий попрощались с владыкой Филофеем. На Айкони и Новицкого Касым уже не смотрел. Пусть живут. Гребцы налегли на вёсла. Насады пошли вниз по течению Конды. Впереди были Бал-чары, селение князя Сатыги, а потом Иртыш: Цингаль-ские и Демьянские юрты, Уват и Алым, и за ними — Тобольск. Касым глядел на тайгу и ощущал себя продутым насквозь какой-то грозовой свежестью. Давно уже ему не было так хорошо. Давно он не ощущал себя таким сильным, потому что опорой ему сейчас служит правда, а не хитроумие. Про полковника ему всё стало ясно.
Так самоотверженно защищать женщину может лишь тот, кто ценит её выше жизни. Да. Полковник любит сестру Хамуны до самозабвения. Но сестра Хамуны не любит полковника — как сама Хамуна ещё не любит его, Касыма, своего мужа. Эти лесные дикарки любят только свободу. Если бы сестра Хамуны любила полковника, они оба вчера ночью сбежали бы и затерялись в тайге. АХаму-ну полковник соблазнил вовсе не из-за неё самой: он метался в тоске, утратил здравый разум и поверил в морок — в гуля. В Хаму не полковник видел её сестру. Конечно, он виноват перед Касымом. Но Касым сочувствовал ему, потому что на своём опыте познал печаль этого человека. Бывало, Касым и прежде сострадал людям, однако сострадание никогда не мешало ему поступить с человеком так, как требует честь. Честь всегда противоречила состраданию. А ныне честь и сострадание совпадали. Так устроил всемогущий Аллах, который хочет добра даже неверным и язычникам. Если бы он, Касым, убил сестру Хаму-ны и полковника, то Хамуна лишь возненавидела бы его за это. Аллах же явил Касыму правду — и этой правдой Касым теперь излечит душу Хамуны. Прозрев, Хамуна должна отвернуться от полковника и сестры. Тогда у Хамуны останется только муж. А Касым будет благороден перед ней, ведь он не обагрил руки кровью врагов. Чувство собственного благородства воодушевляло Касыма.
Путь до Тобольска занял неделю.
Первый день в стенах родного дома Ходжа Касым решил посвятить не делам и не женщинам, а молитве: этого требовало просветлённое состояние его духа и возвышенный строй мыслей. Он совершил намаз полного фарда, не объединяя зухр и аср, не сокращая число ра-каатов и добавляя к фарду ратибат-намаз. После утреннего фаджра он послал в Гостиный двор старого Суфья-на с запиской саркору Асфандияру, чтобы тот отсчитал закят; полагая долг уплаченным, он исполнил и нафили: в каждом из намазов произносил слова покаяния тасбих. После ночной иши он начал тахаджуд и завершил ви-тром. Бесконечные сложности и тонкости разных намазов изнурили его так, словно моление было тяжким телесным трудом, и на следующий день от бессилия он спал между фаджром и зухром, как спят малые дети.
А потом он надел лучшие одежды и отправился к Ха-муне.
Сулу-бике зажгла все лампады и взбила подушки на ложе, а Назифа расчесала Хамуну и заплела ей косы с бисером. Касым усадил Хамуну на маленькую скамеечку. В медовом свете Хамуна казалась девочкой из золота.
— Уйдите, Назифа и Сулу-бике, — распорядился Касым.
Он долго рассматривал Хамуну с разных сторон, как драгоценный кувшин-офтобу от лучшего мастера из Ги-ждувана. Хамуна смиренно ждала.
— Ты оскорбила меня, Хамуна, своей связью с другим мужчиной, — мягко заговорил Касым. — Моё сердце было уязвлено. За такой проступок женщину побивают камнями. Но я люблю тебя, Хамуна, и прощаю тебя.
Хомани молчала. Переживания Касыма были ей безразличны.
— А тебя тоже обманули, Хамуна, — продолжил Касым. — Я узнал это на Конде. Сейчас там русский митрополит. Ты понимаешь, кто это?
— Бога большой старик.
— Пусть так, — усмехнулся Касым. — И подле этого старика на Конде находится мужчина, который тебя взял, — Григорий.
Хомани вскинула взгляд на Касыма, словно огонь вспыхнул в очаге.
— Тот мужчина, Григорий, отправился на Конду за твоей сестрой. Он любит её, а не тебя, Хамуна. А ты лишь замещала ему свою сестру.
Касым почувствовал, что против воли торжествует. Сейчас Хамуна испытает то унижение, которое испытал он. Пусть знает, каково это: быть нелюбимой, когда любишь сама. И пусть мучение отвратит её от любовника.
— Нет! — отчаянно и гневно крикнула Хомани.
Касым понял, что попал прямо в цель. Если бы Хамуна не поверила ему, если бы сочла его слова коварной ложью, то его слова не обожгли бы её.
— Я видел, как Григорий своим телом закрыл твою сестру от вогульской стрелы. Не бойся, он жив. Но ты ему не нужна.
— Нет! — Хомани прижала к лицу ладони и замотала головой.
— Да, — твёрдо сказал Касым. — Я не лгу тебе. Я никогда тебе не лгал. Это я люблю тебя, Хамуна, а не он. Я кормлю тебя и украшаю, Хамуна, а он без жалости оставил тебя под моими плетями.
Назифа, которая пряталась за стеной и ловила каждый звук, услышала, как ненавистная Хамуна визжит, точно на порке:
— Боль! Боль!
Хамуна заметалась, как зверь, попавший в ловушку: уронила столик с угощениями, сбила медное зеркало со стены, потом в ярости сорвала полог над ложем и швырнула его под ноги, потом упала у ложа на колени и принялась рыться среди покрывал, подушек и пуховых тюфяков. Касым молча наблюдал за неистовством своей наложницы. Что ж, пусть джинн в её душе перебесится и вырвется на волю. Ему больше нечего делать в Хаму не.
Хамуна вытащила из-под тюфяков нож — несомненно, украденный у старого Суфьяна, который в доме Касыма был ещё и поваром. С ножом в руке Хамуна подскочила к Касыму. Касым улыбнулся. Большой нож в тонкой девичьей руке выглядел трогательно и нелепо.
— А что решит нож? — укоризненно спросил Касым. — Хамуна, ты…
Он не смог договорить.
Он опустил глаза и увидел, что нож по рукоять торчит в его животе. Это было так дико, что Касым даже не поверил, но какой-то железный затвор перекрыл ему речь и дыхание. Касым изумлённо посмотрел на Хомани — но Хомани не было: перед ним стояла Айкони, таёжная Айкони, которая убила человека, убила медведя-людо-еда и стала демоном колдовского болота.
Назифа услышала шум падения большого тела и хрип. Она рванулась в дверь. Ходжа Касым — такой рослый, такой широкоплечий мужчина, — лежал на полу, на ковре, и живот у него был залит кровью. Хамуна как ведьма сидела на Касыме верхом. В руке у неё был нож. Схватив Касыма за клин ухоженной бородки, Хамуна задрала ему голову и перерезала горло.
Назифа завыла из самой глубины нутра и кинулась на Хамуну.
…Поздним вечером этого дня, вернее, уже ночью, когда правоверные исполнили иши, а те, кому не хватило единения со Всевышним, исполнили и тахаджуд, и витр, в ворота подворья Ходжи Касыма въехала арба. Из дома вышла Назифа — стройная и высокая, закутанная в чёрное, с лицом, закрытым сеткой-чачваном. Все вокруг теперь боялись Назифу: сегодня она осмелилась дерзко повысить голос на шейха Аваз-Баки; она кричала шейху, что в этой стране, в этой ненавистной Сибири, солнце летом не уходит за край земли, и потому тело её мужа будет оставаться в доме до тех пор, пока она, старшая жена, не выплачет все слёзы до раскалённого днища своей души. Назифа придержала дверь, и Суфьян с Бобожоном вынесли из дома длинный свёрнутый ковёр. Лица у Суфьяна и Бобожона были бледные и обвисшие. Ковёр слегка подёргивался, и доносилось сдавленное мычание.
Слуги погрузили ковёр в арбу. Арбой управлял Ас-фандияр. Арба поехала на берег Иртыша. На берегу возле лодки ждал молодой Хамзат. Ковёр переложили в лодку. Асфандияр, Хамзат, Суфьян и Назифа сели в лодку; Бо-божон столкнул их на воду. Лодка, будто привидение, поплыла по тихому Иртышу в зыбкой мгле обманного ночного света.
На середине реки Асфандияр и Хамзат сложили вёсла. Назифа встала в лодке во весь рост.
— Провались в Джаханнам живой, Хамуна! — объявила Назифа. — Будь ты проклята Пророком и всеми праведниками!
Мужчины приподняли мычащий ковёр и перебросили за борт. Волна схлопнулась над ним, и тусклая вода забурлила пузырями.
Глава 12 Среди трясин
Пантила прекрасно умел запоминать тайгу, всегда похожую на саму себя и однообразную: он видел мельчайшие подробности и особенности стволов, ветвей, листвы или хвои; он замечал расположение деревьев, подлеска и окружающего бурелома; он мог представить местность в любое время года и при любом свете. Такое умение вырабатывалось долгой жизнью в тайге и многими поколениями предков-охот-ников. Пантила читал тайгу так же легко, как владыка Филофей читал иконостас, различая святых и не путая их деяний. Но берег этого болота Пантила не узнавал, хотя наверняка побывал здесь не единожды, ведь он обшарил все леса вокруг рогатой деревни. Что ж, таёжные духи не раз отводили ему глаза и прятали от него очевидное.
Владыка и казаки тоже рассматривали открывшееся болото. Ёлки и берёзы вперемешку — чахлые и какие-то порченые. Осока. Заросли ивняка и бузины. Валежник — но не мягко облачённый в моховые шубы, как в глубине чащи, а голый и костлявый. Непривычное, мучительнопустое пространство топей. Косматые зыбкие кочки и острова с больным олешником. Извилистые протоки и широкие зеркала бучил, в которых чёрная вода отдавала кровавой краснотой. Но болото не было мёртвым. Наоборот, трясины цвели.
— Где Ен-Пугол? — спросил Пантила.
— Там, — Айкони указала в сторону болота. — Надо через брод.
— Погибель души, — мрачно проворчал Кондрат Иваныч Шигонин.
Айкони понимала, что русские боятся болот. Глупцы. Они не ведают, что болота — это огромные котлы, в которых медленно варится жизнь. Из болот вытекают реки, малые и великие. Из болот вырастают горы. Болотной мглой всплывают облака — их потом до белизны высушит солнце. В прелых прорвах, как лягушачья икра, зреют и копошатся личинки лесных духов. Болота — вечно рожающая Мать, и мужчины не выдерживают этого зрелища.
Айкони не обманула: на этом месте и вправду начинался брод через топи. К стволу сосны были привалены слеги, заготовленные Нахрачом. Казаки заряжали ружья и подтягивали верёвки своих заплечных мешков.
— Гриша, может, не пойдёшь? — спросил Филофей у Новицкого.
Плечо Григория Ильича под камзолом было плотно обмотано холстом.
— Вернись к дощанику, подожди нас, — добавил владыка.
— Я пыду з тобою, вотче, — твёрдо и упрямо ответил Новицкий.
— Рану замочишь, воспалится — помрёшь.
— Нэ помру.
Пантила внимательно разглядывал Айкони, пытаясь угадать её мысли и намерения. Айкони оставалась непроницаемой. Пантила протянул ей слегу.
— Она первой пойдёт, а я за ней, — решил он.
— Нэт, Панфыл, за ниё пыду я, — возразил Новицкий.
Пантила вопросительно посмотрел на Филофея.
— Пускай Гриша идёт, — сказал Филофей. — Ну, братцы, вперёд.
Айкони молча ступила в воду, даже не потрогав путь слегой. За Айкони двинулся Новицкий, потом — Пантила, потом — Емельян и Кирьян Палыч Кондауров, потом — сам владыка, а за ним шли отец Варнава, дьяк Герасим и казаки: Митька Ерастов, Кондрат Иваныч Шигонин, Андрюха Клещ, Лёшка Пятипалое и Яшка Черепан. Чёртова дюжина на бесовом болоте.
Холодная вода поднималась всё выше и выше. Она казалась вязкой и жирной. Вокруг идущих расползалась затхлая муть. Ноги скользили на осклизлых донных буграх. Слеги упирались в нечто мягкое и непрочное. После тесной тайги простор болота вызывал оторопь, словно люди лишились защиты. Чудилось, что на них отовсюду кто-то смотрит, а не нападает лишь потому, что впереди и так ждёт беспощадное и неумолимое зло. Издалека доносились странные утробные звуки: бульканье, вздохи, травяной шёпот, тихие жалобные стоны. Наверное, так переговаривалась болотная нечисть. Над топями мелькали бесплотные тени. В небе, разбрасывая лучи, парила большая птица, но разглядеть её было невозможно — слепило солнце.
Владыка Филофей озирался по сторонам. Он понимал, что впервые в жизни очутился в настоящей Сибири — лешачьей, матёрой и дикой. На дощанике посреди реки или в санях на лесном тракте — это не то; на поляне у берега или даже в глухой деревушке инородцев — тоже не то. Сейчас он погружён в Сибирь, как в это болото, и шаг в сторону легко погубит его. Он не просто пробирается через трясину; он — мошка, что ползёт по рылу чудовища: чудовище может смахнуть его лапой, а может и прихлопнуть. Но здесь он яснее, чем в храме, ощущает присутствие бога. Господь спасает человека даже в бездне, а подлинная Сибирь — воистину бездна.
Филофей вспомнил, как Ремезов рассказывал о сокровенных тайнах болот. Болота — это водовороты времени, один круг за столетие. Они ничего не теряют и сохраняют в нетленности всё, что когда-то засосали. Неспешно выворачиваясь изнанкой наружу, они иногда выносят наверх то, что лежит в недрах. Не раз охотники видели, как в чёрных потрохах трясин появляются древние богатыри инородцев, утонувшие много веков назад: не тронутые распадом плоти, они покоятся на зыбунах в кожаных доспехах и железных колпаках. Ремезов и сам был свидетелем такого чуда. На висячих прорвах Каменного Пояса, по которым когда-то дружина Ермака пыталась протащить тяжеленные струги, Семён Ульяныч встретил эти брошенные суда: из бучила вздымался облепленный илом корабельный нос, вытесанный в виде лебедя.
Пантила брёл по пояс в тухлой жиже, и ему было очень тяжело, однако Новицкому приходилось ещё хуже. Пантила заметил, что на тугом плече пропотевшего камзола Новицкого проступает мокрое бурое пятно.
— Гриша, у тебя рана кровь точит, — прохрипел Пантила.
— Нэхаэ… — также хрипло выдохнул Новицкий.
Айкони тащилась впереди казаков и примеривалась, как ей убежать. Она заметила то, что казаки заметить не могли, да и Пантила тоже. Слеги у сосны были привалены иначе, нежели она их оставляла. На прибрежном кусте ивы была заломлена веточка — это знак Нахрача, что он на Ен-Пуголе. Листики уже пожухли — Нахрач сделал залом полдня назад. Полотнище ряски, которое всегда плавало там, где брод, было разорвано пополам и ещё не сомкнулось: значит, здесь прошло много человек — в одиночку Нахрач не нанёс бы ряске такую рану. Айкони всё было ясно. Нарушив тайну капища, Нахрач привёл вогулов на Ен-Пугол. На Ен-Пуголе — засада.
Бежать надо вон от той разлапистой коряги — она всегда напоминала Айкони многорукого Хынь-Ику. Русские не знают, что за корягой болото мелеет, хотя Пантила мог бы и догадаться: разбухшая коряга не способна плавать, она лежит на дне. Но Пантила слишком сжился с русскими, забыл родных богов и правила тайги; он утратил зоркость опытного таёжника. Потому коварные менквы сумели его обмануть, похитив Ен-Пугол из его зрения, и Пантила всю зиму впустую рыскал вокруг острова с капищем.
Айкони оглянулась на Новицкого. Хорошо, что он ранен: это поможет ей. Она вытащила слегу, перехватила поудобнее и в развороте со всей силы ударила Новицкого по кровоточащему плечу. Григорий Ильич взвыл от боли и бултыхнулся боком в болотину. Он ушёл с головой, но сразу вынырнул, кашляя и выплёвывая тину. Айкони как коза прыгнула вперёд, расплёскивая бурую жижу, а Пантила, который двигался за Новицким, кинулся к Григорию Ильичу и цепко ухватил его за руку, не позволяя утонуть.
Айкони прыгнула снова, а потом снова. Коряга была уже близко. Никто из казаков не погнался за девчонкой — Пантила и барахтающийся Новицкий перегородили им путь по броду. На это Айкони и рассчитывала.
— Стой, сатана! — взревел Емельян.
Ружьё висело у него поперёк груди на ремне. Емельян отбросил слегу, стряхнул ремень с шеи, вскинул ружьё и прицелился.
— Нэ стрыляй! — отчаянно крикнул из болотины Новицкий.
Пантила рванул его на себя.
Емельян выстрелил. Взвился кислый пороховой дымок. Но ничего вокруг не изменилось. Айкони вскарабкалась на корягу, пролезла сквозь сучья, соскочила по другую сторону коряги и побежала прочь уже по колено в воде. Емельян промахнулся. Эхо несколько раз хлопнуло в дальних лесах.
Пантила выволакивал Новицкого на брод. Григорий Ильич стонал от боли в потревоженном плече и грузно ворочался, облепленный болотной слизью. Мерзкая широкая прядь из водорослей намоталась ему на локоть, словно болото схватило его зелёной тинной рукой, и с неожиданной яростью мощно дёрнула обратно в болото. Пантила, державший Новицкого, едва не соскользнул вслед за ним. Емельян, ругаясь, ринулся на подмогу Пан-тиле. Вдвоём они еле вытащили задыхающегося Григория Ильича на брод. За Новицким в топь тянулись бурые верёвки с мелкими листочками.
— Это нечисть ярится, — угрюмо произнёс Кирьян Палыч Кондауров, стоящий за Емельяном. — Не желает нас пущать.
— Сорвалась с крючка, стервь, — щурясь, процедил Емельян.
Айкони вдали прыжками бежала по чёрной воде к острову.
— Тот остров — Ен-Пугол, — убеждённо сказал Пантила.
Двенадцать человек стояли посреди болота по пояс в трясине и смотрели на остров, до которого было меньше полверсты. Понизу, по берегу, остров оброс ивняком и смородиной, а над лиственными кущами царственно вздымались прямые тонкоствольные сосны. Ен-Пугол — заклятое, потаённое мольбище вогулов… Но среди сосен тревожно мелькали и верещали птицы.
— На острове люди, — предупредил товарищей Пантила.
Впрочем, переполох наверняка подняла Айкони.
Идти по отмели стало гораздо легче. Под ногами был уже не вязкий ил, а что-то плотное — песок или суглинок. Измученные переходом казаки брели к кустам Ен-Пугола, надеясь на отдых. Владыка не признавался, что изнемог.
До острова оставалось уже рукой подать, как вдруг густые кусты взорвались безумными криками. Над отмелью тоненько взвыли стрелы. Всё-таки вогулы устроили на Ен-Пуголе засаду. Укрыться от стрел было негде — заросли камыша и осоки никого не защитили бы. Казаки падали на колени, чтобы как-то уменьшиться, не быть мишенью. Кондрат Иваныч заслонил собою владыку. Стрелы свистали между людей и бурлили в воде опереньями.
Ружьё у Емельяна было уже разряжено, и Емельян выхватил саблю.
— Уймём чертей! — заорал он, бросаясь к кустам.
Казаки торопливо целились, но разглядеть противника
не получалось. Загрохотала пальба вслепую. Пули вышибли из кустов фонтаны листьев, и на берегу истошно завопили. Пантила, пригнувшись, вертел головой. Всё это было странно. Вогульские стрелы нелепо неслись вкривь и вкось, не в лад и куда попало, только с Митьки Ерастова сорвало шапку. Таёжные охотники, умевшие сбить белку или птицу на лету, словно разучились стрелять.
Опустошив ружья, казаки вскочили и помчались к острову с саблями.
— Не лейте кровь! — крикнул им вслед Филофей.
Рядом с Пантилой вдруг охнул Новицкий. В бедре
у него торчала стрела.
— Що ж мэни тако нэ щастыть? — простонал Григорий Ильич.
Пантила кинулся к Новицкому и поднял его. Перекинув руку Григория Ильича себе через шею, он поволок его через осоку к берегу. Отец Варнава и дьяк Герасим тащили к берегу обессилевшего владыку.
Расшвыривая и рассекая ветки, рассвирепевшие казаки без тропинок проломились сквозь кусты. Они очутились на вытоптанной поляне капища. Их было всего семеро, но все — с саблями наголо. Капище было уставлено идолами, амбарчиками на столбах, жертвенными срубами, заросшими внутри крапивой, и какими-то сооружениями из жердей. Меж языческих кумиров и кумирен метались вогулы — метались в мутном, бессмысленном исступлении, словно сумасшедшие. Они дико вопили, размахивали старинными ржавыми мечами, сталкивались и роняли друг друга на землю. Они никого не видели — ни своих, ни чужих; они ничего не понимали, одержимые лишь бесовской страстью вырваться из себя, превратиться в бурю, уничтожить всё. Их лица, перемазанные золой и глиной, разъехались, а ноги плясали сами по себе. Все они были пьяные, однако пьяные злобно и по-дурному: их свела с ума какая-то разрушительная отрава. Их подхлёстывала вовсе не святая ярость, когда люди защищают то, что для них бесценно, а собачье бешенство, когда псы вертятся, кусают людей и грызутся меж собой, разбрызгивая пену из пастей.
— Вали их и вяжи! — закричал Кирьян Палыч.
Казаки опрокидывали вогулов ударами в челюсть, перехватывали руки с оружием и пинали коленом в живот, сбивали с ног, оглушая кулаком в ухо. Это было не побоище, а избиение. Вогулы осатанело визжали, но не могли даже рубануть мечом или увернуться. Кое-кто из них и сам падал в траву на четвереньки и корчился в приступах рвоты. Яшка Черепан расшвыривал противников, как снопы. Лёшка Пятипалов цапнул какого-то вогула за волосы и шибанул лбом в бок ближайшему истукану, словно хотел вдолбить какую-то истину. Другой вогул прыгнул Кондрату Иванычу на спину, как рысь, и впился зубами в плечо; Кондрат Иваныч, зарычав, сорвал его с себя и отбросил прочь. Андрюха Клещ толкнул своего врага на костяк из шестов, и вогул с треском повалил всю постройку. На Емельяна бежал таёжник с большим иззубренным ножом, каким вспарывают брюхо лосю или медведю, и Емельян без колебаний саблей рассёк вогулу голову. Кирьян Палыч Кондауров, командир, сгрёб Емельяна за грудки.
— Ты здесь не с Васькой Чередовым! — выдохнул он Емельяну в лицо. — Ты с владыкой, Емеля! Мы без смертоубийства идём, понял?
— Сгинь! — Емельян отпихнул Кондаурова.
Точно оправдываясь перед Кирьяном Палычем, он встретил ещё одного нападающего короткой, но убойной зуботычиной.
Когда отец Варнава и дьяк Герасим вывели владыку из кустов, поляна капища была усыпана поверженными вогулами. Кого-то из них казаки уже вязали, а прочие ворочались, будто им переломили хребты, и стонали.
Владыка мрачно оглядел растерзанную поляну. Идолы, срубы, кривые раскоряки из жердей, кусты, деревья и распростёртые тела. Окровавленные вогулы валялись под своими болванами, словно языческие жертвы.
— Они, видно, дрянь какую-то сожрали, — всовывая саблю в ножны, пояснил Филофею растрёпанный Кирьян Палыч. — Обезумели, нехристи.
Пантила уложил Новицкого рядом с владыкой, прошёл к кострищу, в углях которого стоял чугунный котёл, и опрокинул посудину. Из котла в угли, шипя, вытекло чёрное пойло. Поднялся вонючий пар.
— Мухоморы варили, — сообщил Пантила.
— Я такое уже видал, — презрительно сказал Емельян. — Мухоморовка в башку шибает. От неё смелость как у дьявола, но драться-то она не научит.
— Где Аконя? — тихо спросил у Пантилы Новицкий.
— И Нахрач Евплоев где? — спросил Филофей.
Казаки озадаченно крутили головами. В пылу схватки они забыли о девке-беглянке и князе-шамане.
— Найдём, — пообещал Кирьян Палыч.
К вечеру казаки уже освоились на капище, будто на обычном походном стане. Дым от костра-дымокура заволакивал поляну, отгоняя болотный гнус. В сопровождении Пантилы владыка медленно обошёл остров, рассматривая причудливое вогульское идолобожие. Страшные, грубо вытесанные рыла истуканов с выжженными ртами и гвоздями вместо глаз. Лесные демоны менквы с заострёнными головами. Ржавые ножи, вбитые в стволы деревьев до резных рукояток из кости. Невысокие бревенчатые срубы, а внутри — ворохи гнилой пушнины, заросшие бурьяном. Проплешины очагов. Помост со священными нартами, полозья которых выгнуты спереди и сзади. Две большие ловчие ямы на медведей: настил из бурого лапника по весне провалился, а на дне торчат заточенные колья. Большие рамы из столбов и жердей, на которые в камланиях накидывают покров из шкур или берестяные полотнища, чтобы получился шаманский «тёмный дом». Рёбра животных. Жертвенные амбарчики чамьи — избушки на курьих ножках. Сорная трава. В кондовых деревянных церквях Сибири, в неумелых иконах сибирских богомазов Филофей всегда видел возвышающее душу стремление выразить небесное совершенство, а образы капища были совсем другие: что-то напоказ уродливое, вызывающе исковерканное, изувеченное — лишь бы смутить непонятным, сломить волю, подчинить неизъяснимому ужасу.
— А где тут идол в Ермаковой кольчуге? — спросил Филофей.
— Думаю, тут Палтыш-болван стоял, — Пантила указал на свежую яму, возле которой лежал длинный лосиный череп. — Нахрач выдернул, утащил.
Пантила уже понял, что вогулы напали на казаков лишь для того, чтобы позволить Нахрачу с идолом уйти подальше в тайгу.
— И какого он роста был? — любопытствовал владыка.
— Меня, наверно, вполовину выше.
— Как же Нахрач такое бревно волочит?
— Он не сам, — Пантила прочёл это по следам, по борозде на земле. — У него лошадь. Нашу с Гришей взял, которая в деревне осталась.
— Вот ведь упрямый, — усмехнулся Филофей.
— Завтра догоним, — уверенно сказал Пантила.
Поодаль от всех — от владыки с Пантилой и казаков у костра — Емельян тихонько забирался в жертвенные амбарчики и обшаривал, что там есть у вогулов. Вдруг серебро или побрякушки какие? Нажива не будет лишней.
А Григорию Ильичу не было дела до языческих богов и сокровищ. Он не обращал внимания даже на боль от своих ран. Застыв у входа в землянку, он пытался вообразить, как Айкони жила здесь, на острове среди болота. Она вот так же глядела на эти бескрайние топи, на эти высокие сосны, на этих деревянных чудищ… О чём она думала под косматыми созвездиями, когда в одиночестве разгребала снег или разжигала чувал? Григорий Ильич, хромая, спустился в жилище Айкони. Стены и окошко, пол и потолок, неказистая утварь… Новицкий потрогал шкуры на лежаке, словно хотел ощутить ещё не угасшее тепло тела. Айкони ушла с Нахрачом, который поволок своего истукана в новое убежище. Бесполезно. Григорий Ильич знал, что рано или поздно он опять настигнет девчонку. Но что дальше, что дальше?..
На ночь пленных вогулов загнали или затащили в землянку. Казаки их не боялись. Пьяный раж у вогулов иссяк, и навалилось жестокое похмелье — даже не похмелье, а мучительная немощь отравления. Измученные инородцы не смогли бы затеять никакого бунта и не представляли опасности.
Светлой и туманной полночью посреди капища горел костёр, а возле огня сидели Кирьян Палыч, Пантила, владыка Филофей, Новицкий, Емельян и дьяк Герасим. Языки пламени плясали на менквах, расколотых на поленья; пылающие головы менквов обугливались и распадались. Красные отсветы бегали по суровым рылам идолов, что безмолвно высились в сумерках вокруг людей и костра, будто караульные. Идолы словно бы отвернулись в разные стороны, не желая видеть, как погибают их собратья; они угрюмо глядели в прогалы меж кустов на просторную и мертвенную синеву болота. И вдруг с болота донёсся тихий, протяжный и невыносимый стон. Так не мог мучиться никакой человек, и старое дерево так скрипеть тоже не могло.
— Что это? — озираясь, тревожно спросил владыка.
— Болото плачет, — нехотя пояснил Пантила. — Плохое место, отче.
— Зря мы сунулись в эти гиблые урманы, — мрачно сказал Емельян. — Тут нечисть. Сожрёт нас.
— Против нечисти вера есть и крест, — спокойно возразил владыка.
Он знал, что разворошил гнездо змей. И надо дотоп-тать выползков.
— Пусти меня дальше одного, отче, — вдруг горячо, но как-то обречённо попросил Пантила. — Я тут могу, не пропаду. Я уже завтра догоню Нахрача. Идола его сожгу, кольчугу отниму, принесу тебе.
— Да как же ты найдёшь Нахрача-то? — удивился дьяк Герасим.
— За ним по лесу борозда от идола остаётся, — фыркнул Кирьян Палыч. — Слепой отыщет.
— Нахрач к Сатыге в Балчары идёт, — сказал Пантила. — Больше некуда.
С болота снова донёсся стон, но теперь показалось, что это волчий вой.
— Вожак свою матку зовёт, — удовлетворённо произнёс Кирьян Палыч.
Однако долгий волчий вой заиграл переливами, и стало ясно, что он превратился в невнятную речь — и совсем не человеческую.
Филофей прислушивался, чуть склонив голову.
— Один ты сгинешь, Панфил, — наконец сказал он.
— Я не сгину. Это мой лес.
Филофей задумался.
— Завтра всемером отправимся, — решил он. — Ты, Панфил, и я, Лёша, Митя и Емельян Демьяныч, а ещё отца Варнаву возьмём и тебя, брат Герасим. А прочих с вогулами отошлём в деревню.
Владыке никто, конечно, не возразил, даже Емельян.
— Я тож пыду, вотче, — глухо сообщил Григорий Ильич.
— Ты дважды ранен, Гриша.
— Я пыду, — непреклонно повторил Новицкий.
Все у костра замолчали в каком-то тягостном и недобром предчувствии.
— Гриша, к тебе бес прицепился, — мягко предупредил Филофей.
— Я и сам то давно зрозумыв, володыко, — угрюмо кивнул Новицкий.
На капище за спинами людей вдруг захрустела ветка, словно там кто-то наступил на хворост. Все оглянулись, и всех пробрала оторопь. Пантила вытащил из костра длинную горящую щепку, встал и шагнул в сумрак, освещая поляну. Но никого на капище не было. В пустой мгле всё так же торчали высокие и тёмные столбы идолов. Впрочем, нет, не так же. Идолы уже стояли как-то по-другому, точно подошли поближе, окружая людей у костра. И все деревянные лица теперь были обращены к людям и огню.
Глава 13 Купель Сибири
Насада ткнулась в просмолённый борт дощаника и противно заскрипела, скользя носом по доскам. Гребцы на дощанике подтянули тяжёлые вёсла, чтобы ненароком не зашибить тех, кто внизу, на лодке. Семён Ульяныч с любопытством смотрел из насады снизу вверх. К борту подошёл молодой усатый офицер в треуголке и ухватился за снасть, что удерживала мачту.
— Бог в помощь, — дружелюбно сказал Леонтий. — Кем будете?
Офицер на дощанике разглядывал людей в насаде с таким подозрением, будто это были беглые крестьяне, и встретил их он в тысяче вёрст от любых властей, а не на Тоболе в одном дне пути от губернского Тобольска. Шесть человек: старик, девка, три крепких бородатых русских мужика и пленный швед с бритой рожей и в камзоле. Швед — явно не из простых.
— Гвардии поручик Шамордин, — с надменностью в голосе представился офицер. — Комиссар по особым поручениям Правительствующего Сената.
— И как такой павлин в наш курятник залетел? — ехидно спросил старик.
— Ищу лису в вашем курятнике.
— По душу Матвея Петровича, значит? — понял Ремезов. — Ну, добро. Его степенство давно уж на верёвочке пляшет, пора и в грязь.
Семён Ульяныч не желал никакого зла Матвею Петровичу, и это сказалось само собой, для красного словца — чтобы разговорить офицера. Интересно же, какую вину офицер будет разыскивать у губернатора. Но офицер не зацепился за крючок и не снизошёл до объяснения своего дела.
— А вы кто такие?
При воеводах начальство отличалось важностью: ему надо было низко кланяться, оказывать честь, трепетать перед ним и заискивать. А при Петре начальство отличалось строгостью. Оно требовало без промедления давать отчёт обо всём и, стоя смирно, изъявлять обликом рвение к службе.
— Я — тобольский архитектон Семён Ульянов Ремезов, — с достоинством сообщил Семён Ульяныч.
— После Тюмени я ни одного кирпича нигде не видел, — с сомнением заметил Шамордин. — Чего тут ар-хитектону делать?
— Да и я войска не видел, — ответил Ремезов. — Куда офицеру ехать?
— Дерзишь, — блеснув зубами, хищно улыбнулся Шамордин.
— Я тебе не холоп, а ты мне не государь.
— Кто с тобой?
— Это сыны мои Левонтий и Семён, это дочь Ма-рея. Это — Ерофей Быков прозвищем Колоброд, вольный человек. А это капитан Филипа Табберт, пленный. На него ольдерман пароль выписал, так что он здесь по закону.
Ерофей и вправду снова был вольным человеком. Ему надоело ходить солдатом. После того, что с Бухгольцем стряслось на Ямыш-озере, Ерофей понял, что служба — доля опасная и неприбыльная. Хитрый, как старый кот, Ерофей нашёл гулящего дурака, подпоил его, заплатил капралу и записал бедолагу в солдаты вместо себя. В то время в полковых бумагах царила неразбериха: кто вернулся с Ямыша? Кто не вернулся? Кто изувечен так, что ему в строю уже не место? Ерофей не растерялся и вырвался на свободу.
А Табберт горел нетерпением отправиться с Ремезо-выми за кольчугой Ермака. Господин фон Врех не возражал. Табберту очень нравилась и цель гишпедиции, и сама гишпедиция, и компания Ремезовых. Такой опыт будет бесценен для его книги. В степях он ещё никогда не бывал.
— На кой чёрт вам мушкеты и шанцевый снаряд? — спросил Шамордин.
Он сверху рассмотрел поклажу в насаде: мешки и котёл, заступы и кирку. А также ружья, завёрнутые в промасленную холстину.
Семён Ульяныч в досаде поморщился. Не дай бог залётный офицер заподозрит его в бугровании: государь приказал вешать бугровщиков.
— Я же старый, — ответил Ремезов. — Вдруг помру, похоронить надобно.
— Пройдоха ты, я вижу, — прищурился офицер.
— Плыви своим путём, — открестился Семён Ульяныч. — У тебя — своя забота, государственная, а у нас — своя. Бывай здоров, Шамордин.
Леонтий веслом оттолкнул насаду от дощаника.
Семён Ульяныч был счастлив, что отправился в это путешествие. За долгую жизнь он немало поплавал по Тоболу: со служилыми — на переписи, с дьяками — на межевания, со своими писчиками — на промеры и расспросы для чертежей, а в молодости с драгунами — на войну против башкирцев и казахов. В последний раз он был здесь лет десять назад. Тобол не изменился, а сам Семён Ульяныч постарел, и ничего не поделать. Его земной срок завершался. Пусть он здоров для своих лет, но, сколько ни бодрись, смерть всё равно придёт и заберёт его. Скорее всего, это его последняя дорога. Прощальная. А он очень любил дорогу: любил свежесть реки, мерный плеск вёсел, скрип уключин, лёгкие тени облаков и дыхание лесов по берегам — смолистое или медвяное. Он любил, когда душу окрыляет вольное чувство, что от жизни ничего не нужно, кроме хорошей погоды, а погода — дело божье.
Не было в Тоболе ничего примечательного: ни могучих скал, ни пенных порогов, ни грозных стремнин. Тихая и мирная река — медленная, сонная. Пологие берега, заросшие ивняком, лопухи на отмелях, тёплая и тёмная вода. Тайга здесь заканчивалась, превращаясь в светлые рощи, и густая зелень хвои сменялась сквозистой зеленью листвы, а в деревьях пели птицы. Небеса были уже степные, выгоревшие от солнца, просторные, словно кочевье. Всё на Тоболе как-то незримо склонялось, разваливалось, норовило разлечься и томно расползтись. Но в неброской и ленивой обыденности Тобола таилась глубинная укоренённость в жизни. Тобол словно бы всё давно уже увидел и всё давно уже понял. Его безмятежность была екклезиастовой мудростью: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать».
— Хорошо, боже мой!.. — блаженно вздохнул Семён Ульяныч. — Я и не уповал, что до кончины ещё раз странствия вкусить успею. Верно господь рассудил: надобно перед смертью омыться водой из купели.
— Что ты хотеть сказать, Симон? — встрял неугомонный Табберт.
— Говорю я, Филипа, что Тобол — купель Сибири. Начальная река. Всякая земля с чего-то начинается, а Сибирь — с Тобола.
Так оно и было. Чертёж Тобола Семён Ульяныч всегда помещал на первый лист своих изборников, а уж потом длинной пряжей тянулись по страницам Иртыш, Ишим, Обь, Енисей, Тунгуска, Ангара, Байкал, Селенга, Вилюй, Лена, Алдан, Колыма и Амур. И Ермак тоже пришёл на Тобол.
— Рано ты помирать собрался, батюшка, — жалостливо сказала Маша.
— Аты молчи, Марея! — сразу отозвался Семён Ульяныч. — С тобой я не разговариваю! Я тебя с нами не звал, ты мне сама на шею навязалась! Истинно говорено: куда чёрт не поспеет, туда бабу пошлёт!
— Ежели я не нужна, — обиделась Маша, — так и не ешь кашу, которую я варю. А то ведь как в два пуза пихаешь.
— Солдат кашей причащается, — посмеиваясь, пояснил Ерофей, который по давней привычке «гулящего человека» тоже набивал брюхо за двоих.
А поручик Шамордин в этот вечер добрался до Тобольска.
Он не ожидал увидеть такой большой город. Почти на версту Иртыш у берега был заставлен дощаниками, насадами и барками, а за мачтами судов высились могучие амбары, склады брёвен и сооружения плотбищ: подлинно сибирское Адмиралтейство! Нижний посад распростёрся, докуда хватало глаз, утыканный там и сям шатровыми колокольнями. По горе расползлась многобашенная каменная крепость Софийского двора и собор с куполами. Поперёк оврага раскорячились какие-то палаты. С отвесного мыса свечой взлетала столпная церковь, а рядом красовался причудливый терем Канцелярии. Дворец губернатора был не хуже иных дворцов в Питербурхе.
У крыльца губернаторского дома ожидала резная и раззолоченная карета. Матвей Петрович спускался по ступенькам. Лакей Капитон открыл дверку. Шамордин сразу узнал Гагарина — видел его в столице при государе.
— Господин губернатор, обождите! — окрикнул Шамордин и побежал к карете, одной рукой придерживая треуголку, а другой — шпагу.
— Что ещё? — недовольно удивился Матвей Петрович. — Ты кто?
— Поручик Абрам Шамордин! Прибыл с ревизией по указанию Сената.
— Опять ревизия? — рассердился Матвей Петрович.
То Нестеров, то доносы, то бешеные глаза Петра Лексеича!
— Сколько можно меня мытарить? — рявкнул Матвей Петрович на поручика. — Одно да другое, пятое да десятое!
Но Шамордин не заробел.
— Попрошу решпекта, господин губернатор! — строго оборвал он. — От моего досмотра зависит, назначит ли государь дело по вашему лихоимству!
— Ну, и досматривай! — Матвей Петрович взялся за дверку кареты. — У меня везде порядок!
— А я вот уже увидел нестроения, — спокойно сообщил Шамордин.
— Когда успел-то?
— Сегодня утром на Тоболе встретил архитектона Резанова…
— Ремезова, — поправил Матвей Петрович.
— И сей архитектон с командой плыл явно на бугро-вание.
Гагарин гневно засопел. После каземата его дружество с Ремезовым, понятно, распалось, но старик не образумился, а будто с цепи сорвался. С него станется: двинет бугровать, кривоногий чёрт. Наверное, надеется, что золотыми побрякушками выклянчит у царя новые деньги на кремль. Ох, не хватало губернатору ещё и такого позора: архитектон-бугровщик!..
— Разберусь! — сказал Матвей Петрович Шаморди-ну. — А ты ступай в Канцелярию, там секретарь Дитмер. Он тебя на постой определит. Давай, обшаривай мои карманы, поручик!
Матвей Петрович шагнул в карету, и карета тяжко перекосилась. Матвей Петрович со злостью захлопнул дверку.
…Насада Ремезовых упрямо поднималась по Тоболу. После устья Туры встречных дощаников и барок стало гораздо меньше, а после Ялуторовского острога и устья Исети купеческие суда исчезли вовсе. Отсюда начиналось степное пограничье — земля слобод и земля раскольников. В Усть-Суерской слободе Ремезовы сходили на кладбище, где был похоронен брат Семёна Ульяныча, усть-суерский приказчик. Семён Ульяныч, сняв шапку, помолчал у покосившегося голбца, испытывая странное недоумение. Брат Никита умер восемнадцать лет назад. Ему было сорок — столько, сколько сейчас Леонтию. А Семён Ульяныч помнил Никитку ещё белоголовым мальчонкой. Всё это не умещалось в сознании: маленький братик — взрослый сын — старая могила…
На луговинах, покрытых спелой травой, паслись стада. Каждый выселок был огорожен крепким частоколом, а крестьяне на поля и покосы выходили с ружьями за спиной. В берёзовых перелесках прятались тайные деревни, а кое-где можно было увидеть чёрные проплешины пожарищ — следы гарей, в которых сжигали себя непримиримые староверы. У Царёво-Городи-щенской слободы издалека был заметен высокий лысый курган — погребение какого-то древнего хана, который правил степью задолго до Тамерлана и задолго до Чингиза. Утяцкая слобода была на Тоболе последним селением.
Всю дорогу Табберт расспрашивал Семёна Ульяныча.
— Сказать мне, Симон, — настырно наседал он, — откуда, где степь, знать про Геррмак? Степь отчень далёк, где Иртышч.
— Далёк-то, конечно, далёк, — соглашался Семён Ульяныч, — только по степи после гибели Ермака ещё пятнадцать лет мотался хан Кучум, пока его не прикончили при воеводе Бутурлине. Кучум и раззвонил, какой богатырь его изгнал. В те годы джунгары и вышли из хребтов в сибирские степи.
— А как твой отец возить в степь кольтщугу?
Причиной тому были даже не джунгары, а татарский царевич Девлет-Гирей, внук хана Кучума, злой чингизёныш. Он лелеял надежду возродить ханство своего деда, изгнать русских и сделаться владыкой Сибири. Призрак былого Кучумова могущества лишил его разума. Девлет-ка шнырял по Тургаю и Барабе и неутомимо подбивал всех, кого мог, нападать на русских. При воеводе князе Иване Хилкове Девлет-Гирей снюхался с джунгарскими тайшами Аблаем и Лаузаном. Оба тайши имели большое войско, и оба вели свой род от хана Байбагаса, повелителя джунгар. Аблай был младшим сыном Байбагаса, а молодой Лаузан — правнуком Байбагаса, внуком его старшего сына Очирту Цэцэн-хана, который унаследовал ханскую кошму отца. Все эти ханы и тайши принадлежали к самой знатной кости джунгар — кости Чороса. Словом, кучумович Девлет-Гирей уговаривал джунгар на войну с Россией.
Вольным ойратам было всё равно, с кем воевать, лишь бы пограбить. И воевода Хилков замыслил мягко перенаправить хищничество джунгар с русских на казахов. Пущай джунгары скачут в Семиречье и на Заилийский Алатау и творят там, что хотят. И джунгары, и казахи, один хрен, азиаты. Но для такого разворота требовалось задружиться с Аблаем и Лаузаном.
— Для дружбы надобен подарок, а лучший подарок для степняка — или сокол, или сабля, или доспех, — пояснял Семён Ульяныч Табберту. — Хилков придумал послать тайше Аблаю, старшему из джунгар, кольчугу Ермака. Все степняки слышали о Ермаке и его чудотворных кольчугах. Самые добрые доспехи у степняков получали свои имена, и Ермакову кольчугу джунгары называли Оргилуун убчи — «Сверкающая броня».
С утонувшего Ермака, выловленного в Иртыше, кольчуги снял мурза Кайдаул, хранитель астаны в Баишевой деревне. Мурза и похоронил Ермака на Баишевском кладбище. Татары скрывали от русских священную могилу Ермака, но русские отлично знали, где находятся кольчуги атамана. Одну кольчугу остяцкий князь Игичей Алачеев увёз в Белогорье и напялил на Палтыш-болва-на — этот истукан потом оказался в Коде, а другая кольчуга осталась в Баише у Кайдаула. Воевода Хилков выкупил её у Бек-Мамета, сына мурзы. А в степь к Аблаю, Лаузану и Девлет-Гирею подарок Хилкова повезло посольство простого служилого человека Ульяна Мосеича Ремезова.
Семён Ульяныч помнил, как уходил караван отца: лошади, верблюды, повозки… Семёну Ульянычу тогда исполнилось восемнадцать лет. На дворе было лето 7169 года, а по новому календарю Петра Лексеича — 1660-го.
Юрга степняков располагалась в Тургайских степях. Ульяна встретили радушно. Тайша Аблай обрадовался кольчуге, как пылкий юноша; он надел Оргилуун убчи и не снимал четыре дня. Выпив тарасуна, в порыве пьяного великодушия он рассказал Ульяну, что Ермак похоронен на Баишевском кладбище. Ульян Мосеич был поражён. Тоболяки искали могилу атамана три четверти века, и вот теперь эта великая тайна наконец раскрылась! Ремезов записал рассказ Аблая на бумагу и попросил тайшу поставить под записью свою печать; Аблай помазал перстень краской и оттиснул на листе.
Ульян уговорился со степняками о мире, и даже Дев-лет-Гирей поклялся не нападать на русских, хотя и соврал, собака. Аблай и Лаузан согласились направить свои орды на казахов или на калмыков — куда укажет «князь ветра», гадательное знамя. А кольчугу Аблай решил с собой не брать. Ник чему расходовать её чудотворную силу на войны, которые ведутся лишь для отрады свирепых сердец. Кольчуга пригодится для настоящей битвы — когда Аблай нападёт на хана Очирту, своего брата, чтобы согнать его с белой кошмы властелина Джунгарии. Аблай и Ульян поехали в степь и закопали Оргилуун в тайнике. Кроме них двоих, никто не знал, где находится этот тайник. Но Аблай погиб. И кольчуга долгие-долгие годы тихо ржавела где-то в степи под землёй — в пещере, над которой рос ничего не ведающий ковыль.
Аблай отдал Ульяну свой полон из последнего набега — три десятка семей барабинских татар. Ульян отправился домой. Он вернулся в Тобольск осенью 1661 года. Всё это огромное путешествие Ульян Мосеич оплатил из своего кармана, надеясь, что воевода потом возместит ему истраты, но денег воевода так и не отдал. Зато произвёл Ульяна Мосеева Ремеза в сотники.
Через много лет Семён Ульяныч обнаружил в сундуках Приказной избы «Сказку Аблая» — измятую грамоту, в которой отец изложил давнюю тайну Ермакова погребения, а тайша Аблай приплющил эту тайну своей печатью. Описание отцовского посольства к Аблаю Семён Ульяныч занёс в «Историю Сибирскую», навеки связав свой род с именем Ермака Тимофеича. И вот наступило время забрать кольчугу из степного тайника.
— А где есть сей тайник? — без смущения спросил Табберт.
— А я не знаю, — ухмыльнулся Семён Ульяныч.
Чертёж пути к тайнику премудрый Ульян Мосеич нарисовал на иконе святой Софии. Слава богу, Касым и Леонтий успели разыскать на Конде владыку Филофея, забрали у него икону и отдали Семёну Ульянычу. Перед отъездом Семён Ульяныч перерисовал чертёж отца на листок.
Табберт внимательно рассмотрел бумагу.
— Сей знак есть тайник? — спросил он, указывая пальцем.
— Нет, не тайник. Это аран Джучи. По нему тайник и найдём.
— Что есть аран Диджу… Дичу… Тщу-тщи? — еле выговорил Табберт.
— Сам ты чуча заморская, — сказал Семён Ульяныч, отнимая бумагу. — Доберёмся — всё увидишь.
Насада уходила всё дальше вверх по Тоболу.
Ремезов, конечно, не подозревал, что его поход за кольчугой страшно обеспокоил губернатора Гагарина. Дело было не в золоте могил, а в поручике Шамордине. Вот вернётся Ремезов в Тобольск — и как бугровщик попадёт в цепкие лапы поручика. Шамордин посадит старика под стражу. Угодив в тюрьму во второй раз, вздорный хрыч вряд ли пощадит Матвея Петровича, своего прежнего друга. Или же Леонтий с Семёном, спасая отца от батогов, вывалят дознавателю всё, что знают о губернаторе. А знают они немало. За один только подземный ход из столпной церкви в пушную казну Матвея Петровича могут запереть в сенатский каземат. Ремезова надо остановить.
Но послать за Ремезовым Матвею Петровичу было некого. Солдаты подчинялись майору Шторбену, который замещал полковника Бухгольца, отбывшего в столицу, да солдаты и не догнали бы Ремезова в степи. Для такого дела нужны были опытные люди. Матвей Петрович влез в двуколку и приказал Капитону везти себя к опальному полковнику Ваське Чередову.
Васька сидел в горнице в исподнем, грыз сушёную рыбу и запивал брагой. Матвей Петрович грузно втиснулся за стол напротив Чередова.
— Чем занят, Вася? — участливо спросил он.
Чередов сплюнул чешую на столешницу.
— Ничем, — сказал он. — Доносы на тебя пишу, но то не труд.
— А у меня для тебя заданье. Сделаешь — верну тебе Тобольский полк.
— И чего хочешь? — нехотя спросил Чередов. — Яркенд взять?
— Попроще, — успокоил Матвей Петрович. — Ремезов уплыл бугровать по Тоболу. Мне надо, чтоб ты его перенял на обратном пути.
Чередов не стал ломаться. Безделье обрыдло ему хуже каторги.
— И не таких ловили, — хмыкнул он.
— Вот и славно.
— Мне ребят надобно два десятка, ружья, припасы и два дощаника.
— Всё дам, Вася, — заверил Матвей Петрович.
Часть четвертая Судьба — Сибирь
Глава 1 Загонщики демонов
Не так-то просто успокоить убитого медведя, ведь его даже покидать не следует — может ожить, поэтому охотник, отлучаясь от добычи, оставлял на звере стрелу или нож. Медведя обдирали и разделывали прямо в лесу, и шкуру сразу набивали соломой или мхом, возвращая Когтистому Старику его привычный облик. Мясо и чучело везли в селение на разных нартах. Перед чучелом шёл шаман и звонил в колокольчик, а все жители селения встречали медведя и говорили ему: «Човьё-човьё! Здравствуй, Хозяин!».
У медведя столько же душ, сколько и у человека: у самца — пять, у самки — четыре. Поэтому праздник длился четыре или пять дней. Самцу надевали пояс с ножами, а самке — серьги. Чучело помещали в дом и укладывали в священное положение: передние лапы возле носа. Глаза медведю закрывали берестяными заплатами, но медведь — вещий зверь, и потому люди всё равно прятали свои лица под длинноносыми берестяными личинами. Их носы означали птичьи клювы; если медведь рассердится, то рассердится на птиц, а птицы — что? спугнёшь — и нет их нигде. Каждым утром праздничных дней приходил шаман и будил медведя: снимал заплатки с его глаз. Люди ели мясо медведя и кормили медведя его собственной плотью, но у берестяной посуды, в которой подавали мёртвому зверю, обязательно загибали уголки. Мужчины брали мясо от передней половины туши, а женщины — от задней. И медведя всё время развлекали. Рассказывали ему предания; охотник, который добыл Старика, показывал свою славную охоту; женщины и дети изображали деревья, которые гнутся от ветра: деревья — это весь мир, а ветер — медведь. Медведя расчёсывали и благодарили, он был очень рад празднику.
А медвежьи кости нельзя было выбрасывать или отдавать собакам. Каждый охотник имел в тайге, где-нибудь далеко от жилища, амбарчик на столбах — чамью, и уносил туда кости всех добытых им медведей. Кроме костей, в амбарчике больше ничего не хранили. Медведь не любит соседства.
Пантила наблюдал, как Емельян подтащил к медвежьей чамье лесенку — бревно с зарубками, залез наверх и принялся бесстыже рыться в амбарчике, бренча сухими костями. Действия Емельяна Пантиле были неприятны, будто Емельян обшаривал его собственный дом или даже карман, однако Пантила молчал. Он отказался от родных богов и теперь полагал, что не имеет права защищать таёжный уклад жизни. Хотя воровать нельзя даже у тех, кто верит в другого бога. Вогулы говорили, что смерть вора мучительна, потому что духи вытаскивают его души из тела через дырку в бисере.
— Ни шиша, — разочарованно сообщил Емельян, спрыгнув в траву.
Митька Ерастов и Лёшка Пятипалое ничего не сказали.
Они вчетвером шли впереди: Пантила отыскивал дорогу — борозду от идола Нахрача, а за Пантилой шагали
Митька, Лёшка и Емельян. Прочие отставали. Григорию Ильичу было всё хуже. Его лихорадило, обе раны у него воспалились и вздулись, всякое движение причиняло боль. Новицкий сильно хромал, но не стонал и не жаловался ни словом. Он взмок от пота и порой при усилии едва слышно рычал, но упрямо не сознавался в слабости. Взять его с собой было ошибкой, но так решил владыка, и Пантила не спорил. Владыка держался рядом с Новицким, подбадривая его, но и сам-то владыка, уже старик, не поспевал за молодым, лёгким на ногу Пантилой и служилыми — дюжими мужиками. Отец Варнава и дьяк Герасим не желали отлучаться от владыки. Этот лес проклят, а владыка хранит в себе благодать.
Владыка и Новицкий добрели до служилых и остановились. Владыка бегло оглядел чамью — домик на курьих ножках. На кровле — шапка мха, под столбами — заросли орляка и багульника, вокруг — стена глухой тайги.
— Мольбище? — спросил владыка у Пантилы.
— Нет. Могила для медведей.
Филофей помог Новицкому присесть на корягу. Григорий Ильич по привычке ощупал на боку ножны с саблей — саблю ему, безоружному, на Ен-Пуголе уступил Кирьян Палыч Кондауров, ушедший с вогулами в Ваентур.
— Емельян Демьяныч, — вдруг осторожно обратился владыка к бывшему сотнику, — я вчера заметил, как ты у вогула отнял нож и лисью шапку.
На Ен-Пуголе Емельян и вправду тряхнул стариной: обобрал кое-кого из инородцев, уходящих с острова восвояси.
— И что с того? — ухмыльнулся Емельян.
— Нехорошо.
— Они на меня с саблями кидались.
— Всё одно нехорошо.
— Дома покаюсь.
— Прости, что тебе, мужу зрелому, говорю, точно отроку, — терпеливо сказал Филофей, — но мы не в полку. Убивать и грабить я не дозволяю.
— А коды нападают? — озлобился Емельян.
— Удар отбей, а сам не бей.
— С чего такая милость к идольникам?
Филофей вздохнул.
— Вера не война, Емельян Демьяныч. В ней кто применяет силу — тот являет слабость. А нам нельзя дрогнуть. Мы Христа несём.
Емельян отвернулся, в сомнении скривив рожу.
Путь по тайге был сущим мучением. Здесь не ходили, а пробирались. Человеку в тайге было не место. Деревья, голодая по солнцу, тянулись вверх, в тесноте цепко переплетаясь лапами. Многие великаны стояли уже мёртвые, но не могли упасть, застряв в толще ветвей. Внизу царил сырой полумрак. С острых сучьев свисали кипящие бороды лишайников. Густо толпился тощий подрост — далеко не все из этих ёлочек, сосенок или даже берёзок смогут выжить, а выжившие сгубят тех, кто вокруг. В папоротниках и спутанных космах ольшаника корчился бурелом: длинные заплесневелые стволы и разлапистые осклизлые коряги лежали друг на друге сикось-накось, ярусами; их затягивало толстым мхом, под которым мог обнаружиться чёрный провал погребённой ямы. Тайга медленно, но беспощадно боролась сама с собой: душила, давила, топтала, убивала — и в то же время воскресала, вылуплялась, выпрастывалась, прорывалась сквозь вековой гнёт; корчась, она валилась мертвецами на живых и, выкручиваясь, цвела живыми на мертвецах. Висели бестелесные и липкие тенёта паутины. Мошка и комарьё не давали дышать, словно сама тайга, измождённая истязаниями, жадно сосала свежую кровь.
Казалось, что здесь — лешачья глушь, непроницаемая даже для божьего взгляда, и никто из людей никогда тут не бывал, разве что колдун Нахрач пролез сюда, волоча идола на верёвке, а с Нахрачом — дикарка Айкони, вот и всё. Однако Пантила не раз замечал следы пребывания людей. Раньше, ещё до русских, великая тайга и великие болота были куда более обитаемы. Вогулы и остяки жили в маленьких селениях, рассыпанных по необозримым просторам; они охотились, рыбачили, покупали жён, растили детей, почитали богов и часто воевали друг с другом. Раньше люди леса умели добывать медь и железо, отливали котлы и шаманские бляшки с медведями, а теперь уже разучились. Раньше люди леса умели делать из глины и обжигать в кострах горшки, а теперь утратили былые навыки. И о таёжных богах люди знали гораздо больше, а теперь многое забыли. И продолжали забывать. Но тайга помнила о том, что было прежде.
Вон кустится орешник. Он высокий. Русские не знают, что орешник бывает высокий только тогда, когда с него несколько лет подряд срезают нижние ветви. Кто-то когда-то запасал здесь вицы на вентерь или на морду. Вон стоит больной кедр. Он заболел и начал чахнуть уже взрослым. Почему? Потому что кто-то выдернул из земли его наружные корни, чтобы распустить их на верёвки, и кедру для жизни теперь не хватает утраченных жил. А вон пять молодых пихточек выстроились в одну линию вдоль лесного прогала. Кто их посадил? Никто; они выросли на расчищенной охотником слоп-цовой дороге — на полосе ловушек для тетеревов и рябчиков.
Не понимая, где идут, служилые пересекли старое кладбище. Топкий ручей, затерявшийся под папоротниками и корягами, отделял мир живых от мира мёртвых. Узкие, низкие и длинные бугры можно было принять за упавшие древесные стволы, полностью укрытые толстым слоем мха, но это были истлевшие могильные домики. Когда-то в их стенках зияли маленькие окошки, чтобы пришедшие на кладбище могли поговорить с мертвецами и покормить их. На дощатых крышах могил были вырезаны крест и угол; так живой человек говорил покойнику: «Не возвращайся, вот тебе твоё солнце и вот тебе твоя луна». Бурые клочья на сучьях окружающих деревьев — это не лишайник, а лохмотья от одежд; одежду покойного полагалось разорвать и оставить на кладбище. Здесь же оставляли и погребальные нарты, на которых привезли мертвеца, и берестяные личины: вогулы надевали на похороны ложные лица, чтобы мертвец не запомнил того, кто его провожает, и не увёл за собой. Вкопанный котёл уже, конечно, не найти, но вот на лиственнице ещё виден затёс, заплывший рыжей смолой: на затёсе зарубками указывали число медведей, убитых покойным; эти медведи будут служить ему в мире мёртвых — там, где на небе неугасимо горит северное сияние, свет мертвецов.
На кладбище Пантила снова дождался владыку и Новицкого.
— Как силы твои, Гриша? — тревожно спросил он.
— С божою допомогою добэруся, — тяжело ответил Новицкий.
— Дай мне твой мешок. Или хоть саблю, а то потеряешь.
— Сам всё дотягнув, Панфыл, — упрямо отказался Новицкий.
Владыка печально покачал головой: Гриша плох. Отец Варнава, который шёл последним, покорно и обречённо бубнил молитву.
Пантила понимал, что все сокровенные тайны тайги Нахрач видит точно так же, как он, а то и лучше него. Однако Нахрач не просто бежит, утаскивая идола, привязанного к лошади. Нахрач идёт зигзагами, заворачивая в гиблые места, где спят демоны, чтобы разбудить их. Разозлённые чудища набросятся на тех, кто движется вслед за Нахрапом. Коварство ваентурского князя-шамана вызывало у Пантилы отчаянье и гнев. Ведь никто из русских не чует, что злой Нахрач тянет их от одной смертельной ловушки к другой.
Борозда от идола уползала на приземистый холм, где возвышался сосновый бор — чистый, ясный, без бурелома. Землю здесь покрывал белёсый ягель. Но Пантила свернул в сторону, чтобы обойти это место стороной. Если приглядеться, то на холме были видны длинные и уже заплывшие рвы, валы, что расползлись от времени, и сглаженные ямы. Это был древний город сенгиров. Нахрач нарушил их покой, и бестелесные сенгиры ждали кого-нибудь, чтобы отомстить. Они были очень вспыльчивы, а Пантила не имел при себе лисьего хвоста, который утихомиривал воинов Нуми-Торума.
Нуми-Торум сотворил всё вокруг. Из Нижнего мира он достал луну и солнце и запустил их кружиться вокруг столба в своём чуме. Птичка лули нырнула для него под Великую воду и принесла в клюве комочек ила — этот комочек и есть бескрайняя земля. Нуми-Торум решил заселить землю кем-нибудь и создал из своего дыхания прозрачных воинов сенгиров. Они были очень сильными: любой из них мог голыми руками переломить высушенную бедренную кость лошади. Однако они любили воевать друг с другом. Они запускали столько стрел, что ветром от оперенья выметало воду из озёр. И война только увеличивала их число. Если стрела врага попадала сенгиру в живот, живот лопался, и оттуда выходило ещё семь сенгиров. Нуми-Торум устал от вечного раздора на земле и послал вниз огненный потоп чек-най, который уничтожил бы сенгиров. Сенгиры спрятались от всепожирающего пламени в подземных домах ма-кол. Ямы и бугры на этом холме — следы подземных убежищ сенгиров. И уцелевшие сенгиры до сих пор там живут.
А Торум вместо сенгиров создал менквов: вытесал их из лиственничных брёвен. Однако менквы у Торума не получились. Они оказались сильные, но глупые. Они убежали от бога в лес и стали жить там по своей воле, вырубая себе жён из деревьев. Менквы и до сих пор живут в тайге, их много. Они боятся только огня и питаются мясом, но мясом тех животных, которых человек в пищу не использует. Потому иной раз они могут съесть и человека. Хитрый охотник легко обманет остроголового мен-ква, но это опасно, потому что менквы злопамятны и очень не любят, когда люди приходят в тайгу.
А людей Торум создал только после менквов. Он сплёл двух человечков из гибких берёзовых прутиков и пустил их на землю по дождевой реке…
Пантила встряхнул головой. Это всё сказки. Владыка объяснил ему, как бог сотворил мир — за семь дней, и поведал про первого мужчину Адама и первую женщину Еву. Таёжные предания — только мутный дым от сырого костра. Они греют сердце воспоминаниями детства, но не говорят правды. Их придумали старые старики, чтобы детям не скучно было выбирать мусор из сетей, растянутых на просушку. Русский бог не требует забыть эти сказки или проклясть их, но они перестали помогать жить. Народы тайги всё слабее. Нет теперь ни Пелымского княжества, ни гордой Коды, ни Пегой Орды. Лесные люди не помнят, как плавить металл и обжигать горшки. Убывает зверь. И даже в Оби нынче не ловят осетров, способных проглотить целый облас с рыбаками. Русский бог спасёт погибающих — если, конечно, сумеет пробиться сквозь сопротивление древней нечисти. Но всё же Пантила жалел таёжных страшилищ — не меньше, чем таёжных людей. Как на охоте нельзя брать зверя больше, чем нужно для пропитания, так и в борьбе вер не стоит уничтожать больше богов, чем нужно для победы.
До заката так и не удалось догнать Нахрача: владыка и Новицкий двигались слишком медленно. В сумерках отряд Филофея вышел к пустому чуму. Служилые обрадовались — будет защита от гнуса, а Пантила увидел, что ничего хорошего в чуме нет. Невесть кто соорудил это жильё не для себя, а для мёртвых. Сорок шестов, составляющих чум, — каждый со своим названием — были поставлены в обратном порядке. Вход смотрел на сторону ночи. Полосы варёной бересты покрывали стены изнанкой наружу. Лежанка-пайна находилась слева, а не справа. Из обычного чума комаров и мусор выметали птичьим крылом, а здесь у входа валялся щучий хвост. Мертвецы, если они бродили поблизости, являлись в чум только при луне, а днём здесь спали вейсы — мелкие твари, которые из темноты дразнят собак.
— Здесь дурное место, — сказал Пантила Емельяну, который больше всех оживился при виде жилища. — Здесь духи спят.
— А мы от твоей нечисти вход зааминим, — ответил Емельян. — И ежели какой дьявол сунется, я ему саблей башку снесу.
Пантила не стал спорить.
Новицкий, обессилев, в чуме сразу лёг на ворох лапника.
— Гриша, я тебе поесть принесу, — наклонился над ним Пантила.
— Нэ трэба зараз, Панфыл… — прошептал Новицкий. — Выдлэжуси, затим можэ спываэмо…
Ночью у костра рядом с Пантилой остался только владыка. В светлом и туманном сумраке растворились и деревья, и небо. Костёр трещал и стрелял угольками: это вейсы, за неимением собак, дразнили огонь.
— Что тебя гнетёт, Панфил? — проницательно спросил Филофей.
— Я думаю о богах, — признался Пантила. — Лесные боги не такие, как у русских. Русскому богу, русскому сатане всегда нужны люди. Что им делать без людей? А лесные боги — как звери. Им люди не нужны. Люди сами, как Нахрач, ищут их, злят, заставляют нападать.
В этом и заключалась вся суть. Великому Нуми-Тору-му люди давно наскучили. Торум никогда не исполнял ничьих просьб, и его никто ни о чём не просил. Людям помогал Мир-Суснэ-Хум, сын Нуми-Торума, — Всадник, Объезжающий Землю. Мир-Суснэ-Хум родился в полёте, когда Торум сбросил свою беременную жену с неба на землю, поэтому Мир-Суснэ-Хуму не было дороги ни по небу, ни по земле, и он никому из людей не угрожал. А кому угрожал Вонт-Ика, Урманный Старик? А Папын-Ойка — Мужчина из Берёзового Туеска? А птичка Рейтарнав, которая ведала сменой дня и ночи? Даже дикая женщина-чудовище Ильпи только наводила страх, но не трогала людей. Конечно, имелись и вредоносные боги, но их легко было отогнать. Или не ходить туда, где они живут. А сами боги к людям не стремились.
Однако существовали не только боги, но и обычаи. Соблюдать обычаи — тоже грех? Если топором случайно порубил землю, надо вложить в разруб щепку, чтобы земля исцелилась, — это грех? Если на бегу заломить веточку, то время немного замедлится, — это грех? Нельзя пить в наклон из реки, воду обязательно следует зачерпывать ковшиком, — это грех? Успокоить сильный ветер можно только тогда, когда напугаешь его, — это грех? Охотиться нужно так, чтобы звери меж собой уважали охотника, — это грех? Но в чём он?
— Ты ищешь прощения демонам? — спросил Филофей.
— Не прощения, — возразил Пантила. — Я ищу им место. Не хочу, чтобы они умерли. Скажешь: я плохо верю в Христа?
Филофей усмехнулся:
— Я не знаю. Я верю, что господь обогреет всякую тварь, ведь Ной в ковчег взял всех. Но у меня нет ответа на твои вопросы, Панфил. Ты сам пришёл к вере. Сам и ответ найдёшь. А я не буду мешать.
Пантила обхватил голову руками. Он страдал, словно по умирающей матери. Как уравновесить эти беспощадные весы? Что сделать? Если он правильно сравнил лесных богов с лесными зверями, то боги должны жить как звери: вдалеке от людей, не пересекаясь путями. Тогда они останутся живы. Однако неукротимый Нахрач, почитающий только себя, гонит лесных богов на владыку, на русскую ненависть, как охотник гонит стадо косуль на стрелков. Значит, не владыка истребляет богов, а Нахрач!..
Господь упас, и языческие демоны не тронули ночью людей Филофея. А утром путь продолжился. Снова сырой полумрак, гнус, одуряющий запах прели и хвои… Крепкий и здоровый лес встречался островами, и Пантила был уверен, что каждый такой остров имеет у вогулов своё название. А остальное пространство занимала янга — полутайга, полуболото. Хмызник. Подо мхами чавкало; недокормленные деревья, тонкие и кривые, стояли в тесноте, словно не выжили бы поодиночке; стволы их покрывала плесень, а нижние ветви отмирали быстрее, чем отрастали верхние. Зыбкая почва не держала корней, и вывороченный ветрами сучкастый валежник превратил весь лес в огромную оскаленную пасть. Лес сопротивлялся, не впускал в себя, корчился в судорогах и раздирал свою утробу когтистыми лапами.
Пантила внезапно заметил, что следы лошади и взрытая борозда от идола разделились: лошадь шла там, где ей удобно, а идола тащили там, где можно протащить. Пантила задумался, что же это означает, и понял: Нахрач бросил идола. Обрезал постромки, сел на лошадь и убегает один — вон какие глубокие ямы от копыт: лошадь несёт седока. Видно, он потерял надежду спасти Пал-тыш-болвана. А несчастная Айкони тащит идола своими силами — следы её чирков смазаны в упоре. И со своей непомерной тяготой Айкони далеко уже не уйдёт. Пантила оглянулся на Емельяна, Лёшку и Митьку:
— Мы скоро возьмём идола! — взволнованно сообщил он. — Владыка! Гриша! Они близко!
Григорий Ильич шёл как во мгле. Его лихорадило, волны жара плыли от затылка до коленей, он взмок от пота, а в глазах колыхался багровый дым: красные ёлки, красный бурелом, красный мох… Слова Пантилы прорезали морок, как молния, и Григорий Ильич ринулся вперёд.
Пантила был прав. Нахрач ускакал, и Айкони, надсаживаясь, волокла мертвенно тяжёлого Ике вместо лошади. Она накинула на плечи кожаные ремни, привязанные к шее истукана, и брела, сгибаясь в натуге пополам. Длинный Ике был весь в грязи — и тулово, и лицо; в раскрытый зев набился зловонный чёрный ил. Но яростно блестели непримиримые глаза идола — медные гвозди. Сучья бурелома исцарапали его бока, изодрали его одежду, обломили ему руки. Однако Айкони не хотела бросать своего Ике. Он спас её от медведя-людоеда, он предупреждал о приходе русских — как она может предать того, кто её пожалел? Хрипя, Айкони налегала на ремни и плакала:
— Менквы, помогите мне! Помоги мне, Урманный Старик! Уговори солнце подождать, птичка Рейтарнав! Я Айкони, у меня мало крови! Ике-Нуми-Хаум, родной, пожалей Айкони снова, встань на свои ноги, пойди сам!
Айкони не видела, как из-под медного гвоздя стекла капля смолы.
Айкони еле перебралась через широкий и топкий ручей, но увязла в прибрежной болотине, и огромный Ике тоже застрял. Айкони обняла его за голову, поднимая над корягой, и в это время по тихому ручью забултыхали ноги преследователей. Айкони оглянулась. В её грязных растрёпанных волосах копошился гнус. Улама на поясе пропиталась слизью и казалась тряпкой, утратившей цвета и чёткие очертания священного узора.
По ручью бежали Емельян, Пантила, Лёшка, Митька и Новицкий.
— Ах ты стерва! — торжествующе зарычал Емельян.
Он пнул по идолу, вышибая его из рук Айкони, и уже занёс кулак, чтобы сбить Айкони с ног, но Григорий Ильич перехватил его руку.
— Нэ трожи ей! — с ненавистью прохрипел он.
Пантила бросился к идолу, лежащему в тёмной воде,
и, не веря своим глазам, принялся его ощупывать.
— Где железная рубаха? — в отчаянье крикнул он Айкони по-хантыйски.
— Нахрач забрал, — по-хантыйски ответила Айкони.
Она оттёрла с лица мошку, размазав кровь по скулам, и опустошённо опустилась на корягу, через которую только что пыталась перетащить идола.
К идолу не спеша приблизился владыка. Истрёпанный подол его рясы полоскался в воде. Владыка печально смотрел на изловленных беглецов. В них не было ничего грозного и страшного. Измотанная и разлохмаченная девчонка-остячка… Впрочем, конечно, не девчонка, а молоденькая женщина, но мелкая собачка до старости щенок. И болван — просто длинное бревно с зарубками и нелепой заострённой башкой. Рыло вытесано как-то по-детски и похоже на лопату. Вместо глаз торчат гвозди. В глубине выжженного рта — мокрота. Нижний конец идола, прежде вкопанный в землю, уже подгнил.
— Нэ бийся, кохана моя, — бормотал Новицкий; он отгораживал Айкони собою от Емельяна и держался за саблю. — Наздогнав тэбэ… Ныкому тэбэ в злочину нэ дам… Шаблею обэрэгу!
— Это Палтыш-болван, только Нахрач Ермакову кольчугу унёс! — сказал Пантила Филофею с мальчишеской обидой в голосе.
Филофей, успокаивая, потрепал его по плечу.
— Ну что, владыка, дело сделано? — довольно спросил Емельян, оправляя выбившуюся из-под пояска рубаху. — Мольбище разорили, болвана расколем на поленья и спалим, поджигательницу сцапали. Вертаемся к дощанику?
Филофей задумчиво оглядел Лёшку Пятипалова, Митьку Ерастова, отца Варнаву и дьяка Герасима. Они были изнурены дебрями и болотами.
— Нет, братья, — твёрдо сказал Филофей. — Надо Нахрача настичь.
— Из-за кольчуги евонной, что ли? — Емельян зло кивнул на Пантилу.
Емельяну не хотелось кормить гнуса по блажи молодого остяка.
— Я царю кольчугу обещал! — гневно крикнул Пантила.
— Не в кольчуге причина, — Филофей остался невозмутим. — Мы здесь идоложрение попираем. А корень зла — Нахрач. Я с полпути не сойду.
Емельян посмотрел владыке в глаза, отвернулся и плюнул с досады.
— Григорий Ильич дороги не одолеет, — тихо заметил дьяк Герасим.
Новицкий стоял возле Айкони, чуть покачиваясь, и сжимал рукоять сабли. Лицо его пылало от жара. Он не очень-то понимал, что происходит.
— Панфил, сей ручей в Конду впадает выше или ниже Балчар? — вдруг поинтересовался владыка.
Пантила озадаченно покрутил головой, определяя, что за ручей.
— Это Вор-сяхыл-союм. Он ниже Балчар выбегает, где Упи-гора.
— Гриша, ты слышишь меня?
— Ро… розумею, вотче, — с трудом выговорил Новицкий.
— Гриша, ты ступай по ручью на Конду, — сказал владыка, испытующе вглядываясь в Григория Ильича. — Жди нас там на берегу. Мы от Сатыги поплывём и подхватим тебя. Только дотерпи, друже.
— Я зможу, — глухо пообещал Новицкий. — А що с нэю, вотче?
Он спрашивал об Айкони.
— Её мы свяжем, а ты веди, да не потеряй. За ней розыск в Тобольске.
Глава 2 Выше переката
Выше Утяцкой слободы Тобол был большой рекой лишь по весне, когда степь сбрасывала талые воды, а летом, в межень, он сужался до ширины в двадцать саженей. Но здесь, на этом перекате, Тобол разливался вдвое, а то и втрое, и мелел по щиколотку. Вода бежала разными струями с многоголосым журчанием, сверкала на солнце дрожащими огнями, и сквозь неё желтели пески. Шумный и длинный перекат тянулся на версту, уходя за поворот. По берегам кипела непролазная чилига — густые и спутанные заросли тальника, вербы, крушины, кизила и черёмухи. Отзываясь на пение переката, чилига звенела, булькала и заливалась птичьими голосами.
Насада плотно села на мель, и Ремезовы полезли в воду.
— Ой, щекотно, — засмеялась Маша, поддёргивая подол.
Семён Ульяныч со своей палкой посреди реки выглядел как-то особенно величественно — словно суровый остов разбитого бурей корабля.
— Это Годуновский перекат, — объявил он. — Здесь у степняков брод через Тобол. По мелям они стада гонят, когда барантой промышляют.
— Не Годуновский, а Ходуновский, — проворчал Ерофей.
Леонтий, Семён, Ерофей и Табберт волочили насаду по дну, и за лодкой вниз по течению сплывал длинный хвост поднятой мути.
— Назвать есть имя тсар Борис? — пыхтя, спросил Табберт.
Он уже неплохо освоился в российской истории.
— Не, — помотал головой Семён Ульяныч. — У нас в Сибири был свой Годунов — воевода Пётр Иваныч. Тоже кудесник вроде Гагарина.
В плеске и брызгах Ремезов решительно ковылял вперёд.
— А там какой крепость старый? — не унялся наблюдательный Табберт.
Прикрывая глаза от солнца, он смотрел куда-то вдаль.
Вдали за чилигой виднелся холм — глинистый обрыв и шапка липняка. На краю обрыва высились бревенчатые руины: несколько покосившихся башен с дырявыми шатрами и щербатый кривой частокол.
— А это остатки от годуновской затеи.
Предприимчивый воевода Годунов, столь памятный
Семёну Ульянычу по разгулу «прибыльщиков» и ссылке в Берёзов, задумал соорудить в Сибири Засечную черту, которая отгородила бы тобольские слободы и Тюмень от набегов казахов и башкирцев. Черта должна была состоять из острогов, выстроенных длинной линией вдоль Тобола и реки Исеть; в эту цепь вошли бы Утяцкая, Царёво-Городищенская и Усть-Суерская слободы на Тоболе, а на Исети — Ялуторовский, Шадринский и Катайский остроги и Далматов монастырь. Началась бы черта крепостью, охраняющей брод, и закончилась бы Уткинской слободой на реке Чусовой. Годунов рассчитывал перелицевать сибирское войско из рейтарского в драгунское, а драгун расселить в укреплениях Засечной черты. Лишённые казённого жалованья и наделённые землёй под пашни и покосы, драгуны превратились бы в казаков вроде донских или яицких. Мысль, конечно, была здравой, но у воеводы Годунова не хватило ни денег, ни времени. Он построил только один острог.
— А хотел построить семь, — завершил рассказ Семён Ульяныч. — Даже именования им придумал в честь семи отроков Ефесских: Дионисия, Кустодия, Мартьяна, уж не помню, кто там ещё. Этот острог наречён был именем Ямлиха. Ну, мужики-то наши Писания не знают, и Ямлихов острог в Лихой переназвали. Только в нём никогда никто не жил. Как построили, так сразу и бросили.
Старые развалины темнели на дальней горе бесполезные и забытые. Над ними в знойном, азиатско-лазоре-вом небе висели, пузырчато выпучиваясь сверху, сияющие белизной кучевые облака, плоско подрезанные по донышку.
— А долго ещё до того места, куда Ваню привезут? — спросила Маша.
— Помогать будешь — так недолго, — тотчас уязвил её Семён Ульяныч.
Но Маша не отступалась.
— А вдруг тот ручей, куда степняки Ваню привезут, пересох, и мы его не заметим, батюшка?
Семён Ульяныч, конечно, думал об этом, но решил не беспокоиться. Степняки делили речки и ручьи на «чёрные» и «белые». «Белые» в летнюю жару выгорали досуха, до белой пыли, а «чёрные» — только до полужидкой чёрной грязи. Карагол, указанный Онхудаем, был «чёрным» ручьём: слово «кара» и означало «чёрный». Поэтому Семён Ульяныч был уверен, что он непременно заметит устье ручья, не проморгает его.
— Вот ведь ты какая, Марея! — ответил Семён Ульяныч. — Все у тебя умные — и Ванька, и джунгары, один батька дурак: в собственной шапке свою башку найти не может!
— Я ведь не то говорила, батюшка! — возмутилась Маша.
Всю дорогу Маша была настороже, не доверяя согласию батюшки на спасение Вани. Точнее, она хотела доверять, готова была в любви распахнуть душу навстречу батюшке, если батюшка не лукавил о спасении Вани, чтобы уловкой доказать родне свою правду. Но слишком уж давно Семён Ульяныч был настроен против Вани, слишком давно — да с самого начала. Он ревновал Ваню ко всему: к его молодости; к тому, что Ваня был в тех странах, где Семёну Ульянычу не побывать; к тому, что Петьке, батюшкиному любимцу, интереснее было то, что делал Ваня, а не то, что делал отец. И Маша всегда сохраняла готовность окаменеть сердцем: если батюшка затеет обмануть и уклониться от исполнения обещания, она отважно кинется в бой, как сам батюшка кидался: уговор дороже денег, держи данное слово! А потом, когда Ваню выкупят, хоть трава не расти. Пусть батюшка хоть затопчет её.
И Семён с Леонтием тоже не доверяли отцу. От упрямого и строптивого Семёна Ульяныча они ожидали подвоха. Даже Варвара, провожая Леонтия, указала глазами на Семёна Ульяныча и кратко предупредила:
— Взбрыкнёт.
Не может быть, чтобы Семён Ульяныч не выкинул какое-либо коленце. Не похож он на раскаивающегося грешника. Он похож просто на грешника.
— Я каждый день молюсь о мире для него, — сообщил Леонтию Семён.
— И я помолюсь, — подумав, поддержал брата Леонтий. — Крепче будет.
Однако опасения сыновей и дочери были напрасны. Семён Ульяныч не собирался увиливать от выкупа.
Со всех сторон его убеждали смириться. Матвей Петрович говорил: подожди. Владыка Филофей говорил: потерпи. Семья говорила: прости. Даже Ефимья Митрофановна говорила: «Отец, ты старый, пора о душе подумать». Но у Семёна Ульяныча была негнущаяся натура. Он мог бы смириться перед богом, но не перед миром и не перед своей судьбой. Если бы он смирился с тем, что никогда не побывает на Камчатке или в Пекине, то не было бы его чертежей. Если бы смирился с тем, что никогда не увидит битву Ермака с Кучумом на Княжьем лугу, то не было бы «Истории Сибирской». Если бы смирился с тем, что Сибирь — безликая, безъязыкая тьмутаракань, то не начал бы строить кремль. Все свершения его были от того, что он не смирялся с пределами, которые положил ему кто-то другой. И с Ванькой Демариным Семён Ульяныч не смирялся. Он просто сдал назад. Хотят они все Ваньку — да чёрт с ними, отдаст он Ваньку, подавитесь своим Ванькой ненаглядным. Но для него Ванька не существует. Ванька — баран, которого покупают на ярмарке. Барану не откроют душу, барана не посадят за обеденный стол. И если Машка хочет замуж за своего барана, так пусть катится. Он освободит её от себя, как должно родителю, и отсечёт от своей души.
Ручей Карагол Семён Ульяныч опознал по неглубокому распадку, густо заросшему буйной болотной осокой. Леонтий поднялся на крутой бережок, предусмотрительно укрываясь за кустом бузины, и увидел стан степняков. Он находился немного поодаль от Тобола: степняки всегда держались на расстоянии от берега, чтобы их не заметили те, кто проплывает по реке. Аргал — сушёный навоз, главное топливо в степи, — горел без дыма, и юрга ничем себя не выдавала. На луговине высились два лёгких шатра, паслись кони и торчал шест с красным бунчуком. Степняков было человек двадцать.
Леонтий, Семён, Ерофей и Табберт зарядили ружья и пистолеты, а затем Леонтий снова взобрался на берег и закричал:
— Эй, зайсанг! Я Ремезов!
Джунгары всполошились, но Леонтий шагал от берега один и с пустыми руками. Он вглядывался, пытаясь издалека рассмотреть Ваню, но не отличал его от степняков. Зато рассмотрел, как толстый зайсанг полез в седло.
Они встретились на полпути между берегом и юргой.
— Привёз пленника? — спросил Леонтий.
— А где моя кольчуга? — ответил Онхудай.
Ваня не слышал, о чём говорят Онхудай и Леонтий. Он стоял среди джунгар, к которым давно уже привык, и понимал: вот оно — свершилось! За ним приехали! Его не бросили, о нём не забыли. Неволя скоро закончится. Но эти мысли уже не вызывали у Вани былой душевной бури.
После прошлогодней неудачной поездки к ханаке Онхудай вернулся в Доржинкит и отослал пленника в самый глухой угол своего аймака, в самый глухой кош. Посреди неоглядной степи раскорячились несколько ветхих кошар из саманного кирпича и рваная юрта, в которой жили три старых овчара, кнутовщики-миначи — Тургэн, Чалчаа и Хэмбилай. Почти год Ваня не видел других людей. Почти год он пас овечьи отары. Восходы, закаты, солнце, луна, осень, дожди, бегущие перекати-поле, зима, холода, бураны, заносы, бесконечные ограды из плетня, овцы, овцы, овцы, овцы, овцы, овцы, грабли для навоза, собаки, очаг с аргалом, булькающая в тагане похлёбка, весна, ветра, тюки с шерстью, ягнята, овчины, облака, молчание, простор.
Безразмерная пустота, которую ничем невозможно заполнить, отделила Ваню от его прежней судьбы, от лю-лей, от самого себя. Где-то продолжалась жизнь, катилась своим чередом: рождались дети, умирали старики, люди любили и ненавидели, боролись друг с другом, строили, воровали, девушки выходили замуж, отроки учили грамоту, гремели войны, шумела тайга, кто-то молился, кто-то рвал душу проклятьями, кто-то побеждал, кто-то падал побеждённый, плясали в праздники, плакали на похоронах, считали деньги, топили большие печи, гнали наперегонки в санях, парились в банях, кого-то обнимали, кого-то били кнутом, примеряли обновы, ловили рыбу в проруби, качались на качелях, писали иконы, играли в карты. А у Вани ничего не происходило, и он не видел никого, кроме Тургэна, Чалчаа и Хэмбилая.
А ведь у него когда-то было всё, что надо. Была служба и товарищи. Была Маша, о которой он думал неотступно. Его приняли в хороший и добрый дом. Но он поставил подвиг выше товарищей, он обидел Машу, а дом, в котором жил, он бестрепетно принялся переделывать под себя, пока его не выпнули. Зачем он так? Разве он — дрянь, пустозвон, поганец? Нет. Он хороший человек. Он просто хотел предъявить себя. Показать себя, чтобы все вокруг приняли его правила и подчинились ему. Он не рвался за славой и почестями — ну, лишь в последнем бою соблазнился; он просто хотел быть самым главным, самым заметным. Чтобы все его уважали, потому что он есть. И вот он есть у себя самого. Единственный и самый главный. Но здесь он себе не нужен. Ему совсем нечего делать с собой — только терзать себя сожалениями. Всё, чего ему хотелось, из души вымел степной ветер.
Но Господь его помиловал. Господь пообещал освобождение.
— Зайсанг, ты не переменишь своё слово, как сделал в прошлый раз? — спросил Ваня у Онхудая.
В плену Ваня научился худо-бедно говорить по-монгольски.
— Я назначил хороший выкуп, — важно ответил Онхудай.
— Касым привёз кольчугу?
— Этот пёс уже сдох. Его убила наложница.
У Вани глухо ткнулось сердце. Касым мёртв?.. Ваня прекрасно понимал, ради чего бухарец взялся выручать русского офицера, но уже так привык надеяться на Касыма, что надежда переросла в сердечную привязанность.
— Кто теперь вместо бухарца? — бесстрастно спросил Ваня.
— Старый Ремез.
Это известие поразило Ваню сильнее, чем смерть Касыма.
Ваня давно догадался, что Ремезов возненавидел его. Возненавидел за гибель Петьки. За то, что приходится отдавать джунгарам кольчугу Ермака. А чего иного ждать от Семёна Ульяныча? Впрочем, злоба старика уже не возмущала Ваню и не вызывала негодования. Ваня принял всё как есть. Не надо сопротивляться или переубеждать архитектона. Он, Ваня, виноват, и это правда, аминь. Но как тогда объяснить присутствие Ремезова?
Семён Ульяныч приковылял в юргу вечером. Он не отыскивал взглядом Ваньку Демарина, словно ему было безразлично, кого он вызволяет из плена. Он с трудом опустился возле костра на обрубок бревна и вытянул ногу. Онхудай присел на коврик напротив Ремезова. Старик не выказал никакого почтения, никакого испуга, и заискивать тоже не собирался.
— Ты кто будешь? — спросил он напрямик.
— Я зайсанг Онхудай, — Онхудай надулся. — А ты старый Ремез?
Увидев Семёна Ульяныча, Ваня испытал странное чувство, схожее с недоумением. Неужто с этим стариком он ругался не на жизнь, а на смерть?.. В душе колыхнулось былое желание спорить с Ремезовым, опровергать его, но это желание сразу угасло. Ваня смотрел на Ремезова с жалостью: старик крепко сдал. И ещё Ване было стыдно, что он так измучил Ремезова. Даже нет, не измучил. Стыдно, что он так много потребовал от Семёна Ульяныча: и кров, и сына, и кольчугу… и дочь. Он был для Ремезова хуже вора.
— Чьей ты кости? — так же прямо и грубо спросил Ремезов у Онхудая.
— Аблай — мой дед, — гордо ответил Онхудай.
— Цаган не имел сыновей, — осадил его Ремезов. — Чьей ты кости?
Рядом с этим русским стариком Онхудай вдруг почувствовал себя так же, как чувствовал рядом с нойоном Цэрэн Дондобом.
— Я кости Бодорхона, — зло сознался он, не в силах сопротивляться.
— Кольчуга принадлежит кости Чороса. Аблай был Чорос.
— Убчи принадлежит кости Аблая, а не кости предка! — непримиримо ответил Онхудай. — Или ты, старик, хочешь сам делить наше наследство?
Онхудай готов был наброситься на Ремезова, который безжалостно рылся в его родстве, но Ремезов вдруг холодно сказал:
— Мне безразлично, кто возьмёт кольчугу, зайсанг.
Онхудай шумно перевёл дух, остывая.
— Я подарю Оргилуун контайше Цэван-Рабдану, — пробурчал он в неком подобии оправдания. — Убчи вернётся к Чоросам.
— Подарить им одну вещь дважды — это мудрое решение, — хмыкнул Семён Ульяныч, однако Онхудай не уловил издёвки.
У русских эту кольчугу просили три поколения Чоро-сов. Первым был нойон Байбагас. В те давние годы он кочевал по Сибири: на Ишиме шертовал русскому царю, а на Иртыше сражался с Алтын-ханом Шолоем Убаши. Младший сын Байбагаса, Аблай, заболел, и Байбагас привёз его в Баиш. Мурза Кайдаул тогда ещё был жив. Он накормил мальчика Аблая священной землёй с могилы Ермака, и Аблай исцелился. Так Байбагас проведал о силе русского богатыря. Нойон просил воеводу Хованского принудить Кайдаула продать кольчугу Ермака, чтобы с её помощью одолеть брата Чокура. Байбагас согласен был выплатить Хованскому десять семей ясыря, пятьдесят верблюдов, двести коров, пятьсот лошадей и тысячу овец. Но воевода отказал. Что ж, Байбагас и без кольчуги не отказался от войны с братом, но в конце концов пал от руки Чокура. Без кольчуги он не смог победить.
Аблай усвоил урок отца. Он тоже собрался идти войной на брата — хана Очирту, и не хотел повторять ошибку Байбагаса. Аблай прислал в Тобольск посольство с просьбой о кольчуге. Воевода князь Буйносов-Ростовский не осмелился продать степнякам русскую святыню без дозволения царя. Аблай выждал пару лет, пока воевода сменится, и попросил о том же воеводу князя Хилко-ва. И Хилков согласился: он боялся союза джунгар с ку-чумовичем Девлет-Гиреем. Посольство Ульяна Ремезова увезло кольчугу в степь. Ульян и Аблай спрятали кольчугу, чтобы она не расходовала свои волшебные способности, пока Аблай грабит казахов.
А потом Сибирь затрясло передрягами. В Башкирии поднял мятеж могучий батыр Сары Мерген, который хотел изгнать русских с Агидели, реки шиханов. Коварный Девлет-Гирей примкнул к Мергену: он мечтал возродить Сибирское ханство Кучума. Девлет и Мерген истребили Ирбитскую слободу и Катайский острог и спалили скит старца Далмата — старец уцелел только чудом. На Пелыме и Конде забунтовали вогулы, их возглавил князь Ермак Мамруков. На Оби остяки осадили 06-дорск и Берёзов. В тундре самоеды рыскали вокруг Мангазеи и сожгли на Печоре город Пустозёрск. Тобольский и казанский воеводы еле уняли разбушевавшихся инородцев.
Аблаю тогда пришлось несладко. В Семиречье он столкнулся с войском хана Очирту, который тоже задумал пограбить казахов. Братья передрались, разоряя чужую землю. Джунгарская междоусобица заполыхала на много лет. В Тобольске воеводу Хилкова сменил воевода Голицын, Голицына сменил Годунов, а по Азии от Великой Стены до Ногайской орды катался пожар войны всех со всеми. Тогда-то воевода Годунов и затеял строить Засечную черту от Лихого острога до Уткинской слободы, чтобы оградить усмирённую Сибирь от непокорной Азии. Аблай же, разгромленный братом, бежал на Яик. Без кольчуги ему было совсем туго. И он отправил сына Цагана достать кольчугу из тайника. К тайнику Цагана должен был провести Ульян Ремезов.
Увы, ничего не получилось. Ульян Ремезов, «прибыльщик», уже куковал в ссылке в Берёзове. Воевода Репнин не отпустил Ульяна к Цагану. И Цаган вернулся к отцу без кольчуги. Потеряв надежду на поддержку небес, Аблай решил сражаться не за Джунгарию, а за калмыцкую Волгу. Он снюхался с тайшой Даян-Омбой, сыном Далай-Батыра, и напал на улус Дайчина, сына Хо-Орлюка. Дайчин попал в плен; Аблай отправил его в Тибет; там Дайчин и сгинул. Улус Дайчина пытался защитить сын Мончак, но внезапно умер. Торжествующий Аблай воцарился на Волге. Однако оставался ещё сын Мончака — тайша Аюка. Он бросился за помощью к русским. И вскоре войско Аюки ударило по войску Аблая, разорвало его на куски и расшвыряло по Узеням от Ахтубы до Яика. Цаган погиб. Аблая скрутили и посадили в башню Астраханского кремля. Русские сделали Аюку властелином нижней Волги. А злосчастный Аблай зачах и умер в своей башне, глядя сквозь бойницу на степь, которая оказалась ему не по плечу. Волшебное сияние над тайником с Оргилууном угасло в пыли азиатских суховеев.
— У меня нет кольчуги, — сказал Онхудаю Семён Ульяныч. — Она там, где и должна быть, — в тайнике. Завтра мы отправимся к нему. Я укажу путь.
— Ты меня обманешь! — сразу разозлился Онхудай.
— Я не зову тебя против твоей воли, — пожал плечами Семён Ульяныч.
Онхудай засопел, размышляя.
— Ладно, говори, — неохотно поддался он.
— У меня шесть… пять человек и девка, — сказал Семён Ульяныч. — И ещё твой пленник. Ты дашь нам семь лошадей. Возьми с собой шесть конных воинов. Вас будет семеро, и нас будет семеро — поровну. Мы вместе поедем в степь и найдём тайник. Ты возьмёшь кольчугу, а я заберу пленника.
Онхудай долго думал.
— Хорошо, я согласен, старик, — наконец решил он.
Ваня издалека наблюдал за разговором Ремезова и Онхудая и думал о Семёне Ульяныче. Только Ремезов может вызволить его из джунгарского плена. Только Ремезов. Полковнику Бухгольцу не хватило воинской силы, чтобы вторгнуться в юргу и отбить захваченных людей. А Ходже Касыму не хватило удачи, чтобы выкупить Ваню. Про губернатора и вспоминать не стоит. В прежние времена воеводы грозили контайшам государственным гневом, вынуждая освободить тех, кто угодил в лапы степняков. Но князь Гагарин не станет обращаться к Цэван-Рабдану. Причина — сговор между Гагариным и китайцами, о котором Ване рассказал Касым. На груди зайсанга и сейчас висит свидетельство этого сговора: золотая китайская пайцза. Так что архитектон
Ремезов — единственная надежда поручика Ивана Демарина.
Ремезов, Ремезов…
Сибирь кажется полупустой и почти безлюдной, но на самом деле здесь множество народов и множество укладов. А жизнь — суровая. Промахнёшься хоть в малом, не примешь в расчёт, — и хлоп! Сибирь расшибёт тебя, будто комара ладонью. Здесь ничего нельзя достигнуть, если не разобрался, как всё устроено. А устроено — сложно. И эту сложность во всей её бесконечной путанице понимает разве что только Семён Ульяныч. Поэтому все, кто что-то делает, идут к нему и просят: объясни! научи! подскажи! Напрасно он, Ваня, полагал, что Ремезов — замшелая старина. Кремли, мол, прадедовы, летописи баснословные, чертежи расписные… Кремль можно разобрать и сладить ретраншемент, из летописи можно извлечь экстракт событий, а чертёж нетрудно перелицевать в ландкарту. Суть не в облике вещей. Труды Семёна Ульяныча посвящены тому, что было, есть и будет в Сибири всегда, — значит, мыслью своею Ремезов устремлён в грядущее, как и царь Пётр, который созидает новую державу. Ремезов повествует не о том, что уже умерло или должно умереть, а о том, что не умрёт никогда. Пётр — он о завтрашнем, а Ремезов — о вечном. И потому кудрявый ремезовский чертёж указывает верный путь. А других чертежей в Сибири пока и вовсе нет.
Вечером Ваня подошёл к Онхудаю.
— Дозволь, зайсанг, навестить своих, — попросил он.
Онхудай ухмыльнулся так, словно раскусил пленника.
— Ты не сумеешь сбежать с ними. Там на реке ниже по течению большая мель, и ваша лодка застрянет. Мы догоним вас на конях.
Ваня молчал.
— Ладно, иди, — смилостивился Онхудай.
Ваня медленно шагал по тропинке, протоптанной джунгарами от юрги к реке. Вдали дымно пламенел закат. В высокой траве стрекотали кузнечики. Где-то у воды кричал дергач. Спелый луг дышал тяжело и медвяно.
Ваня размышлял о Маше — с тревогой и печалью. Он не видел её два года. Всё могло случиться. Она могла выйти замуж. Уже и дети могли быть. Там, в степной кошаре, Ваня каждый день представлял себе Машу, говорил с ней, бесплотно обнимал её, воображал, какая у них была бы семья. Но жизнь не остановить. Это он увяз в неизбывности, а у Маши всё продолжалось. И надо быть готовым к тому, что Маша для него потеряна. Зачем Маше ждать его? Они же поссорились перед разлукой, да и Петька… Ваня слышал, как Ремезов сказал Онхудаю про девку. Про Машу?.. Вполне возможно, что Машин муж сопровождает тестя в поездке, а Маша — при муже…
Стан Ремезовых располагался почти у воды. Зеленели два лохматых шалаша из тальника. За шалашами вверх просмолённым днищем вытянулась насада. Горел костерок, и над огнём висел котёл. Ваня жадно разглядывал команду Семёна Ульяныча. Дядя Леонтий — его Ваня уже видел… Дядя Семён-младший… Дядя Ерофей — надо же, и он тут!.. И какой-то человек в камзоле — наверное, зять Семёна Ульяныча… Тоже военный, как и Ваня… В Тобольске, небось, много холостых офицеров… А где Маша?
— Ванька, бродяга! — радостно закричал Ерофей.
Ваню окружили, принялись тискать и хлопать по спине.
— Рады, что жив ты! — широко улыбался Леонтий.
— Бог тебя хранит, — негромко сказал Семён-младший.
— Ну и харю наел у степняков! — восхищался Ерофей. — Кабан стал!
— А это Филипа, тоже с нами, — Леонтий подтолкнул Табберта.
— Капитан фон Страленберг, — Табберт коснулся пальцами треуголки. — Я есть друг Симон и военный плен.
Ваню словно умыло: этот человек не мог быть мужем Маши!
— Благодарю за помощь в предприятии, — произнёс Ваня по-немецки, удивляясь забытому звучанию иностранной речи. — Я поручик Демарин.
— О, приятно встретить образованного человека! — по-немецки ответил Табберт, сразу почувствовав расположение к этому офицеру.
Ваню обдало жаром — из шалаша выбралась Маша.
Она распрямилась. Ваня даже испугался. Маша была уже не той тонкой девчонкой, какой Ваня её вспоминал. Она была уже молоденькой женщиной, она расцвела, она бесконечно похорошела, она была полна жизни — хотя и веснушки у неё были всё такие же, и тонкая светлая прядь всё так же падала из-под платка, и всё так же испытующе глядели чуть раскосые глаза…
Маша тоже смотрела на Ваню, едва его узнавая. Бритая голова, как у степняка, одежда степняка, дочерна загорелое, обветренное лицо и грубые, натруженные руки — чужой мужчина, плечистый и заматеревший… Но в его чертах вдруг проступил прежний Ванька: дерзкий, обидчивый, пылкий…
Вслед за Машей из шалаша, кряхтя, выбирался Ремезов.
— Поблагодари батюшку, — подтолкнул Ваню Семён-младший.
Ваня сделал шаг к Семёну Ульянычу и поклонился.
— Спасибо, отец, — сдавленно сказал он.
Глава 3 Остророгие
Ей снилось, что вода затопила весь мир до самого неба, и всё вокруг зыбкое и полутёмное, высокие сосны колышутся, словно водоросли, а звери и птицы превратились в рыб, и по лесам меж деревьев плывут рыба-медведь, рыба-волк и рыба-лось. И в этом подводном лесу стоит Хомани. Она очень красивая, значит, и Айкони тоже очень красивая, но Хомани совсем не такая сейчас, как Айкони. Волосы у Хомани промыты и расчёсаны, они стекают на плечи, словно две тихие волны, а у Айкони волосы спутанные и грязные, и в них застряла хвоя и дохлые комары. Лицо у Хомани гладкое и чистое, оно светится, а у Айкони лицо исцарапано ветками и опухло от мошки. Одежда у Хомани незнакомая, из ткани с красивым шитьём, — наверное, так её одевали там, где она жила, а у Айкони одежда самодельная, таёжная, из волчьих шкур, и ещё вся рваная. И Хомани улыбается, а вот Айкони — почему-то нет.
— Здравствуй, Айкони, — сказала Хомани.
— Здравствуй, Хомани.
— Ты хранишь мой подарок? — Хомани указала на уламу, которую Айкони обматывала вокруг пояса.
— В уламе душа моего мертвеца. А ты почему здесь?
— Я теперь хожу везде. Я свободная, как и ты.
— Но я не свободная.
Айкони в плену. Запястья у неё связаны за спиной, и даже для сна её не развязали, а верёвка тянется к руке Новицкого, хотя он тоже спит.
— Ты всё равно свободная, — возразила Хомани. — Ведь у тебя стучит сердце, и ты вдыхаешь воздух. А моё сердце не стучит, и в груди у меня вода.
— Ты умерла? — ужаснулась Айкони.
— Я просто стала жить по-другому. Так лучше!
— Нет! — крикнула Айкони.
Вернее, она хотела крикнуть, но поперхнулась и пробудилась. Дышать ей было нечем. Извернувшись всем телом, она вскочила на колени, и тотчас её начало тошнить речной водой. Её колотило и скручивало судорогами, она кашляла и хрипела, а вода всё лилась и лилась изо рта, будто из бездонного источника. Столько воды никак не могло бы уместиться в животе маленькой Айкони, и в животе большого человека не могло бы уместиться, и в брюхе медведя не могло бы, и в брюхе лося. Вокруг Айкони по мху растекалась огромная лужа, в которой бились и подпрыгивали мелкие рыбки.
Но поток воды наконец иссяк — это душа Хомани ушла из души сестры, и Айкони обессиленно обмякла. Успокоив дыхание, она огляделась. По тайге полз туманный рассвет. Новицкий спал возле ручья Вор-сяхыл-со-юм, кашель пленницы не разбудил его. Айкони на коленях подобралась к Новицкому. Что можно сделать? Вытянуть зубами саблю из ножен и попытаться как-то перепилить об неё верёвку? Нет, Новицкий очнётся… А можно перегрызть ему яремную вену. Он уже не пережмёт рукой поток крови — помечется и затихнет. Примеряясь к укусу, Айкони осматривала Новицкого. Лицо у него горело от гибельного внутреннего огня — Айкони чувствовала этот жар. Скулы и челюсти Новицкого, обросшие густой чёрно-искристой щетиной, костляво обострились, а глаза ввалились. На мокром от пота виске и на мокрой шее сидели раздувшиеся комары. Впиваться зубами надо вот сюда — под серьгу. Укус, рывок — и этот человек умрёт. Отпустит её.
Айкони не жалела Новицкого. Жалеть надо того, кто слабее, а Новицкий сильный. Она не виновата, что он порвал заговорённый волос. Волос был предназначен князю, а не ему. Духи толкнули его вперёд князя, и при чём тут Айкони? Разве охотник виноват, если в ловушку на песца попадёт лисица?
— По двору ходэ, як зоря сходэ, святий вэчир… — то ли забормотал, то ли запел вдруг Новицкий. — Водицю нэсэ, як пава плывэ, святий вэчир…
Он открыл задымлённые глаза и мутно посмотрел на Айкони, которая хищно склонялась над ним, как волк над изловленным зайцем.
— Нэ вэчир, а вутро, дывчинка, — виновато поправился Григорий Ильич. — Я вси пэрэплутав, ридна моя… Я хворий…
Он тяжело поднялся, словно не замечая, что Айкони привязана к его руке, побрёл к ручью, опустился у воды и напился. Потом вернулся к Айкони — она сидела возле его тощего мешка, порылся в мешке и достал сухарь.
— Поснидай, дитынко, — и он сунул сухарь Айкони в рот.
Айкони заплакала. Новицкий опять остался жив!.. В первый раз его не сумел убить убийца, подосланный Нахрачом, а теперь она сама не сумела. А где-то в Тобольске погибла Хомани. И у неё, Айкони, больше нет сестры. Нет её половины. Они с сестрой согревали друг друга в холодном чуме, когда отец уходил; они играли одной куклой из медвежьего хвостика; они вместе рыбачили; они выдумывали друг для друга сказки, чтобы не скучать, и смеялись от удивления: как это одна из них знает то, чего не знает другая? И вот Хомани ушла жить на небо предков. Но как же Хомани может жить там, у предков, когда Айкони — здесь, внизу? Ведь они обе — одно целое! Как Айкони теперь обрести себя? Ведь нельзя стоять ногами на разных берегах Оби! И когда же люди перестанут отнимать у неё то, что она имеет? На Ен-Пуголе она решила, что потеряла всё, и у неё уже нечего взять. Оказалось, у неё было ещё столько разных вещей!.. Был сам Ен-Пугол и добрый Ике, был Нахрач, была сестра, была свобода. А вот теперь у неё точно ничего нет.
Айкони понимала, куда и зачем ведёт её Новицкий. Они шли вдоль ручья Вор-сяхыл-союм к берегу Конды. Там, возле Упи-горы, они должны были ждать владыку Филофея, который на лодке приплывёт из Балчар. Владыка заберёт Новицкого и пленную остячку и повезёт в Тобольск. А в Тобольске… В Тобольске Айкони ожидало возмездие за поджог подворья у Семульчи и убийство сторожа на дороге. Айкони умрёт, как умерла Хомани.
Запястья Айкони были связаны за спиной, и верёвку Новицкий намотал себе на ладонь. Айкони не могла даже отмахнуться от комаров и мошки. Она брела вперёд, по возможности выбирая путь в мелких ёлочках, чтобы еловые лапы обметали её лицо от гнуса. Она карабкалась на корневища и коряги, неловко перелезала через валежник, порой шлёпала прямо по руслу ручья, иной раз падала, иной раз застревала в зарослях, а то вдруг принималась извиваться и биться, надеясь выпростать руки из пут. Но вызволиться у неё не получалось. Григорий Ильич тащился сзади на верёвке, будто не он вёл пленницу, а пленница его вела. Он спотыкался, трещал сучьями, его шатало из стороны в сторону, он цеплялся саблей за кусты, но верёвку не терял. Айкони видела, что Новицкий очень плох. Его раны на спине и на бедре воспалились, и движения причиняли ему неугасимую боль. Айкони ждала, что он свалится без сознания, и тогда она как-нибудь убежит, однако Новицкий плёлся по звериным тропам и ломился сквозь тайгу с упорством раненого лося. Конечно, в нём укрывался демон. У человека не может быть так много силы. Только демон способен заставить двигаться того, кого уже не держат ноги, у кого не видят глаза, в ком заживо пылает и гниёт заражённая кровь. И этого демона она, Айкони, подсадила в Новицкого сама. Демон гнал Новицкого вслед за ней — и будет гнать до тех пор, пока жизнь в Новицком не прогорит дотла, до последнего уголька.
Под вечер измученная Айкони точно впала в неистовство. Она внезапно потянула прямо в лес, выламывая связанные сзади руки, — так собака рвётся с привязи, удушая себя.
— Отпустить!.. Отпустить мне!.. — исступлённо завыла она.
Новицкий ухватился за верёвку обеими руками.
— Нэт!.. Нэ моляй мэнэ!.. — прохрипел он, упираясь.
— Не хотеть тебе! Отдать меня Нахрачу! — заклинала Айкони. Нахрач казался ей спасением, избавлением от мук. — Нахрач меня прятать в лес! Там нет никого, никого! Тихо! Меня не видеть, меня не помнить!
— Нэ будэ боле Нахрачу! — убеждённо ответил Новицкий. — Вотче зловыти його у Сатыги, и його смэрттю стратят!
Конечно, пленного Нахрача в Тобольске казнят — ведь он поднял своих людей против русских. Его даже крещение не избавит от кнутов или петли. Прошли уже времена Анны Пуртеевой. Да и малолюдный Ваентур — не могучая Кода, которую надо удержать в покорности ценой прощения князя.
— Меня тоже убить! — отчаянно крикнула Новицкому Айкони.
— Нэт, кохана, нэт! — успокаивал её Григорий Ильич. — Я володыку за тэбэ просити буду! Я йому в ноги впаду! Тэбэ пробачать! Охрэстыти, и я тэбэ в жинки вы-зьму! Будэшь моею! Я вочей своих с тэбэ нэ опущаты!..
Григорий Ильич и сам не знал, правду он говорит или нет. Возможно такое или невозможно? Сейчас, в полубреду, он не размышлял. Все ответы сложились в его голове уже давным-давно, пока он был здоров, и он поверил в них, потому что в тоске ему надо было во что-то верить, и теперь он просто произносил слова, которые затвердил себе не год и не два назад.
— Нет! Ты смерть! Я не тебе! — крикнула Айкони.
Новицкий её не услышал.
— Будэшь моею! — повторил он. — Боле не утэчи от мэнэ!..
Айкони снова ринулась вперёд, увлекая за собой Новицкого. Злые слёзы промыли светлые дорожки на её грязном лице. Нет, она отыщет выход! Она не будет женщиной этого русского безумца, которого сама и превратила в чудовище! Что бы ни сказал Новицкий, как бы ни раскидывал ловчие сети его могучий бог, тайга не выдаст Айкони! С ней защита Ике-Нуми-Хаума!
Она помнила свой путь с Нахрачом.
Когда на болоте она вырвалась от русских и очутилась на Ен-Пуголе, князя-шамана на острове уже не было. Он выкорчевал Ике-Нуми-Хаума, подцепил его к лошади, которую Новицкий и Пантила бросили в Ваентуре, и через протоку ушёл в тайгу, намереваясь обрести укрытие в Бал чарах у князя Сатыги. На Ен-Пуголе, пьяно завывая и воинственно размахивая оружием, колобродили вогулы Ваентура, одуревшие от пойла из мухоморов. Айкони с ними нечего было делать. Она бросила последний взгляд на остров, так долго служивший ей домом, и двинулась вслед за Нахрачом по моховой борозде, взрытой волочащимся идолом. В сумерках она настигла Нахрача.
— Я ждал тебя, — ухмыльнулся Нахрач.
Айкони тоже была рада увидеть его. Она не забыла, как Нахрач прислал к ней убийцу, от которого её защитил собою Новицкий, но следует ли винить Нахрача? Он не желал Айкони зла. Просто он не придумал другого способа уберечь Ен-Пугол. На месте Нахрача Айкони поступила бы точно так же.
Двумя длинными ремнями Ике был за голову привязан к лошади, на шею которой Нахрач насадил хомут. Раньше затёсанную макушку идола венчал лосиный череп, и сейчас, без черепа, казалось, что Ике облысел, как старик. На глаза-гвозди намоталась трава, в рот набилась земля, маленькие ручки обломались, мокрая одежда раскисла и порвалась — рукава волочились по кустам. Но на груди Ике обнажилась ржавая кольчуга Ермака, и древний идол Коды всё равно выглядел грозно. Ике не потерял свою свирепую душу.
Продираться через тайгу лошади было ещё труднее, чем людям. Нахрач шагал впереди, топором расчищая дорогу: рубил ветви и мелкие деревья, ногами сшибал сухие корневища и топтал коряги. Айкони тянула лошадь за узду. Коняга не хотела идти. Сучья царапали ей бока и брюхо, и она чуяла лесных богов — боялась их, прядала ушами, упрямилась. Лошади не любили тайгу, поэтому вогулы не любили лошадей. Ике тащился то одним боком по земле, то другим, как лодка; однако он не был лодкой, которая принадлежит реке, он был плотью леса, и потому Айкони не отпускало ощущение, что он намеренно мучает её и Нахрача, испытывает их преданность. Преодоление пути сквозь тайгу для Нахрача и Айкони было подобно жертвоприношению.
Ночью у костра Айкони внимательно рассматривала Нахрача, словно видела его в первый раз, — горбатого, перекошенного, рукастого. Его тёмная рожа, покрытая морщинами и щетиной, напоминала сосновую кору. Людей вроде Нахрача вогулы называли остророгими — неуживчивыми, дерзкими, непримиримыми. Айкони и сама была такой, и потому для неё во властном Нахраче было что-то бесконечно притягательное. Ей хотелось наблюдать за ним, как за диким животным, которое занято своим потаённым делом.
— Тебе жалко, что Ен-Пугол пропал? — спросила Айкони.
— Да, — кивнул Нахрач. — Место было крепкое. Теперь надо искать новое.
— Это русские виноваты.
— Ты глупа, как все женщины, — Нахрач зло засмеялся. — Если капище найдут русские, их надо просто убить, потому что они станут грабить.
Он говорил так, как должен говорить вогул — потомок князей, которые убивали русских, пока не погибли сами.
— Капище надо уносить не из-за русских, а из-за моих людей. Я указал им дорогу на Ен-Пугол, чтобы успеть забрать Ике-Нуми-Хаума. Я не мог сделать иначе. Но теперь мои люди знают путь, они станут ходить на капище сами и будут просить богов без меня. Только русские пускают к своему богу всех, а к нашим богам может приближаться один лишь шаман. Мне придётся устраивать новое капище и переселять на него богов Ен-Пугола.
— Я помогу тебе, — пообещала Айкони. — Мне с тобой хорошо.
— Знаю, — кивнул Нахрач. — Я добрый к тебе. Я должен прогнать тебя, потому что за тобой идёт Человек-с-крестом, но не прогоняю.
Огонь бегал по головням костра, как белка. Деревья, окутанные мглой и дымом, стояли, будто лесные страшилища, собравшиеся возле костра, чтобы послушать Нахрача. Мохнатые лапы, цепкие пальцы, насупленные брови, лохматые уши, щепастые плечи и локти, корявые колени, хвойные лохмотья, пристальные взгляды. Причудливые и безобразные страшилища еле слышно перешёптывались, и речь их была скрипом, шумом ветра, уханьем филина.
А наутро Айкони и Нахрач снова пробивались сквозь тайгу, потому что по их следам шёл непреклонный русский митрополит, и ничто не могло его остановить — ни демоны, ни буреломы. Но, похоже, старый Ике устал от бегства. Он начал застревать на корнях, а потом лопнул один из двух ремней, на которых Ике волочился за лошадью. Нахрач изучил обрывок ремня.
— Он не перетёрся. Он разрезан ножом.
— У Ике нет ножа! — удивилась Айкони.
— У богов есть всё! — злобно возразил Нахрач. — И ноги тоже есть!
Он вырвал из мха тонкую сосенку и наотмашь хлестнул ею идола.
— Ты не бог, а трусливый бурундук, Ике-Нуми-Хаум!
— Не бей его! — испугалась Айкони.
Однако Нахрач не унялся.
— Ты стал негодным, Ике! Ты дряхлый дурак! Тебя победили!
Айкони попыталась схватить Нахрача за руку.
— Это бог! Так нельзя!
Нахрач безжалостно хлестнул и Айкони.
— Почему нельзя? — яростно спросил он.
— Его надо почитать! Он сильный!
— Ну и что? Медведь тоже сильный! Лось сильный! Олень сильный! Но я не боюсь медведя, лося и оленя! Надо мне — убью! Я найду другого бога, лучше этого старика! Я оставлю его здесь и уйду! Он обманул меня!
— Я не брошу Ике! — гневно крикнула Айкони.
— Тогда и оставайся с ним!
Нахрач вытащил нож и отсёк второй ремень, ещё удерживающий идола.
— Не покидай меня, Нахрач! — взмолилась Айкони. — Ты сильный и храбрый! Ты хозяин! Я пропаду без тебя!
Нахрач не внял её отчаянью. Схватив верёвочную узду, он кособоко пошагал дальше в лес, уводя лошадь.
Так Айкони осталась одна.
Она не смогла уберечь Ике, и русские схватили деревянного старика. Наверное, сейчас его уже разрубили на куски и сожгли в большом костре. А она, Айкони, попала в плен: ей связали руки и ведут к реке, чтобы посадить в лодку и увезти в Тобольск. Но теперь она поняла, зачем Ике обрезал свой ремень и отдал себя русским. Ике принёс себя в жертву, чтобы опять спасти Айкони. Русские убили его огнём, зато Айкони сейчас оказалась наедине с больным Новицким. При любом другом повороте событий вокруг неё было бы слишком много сильных сторожей. Мудрый Ике угадал всё наперёд!
Покинутая Нахрачом, Айкони понимала, что русские неизбежно догонят её. Она стащила с Ике железную рубаху и надела под одежду. Она сделала это без всякого расчёта — просто желала сохранить хоть что-то от Ике. Она знала, что Новицкий, её ненавистный и безумный хранитель, никому не позволит прикоснуться к ней: значит, никто из русских не проведает, что на её теле — волшебное железо Ермака. Тяжёлая кольчуга изнурила Айкони, но именно сейчас доспех и пригодится ей. Князь Пантила Алачеев, предавший родных богов, жаждал заполучить священный панцирь; все русские жаждали заполучить его, — и она может отдать железную рубаху Новицкому. Конечно, Новицкий не согласится обменять кольчугу Ермака на свободу Айкони. Но он развяжет Айкони руки, чтобы она сняла доспех. И этой малости ей будет достаточно для побега. Она вырвется и легко скроется от своего немощного стража, который едва переставляет ноги. Так придумал Ике!
Айкони остановилась и оглянулась на Новицкого.
— Мне мало сил! — сказала она. — Железо гнёт!
Новицкий тупо смотрел на неё.
— Якэ залызо? — он еле разлепил спёкшиеся губы.
— Смотреть! — Айкони повернулась к нему грудью. — Смотреть мне!
Новицкий шагнул ближе и дрожащими пальцами потянул за кожаную тесёмку на вороте Айкони. Тесёмка, змеясь, выскользнула из прорезей. Ворот распался, и под волчьей шкурой открылась ржавая кольчуга.
— Хэрмакова бронь?.. — растерялся Григорий Ильич.
Вот оно где — сокровище Коды, которое искал Пантила! Впрочем, теперь Григория Ильича это уже не тронуло. Кольчуга — и кольчуга. Лишняя тягота.
— Снять! — потребовала Айкони.
— Як же я ей зныму?..
— Руки, руки мне дай! — закричала Айкони, бессильно дёргая локтями.
Ничего не подозревая, Григорий Ильич послушно зашёл ей за спину и принялся распутывать узлы на её запястьях. Айкони ждала, готовая стрелой метнуться в чащу. Глаза её горели. Новицкий расслабил верёвки, и Айкони выдернула руки из петель. Можно было и побежать — но железо висело на плечах, как ярмо. Кольчугу следовало сбросить с себя: зачем она нужна?
Цветастая улама, накрученная на пояс, упала к ногам Айкони. Упала к стоптанным сапожкам-чиркам и грубая рубашка, сшитая из тёмных волчьих шкур. Свалились грязные штаны, которые крепились к рубашке. Айкони стояла, до колен облачённая в ржавое железо. Она тряхнула плечами, и старая кольчуга с тихим звоном потекла вниз по её телу, как железная вода.
Надо было схватить одежду и рвануться прочь, но Айкони почему-то не двигалась, голыми лопатками чувствуя жар от Новицкого. По тайге летели трескучие крики кедровки. Вдали печально куковала кукушка. Дурманной дремотой плыли густые запахи зрелой хвои, смолы и мшистой прели. Айкони ощутила, как солнце лижет её груди и живот, словно корова тёплым языком.
Мокрые, горячие ладони Новицкого легли ей на плечи.
— Аконя, коханочка моя… — зашептал Григорий Ильич. — Вично любыти буду тэбэ… Ти мэни долею на-звына… Нэга моя нэбэсна… Сонэчко яснэ…
И Айкони вдруг осознала, что человек за её спиной — такой, какого она всегда искала. Он не обидит, не возьмёт своего силой, не бросит, не предаст, всегда будет рядом, в любой миг придёт на помощь, никого превыше её не поставит и отдаст жизнь за неё без малейшего колебания. Чего же ещё надо?
Айкони мотнула головой, избавляясь от наваждения, развернулась и бешено оттолкнула Новицкого так, что он ударился воспалённым плечом о ствол сосны и вскрикнул от боли. Нет! Всё это — помрачение разума! Тьма, в которую она завлекла Новицкого — и внезапно сама же угодила в её омут!
— Нет! — ожесточённо закричала она. — Не ты говорить! Ты не сам! Не сам! Не твоё! Ты не знать! Не тебе! Убить тебя! Убить!
Она прыгнула на Григория Ильича, как дикая рысь, даже не вспомнив о сабле у него на поясе — от ненависти ей хотелось рвать Новицкого зубами и когтями. Она укусила его в шею, ударила в лицо и располосовала ему скулы — целилась в глаза, но он успел отвернуться. А потом она отскочила, цапнула свою одежду и уламу и понеслась в тайгу.
Глава 4 Что обещано
Видно, весной в этой низине собиралась талая вода, потому летом почва здесь сохраняла влагу, и низина заросла густым тростником. Образовался тростниковый остров среди полынного и ковыльного моря. На краю острова возвышался старый карагач. Его толстые узловатые ветви простирались над землёй, но листва на них уже поредела — карагач потихоньку умирал.
— Отдохнём в тенёчке, зайсанг? — спросил Леонтий.
— Нет, — ответил Онхудай.
Семён Ульяныч знал, что отдельно стоящие в степи деревья азиаты почитают священными. Эти деревья непременно растут из какого-нибудь посоха, воткнутого тут мудрым монахом или благочестивым странником. Деревья служат лестницей для богов и духов, которые с неба перемещаются под землю и обратно. В ветвях обязательно живёт какая-нибудь волшебная птица, которая высиживает яйцо-солнце. Под деревом вершится праведный суд. Лишний раз такое дерево степняки не беспокоят: не ломают с него сучья, не топчут корни, не присваивают тень.
На вытянутой ветви карагача лежала сказочно-огромная кошка размером с телёнка. Она дремала, но проснулась, заслышав топот всадников: подняла голову, навострила уши и свесила хвост. Цвет у кошки был жёлто-палевый, как у выгоревшего тростника, на хребте и на хвосте — тёмные поперечные полосы, на ушах — кисточки. Кошка внимательно смотрела на людей.
— О! — восхитился зоркий Табберт. — Сей зверец есть сибирский пардус? Степной рыс? Тигор? Барс?
— Бабр, — пояснил Семён Ульяныч. — В тростянни-ках живёт.
В молодости он уже встречал в степи бабров. Раньше их было много.
— Кс-кс-кс-кс! — позвала Маша.
Она сидела в мужском седле боком, неудобно, но не жаловалась.
Кошка на карагаче презрительно изогнула хвост крючком.
Маша была в степи впервые. Она догадалась, что степь, показав ей бабра, приняла её. Незримые двери для неё отворены. И что там бабр — для Маши степь вся была полна ощущения чуда. Привычная тайга — она совсем не такая; тайга — она колдовская, когда одно получается из другого: из дерева — человек, из коряги — страшный дух, из мохового бугра — потаённый дом. А в степи всё иначе. Здесь нечто удивительное возникает из воздуха, из пустоты — потому и чудо. Степной простор будоражил душу: не может быть, что здесь ничего нет. Маша понимала: степь насыщена жизнью, только эта жизнь незрима. Степь подобна сну. Во сне человек видит столько всего разного, что дух захватывает; во сне человек живёт ярко и бурно, а внешне — просто лежит неподвижно, и всё. Но ведь душа в это время где-то пребывает, что-то делает, чувствует как наяву. Где находится страна сна? Неведомо! Но эта страна есть, она существует, и спорить незачем. И степь точно так же: где её жизнь? Неведомо! Но этой жизни много, и она повсюду!
Четырнадцать всадников — семеро джунгар, шестеро русских и швед — ехали от Тобола в глубину бесконечной равнины. Копыта коней стучали по сухой земле туго, словно по барабану. Джунгары были вооружены луками, а у Леонтия, Семёна-младшего, Ерофея и Табберта за спинами висели ружья. Силы были примерно равны. Ружьё стреляет вдвое дальше, чем лук, и бьёт наповал, зато из лука за время между двумя ружейными выстрелами можно выпустить четыре стрелы. Ружья хороши в бою, только когда их много.
Табберт ехал рядом с Ремезовым и то и дело приставал с вопросами.
— Сказать мне, Симон, — снова что-то надумав, заговорил он, — сей великий степ тянет себя без отверстия от Мугалий до Туреций?
— Ну, да, — согласился Ремезов.
— Здесь ходить гунн?
— Какой гун?
— Народ. Который взять себя откуда нигде и разрушить Рим.
— Не ведаю, — признался Семён Ульяныч.
— А скиф?
— И про такой народ не ведаю. Чингиз был, Джучи, Батый. Тамерлан был. Джунгары были — Далай-Батыр и Орлюк.
— Скиф и гун много раньше ходить.
— Ну, вам там в Шведии виднее, кто у нас тут по какой нужде шастал, — обиделся Семён Ульяныч. — Поди курганы покопай. Может, их твои скипы или гуны насыпали.
— Курган весь одинаков?
— Разные. Большие и малые, плоские и крутые, с одной верхушкой и многоглавые, с бабами и без них, богатые на золото и пустые. А есть курганы с усами — с двумя каменными насыпями серпом. Тут до чёрта всего, Филипа.
Утром перед выездом Семён Ульяныч сказал, что к тайнику они приедут вечером. И целый день они качались в сёдлах, сделав лишь пару недолгих привалов. Время от времени искоса поглядывая на Машу, Ваня вдруг понял, что ни разу не поймал её на ответном взгляде. Маша не смотрела на него, словно не замечала. Впрочем, Ваня и не стремился попасться ей на глаза. Может быть, Маша боялась отца? Или не хотела перед Онхудаем выдать своё чувство, чтобы коварный зайсанг не задрал цену? Да неважно. Ваня уже научился ждать, научился принимать неспешность жизненного движения.
А Маша просто смущалась. С этим новым Ваней, с большим Ваней, с мужчиной, всё оборачивалось не так, как она себе воображала. Раньше, ещё до похода Бухгольца, пока Ванька был вьюношем, Маша легко могла ругаться с ним, спорить, доказывать ему что-либо, осаживать его на место. А сейчас такое оказалось невозможно. Раньше их любовь была раскалённым медным листом, стоящим между ними, и оба они обжигались, прикасаясь к этому листу ладонями, чтобы ощутить друг друга. А сейчас расплавленная медь затопила их обоих с головой. Раньше Машу заботило, чтобы батюшка не осудил её, а подружки и братья не посмеялись над Ваней; теперь ей стало безразлично мнение других людей, ведь близость к мужчине означала такую откровенность, что еле хватало храбрости решиться на неё, и всё остальное не могло сравниться с ней по глубине правды. Близость к мужчине была огромной, манящей и пугающей, а чужие мнения только досаждали — плоские и никчёмные, как налипшие листья от банного веника. Маша словно бы нашла в тайге затерянное чистое озеро: из него можно пить, в нём можно купаться, возле него можно построить хороший дом; а другие люди нелепо охали и ахали, что она промочит ноги.
А Ваня и не предполагал, что Маша в душе трепещет. Он думал, что за два долгих года она усвоила отцовскую жёсткость, а он, неудачливый солдат, просто отвергнут. Здесь, в степи, Маша сопровождает батюшку из холодного любопытства к тому, кто раньше был так важен для неё. И она разочарована. Ваня принимал это стойко и терпеливо, как продолжение своих невзгод. Он видел у степняков девушек, подобных Маше. На летних игрищах найрах у джунгар была конная забава: отмеряли некое расстояние, и жених гнался за невестой, которая летела от него, как стрела; если у парня не получалось схватить девушку до заветного рубежа, то обратно уже девушка гналась за ним и беспощадно охаживала его плетью. Что ж, есть вещи, которые мужчина должен сделать для женщины любой ценой, и есть праведный гнев женщины, которая не получила то, что должна получить. Он, Ваня, не догнал Машу, когда мог, и сейчас терпит боль, которая куда сильнее ожогов плети. А Маша — из таких девушек, которые на обратном пути не сдерживают руку.
К Семёну Ульянычу подъехал Семён-младший.
— Батюшка, далеко ещё?
Семён Ульяныч полез за пазуху и достал листок с перерисованной иконой. Ему приятно было похвастаться хитростью замысла.
— Смотри сам, Сенька, — предложил он. — От этой вот излучины, куда носочек святой Софии уставлен, на веток ножку Софии померь — ровно четыре Исусовых шага вмещается.
— А где тут веток? — вглядываясь, не понял Семён.
— Ну где-где? Совсем божье правило забыл? Видишь, где я у Софийского собора алтарь изобразил? Алтарь на встоке строят.
— А почему Исусовы шаги, ежели святая София?
— София — Премудрость Божия. Её путь всегда Исусов.
— Сколько есть сей шаг? — встрял любопытный Табберт.
— Семь вёрст.
— Потчему?
Семён Ульяныч с укором посмотрел на Табберта.
— Ты как бусурманин, Филипа, хотя вроде тоже ведь крещён. На Святой Земле Голгофу за сколько вёрст видно?
— Не знать.
— За семь вёрст. Семь вёрст — Исусов шаг.
Табберт понимающе усмехнулся. Русские не участвовали в крестовых походах и никогда не видели Палестину. Русские отделены от мира своими неимоверными расстояниями. Русская знать жмётся к монарху-деспоту, а народ прикован к месту крепостным правом. У русских даже морей толком нет, чтобы плавать по свету. Они перемещаются лишь внутри своего крута жизни, пусть и огромного, а всего того, что находится вне этого круга, они совершенно не знают. Но зато бурно фантазируют, и сами же, как малые дети, безоговорочно верят в свои фантазии, а потому даже образованным людям из других государств порой вдруг кажется, будто русские проведали что-то такое, чего не ведают иные нации. Для внешнего мира у русских нет обыденности. Внешний мир для них всегда сказка.
— А какой он, тайник твоего батьки? — спросил у Ремезова Ерофей.
Семён Ульяныч помолчал, размышляя: рассказывать ли?
— Тайник — копань, — наконец выдал он. — Пещера рукодельная.
— Какая пещера в степи? Яма, что ли?
— Не яма. Ход вроде норы в обрыве суходола.
— А не обвалился ли за столько лет?
— Не обвалился, — уверенно ответил Семён Ульяныч.
Он тоже опасался такого поворота дела, но успокаивал себя примером ордынских рудников.
В Тобольск, случалось, приезжали яицкие казаки, и Семён Ульяныч затаскивал их к себе, чтобы под бражку расспросить о Яике: о городках, рыбном багренье и учугах; о кладе Марины Мнишек, утопленном в лодке в омуте; о покинутом остроге острова Кош-Яик; о толстопузом кирпичном кремле в Гурьеве и о лихом Стеньке Разине; о подвигах Ермака, Нечая и Мещеряка; о глинобитной ногайской столице Сарайчик; об острове Ка-мынь во Хвалынском море и явлении митрополита Алексия. И ещё об ордынских рудниках. Рудные поля Общего Сырта простирались в междуречье Яика и Самары. Холмы, равнины и суходолы этой местности были сплошь изрыты древними копями, в которых добывали медь. Всюду горбились отвалы, заросшие дикой вишней, а в ковыле валялись кучи камней, покрытых тонкой и рыхлой накипью зелёного малахита. Недра земли здесь были источены извилистыми ходами: многие сотни ходов на многие и многие сотни сажен. Смельчаки, что решались забраться в безмолвную глубину этих подземелий, встречали там потерянные рудокопами сумки с рудой, сшитые из оленьих шкур, костяные лопаты из бараньих лопаток и рукавицы из кожи с головы лосёнка, у которых большой палец вставлялся в ухо.
Семён Ульяныч не верил, что эти рудники выкопали ордынцы. На шиша им? Больно надо Чингисхану или Батыю рыться в суглинках! Кочевая Орда жила грабежом, а мирными трудами не занималась. Рудники завели какие-то другие народы. И завели задолго до Орды. Целые века эти выработки оставались заброшенными. Однако в степи — великая сушь, и подземные воды не стронули пластов, не обрушили проходов и камор. Копи и ныне были такими же, как в первый день сотворения. И Семён Ульяныч надеялся, что отцовский тайник тоже сохранился в неприкосновенности.
— У покойников в курганах на кожаных ремнях и сейчас узлы развязать можно, — добавил Леонтий, поддерживая отца. — Только размочить немного надо. В тундре всё в земле мерзлота бережёт, а в степи — безводье.
Про узлы на ремнях Леонтию говорил бугровщик Голята.
Онхудай ехал неподалёку от Ремезовых и слушал разговор.
— Ты грабил могилы, — сказал он Леонтию. — Я тебя поймал.
— Я не бугровщик, зайсанг, — ответил Леонтий. — Просто так получилось. Да и тебя самого ведь только золото манило, а вовсе не святотатцы.
Онхудай возмущённо засопел.
— Когда доедем-то? — нетерпеливо спросил Ерофей. — Вечор скоро.
— Да где-то здесь уже, — Семён Ульяныч посмотрел по сторонам. — Пора искать аран Джучи.
— Это что ещё такое?
— Валы из камней. Длинные-длинные, а высотой — по колено.
Каждый аран состоял из трёх-пяти-семи таких валов. Похоже, раньше они были стенами из ничем не скреплённых булыжников и плитняка, но с течением времени стены рассыпались. Откуда взялись в степи эти камни, никто не знал. И никто не знал, для чего эти стены были построены. Араны имели собственные названия: Заяц, Арба, Черепаха, Ворота, Стремя, Таган, Паук. Ремезовы направлялись к арану Лучник. Семён Ульяныч никому не говорил, чтобы его не высмеяли, но считал, что араны Джучи — нечто вроде созвездий, начерченных людьми на лике земли; огромные и таинственные рисунки, сде-данные каменными линиями; буквицы неведомого послания. По-настоящему они видны только с неба, только птицам и ангелам. А странные названия аранов — память о том, что здесь нарисовано.
— Джучок этот — он же сын Батыя? — спросил Ерофей.
— Тёмный ты человек, Ерофейка, — ответил Ремезов.
Грозный Батый, покоривший Русь, был сыном
Джучи.
— Слышь, зайсанг, — обратился Семён Ульяныч к Онхудаю. — Надо степь прочёсывать. Давай разъедемся, чтобы всадник от всадника шагов на двадцать отстоял, и будем искать гряду из валунов.
Четырнадцать всадников растянулись цепью.
Солнце склонялось, но аран затерялся в бескрайних ковылях. Семён Ульяныч потихоньку терял терпение. Он вертел головой и ёрзал в седле.
Джунгарин, который двигался в цепи крайним, гортанно крикнул, для потехи пугая стадо диких лошадок-тарпанов, что паслись поодаль. Тарпаны испугались и полетели прочь, мелькая в метёлках ковыля бурыми спинами и чёрными лохматыми гривами. Семён Ульяныч увидел, что в одном месте все тарпаны дружно прыгают. Они преодолевали какую-то преграду.
— Эй! Эй! — Семён Ульяныч замахал руками. — Вон там аран!
Каменная гряда лежала в травах, почти незаметная. Нижние слои уже погрузились в дёрн, а щели меж каме-нюк были забиты почвой. Казалось, что люди не имеют никакого отношения к низкой, расползшейся вширь полосе из булыжников — обломки и обломки, ничего особенного. Но в степи больше не было камней: откуда же эти тут появились? Семён Ульяныч проехал вдоль насыпи — она была шагов двести в длину и завершалась продолговатым холмиком из валунов покрупнее, — а потом проехал и вдоль второй полосы, что пересекала первую.
С земли, снизу, невозможно было понять, как эти полосы расположены и что могут изображать. Но Семён Ульяныч помнил название арана: Лучник. Наверное, эти линии были дугой лука и заряженной в него стрелой, а холмик из крупных валунов обозначал наконечник стрелы.
— Сенька! Лёнька! Филипа! Ерофей! — позвал Семён Ульяныч. — Ну-ка встаньте у концов насыпей! Марея, встань в перекрестье!
Онхудай, ничего не понимая, наблюдал за перемещениями русских.
Глядя на своих спутников, Семён Ульяныч сообразил, как выглядит огромный рисунок, укрытый высокой травой. Леонтий, Маша и Табберт оказались на одной прямой линии — это и была стрела арана. Куда целился невидимый лучник? Куда должна была полететь стрела, так и не выпущенная много столетий назад? Солнце палило с небосвода, слепило, и одуряюще пахла полынь. Жаркий ветерок нехотя гнал по травам сизые волны.
Семён Ульяныч достал из-за пазухи самодельный компас-матку, какими пользовались поморы. Матку он наладил в квадратной коробочке, тщательно вырезанной из берёзового капа. Иголку для матки он ещё дома намагнитил от куска самородного железняка, добытого на Яике в горе Атач — волшебный желвак Семён Ульяныч купил у башкирцев на Троицкой ярмарке; для опоры под иголку он уже давно выпросил у Матвея Петровича легчайшую пробку из заморской винной бутылки; воду в склянке Ремезов на Пасху освятил у отца Лахтиона. Налив святой воды в коробочку, Семён Ульяныч запустил на воду матку и подождал, пока пробка успокоится. Игла указывала на север; Семён Ульяныч ногтем процарапал на капе заметку севера. А стрела арана указывала куда-то на полуполудень-полувсток; Семён Ульяныч процарапал другую заметку. Теперь он имел направление для движения.
Он поехал первым, держа матку на ладони и стараясь не раскачивать воду в коробочке. Все прочие поехали за ним и молчали, словно голосом могли кого-то спугнуть. Только Табберт догнал Ремезова и спросил:
— Симон, затчем сей знак в середина степ?
— Не ведаю, — честно ответил Семён Ульяныч.
Онхудай, услышав вопрос иноземца, не выдержал.
— По ним Джучи, сын Чингиза, отправлял в кочевье небесных тенгриев на синих кобылицах! — важно заявил он.
Табберт только хмыкнул.
Долго ехать не пришлось. Степь, которая выглядела ровной, как стол, вдруг провалилась западиной обширного суходола. Это был не овраг, а словно бы ложе исчезнувшей реки: плоское дно, заросшее кустами, обрывы берегов… Иссякшая река размерами превосходила Тобол, но ей неоткуда было здесь взяться: никогда по Тур-гаю не текли такие большие реки, и талые воды тоже не могли породить поток, способный промыть это пустое ныне русло. Загадочная мёртвая река, река ниоткуда, выныривала из-за дальнего поворота с острым выступом мыса и плавно заворачивала в другой поворот.
Семён Ульяныч слез с лошади, вышел на край обрыва и, сверяясь с маткой, вытянул руку в сторону противоположного берега.
— Вон там тайник! — торжественно провозгласил он.
Закатное солнце било прямо в плоскость глиняного откоса.
По матке Ремезов нашёл новую примету — зелёный клок боярышника, вцепившегося в кручу; потом всадники поехали вдоль обрыва, отыскивая пологий скат. Лошади почему-то не хотели спускаться в суходол, точно боялись глубины невидимой реки. Ровное и плотное дно лощины покрывали тонкие трещины: земля полопалась от жары. Правый берег, освещённый солнцем, пылал перекалённой и болезненной краснотой, а левый берег скрывала синяя тень. На дне суходола царила тишина, даже кузнечики не стрекотали; здесь людей охватило странное ощущение ненастоящего, потустороннего бытия, словно бы все они уже утонули, и теперь — призраки. Семён Ульяныч вывел отряд к примете — кусту боярышника.
— Здесь и будем прощупывать, — сказал он. — Может, сразу повезёт, а может, неделю тыкаться придётся.
Люди спешились, размяли ноги и спины, стреножили лошадей. Четыре ружья Леонтий бережливо прислонил к обрыву стволами вверх. Ерофей отстегнул притороченную к седлу связку лопат.
Семён Ульяныч уже рассказал своим, как устроен тайник Ульяна Мосеича. Ход начинается в круче обрыва. Сначала он идёт прямо, а через десять шагов немного поворачивает. Это сделано для того, чтобы внешний свет не достигал большой внутренней каморы, где ход и заканчивается. В каморе хранится кольчуга Ермака, повешенная на крестовину из досок. В сажени от начала ход перегорожен дощатой стенкой и до неё доверху плотно забит глиной, так что снаружи тайник совершенно незаметен: обрыв как обрыв, никакого следа выработки. Семён Ульяныч осматривался, надеясь увидеть остатки земляных куч, ведь грунта было извлечено немало, но либо Ульян и Аблай разровняли эти кучи, либо землю слизали вешние ручьи.
Леонтий, Семён-младший и два джунгарина вооружились лопатами и принялись крушить откос под кустом боярышника. Все остальные расселись отдыхать. Семён Ульяныч снял заплатанный кафтан, чтобы погреться на уходящем солнышке. Онхудай тяжело опустился рядом с Ремезовы м.
— Старик, ты верно указал? — с подозрением спросил он.
— Как смог, зайсанг. Издырявим весь берег, пока не найдём.
— Если ты обманул, я убью и тебя, и его, — Онхудай кивнул на Ваню.
Семён Ульяныч лишь довольно прищурился, как сытый кот.
Ваня глядел, как работают Леонтий и Семён-млад-ший, но не порывался помочь, хотя Ремезовы откапывали его освобождение. Ваня понимал, что это дело Ремезовы должны сделать сами. А Маша глядела на Ваню. Сейчас решалась его судьба, а он просто сидел и держал в губах травинку. Как всё-таки он изменился за эти два года… Лицо у него огрубело, а в глазах — Маша сразу уловила — появилась степная отрешённость, которой прежде не было.
Семён-младший вдруг отложил лопату и что-то выколупнул из раскопа.
— Батюшка, — позвал он, — вот и знак!
В руке Семёна был осколок горшка с частью горлышка.
Семён Ульяныч проворно вскочил и подбежал к сыну.
— Считай, бог за нас! — бодро объявил он, повертев черепок. — Видно, батька и Аблай затолкали в затычку мусор со своего стана. Ройте тут!
— Дай мне! — потребовал подоспевший Онхудай, отнял обломок горшка и уставился на него, насупившись, будто пытался что-то прочитать.
Семён-младший, Леонтий и два джунгарина ударили в четыре лопаты. Раскрошенный суглинок посыпался из прорана в стене. Раскоп углублялся, будто земляной обрыв медленно разверзал запёкшиеся уста. И наконец лопата Леонтия глухо стукнула в оголившуюся доску перегородки.
— Есть! — крякнул от удовольствия Ерофей.
Семён Ульяныч был горд тем, что так точно определил место тайника, и в то же время сердце его царапнула досада. Господь, конечно, помог ему в поиске, но всё же не в Господе было дело. Не в благодати и не в милости небес. Он, архитектон Ремезов, своим умом разгадал загадку, загаданную полвека назад хитроумным казаком. Он сам истолковал чертёж на иконе, сам нашёл аран, сам сообразил, как использовать указание каменной стрелы, и своим пальцем ткнул туда, где нужно копать. Он не ясновидец, и божьи знамения не подсказывали ему путь. Он добрался до цели, потому что много знал и неустанно упражнял разум размышлениями. Но все вокруг привыкли, что у старого Ремеза всё получается, и никто не понимает, какими трудами даётся успех. Даже сыны не понимают. Даже для них батька — тот же Никола-чудо-творец: махнул шапкой с пером — и в печке грибы выросли.
Леонтий и Семён-младший разломали доски перегородки. Солнце осветило узкий проход вглубь земли. Семён Ульяныч, кряхтя, напялил кафтан и вытащил из своего мешка две свечи. Онхудай топтался у входа в подземелье, потный от волнения. Семён Ульяныч протянул ему свечу.
— Кольчуга твоя, зайсанг, — сказал он. — Иди вперёд.
Леонтий присел, выбивая кресалом искру на трут.
Онхудай с подозрением оглядел Ремезова, русских и своих воинов. Ему не хотелось лезть в тёмную и холодную дыру.
— Нет, ты иди вперёд, — велел он Ремезову. — Я за тобой. Больше никого.
Он рассуждал так: Ремезов не сможет причинить ему вред, потому что старый и безоружный, а у него — кин-жал-хутага и сабля. Если в тайнике есть какая-нибудь западня, то Ремезов угодит в неё первым. Спутникам старика под землёй делать нечего: они всё равно враги. А джунгарам лучше не видеть пещеру. Вдруг в ней нет никакой опасности? Зато, заполучив Оргилуун без свидетелей, он, зайсанг, потом сможет рассказывать, как сражался в темноте со змеями и саблей рассекал летящую в него смерть из древнего самострела.
— Как скажешь, — хмыкнул Семён Ульяныч.
Леонтий, успокаивая, положил руку на плечо Табберта, изнывающего от желания сунуться в тайник вслед за архитектоном и зайсангом.
— Так батюшка решил, — туманно сказал Леонтий. — Так надо, Филипа.
Семён Ульяныч, напоказ охая, полез в раскоп.
Ваня отвернулся. Горько, что Ремезов готов отдать за него вещь, которая была ему бесконечно дорога, а он, Ваня, ничем не заслужил этого.
Держа перед собой свечу, Семён Ульяныч, сгорбившись, пробирался по узкому и низкому проходу, спотыкался и шаркал плечами о глиняные стенки. Сзади яростно сопел Онхудай. Ему, жирному борову, было совсем тесно; своей тушей он загородил весь свет в проёме выхода. В подземелье было зябко: мертвящий холод начался уже через три шага. Семён Ульяныч представлял, как здесь, в недрах земли, орудовал лопатой его отец, а позади так же сопел Аблай. Проход повернул, и озарённые огоньком свечи стенки оборвались в темноте — лаз выводил в большую камору.
Семён Ульяныч остановился, подняв свечу. Неказистая, кривоватая, грубо сработанная камора была ничем не примечательна. Земляной пол. Вогнутый куполом потолок. На дальней стороне к неровной стенке была прислонена косая крестовина из тесин, на которой висела бурая кольчуга, похожая сейчас на грязную рогожу. Наверное, от ржавчины она спеклась, как доска. Вот он каков, Оргилуун. Волшебный доспех покорителя Сибири.
— Видишь? — через плечо спросил Семён Ульяныч у Онхудая и чуть отодвинулся, чтобы не заслонять собою кольчугу. — Принести?
— Я сам! — алчно прошептал Онхудай.
От свечи золотая тамга на его груди горела, как лампада.
— Что ж, зайсанг, хозяин возьмёт своё, — усмехнулся Семён Ульяныч.
Он шагнул в сторону, уступая дорогу. Онхудай ринулся вперёд, точно огромная крыса к хлебной корке. И тотчас земляной пол посреди каморы под ним с хрустом проломился. Онхудай мгновенно исчез — он без крика рухнул в колодец-ловушку, выкопанный Ульяном Реме-зовым посреди каморы. Всей своей грузной тушей степняк хлопнулся на дно колодца, как мешок с овсом, и выбил вверх облако пыли. Семён Ульяныч перекрестился, чуть-чуть ступил вперёд от стены и заглянул в яму. Онхудай валялся внизу, похожий на чудовищную курицу. Он медленно, вяло зашевелился и застонал по-бабьи.
До тех, кто ждал снаружи, из зева пещеры не донеслось ни звука. Над степью горел закат. Небо чертили вечерние птицы, что гонялись за ожившей под вечер мошкарой. Прохладная тень обрыва переползла через суходол. Уходящее солнце золотило спины стреноженных лошадей, что паслись среди низеньких кустиков, окунув опущенные головы в сумрак. Джунгары устали от неизвестности; они нетерпеливо переминались возле входа в тайник, и один из них что-то спросил у Леонтия по-монгольски. Ваня перевёл:
— Беспокоятся о зайсанге.
Леонтий не ответил. В полумраке глубокой норы мелькнуло какое-то движение — там кто-то заворочался, зашевелился, и наконец наружу без сил вывалился Семён Ульяныч. Он с головы до ног был покрыт земляной пылью, борода засорилась, как метла, а кафтан был перепачкан глиной.
— Зайсанга засыпало! — выдохнул он, едва не падая на четвереньки.
Леонтий и Семён поддержали отца под руки. Маша вскрикнула от ужаса. Ваня обомлел. Джунгары всполошились, вытаскивая сабли.
— Переведи им! — оглядываясь, приказал Ване Леонтий.
Джунгары завертелись, не зная, что делать, потом
двое схватили лопаты и друг за другом нырнули в пещеру. Оставшиеся четверо тревожно глядели им вслед, готовые по первому же зову кинуться на подмогу.
— Эй! — окликнул степняков Леонтий.
Леонтий, Семён Ульяныч, Семён-младший и Ерофей стояли в ряд с ружьями в руках, и ружья были недвусмысленно нацелены на джунгар. Ваня даже не заметил, когда Ремезовы и дядя Ерофей успели так преобразиться. Ошарашенный, Ваня посмотрел на Машу. Она побледнела, не понимая, что происходит. Ерофей ухмыльнулся — злорадно и торжествующе. И тут Ваня догадался, что Семён Ульяныч с сыновьями, и дядя Ерофей вместе с ними, отлично знают, что делают: они с самого начала были в сговоре и давно подводили к нападению на джунгар! Ремезов-старший всё рассчитал так же ловко, как отыскал в степи тайник! В подземелье он устроил глупому зайсангу какой-то подвох, а сыновья и Ерофей разыграли степняков, чтобы разделить их на две части, отвлечь и предотвратить их сопротивление!
— Что есть сие? — со вспыхнувшим любопытством вскинулся Табберт.
Степной тайник с кольчугой сибирского конквистадора — это крайне интересно, но засада — ауфрегендес абентейер! — вдвое интереснее!
— Не лезь, Филипа, не мешай, — через плечо ответил Леонтий. — Ванька, переведи степнякам, чтобы сбросили сабли и ножи.
Ваня, запинаясь в словах, перевёл.
Он ещё не сообразил, как ему относиться ко всему этому. Вроде бы всё складывалось хорошо: тайник нашли, надобно завершить обмен… Или не всё хорошо? Почему Ремезовы напали на джунгар? Может, в тайнике нет и не было кольчуги? Или Онхудай снова переменил цену, как в прошлом году у ханаки? Или Ремезовы почуяли обман, который замыслили степняки?..
Сабли и кинжалы джунгар полетели к ногам Ремезо-вых, звякая друг о друга. Обезоруженные, джунгары сверлили Ремезовых яростными взглядами. Суходол уже полностью погрузился в тень, будто затонул.
Семён Ульяныч обернулся к растерянной Маше.
— Я же говорил тебе, Марея, что не буду Ваньку на кольчугу менять, — я и не меняю! — сказал он с каким-то мальчишеским задором, в упоении от своего лукавства. — Моё слово — кремень! Исполняю, что обещано!
Ваню словно ударило в лоб, даже в глазах блеснуло. Так вот в чём тут загвоздка: Семён Ульяныч просто не хотел отдавать степнякам кольчугу!
Семён Ульяныч качнул стволом, приказывая джунгарам отойти от входа в тайник. Джунгары нехотя отошли, а Семён Ульяныч и Семён-младший, не опуская ружей, отошли вместе с ними, держа степняков под прицелом.
Леонтий и Ерофей направили ружья на дыру в обрыве.
Табберт быстро заряжал свой пистолет. Он не хотел быть в стороне.
Маша зажала рот ладонью и таращила глаза.
А Ваню сначала ошпарило оскорбление. Он понял, что для Семёна Ульяныча он — никто, и кольчуга старику важнее. Но потом жар гордыни уступил какому-то другому чувству — странному и небывалому. Ведь старик Ремезов жил как-то иначе, нежели обычные люди. Для него все эти Ермаки и Ульяны были такими же товарищами, как сыновья: им и ныне требовалась помощь! Для Ремезова былое не умерло, не отошло в прошлое безвозвратно, а продолжалось и сегодня, и укатывалось в грядущее. Это было протянутое через столетия общее дело, единое и нерасторжимое; его делали и Ермак, и Ульян, и он сам, старый тобольский архитектон, и ещё будет делать кто-то другой, кто обязательно объявится позже. И это громадное дело, конечно, было важнее Вани Дема-рина. Ваней Демариным можно было и пренебречь. Но Семён Ульяныч не пренебрёг. Он исхитрился провернуть свою затею так, чтобы Ванька, негодный и бесполезный Ванька, всё-таки получил свободу. Пусть дальше живёт как хочет. Бог ему судья.
— А где кольчуга, дядя Левонтий? — хрипло спросил Ваня.
— На бате под кафтаном.
Коварный Семён Ульяныч в тайнике напялил кольчугу на себя, чтобы на выходе джунгары ничего не заподозрили. Увидев Ремезова с кольчугой, они могли бы решить, что старик убил зайсанга, и тогда двое не улезли бы за Онхудаем, а оставшихся четверых не получилось бы взять врасплох.
Леонтий и Ерофей не сводили глаз с жерла подземного хода.
Сумрак в дыре опять задёргался, послышались голоса и стоны, и наружу полезли два джунгарина, которые волокли помятого Онхудая.
— Стойте! — властно крикнул им Ваня по-монгольски.
Джунгары остановились и остолбенели от изумления.
На них смотрели ружья Леонтия и Ерофея и пистолет Табберта. Злополучный Онхудай всей тяжестью висел на руках у своих воинов, как зарезанный бык на двух столбах у мясников-яргачинов в юрге; халат тэрлэг у зайсанга раскрылся, и беззащитно вывалилось огромное, грязное и волосатое брюхо.
— Вы меня обманули!.. — жалобно просипел Онхудай.
Ваня подошёл к нему, наклонился и с силой сорвал с его шеи золотую пайцзу, которую когда-то так жаждал заполучить Ходжа Касым.
Глава 5 Семеро в тайге
Старый кедр сопротивлялся времени. Искривлённый, изломанный, он словно бы запутался в каких-то невидимых тенётах, по-разному вывихнув в борьбе свои многосуставные лапы.
Тайга, ропоча, обступила его, как люди, изумлённые и устрашённые, обступают изловленного и связанного зверя. Хвоя у кедра поредела, коренастый ствол был уродливо раздут, на ветвях чернели наросты. Кедр был окутан странным угрюмым сумраком.
— Ульпа не дерево, — сказал Пантила. — Это кладбище семи шаманов.
Пантила уже не разыскивал следов Нахрача. Он вёл отряд Филофея сам, потому что понимал, как через это лихолесье добраться до селения Балчары, где Нахрач надеялся обрести защиту у тамошнего князьца Сатыги.
— Мы такое уже на Оби видали, помнишь, Лексей? Лет пять назад, — Митька Ерастов посмотрел на Лёшку Пятипалова. — По реке лесина плыла. К ней ещё лодки с покойниками были привязаны.
— Здесь не было лодок, — сказал Пантила. — Шаманов в дерево хоронили.
— Как это? — не поверил Емельян.
Пантила объяснил. Шаманов после смерти сжигали. Кости собирали и толкли, потом муку и пепел ссыпали в кожаный мешочек. На стволе кедра надрезали кору в виде дверки и «открывали» её. В оголённой древесине долбили углубление. Туда помещали мешочек, «закрывали» дверку из коры и обматывали ствол верёвками. Кора потихоньку прирастала обратно. Так мёртвый шаман поселялся в кедре и жил в нём, кипел в волокнах.
— А ты говорил, Панфилка, что у вогулов не бывает кудесников, — дьяк Герасим держался от могильного кедра подальше.
— Шаманов почти нет. У них князья шаманят, как Нахрач. Жертвы приносят, идолов ставят. Но шаман — не колдун. Он сам ничего не может.
Шаман и вправду ничего не мог сотворить сам — ни зверя подогнать, ни будущее угадать. Зато шаман умел камлать — посылать свою душу к богам и просить их о чём-либо. Или подчинять их своей воле. Без богов шаман был никем. Но и боги без шамана не знали, что им сделать для людей.
— А Нахрач — сильный шаман? — спросил владыка.
— Самый сильный от Тавды до Сосьвы.
Нахрач, по слухам, был куда могущественнее, чем тот же Хемьюга из родного Пантиле Певлора. По умениям шаманы стояли на трёх ступенях: чирта-ку, маньте-ку и арэхта-ку, а Нахрач шагнул ещё выше. Чего только о нём не рассказывали. Он не носил красного и плясал на перевёрнутом котле, вымазав лицо сажей. Он дерзал шаманить подпоясанным. Души у него были дикие, хвостатые. На небесах среди богов он превращал свою палку в коня, верёвку — в волосяной мост, а трёхцветную нитку — в радугу. Он умел проникать сквозь стены жилищ и ходил по воздуху, наступая на верхушки чумов. Шаманским ударом — болезнями или несчастьями — он поражал тех, кто не приносил подарков для идолов, которых он воздвиг. Правда ли это, Пантила не знал. Однако Нахрач, без сомнения, умел выйти за предел — за красный круг, очерченный Торумом для каждой сущности в мире.
— Откуда он такой взялся? — с неприязнью спросил Емельян.
Никто не хотел быть шаманом. Шаманство — это беда, нищета, вечные страдания тела, из которого вылетает душа. Но от шаманства не откажешься. Бывает, что некий род судьба отмечает чем-то необычным. Айвасе-ды на Тромъёгане нашли серебряные блюда. Квастанки на Демьян-реке выжили в мор одни из всего своего селения. Пыески видели смерч, который унёс семь оленей. Старый-престарый Артанзей на Пелыме умел падать в корчах, исторгая пену. Необычное явление пускает шаманский корень в роду. И кто-нибудь в роду потом непременно слышит шаманский зов — указание стать шаманом. Если ослушаться шаманского зова, то зачахнешь и сгинешь.
У Евплоев с Конды одного предка убило молнией — это был шаманский корень. Сам Нахрач Евплоев вырос горбатым, и горб служил верным знаком на участь шамана. Молодой Нахрач ждал шаманский зов с радостью, а не скорбью, и принял судьбу с охотой. Он учился у шаманов на горах Нум-То. Он сразу решил стать чёрным шаманом, чтобы его уважали и боялись.
— Белая вера — когда шаман ходит только к добрым богам, а чёрная вера — когда ходит ко всем, — пояснил Пантила.
— По своей воле даже в своём нечестии грешат? — спросил отец Варнава.
— Греха нет, — ответил Пантила. — В любой вере нельзя просить о злом. Но ведь язык слабый, неумелый. С богами говорить трудно. Скажешь плохо, неправильно, и будет плохо, неправильно. В белой вере бог шамана укорит и ничего не сделает, а в чёрной вере — исполнит, чтобы радоваться злу.
— Потому язычникам по крещению всё былое и прощается, — усмехнулся владыка. — За косноязычие не карают.
Они пробирались дальше, оставив могильный кедр позади. Тайга не менялась: непролазные ельники, сосновые боры с орляком, листвени, пихты, бурелом, мох, олешники, берёзы — чужие здесь, как случайная крашеная нитка в рядне, бочаги с тёмной водой и гнус, от которого укутывали головы рубахами, но это мало помогало. Изредка в чаще мелькала белка. Где-то стучал дятел. Бесконечно приходилось карабкаться через завалы валежника или подныривать под упавшие стволы, обдирая одежду и руки на мёртвых острых сучьях. За шиворот валилась хвоя и разный древесный мусор, липла паутина. Пот разъедал глаза. Ноги проваливались в какие-то мшистые ямы и расселины. Иной раз под сапогом схло-пывалось на вид крепкое, но внутри совсем трухлявое бревно. Звериные тропы выручали редко — свои пути звери прокладывали там, где человек не мог протиснуться. Невозможно было обрести размеренность хода: тайга требовала поворачиваться, сгибаться почти пополам, уклоняться, то заползать вверх, то спрыгивать, надламывать ветки, раздвигать хвойные лапы, прикрываться руками. Чтобы перемещаться по тайге, надо было из человека превратиться в восьминогого паука.
— По реке куда веселее плыть, — тяжело дыша, признался владыка. — Недобрые тут дебри.
Конечно, он был прав: тайга не создана для человека, а человек не создан для тайги. Вроде переполненная жизнью, на самом деле тайга тощая, голодная, неплодородная. Тут мало пищи. Тут не протянешь руку и не сорвешь плод; за всякой добычей надо охотиться, изощряя тело и разум, а то и вступать в бой с хищником, и неизвестно, в чью пользу получится исход. Пантила понимал, что ужиться с тайгой можно только так, как делали люди тайги. Здесь не построить городов с храмами, как у русских. Для этого надо уничтожить тайгу. Тайга — не для огромных народов, а для крошечных семей, разрозненно рассыпанных по непреодолимому и враждебному пространству. Может, русский лес и добрый, как верная собака, прирученный, покорный, но тайга инородцев — это дикий зверь, отвечающий человеку страхом и бегством или злобой и нападением. Тайга — не друг и не помощник. И мир с ней возможен лишь тогда, когда она тебя боится и уважает.
— А ты не заплутал, остяк? — с трудом переводя дух, спросил Емельян.
— Мог, — честно ответил Пантила. — Лес плохо смотрит, путает.
Владыка вспоминал родные места: соловьиные сады Подола, вишенники Оболони, тёплые озёра Дарницы… Разве щедрое и любовное Поднепровье сравнится с этим адом? Но ему, человеку благодатной земли, книжнику, а не воину, старику, а не мужу в расцвете лет, надо преодолеть все непосильные тяготы. Не по вогулам и остякам, а по нему, по владыке Филофею, Господь поверяет: прийти ли сюда, или пока здесь нет места для истинного бога.
— Дерево пай, — вдруг пояснил Пантила, указывая на невысокую пихту. — Не надо стоять к нему близко.
— С чего ты взял? — удивился Емельян. — Пихта как пихта.
— Разве не видишь? Она синяя.
Пихта и вправду была синяя, но никто почему-то не замечал этого, пока Пантила не произнёс вслух. В синей пихте прятался огонь Нуми-Торума.
Есть человеческий огонь, красный, как кровь, — огонь най. Он горит в домашних очагах, он спрыгивает с кремня на растопку, он составляет солнце. Этот огонь дарит жизнь и согревает. А есть огонь мертвецов — синий огонь пай. Пай — это холодная луна, это небесные костры предков, которые светят, но не греют, это блеск снегов и сияние льда. Иногда пай попадает на землю и забирается в какое-нибудь дерево. Такое дерево нельзя использовать ни для чего. В доме из пай-дерева люди уснут и не проснутся, лодка из пай-дерева утопит рыбака, идол из пай-дерева потребует таких приношений, что человек обеднеет и будет голодать. Если сучья пай-дере — ва бросить в костёр, они выползут и подожгут лес. Пай-дерево любят змеи — длинные медведи. Пай-дерево мстит, если его потревожат.
— Чего вашим богам на небе не сидится? — проворчал Емельян.
— Вогулы говорят, что весь мир с семью небесами высотой в собачий хвост. Боги близко, руками до земли достают.
— Обогнём дерево, — сказал Филофей. — Оставим бесово бесам.
Пока они стояли, разглядывая пихту пай, на плечо Митьки Ерастова тихо легла тоненькая сухая веточка от соседней ёлки. Веточка медленно поползла по плечу Митьки, точно комар-карамора — долгоножка, и принялась невесомо ощупывать рубаху, которой Митька обмотал голову. Митька наконец почуял это движение, оглянулся и едва не подпрыгнул от ужаса и омерзения. Подавшись в сторону, он яростно обломил веточку.
— Не надо! — предостерёг Пантила, но было уже поздно.
— Не найдём дороги — я тебя зарублю, Панфилка! — в бессильном ожесточении крикнул Митька.
Пантила двумя пальцами поднял веточку. Она ещё подрагивала.
— У вогулов всё начинается с древесной развилки, — сказал он. — Сломишь сучок — и выхода не будет. А ты сломал.
— Пойдёмте, — прекратил ссору Филофей.
Он видел, что тайга угнетает дух его людей. Они все словно бы забрели в дурной и тягостный сон какого-то чудовища. Давно уже их не оставляло ощущение, что за ними наблюдают, их преследуют. Взгляд ненароком ловил какое-то перемещение, быстрое шевеление: то ли порыв ветра качнул ветку, то ли проскользнул лёгкий зверь, то ли облако нашло на солнце, и в чаще поменялись тени. Кто там крадётся, таясь в зарослях? Зачем?
— Вон они, отче! — едва слышно прошептал дьяк Герасим.
— Кто?
— Не знаю кто, прости господи… Я уж третий раз его узрел!
Владыка и служилые посмотрели туда, куда уставился дьяк. Там всё смешивалось: мягкие ворохи хвои, высвеченные все по-разному, мелкий и рассыпчатый трепет листвы, тёмные прочерки стволов, изломы валежника, наплывы мха… И тут владыка сам различил какую-то полупрозрачную тварь, словно сплетённую из хвороста. Она перетекла от дерева к дереву и застыла, будто тоже разглядывала людей. У неё не было ни головы, ни лап, ни тулова с хвостом, но от неё повеяло смертной тоской. Неподвижная, она была просто голым и сухим кустом рябины или можжевельника.
— С молитвой идём, — негромко приказал владыка.
Тварь отстала. Может, её испугала молитва, а может, ей понравилось там, где её остановили, и она запустила в землю свои корни.
После плотного краснопёрого сосняка тайга поредела. Пантила вёл через какую-то кривую лощину, и даже не лощину, а непонятно что: то ли опалиха — полоса леса, погубленного верховым пожаром, то ли выскирь — след от вихря-ветровала, заросший беспорядочной смешанной смурыгой, то ли выморина — вечно сырое место, на котором ничто прочное не укрепляется. Остро пахло гнилью. Сплошные моховые бугры лепились друг на друга, изогнутые деревья торчали в разные стороны. Что-то здесь тревожило душу — какой-то едва слышный неумолчный звук: то ли шёпот, то ли шорох.
— Ступайте в мои следы, — предупредил Пантила.
Он выломал себе палку и пошёл первым, прощупывая
путь. Мох рвался и расползался под ногами, и под ним оголялись склизкие древесные стволы, а не рыхлая почва и не суглинок. Палка порой проваливалась в чёрные дыры, прежде затянутые мхом; из дыр подымалось зловоние, и странное тихое бормотанье становилось словно бы громче.
— Я понял! — оборачиваясь на своих, воскликнул Пантила. — Это буря завалила ручей! Мы по деревьям идём!
Такое бывало: ураган обрушивался на тайгу и стелил деревья поверх ручья, как бревенчатую мостовую. Потом сверху наносило земли, и на ней вырастал новый лес-хламник, под которым продолжал бежать погребённый поток. Мох предательски заглаживал местность и затягивал провалы, как трясину на болоте. Это была ловушка для больших зверей — медведей, лосей и оленей. А звук, который раздавался ниоткуда, был журчанием воды.
— Вот западня! — обозлённо изумился Емельян.
А Митька Ерастов опасливо переступил и, охнув, вдруг рухнул куда-то вниз. Широкий пласт с шумом провалился, и разверзлась ямина, в которой торчали то ли корневища, то ли прелые сучья. Оттуда пахнуло смрадом, а из глубины явственно донёсся плеск воды, пробивающейся через завалы.
Под ногами всё зыбко содрогнулось.
— Ложитесь! — крикнул Пантила.
Емельян и Лёшка Пятипалов на брюхах подъехали к пропасти.
— Митька! — заорал Емельян.
Свет едва проникал внутрь, в какую-то косую теснину среди бурых брёвен, обломанных сучьев и комьев земли, прошитых мертвенно-бледными верёвками. В теснине что-то сыпалось, оползало и жидко поблёскивало. Митька распластался на каких-то ненадёжных опорах, цеплялся за что-то и дёргался, лицо его от ужаса стало берестяным.
— Братцы! — в ужасе плаксиво позвал он. — Братцы!
— Держись, палку спустим! Кушак!.. Держись!..
— Братцы!..
Емельян и Лёшка ничего не успели спустить в яму. Митька провалился ещё глубже, переворачиваясь вверх ногами, и его утягивало куда-то в недра, под завал. Он колотился, с треском что-то ломал и глухо вопил. Служилые, свисавшие над ямой, в последний миг увидели, как в темноте что-то ползёт, обвивает Митьку, тащит его — и Митька скрылся неведомо где. Какая-то сила уволокла его, как хорь уволакивает в свой лаз ещё живую курицу.
Отец Варнава, который тоже видел всё это, истово крестился.
Пантила молча подхватил владыку под руку и повёл прочь.
На твёрдой земле они все отдышались и стёрли с рук гнилую слизь. За ёлками на солнце всё так же светлела лощина смертоносного ручья — то ли опалиха, то ли выскирь, то ли выморина. Ловчая яма нечисти. Над лощиной, хлопая крыльями, пролетела неясыть, будто уносила какую-то весть. «У! У! У!» — ухала она, и казалось, что она смеётся над людьми.
— Это как же, остяк? — ошеломлённо спросил Емельян у Пантилы.
Его ошеломление грозило перейти в бешенство.
— Остынь! — резко осадил его владыка. — Панфил тут при чём?
— Он нас сюда привёл!
— Не ищи виноватого! Сатана виноват!
— Упокой господи душу Митеньки… — бормотал потрясённый Герасим.
И ничего тут нельзя было изменить: Митька пропал, сгинул, его забрали демоны — ни отмолить его, ни отнять. И отряд Филофея пошёл дальше.
Солнце склонялось, и вокруг всё меркло; тайга погружалась в сумерки, словно в ересь. Деревья сливались в общую косматую толщу, пропитанную серым туманом. Освобождённые от света, языческие мороки выплывали из своих логовищ. Люди слышали просторный торопливый шёпот, протяжные вздохи, дальние отголоски беззвучного смеха — невинного, как у младенца. Пантила знал, что сейчас мир забывает о разнице между добром и злом, исчезают запреты, возможно всё, и нечисть, восставая, обретает силу. Надо искать убежище, укрытие. Человек только мнит себя хищником, равным волку, рыси или медведю, однако ночью он слаб и беззащитен: он должен спрятаться и сидеть совсем незаметно, подобно зайцу или бурундуку.
— Пора стан разбивать, — сказал Филофей. — Ночлег нужен.
— Ещё немного, — попросил Пантила. — На дорогу выйдем.
— На дорогу?
Пантила заметил, как рядом с владыкой шевелится маленькая ёлочка. Она точно встряхивалась, пробуждаясь. Емельян тоже заметил её. Пантила не успел возразить, как Емельян махнул саблей и снёс ёлочку.
— Не делай так! — гневно сказал ему Пантила.
— Отчего же? — ухмыльнулся Емельян. — Чертенят своих бережёшь?
— Лес и без того давно сердит! Зачем ещё злишь?
— На что он сердит? — робко спросил отец Варнава.
— На русскую дорогу и сердит!
Эту дорогу проложили вскоре после похода Ермака. Тогда главными соперниками русских в Сибири были вовсе не татары. Татары-то радовались изгнанию чужака Кучума, а немногие недовольные бежали за Кучу-мом в степь. Но с русскими храбро воевали вогулы, в те времена ещё могучие и непокорные. У них были крепкие княжества на Пелыме и на Конде — такие же дерзкие, как на Оби остяцкая Кода или селькупская Пегая Орда. Русские разгромили селькупов, и Кода решила пойти на службу к победителям; вместе с казаками ко-дичи сражались против вогулов. Главной русской крепостью стал Пелымский острог, и главная русская дорога протянулась по лесам от Верхотурья до Пелыма, а потом до Тюмени. Казаки и кодичи истребили вогульских князей, умыли кровью боры-верещатники. Ортюгана, последнего князя Конды, тоже извели. Князем стал Евплой, прадед Нахрача. Держать войско в усмирённой рамени больше не имело смысла, и почти всех казаков перевели из Пелыма в Берёзов, Сургут, Обдорск и Нарым. Городок Пелым превратился в деревню с несоразмерно большой крепостью. А дорогу в тайге забросили. Новый сибирский тракт пролёг от Верхотурья до Тюмени по реке Туре через Туринский острог и Туринскую слободу. Целое столетие тайга зализывала проран от первой русской дороги: речки подмывали устои мостов, болота поглощали брёвна гатей, леторосль упорно взламывала колеи, застеленные кедровыми плахами. Но рубец от тракта был виден и ныне. И таёжные демоны, растревоженные вторжением, до сих пор не успокоились.
Пантила продирался в полутьме через тайгу и думал о своих предках-кодичах, которые век назад сражались в этих дебрях с вогуличами, предками Нахрача. Виной тому были русские. Чем они отличались от жителей леса? Умом? Нет. Отвагой? Нет. Жестокостью? Тоже нет. Они отличались тем, что ели хлеб, который сами и выращивали. А люди леса ели то, что давал лес. Растить хлеб русским помогал Христос, а добывать зверя в тайге остякам и вогулам помогали демоны. Хлеб — вот основа русской веры. Он, Пантила, когда крестился, ел хлеб — тело Христа. Пока жители тайги не начнут есть свой хлеб, они не откажутся от богов, демонов и капищ. А Нахрач не позволяет своим людям подумать о хлебе, потому что укрощённые им демоны подгоняют вогулам добычу. Нахрача тешит власть, ему нет дела до богов. И потому не надо убивать богов, которые живут так, как должны, и не умеют иначе. Надо порвать связь людей с богами тайги.
Нахрач — тот кол, которым его народ прибит к своему злосчастию. Надо выкорчевать кол. Люди тайги и боги тайги разойдутся по разным путям, и все останутся живы. А для чего ещё всемогущий и добрый Христос призвал его, кодского князя Пантилу? Чтобы спасти не только людей леса, но и богов леса, которые не понимают, кому служат, и не ведают, что творят! Только так он, Пантила, сможет примирить зов крови и зов правды.
…Последние телеги прокатились по старому тракту лет тридцать назад. Заброшенная дорога заросла берёзами, осинами и рябиной — беспородный мусорный лес всегда первым занимал все вырубки и гари. В обесцвеченной ночной мгле деревья стояли как призраки. На обочине высился ветхий и покосившийся голбец — крест с кровлей. Может, когда-то здесь похоронили умершего купца, а может, крест поставили в благодарность за избавление от разных напастей на трудном пути. На кровле креста чернел мох.
— Сроду так могиле не радовался, — усмехнулся Емельян, сбрасывая с плеча мешок с поклажей.
И тотчас голбец с тихим скрипучим стоном повалился набок, словно исполнил своё дело до конца и испустил дух.
Вытоптав полянку, Лёшка и Емельян развели костёр, Пантила принёс в котелке воды из лужи, отец Варнава и дьяк Герасим насобирали валежника. Огонь приободрил. Владыка сидел на коряге и молча глядел на угли.
Он так устал, что ни о чём не думал. Он растерял желание жечь идолов и больше не хотел ни с кем спорить об истинности веры. На это не хватало сил. Свирепые языческие дебри, угрожающие смертью на каждом шагу, пожрали в нём жажду благих поучений. Филофей просто пробирался вперёд, надеясь не быть своим товарищам обузой. И это было очень правильно. С тех пор как над его кельей в Тюмени вдруг захлопали крыла Гавриила, он стремился к ясности слова и дела. И здесь, среди демонов, эта божественная ясность наконец осияла его. Он достиг чертога. Он догадался: в том, что он, старик, просто идёт через погибель по тайге вперёд, и заключается его проповедь.
— Надо дымокур сварганить, — сказал Лексей Пяти-палов. — Хоть немного вздремнём без гнуса. Я там недалече видел трухлявину — как раз сгодится.
— Да, дело, — кивнул владыка.
— Герасим, дьяче, пойдём со мной, одному не унести.
Лексей и Герасим направились куда-то к матёрому лесу.
— Далеко ещё до Сатыги? — спросил Емельян у Пан-тилы.
— Вёрст тридцать, но уже по старой дороге.
— День ещё топать, — прикинул Емельян.
Котелок забурлил. Пантила развязал заплечный мешок и достал из него мешочек поменьше — с крупой.
— Был бы лук — я бы зайца подбил, — сказал Емельян. — Зайцев тьма.
Отец Варнава шлёпнул комара на шее.
— Скорей бы в дым, — пробормотал он.
— Так не сиди колодой, а поди да помоги, — посоветовал Емельян.
Варнава со вздохом побрёл вслед за Лексеем и Герасимом.
— Как там Гриша? — задумчиво спросил Пантила.
— За Григорием Ильичом из Сатыгиной деревни сразу лодку вышлем, — сказал владыка. — Негоже ему нас ждать. Ему отвары нужны и припарки.
Но внезапно из сумрака донёсся полный ужаса вопль отца Варнавы:
— Святы боже! Спаси меня, господи!
Емельян вскочил. В руке у него блеснула сабля. Пантила тоже вскочил.
— Бегите к нему! — с трудом поднимаясь, приказал владыка. — Живее!
Емельян и Пантила ринулись в сумрак на крик.
Отец Варнава стоял в траве на коленях и крестился. А перед ним вздымались две сосенки с ещё свежей пушистой хвоей. Они были прямые и тонкие — толщиной меньше пяди. И на них на высоте человеческого роста были нанизаны казак Лексей и дьяк Герасим. Стволы сосенок проткнули людей насквозь. Лексей и Герасим безвольно свесили руки и ноги, будто казнённые. Стволы под ними блестели потёками чёрной крови. Казалось, что сосны выросли мгновенно — выметнулись, точно выстрелили собой из-под земли, и пронзили людей навылет, словно копья, а потом вознесли мёртвых над травой и безмятежно зазеленели поверху.
— Избави нас от лукавого!.. — положив крест на лоб и на грудь, пробормотал владыка.
А Пантила увидел бубен, что валялся в траве. Это был бубен Нахрача.
Глава 6 Солонго
Вокруг мягко простиралась туманная тишина.
— А ты изменился, Ваня.
— И ты, Маша. Такая взрослая стала… Чужая… Маша помедлила.
— Ты вспоминал обо мне — там, в плену?
— Каждый божий день. Иначе и не выжил бы.
— А я ждала тебя. Может, и правильно, что нас на два года разлучило. Два года назад нам обоим ещё рано было.
— Да я и теперь не знаю, с какого бока к тебе подойти.
— С любого, Ванька.
Наверное, ему стоило сейчас обнять её, поцеловать, но он ничего не сделал и даже ничего не сказал.
— Что затих?
— Знаешь, Маша, — невесело усмехнулся он, — в степи мне и словом-то перемолвиться не с кем было. Я мечтал русскую речь услышать, по-русски ответить. А вот сейчас, с тобой рядом, только молчать хочется.
Что делает человек, который вернулся домой, хотя в долгих странствиях уже и не чаял вернуться? Разве этот человек будет брагу пить? Разве он позовёт друзей-прия-телей и примется плясать посреди горницы? Нет. Он просто сядет под образами и будет вспоминать, сколько дорог прошёл.
Они брели по высокой траве, мокрой от росы, а всю степь заволокло густым предрассветным туманом. С одной стороны где-то в глубине своих толщ туман лазурно и нежно лучился — там скоро должно было подняться солнце, а со всех других сторон мгла была напитана сырой синевой. Тёмные и мохнатые ковыли призрачно истаивали, словно превращались в дым.
Ваня взял Машу за руку и шагнул ближе. Маша запрокинула лицо. Глаза её блестели, а мягкие губы оказались влажными и холодными. Ваня сдвинул платок у Маши с головы, чтобы ощутить ладонью её волосы, и прижал Машу к себе, но она вдруг упёрлась ладонями ему в грудь, отвернулась, к чему-то тревожно прислушиваясь, и прошептала:
— Там кто-то есть, Ванька… Люди едут.
— Не бойся, — попросил Ваня.
— Я правду говорю! Тихо!
Маша с неожиданной силой потянула Ваню вниз, и они опустились в траву. Маша рукой закрыла Ване рот, и тогда он тоже различил в живой тишине степи глухие звуки неторопливого и уверенного движения.
В тумане качнулись смутные бесплотные тени, но не растворились, а слились друг с другом, и наконец над ко-вылями тихо вылепился высокий двугорбый верблюд-бактриан. Белый верблюд. Он плыл, чуть покачивая горделиво поднятой головой на изогнутой шее, и смотрел поверх трав и поверх Маши с Ваней. У него была цель. Намётанный взгляд Вани сразу определил: это не дикое животное, не пугливый поджарый хаптагай. Дикие верблюды всегда бурые и всегда настороженные, они меньше по размеру, у них нет мозолей на коленях, и они держатся косяками. А этот ступает как хан. Он хорошо откормлен — горбы торчат плотно и упруго. И вообще это вовсе не верблюд, а могучая и холёная верблюдица. Она величественно проскользила мимо в тумане, словно корабль.
— Маша, это всё неспроста, — обеспокоился Ваня. — Бежим на стан.
Отряд Ремезова шёл к Тоболу всю ночь, лишь под утро Семён Ульяныч смилостивился и дозволил передохнуть. Однако лошадей не рассёдлывали. Семён Ульяныч не боялся погони, но тянуть в пути не стоило.
Ещё на суходоле у тайника Ерофей предложил добираться до русских слобод верхами, тем более что у каждого теперь имелась сменная лошадь. Семён Ульяныч согласился с Ерофеем, но Леонтий рьяно воспротивился.
— Ты, батя, не казак уже! — отрезал он. — Ты в стремени только одной ногой! Тебя за два дня совсем растрясёт — начнёшь из седла падать!
— Я кушаком привяжусь! — гневно закричал Семён Ульяныч.
— Не дело, — возразил и Семён-младший.
— Дожили до праздника, батьке зубы пересчитывают! — орал Семён Ульяныч. — Много чести вам — от-цом-то командовать! Живьём хороните!
И всё же конными решили ехать только до Тобола, а там сесть в лодку.
Онхудая и джунгар оставили возле опустошённого тайника. Забрали у них лошадей, сабли и ножи; Леонтий перерезал тетивы на луках, а Ерофей с треском переломал об колено все стрелы. Но ничего смертельного в этом не было. Джунгары дотащатся до своей юрги и пешком, и безоружные.
— Отомстят они нам, — убеждённо сказал Семёну Ульянычу Ерофей.
— Здесь я мщу, — ответил Ремезов. — А они воруют.
В предрассветном тумане Ваня и Маша еле отыскали свой стан. Ваня потряс за плечо спящего Леонтия и толкнул Семёна Ульяныча.
— Ты чего? — недовольно спросил Леонтий. — Только глаза сомкнули…
Семён Ульяныч зевнул и перекрестил рот.
— Я в степи видел белую верблюдицу, — негромко сообщил Ваня.
— Ну и что?
— Откуда она? Где-то рядом хозяин должен быть. А верблюдица добрая, дорогая. На такой нойон Цэрэн Дондоб ездит.
Семён Ульяныч вцепился Ване в рукав.
— Дондоб?! — возбуждённо переспросил он.
— Дондоб. Его верблюдицу Солонго зовуг.
— А та, которая в степи, что делала? Паслась?
— Нет, просто прошла куда-то, — растерялся Ваня. — Одна и без сбруи. Ни ездока, ни погонщика, ни стада… Может, потерялась?..
— Уходим! — засуетился Ремезов. — Во все пятки дерём!
— А что стряслось? — удивился Леонтий. — Чай, не съест нас верблюдица.
— Нойон Цэрэн Дондоб идёт за кольчугой Ермака! Леонтий негромко присвистнул.
И вскоре отряд Семёна Ульяныча уже скакал на запад. Туман клубился вокруг всадников, потихоньку насыщаясь пунцовым свечением рассвета.
Ваня подогнал свою лошадь к лошади Ремезова.
— Семён Ульяныч, — окликнул он. — С чего ты испугался, что это нойон? Не у него одного белая верблюдица.
— Ты, Ванька, дурень! — ответил Семён Ульяныч. — Цельный год на кочевьях прокукарекал, а таких вещей не знаешь!
— Каких? — спросил Ваня.
У степняков был свой жестокий способ отметить в степи какое-нибудь место, ничем для взора человека не примечательное. Сначала на это место приводили молодую верблюдицу с первым верблюжонком и там убивали дитятю на глазах у матки. Верблюдице позволяли полизать тельце — так же, как она лизала новорождённого верблюжонка, чтобы тот поднялся на ножки; но материнская ласка, конечно, не воскрешала убитого. И потом кричащую от горя матку угоняли прочь. И верблюдица на всю жизнь запоминала место, где её первенец остался лежать без помощи. Если эту верблюдицу отпускали на волю, то она всегда отправлялась к своему брошенному верблюжонку — шагала как заколдованная через сотни вёрст к одному-единственному месту на земле. Так степняки и сохраняли знания о тайных кладах или могилах.
Чтобы найти тайник с кольчугой Ермака, Ульян Ремезов сделал чертёж. А тайша Аблай, видать, зарезал в суходоле верблюжонка. Верблюдица-матка и была его провожатым к тайнику. Орду Аблая разгромила орда Очирту, и верблюдица попала к Очирту. Очирту-Цэцэн-хан потерпел поражение от Галдан-хана, обоз Очирту достался победителю. Галдан в битве у Дзун-Мод был разгромлен китайцами, а его имущество в Джунгарии присвоил Цэван-Рабдан. Так ниточка протянулась от Аблая к Цэрэн Дондобу — от Чороса к Чоросу. Конечно, не Солонго была той маткой, которую обездолил Аблай. Но ханские хончины, погонщики верблюдов, могли прикочевать на Тургай вслед за верблюдицей Аблая, могли привести с собой молодую Солонго и её первенца и повторить на суходоле казнь верблюжонка. Наверное, так оно и было. И потому сейчас гордая Солонго, отпущенная хозяином, надменно воздела голову над туманом и ходким тротом неудержимо устремилась туда, где надеялась найти своё возлюбленное дитя, чтобы облизать его и поднять на ножки. А за Солонго следовал отряд Цэрэн Дондоба.
Прошедший год был самым славным в жизни нойона. Исполнились предначертания судьбы: нойон овладел священной Лхасой.
Войско Цэрэн Дондоба, путь которому указывали монахи из Джебунга, выступило из Хотана и через смертоносные ледяные теснины Куньлуня перевалило в Тибет. Скрывая цель похода, великие обители Джебунг, Сэра и Галдан распространяли различные слухи. Китайским посланникам в юрге Лавзан-хана монахи говорили, что джунгарский нойон ведёт силы, чтобы поддержать Лавзан-хана в войне с княжеством Бху-Утан; самого же Лав-зана монахи уверяли, что войско Цэрэн Дондоба — просто почётный караул для Данжина, сына Лавзана, и Бой-талак, дочери Цэван-Рабдана; Лавзан и его хошуты не знали, что свадьбы Данжина и Бойталак уже не будет никогда, ибо Данжин сожжён джунгарами заживо между двух котлов.
Обман оправдался: своему войску, измученному высокогорьем, нойон успел вернуть прежнюю боевую готовность. В долине Дан джунгары сразились с хошутами и разбили их. Лавзан отступил в Лхасу, которую недавно усилил каменными стенами и рвами. Понимая тяжесть положения, он призвал на помощь китайскую армию, стоящую на озере Кукунор — в Цинхае, как называли эту область китайцы. На Кукуноре Цинхайская армия взяла в плен Далай-ламу Седьмого, чтобы он не достался джунгарам.
Цэрэн Дондоб осадил Лхасу. Стены её крушили пушки джунгар; этими пушками умело командовал ямышев-ский перебежчик — швед Юхан Густав Ренат. Устрашившись обстрела, тибетцы открыли джунгарам ворота Лхасы. Джунгары ворвались в крепость. Лавзан и верные ему хошуты затворились в неприступной твердыне Поталы, а джунгары три дня грабили город. Долина Джичу, окружённая венцом ледяных гор, превратилась в озеро дыма, над которым возвышался только Потранг Марпо — Красный дворец Поталы. И Лавзан-хан решил бежать. Пользуясь кровавой и огненной неразберихой, он выбрался из Поталы, из Лхасы, и кинулся прочь. Нойон отправил за ним погоню. Прыгая через ров, лошадь Лавза-на сломала ногу; погоня настигла беглеца; Лавзан отчаянно защищался, и его зарубили. А в Лхасе войско Цэрэн Дондоба двинулось на приступ Поталы, где оборонялись хошуты. Под ливнем пуль и стрел джунгары проползли вверх по тысяче лестниц Поталы мимо бесчисленных изваяний львов и драконов и перебили хошутов прямо среди пузатых ступ, улыбающихся Будд и разноцветных манд ал.
За полтора века истории джунгар ещё не было победы, достойной сравниться с победой нойона Цэрэн Дондоба. Нойон отправился в юргу контайши, осенённый всеми хвостатыми знамёнами. И Цэван-Рабдан теперь уже не мог не признать, что сам он — плохой полководец. В Семиречье он потерпел постыдное поражение от Богенбая, нового предводителя казахов. Нойон Цэрэн Дондоб опять влез в седло и повёл своих победоносных воинов на запад — через ущелье Джунгарские ворота в хребте Алатау.
Молодой Богенбай, батыр из рода Канжыгалы, прославился шесть лет назад, когда у ханаки Джучи-хана в единоборстве жекле-жек он одолел джунгарского нойона Шуну Данбо. Вокруг Богенбая вырос целый лес могучих товарищей: Жантай, Урпек, Томаш, Маймасар, Ера-сыл… Хан Тауке призвал Богенбая, чтобы с ним и с биями от трёх Жузов создать первый закон казахов, которые доселе жили по давней Чингизовой Ясе, — свод Жеты Жаргы, «Семь истин». И теперь Богенбай собирал силы по всем трём Жузам и громил джунгар под Алатау. Цэван-Рабдан не смог с ним справиться.
Нойон Цэрэн Дондоб прокатился по Семиречью, сжёг становища и аулы по Хоргосу, Чарыну и многоводной Или, но так и не встретил Богенбая, который в это время сражался где-то на юге с бухарцами. Цэрэн Дондоб был разочарован в своей судьбе, а Цэван-Рабдан — в Цэрэн Дондобе. А из Тибета гонцы приносили недобрые известия. Джунгары, которых нойон оставил там, вели себя как разбойники: грабили и убивали тибетцев. И против захватчиков поднял бунт тибетский князь Кан-ченнас. За помощью он обратился, конечно, к богдыхану Канси. Тем более что Далай-лама Седьмой оставался в Цинхае в руках у китайцев, а ведь джунгары утверждали, что пришли в Лхасу лишь для того, чтобы восстановить воплощённого Будду. И богдыхан оповестил вселенную, что печалится о провинциях Сычуань и Юнь-нань, над которыми нависла угроза джунгарского вторжения, а потому собирает армию, чтобы овладеть Тибетом и без всяких джунгар поместить лотос божественных ног Да-лай-ламы в Лхасе на великий золотой трон, созданный пятью демонами.
Боги отвернулись от нойона Цэрэн Дондоба: казахский предводитель оказался неуловим, тибетцы подняли мятеж, Далай-ламу охраняла армия Цинхая, а богдыхан готовился отобрать у нойона все его завоевания — предстояла война с китайцами в Тибете. Единственной неоспоримой победой было изгнание русских с Ямыш-озе-ра, и как-то так вдруг получилось, что эту победу теперь приписывали доржинкитскому зайсангу Онхудаю, а вовсе не Цэрэн Дондобу. Что ж, Онхудай всегда и везде похвалялся, что разгромил русских на Иртыше, а нойон, умаляя свои заслуги, объяснял, что война с русскими была ненужной и бессмысленной. Но глупцам были понятнее слова глупца. И зайсанг уже обещал всем, что он, славный победитель орысов, летом получит чудотворный доспех русского Ермака. Тайша Буурул, эмчи Цэван-Рабдана и давний друг нойона, сообщил Цэрэн Дон-добу, что Цэван-Рабдан начал присматриваться к Онху-даю: не сможет ли молодой Онхудай заменить старого Цэрэн Дондоба, который перестал приносить удачу? Опыт подсказывал нойону, что необходимо поскорее отрубить руки Онхудаю — пока не поздно, надо лишить его чести, которая воплотилась в Оргилууне, кольчуге Ермака. И потому из Семиречья нойон поехал в Кульджу не напрямик, а окружным путём — через Тургай, где хранился Оргилуун. Чтобы сделать всё быстро, Цэрэн Дон-доб взял с собой лишь отряд в полсотни лучших воинов. Верблюдица Солонго вела его к тайнику с кольчугой.
…И не было для нойона зрелища более отрадного, чем жалкий вид Онхудая, у которого русские украли вожделенную добычу. Разве зайсанг и его люди — воины? Их лишили коней и сабель, у них перерезали тетивы и сломали стрелы! Доржинкитская шайка — просто овечье стадо. О позоре Онхудая потом непременно следует рассказать в юрге контайши. А сейчас надо нагнать русских воров. Сокровище должно принадлежать ему, нойону!
Отряд Ремезовых выбрался к Тоболу после полудня. Ремезовы спешили и гнали лошадей намётом, а Семёна Ульяныча действительно растрясло — он еле слез с седла. Местечко для привала приглядели на берегу, но в полутора верстах ниже по течению от юрги Онхудая, чтобы степняки, оставленные зайсангом, не заметили беглецов и не попытались удержать их. Теперь требовалось тихо увести насаду. За лодкой отправились Леонтий и Ваня.
Задача оказалась не из лёгких. На сочной луговине возле насады паслись лошади, их сторожили два хончи-на-пастуха. Они вытоптали себе площадку и не спеша играли в шагаа — таранные кости: сидя на корточках, метали биты в постройки из овечьих бабок. Ваня знал, что степняки могут играть в шагаа три дня подряд, выкладывая из косточек «юрту» за «юртой»: мышиную, гусиную, волчью, воронью… Увидев русских, хончины подняли бы тревогу. Леонтий и Ваня забрались в густую чилигу и легли ждать, когда пастухи уйдут с берега. После почти бессонной ночи они дремали по очереди.
На закате из юрги донеслись крики. Пастухи бросили бабки и помчались на своё становище. Леонтий сразу метнулся к насаде.
— Погоди, дядя Левонтий! — попросил Ваня. — Гляну, с чего переполох.
Он вылез на крутой бережок и осторожно высунулся из травы. Вдалеке, где торчали шесты юрги, он увидел над ковылями хвостатые знамёна с золотыми драконами и бирюзовыми орлами. Это были стяги нойона. Значит, Цэрэн Дондоб явился на Тобол, преследуя похитителей кольчуги!
Леонтий в одиночку перевернул объёмистую насаду и торопливо скидывал в неё поклажу — верёвки, ржавые уключины, вёсла, просмолённую рогожу, топоры, берестяные черпаки, удилища… В походе к тайнику всё это добро было ни к чему, и Ремезовы просто спрятали его под лодкой.
— Плохо дело, — сказал Ваня. — Нойон за нами идёт.
— Авось бог милует, — угрюмо пробормотал Леонтий, сталкивая лодку на воду. — Угребём по Тоболу, до слобод не так уж и далеко.
Семён Ульяныч встретил их ворчаньем.
— Вас только за смертью посылать! Дрыхли небось? Мы тут как у чёрта на вилах сидим, а они в ус не дуют!
— Как смогли, батя, — ответил Леонтий.
Лошадей, расседлав, бросили — пусть сами ищут дорогу к людям. Узкий Тобол извивался в пышной, звонко чирикающей урёме. Ночью над тёплой водой сгустился туман, и путь потерялся. Слабенькое течение не осиливало тяжесть большой насады, в которой сидело семь человек, не тянуло лодку и не указывало, где среди кустов пролегает протока. Насада шла на вёслах и то и дело врезалась в заросли. Леонтий, Ваня, Семён-младший и Ерофей гребли, а Табберт забрался на нос и шестом нащупывал путь среди листвы и тумана. Казалось, что насада попала в какое-то тёмное колдовское царство, где вся земля затоплена и всюду из воды растут деревья. Со всех сторон слышались шёпот, журчанье и редкие всплески — то ли рыба шлёпала хвостом, то ли плюхался бобр. В тумане кричали ночные птицы, будто искали друг друга.
К утру все измучились. Плаванье вслепую утомляло больше, чем гребля. Наконец, тьма поредела. Обозначились развесистые кущи, отражающиеся в плоскости воды. Косые лучи солнца упали на реку, словно в ров, дымясь в тающем тумане. Семён Ульяныч умылся, черпая ладонью за бортом.
— Дальше можно попеременке, — сказал он. — Ванька и Сенька, вы на вёслах, а мы спать. Как станет невмоготу, будите.
Сменяя друг друга, они плыли весь день. От усталости даже есть не хотелось. В сумерках нашли полянку и повалились на землю, как дрова. Зато на рассвете все поднялись бодрые, хотя и болели бока, намятые корнями.
— Несёмся, шары выпучив, а чего впереди — не знаем, — сварливо сказал Семён Ульяныч. — А где-то там Годуновский перекат.
— И что? — не понял Ерофей.
— На перекате джунгарский брод. Ежели Дондобище думает перенять нас на реке, то на броду будет застава.
Семён Ульяныч первым и учуял приближение переката.
— Тпру, цепляйтесь за ветки! — приказал он и сам схватился за лещину. — Лёнька, Ерофей, идите вперёд, разведайте!
Леонтий и Ерофей слезли за борт. Глубина тут была чуть выше колен.
— Крадитесь стороночкой, — напутствовал Семён Ульяныч. — Дойдите до конца переката.
Леонтий и Ерофей убрели за поворот.
Непривычно широкий, просторный перекат многоголосо щебетал на разные лады и сверкал под солнцем. Казалось, что здесь рай: блещет чистая бегучая вода, золотится песок, птицы заливаются в ивняке, под лёгким тёплым ветром колышется трава на отмелях. Но поперёк этого рая на перекате стояли в ряд шесть джунгарских всадников с луками и пиками. Солнце осыпало их яркими искрами: горели острия пик, выпуклости шлемов, клёпки кожаных лат, яблоки на щитах и пряжки на конских сбруях.
— А батя у тебя дока, Лёнька, — с уважением негромко сказал Ерофей.
Леонтий и Ерофей укрывались в зарослях.
— Заберусь-ка на вербу, посмотрю, много ли их, — ответил Леонтий.
Ствол вербы, изгибаясь, полого нависал над заводью. Леонтий пригнул ветку, закинул ногу на ствол, намереваясь оседлать его, подтянулся — и нога соскользнула с заплесневелой коры. С гулким шумом Леонтий бултыхнулся в омуток, усыпанный листьями, и окатил Ерофея.
Джунгары встрепенулись, завертели головами и увидели русских, что прятались в прибрежных кустах. Кто-то из степняков засвистел.
Взбивая фонтаны, Ерофей и Леонтий запрыгали по мелководью прочь.
— Заметили нас, батя! — задыхаясь, Леонтий схватился за борт лодки.
Лицо Семёна Ульяныча странно изменилось. Он уже понял то, чего остальные не успели понять. Они в западне. И западня эта смертельная, хотя так славно сияет солнце и в листве так весело поют голосистые завирушки.
— Хождение назад? — спросил Табберт.
— Нет, — жёстко ответил Семён Ульяныч. — На реке они нас хоть где найдут. Надо убираться с Тобола.
— Куда?
Семён Ульяныч молчал, размышляя. Все ждали его ответа. А он медлил, потому что ответ был очень страшным.
— Лихой острог помнишь, Лёнька? — он пристально посмотрел в глаза Леонтию. — До него верста или две. Там можно схорониться.
— А коли отыщут?
— Отстреливаться будете. Лучше там, чем в лесу или в степи.
— Батюшка, ты не дойдёшь туда так быстро, как надо, — предчувствуя недоброе, осторожно заметил Семён.
— Я и не пойду, — Ремезов наконец-то сказал главное. — Без меня бегите.
Он будет только обузой. С ним, калекой хромоногим, сыновья будут двигаться слишком медленно, и джунгары поймают их, прочесав чилигу, или догонят на лугах. Ему надо остаться здесь и отпустить сыновей.
— Кольчугу только возьми, Лёнька, — Семён Ульяныч хлопнул ладонью по тяжёлому свёртку с кольчугой.
Ему было неловко и досадно. Никогда он не числил за собой никакого геройства, никакого самопожертвования. Он легко признавал такие подвиги за другими, ежели кто и вправду был достоин, но применительно к себе Семён Ульяныч считал их нелепыми, как бахвальство или неумелое враньё. Какой из него богатырь? Его недавно соседская коза два раза боднула! И Семён Ульяныч сердился, что приходится корчить из себя Анику-воина.
— Батька, не бреши! — зло рявкнул Леонтий.
— И думать не смей! — Маша побледнела от гнева.
Семёну Ульянычу вовсе не хотелось погибать в лапах у джунгар. Но он не верблюдица, чтобы безропотно глядеть, как убивают его дитятю.
— Неча перечить! — крикнул он.
Семён-младший вынул нож, сдёрнул с поклажи рогожу и прорезал в ней с краю дырку, а через некоторое расстояние — ещё одну, и ещё.
— Вёсла просунем — будут носилки, — сказал он тихо и спокойно.
Семён Ульяныч отвернулся, пряча глаза. Стыдно, что он, старик, так обрадовался выдумке Семёна.
Они продирались сквозь густые заросли, как сквозь рыбацкие сети. Табберт ломился первым, прорубая дорогу саблей; Леонтий, Семён, Ваня и Ерофей тащили носилки, в которых лежал Семён Ульяныч; последней шла Маша, навьюченная четырьмя ружьями и двумя топорами. Семён Ульяныч подавленно молчал. Он впервые в жизни полностью полагался не на себя, а на других людей, на сыновей. Опорой ему всегда было дело, которое ещё предстояло сделать, а взрослые сыновья — они были как бы уже сделанным делом, и опираться на сделанное дело Семён Ульяныч не умел. Он стискивал в руке свою палку и прижимал к груди свёрток с Ермаковой кольчугой. Он ощущал себя старым. А спутанная урёма сопротивлялась напору людей так яростно, будто сама нападала. Ветки и листья, издали такие мягкие и нежные, оказались жёсткими и упрямыми; они цеплялись и драли одежду, норовили ткнуть в глаз, хлестали по лицам, царапали руки и дёргали на себя, точно чаща хотела поглотить людей, как зверь, сожрать их с потрохами.
Пойменная урёма, слава богу, поредела, превращаясь в кизильник, оплетающий склон большого холма. По левую руку склон вздымался и вставал бурой стеной земляного обрыва, а над ним, чернея на синеве небес, торчали дырявые шатры ветхих башен Лихого острога. Изнемогая от усилий, Леонтий, Семён, Ваня и Ерофей боком втаскивали носилки на кручу. Маша совсем согнулась под своим железным грузом. Но заброшенный острог был уже близко. Кизильник вскипал прямо под косыми частоколами.
— Скидывай меня! — крикнул Семён Ульяныч. — Сам дойду!
Глава 7 Необходимое зло
Айкони снова некуда было идти. Вернуться на Ен-Пугол, который стал ей как дом? Но там уже нет Ике, и Нахрач туда никогда больше не придёт. Или направиться в Ваентур? Но там сейчас русские. И она не хочет жить на милости вогулов. Она сама кормит себя не хуже мужчин-охотников: зачем ей в рогатой деревне жалкое место женщины, у которой нет мужа? И Айкони решила отыскивать Нахрача, чтобы спросить у него, что ей делать дальше. Возможно, Нахрач её прогонит — а возможно, и не прогонит. Она ведь ему нравилась. Она была его Мис-нэ, невидимая лесная жена.
Дорогу по тайге она не знала, но не сомневалась, что быстро выберется на след Нахрача, вернее, на след тех, кто затоптал его след. И днём она уже увидела могильный кедр. Огромное дерево чуть шумело под ветром, словно переговаривалось внутри себя бесплотными голосами погребённых в нём шаманов. Приветствуя, Айкони обняла кедр и прижалась ухом к его жёсткой коре.
Она затаила дыхание и услышала, как в толще ствола текут бесплотные голоса, однако речь духов оставалась для Айкони непонятной. Меж собой духи общались на языке воды, травы, палой листвы и мертвецов.
Следы лошади и семерых человек повели Айкони дальше в урманы. Синюю пихту она заметила сразу и предусмотрительно обогнула стороной. К вечеру она оказалась у речки, что струилась под лесным завалом. Про эту коварную речку — её звали Мор-ягун — Айкони рассказывал Нахрач. В завале кто-то жил, но вогулы так и не выведали, кто. Большие звери не совались в западню Мор-ягуна, и даже глупые рыбы не поднимались сюда вверх по течению. Над зелёной лощиной висела беспокойная и зловещая тишина. Судя по следам, русские двигались прямо поверх Мор-ягуна, но Айкони не почувствовала уважения к их отваге. Скорее всего, их отвага объяснялась глупостью, хотя путь указывал, конечно, Пантила: видно, он вырвал свои корни из земли и перестал понимать тайгу. Айкони пошла в обход завала.
Там, где Мор-ягун наконец-то выскочил из-под нагромождений гнилого бурелома, на склизкой коряге сидела Хомани. Она опустила босые ноги в бегущую воду, словно ей было очень жарко, однако вокруг неё держался холод, отпугивающий ненасытное комарьё. Айкони устало присела рядом с сестрой. Красные лучи заката, прореженные тайгой, лежали поперёк Мор-ягуна с уклоном, будто бы упали в речку, как поваленные сосны.
— Ты ищешь меня, — помолчав, сказала Айкони. — Твоё сердце плачет?
— Да. Оно не стучит, но всё равно болит.
— Многие люди не хотят быть мёртвыми, — Айкони понимающе кивнула.
— Меня утопили правильно. Я сделала плохое дело.
Айкони усмехнулась. Какое плохое дело могла сделать Хомани? Ей всегда не хватало силы жизни, и потому Мать Всех Зверей дала ей тонкую и короткую жилку судьбы. Хомани не испытала того, что испытала сестра. Проданную отцом, Айкони мучили в Берёзове: русские мужчины избивали и насиловали её. В Тобольске Айкони предал князь. Потом она бежала, убив человека, но Пантила изгнал её из Певлора. Она одна скиталась по тайге. Она голодала, замерзала и болела. Нахрач заставил её сражаться с медведем, сожравшим трёх человек. Люди русского старика-шамана брали её в плен, и ва-ентурский вогул стрелял в неё из лука. Вот это — тяжёлая жизнь, в которой можно сделать много плохих дел. А у Хомани была лёгкая жизнь. Её забрали из дома и, не тронув, продали бухарцу — вот и всё. Она не грызла осиновую кору, не ходила по снегу в дырявых чирках, не уворачивалась от Когтистого Старика, клыки которого были размером с её нож. Нет, слабенькая Хомани жила нетрудно и потому не могла сотворить ничего дурного.
— Какое плохое дело у тебя? — спросила Айкони, готовая рассмеяться.
— Я украла у тебя твоего князя.
Айкони думала, что всё в прошлом, всё угасло, однако слова Хомани хлестнули её по душе, будто кнут.
— Как?! — вскинулась она.
— Узнай сама, — прошептала Хомани.
Айкони бестрепетно сунула руку в разрез ворота Хомани и схватила её грудь — холодную, словно пригоршня снега. Под грудью раньше трепетало сердце, которое всё рассказывало сестре, а теперь оно не шевелилось. Но Айкони увидела то, что было с Хомани. Увидела ярмарку в Тобольске и Новицкого, поражённого сходством се-стёр-остячек. Увидела, как Новицкий обнял Хомани под Ермаковой сосной. Увидела, как Новицкий дарит Хомани браслет, как Хомани бьёт ножом Касыма, как Нази-фа, Суфьян и Бобожон закатывают Хомани в ковёр. Бедная Хомани!.. Она уже умерла, а всё ещё страдает от любви и мук совести. Смерть не в силах это прекратить.
— Я думала, он тебе не нужен, — виновато сказала Хомани.
— Он мне не нужен, — ответила Айкони. — Твой мужчина — не князь.
— Не князь?!
— Я позвала Сынга-чахля заговорить волос для князя. А твой мужчина порвал мой волос раньше, чем князь. Он забрал любовь князя. Ты ничего у меня не украла, Хомани. Твой мужчина — не мой. Возьми его себе.
У Хомани, даже у мёртвой, взгляд вспыхнул, будто у живой.
— Как взять? — со страстью спросила она.
— Боги придумают.
Только сейчас Айкони заметила, что под ногами Хомани на дне Мор-ягуна лежит бледный и обмытый человеческий череп. Это Хомани кого-то съела тут? Или те, кто живёт под завалом? Впрочем, какая разница?
Когда солнце скрылось, Айкони уже снова шагала по русскому следу. Она не боялась демонов тайги. Пусть ворчат в дуплах, пусть светят глазами из-под бурелома, пусть стелются по мху, ныряя из тени в тень. Она такая же, как лесные духи, — отверженная от мира людей. Её не напугать мраком — она сама вышла из мрака. Мрак течёт в её жилах. И ей ничего чужого не надо. Она не топчет нор, не разоряет гнёзд, а если наткнётся на тайное лежбище демона, то не потревожит его, и никому потом о лежбище не расскажет.
Призрачный лес рассекла старая заросшая дорога. На обочине темнели две продолговатые кучи земли — свежие могилы. Над ними возвышались кресты: один — старый и трухлявый, другой — новый и крепкий. Айкони потрогала рыхлую землю насыпей: она ещё не выдохнула неизбывный холод глубины. Похоже, могилы выкопали сегодня утром. Значит, двое русских уже погибли в пути. Если череп в Мор-ягуне тоже принадлежит русскому, то у Нахрача осталось всего лишь четверо преследователей.
Айкони нагнала их перед рассветом. Они спали возле угасающего костра, только Пантила не спал, сидел и караулил. Спрятавшись, Айкони долго рассматривала спящих. Вон лежит главный старик, которому служил Пантила, — старик русского бога. Вон мужик с саблей; Айкони его помнила: он свирепый, он хотел ударить её, когда поймал на ручье Вор-сяхыл-союм. А вон ещё один мужичонка, одетый в такую же длинную одежду, как у старика бога; этот человечек — худой и слабосильный. Зачем русские идут к Сатыге? Их мало, они изнемогают, их уже никто не испугается. Но они идут.
Айкони тихо выбралась из своего укрытия и удалилась, не пошевелив ни хвоинки, ни листочка. Пантила её не заметил. Айкони шагала по волшебной рассветаю-щей тайге и думала обо всём: о русских, о себе, об этой дикой земле. Она немало скиталась, но ни разу даже издалека не видела великое Дерево, которое растёт через середину земли, опустив длинные корни в Нижний мир и раскинув длинные ветви в Верхнем мире. И за все годы Айкони ещё ни разу не приблизилась к краю земли, не ощутила ветра, который вечно дует над бездной, где земля закончилась. Потому что земля огромная. Она лежит на косматых спинах мамонтов. Через всю землю течёт Обь, и кажется, что Обь — больше всех, а на самом деле она только ниточка. Айкони знала, что на полуночи Обь вливается в страшный дышащий океан, по которому плавает лёд; в океане обитают рыбы с бивнями. На берегу океана уже нет тайги, и там живут злые самоеды, у которых чумы, нарты и луки сделаны из звериных костей. А на полудне тоже нет леса, но там не снег, а песок и жара, и живут там другие злые люди, вырастающие из лошадей. А на закате стоят высокие горы, куда оленные вогулы и остяки гоняют свои стада, чтобы на голых камнях олени отдохнули от гнуса. А на восходе — тайга, тайга, тайга и тайга; там живут селькупы, тунгусы, якуты, и ещё какие-то люди, и ещё, и ещё. Земля очень, очень большая, везде разные реки, везде разные боги, и солнце везде светит по-разному… Но повсюду, повсюду — русские.
Их убивают, они погибают от голода и холода, но всё равно идут, идут, идут. Они отнимают добычу у рыбаков и охотников, они заставляют жить по-своему, они строят свои города, они изгоняют лесных богов и тащат за собой своего бога, потому что считают его сильнее всех. Может, это и так, только их бог ничего не делает для людей, никому не помогает, никого не выручает из беды, ведь ему некогда: он бегает от одного русского к другому, от пятого к десятому, и всем говорит: «Я тебя прощаю! Я тебя прощаю!» Он страшно устал. У него гудят ноги. Он не может даже просто посидеть у речки, чтобы перевести дух, потому что русские всем причиняют зло, и каждого надо простить. Но зачем этот бог людям тайги? Они не творят зла, ведь зло — это всегда то, что больше необходимого. Поймать двух рыб, когда нужна одна, — зло. Срубить дерево, когда нужна всего лишь стрела, — зло. Убить человека, когда можно только ранить, — зло. И потому убить русских — необходимость. Ранить их недостаточно, они не чуют ран. Они или живые, или мёртвые.
Когда солнце всплыло над остриями тайги, Айкони вышла к Балчарам. Рогатая деревня князя Сатыги мало чем отличалась от Ваентура, рогатой деревни князя Нахрача. Айкони помнила, где находится дом Сатыги. Она была здесь три года назад, когда просила приютить её после изгнания из Певлора и зимовки на Унъюгане, Сатыга её не принял. За три года дом Сатыги немного покосился, а кровля из лапника побурела и продавилась.
Айкони поднялась по бревну с вытесанными ступеньками и отвела полог на входе. Хозяев дома не было, только на лежаке спал человек, с головой укрытый шкурой. Айкони узнала зычный храп. Она много раз слышала его в своей избушке на Ен-Пуголе. Это храпел Нахрач.
— Нахрач! — позвала она и потрясла спящего за плечо.
Храп прекратился. Айкони откинула шкуру, опустилась на колени и погладила Нахрача по колючей от щетины скуле. Нахрач был свой, родной, понятный. Он ничего не навязывал. Самоуверенный и сильный, он полагал, что подчинил себе богов Конды, однако на огромной земле он был таким же маленьким лесным жителем, как и сама Айкони. Он просто держал в порядке свой дом, какой уж дала ему судьба. За это и можно было его любить.
— Айкони? — Нахрач приподнялся на локте и улыбнулся. — Ты пришла?
В его улыбке было торжество человека, который оказался прав.
— Я пришла, — согласилась Айкони.
Она толкнула Нахрача в грудь и живот, и он послушно отодвинулся к стене, уступая место на лежаке рядом с собой. Она забралась на лежак и блаженно вытянулась рядом с Нахрачом. Она очень давно уже не ела и не спала. Ей нужно было отдохнуть. Нахрач по-хозяйски подгрёб её своей здоровенной лапищей и прижал к себе, а сверху прикрыл шкурой.
— Русские далеко? — спросил он.
— Они будут в Балчарах на закате.
— Их много осталось?
— Их четверо. Но воин у них только один. Если ты убьёшь его, то потом легко убьёшь остальных. Они не смогут защититься.
И она уснула.
Разбудили её мужские голоса. Нахрач разговаривал с Сатыгой. Айкони не хотелось вставать и уходить, как должно при встрече князей, и потому она делала вид, что спит, рассматривая Сатыгу сквозь ресницы. Низкорослый Сатыга напоминал крысу или даже чёрного лиса — ободранного, но хитрого, быстрого и опасного. Как старый лисовин, Сатыга лучше слышал, чем видел: он не делал ничего, не примерившись к возможному ответу русских. И всегда хотел получить выгоду сразу, а не ко-гда-нибудь потом.
— Чем русский бог помог тебе? — снисходительно спрашивал Нахрач. — Ведь ты выбросил крест в Конду, это было при мне.
Айкони знала, что Сатыга потерял двух сыновей, своих наследников, — Тояра и красивого Молдана. Они согласились принять русскую веру, и воевода Тол-буза забрал их в Берёзов, а там они умерли на непосильных работах. Айкони и сама побывала в Берёзове в неволе, она помнила живодёра Толбузу. Русский старик, который сейчас приближался к Балчарам, уговорил горевавшего Сатыгу принять веру сыновей: дескать, это утешит его. Сатыга отдал на сожжение своего идола — Медного Гуся. Но печаль по сыновьям от этого не угасла, и Сатыга сорвал с себя крест, надетый русским стариком.
— Русский бог мне не помог, — согласился Сатыга. — Но прошло уже несколько зим. Моя боль миновала сама. Я привык, что у меня нет сыновей. И я не хочу мстить русскому богу. Зачем мстить, если мне уже не больно?
— Я не прошу твоей мести, — ответил Нахрач. — Дай мне Ванго.
Могучий воин Ванго был самым большим силачом на Конде.
— Ванго убьёт русского воина, а я — всех остальных. Их всего четверо.
— Русские отомстят и тебе, и Ванго, и мне, — возразил Сатыга.
Нахрач засмеялся над Сатыгой как над несмышлёным ребёнком.
— Русские не узнают. Никто не узнает. Мы с Ванго сейчас уйдём из Балчар и встретим русских в лесу. Там их и убьём. Русские просто пропадут без следа. Никто не поймёт, куда они делись, когда покинули Ен-Пугол. Их мог поразить молнией Ими Хили. Их мог сгубить Хынь-Ика. Их могли растерзать менквы. Мужчина С Длинной Шеей мог выбраться из Конды и утопить их. Они могли просто умереть сами по себе, заблудившись. Если Ванго ничего не скажет твоим людям, то никто, кроме нас троих, не будет знать, куда исчез старик русского бога, а с ним и его люди.
Айкони разглядывала дом Сатыги. У входа — загородка, за которой куча дров, корчага с водой и вилы. Вдоль стен справа — лежаки, застеленные варёной берестой. Вдоль стен слева — дощатые короба. Чувал, как положено, повёрнут устьем на вход, чтобы женщина Сорни-Най, живущая в огне, могла увидеть входящего и бросить уголёк, если входящий замыслил недоброе. На лето Сатыга снял с чувала деревянную трубу, и оголилось дымовое окно в кровле; его называли Дверью Бубна, потому что бубен вносили в дом через крышу. Со стропил свисали пучки травы, связки беличьих шкурок, мешочки с припасами, зимние одежды, охотничья утварь. На полке священной стены за чувалом стояли деревянные болванчики, обмотанные пёстрыми платками. Волоковое окошко напротив Айкони горело красным светом заката.
— А что ты мне дашь за помощь? — спросил Сатыга, прищуриваясь. — У тебя ничего нет, Нахрач. Твой дом бедный. Русские разорили Ен-Пугол и даже Ике-Нуми-Хаума у тебя забрали.
— Откуда ты знаешь? — ревниво насторожился Нахрач.
— Утром из Ваентура приплыл Щепан. Он сказал.
— Ике одряхлел, — Нахрач пренебрежительно махнул ручищей. — Его не жалко. Он не мог помочь даже себе. Но я знаю много других богов.
Нахрач замолчал, напряжённо глядя куда-то в пустоту. И вдруг на стене закачался долблёный ковш, зацепленный за крюк, — закачался и упал.
— Это сделал Самсай-ойка, старик твоего дома, — расслабляясь, пояснил Нахрач. — Я велел ему показать себя.
Сатыга встал, поднял ковш и пристроил обратно.
— Я знаю Самсай-ойку. Добрый старик. Но мне нужен сильный бог.
— Самый сильный бог Балчар — Волта, он живёт на Куломе в мышиной норе. Я умею звать его и говорить с ним.
— Так позови и поговори, — лукаво предложил Сатыга.
— Ты не веришь мне? — оскорбился Нахрач. — Ты сомневаешься, что я могучий шаман? Смотри!
Нахрач вынул нож из ножен, поддёрнул левый рукав и бестрепетно разрезал руку. Кровь потекла ручьём. Нахрач протянул руку Сатыге.
— Это настоящая кровь! — заявил он. — Хочешь попробовать на вкус? Я шаман и потому не чувствую боли! Я могу разогнуть мамонтовый бивень! В моём очаге синий огонь! Когда я камлаю, меня вверх подымает!
Но Сатыга с сомнением покачал головой.
— В прошлом году для меня ты сходил на Пелым и привёл оттуда три косяка хариуса. А сейчас только режешь руку и роняешь ковши. Эго не цена за мою помощь, Нахрач.
— Назови цену сам! — прорычал Нахрач.
— Сначала я хочу увидеть русских и понять, правда ли они жалкие и слабые, — ответил Сатыга. — А потом я назначу тебе цену за их жизнь.
Айкони видела, что Нахрач сердится, однако весь торг с Сатыгой был напрасным. Русские оказались ближе, чем рассчитывал Нахрач. На улице раздался тревожный крик — это вогулы обнаружили незваных гостей.
Владыка Филофей, отец Варнава, служилый Емельян и князь Пантила Алачеев шагали из тайги к деревне через луговину выпаса. Владыка тяжело опирался на палку. Пантила поддерживал Варнаву, у которого от усталости заплетались ноги. Емельян прихрамывал и сутулился, но держался за рукоять сабли. Одежда у всех была истрёпана и порвана; исцарапанные лица опухли.
Закат ярко освещал идущих, и они отбрасывали длинные тени. Тайга, окутанная дымкой сумерек, тихо и гневно шумела, словно сама не верила, что эти русские преодолели все её коварные западни и гибельные преграды; лесные демоны, боявшиеся выйти на солнце, остались на опушке и бессильно смотрели вслед, взрывая когтями мох. Русские не выглядели победителями. Наоборот, они казались какими-то погорельцами и нищебродами. Но ведь они прошли, они прошли. Это они добились своего, а не чудовища из чащ.
Вогулы столпились на околице рогатой деревни, не зная, что делать, и взволнованно переговаривались. Мужчины держали в руках луки и копья. Они готовы были обороняться, но от кого? От этих измученных путников? Однако в воздухе сгустилось недоброе напряжение. Ванго, что возвышался над всеми на целую голову, перехватил своё копьё так, чтобы удобнее было метнуть. Гнетущие предчувствия метались над людьми, как невидимая стая встревоженных птиц. Сатыга протолкался вперёд, разглядывая владыку Филофея. Вся Обь гудела, когда этот старик плавал на своей большой лодке; но никто не предполагал, что старик, не призывая воинов, перетянет людей леса к своему богу. А старик перетянул. С Оби, с былой Коды, он перебрался на непокорные вогульские реки. Он сжёг Медного Гуся. Он сжёг Ике-Нуми-Хаума. Как это ему удалось?! У него же ничего нет — ни силы, ни выкупа!
Распихивая вогулов, Нахрач пролез к Сатыге. Айкони держалась за Нахрачом. Князь-шаман, ухмыляясь, взял Сатыгу за рукав.
— Я говорю, что эти русские не страшнее лягушек!
Услышав Нахрача, вогулы сообразили, как им относиться к русским: они насмешливо засвистели и заулюлюкали — так дразнят собак.
Емельян слегка выдвинул саблю из ножен.
— Не искушай себя, Емельян Демьяныч, — негромко сказал Филофей.
Сатыга молчал, и Нахрач почуял свою волю над вогулами.
— Остановите их стрелами! — весело крикнул им Нахрач.
Воины охотно подняли луки. Стрелы предупреждающе засвистели над русскими, но русские всё равно приближались. Они остановились только за десяток шагов от толпы вогулов. Нелепо было и подумать, что эти четверо могут представлять опасность для полусотни воинов, уже пробудивших Хонт-Торума пением тетивы. Демоны смерти облизывались перед поживой.
— И как твой бог спасёт тебя, старик? — осклабясь, крикнул Нахрач.
Сатыга обшаривал взглядом лицо владыки Филофея.
— Спасать надо тебя, а не меня, — спокойно ответил Нахрачу владыка.
Сатыга застыл, услышав эти странные слова. Даже сейчас русские не сомневались в своём превосходстве! Сатыга помедлил, а потом вынул нож из ножен на поясе, повернулся к Нахрачу и прямым точным ударом вонзил лезвие прямо под сердце горбатому князю-шаману из Ваентура.
Нахрач изумлённо отшатнулся, посмотрел на Сатыгу так, словно не понял шутки, но из дружбы готов рассмеяться, однако ноги его подогнулись, он осел на колени и безмолвно повалился на спину в истоптанную траву. Голова его нелепо откинулась назад — горб поднимал плечи и грудь Нахрача. Воздух над князем-шаманом тихо замерцал: это заполошно замельтешили незримые духи, внезапно потерявшие смысл, который призвал их сюда.
Вогулы ещё не осознали, что такое Сатыга сотворил со своим гостем, а чуткая Айкони уже всё поняла. Она пронзительно завизжала и всем телом кинулась на распластанного Нахрача, хватая его за лицо, словно пыталась пальцами удержать в его чертах убегающие движения жизни.
— Нахрач! — в тоске закричала она.
Глаза Нахрача не дрогнули, затопленные красным оловом заката.
Растерянно расступаясь в разные стороны, вогулы глупо таращились на лежащего Нахрача и Айкони, а Сатыга больше не обращал внимания на мертвеца и его девку. Оправляя кожаную рубаху, он повернулся к русским.
— Не будем врагами, старый шаман, — с важностью сказал он Филофею.
Владыка ничего не смог ответить.
Айкони осторожно взялась за костяную рукоятку ножа, что торчал из груди Нахрача, и медленно вытянула его. Лезвие размыто блестело от крови. И вогулы увидели, как девчонка с Ен-Пугола собирается в какой-то косматый и ощетиненный ком — сплошной сгусток ярости и ненависти. Никто из вогулов не уловил её рывка, но Айкони вдруг очутилась за спиной Сатыги. С нечеловеческой стремительностью она принялась бить Сатыгу ножом — под лопатку, в шею, в рёбра, в печень, в живот, в грудь, в горло. Она вертелась вокруг Сатыги, как бешеная рыба, а острый локоть её работал с быстротой воробьиного крыла. В этом было что-то ведьмачье: ошеломлённый Сатыга стоял, словно не успевая умереть, — удары Айкони опережали саму смерть. На миг показалось, что Айкони не одна: здесь две, три, пять девчонок с Ен-Пугола, и они бьют Сатыгу ножами сразу со всех сторон.
Кто-то из вогулов наконец отшвырнул Айкони от Сатыги, и она легко покатилась по земле, взметая волосы, а потом замерла ничком, но вдруг поползла, как ящерица, и начала пучками с треском выдирать траву.
— Боль! Боль! Боль! — выла она по-русски.
Сатыга упал, будто лишённый подпорок.
Воин Ванго широко замахнулся, чтобы пронзить обезумевшую Айкони копьём, но его руку остановила рука владыки Филофея.
— Довольно крови! — гневно крикнул владыка.
Глава 8 Семеро в башне
Лихой острожек оказался меньше Гостиного двора в Тобольске. С Годуновского переката он выглядел вполне исправным, хоть и обветшалым, но вблизи было ясно, что эта крепости-ца — просто бревенчатые руины. С напольной стороны стояли три башни, а над обрывом — две, и только они более-менее уцелели. Одна угловая напольная башня съезжала в сухой ров, заросший малиной. Другая угловая напольная башня покосилась, словно стопа подушек. Воротная башня расползлась, обрушившись внутрь себя; из её короба торчала высокая зелёная берёза. Частоколы почти все полегли, будто о них, как о плетни в загоне, почесались какие-то огромные свиньи. Внутри дыбилась свирепая крапива, в которой громоздились груды брёвен и трухлявых плах — всё, что осталось от амбаров и осадных дворов. Если бы неподалёку от острожка имелась какая-нибудь деревня, тамошние мужики непременно вытоптали бы здесь бурьян, растащили тёс для своих нужд, выдернули бы гвозди и скобы, распилили бы тут всё, что можно, на дрова; но острожек возвели в диком месте без всяких селений, и потому он разрушался привольно и безоглядно — так, как пожелали степные ветра, осенние дожди, приблудные деревья и равнодушное время.
Ремезовы саблями косили дорогу в крапиве, репейнике и чертополохе.
Похоже, что для обороны годились лишь две башни возле обрыва, соединённые последним устоявшим пряслом частокола. Леонтий, Ерофей и Ваня пробились к двери ближайшей башни и с порога заглянули внутрь. Войти не было никакой возможности. Башня изнутри была беспорядочно завалена упавшими сикось-накось брусьями матиц и досками. Ремезовы направились к другой башне. Пяточную дверь у неё переклинило, но башня сохранилась куда лучше: настил-подмёт; крутая лестница на ходовой ярус; ещё прочные балки — треснула только одна; щелястый, но надёжный потолок.
— Хоть в чём-то повезло, — удовлетворённо сказал Ерофей.
Ремезовы друг за другом протиснулись в узкий проход.
Семён Ульяныч сразу отметил, что башня выстроена по всем правилам оборонного искусства. Нижний ярус предназначался под склад разных боевых припасов; его освещали два волоковых окошка, сейчас заслонённые снаружи крапивой. Леонтий сразу взял у Маши топор и принялся колотить обухом по дверному косяку, чтобы освободить дверку, закрыть и запереть на засов. Семён-младший помог отцу подняться по лестнице.
Средний ярус назывался ходовым, потому что с него две двери вели на боевые ходы вдоль частоколов. Один частокол давно догнивал в бурьяне, и отверстый дверной проём зиял пустотой. Однако другой частокол — который тянулся вдоль обрыва — стоял ещё крепко. С внутренней стороны в него были врублены брусья-выпуски, подпёртые снизу укосинами, и на этих опорах держалась вымостка, по которой защитники острога перебирались из своей башни в соседнюю — ту, которую Ремезовы осмотрели первой. Любопытный Табберт тотчас сунулся на боевой ход, но Ваня схватил его за плечо:
— Не стоит напрасно подвергать себя опасности, господин капитан.
Семён-младший снимал с плеча сестры тяжеленные ружья. На ходовом ярусе внутрь острога и наружу глядели по две бойницы.
Семён Ульяныч, Ваня, Табберт и Ерофей полезли на третий ярус — огневой. Здесь было просторно, как в часовне. Потолка не имелось: верхнюю клеть башни перекрывал шатёр, с которого уже ссыпалась половина досок. Каждую стену рассекали три бойницы. Под ногами хрустело: ветра нанесли пыли и разного мусора. Башня была выстроена с повалом на восточной стороне, и Табберт наклонился над длинной щелью облама под ногами. В щели далеко внизу виднелся земляной склон холма.
— Каков причин сей промежуток? — поинтересовался Табберт.
Ерофей тоже посмотрел вниз, в просвет меж венцов.
— По обрыву забраться можно, — объяснил он. — Ежели кто полезет, по ним через облам стреляют. Или смолу на них льют. Или ещё какую дрянь.
— Смола очень горячо, бр-р-р! — поёжился Табберт.
Семён Ульяныч стоял у бойницы в мрачной задумчивости.
— Что-то неладно? — осторожно спросил Ваня.
Из бойницы открывался обзор на всю равнину от острожного холма до мреющего окоёма. По равнине извивался Тобол, с обоих берегов охваченный зарослями чилиги. На большом протяжении узкая речка раздавалась вширь, словно её раздавили и размазали, — это и был
Годуновский перекат. Там всё искрилось и сверкало под солнцем. Белые облака пылали лохматыми краями.
— Степняков на перекате нет, — сказал Ремезов. — Ушли, дьяволы.
— За нами?
— Ну не орехи же рвать.
— Батюшка! — снизу, с ходового яруса, негромко окликнул Семёна Ульяныча Семён-младший. — Глянь-ка на полудень.
Семён Ульяныч передвинулся к другой бойнице.
— А вот и потеря наша сыскалась, — ухмыльнулся он.
В острог через прогал в поваленном частоколе длинной вереницей неспешно въезжали конные джунгары.
Ваня тоже приник к бойнице. При виде степняков его с головы до пят окатил жар узнавания, словно обдуло горячим степным ветром. Это были не скотогоны Онхудая, как попало вооружённые для набега. Это были опытные и закалённые воины, для которых война являлась главным и единственным делом. В сёдлах с высокой лукой они сидели небрежно, с ленцой. Железные шлемы с яловцами на остриях. Тёмные лица. Чешуи-стые доспехи из кожаных язычков, прихваченных клёпками. Прямоугольные оплечья. Нагрудники с зерцалом, покрытым чеканкой. Широкие пояса. Небольшие круглые щиты-халхи с медными яблоками. Хвостатые знамёна с орлами и драконами. Саадаки, ощетинившиеся оперением стрел. Страшные сабли, отяжелённые елма-нью. Пики с цветными конскими хвостами. Остроносые ноговицы.
— Крас-савцы! — недобро восхитился Ерофей.
Степняков было с полсотни, может, и больше. Среди них возвышалась белая Солонго, на которой восседал нойон Цэрэн Дондоб. А рядом с нойоном ехал пузатый Онхудай — целый и невредимый. Степняки заполонили весь острог, рассыпавшись среди бревенчатых развалин. Кони спотыкались на обломках и хламе, скрытом под бурьяном. Нойон мановением руки послал двух воинов проверить башни, которые выглядели пригодными для укрытия. Один воин направился к дальней башне по тропе, выкошенной Ремезовыми в одичалых сорняках; свесившись с седла, воин заглянул в дверной проём, обернулся к своим и что-то крикнул — наверное, сообщил, что сюда не войти. Другой степняк подъехал к башне, в которой укрылись Ремезовы, пнул в дверь пару раз, поглядел наверх, придерживая шлем, и торопливо отъехал назад. Все джунгары повернулись к башне Ремезовых.
Нойон что-то сказал Онхудаю.
— Эй, старик! — крикнул Онхудай по-русски. — Ты здесь!
Семён Ульяныч, стуча палкой, сердито поковылял от бойницы к лестнице, чтобы спуститься на ходовой ярус к сыновьям.
— Отдай Оргилуун, и будете жить!
— Сей башен иметь авантаж, — сказал Табберт Ване и Ерофею.
Ремезов едва не сверзился с крутой лестницы, но сыновья подхватили его. Семён Ульяныч был злой — он всегда злился, когда что-либо мешало ему доделать хорошее дело. А дело с кольчугой было задумано превосходно.
— Дверь надёжно закрыл? — Семён Ульяныч зыркнул на Леонтия.
— Плаху отодрал и на упор вколотил.
— Ещё одну вколоти!
— А по боевому ходу они не пролезут? — спросил Семён-младший. — Там-то двери вовсе нет.
— Не подымутся на боевой ход, — подумав, успокоил брата Леонтий. — К нему с земли шиш подберёшься. А в развалинах чёрт ногу сломит.
Ваня, Табберт и Ерофей спустились к Ремезовым.
— Не поджарят ли они нас, Ульяныч? — Ерофей говорил как бы в шутку.
— Дурак ты, им кольчуга нужна! Спалят башню — кольчуга сплавится.
— Может, отдать? — испытующе прищурился Ерофей.
Семён Ульяныч едва не испепелил его яростным взором.
— Отдадим — и потом точно зажарят, — за Ремезова ответил Ваня.
В плену он изучил нрав степняков. Вероломство и кровожадность у них почитается за доблесть. И победитель у них обязан быть свирепым к тому, кого победил, иначе победа не в честь и не в радость.
— Надобно стрельбу! — решительно сказал Табберт и вытащил пистолет.
Ему всё нравилось. Ремезовы были озабочены, а капитану Филиппу фон Страленбергу необходимость сражения пришлась по душе. Он так давно не чувствовал себя солдатом, что был готов даже на безрассудство. Впрочем, почему же безрассудство? Башня крепкая. Есть и порох, и пули. Ремезовы — люди стойкие. И всегда можно прибегнуть к ретираде, спрыгнув с внешней стороны башни на склон холма. Схватка — это прекрасно! Эс ист гроссартищ! Схватка разгоняет кровь и возвращает мужчине молодость!
— Долго ли мы тут сумеем отбиваться? — спросил Ерофей.
— Сколько Господь дозволит, — спокойно сказал Семён-младший.
Семён Ульяныч высунулся в бойницу.
Джунгары толпились среди развалин вокруг башни. Цэрэн Дондоб — сухонький старичок с белой бородкой клином — с интересом рассматривал Ремезова, поигрывая поводьями белой верблюдицы. Солнце жарило так, что стрёкот кузнечиков казался треском масла, кипящего на сковороде.
— Беса лысого тебе в пасть! — со старческим дребезгом в голосе крикнул Семён Ульянович нойону Цэрэн Дондобу.
Нойон снисходительно улыбнулся. Он так и рассчитывал.
— Зайсанг, — повернулся он к Онхудаю, — пускай твои люди возьмут бревно и выбьют двери в башню. А вы, — он обратился к своим воинам, — стреляйте по русским в окнах. Я хочу увидеть вашу меткость.
Ваня из бойницы наблюдал за суетой степняков в остроге, а Ремезовы заряжали ружья. Маша глядела на эти приготовления со страхом: она не узнавала братьев и отца. В их лицах, и в лице Вани, проступало что-то новое и непривычное — словно бы их души каменели в готовности к чему-то очень важному. Лица становились проще и яснее, будто отмытые от обыденности.
— Отдай мне своё ружьё, дядя Семён, — вдруг попросил Ваня.
Семён подумал и протянул ружьё:
— Возьми. Мне всё равно несподручно.
— Молись тогда истовей, — буркнул Ремезов. — Чтобы бог услышал.
— Всегда так молюсь.
Табберта приятно будоражило предчувствие схватки. Он впервые наяву увидит тактику дикарей и древнее оружие — стрелы! Он словно бы перенёсся в славные времена Вильгельма Завоевателя и битвы при Гастингсе!
— Я стрелять, где вверх, — Табберт указал пистолетом в потолок. — Там иметь довольно амбразурен.
— И мы с Ерофеем, — сказал Леонтий. — Ванька, а ты с батей останешься.
— Маша, поди сюда, — негромко позвал Семён-младший. — Научу тебя паклю из стен дёргать и пыжи крутить. Авось пригодится.
Воины нойона разъехались, подыскивая укрытия за развалинами, и проверяли луки на изгиб. Цэрэн Дондоб заставил Солонго попятиться, отодвигаясь от башни подальше, — он не сомневался, что русские начнут стрелять. Онхудай тоже отступил вместе с нойоном.
— Езжай к своим людям, зайсанг, — сказал Онхудаю нойон.
— Они справятся без меня, — ответил Онхудай.
Он взял с собой только тех шестерых, кто был у тайника на суходоле. Эти шестеро оскорблены, они жаждут отомстить за унижение.
В башне Семён Ульяныч вложил ствол ружья в бойницу и прищурился, выцеливая кого-нибудь для пробы. Семён Ульяныч не думал, что его скоро могут убить, что могут убить его сыновей, да что там! — наверное, их всех тут и убьют! Душу Семёна Ульяныча без остатка заполнял гнев. На страх уже не оставалось места. Семёну Уль-янычу быстрей хотелось стрелять. Он с юности завидовал отцу, который держал в руках кольчугу Ермака, а теперь он сам владеет этой кольчугой и везёт её не степнякам, как отец, а своим, русским, — в Тобольск! И вдруг с неба падает этот нойон и ломает весь замысел!
Ваня, держа ружьё наизготовку, посматривал на Ремезова, и ему было необыкновенно легко, будто Господь дозволил ему начать судьбу сначала. Он, Ваня, обороняется с Ремезовым плечом к плечу — и больше нет вины за Петьку, и больше ничего не надо доказывать! Это отпущение грехов.
Воины Онхудая, спешившись, выворотили из развалин длинное бревно, взяли его наперевес и побежали к башне. Бревно было их тараном. Лучники нойона вскинули луки. Обученные кони замерли под стрелками, чтобы не сбить прицел. Стрелы со свистом понеслись над космами крапивы.
— Пали! — крикнул Семён Ульяныч.
Он выпалил первым и промазал. Ваня тоже выстрелил. С верхнего яруса грохнули ещё два выстрела — Ерофея и Табберта. Степняки с бревном только чуть пригнулись: никого из них даже не задело. Стрелы туго застучали по башне, и стена вокруг бойниц с внешней стороны сразу обросла пернатым тростником. Несколько стрел влетели внутрь башни и воткнулись в потолок. Маша ошарашенно вытаращилась на эти стрелы — они ещё дрожали, будто испускали дух: смерть промахнулась, но оставила напоминание. Последним из башни бабахнул Леонтий. Один из степняков, бегущих с бревном, полетел с ног, а прочие споткнулись, сбив слаженность бега, и удар бревна в дверь получился не таким сильным, каким мог быть. Но башня содрогнулась.
Лучники продолжали осыпать башню стрелами. Воины Онхудая на руках раскачали бревно и снова ударили в дверь, а потом снова и снова. Дверь затрещала. Степняки с тараном были уже вне досягаемости огня из бойниц. В башне по лестнице на ходовой ярус сверху скатился Леонтий, а за ним — Табберт с саблей и пистолетом. Леонтий швырнул Маше ружьё.
— Заряжай! — крикнул он.
— Ты куда? — вскинулся Семён Ульяныч.
— Встретим их!
Леонтий и Табберт ссыпались на нижний ярус.
Новый удар с треском сокрушил угол двери над засовом. Пролом высветил полутёмную клеть; из дыры, как рыло чудовища, торчал измятый торец бревна. Табберт выстрелил сквозь пролом, и снаружи кто-то заорал, а Леонтий бросился на бревно, обхватил его и рванул к себе что было сил, выдернув конец сразу на полсажени. Степняки за дверью не ожидали, что изнутри бревно потащат в башню, и выпустили его из рук. Леонтий рванул другой раз. Бревно выдвинулось ещё на пол сажени. Теперь оно влезло в башню уже на половину своей длины. Табберт, бросив оружие, подскочил на помощь, и вместе с Леонтием они ещё на сажень вытянули бревно к себе. Степнякам снаружи не за что стало ухватиться: башня словно бы засосала и проглотила их таран. Степняки бросились назад, к развалинам, за новым бревном. Сверху загремели выстрелы, и два бегущих джунгарина с разлёта упали в крапиву и репейник. Первый приступ был отбит.
Семён Ульяныч уткнул ружьё прикладом в пол и шомполом трамбовал в стволе заряд, высоко воздевая руку, словно что-то подшивал иглой с длинной нитью. Ваня положил ружьё дулом в бойницу и осторожно сыпал порох из рожка на открытую зарядную полку. В полосе солнечного света Семён колупал ножом в замке ружья Леонтия, меняя треснувший старый кремень. Маше казалось, что родные люди вокруг заняты не войной, а какими-то домашними делами: налаживают кроены или мастерят новое седло. Маша понимала, что её жизнь зависит от спокойствия, сноровки и храбрости этих мужиков — отца, братьев, Ваньки, дяди Ерофея, шведа Табберта… И Маша безоглядно верила в них: они такие сильные, такие умелые, такие добрые! Вера умножала любовь, ведь здесь собрались те, кого она любит. Здесь рядом с ней тот, за кого она хочет выйти замуж. И эта башня — вовсе не башня, а храм, и бой — на самом деле не бой, а венчанье.
Маша отвернулась к стене щипать паклю на пыжи, и взгляд её прошёл сквозь бойницу, вбирая в себя простор распахнутого мира: реку, луга, облака. А на реке, на широком Годуновском перекате, она вдруг увидела два дощаника, засевших на мели. Вокруг судов суетились люди. Маша и не сразу осознала, как важно то, что она видит. Сердце её словно сорвалось.
— Батюшка, на Тоболе дощаники! — взволнованно крикнула она.
Семён, а потом и Ваня подбежали к бойнице, затем приковылял Семён Ульяныч и растолкал всех. Святы боже! Два русских судна!
— Кого ж сюда черти занесли? — поразился Семён Ульяныч.
Маша переводила засиявшие глаза с отца на брата, с брата на Ваню.
— Какая разница, кого? — сказал Семён и перекрестился. — Господь нам подмогу прислал!
На ярус друг за другом снизу поднялись Леонтий и Табберт.
— Леонтий Семёныч, капитан Страленберг, там наши! — оглядываясь на них, сообщил Ваня, почему-то испытывая какую-то неловкость.
Леонтий и Табберт поторопились к бойницам, обращённым на запад.
— Никак, Сенька, ты чудо вымолил, — с уважением сказал Леонтий.
— Бог помогать проявителям храбрость! — гордо заявил Табберт.
— Рано в пляс пустились! — наперекор всем проскрипел Семён Ульяныч. — Они нас не видят! Мы далеко.
— Следует подавание знака совершать!
— Стрельбу они не услышат. У них вода шумит.
— Дым? — предположил Леонтий.
— А как?! — рассердился Семён Ульяныч. — Шапку на палке запалить?
Маша смотрела на братьев теперь уже с отчаяньем.
А Ваня сразу начал думать о сигнале. Он взвесил все возможности — и не нашёл никакого иного способа оповестить о себе.
— Надо поджечь другую башню, — спокойно сказал он.
Это и вправду был выход. Горящая башня — такой костёр, что за пять вёрст заметят. Башни находятся на достаточном расстоянии друг от друга, и огонь не перекинется. А грузные дощаники будут ползти через длинный перекат ещё долго, башня успеет разгореться до неба.
Леонтий, Семён и Маша смотрели на отца: что скажет?
— Башня — дело, — наконец уронил Семён Ульяныч.
— А как туда добраться? На земле — степняки.
— По боевому ходу, — ответил Ваня. Он уже и об этом подумал.
Ремезовы и Табберт посмотрели в проём двери на полуразрушенный и ветхий боевой ход, прилепившийся к частоколу.
— По этому мосточку? — усомнился Леонтий. — По нему не пробежишь. А ежели по шажку ползти, степняки стрелами снимут.
Ваня повернулся — глаза в глаза с Семёном Ульянычем.
— Дай кольчугу, — попросил он. — И я пройду.
— Ванька! — ахнула Маша.
Семён Ульяныч, опираясь на палку, вперился в Ваню, словно изучал противника перед тем, как броситься в последнюю схватку.
— Я не хуже Петра Семёныча могу, — добавил Ваня.
Леонтий и Семён молчали. Им было ясно, о чём Ваня спорит с отцом. И в этот спор не надо было вмешиваться.
— Ладно, — выдохнул Ремезов. — Дам.
Он тяжело повернулся и поковылял к свёртку с кольчугой.
— Ерофей! — крикнул он наверх. — Спускайся живо!
Леонтий хлопнул Ваню по плечу:
— Мы тебя пальбой поддержим, Иван.
Маша отступила, словно между ней и Ваней появилась невидимая стена. Однако Ваня сам шагнул к Маше. Он полез за ворот и вытащил золотую пайцзу на шнурке, снял её, взял Машу за руку и вложил пайцзу ей в ладонь.
— Сохрани, Маша. За неё Ходжа Касым погиб.
— Ты вернёшься! — сказала Маша так, словно ненавидела Ваньку.
— Вернусь, — кивнул он.
Джунгары перед башней уже изготовились к новому приступу, как вдруг остановились, удивлённые странным зрелищем. В боковой двери на среднем ярусе башни появился человек в ржавой кольчуге. Цепляясь за острия кольев, он медленно и осторожно двинулся по мосткам вдоль частокола к другой башне. Он проверял ногой прочность пути перед собой и даже не пытался чем-либо защититься. Лучшей цели и придумать никто не смог бы. Этот безумец на частоколе — мишень для состязания в меткости. Лучники оживлённо засуетились: меняли положение, чтобы удобнее было стрелять.
Нойон Цэрэн Дондоб тоже внимательно наблюдал за храбрым орысом на частоколе, и его недоумение постепенно перерастало в подозрения. Зачем этот человек лезет по стене? Кольчуга на нём — несомненно, Оргилуун. Орыс надел кольчугу, чтобы добраться до другой башни. А что он намеревается там делать? В любом случае лучники должны сбить его с частокола! Когда храбрец рухнет со стены, можно будет снять с него драгоценный доспех, а всех остальных русских просто сжечь вместе с башней. Но всё-таки для чего русские затеяли всё это? У них должна быть какая-то важная причина!
— Боджигир, пошли несколько воинов в башню, куда ползёт орыс! — распорядился нойон.
Ваня понимал, что ему нельзя упасть с боевого хода. И дело даже не в том, что он погибнет. Своей гибелью он обречёт на смерть и Ремезовых — и Машу. Ради чего тогда все его усилия? Хлипкие мостки ходили под ним ходуном, доски прогибались и потрескивали, балки шатались. Ваня крепко держался за зубцы частокола, перехватываясь от одного к другому: если опора подломится, он повиснет на руках. До башни было вроде шагов сорок, но каждый шаг требовалось рассчитать и сначала опробовать, и Ваня карабкался невыносимо медленно. Внизу щерились отщепами трухлявые брёвна, торчали острые дощатые зубья — развалины острожных амбаров и служб; свалиться на них — всё равно что на вздыбленные вилы.
Засвистели, застучали стрелы. Они проносились над Ваней, втыкались в колья впереди и позади него, и Ваня как сучья обламывал те, что выросли у него поперёк пути. Толчок в бок качнул его — это стрела угодила в кольчугу. Пробить ржавое железо у неё не хватило разгона, однако удар был жёсткий, и наконечник глубоко кольнул тело. А потом другая стрела попала в плечо, третья — снова в бок. Ваня сгорбился, локтем прикрывая голову.
Маша стояла в проёме двери на боевой ход, крестила Ваню и шептала молитву. Ваня содрогался на мостках, как под плетью, но пробирался дальше, а Маша снова крестила его, будто штопала парус, и снова шептала молитву, словно её спасающая сила растрачивалась при каждом попадании.
Лучники находились слишком далеко от частокола, чтобы стрелы пробивали кольчугу, а приблизиться мешали развалины амбаров в бурьяне. Самые рьяные стрелки, охваченные жаждой победы, спешились и полезли на брёвна развалин, и тогда башня загремела пальбой. Ремезовы из ружей сшибали лучников, но вслед за подраненными и убитыми появлялись новые. Степняки разразились дружным воплем ликования, когда стрела вонзилась Ване в ногу. Ваня застыл, пережидая вспышку боли и ужаса, — и продолжил движение. Ещё одна стрела вонзилась ему в рёбра сквозь кольчугу, но Ваня всё равно не остановился и даже не помедлил. Издалека он казался степнякам каким-то бесчувственным насекомым, которое ползёт и ползёт, хотя его колют иголками. Башня грохотала, из её бойниц полз синий пороховой дым.
Ещё несколько шагов — и Ваня наконец ввалился в дверной проём на другом конце хода. У двери и в углу ещё сохранился пол, и Ваня без сил опустился на половицы. Ногу и бок разрывало от боли. Ваня потянулся и, не глядя, выдернул стрелы — из бедра и сзади из рёбер. Он едва не потерял сознание, но хлестнул себя по лицу и опомнился. Возиться с перевязкой ран у него не было времени. Пусть кровоточат. Есть дело поважнее.
На нижнем ярусе башни Ваню уже поджидали три степняка. Они еле протиснулись через завал, проваливаясь в какие-то расщелины и пустоты меж брёвен и досок, ломали что-то и грохотали хламом. Развернуться им было негде. Они кричали наверх по-монгольски:
— Ты, крыса! Покажись нам! Что ты там делаешь?
Ваня для них был недосягаем.
Еле ворочаясь, он на четвереньках принялся собирать щепки и всякий деревянный мусор и сгребать всё в кучу. Потом через дыру в кольчуге он вытащил из-за пазухи кремень, кресало и трут. Кремень высыпал ворох искр. Трут затлел. Ваня приложил к нему лучину и начал дуть. Лучина занялась. Ваня осторожно сунул её в растопку. Огонёк побежал по мусору, нырнул вглубь кучи, вынырнул обратно. Ваня прислонился спиной к стене.
Костёр разгорался. Пламя согревало Ваню, но ему показалось, что его согревает старая, дырявая и ржавая кольчуга. Она будто ожила и отдавала тепло, которое когда-то, давным-давно, впитала от Ермака. Ваня погладил кольчугу ладонью. Спасибо, родная. Ты не подвела. Спасла.
Передохнув, Ваня встал и опять принялся собирать дрова, наваливая на костёр всё, что мог сдвинуть с места. Огонь заплясал и затрещал, обретая мощь; он уже выплёскивался вверх по чернеющим брёвнам. Старая башня была просушена до звона, и пламя легко и жадно цеплялось к древесине, впитываясь и разрастаясь. Можно было подумать, что в прежде полутёмном углу яруса воздвигается огромный алтарь, всё увеличивающийся в высоту и в ширину. Внутри башни стало уже светлее, чем снаружи на солнце. Башня неудержимо превращалась в огромное горнило. Пора было уходить.
Ваня вывалился обратно на боевой ход, и его овеяло прохладой. Путь был известен, проверен, испытан. Ваня свирепыми рывками помчался по мосткам к башне Ремезовых, перехватываясь на зубцах частокола. Степняки внизу заорали, и стрелы опять засвистали вокруг головы и замолотили по брёвнам. Ваня уже не боялся. Пускай его утыкает как ежа — даже мёртвый, он успеет домчаться до своих. Он вернёт кольчугу. Ремезовы забабахали из ружей, отгоняя лучников, но и степняки тоже перестали бояться. Одна стрела вонзилась Ване в плечо, другая — в бедро, потом в спину, в бок и снова в спину. Последним прыжком Ваня вломился в дверь ремезовской башни и упал кому-то на руки — он уже не осознал, кому.
А те воины, что пытались подобраться к Ване, когда он разводил костёр, доложили нойону, зачем орыс лазал в башню. Цэрэн Дондоб был взбешён. Очевидно, что безумец в кольчуге хотел подать кому-то знак — и сумел исполнить свой дерзкий замысел! Неужели где-то рядом русское войско? Это досадно, это плохо! Впрочем, в этой заброшенной крепости вообще всё плохо! Он, победоносный воитель, проторчал здесь уже полдня, но ничего не смог добиться! Приступ отражён, а заветный Оргилуун по-прежнему в руках осаждённых упрямцев, которые и не помышляют сдаваться! Жаль, что он не взял с собой сюда, на Тургай, ни одной пушки. Тот иноземец, ямы-шевский перебежчик, в Лхасе стрелял с ловкостью док-шита. Если бы тот иноземец был здесь со своей пушкой, он выбил бы дверь в башню с первого выстрела, а десятком выстрелов развалил бы всю постройку. Но вместо пушки и пушкаря у нойона только жирный и трусливый доржинкитский зайсанг!
— Пускай твои люди снова выбивают дверь! — приказал нойон Онхудаю.
— Их осталось только трое! — возразил Онхудай.
— С тобой — четверо. Этого достаточно, чтобы поднять бревно.
— Я зайсанг! — надменно ответил Онхудай.
Ему очень не хотелось соваться под русские пули.
— Не заставляй моих воинов гнать тебя плетями.
Подожжённая башня уже пылала верхней половиной, будто огромный факел. Сухая древесина исторгала мало дыма, но всё же его хватило на полупрозрачный столб. Да и сама горящая башня была видна издалека — словно звезда, что упала с небосвода на землю и сияет неугасимо.
Онхудай и три его дайчина подняли из репейника уже приготовленное бревно, перехватили его поудобнее и тяжело побежали к ремезовской башне. Онхудай держал бревно с хвоста — ему казалось, что так безопаснее. Щёки его прыгали, а в глазах чернел смертный страх. Лучники подняли луки, но уже не спешили стрелять: запас стрел у них был не бесконечен. В бойницах ремезовской башни, густо обросших пернатыми кустами, замелькали тени, но ружья тоже не забабахали. Припасы для боя заканчивались и у русских. Из башни доносился какой-то стук, и он тревожил нойона.
Бурьян вокруг башни был истоптан. Валялись убитые — Басааун, Унур, Джаргал… Дайчины и Онхудай добежали до полуразбитой двери, из пролома которой высовывалось вверх бревно предыдущего тарана, и ударили в доски. Нойон издалека наблюдал, как люди Онхудая удар за ударом крушат вход.
— Сойдите с коней, — негромко крикнул нойон своим воинам. — Этот бой будет пешим. Готовьте копья и сабли. Когда дверь упадёт, вы должны прорваться в башню. Мне надоело глодать эту кость.
Дверь затрещала и провалилась внутрь. И тотчас внутренняя темнота башни озарилась выстрелами из ружей. Два степняка повалились, как мешки, выронив бревно, а третий, завизжав, в ужасе метнулся в сторону. Онхудай остался перед башней один. Он постоял, глядя в пролом, а затем повернулся и побежал к своим — словно толстый и нелепый ребёнок. В груди его чернела развороченная и опалённая дыра. Ноги его подкосились, он ничком упал в репейник и затих. Зайсанг Доржинкита был мёртв. Однако дверной проём как по колдовству снова замкнулся: брёвна брошенных таранов, будто змеи, быстро уползли в башню, а на косяк изнутри лёг прочный дощатый щит. Этот заслон и сколачивали Ремезовы, когда нойон слышал у русских какой-то стук. Доски для щита Леонтий отодрал от подмёта на нижнем ярусе, а Семён скрепил щит скобами, надёрганными из шатровой кровли.
Леонтий, Семён, Ерофей и Табберт стояли за щитом в полутьме клети и сжимали в руках сабли. Они были готовы к тому, что степняки в третий раз вышибут проход, и тогда начнётся бой на саблях и врукопашную. Наверное, этот бой будет уже последним. Ничего тут не изменить. Семён был спокоен: он успел прочесть покаянный канон, а на иное и надеяться не приходилось. Леонтий думал, как ему ловчее обрушить лестницу на ходовой ярус, чтобы лишить степняков доступа наверх; он гнал от себя мысли о Варваре и детях; Варвара — она поймёт, а Лёнька и Лёшка уже взрослые, помогут матери. Ерофей примерялся сразу свалить пару человек на пороге, чтобы загородить путь остальным; он злился, что утёк из гибельного транжемента на Ямыше, но угодил в ловушку здесь, на почти безопасном Тоболе. А Табберт не мог ничего с собой поделать — он с любопытством оглядывал лица товарищей, изучая, что чувствуют обречённые люди, и запоминая, как они ведут себя.
У защитников башни почти закончились заряды для ружей. На втором ярусе Семён Ульяныч, опираясь на палку, нависал над лестничным проёмом с топором, рассчитывая рубить степняков по головам. Ему было горько, но не за себя, а за сыновей и дочь — это ведь он вытащил их на погибель. А Маша держала ружьё, готовая стрелять. Два других ружья, тоже заряженные, были прислонены к стене рядом с ней. Четвёртое ружьё, пустое, валялось в стороне. Ваня, перемотанный тряпками, лежал на полу без сознания. Маша думала, что степняки убьют его быстро, и он не будет мучиться. Батюшку с братиками только жалко. И матушку. Но матушка далеко.
Нойон Цэрэн Дондоб догадался, что у русских иссяк запас пороха и пуль, иначе они стреляли бы по воинам, которые подъезжали к башне совсем близко. Но сдаваться русские всё равно не хотели. И нойон не понимал их бессмысленного упорства. Оно оскорбляло честь нойона. Русские не уважали его побед! Он брал дзонги в Тибете, покорил Лхасу с её высокими стенами и рвами, овладел неприступным дворцом Потала — но не смог взять не только земляную русскую крепость на Ямыше, но даже эту небольшую башню!
Радовало лишь то, что зайсанг Онхудай убит. И его убили враги, а не нойон, чему было полсотни свидетелей. Зайсанг теперь не угроза. Никакой глупец больше не осмелится открыто порочить нойона в глазах контайши Цэван-Рабдана. А волшебный Оргилуун… Что ж, с ним — как получится. Если Оргилуун предпочтёт погибнуть в огне, значит, такова его судьба. Оргилуун сам выбирает себе судьбу. Нойон больше не хотел терять своих воинов при новых приступах башни. Не для того его воины уцелели под стенами Лхасы и в сражениях с казахами. Они заслужили лёгкой победы.
От огромного костра по всему острогу веяло теплом.
— Принесите побольше дров и положите с той стороны башни, чтобы выход остался свободен, — Цэрэн Дондоб указал, куда складывать дрова. — Мы подожжём и эту башню. Если орысы выйдут, мы насадим их на копья. Если не выйдут, то сгорят. А если они выпрыгнут из окон на обрыв, мы встретим их внизу и всё равно перебьём. Боджигир, возьми воинов левой руки и ступай под обрыв поджидать беглецов. Нам пора завершить это дело.
Воины левой руки на конях потянулись из острога, довольные тем, что им не придётся заниматься работой слуг — сбором дров. Воины правой руки, спешившись, разошлись по развалинам, выворачивая из бурьяна, выламывая и отдирая всё, что может гореть. Нойон устало вздохнул. Он уже слишком стар, чтобы целый день проводить в седле, пускай даже седло такое удобное, как это — меж горбов Солонго. Щурясь, нойон посмотрел на горящую башню. Бегучий огонь окутывал её от подножия до остова шатра. Казалось, что это не башня, а огромный чёрный демон, который поднимался из-под земли, но был поражён молнией и воспламенился. Чёрное тело башни проглядывало сквозь сияющие покровы огня. Солнце трепетало в дрожащем воздухе пожара, багрово мерцало и меняло очертания, как лужа кипящего масла на раскалённой железной доске. Под боком другой башни, ремезовской, росла куча деревянных обломков, будто бы воины готовили погребальный костёр для великого хана, и каждый стремился угодить душе хана усердием.
— Достаточно! — наконец распорядился нойон. — Шуургчи, возьми огонь у той башни и перенеси к этой.
С длинной доской в руках, пылающей с одного конца, воин Шуургчи приблизился к куче дров под ремезовской башней, примеряясь, куда удобнее засунуть горящую тесину. Остальные воины смотрели на него в ожидании зрелища. И вдруг откуда-то грянул ружейный выстрел. Шуургчи упал, и железный шлем скатился с его головы. А потом отовсюду загремела пальба.
Занятые сбором дров степняки не заметили, что через поваленный частокол в острог тихонько пролезают русские мужики с ружьями в руках. Это были служилые полковника Васьки Чередова. Нанятый губернатором, Чере-дов собрал в Тобольске ватагу в три десятка бывших своих служилых. На двух дощаниках его отряд двинулся вверх по Тоболу, чтобы перехватить архитектона Ремезова: столичный поручик Шамордин сказал губернатору, что дерзкий архитектон поплыл бугровать. В каждой попутной слободе Ваське говорили: был здесь Ремезов, был, уплыл дальше. И Чередов забрался в самые верховья Тобола. Его суда засели на мелях Годуновского переката, и служилые увидели, что в заброшенном острожке внезапно сама собой загорелась башенка. Конечно, там запалили сполох — призыв о помощи.
Под выстрелами степняки бросились к лошадям, и кое-кто кувыркнулся в репейник. Служилые карабкались на развалины амбаров и осадных дворов и продолжали стрелять оттуда, недосягаемые для джунгарских луков и пик. Всадникам негде было развернуться среди бревенчатых руин; они теснились, сталкивались друг с другом и яростно вопили, а лошади путались ногами в бурьяне, испуганно ржали и норовили встать на дыбы. Ружейный грохот катался по острогу, звучно отшибаясь обратно из углов срубов. Убитые степняки валились с сёдел, волочились за стременами по густым зарослям, цеплялись и застревали где попало, и лошади рвались, не в силах сдвинуться с места. В суматохе никто и не вспомнил о поджоге. Русские ворвались в Лихой острог в самый неудобный для джунгар момент — половина их отряда покинула острожный холм и караулила под обрывом. И ещё в это же время с просторным гулом и оглушительным костяным треском начала рушиться горящая башня: столб искр освобождённо взмыл в небо, и тёмная туча пепла расползлась по руинам. Нойон потянул за поводья, разворачивая Солонго.
— Уходите! — крикнул он своим воинам.
Он испытывал одно лишь разочарование. Здесь не его мир. Его мир — бескрайняя степь от Далай-нура до Хва-лынского моря. Разве ему мало? Сюда его привело тщеславие — тщеславие ничтожного Онхудая, да и собственное тоже, увы. Пусть бешеные докшиты из северных лесов живут так, как хотят. У него достаточно мудрости, чтобы покинуть эту непокорную землю.
И воины увидели, как белая верблюдица понесла их предводителя во мгле над проваленными крышами и мимо пожарища прочь из западни.
Васька Чередов закинул ружьё за спину, перелез завал и подошёл к двери ремезовской башни, перекрытой дощатым заслоном. Васькина чёрная рожа, закопчённая и небритая, лоснилась от пота. Васька пнул в дверь.
— Тук-тук! — весело сказал он. — Кто в домике живёт?
Глава 9 «Аз воздам!»
Опираясь на палку, владыка Филофей наблюдал, как Пантила и отец Варнава загружают в лодку мешки с припасами. Лодка стояла на мелководье. От толчков корма её подрагивала, распуская по речной глади сверкающие кольца лёгких волн. Утренняя Конда туманилась. Тайга ещё не проснулась, не разлепилась. Низкое солнце золотило жухлые хвойные кровли рогатой деревни. Длинные долблёные лодки-калданки лежали у приплёска вверх днищами, словно костяные рыбины, и блестели от росы. Вогулы безропотно снабдили владыку всем необходимым для дальнего пути в Тобольск, лишь бы русские поскорее убрались из Балчар: два убитых князя! — такого в вогульских чашах уже сто лет не бывало… У владыки болели плечи и спина, гудели ноги: всё-таки странствия были ему уже не полетам. Но владыка не мог позволить себе отдыха. Где-то ниже по течению на берегу Конды ожидал товарищей Гриша Новицкий — один, раненый, в горячке. Надо было скорее подобрать его и везти в Тобольск к лекарям. Иначе Гришу не спасти.
Емельян не помогал Пантиле и отцу Варнаве. Пусть вогулы и потеряли своих коварных князей, Емельян им всё равно не доверял, и владыка его не переубедил. Емельян стоял возле Филофея, небрежно положив ладонь на рукоять сабли, и напоказ зевал, однако был готов в любой миг отразить нападение, а потом сгрести владыку, бросить в лодку и умчаться по реке. Впрочем, нападать было некому. Вогулы не провожали русских. На берег явились только два парня — Покачей и Епарка — и воин Ванго, который привёл Айкони. Покачей и Епарка держали вёсла: они согласились плыть с владыкой. А Ванго пообещал отправиться в Ваентур и рассказать обо всём Кирьяну Палычу Кондаурову. Пускай Кирьян Палыч забирает служилых, пришедших с Ен-Пу-гола, ищет дощаник, оставленный на Конде где-то между Балчарами и Ваентуром, и возвращается в Тобольск самостоятельно.
— Спасибо за помощь, Ванго, — сказал Филофей вогульскому витязю.
Ванго ответил взглядом, полным ненависти.
— Я не помощь, — ответил он глухо и неохотно. — Вам уйти быстрей от нас. Манси в Тоболеска смотреть на её смерть.
Он указал пальцем на Айкони.
Связанная Айкони сидела в траве. Оборванная и растрёпанная, она казалась истерзанным чертёнком. Ветерок шевелил её замусоренные космы. Узоры на уламе, намотанной вокруг пояса, от грязи были еле различимы.
Ночью Ванго беспощадно избил Айкони; он и вовсе убил бы её за Сатыгу, но Пантила и Емельян сумели отнять девчонку. Пантила сказал, что русские в Тобольске сами казнят Айкони, и только поэтому вогулы отдали её владыке. Однако Ванго послал с владыкой Епарку и По-качея. Ванго приказал им дождаться казни остячки, а потом снять с её головы кожу с волосами. Эту кожу Ванго хотел приколотить над входом в дом Сатыги. Столетие назад, во времена таёжного непокорства, вогулы славились тем, что обдирали головы своих поверженных врагов, и Ванго не забыл этого свирепого обычая.
Пантила расспросил Айкони и узнал, что она сбежала от Новицкого ещё на ручье Вор-сяхыл-союм. Она не тронула Гришу — просто бросила его. Значит, Новицкий встретит владыку там, где и условились: под Упи-горой. Хорошо, что Гриша жив. И плохо, что он воссоединится со своей дикой возлюбленной. Владыка понимал, что эта любовь — проклятие для Гриши.
Филофей рассматривал Айкони. Она не вызывала никаких иных чувств, кроме бесконечной жалости. Разве она враг? Разве она дьявол? Судьба была к ней непомерно жестока, и девчонка закостенела в язычестве. Даже добрый Гриша не сумел поколебать её упорства. И как же поступить? Гриша может выжить после своих ран, но не выживет, если его кохану казнят. Что владыке дороже: жизнь Гриши или возмездие для язычницы? Конечно, жизнь Гриши. Господь сказал: «Мне отмщение, и аз воздам». Пусть Господь и воздаёт, а он, владыка Филофей, должен спасти девку. Он покрестит её против воли. Это неправильно, однако иначе ему не вымолить у князя Гагарина прощения для лиходейки. А потом девку можно отослать в какую-либо дальнюю обитель, скажем, в Туруханск, где ново-крещенов принимают в крепость и делают монастырскими работниками. Без сомнения, Гриша уедет вслед за своей остячкой. Горько расставаться с Гришей. Но так будет лучше.
Емельян помог владыке забраться в лодку, а Пантила усадил Айкони. Покачей и Епарка столкнули калданку с отмели и запрыгнули в нос. Четыре весла разбили гладь воды. Лодка скользнула прочь от рогатой деревни.
В это время в десяти верстах от Балчар на берег Конды под Упи-горой, шлёпая по руслу ручья, выбрался Григорий Ильич. Ноги его заплетались, он то и дело падал. Одежда его превратилась в лохмотья, он потерял один башмак, зато поверх камзола напялил рваную и ржавую кольчугу Ике-Нуми-Хаума. По спине Новицкого, чуя под кольчугой гниющую рану, ползали мухи; штанина на вздутом бедре пропиталась бурой сукровицей. Григорий Ильич уже не понимал, где он. В Батурине в хоромах Мазепы? В Варшаве при дворе короля Августа? В Тобольске в своём убогом домишке? Или на дощанике владыки посреди Оби?.. И почему вокруг всё так странно? В гнойнобелом небе с шипеньем ворочается зыбкое солнце, похожее на клубок змей. Деревья шевелятся, вытягивают ветви, срамно ощупывают друг друга, оплывают вниз, как восковые свечи, и тотчас отрастают обратно. Обомшелые валежины ползут поперёк пути, будто сказочные звери крокодилы. Упи-гора вздымается огромным нарывом и мелко дрожит. А по Конде течёт бурое тесто, усыпанное кровавыми звёздами. Смрадный ветер облизывает лицо.
— Почекай, почекай, Аконя, я зараз прыйду и врятую тэбэ, звыльню, — бормотал Новицкий. — Сам пыду з тобою навики в дрэмучу гущавину…
Григорий Ильич запнулся и полетел в воду, окунувшись с головой. Холодная вода вернула его в чувство. Тайга позеленела, небо посинело, река заблестела, только белое солнце осталось шипящим клубком змей. А на коряге возле Григория Ильича сидела Хомани в бухарском платье куйлак и в шароварчиках лозим. Волосы у неё были заплетены во множество косичек.
— Гириша! — ласково позвала она.
— Аконя? — вскинулся Новицкий, просияв.
Он стоял в воде на четвереньках.
— Я Хомани.
— Хоманя… — разочарованно угас он.
Он начал подниматься. С рукояти сабли свисала какая-то водоросль.
— Я скучать тебе, Гириша, — жалобно сказала Хомани.
Григорий Ильич уже потерял к ней интерес.
— Я поспышаю, Хоманя, поспышаю… — отцепляя водоросль, пояснил он. — Мэнэ трэба врятуваты твою сэстру…
— Я знать, Гириша, — согласно закивала Хомани.
— Колы владыко зловыв ие, трапытся быда… — Григорий Ильич говорил уже сам себе, направляясь вверх по течению. — Якщо вона нэ приймэт хрещення, ие у Тобо-лэску и страчують смэрттю. А якщо вона приймэ, то помрэ моя любов. Я спасыння моэ любовы, Хоманя…
Хомани уже стояла на берегу в осоке, и он, бултыхая, прошёл мимо.
— Иди, мой князь! — вслед ему сказала Хомани.
— Прощай, Хоманя, — не оглядываясь, бросил Новицкий.
— Не прощай! — крикнула сзади Хомани. — Я скоро обнять тебя, Гириша!
Тропы вдоль берега не было, и Григорий Ильич лез через густую траву, карабкался по обмытым корягам, принесённым паводком, или перебирался через упавшие деревья, отчаянно ломился сквозь кусты или брёл по воде — то по колено, то по пояс. Его мысли заняло одно всепоглощающее желание: бежать с Айкони в тайгу. Тайга укроет их обоих. Никто не сможет спасти Айкони — одна лишь тайга сможет. А ему больше ничего не нужно от этого мира: не нужны люди, не нужно своё дело, не нужен Христос. Он, бывший полковник Григорий Новицкий, невыносимо устал. Страдания источили его сердце. Душа изнемогла в усилиях многолетней борьбы. И теперь он бросит всё. Надо только забрать
Айкони. Отнять её у владыки Филофея. Воля тайги, которая теперь стала его собственной волей, приведёт его к владыке. Айкони победила. Не он перетянул её к себе, а она перетянула его на свою сторону: от Христа — к лесным демонам. И ладно. Лишь бы с ней. Лишь бы с ней. Айкони — его солнце и его луна, его земной круг и небесный свод.
— Я бижу до тэбэ, Аконя… — твердил он, обращаясь к Айкони. — Я тэбэ нэ залышу… Заощадыту… Я повынэн встыгнути…
Он шёл и шёл в бреду по краю таёжной реки, утратив и разум, и душу, и не ощущал, что жизнь в нём догорает. Его вёл чужой приказ, овладевший помрачённым сознанием. И остановить его могла только смерть.
А лодка владыки стремительно двигалась по Конде навстречу Григорию Ильичу. Четыре гребца дружно махали вёслами. Владыка не хотел терять время, но к полудню выяснилось, что калданка протекает. Видимо, её пересушили на солнце, и днище треснуло. Лодку требовалось починить.
На берегу подвернулась небольшая поляна. Емельян разжёг костёр и подвесил котелок. Епарка и Покачей пошли в лес собирать смолу-живицу. Пантила перевернул долблёнку, отыскал щель и оторвал от рубахи полосу, чтобы извалять её в смоле. Он рассчитывал остриём ножа запихать ткань в трещину и замазать поверху живицей — до ночлега этого хватит. А ночью он сварит рыбий клей и к утру починит лодку так, как следует.
Владыка задремал на припёке. Отец Варнава помешивал в котелке оструганной палочкой. Емельян с треском ломал дрова. Айкони сидела поодаль, связанная по рукам и ногам. У неё болели сломанные рёбра и отбитый живот, но боль не возвращала ей ощущения жизни. Это не жизнь. Это не люди вокруг, не Конда, не солнце. Это что-то другое, ненастоящее, потому что оно — из того мира, где Нахрач умер, а он не может умереть, то есть умереть совсем, без остатка, без призрака. Нахрач как-то жив. Он где-то в тайге. А в землю на окраине рогатой деревни закопали никому не нужную корявую колоду, а вовсе не Нахрача. Если убежать в тайгу, то она, Айкони, снова встретит Нахрача. Пускай даже мёртвого, как мертва Хомани, но всё равно такого Нахрача, который ходит, говорит, ничего не боится и всё умеет. Айкони зажмуривалась и напрягала душу, пытаясь силой мысли порвать тонкую преграду и вывалиться в мир, где мертвецы живы, где нет русских, где существуют только леса и болота, люди тайги и боги тайги.
Мимо Айкони прошли Епарка и Покачей. Они принесли Пантиле живицу, срезанную с кедров и намазанную на берестяные лоскуты.
— Емелян Демьяныч, пособи, — позвал Пантила.
Оба они, Пантила и Емельян, занялись лодкой, а Епарка и Покачей сели у костра неподалёку от Айкони.
— Епарка, Покачей, — негромко окликнула Айкони по-мансийски. — Отпустите меня. Разрежьте мои верёвки.
Вогулы хмуро покосились на неё.
— Ванго велел охранять тебя, — ответил Покачей.
— Ванго вам не князь.
— Князь был Сатыга. Ты его убила.
— Я мстила за Нахрача! — гневно выдохнула Айкони.
— Ты не из рода Евплоев, — сказал Епарка. — Ты не могла мстить.
— Я ему жена! Нуми-Торум хотел, чтобы Сатыга умер!
— Никто не знает, чего хотят боги, — угрюмо возразил Покачей.
— Я знаю! — Айкони прожигала вогулов взглядом. — Боги говорят со мной через мою уламу! Возьмите её у меня и спросите сами, чего они хотят!
Емельян, услышав голоса, оглянулся от лодки.
— Эй, вы! — прикрикнул он на вогулов. — Неча с ней кулдычить!
Епарка и Покачей отвернулись от Айкони, но Айкони почувствовала, что смутила их. Они трое были отсюда, из тайги, а русские — чужаки. И любой человек в Балчарах, даже Ванго, понимал, что Сатыга убил На-храча подло, и девка Нахрача отомстила Сатыге справедливо. Почему же девку надо казнить? Потому что так хотят русские?
— Мы ходить ещё за дрова, — сообщил Емельяну Покачей.
Он поднялся на ноги, и Епарка тоже поднялся. Проходя мимо Айкони, Покачей незаметно наклонился и сдёрнул с неё уламу.
Покачей и Епарка друг за другом пробирались вдоль Концы — им был нужен ветерок с реки. Когда деревья и кусты надёжно скрыли их от русских, они остановились. Покачей встряхнул уламу, расправляя, и набросил на ближайшую маленькую ёлочку. Улама повисла на ветвях. Вогулы ждали.
— Я ничего не вижу, — сказал Епарка.
Ветерок потянул посильнее, деревья зашумели, и улама зашевелилась. По ней побежали складки — и вдруг сложились в подобие человеческого лица. Дух мертвеца смотрел с уламы на вогулов, словно оценивал их.
— Это Нахрач? — шёпотом спросил Епарка, чуть отступая.
— Две зимы назад Нахрач дал мне целого глухаря, — боязливо ответил Покачей. — Нахрач меня любил. Он не будет говорить мне плохое!
Колеблющийся, непрочный лик на уламе приоткрыл рот. Не сводя взгляда с уламы, Покачей тоже открыл рот, повторяя движения губ.
— Что он говорит? — заволновался Епарка.
Порыв ветра стёр демона с уламы, перемешав складки.
— Он сказал, чтобы мы уходили! — потрясённо признался Покачей.
— Ванго будет очень зол.
— Дух приказал нам уходить! — повторил Покачей. — Я видел это сам! Я не хочу спорить с духом!
— Никто не хочет спорить с духами, — согласился Епарка, напуганный смятением товарища. — Уйдём прямо сейчас. Вечером мы уже будем дома.
— Пусть Ванго сам плывёт в Тобольск за волосами! — с отчаянной, но непреклонной решимостью сказал Покачей.
На поляне Айкони наблюдала, как Пантила и Емельян спускают лодку на реку и проверяют, держит ли воду смоляная конопатка. Айкони понимала, что калданка повезёт её на смерть, и смотрела на неё как на плаху. Она очень надеялась, что Покачей и Епарка сейчас вернутся и тотчас разрежут на ней верёвки. Тогда она побежит в тайгу, и никто её уже не поймает.
Кусты закачались — кто-то там шёл, и на поляну вместо вогулов вдруг вывалился Новицкий. Никто его сразу и не узнал. Он припадал на одну ногу и двигался кособоко, словно окривевший медведь. Ржавая кольчуга казалась лишайником, будто Григорий Ильич оброс, как мёртвое дерево. Чёрно-седая щетина превратила его лицо в звериную морду. Ввалившиеся глаза глядели из ям с такой тоской, с таким нечеловеческим отчуждением, что этот взгляд уже никто не смог бы выдержать. Даже серьгу Новицкому где-то оборвало, и по шее текла кровь из разодранного уха. Григорий Ильич держал в руке саблю — саблей он прорубал себе дорогу в зарослях.
— Григорий! — изумлённо охнул отец Варнава.
Владыка распрямился, тревожно всматриваясь в Новицкого.
Пантила и Емельян поспешили от реки на поляну.
— Гриша, ты кольчугу отыскал? — ещё издалека крикнул Пантила.
Новицкий не ответил ему, даже не услышал его вопроса. Покачиваясь, он остановился напротив владыки.
— Ты ли это, Григорий Ильич? — тихо спросил Филофей.
Новицкий направил дрожащий конец сабли на Айкони, и Айкони сразу заёрзала, в ужасе отползая назад.
— Володыка, я Аконю з собою забраты, — прохрипел Новицкий и перевёл конец сабли на калданку. — И чо-лон тэж забраты.
— Опомнись! — строго и твёрдо ответил владыка.
Новицкий жалко усмехнулся, полез к горлу и вытянул из-под кольчуги гайтан с нательным крестом. Рывком оборвав крест, Новицкий прижал его к воспалённым губам, а потом наклонился и положил к ногам владыки.
— Тобы выддаю, — сказал он. — Выдтэпэр сэбэ с Хрыстом розлучаэ.
Владыка, не веря, покачал головой:
— Не ты говоришь!
— Нэмаэ боле полховныка Хрыхорья Новыцкохо, владыко, — с горечью произнёс Новицкий. — Я ужо нэ вон. Аконю забраты, и ийдэ.
— А кто тебе её отдаст? — вдруг дерзко и громко спросил Емельян.
В руке Емельяна тоже была сабля.
— А хто мэны ей взяты помэшаэ? — развернулся Новицкий. — Ты?
— Знамо, я, — нагло оскалился Емельян.
— Не надобно того, Емельян Демьяныч, — попросил владыка.
— Лучше помолись за него, отче! — ухмыляясь, посоветовал Емельян.
Новицкий и Емельян закружились друг вокруг друга, выставив сабли и примеряясь для нападения. Даже на вид Новицкий уже проигрывал Емельяну — хромой, неуклюжий, какой-то растопыренный, как птица со сломанным крылом. А Емельян был ладным и крепко сбитым. Он ловко прокрутил саблю через ладонь, устрашая противника. Ему было весело.
— Эх, Гришаня, как тебя немочь-то развалила, — недобро подзуживал он. — Краше в гроб кладут!
Новицкий атаковал, и Емельян гибко отклонился, уходя из-под клинка.
— Григорий, в тебе бес! — вставая во весь рост, крикнул владыка.
— Бросай сабельку! — не унимался Емельян.
Новицкий снова атаковал. Сабли встретились с хищным шелестящим звоном, замелькали и засверкали. Емельян явно испытывал Новицкого, а у Григория Ильича на губах появилась пена. Отец Варнава беззвучно шептал молитву. Айкони смотрела как заворожённая. Движения сражающихся будто отзеркаливали друг друга в обратных разворотах, и было страшно от той ярости, что наполняла упругой силой плечи и локти соперников. Защиту сменяли натиски; клинки описывали блистающие дуги или на миг застывали в скрещении пылающими звёздами; рассечённый воздух свистел. Новицкий бился не в шутку, и Емельян озверел и заледенел, когда почуял это.
— Не надо, Емеля! — упрашивал Пантила, мечась за спиной Емельяна. — У Гриши Ермакова кольчуга!..
— Труха, а не доспех! — прорычал Емельян и в выпаде рубанул Новицкого поперёк груди.
Сабля Емельяна звякнула о ржавое железо кольчуги и лопнула пополам. Григорий Ильич тотчас скользящим ударом умело полоснул Емельяна по открытой и подставленной шее — и отскочил. С его клинка падали в траву раскалённые алые капли. Емельян замер, зажимая ладонью страшную и смертельную рану — меж пальцев вскипела кровь, — и потом упал на колени, стискивая бесполезный обломок сабли. Владыка, Пантила и отец Варнава не могли оторвать взглядов от Емельяна. Служилый рухнул лицом вниз.
— Господи!.. — простонал отец Варнава.
А Новицкий уже держал Айкони за шкирку, будто щенка. Никто не успел заметить, как он схватил её, как разрезал путы на ногах и руках.
— Что же ты, Гриша?.. — беспомощно прошептал владыка.
— Я не Хрыша! — чужим утробным голосом ответил Новицкий. — Прощай, володыко!
Он потащил Айкони к берегу, ногой столкнул калдан-ку на воду, бросил в неё свою пленницу, подобрал весло и запрыгнул сам. Не оглядываясь, он мощно загрёб, и лодка полетела по реке.
День был прекрасный. В высоте сияло солнце, мягко сверкала вода, и плотная и густая тайга по обоим берегам дышала пьянящей свежестью хвои. Поляна исчезла за поворотом, дым от костра растворился в синеве, и всё вокруг истекало медовым зноем, однако Айкони колотило, точно от холода. Новицкий мощно орудовал веслом, будто исцелился и помолодел, и на каждый его толчок нос калданки журчал, взрывая волну. Григорий Ильич говорил, не умолкая, подобно счастливому жениху, что украл невесту:
— Бачишь, як добрэ, кохана моя? Ты врятована! Воля навколо! Я з тобою!.. Ми разом пыдэмо далэко-далэко в лисовыще. Будэ жыти яко муж и жинка… Будэмо щас-лывы! Нам ныхто не завадыть, не потрывожить… Тильки ти йи я, навыть боха нам нэ трэба! У нас все життя попэ-рэду!..
Айкони смотрела на Григория Ильича расширенными глазами. Слов она не понимала, но их смысл ей был ясен. Новицкий пел, как птица. А на дне калданки валялась окровавленная сабля. Мохнатое, звериное лицо Новицкого было заляпано высохшей пеной. В глазах клубился багровый дым. И ржавая кольчуга словно приросла к телу, как заскорузлая кора.
Айкони сидела в носу лодки, цепляясь за борта. Между нею и Новицким прежде всегда стоял русский бог — это он не позволял им соединиться. А теперь русского бога не стало. И без него Айкони так боялась Новицкого, как не боялась никаких демонов в ночной тайге и даже Когтистого Старика.
Айкони закачалась с боку на бок, будто завыла, но не голосом, а всем телом, и потом отчаянным рывком перевернула калданку. Оба они — Айкони и Новицкий — рухнули в воду. Айкони вынырнула первой. Она изо всех сил сразу отпихнула лодку, плывущую вверх деревянным днищем, чтобы Новицкий не вцепился в борт, пытаясь удержаться. Новицкий тоже вынырнул, замолотил руками и ногами, забултыхался, бешено захрипел, в поисках спасения бросаясь то к Айкони, то к удаляющейся лодке, и наконец погрузился с головой. Вода забурлила над тем местом, где он исчез, и Айкони увидела, как в тёмной толще реки растворяется чёрная тень человека.
И Айкони сажёнками понеслась к берегу. Теперь она была свободна. Только об этом она и молила всех таёжных богов.
А Григорий Ильич ещё бился, однако на его плечах висела кольчуга — проклятая кольчуга, которая когда-то уже утянула Ермака в пучину. Измученный и больной, окованный тяжестью железа, Новицкий уже никак не мог вытолкнуть себя наверх. Он медленно опустился в глубину и вдруг почувствовал, что ноги его коснулись зыбкого илистого дна. Всё вокруг было серебристым и жемчужным, и повсюду стремительно взлетали цепочки крохотных пузырьков. Григорий Ильич встал на дно, взмахнул руками и, поднимая бурую муть, сделал невесомый шаг в ту сторону, где должен был находиться берег, а потом сделал и другой шаг, и третий. Он побрёл по дну, наклоняясь вперёд, чтобы преодолеть сопротивление воды. Но из сумрака перед ним русалочьей синевой внезапно осветилась подводная девушка с распущенными волосами, колыхающимися вокруг головы, словно облако.
— А-о-а? — без воздуха спросил её Григорий Ильич.
— Я не Айкони, я твоя Хомани, мой князь, — улыбаясь, ответила девушка.
И Хомани наконец обняла его так крепко, как давно мечтала обнять.
Глава 10 Покидая губернию
— Настоечкой не побрезгуешь? — лукаво спросил Матвей Петрович.
— Когда солдат от чарки отказывался? — широко улыбнулся служивый.
Матвей Петрович кивнул Капитону, стоящему у дверей в кабинет.
— Как звать-то по батюшке?.. — Матвей Петрович смотрел на столичного майора уже почти влюблённо — как на дорогого и долгожданного гостя.
— Иван Михалыч.
— Будь как дома, Иван Михалыч.
Капитон поставил на стол поднос с кувшином и серебряными чарками.
Майор Лихарев прибыл ещё вчера, и Матвей Петрович дал ему день на обустройство. Майор не отказался от жилья, приготовленного губернатором, и у Матвея Петровича отлегло от сердца. Похоже, с этим офицеришкой он сговорится по-хорошему. Разносолы, банька, баба, осенняя ярмарка, тугой кошель в подарок — и низкий поклон очередной розыскной команде.
Майор охотно выпивал и охотно закусывал, с одобрением разглядывал кабинет князя Гагарина. Он был из гвардии, можно сказать, прямо с войны, и Матвей Петрович решил, что сей долдон ничего не смыслит в бумагах.
— До тебя тут поручик Шамордин шнырял, — дружески сказал Матвей Петрович, — только на Троицу уехал. Всякой приблудной козе под хвост заглянул, а не выдал мне, чего нашёл.
— По мелочам, — пренебрежительно поморщился Лихарев.
— Выходит, не по его дознанию твоя комиссия?
— Его лыко тоже в строку. Но зуб на тебя у обер-фи-скала Нестерова.
— Это тигор прожорливый, — вздохнув, согласился Матвей Петрович. — А он за какой мой карман уцепился?
— Мне того не ведомо. Я же не фискал.
— А кто же ты? — удивился Матвей Петрович.
Лихарев рассказал. Оказывается, доверие государя к фискалам изрядно пошатнулось. Слишком много доносов на них летело в Сенат. Да и господа сенаторы, немало изнурившие казну, назойливо жужжали Петру Лексеичу, что все фискалы — сучьи прохвосты и об-лыжники. И государь придумал новую каверзу против повреждений государственного интереса: майорские комиссии. Оных было шесть. Отчитывались они уже не Сенату, а самому царю. Возглавили их презусы из майоров гвардии; у презусов подручными были асессоры, тоже гвардейские офицеры. Пётр Лексеич своей рукой вручил презусам списки дел, которые желал иметь в немедленном расследовании. Дело губернатора Гагарина, заявленное поганцем Лёшкой Нестеровым, принял презус Иван Иваныч — майор Дмитриев-Мамонов. Асессором при нём и служил майор Иван Михалыч Лихарев.
Гагарин слушал и похохатывал, делая вид, что восхищается новой забавой государя, но ему было невесело. Царь сыграл коварно. Фискалами двигала жажда поживы, и потому их можно было купить. А что двигало офицерами гвардии? Пока царедворцы в безопасности потрошили казну, шкуры офицеров дырявила картечь, шведская и турецкая. И теперь офицеры хотели, чтобы царедворцы тоже расплатились своими шкурами. Офицеров взяткой было не унять. Впрочем, и Нестерова Матвей Петрович тоже не унял взяткой: Нестеров взял деньги — и всё равно дал делу ход. Найденная им дыра в сорок тыщ снова аукнулась Матвею Петровичу. А ведь Бухгольц, из экономии которого пропали эти деньги, сейчас в Петербурхе. Что он напоёт там Петру Лексеичу, оправдывая провал похода на Яркенд?.. Ох, не прост Лихарев. Только корчит дурачка, а у самого глаза как буравчики. И ведь ничего не открыл ни про донос Нестерова, ни про дознание Ша-мордина!
Истинное мурло майора Лихарева проявилось на осенней ярмарке в Гостином дворе. Матвей Петрович отправил с майором Ефимку Дитмера, чтобы тот подмечал, чего майору понравится: чернобурки? песцы? голубые росомахи? Лучший мех промысловики брали зимой перед оттепелями, но Вознесенская ярмарка была богаче и весенних, и летних торжищ, потому что приказчики успевали свезти в Тобольск пушнину со всех околиц Сибири. Пред изобильным меховым разноцветьем Вознесенской ярмарки рушились и не такие столпы праведности, как Лихарев. Примет майор хоть хвосточек в подарок — и всё: коготок увяз — птичке пропасть.
Лихарев восхищённо перебирал сорока, щупал шкурки.
— Не желаете ли приобрести какой товар? — вежливо поинтересовался Дитмер, ожидая, что Лихарев помнётся для приличия и соблазнится.
— На такую красу жалованьем не обеспечен, — вздохнул майор.
— Господин губернатор будет рад выказать благодар-ствие приношением.
— За что благодарствие? — хитро прищурился Лихарев.
— За… э-э… — растерялся Дитмер.
— А твоё жалованье, господин секлетарь, ещё помене моего выходит, — Лихарев глядел Дитмеру прямо в глаза. — Ты ж военнопленный и ссыльный. А у тебя на Нижнем посаде барские хоромы в два яруса, четверо холопов в услужении и две тройки выездных с бубенцами. С каких трудов разжился?
Но Дитмер уже овладел собой и вернул безмятежный вид.
— Воспомошествование от родни, — пояснил он.
— Врёшь. Я у графа Пипера реестр стребовал, кому из вас какие векселя выписаны. Шиш чего тебе посылали. Мошенствуешь с губернатором?
— По всем делам ответ могу держать, — с достоинством ответил Дитмер.
— Ужели по всем? — ухмыльнулся Лихарев. — Поведаешь, как казну пушную чистили? Как взятки за откупы брали? Как на корчмах богатели? Как на таможне обдирали? Как в китайские караваны залезли погреться?
— Чего не имело места, того не могу рассказать, господин майор, — чуть улыбнувшись, с лёгким превосходством произнёс Дитмер. — А чего было — изложу в подробности или экстрактом.
— Да всё ясно с тобой, — отступился Лихарев. — Рука руку моет. Когда нашарю корешок, тогда и подтяну тебя, шельма. Ты не беспокойся.
В тот же день Дитмер сообщил о случившемся Матвею Петровичу.
— Ох, змей подколодный!.. — изумился Гагарин. — Прополз за пазуху!.. Вспоминай, Ефимка, за что он меня ухватить может?
— Ваши бумаги в полном порядке, господин губернатор. Я следил.
Но Лихарева бумаги не интересовали. В бумагах губернатора Гагарина уже увяз фискал Нестеров, который откопал только растрату в сорок тыщ, да и то у Бухгольца — до военной канцелярии губернатор не сумел добраться. Майора Лихарева прежде всего интересовали люди. Правду о воровстве надо было вытряхивать из людей, а не из бумаг. Если бы обер-фискал Нестеров не чванился своим взлётом из грязи в князи и снизошёл бы до тех, кого прижал губернатор, то давно бы уже ущучил Гагарина.
Однако сибиряки оказались тугими на выдачу.
Лихарев вытаскивал из канцелярии какого-нибудь копииста.
— Давно в службе, Потапов?
— Восемь годочков, господин майор, — кланялся копиист.
— Говори, какие перешкоды за Гагариным видел. Знаю, что было.
— Христом-богом, Иван Михалыч! — принимался плакать копиист. — Я человек маленький, подневольный! Что скажут — то и пишу!
— Тебя, Потапов, и не виню. А выдашь Гагарина — награжу!
— Рад бы услужить, господин майор, да ничего не ведаю! — клялся копиист. — Матвей-то Петрович нам всем отец родной, сто лет ему здравия! Мухи не обидит, копейки не возьмёт! Ангел!
Лихарев в досаде плевал канцеляристу на башмаки.
Не лучше складывались разговоры и с купцами на Гостином дворе.
— Ты почто губернаторские поборы прячешь, борода базарная? — напирал майор на какого-нибудь толстобрюхого торгаша. — Гагарин у тебя же из-за щеки кусок вытаскивал! Твоё кровное отнимал!
— Не случалось от Матвей-Петровича поборов, государь! — уверял купец и широко крестился на образ в кивоте. — Бывало, занесёшь ему соболька на воротник жене — и всё! Ну так то от всей души, в почесть, оно не грех!
Губернатора выгораживали даже инородцы.
— С вашей бухарской нации небось немало Гагарин берёт? — спрашивал Лихарев у саркора Асфандияра, который принял лавки Ходжи Касыма.
— Мы премного благодарны господину губернатору, мой государь, — прижимая ладони к груди, отвечал Ас-фандияр. — Он с нами справедлив и милостив, Аллах свидетель. Нам не о чем сокрушаться под его волей.
Особые надежды майор Лихарев возлагал на берёзов-ского коменданта Толбузина. Толбузин сидел на своём доходном месте ещё с воеводских времён, а воеводы — первые воры, они все ходы-выходы знают. И майору было ясно, что в пушном лихоимстве комендант — правая рука губернатора.
Агапошку Толбузина майор Лихарев отловил на ярмарке.
— Хочешь место сохранить — сказывай про Гагарина, — пригрозил майор.
— За глотку он нас, комендантов, держит! — выпучив глаза, сообщил Толбузин и сам себя схватил за горло для убедительности. — Хрипим, как псы в ошейниках! И рады бы сунуть ему чего-нито, да он от мзды отрекается! Поневоле честными ходим! Я тебе как сыну говорю!
— Ты и вор, илжец! — рявкнул на Толбузина Лихарев и в сердцах сбил бобровую шапку с башки коменданта.
Матвею Петровичу доносили обо всех делах Лихарева. Матвей Петрович только злорадно ухмылялся: по-клюй-покудахчи, царский петушок.
Но Лихарев и не думал сдаваться. Он решил зайти на губернатора со стороны пленных шведов. Его весьма удивило, что шведы в Тобольске, оказывается, учредили свою школу, в которой учатся и русские отроки, а при школе завели аптеку. Может, это и поколебало бы веру майора в необходимость покарать губернатора, но Лихарев был офицером, для которого шведы — враги. А ольдерман фон Врех, желая произвести на майора благоприятное впечатление, напялил капитанский мундир. Увидев синий камзол с галунами и плетёными бранденбурами, шпагу, пышный бант на груди ольдермана, расчёсанный парик и треуголку, майор Лихарев вспомнил только поле под Полтавой и стройные ряды неприятельских фузелёров.
— Вы понимаете по-русски, господин капитан? — холодно спросил он.
— О, да, господин майор! — просиял румяный фон Врех.
— Имеете ли неудовольствие от губернатора?
Фон Врех имел только удовольствие.
— О, нет, господин майор! — горячо заверил он. — Господин губернатор есть наш добрый друг. Он дать работа, жительство, почта, помощчь от денег!
Лихарев услышал то, что хотел услышать.
— Губернатор давал вам деньги?
— Да, так! — кивнул фон Врех. — Много раз. Без… э-э… принести назад.
— Свои деньги или от казны?
— Не иметь знать, господин майор.
— Распишите мне на бумаге, каковы и когда были гагаринские взносы, — сухо потребовал Лихарев.
— Йависст! — с готовностью ответил фон Врех. — Исполнить непременно!
— Кто-нибудь из ваших состоял с губернатором в деловых отношениях? — на всякий случай спросил Лихарев. — Кроме секлетаря, разумеется.
— Губернатор иметь дело по стройке домов к лейтенанту Сванте Инборг, но бедный Инборг погибнуть. И дело иметь к капитану фон Страленберг.
Лихарев отыскал фон Страленберга — Филиппа Юха-на Табберта.
— Можете ли показать на злоумышления губернатора? — спросил майор.
Табберту польстило, что к нему обращаются за содействием.
— Я верить, господин майор, что князь Гагарин есть хитрей и похититель казны, — сообщил Табберт, улыбаясь Лихареву как единомышленник. — Его наказание иметь большой польза на здоровье государства.
— К делу, господин капитан, — попросил Лихарев.
Табберт задумался. Книга, которую он замыслил, непременно привлекла бы к себе внимание европейских дипломатов, если бы содержала указание на какую-ли-бо изощрённую политическую интригу. Организовать интригу он, Табберт, конечно, не мог, но мог создать видимость её существования.
— Я полагать, что губернатор Гагарин желать собственной державы, произведённой из Сибири, — сказал Табберт.
Лихарев в недоумении поднял брови.
— Князь Гагарин есть потомство Рьюрик, — пояснил Табберт, — а Сибирь иметь в себе всё желанное для отдельности.
— Сие бредни, господин капитан, — строго ответил Лихарев.
Дослушивать этого выдумщика он не стал.
Матвей Петрович издалека внимательно наблюдал за усилиями рьяного майора. Душу князя Гагарина тешила верность друзей, точнее, подельников, но куда больше согревала верность врагов, то есть соперников, — тех, кого он утеснил. Если даже враги не хотят его погибели, значит, он хороший хозяин.
Однако беда пришла оттуда, откуда он не ждал. Евдокия Степановна, супруга, прислала из столицы письмецо. После долгого перечисления всех, кто передавал поклон, и столь же долгого повествования о делах домашних, Евдокия Степановна написала, что Дашка, дочь, а ныне графита Головкина, в доме свёкра, канцлера Гаврилы Иваныча, подслушала, как Гаврила Иваныч поделился с графом Апраксиным горьким сожалением, что князю Гагарину скоро конец, ибо фискал Нестеров привёз в Питербурх на допрос московских купцов братьев Евреиновых. Евдокия Степановна по бабьей глупости не ведала, в чём тут суть, а Матвей Петрович ведал. Ой как ведал.
С Матвейкой и Федькой Евреиновыми, сотенными гостями, он сошёлся в Москве, когда поставлял сукно для государева войска. Купцы-жидовины приглянулись Матвею Петровичу своей хваткой. Он взял их в китайские караваны и отдал им беспошлинный табачный торг в Сибири. Тверской купец Кондаков, которого князь Гагарин посадил таможенным смотрителем на Верхотурье, был человеком Евреиновых. Словом, Евреиновы знали о многих и многих затеях Матвея Петровича, о коих никому боле знать не следовало. Слабые в коленках, они выдали бы князя Гагарина с головой.
Через две недели после письма Евдокии Степановны из Верхотурья донеслась весть, что на таможню явились столичные комиссары и взяли под стражу купца Кондакова. Матвей Петрович понял: запуганные Евреиновы развязали языки. Матвей Петрович поспешно засобирался в столицу. Бог с ним, с майором Лихаревым. Что он тут нароет? Сибирь у князя Гагарина зажата в кулаке накрепко! А вот Евреиновы — это беда так беда.
Сборы у Матвея Петровича всегда были недолгими. Но оставалась одна забота: сундук с китайскими самоцветными камнями, с разными ценными побрякушками и могильным золотом, которое Матвей Петрович приберёг для себя, а не для Петра Лексеича. Везти это добро через Верхотурье Матвей Петрович теперь уже не мог: на таможне — комиссары. Сундук надобно было надёжно спрятать здесь, в Тобольске. Уладив столичные дела, он вернётся сюда и заберёт то, что оставил. Лишь бы никто другой не нашёл.
Выгнав прислугу, Матвей Петрович сидел ночью один в тёмном доме и ждал Капитона. От Иртыша дул ветер, тряс ставни, и дом поскрипывал. Тихо щёлкала, остывая, голландская печь. Стукнула дверь в сенях, Капитон пошаркал грязными ногами о тряпку и появился в проёме входа.
— Откопал колодец, барин, — сказал он.
— Тогда бери сундук, — велел Матвей Петрович.
Окованный сундук — совсем небольшой — был обвязан вкруг верёвками. Матвей Петрович с натугой поднял его и взвалил на широкую спину Капитона. Не князю же таскать тяжести и рыть землю.
На улице Матвея Петровича обдало холодом. Осень уже иссякла, словно махнула на себя рукой; приближались первые зазимки. Кряхтя под сундуком, Капитон обогнул княжеский дом, чтобы пройти к столпной церкви по краю обрыва: сюда не заглядывали сторожа Воинского присутствия и губернской канцелярии, и здесь никто не увидит лакея со странной ношей и губернатора.
Всё вокруг было чёрное, и одно от другого отличалось лишь качеством тьмы: здания — из плотного и ровного мрака, кромка земли — косматая от жухлой травы, река — плоская и гладкая, небо — бездонное. Самая что ни на есть воровская ночь: ни луны, ни бледных отсветов изморози.
Матвей Петрович думал о Капитоне. Он взял Капитона в лакеи ещё до Полтавской баталии — лет десять назад. За эти годы чего только Капитоша не увидел за хозяином! О хозяине он больше господа бога знает.
— А ты, Капитоша, вроде бабу завёл себе в Тобольске? — спросил князь.
— Была, чтобы греть ночами, — пропыхтел Капитон. — Настасьей зовут.
— С собой в Питербурх возьмёшь?
— Да на коего лешака? У меня в Питербурхе жена, дети. Настасья мне там не нужна. Я ей дал два рубля за ласку и простился уже.
— Оно и дело, — с облегчением одобрил Матвей Петрович.
Новая столпная церковь, вздымающаяся над обрывом, была так осязаема в плотности мрака, что казалось, будто тьму здесь скрутило в исполинский стебель смерча. Эх, умеет строить Ремезов: даже невидимая в непроглядной полночи, церковь всё равно ощущается движением вверх. Прошедшим летом её наконец-то доделали: оштукатурили изнутри, поставили рамы и косяки, расписали стены и своды, воздвигли иконостас. На Покров храм освятят. Только Матвея Петровича на торжестве уже не будет.
Притвор освещала крохотная лампадка, иначе можно было сверзиться в дыру подвального лаза. Капитон с сундуком еле сполз по крутой лесенке в подклет. Здесь уже горела свеча. Матвей Петрович увидел знакомые столбы и своды. Три года назад тут сидели расколылики со своим неистовым вожаком — одноглазым Авдонием. Все они уже сгорели — улетели на небо на огненном Корабле. А подземный ход, который они выкопали, остался.
Вон яма, вновь разрытая Капитоном, и в ней на дне — крышка колодца. Матвей Петрович вспомнил, как по этому тайному ходу он с Ремезовыми пробирался в Дмитриевскую башню, где Нестеров хранил пушную казну губернии. Да, были времена, когда он, губернатор, дружил с архитектоном. Но он обманул старика, хоть и не со зла, не по корысти. Кремль заброшен в недостройке, да и Дмитриевская башня — не башня, а что-то вроде погреба в овраге.
Матвей Петрович ржавым ключом отомкнул ржавый замок на крышке колодца. Из колодца пахнуло ледяной затхлостью.
— Спускай сундук туда, — указал князь Гагарин Капитону.
Капитон, пыхтя, на верёвках спустил сундук в колодец.
— Теперь подальше затащить надо.
Капитон и Матвей Петрович друг за другом слезли в колодец. Капитон поднял свечу, освещая путь, и за верёвки поволок сундук в глубину хода. Матвей Петрович со свечой протискивался следом.
— Довольно, — наконец остановил он Капитона. — Погоди меня.
Он достал другой ключ, поменьше, присел у сундука, открыл навесной замочек и поднял крышку. Капитон увидел в сундуке золотые чаши и блюда, шкатулки, холщовые свёртки, мешочки. Матвей Петрович запустил руку в сокровища и вытащил небольшой пистолет. Капитон мгновенно всё понял.
— Барин, помилуй! — помертвев, прошептал он. — Столько ж лет!..
Пистолет был уже заряжен. Матвей Петрович взвёл курок. Жаль Капитона, однако что поделать? В сундуке — не бумаги с росписями, которые можно и переписать, ежели пропадут. В сундуке — золото и камни. Унесёт вор — и не сыщешь, не выпросишь у царя обратно, не отмолишь у бога.
— Прости, Капитоша, — искренне сказал Матвей Петрович и выстрелил.
Глухой грохот выстрела метнулся в подземелье из конца в конец. Капитон уронил свечу и упал в темноту за сундуком.
Матвей Петрович, сопя, полез к выходу.
Колодец он запрёт, яму в подвале церкви засыплет, и клад под охраной покойника сколь угодно долго будет в безвестности дожидаться хозяина.
…Дождливым утром два дощаника отчалили от пристани Тобольска. Посреди первого судна стояла раззолоченная резная карета. В карете дремал князь Матвей Петрович Гагарин. Губернатор покидал свою губернию.
Глава 11 Другим карманом
Ремезовы привезли Ваню в Тобольск еле живого от ран и потери крови. Может, Ваня и умер бы, но его спасли заботы Маши, травяные отвары бабки Мурзихи и сорокоуст о здравии, заказанный Митрофановной отцу Лахтиону.
Ваня лежал в горнице Ремезовых, но не на сундуке у двери, как прежде, а на лавке за печкой, чтобы не мешать вести хозяйство. И никогда ещё ему не было так хорошо. Он тихонько разглядывал горницу, с содроганием души узнавая её после двух лет отсутствия: те же образа в кивоте, те же чугунки и сковороды на шестке, те же кроены в углу, те же половики и занавески. Ваня всем сердцем ощущал, что вернулся не на постой, а в родимый дом.
Никто, конечно, не поминал ему о былых размолвках, никто не поминал о Петьке, и у Вани теперь было ка-кое-то особое место в семейном дружестве: не сына, не брата и не товарища. Ваня даже про себя опасался произнести это слово — «жених». А Ремезовы не смущались.
Для Леонтия и Семёна Ванька стал своим, и нечего тут больше вилять; Лёшка и Лёнька, сыновья Леонтия, приставали с просьбами научить бою на багинетах; вечно занятая Варвара перестала обращать на него внимание; маленькие Федюнька и Танюшка уже не прятались от него; Митрофановна ворчала, что он не пьёт, как велено ею, целебные настои, а Семён Ульяныч пару раз уже отругал Машку за то, что нашла себе самого глупого и бесполезного мужика во всей Сибири.
Ваню тяготило только одно: китайская пайцза. Ещё в башне Лихого острога Семён Ульяныч забрал её у Маши, чтобы не потеряла, но так и не отдал. Он обещал вернуть её Ваньке, когда тот оклемается, и пускай Ванька сам отнесёт пайцзу Назифе, вдове Касыма. Но пайцза предназначалась вовсе не Назифе. И Ваня, выбрав момент, рассказал Маше правду о губернаторе. Ване князь Гагарин был безразличен, Ваня видел его только издалека. Маша, как и отец, прежде любила Матвея Петровича, но любовь умерла, когда Матвей Петрович посадил Семёна Ульяныча в каземат. Однако Маша всё равно не могла поверить в вероломство губернатора.
— Что есть, то есть, Маша, — сказал Ваня. Он лежал на лавке, а Маша сидела рядом с ним на приступочке опечья. — Но я не о Гагарине переживаю, а об отце твоём. Это ж какая боль для старика, ежели поймёт, что сын погиб за корысть губернатора. Сдюжит ли Семён Ульяныч?
Маша долго думала, сжимая в ладонях руку Вани.
— А ты ничего не делай и не говори, — наконец ответила она. — Пощади батюшку. Петьку уже не вернуть, а Матвея Петровича бог накажет.
Это было женское решение — милосердное и прощающее. Может, и мудрое. И Ваня согласился с ним, потому что знал: Машей руководила не бабья слабость. У Маши хватило сил заставить Семёна Ульяныча подняться и пойти на выручку тому, кого Семён Ульяныч обвинял в гибели сына. И всё же Маша мерила жизнь по-бабьи: семьёй, а не отечеством. И все погибшие в ретраншементе оставались неотомщёнными. И Ходжа Касым тоже оставался неотомщённым, хотя он боролся не за справедливость, а за свою выгоду. Но Ваня уже научился смиряться. Если Маша хочет отпустить губернатора, он отпустит, потому что Маша спасла его, и он тоже в долгу.
Семёну тяжело было смотреть, как Маша за печкой шепчется с Ваней. Конечно, Семён был рад за сестру, но её счастье обостряло его одиночество. Он тихо завидовал и Маше, и Ваньке: они нашли друг друга, пробились друг к другу черед все беды. А он не сумел преодолеть той преграды, которая отделяла его от Епифании. Он вспоминал, как жил с Епифанией в подклете, как они вечеряли, как спали вдвоём, как Епифания заплетала косу… Он молился, но молитва не помогала, словно Господь устал и сказал: «Не буду тебя больше слушать! Делай что-ни-будь сам, ищи жену! Встань и иди!»
Как-то вечером, когда уже стемнело — тяжело и по-осеннему мглисто, — он отправился на Верхний посад к обители матушки Ефросиньи. Снег ещё не лёг, хотя отпраздновали Покров, и на улицах не было видно ни зги. Только собаки облаивали Семёна, бегая за воротами своих подворий. Замёрзшая грязь, продавливаясь, хрустела под ногами. Холод обжигал скулы.
Сестра-привратница выглянула в окошко на стук и удалилась спросить благословения настоятельницы. Семён ждал. Потом брякнула щеколда, открылась калитка, и через порог переступила молодая, тонкая монахиня. Чёрная риза делала её почти невидимой, но бледно светлело нежное лицо. Сейчас, когда жизнь в обители смыла с этого лица ожесточение, Семён изумился: какая же Епифания красивая. И от этого стало ещё тоскливее.
— Как ты, Епифанюшка? — тихо спросил Семён.
— Я Пелагея, — отстранённо возразила она, словно не узнавая гостя.
Пусть она сменила имя, но в отрицании себя оставалась прежней. Семён видел её тёмные глаза — всё те же глаза падающей Чигирь-звезды.
— Как ты, Пелагеюшка?
Епифания помедлила.
— Мне хорошо здесь, Сеня, — сказала она уже мягче. — Поначалу бесы крутили, но сёстры меня отстояли… А у тебя сложилось? Ты женился?
Семён виновато улыбнулся.
— Никого, кроме тебя, мне не надо.
Епифания не приняла его преданность.
— Не расходуй годы понапрасну, — она сказала это с какой-то горькой усмешкой, с остывшим сожалением. — Я ведь не любила тебя, Сеня.
— А мне всё кажется, что могла… — прошептал Семён.
— Убить могла, а не полюбить, — просто пояснила она. — Вам, Ремезам, я по гроб благодарна буду. Ведь он почти уговорил меня как-нибудь ночью тебя во сне зарезать, дом ваш поджечь, а самой в петлю голову засунуть.
— Кто — «он»? — содрогнувшись, спросил Семён.
— Супруг мой обреченный, — в её голосе звучала затаённая гордость. — Отец Авдоний. Он один у меня был в сердце. Аты не приходи ко мне, Сеня.
Живым неистовый Авдоний был для неё как бог, а мёртвым стал как дьявол, но сердце её не ведало разницы.
Сестра заперла калитку, и Епифания бесшумно прошла через двор к себе в крохотную келью. Здесь еле тлела под образами красненькая лампада, и казалось, что в келье никого нет, но в углу, в тени, стоял человек в саване.
— Опять пришёл? — утомлённо спросила Епифания.
Мертвец печально молчал. Это был не Авдоний, а Хрисанф, старый зодчий. Еженощное молитвенное стояние сестёр преграждало Авдонию путь в обитель, а про Хрисанфа сёстры не знали. Да он ни к чему и не подбивал Епифанию. Ему не давал покоя вертеп — столпная церковь. Хрисанф ведь не хотел покидать её, когда Авдоний увлёк расколыциков в подземный ход; он хотел остаться в подклете, чтобы выломать кирпичи из треснувшей опоры, высвободить железную тягу из стены и обрушить всю храмину. Авдоний потянул зодчего за собой и не позволил исполнить замысел. Хрисанф взлетел на Корабле, не отплатив никонианцам за муки. А столпную церковь, которую строили расколь-шики, на Покров освятили. И Хрисанф явился к Епи-фании.
— Я ничего не забыла, — глухо сказала ему Епифа-ния. — Не томи меня.
Матушка Ефросинья водила сестёр на освящение, и Епифания видела, во что превратилось былое узилище. Купол — как взмах божьей руки, узкие окна, высокий иконостас, весь в лаковом винограде, свечи, ризы образов, святые старцы на стенах и кованое паникадило. Красота. Но под каменными плитами пола — Епифания знала это — таились кирпичные арки, закопчённые костром пленников, и никто не вырвал из стен железные кольца, к которым прежде, как псы, были прикованы отец Авдоний и его братья. Благолепие церкви зиждилось на страданиях праведников — и потому было обречено.
На освящение собралась огромная толпа. В Сибири ещё не было храма, чтобы столп звонницы стоял на своде. Самые упрямые бабы даже не хотели заходить — боялись, что столп осядет внутрь и раздавит всех, будто пестом в ступе. Шептали, что архитектон Ремезов из ума выжил, потому и воздвиг эдакую несуразину, недаром же губернатор сбежал с праздника: князь-то, чай, не дурак! Но владыка Филофей успокоил баб и развеял сомнения, когда бестрепетно вступил под своды, чтобы творить богослужебный чин.
Семён Ульяныч сделал вклад в церковь — подарок от всех Ремезовых: в притворе на дощатой распялке висела кольчуга Ермака. Владыка дозволил поместить кольчугу в храм, как некогда поступил Исаакий Далматовский. В своём монастыре Исаакий выставил кольчугу и шелом старца Далмата. Эти доспехи обители передал рейтарский полуполковник Иван Волков, однако народ переиначил всё по-своему, и теперь любой мальчонка знал, что броню вручил Далмату тюменский мурза Илигей. Мурза нагрянул на Исеть, чтобы убить старца, но вдруг узрел Богородицу и раскаялся. Семён Ульяныч верил, что про Ермакову кольчугу тоже сложат какое-нибудь доброе предание.
После службы, когда церковь опустела, владыка Филофей подошёл к кольчуге и осторожно коснулся её ржавого рукава, словно хотел услышать в своей душе ка-кой-то далёкий ответный звон.
— О чём думаешь? — ревниво спросил Семён Ульяныч.
А Филофей вспоминал Новицкого. В ту последнюю встречу на берегу Концы на Грише была другая Ермакова кольчуга, тоже рваная и ржавая. Может, она спасла Гришу? Может, Гриша где-то жив? Укрылся в лесах со своей дикой остячкой, отрёкся от Господа — но всё-таки выжил? Филофею было бесконечно жаль Григория Ильича. Нельзя жалеть вероотступника, но владыка всё равно жалел. Гриша в одиночку отчаянно сопротивлялся своему проклятью. Да, в неравном борении он был повержен дьяволом, однако всемилостивый Господь не откажет ему в прощении, потому что Григорий Ильич умел сострадать малым сим, как сам Господь сострадает человекам.
У владыки ещё теплилась надежда когда-нибудь узнать о Новицком. Панфил попросил разрешения уйти насовсем на Конду, чтобы построить там храм. По церковному правилу полагалось держать среди новокреще-нов надзирателя, который будет следить за инородцами, дабы те не отвалились обратно в язычество, и потому владыка отпустил своего ученика. У вогулов Панфил может встретить кого-нибудь, кто откроет ему, чем завершился путь Григория Ильича. Но доживёт ли сам владыка до такого известия?
— Думаю, Семён Ульяныч, что встанет санный путь — и уеду я, — сказал владыка. — Весной спущусь по Енисею до Туруханска, поклонюсь мощам Василия Ман-газейского. Потом поднимусь обратно в Енисейск и двинусь в Иркутск, а потом хочу Байкал преодолеть и в Се-ленгинск попасть.
Филофею в Тобольске стало тяжело. И не только из-за Новицкого. Угнетал и поспешный отъезд Матвея Петровича, и расследование его деяний. Похоже, сыщики подобрались к чему-то очень опасному для князя. Филофей неплохо изучил Матвея Петровича. Матвей Петрович был человеком сердца. Но под добродушием и щедростью в нём таилась стальная пружина дерзости. Митрополит Иоанн осудил эту дерзость, а владыка Филофей — нет. Однако куда искушения завели князя? Филофей не знал, да и не желал знать. Скорее всего, он помрёт в трудной дороге, избавляя себя от горечи за участь Матвея Петровича. Или от необходимости кривить душой, когда Матвей Петрович хитроумием одолеет своих врагов и вернётся победителем. Жизнь лучше скончать там, где она ещё прекрасна, а Семён Ульяныч с таким упоением рассказывал о Сибири, что в благодатности земли владыка не сомневался.
А у Семёна Ульяныча загорелись глаза.
— Возьми меня с собой! — тотчас с жаром попросил он.
Владыка засмеялся.
— Ульяныч, мне шестьдесят семь годов, я старик, а ты ещё старикастее меня. Я и не чаю в Тобольск вернуться: упокоюсь, пожалуй, в пути. Но я-то один. А у тебя жена. Внуки. Тебе Машеньку замуж выдать надо.
— Давно я уже понял, что не нужна тебе моя дружба! — крикнул Ремезов.
— Ну что ты как дитя? — владыка положил руку Семёну Ульянычу на плечо. — Давай лучше попрощаемся от души. Ты ветхий, и я ветхий, и оба мы не Мафусаилы. На коем свете свидеться придётся?
После Покрова Семён Ульяныч неделю безвылазно просидел в своей мастерской: по чертёжным книгам рассматривал дороги до Туруханска и Селенгинска и плакал от досады. Утешившись и смирившись, он вернулся в избу, и Митрофановна, вздыхая, гребнем расчесала ему всклокоченные волосы и бороду. В избе и застал Семёна Ульяныча майор Лихарев.
Следствие у Лихарева шло ни шатко ни валко. Кроме пропавших денег Бухгольца, майор откопал в бумагах ещё несколько мелких грехов Гагарина: семь лет назад в Вятке испарился хлебный обоз; два года назад государыня выдала губернатору три тыщи рублей в китайский торг, и эти тыщи канули в безвестность; губерния задолжала за пять лет по разным статьям, хотя и не пушным… Однако всё это было ерундой. Об истинном воровстве могли поведать только люди, а не бумаги, а люди отпирались. Ежели бы удалось расколупать, скажем, секретаря Дитмера, то грехи губернатора посыпались бы, точно пятаки из порванного кошеля, — но как расколупать хитрого шведа? И майор от безысходности отправился допрашивать архитектона.
Дело это изначально было бесполезное. Майора предупредили, что архитектон — старик склочный и упрямый. Да и что он мог рассказать? Строительство в Тобольске замерло три года назад — кончились деньги. А без денег нет и воровства: о чём говорить?
Лихарев присел на лавку боком к столу и положил шляпу рядом с собой, словно поясняя, что он явился с полным уважением к хозяину и потому ждёт такого же уважения к своему делу. Семён Ульяныч надменно задрал бороду.
— Небось знаешь, кто я, — сказал Лихарев.
— Понятно, знаю. Майор сенатский, государев до-глядчик.
— Ну, так пособи. Растолкуй, где губернатор на свою сторону отмахнул.
— Я за плечом у него не стоял, не ведаю!
— На него четыре сундука доносов в Сенате.
— Вот к тем доносчикам и ступай! — отрезал Семён Ульяныч.
— Дубины вы стоеросовые, сибиряки! — в глаза Семёну Ульянычу смело сказал Лихарев. — Кого покрываешь, Ремезов? Вора! А его карать надо!
— А мне ябеда против души! — так же прямо ответил Семён Ульяныч.
Лихарев подался вперёд. Казалось, он цапнет архи-тектона за грудки.
— Ежели вора не остановить без жалости, так его даже страх не уймёт! И он не покается, Ремезов, он чести и славы потребует, как праведник!
Семён Ульяныч засопел и отвернулся.
— Тоже знаю, не дитя сопливое! — мрачно ответил он. — Но пусть его бог накажет, а я прощаю! Матфей писал: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»!
Лихарев злобно ухмыльнулся, ощерив зубы под усами.
— Кто обчистит твой правый карман, обрати к нему и другой!
— Не богохульствуй, дурак! — крикнул уязвлённый Семён Ульяныч.
— Это ты дурак, Ремезов! — Лихарев схватил свою шляпу и хлопнул ею о край столешницы. — Я понимаю, когда коменданты с канцелярией в рот себе кулак суют — они вместе с губернатором плутовали! А ты-то, старый пень? Эх, не того прощаешь, мастер!
Ваня лежал у себя за печью и слышал весь разговор. Для Вани теперь не существовало человека, которого он поставил бы выше Семёна Ульяныча, и всё же справедливость Ваня ощущал за майором Лихаревым.
А майор был совершенно прав, когда полагал, что секретарю Дитмеру известны все тайны губернатора. Впрочем, конечно, не все, но достаточное количество, чтобы мысли о богатствах князя лишили Дитмера покоя.
Дитмер самым внимательным образом изучил скарб Матвея Петровича, когда тот покидал свой дом в Тобольске. Груда была немалая, но Дитмер не обнаружил в ней окованного сундучка, в который губернатор при секретаре не раз укладывал различные золотые вещицы из древних могил; эти вещицы с приятной регулярностью присылали старосты из слобод на Тоболе и коменданты из Тюмени, Шадринска, Ишима и Тары. Дитмер рассуждал логически. Матвею Петровичу никак не провезти это золото через верхотурскую таможню, потому что на таможне сейчас сидят комиссары из комиссии майора Дмитриева-Мамонова. Но Матвей Петрович не помышляет расставаться с губернией навсегда, он рассчитывает вернуться: значит, сундучок с золотом остался в Тобольске. Князь его спрятал. А где?
Губернатор — не штык-юнкер Ренат, чтобы искать убежище в таёжной корчме. Свой клад губернатор закопал где-то рядом, под рукой. В доме? Дитмер осмотрел дом Матвея Петровича, обстукал все стены и печи, истыкал шпагой земляной пол в подвале. Никакого тайника. Значит, надо обследовать Воеводский двор, перепаханный строительством кремля. В неразберихе строительных работ легко можно скрыть обустройство под стеной или под башней какой-нибудь секретной каморы или малого казематика, чтобы в сию полость неприметно поместить какую-либо ценную конфиденцию. Но ведь не сам же губернатор размечал фигуру тайника и выкладывал кирпичи. Это делал доверенный строитель. Например, старый архитектон.
Дитмер встретил архитектона возле Воинского присутствия. По первому снегу старик привёз в полковое управление своего постояльца — поручика Демарина, выкупленного летом у кочевников. Дитмер полагал, что поручик, вероятно, изъявил желание записаться на службу к майору Лихареву.
Дело в том, что майор недавно получил от презуса указ не ограничивать себя следствием по лихоимству губернатора и заодно исправить упущения полковника Бухгольца. То есть Лихарев должен был отправиться в новый поход вверх по Иртышу, чтобы построить те крепости, которые не сумел построить Бухгольц. Лихарев запечатал в конверт и отослал презусу все свидетельства о губернаторе, которые сумел добыть, и объявил призыв охочих людей в своё войско. Сие обременение майора пришлось к вящей выгоде господина секретаря: Лихарева поглотили заботы по снаряжению корволанта, и розыск был отодвинут в сторону. Дитмер почувствовал себя гораздо свободнее. Радовало его и то, что скоро ретивый майор вовсе покинет Тобольск, освободив жителей от своих докучных расспросов.
— Подождите, господин архитектон, — сказал Дитмер, хватая за уздечку лошадь Ремезова. — У меня к вам интерес.
Гуня послушно остановилась рядом с Дитмером.
— А у меня к тебе нет! — ответил из розвальней Семён Ульяныч.
Он недолюбливал секретаря, всегда вылизанного и напомаженного, как блудница, потому строптиво тряхнул вожжами и стронул Гуню с места. Но Дитмер не смутился неприязнью старика и пошагал рядом с санями.
— В губернской канцелярии я посмотрел чертежи крепости, а совокупно и Покровской церкви с палатой над оврагом, — продолжил он. — И желаю удостовериться у вас, всё ли точно по чертежам возведено?
Ваня, лежавший в розвальнях, увидел, как Ремезов обиженно дёрнулся.
— Я на стройке не воровал! Чего кто взял — не ведаю!
— А не имелось ли каких непредусмотренных переделок?
— Ты меня к лихоимству не приплетай! Я работал честно! — взорвался Семён Ульяныч. — Я Петровича полюбил, а ему корысть выше дружбы! Он тать! Вот пущай и отвечает за свои грехи! Кнута не жалко!
Вежливо коснувшись рукой шляпы, Дитмер благоразумно отступил. Он понял, что к этому бешеному старику он обратился напрасно.
— Вдохнуть уже нечего — ветер спёрли! — продолжал неистовствовать Семён Ульяныч. — Ты сам, Ефимка, вор хуже Гагарина! У нас-то своих воров — как чертей на пятницу, так ещё иноземцев в плен нахватали: пособите, братцы заморские, с плешивых шерсти настричь!..
Люди на улочке оборачивались на крики Ремезова. Жалобщики, что торчали у крыльца Губернской канцелярии, одобрительно ухмылялись.
— Ты чего разбуянился, Семён Ульяныч? — попытался урезонить Ваня.
— Опять меня учить вздумал, треуголка? — перебросился на Ваню Ремезов. — Я тебя обратно джунгарам продам и деньги пропью, чтобы от тебя хоть какой-то прок был! Машку свою учи, у неё в голове комары летают!
Гуня, привычная к ругани хозяина, втянула розвальни в распахнутые ворота Воинского присутствия.
На гарнизонном дворе царило оживление как во времена Бухгольца. Всюду сикось-накось стояли сани с грузами; мужики таскали мешки; бегали солдаты — Ваня не заметил среди них знакомых по обороне ретраншемента; рекруты, одетые в рваньё, испуганно жались в сторонке.
— A-а! Гвардеец! — услышал Ваня и оглянулся.
К нему, протягивая руку, шёл Васька Чередов.
Васька был уверен, что без Бухгольца и Гагарина майор Лихарев снова примет его в полк, пускай даже и не полковником. Ваське осточертело сидеть дома и пить от безделья. Лучше пойти в армию, если возьмут. Оно веселее.
Призыв, объявленный майором Лихаревым, взволновал всех служилых Тобольска, столь безжалостно изгнанных в своё время Бухгольцем. Поход на степняков представился им прекрасным поводом вернуться на казённое воинское довольствие. Да и вообще поход — дело благое, ведь давно пора выручать из неволи рекрутов, ямщиков и купцов, что попали в плен с обозом полупол-ковника Ступина. Губернатору не до выкупа, он в столицу сбежал, а люди томятся. Не мешает и степняков припугнуть, чтобы мира запросили. И служилые повалили к Воинскому присутствию.
Исполнить приказ, то есть построить крепости на Иртыше и замириться с джунгарами, майор был обязан к концу лета, поэтому его войску следовало выдвигаться как можно раньше — уже зимой. Лихарев рассчитывал санным трактом доехать до Омского ретраншемента, переждать там ледоход и затем углубиться в степь на конях. Однако внезапному ополчению майора, как обычно, не хватало всего: солдат, ружей, амуниции, лошадей, пушек, пороха, провианта и фуража. И офицеров тоже не хватало.
— Вдругорядь на контайшу намылился? — спросил Чередов у Вани. — Не возьмут тебя! Ты ещё свои дырки не заштопал. Только обузой будешь.
— Без тебя разберусь, — хмуро ответил Ваня, вылезая из саней.
Он сбросил тулуп, чтобы предстать перед командиром в камзоле.
Майор Лихарев оказался здесь же, на дворе. Озабоченный, он торопливо проходил мимо по делам, и Ваня окликнул его:
— Господин майор! Я поручик Демарин. Дозвольте обратиться!
Лихарев остановился.
— Записан у майора Шторбена в гарнизонный реестр, ныне значусь на излечении, — отрапортовал Ваня. — Но полагаю себя окрепшим для службы и прошу вас взять меня в ваш деташемент.
— Чем вы меня заинтересуете? — сухо полюбопытствовал Лихарев.
— Состоял под началом полковника Бухгольца, полтора года провёл в плену, изучил степняков, — сказал Ваня. — Я буду полезен, господин майор.
Лихарев посмотрел на Ваню, потом на Ремезова, потом снова на Ваню.
— А этот упрямец вам кто? — почему-то спросил майор.
— Э-э… — Ваня замешкался, растерявшись. — Я… Дочь господина Ремезова — моя невеста. Но сие обстоятельство не препятствие для похода.
— А для вашего участия — препятствие, — холодно сказал Лихарев. — Я не возьму офицера, коему не могу довериться. Не утруждайте себя надеждою, господин поручик. Желаю здравия!
Лихарев развернулся и твёрдо пошагал прочь.
— Я же говорил — не возьмёт недолеченного, да ещё и недоженатого! — хохотнул Васька Чередов, который ничего не понял.
А Семён Ульяныч всё понял. Он сидел в розвальнях и глядел в сторону.
— Ну чего ты в снег-то тычешь! — вдруг закричал он на солдата, который прислонил к стене амбара связку ружейных стволов. — Дулы льдом забьёт!
Ваня почувствовал, что майор Лихарев оскорбил его своим сомнением, — будто лошадь хлестнула по лицу хвостом. Лицо горело. Ваня должен был вспыхнуть, догнать майора, наговорить ему дерзостей, вызвать на поединок, защищая свою честь, — но не вспыхнул, не догнал, ничего не наговорил и не вызвал на бой, а просто опустил голову и сел обратно в сани. Людской гомон на подворье звучал как осуждение. Низкое зимнее солнце словно побледнело от стыда. Майор, конечно, был не прав — и всё-таки прав. Семён Ульяныч укрывал вора. А Ваня Демарин для майора Лихарева тоже был Ремезовым.
Глава 12 Отечество и правда
Тайник губернатора следует искать через строителей. Дитмер тщательно обдумал эту идею и пришёл к выводу, что она самая логичная. Да, обращение к архитектору Ремезову надо признать ошибкой: Ремезов не будет сотрудничать с иноземцем. Но Ремезов — не единственный строитель. И с той точки зрения, которая занимала Дитмера, Ремезов был даже не главным свидетелем. Тайник должен был соорудить распорядитель работ, а вовсе не архитектор. Самым вероятным кандидатом в создатели тайника являлся лейтенант Сванте Инборг, начальник артели шведских каменщиков. Но увы: Инборг погиб в нелепом воинском походе, устроенном русскими. Однако некоторые работники Инборга уцелели. Необходимо добыть список артели.
Дитмер направился к господину фон Вреху — ольдер-ману общины. У фон Вреха должны были храниться платёжные документы Инборга.
Дитмера несколько смущала неопределённость позиций князя Гагарина, но не настолько, чтобы препятствовать осуществлению замысла. Розыск по злоупотреблениям князя оказался нешуточным. Если губернатор будет отстранён от управления губернией или даже взят под арест, это прекрасно: ничто не помешает завладеть его состоянием. Если же губернатор вернётся в Тобольск с прежними полномочиями, то пропажа клада, разумеется, вызовет его ярость. Но князь не должен дознаться, кто изъял его сокровища, если всё осуществить на достойном уровне секретности. А если и дознается, то что он предпримет? Пожалуется в Сенат? Дитмер снисходительно улыбнулся. Князь не сможет его покарать. Изгонит с должности секретаря, и только. Но выгода многократно превзойдёт ущерб.
Фон Врех встретил Дитмера со всем радушием.
— Я непременно найду для вас список артели несчастного Инборга, — пообещал фон Врех. — Но позвольте узнать, дорогой Йохим, зачем он вам?
— Губернатора обвиняют в несоблюдении правил строительства, — уклончиво ответил Дитмер.
— Я поручусь за любого работника из нашей общины! — горячо заверил фон Врех. — Все они люди самые честнейшие!
Дитмер не мог сказать за всех мастеровых, но Инборг и вправду был человеком порядочным, за это его и выбрали начальником артели. Дитмер помнил, как Инборг грустил по своей семье, по детям и внукам, и на базарах забавлял тобольскую детвору кукольными зрелищами, надевая на руки косматого и рогатого скогумана, гнома в широкополой шляпе, нэккена с лошадиной головой или бородатого тролля. На ту ярмарку, когда русские вдруг бросились бить шведов, Инборг тоже пришёл с куклами, а потому и угодил в драку, следствием которой для него стал воинский поход в степь.
— Если имелось какое-либо нарушение, то винить необходимо самих русских, — добавил фон Врех. — Насколько я помню, в работах принимали участие религиозные преступники, и к ним не может быть доверия!
Дитмер поджал губы. Он совсем забыл о расколыци-ках, которые сидели в подвале церкви, ныне получившей название Покровской! Вот кто мог осуществить план губернатора — узники, полностью подвластные князю!
— К сожалению, они все погибли, — осторожно заметил Дитмер.
— Отнюдь не все! — возразил фон Врех. — Наш доблестный капитан Табберт принимал участие в спасении беглецов из того ужасного пожара, и он утверждает, что избавил от гибели несколько человек.
Дитмер поспешил к Табберту.
— Вас интересуют уцелевшие беглецы? — удивился Табберт. — Почему?
— Потому что господина губернатора подозревают ещё и в потворстве этим каторжникам. Я ишу свидетельства для опровержения.
Табберт понимающе усмехнулся.
— Видимо, губернатор — весьма выгодный покровитель.
— Это не имеет отношения к моему вопросу.
— Я мало чем могу помочь вам, Дитмер, — сказал Табберт. — Я не был знаком с этими мятежниками и не знаю, кто из них выжил. Могу сказать лишь то, что спаслась некая женщина — любовница Симона, сына господина Ремезова. Она была тесно связана с беглецами, хотя и не содержалась в том подвале, где были заключены прочие. Но она должна всё знать.
— Как мне её отыскать?
— Это несложно. Её отдали в монастырь.
Дитмеру, секретарю губернатора, не составило труда
упросить игуменью Ефросинью разрешить встречу с сестрой Пелагеей.
Дитмер ждал Епифанию на том же месте, где недавно ждал её Семён. Матушка Ефросинья вывела Епифанию и придирчиво осмотрела Дитмера.
— Дозволяю на четверть часа, — скупо уронила она.
Дитмер удивился тонкой красоте Епифании. Любопытно, почему эта женщина отреклась от радостей мира? Воистину, русские — самоистязатели.
Епифания тоже разглядывала Дитмера. Холёный офицерик. А по глазам видно, что сердце у него — как вёрткая ящерица. Она уже встречала таких людей. Такой человек и отправил её в ад. Это было бесконечно давно, однако Епифания запомнила его — первого из многих. Когда солдаты нашли скит на Сельге и схватили Авдония, светлого инока, Епифания — крестьянская дочь Алёна — кинулась на жениха-доносчика с ножом… И в Олонецком заводе на следствии молодой офицер бил её, натянув перчатки, чтобы не испортить пригожести лица и тела синяками и кровоподтёками; сломив волю, офицер снасило-вал её, не пощадив и девства. И потом начались скитания по острогам и казематам, потянулись большаки в тайге, посыпались дожди, засвистели плети, зазвенели оковы. А завершилось всё пылающим Кораблём.
— Скажи мне, милая, — попросил Дитмер, — не говорил ли кто из твоих знакомцев о каких-либо тайных строительных работах?
Дитмеру поневоле захотелось понравиться этой бабе, и он улыбнулся.
— Были такие, — сдержанно ответила Епифания.
Она заметила, что офицер насторожился и даже
дышать стал глубже.
— И в чём суть тех работ?
— Делали подземный ход из церкви в палату.
— Из Покровской? — Дитмер указал пальцем на колокольню, что торчала над заснеженными кровлями торговых балаганов Софийской площади.
— Тогда она без именования была.
— Существует ли ныне тот ход?
— Мне не ведомо.
— А как его найти?
Епифания взглядом обшаривала лицо Дитмера. А Йохим Дитмер, сын нарвского бургомистра, не знал, что такое Денница — гневная Чигирь-звезда.
— Я сама того не видела, но брате наш Хрисанфе поминал, что в стене подклета осталась трещина. Разбей её, и за ней — ход.
Дитмер еле взял себя в руки. Нельзя было показывать этой монашенке, что он торжествует. Он раскусил губернатора! Он подобрался к тайне его сокровищ с того края, с какого губернатор и предусмотреть не мог!
— Стены ломать — не моя работа, — свысока сказал Дитмер, изображая безразличие. — Это не то, что я хотел узнать.
— Тогда прощай, — ответила Епифания.
Она тоже улыбнулась — но в её улыбке не было ничего доброго: так улыбаются солдаты, пробуя пальцем остроту отточенного багинета.
Однако Дитмер ничего не заметил. Он уже думал только о кладе.
Он решил идти в церковь нынче же вечером.
Нынче вечером и Ваня решил поговорить с Ремезо-вым начистоту. Ваня больше не мог молчать. Он вспоминал те страшные месяцы в осаждённом ретраншементе, вспоминал холод, бескрайние снега и темноту, которую нечем было разогнать, потому что не хватало дров. Вспоминал знамя на флагштоке, полощущееся на ветру под синим небом — таким студёным, что даже ангелы в нём не пролетали, боясь обморозить крылья. Вспоминал джунгарский штурм: как рубился на куртине капитан Ожаровский; как канонир взорвал себя вместе с пушкой; как умирающие солдаты в землянке госпиталя бессильными руками рвали всадника, провалившегося к ним сквозь крышу; как сам он тащил убитую лошадь, чтобы перегородить проход в крепость… Вспоминал вал из мертвецов: в этот вал положили и поручика Кузьмичёва, и безрассудного барабанщика Петьку Ремезова… Если он, Ваня Демарин, не откроет правду о причинах той войны, то предаст всех, живых и мёртвых, как предал их губернатор Гагарин, натравивший джунгар на войско Бухгольца. А Иван Дмитриевич сейчас отвечает на суде. Он честно исполнил долг командира, но его могут повесить, потому что он не победил.
Ваня вызвал Машу в сени.
— Мне, Маша, уже невмоготу, — негромко сказал он. — Хоть осуди, хоть совсем убей, но у меня душа рвётся! Я не Каин. У меня совесть горит.
Маша испытующе глядела на него исподлобья.
— Я думал, Маша, мы старика щадим, а пощадили вора!
Маша несогласно замотала головой.
— Не только в батюшке дело, и не только в Матвее Петровиче! — ожесточённым шёпотом возразила она. — Ещё ведь и в товарищах твоих! Сейчас народ думает, что они погибли за отечество. А скажешь правду — значит, их ради чужого воровства убили. Кого это утешит, Ванька?
Ваня горько усмехнулся.
— И так неладно, и эдак нехорошо. Я же понимаю, Маша, что от правды никому лучше не будет. Но отечеству без правды нельзя. Вот и всё, что знаю.
Ваня не находил слов, чтобы объяснить: правда не измеряется выгодой. Она просто должна быть. Как должны быть чертежи Семёна Ульяныча. Как должен быть его кремль. Как рядом с жарким летом должна быть студёная зима, и как у любой реки должны быть малый исток и привольное устье. Как должна быть вера у человека. Иначе зачем весь божий мир нужен? И Семён Ульяныч должен подняться до правды. Хоть и стар он, и больно ему.
Ваня не стал дожидаться от Маши ответа: Маша найдёт какие угодно слова, чтобы убедить его поберечь батюшку. Ваня погладил её по голове, как ребёнка, приоткрыл дверь в горницу и позвал:
— Семён Ульяныч, дойди до мастерской на разговор.
В мастерской было тепло от протопленной днём печи.
Лучина освещала книги в поставцах, свитки, стаканы с перьями, образа. Семён Ульяныч сидел на лавке, вытянув негнущуюся ногу, и стискивал в руке свою палку. Он почуял, что беседа предстоит нелёгкая, и смотрел на Ваню непримиримо.
— У тебя моя китайская пайцза, — напрямик сказал Ваня. — Ты ведь хотел узнать о ней? Я объясню. Ты мне отец. Но радости тебе с того будет мало.
— Выкладывай уже, — проскрипел Семён Ульяныч.
Лицо его, иссечённое глубокими морщинами, казалось ликом Саваофа.
И Ваня начал говорить. Китайские караваны. Богдыхан и контайша. Тулишэнь и Аюка. Яркенд и Лхаса. Штык-юнкер Ренат и золотой ярлык. Бухгольц и Цэрэн Дондоб. Всё, что когда-то растолковал Ване Ходжа Касым. Всё, что таил губернатор Гагарин. Корявый корень цветущего древа.
Семён Ульяныч ни на миг не сомневался, что Ванька не врёт. Ваньке такого просто не выдумать, ведь он ничего не слышал о Лифаньюане, защите Албазинского острога и воеводе Головине — Будун-нойоне; он не привечал в своём доме толмача Кузьму Чонга. Но Семён Ульяныч всё равно не хотел верить Ваньке. Не так устроена жизнь! Не так! Он, летописец Ремезов, удаляясь от суетности, описывал былое — судьбу Ермака, судьбу Тобольска, судьбу Сибири — и потому привык ощущать себя немного как бы Создателем: это он излагал историю, а не история излагала его. Он был могущественным судьёй событий, а не бессильной жертвой чужой воли. Ванькин рассказ унижал его и попирал его гордыню. И всё сошлось на Петьке! Или Петька — воин, который положил живот за бесценное отечество, или Петька — ломаный грош, походя выброшенный за ненадобностью, а он, Семён Ремезов, Петькин отец, — никчёмный холоп, у которого барин, не внимая мольбе, бестрепетно забрал любимого сына и затравил собаками ради одной лишь потехи.
— Прости, что прежде молчал, — угрюмо повинился Ваня. — Не хотел твоё горе умножать.
Но Семёну Ульянычу не было дела до сожалений Ваньки. В сознании Семёна Ульяныча весь мир всем своим громадным телом сейчас неудержимо выворачивался наизнанку с мученическим хрустом хрящей. И Семён Ульяныч не мог этого перенести. Он слишком стар. Он скоро умрёт. Он хочет довершить свои дни так, как привык, как обжился, как обустроил себя в этом порядке вещей. Неужели Господь не может оказать такой милости — оставить старика в покое: пусть утешится своим неведением.
— Значит, Петька умер понапрасну? — Семён Ульяныч впился в Ваню ненавидящим взглядом. — Как с ладони в воду ненароком сронили?
Ваня ощутил смертный ужас Семёна Ульяныча.
— Пётр Семёныч недаром погиб, — упрямо сказал Ваня. — Он транжемент от врага спасал. Своих товарищей спасал.
Но Семён Ульяныч ничего не услышал.
— А войну, значит, Гагарин учинил?
Семён Ульяныч словно раскачивался на краю пропасти.
— Гагарин, — подтвердил Ваня. — И его надо наказать. Отдай пайцзу.
— Не отдам!
— Да почему же?! — едва не взвыл Ваня.
И Семёна Ульяныча прорвало — это он откачнулся от пропасти назад.
— Врёшь ты мне, Ванька, щенок! — изрыгнул он. — Не было такого ничего! Не желаю верить! Поклёп! Не мог Петрович своему войску гибель подгадать! Всё Ка-сым-агарянин сочинил!
— Я правду говорю! — озлобленно рявкнул Ваня.
— Неправду! — взвизгнул Ремезов.
— Прими, Семён Ульяныч! — властно потребовал Ваня.
— Не приму! Не приму! — яростно замотал бородой Ремезов. — Не могу принять! Не отдам ярлык!.. Чтобы Петрович два полка в прорубь спустил?!. Он же знал, что в войске Петька мой служит!..
— Он и не думал о тебе! Воровал, да заворовался! Отдай пайцзу!
Но Семён Ульяныч уже отпятился от бездны. Нет, он не сорвётся! В каком-то безумном успокоении он вдруг огладил обеими руками волосы, расправил бороду и сел прямо, как во главе семейного стола.
— Не отдам! — решительно и окончательно объявил он. — Пускай мне Господь на то укажет!
Ване почудилось, что Ремезов помутился рассудком.
— Да какой же Господь?! — отчаянно спросил Ваня.
— Наш Господь, Иисус Христос, сын божий и пастырь добрый! — с пугающей важностью произнёс Семён Ульяныч.
— Семён Ульяныч!.. — шёпотом окликнул Ваня одеревеневшего старика.
— А ты поди прочь! — так же медленно сказал Ремезов. — А то прокляну!
В этот глухой час губернаторский секретарь Йохим Дитмер, озираясь, приблизился к Покровской церкви, стоящей на самом краю Троицкого мыса над Прямским взвозом. Беззвучно горела яркая луна, окружённая морозным кольцом; безлюдный заиндевелый взвоз стекал по глубокому оврагу к пустой и заснеженной Троицкой площади; над длинной палаткой Дмитриевской башни своими плоскостями и закруглениями вздымался Софийский собор — чёрно-белый и оттого словно полупрозрачный. Весь Воеводский двор лежал во тьме, смутно отсвечивая косыми скатами кровель; из-за ограды Воинского присутствия доносились невнятные голоса. Дитмер решил, что солдаты не помешают исполнению его замысла. Церковь была на замке, а караульного не имелось; к церкви лишь время от времени подходил сторож Софийского двора и проверял, не тронута ли дверь. Однако Дитмера интересовал вход в подвал. В столе губернатора он отыскал несколько ключей; первый же из них легко пролез в замочную скважину и провернул рычаги запора. В этот миг Дитмер понял, что его догадка о тайнике оказалась совершенно правильной.
Дитмер нёс с собой кайло и несколько железных клиньев. Он осторожно отворил скрипучую дверь, вошёл, затворил дверь, зажёг масляную лампу и спустился в подвал. Плотный земляной пол, опорные столбы из кирпича, кирпичные арки, стянутые коваными тягами, и кирпичные своды, покрытые копотью. Вдоль стен были сложены брусья, корячились строительные козлы, друг на друге стояли грязные дощатые лари. Дитмер надеялся, что стук его инструмента в подвале церкви не привлечёт никакого внимания — в новом храме постоянно что-то доделывали, мастерили или приколачивали.
Дитмер тщательно осмотрел сравнительно небольшой подвал, все его стены и столбы, и действительно увидел трещину, о которой ему рассказала расколыцица. Узкая и глубокая щель была почти незаметна. Она отвесно рассекала одну из массивных опорных стен и загибалась вверху на свод, крепко перехваченный крест-на-крест железными связями. Дитмер попытался вообразить форму внутренней полости. Скорее всего, она подобна той нише в Нарвском замке, в которой, согласно преданию, начинался подземный ход рыцаря Индри-ка фон Беренгаупта. Видимо, здесь каменщики заложили кирпичами какой-то проём, но сооружение оседало в грунте неравномерно, и край перегородки откололся от целокупной толщи основания. Если вставить три клина в трещину вот сюда, сюда и сюда, то правильными ударами кайла можно отломить часть стены и открыть доступ в тайную камору.
Дитмер снял камзол и шейный платок с бантом, засучил рукава сорочки, надел предусмотрительно запасённый фартук и грубые рукавицы и всунул клинья в расщелину. Подняв кайло, он примерился и принялся равномерно бить по железным затыльникам. Стук оказался не таким уж и громким: его глушил земляной пол, да и кирпичная кладка была не монолитна, а потому и не звенела. «Блунц! Блунц! Блунц! Блунц! Блунц!» — звякало кайло.
Клинья вошли на половину своей длины. Теперь следовало наносить по ним боковые удары, чтобы клинья подобно рычагу выворотили кирпичный блок. «Блунц! Блунц! Блунц! Блунц!» Дитмер увлёкся, хотя чувствовал, что неприятно потеет, точно простолюдин. Но отдача клиньев указывала на то, что стена в своих недрах теряет прочность, и в ней по ломаным плоскостям будущих разрывов копится напряжение предстоящего разъединения.
Что-то глубинно заскрежетало, сбоку из простенка с частью угла вдруг выперло уродливый кусок слепленных кирпичей, и тотчас вверху, взвизгнув, вылетела и задрожала на весу длинная железная тяга. Дитмер непонимающе посмотрел на неё: почему высвободилась эта железяка, ведь он бил ниже и левее?.. Но другая тяга вдруг тоже с треском полезла наружу, как корень, который вытягивают из земли, а он, сопротивляясь, вздыбливает почву. С потолка с шорохом посыпался песок, и вогнутая поверхность свода начала темнеть, покрываясь множеством разветвлённых трещин. Дитмер ничего не смыслил в зодчестве, в устройстве зданий, но сообразил, что свод, лишённый креплений, проседает. За одним сводом просядет другой, потом третий, и махина церкви с водружённой колокольней, утратив равновесие, повалится.
Дитмер отскочил, и тотчас кирпичный свод с гулким и раскатистым грохотом обрушился на пол. Густая туча пыли мгновенно заполнила весь подвал. Дитмер закашлялся. Огонёк светильника померк. Вокруг во мгле со всех сторон что-то надрывно хрустело и протяжно скрипело, будто само собой расчленялось на части, а потом с неимоверной тяжестью захлопало о землю и застучало, сотрясая пространство. Дитмер содрогнулся. Отшвырнув кайло, он вслепую бросился к выходу; всё качалось, как в корабле, и эта могучая зыбкость отдавалась в душе господина секретаря животным ужасом.
Дитмер не видел, да и не мог видеть, как падала Покровская церковь. Сначала от подножия она окуталась клубами пыли, словно загорелась: пыль струями била из окон. Затем колокольня, лоснившаяся под луной двумя гранями, дрогнула и с глухим рокотом медленно просела внутрь, склоняясь набок и разламывая тёсаную апсиду. А затем две стены церкви вмялись, и колокольня с тягучей неспешностью накренилась так, что раскололась на неровные пустотелые чурбаки. Первой по крутому склону, точно клубок, поскакала вниз маленькая деревянная главка, рассыпающая чешуйки лемеха, а за ней, прыгая, покатились кирпичные чурбаки, друг за другом разбиваясь на груды выгнутых черепков. Туча пыли полностью поглотила церковь, и по белым от снега откосам поползла тёмная шевелящаяся осыпь из мусора и обломков.
Над Нижним посадом, густо утыканным белёсыми дымовыми столбами, расплылся гул, словно огромный изумлённый вздох.
Дитмеру повезло: он оказался в том углу здания, который уцелел, не раздавленный поверженной колокольней. Задыхаясь, Дитмер метался в кромешной тьме, отыскивая выход, и вдруг ударился обо что-то головой. Он полетел с ног, оглушённый чудовищной болью.
От Воинского присутствия и с Софийского двора к церкви мчались люди — солдаты, рекруты, сторожа, монахи, служки. Вместо церкви на краю Троицкого мыса торчал исполинский столп пыли, словно душа погибшего храма. Снизу из этого столпа высовывался единственный угол здания.
— Не подходи, пока всё не улеглось!.. — кричал ка-кой-то офицер, отталкивая людей.
Майор Лихарев, торопливо застёгивая камзол, пробился вперёд.
— Святы боже! — с чувством сказал он и перекрестился.
— Хорошо, что ночью ахнулась, — произнёс рядом с ним солдат в исподней рубахе. — Была бы народом полна — всех бы расплющило!..
— Гляди! — опять заволновались в толпе. — Человек!..
Под устоявшим углом церкви приоткрылась дверка
в подвал, и оттуда, обрываясь на руках и кашляя, выполз Дитмер — окровавленный и весь в земле. Несколько солдат кинулись к нему и оттащили от развалин подальше.
Раздвигая толпу, майор Лихарев поспешил к Дитмеру.
Господин секретарь, грязный, как землекоп, сидел на чьём-то тулупе, и монах пригоршней снега заботливо стирал с его лица пыль и кровь.
— Приятно свидеться, — с усмешкой сказал Лихарев.
Дитмер узнал его, но ничего не ответил.
— Не приставай, видишь — досталось ему, еле жив, — попросил монах.
— Не лезь! — цыкнул майор на монаха. Нельзя было терять возможность надавить на Дитмера, пока тот в смятении. — Позвольте узнать, господин Дитмер, какая нужда привела вас, лютеранина, ночью в православный храм?
Дитмер молчал.
— Вы, часом, не бомбу ли вместо свечки зажгли?
Лихарев опустился перед Дитмером на корточки.
— Без огонька не рассмотреть, куда губернатор золото замуровал?
— У вас нет доказательств, — прошептал Дитмер.
Голова его взрывалась от боли.
— За такой святотатственный ущерб, как оное деяние, — Лихарев указал за плечо на развалины церкви, — боюсь, господин секретарь, что виселицей вам не отделаться! Вас четвертуют или колесуют!
Дитмер закашлялся и сплюнул бурой слюной.
— Соглашайтесь на содействие, господин секретарь! — напирал Лихарев.
— На какое? — просипел Дитмер.
— Я хочу знать о воровстве губернатора!
— А вы избавите меня от обвинений в этом, майор? — Дитмер кивнул на развалины в облаке пыли. — У меня не было ни пороха, ни умысла…
— Опричь меня, вас пока никто и не обвинял, — ухмыльнулся Лихарев.
На Софийском дворе забил колокол, оповещая Тобольск о беде, и вслед за ним загудели колокола Никольской церкви, Троицкой, Знаменской… Звон понёсся над спящим городом, пробуждая жителей, и переполох расползался по площадям, улочкам и переулкам. Наскоро одеваясь, тоболяки выбегали из домов, прихватывая кто багор, кто топор, кто ведро — не иначе, пожар!
А Семён Ульяныч сидел в своей мастерской в одиночестве, и лучины в светцах у него догорали. Семён Ульяныч всё вспоминал разговор с Ванькой. Золотая пайцза у него была надёжно спрятана под застреху на чердаке, и Ванька никогда не отыскал бы её: пайцзу Ванька мог получить только из рук Семёна Ульяныча. Но пайцза — это смерть князя Гагарина. И Семён Ульяныч устал решать. Он измучен. Душа его истерзана. Пусть Господь решает за него: в этом и есть божий суд. Да, он искушает Господа требованием явить волю свою, будто он, старый архитектон Ремезов, ничуть не лучше тёмного язычника, будто он, от колыбели во Христе, вдруг стал Фомой Неверующим; однако сейчас ему нужна помощь, настоящая помощь. Он без бога — никто.
На улице послышались голоса, кто-то там ругался или кричал, а потом Семён Ульяныч уловил и отголосок набата. Где-то что-то стряслось? Может, это и есть знак, о котором он просил небо?
Вдевшись руками в тулуп, нахлобучив шапку, Семён Ульяныч выбрался из мастерской во двор. Его дом стоял тихим и тёмным — жена, дети и внуки ещё спали. Семён Ульяныч проковылял к воротам и оттащил засов.
По улице к Никольскому взвозу бежали мужики.
— Чего там? — крикнул им Семён Ульяныч. — Что за сполох?
— Церковь твоя рухнула, Ремезов! — бросил ему кто-то на ходу.
…Задыхаясь, Семён Ульяныч рвался вперёд — прыгал на своей увечной ноге вверх-вниз, словно по колдобинам и рытвинам, налегал на палку, размахивая свободной рукой для равновесия. Тулуп его распахнулся, шапку он где-то уронил, борода и волосы разлохматились. Его все обгоняли, даже бабы, скакали мимо всадники, свистели полозьями сани.
Рядом притормозили розвальни Панхария, содержателя торговых бань.
— Залезай! — крикнул он Ремезову.
На Троицкой площади гомонила расхристанная толпа; из кабаков на звон колокола выползли самые очумелые пьянчуги. Народ разглядывал развалину на Троицком мысу, и немалое число любопытных попёрло с площади вверх по Прямскому взвозу, чтобы увидеть всё поближе.
— Я думал, занялось где!..
— Господь за грехи карает!..
— Ладно — ночью, не то передавило бы православных!..
— Дьявол во тьме силён!..
— Гора усадку дала!..
— Говорили Ремезову: не ставь колокольню на крышу!..
— Шведы взорвали!..
— Я, братцы, видел, как она падала — будто ангел крылья сложил!..
— Софийский собор тоже рушился, я помню!..
— Царь Антихрист — и церквы в бездну!..
Семён Ульяныч стоял в толпе и глядел на Троицкий мыс, что грузно нависал над Прямским взвозом, как тупой нос корабля. Отчаянно блестела луна. Тонкий снег со склонов был содран обвалом скатившихся обломков. Вместо колокольни на мысу чернел щербатый кирпичный клык. Вокруг него сказочно серебрилась воздушная кисея — остатки осевшей пылевой тучи.
Под горлом у Семёна Ульяныча затрепыхалось сердце, боль потекла по телу, будто кипящая смола, плечи наполнились невыносимой тяжестью.
Семён Ульяныч медленно, точно нехотя, преклонил колени.
— Ремезов кается! — злорадно зазвучало в толпе.
Но Семён Ульяныч не каялся. Он положил на снег свою палку и тихо лёг лицом вниз, чуть скорчившись, чтобы облегчить пылающий костёр в груди.
— Суки вы, он же помирает!.. — заголосила какая-то баба.
Семён Ульяныч лежал на снегу посреди толпы — у людей под ногами, — как странная изломанная птица, упавшая с небес. Но чьи-то руки схватили его и перевернули. Над Семёном Ульянычем склонился Леонтий.
— Батька, не смей! — хрипло прошептал он.
А где-то рядом заорал Семён:
— Сани! Сани нужны!
Однако Семён Ульяныч не хотел сопротивляться смерти. Он просил Господа о знаке — он получил этот знак, и всё само собой исполнилось.
— Иссяк мой век на предательстве, — еле выговорил он.
Какой-то мужичонка в рваном треухе, расталкивая всех, уже подводил к Ремезовым свою лошадь, запряжённую в лёгкие санки-кошёвку, и Семён с Леонтием, бережно подхватив отца, переложили его в кузов на сено.
— Куда повезёте? — вдруг начали спрашивать в толпе. — Домой? Да он помрёт дома-то! Надо к лекарю на Софийский двор! К лекарю надобно!
— У меня Савраска на зиму не кована! — виновато завертелся мужичонка. — Не влезет на Прямской взвоз! Скользко!
По Прямскому взвозу до Софийского двора было напрямик — рукой подать, а в обход Алафейских гор до Никольского взвоза — долго.
— Да сами дотянем! Сами! — закричали в толпе. — Быстрее давай!
— И-и-эх! — отчаянно взвизгнул мужичонка, выхватил нож из-под полы зипуна и полоснул по гужу, который крепил оглоблю к хомуту.
Леонтий и Семён ничего не успели сделать — их оттеснили какие-то люди, отодвигающие кошёвку в сторону от лошади, а потом четыре дюжих парня взялись за оглобли и поволокли санки к Прямскому взвозу.
— Бегом, братцы! — глянув на Ремезова, приказал один из них и приналёг, и остальные тоже побежали.
А Леонтий и Семён бежали за санками. Санки понеслись сквозь толпу.
И поначалу всё было легко, но обледенелый Прям-ской взвоз вздымался всё круче, а склоны оврага сходились всё ближе. Люди, что карабкались по скользкому взвозу, цеплялись за столбики, вкопанные по обочинам.
— С дороги! С дороги! — хрипели парни с кошёвкой.
Люди, заполнившие взвоз, оборачивались и ругались:
— Чего пихаешь, морда! Друг за другом идём! Не ломи нахрапом! Жди! Какого барина везёте, жеребцы?
— Ремезов помирает! Ремезов!
«Ремезов!» — обеспокоенно пошелестело вверх по взвозу, и люди сразу стали расступаться, освобождая дорогу для кошёвки. Однако ретивые парни с оглоблями уже выбивались из сил на подъёме: один споткнулся и упал, другой разинул рот и побагровел, рожи у всех были мокрые.
— Отпусти! Отпусти! — вдруг закричали парням люди на взвозе — и мужики, и бабы. — Передачей вынесем!
Парни отстранились от кошёвки, уступая народу, а из толпы на обеих обочинах дружно потянулись разные руки — то корявые и натруженные, то гладкие и ловкие, грязные и чистые, в драных рукавицах и в узорчатых варежках. Эти руки хватались за оглобли и рывками вытаскивали санки наверх, как невод из реки, подавая тем, кто стоял ещё выше. А те, кто стоял ещё выше, тоже тянули руки к оглоблям, хватались — и вытаскивали кошёвку ещё на сажень вперёд по взвозу, хватались и вытаскивали, хватались и вытаскивали, хватались и вытаскивали. Кошёвка толчками ехала в гору без лошади, сама по себе — через людскую подмогу, словно лодка на попутных волнах. Но в этом сказочном движении не было никакого чуда: всего лишь соединённые человеческие усилия, простые, как обыденная работа.
Семь лет назад по той же дороге толпа волокла на плечах золочёную карету с новым губернатором, и была жара, и сияло солнце, и мужикам хотелось показать начальству своё общее молодечество, которое преодолеет и земную тяжесть, и небесную высоту. А сейчас была зима, и луна в звёздных россыпях, и не перед кем было хвастать: в санях лежал умирающий старик, а не губернатор, и старика возносили не для славы и не из гордости. И народ на Прямском взвозе не вспомнил, что шёл наверх всего лишь ради забавы — посмотреть на рухнувший храм. Не до забавы сейчас. Храм, конечно, жалко. Но храмов, слава богу, много.
Глава 13 Дознание
Государь с государыней были в отъезде почти два года. В Данциге Пётр Лексеич выдал замуж за мекленбургского герцога Карла Леопольда свою племянницу Екатерину Иоанновну. Из Ростока в Копенгаген царь плыл на галерах и сам управлял парусами. В Дюнкерке осматривал французский флот. В Кале охотился на зайцев. В Париже ходил в Арсенал и в Оперу, посетил шпалерную мануфактуру и анатомический театр. В Лувре русскому царю предоставили апартаменты королевы-матери, но Пётр Лексеич бросил роскошные покои и ночевал в гардеробной. Он потребовал, чтобы с ним встречался не регент герцог Филипп Орлеанский, а сам король Людовик XV — семилетний мальчик; короля привели, Пётр схватил его на руки, поднял и облобызал. В Намюре Пётр Лексеич бился в потешном бою на ходулях и танцевал на ассамблее. В Берлине прусский король Фридрих Вильгельм, давний друг Петра Лексеи-ча, перед прибытием государя во дворец приказал спрятать все хрупкие и ценные вещи, чтобы русский медведь их не поломал; Пётр выпросил у Фридриха античный мраморный статуй, изображающий бабу в срамном виде. Из Пруссии государь повернул обратно в Россию.
Заграница не излечила его. В Саксонии Пётр Лексеич пил марциальную воду, но в Амстердаме, столь любезном государю, его заколотило в падучей. В Бельгии, в Спа, государь опорожнял по двадцать стаканов подряд, однако прежестокие боли в животе не унялись. И приязнь жителей радовала Петра Лексеича тоже не везде. Под Ганновером на обоз государыни напала толпа крестьян; они побили придворных и перепугали беременную Катерину Лексевну; в итоге в Везеле она разрешилась раньше срока, и младенец Павел умер. И всё же не гибель дитяти угнетала дух государя, и не болезни.
После Европы он смотрел на свой Петербург совсем другими глазами. Его столицу размывали наводнения. Пышные дворцы — на самом-то деле деревянные, только оштукатуренные под камень, — покосившись, тонули в зыбкой почве. Мощёные мостовые горбились и расползались. Фрегаты, украшающие Неву, были построены из сырого леса, и через десять лет их ожидала участь мишеней для пушек Кроншлота. А сподвижники государя, князья и графы, генералы и адмиралы, воровали, будто подлые холопы.
Даже первенец государя, царевич Алексей, сбежал к австриякам, а потом в Неаполь: ждал, когда отец помрёт и освободит ему престол. Все затеи отца были царевичу не по нраву — аукалось воспитание в обиженной боярской Москве. Вскоре после возвращения Пётр всё-таки выманил крысёныша из норы, сцапал и отдал под суд. А суд был таким же, как и всё в державе, — лишь видимость Европы: камзолы иноземные, порядок отеческий. Пётр ещё до суда определил царевичу смерть, и все вокруг это знали; немудрено, что судьи — вельможи и сановники — постановили казнить Алексея. Государь пожелал, чтобы казнь не стала потехой для черни, и царевича то ли отравили, то ли задушили в каземате Петропавловской крепости. Под приговором Алексею среди прочих имелась и подпись князя Матвея Гагарина.
К тому времени Матвей Петрович уже обжился в столице. Розыск за ним иссякал. Майорская комиссия Дмитриева-Мамонова почему-то молчала, и Матвей Петрович потихоньку уверил себя, что офицеры ничего не нашли. А фискал Нестеров размахивал бумагами Бухгольца да признаниями купцов Евреиновых. Евреиновы дали покаянные показания аж по сто одному пункту, однако Матвея Петровича это не пугало. Он уже приготовил деньги, которые заплатит в казну, ежели царь посчитает, что свидетельства купцов подлежат возмещению из кармана князя. Обоюдно с Яков-Фёдорычем Долгоруковым, генерал-пленипотенциар-кригс-комиссаром, своим товарищем по китайским караванам, Гагарин перекупил ярославского провинциал-фискалишку Савку Попцова, чтобы Попцов рассказал правду о том, как даёт Нестерову взятки, — так что Нестеров сам ходил под топором, хотя и не ведал об угрозе.
Пётр Лексеич заявился к Матвею Петровичу вскоре после похорон сына — пьяный и с гвардейцами. Матвей Петрович в тот час в гостиной играл в дурачка с Евдокией Степановной.
— А по носу тебя, матушка, хлоп! — сбрасывая карты, весело и ласково приговаривал он. — И ещё разочек хлоп!
В глубине дома зазвенела разбитая посуда и затопали разбегающиеся слуги. Портьера отлетела, лакей Платон шарахнулся в сторону, государь в грязных сапогах прошагал по ковру и повалился в кресло. Гвардейцы остались стоять у входа, как болваны, — они уже очумели от выпитого.
— Ехал мимо, дай, думаю, заверну, — с усмешкой сказал Пётр. — Всё одно Гагарина под стражу брать надобно.
— Твоя воля, государь, — поклонился Матвей Петрович, убирая карты, и шепнул жене: — Дуся, уйди.
Евдокия Степановна, подобрав юбки, тихонько удалилась, кланяясь.
— Мальвазии дай, — буркнул Пётр.
— Платон, беги в бюфет! — не оглядываясь на лакея, велел Гагарин.
— Лёшки Нестерова сын в Амстердам ко мне притащился, — сообщил Пётр. — Всучил донос, что ты сорок тыщ упёр. Верно?
Матвей Петрович быстро смекнул, как себя сейчас вести.
— Может, и сорок пропало, государь, — согласился он. — Не считал.
— Ого! — злобно и весело удивился Пётр. — Уже и рук не прячешь?
— Дел в Сибири невпроворот, государь, — пояснил Матвей Петрович доверительно, но с достоинством. — По сотне бумаг в день подписывал. Небось чего-то недосмотрел, не то подмахнул второпях. Искать надо. Ежели какой урон вышел, так я своими возмещу. Но умысла на кражу не имел.
— Врёшь! — уверенно возразил Пётр. — И не сорок тыщ за тобой! Сорок тыщ — тьфу, бога гневить! — Пётр плюнул на ковёр — ловко, как грузчик на пристани. — Четыреста тыщ — вот это по-гагарински!
Подбежал Платон с открытой бутылкой на серебряном подносе. Пётр цапнул бутылку огромной ручищей и глотнул прямо из горлышка.
— Кубок дай, дурак! — вытирая рот, бросил он лакею. — И гвардейцам моим по бутылке!.. Слыхал, Петрович, я архангельского вица Курбатова от губернии отставил и под суд отдал? Казню, наверно.
Матвей Петрович молча кивнул. Вице-губернатор Курбатов был не князь, а прибыльщик из крепостных. И он поссорился с Меншиковым.
— Курбатов тоже лихоимец. Так что ты, Гагарин, не первый будешь. Все вы воруете. И Голицын, и Куракин, и Яшка Брюс, а Сашка хлеще всех.
— Наговоры, государь, — твёрдо ответил Матвей Петрович.
— Корсакова, вица питербурхского, я велел кнутом на площади высечь. Опухтину и Волконскому калёным железом языки прижгли, — Пётр сверлил Матвея Петровича немигающим взглядом. — А всё мои майорские комиссии! Там офицерики что кремни — мелкие и крепкие! Искрой бьют! Вот кто люди для державы, а не вы, мздуны!
— Мы все тебе служим, — смиренно поклонился Матвей Петрович.
— Служите? — ухмыльнулся Пётр. — Ну да! Где же мой Яркенд? Ты должон был его мне на блюде поднести!
Гневным взмахом руки Пётр сбросил с карточного столика бутылку мальвазии. Вино потекло, впитываясь в ковёр.
— То Бухгольц струсил. Но ты сам его назначил.
— Бухгольца не в солдаты, в петлю пошлю, — пообещал царь. — А вторую петлю рядом с ним для тебя привешу!
— Прикажешь виновным быть — сам её надену, — тихо сказал Гагарин.
Выпученные глаза государя казались лишёнными разума.
— Может, и прикажу, — вздохнул Пётр и тяжело поднялся с кресла. — Сиди в столице, жди! Разберусь ещё с розысками на тебя!
Матвей Петрович понял, что его судьба скоро решится. А Пётр не забыл своих слов — потребовал довести до итога следствие по делу Бухгольца.
Полковник давно изнывал в бездействии. Он жил в домишке на берегу Невы, его на собственное жалованье содержал брат, да жена огородничала. Конвой доставил Ивана Дмитриевича в Адмиралтейство. Незнакомый Ивану Дмитриевичу офицер начал заново выяснять все подробности похода, однако посреди допроса в кабинет стремительно вошёл Пётр. Бухгольц вскочил. Государь, ухмыляясь, уселся на стол, прямо на допросные листы.
— Признавайся, что труса отпраздновал! — напрямик заявил он.
— Не было того, государь, — кратко ответил Бухгольц.
— Тогда почему не погиб? Не исполнил приказ — сдохни, как Бекович!
Иван Дмитриевич знал историю князя Бековича-Черкасского. О нём много болтали среди офицеров. В 1717 году князя Бековича отправили в поход на Хиву. У князя было две тысячи солдат и столько же казаков, гребенских и яицких. От Гурьева войско князя на судах перебралось через Хвалынское море и двинулось к оазису Хорезм, вернее, к урочищу Карагач. Лазутчики говорили, что раньше золотоносная река Дарья текла из Арала в Хвалынское море, но в Карагаче хивинцы преградили ей путь огромной плотиной, чтобы золото Дарьи не доставалось русским или туркам. Дарья потекла в другую сторону; опустевшее русло азиаты называли Узбой.
Хивинский хан Ширгази встретил Бековича в Карагаче с войском. Бекович разбил хана. Ширгази склонился в мнимой покорности, пригласил русских занять весь Хорезм и заверил, что гости будут в безопасности. Офицеры возражали, но Бекович разделил своё войско на пять частей и отправил в разные города. И коварные хивинцы перерезали русские отряды по одному. Из отрубленной головы Бековича хивинцы сделали чашу, и Шир-гази послал её в подарок хану Бухары. Словом, поход Бековича на Хиву закончился куда большим поражением, чем поход Бухгольца на Яркенд.
Иван Дмитриевич угрюмо молчал. Он помнил страх, который овладел им в ретраншементе. Тот страх терзал его солдатскую совесть. Беда была в том, что воинская наука советовала ему сделать то, к чему страх подталкивал и сам по себе. Это и не позволяло Бухгольцу защищаться так, как следовало для чести командира. Тот давний страх бросал тень на доблесть и превращал честную правду в красивые оправдания. Но согласиться на казнь тоже было нельзя, ведь казнили бы его за трусость. Трусость только царям не позор.
— Голову сложить — невелика заслуга, государь, — глухо и медленно произнёс Бухгольц. — А Бекович не токмо свою голову хивинцам отдал, но и знамёна, которые от твоего имени ему были вручены. Я же все свои знамёна вынес и преклонением пред врагом их не осквернил.
Царь фыркнул — то ли признал справедливость слов Бухгольца, то ли оценил хитрость обороны.
— Сядь, Бухгольц. Почему же летом заново на Яркенд не пошёл?
Иван Дмитриевич сел.
— Силы недостало, государь. На Ямыше я без боя две тыщи потерял.
— Брал бы десять тыщ! Две положил — восемь до Яркенда дошли бы!
— Такого числа рекрутов господин губернатор не изыскал.
— Значит, Гагарин виноват? — Пётр соскочил со стола, схватил Бухгольца за подбородок и заглянул в глаза. — Гагарин поскупился на новое войско?
— Я как есть говорю, государь, — Иван Дмитриевич старался не моргать. — Новое войско пребывало в недостаточности. А судить об основаниях оного мне не в полномочии, ибо сие не моя дирекция.
Пётр оскалился, словно радовался тому, что раскусил Бухгольца.
— Думаешь, коли вину принял на себя, так я честью твоей восхищусь, слезу сроню да помилую тебя?
— О милости молить твоему солдату недостойно, — тихо сказал Бухгольц.
Пётр выбежал из кабинета и хлопнул дверью.
Через неделю князь Гагарин узнал, что воинский суд оправдал Бухгольца. Полковника назначили комендантом в крепость Нарву, которая уже утратила былую важность шведского пограничья. Новость о Бухгольце произвела на Матвея Петровича дурное впечатление. Следовало ждать беды.
Но за Матвеем Петровичем пришли ещё не скоро.
В тот день он возился с графом Гаврюшкой — внуком. Графу было восемь годочков. Он сидел у деда на коленях, болтал ногами и разглядывал букварь. Матвей Петрович, нежно придерживая графа, тыкал пальцем в картинку:
— Это кто нарисован?
— Дядька голый.
— Что за грех ты ему показываешь, батюшка? — возмутилась Дашка.
Дашка играла с матушкой в карты.
— Молчи, дурёха, — сказал Матвей Петрович. — Ты читай, Гаврюшка.
— А-дам, — по слогам прочитал малолетний граф.
— Первочеловек, понял? — Матвей Петрович поцеловал внука в висок. — Его Господь прежде всех создал, вот так. А это кто нарисован?
— Змея с крыльями.
— Прочитай, — наставительно подсказал Матвей Петрович.
— Ас-пид, — прочитал Гаврюшка.
За портьерой затопали и зазвенели шпорами, тихо запричитала прислуга. Твёрдая рука откинула бархат. В гостиную вступил офицер в шляпе.
— Князь Матвей Петров Гагарин! — объявил он. — По указу Сената беру вас под караул для препровождения в Адмиралтейство! Извольте одеться!
Дашка вытаращила глаза, Евдокия Степановна в ужасе закрыла руками рот, а граф Гаврюшка с восторгом рассматривал мундир и шпагу офицера. Матвей Петрович отложил букварь и поднялся, поднимая и внука. Он не испугался ареста, но его вдруг пронзила вещая тоска: больше он никогда не почувствует в своих руках вот эту живую тяжесть ребёнка.
— Выпей винца, пока я соберусь, — предложил князь Гагарин офицеру.
Матвея Петровича поместили в каземат, расположенный в подвале Адмиралтейства. Это было в духе государя. В любимом Адмиралтействе у него находились не только контора по управлению верфями и штаб флота, а ещё и кабинет со спальней, мастерская, библиотека, собрание редкостей, цейхгауз, судебная палата, пыточная камора и застенок. Застенка Матвей Петрович не боялся. Он уже сидел в тюрьме — и даже на цепи, а не просто так, как здесь. Это было десять лет назад в Москве, когда он затянул сбор рекрутов, и царь для порядка постращал его неделей на хлебе и воде. Каземат Адмиралтейства не удручил Матвея Петровича. К собственному грустному удивлению, Матвей Петрович понял, что без Сибири ему всё равно, где пребывать: хоть у себя во дворце, хоть у царя в темнице.
Может, государь взялся бы за Матвея Петровича сразу, но в Питербурх принеслось потрясающее известие: при осаде города Хадден шальной пулей в траншее был убит шведский король Карл! Говорили, что в голову короля влетела даже не пуля, а солдатская пуговица, — а пуговицей ружьё заряжают тогда, когда хотят подстрелить нечистую силу. Шведский трон заняла сестра Карла принцесса Ульрика Элеонора, и вся Европа тотчас оживилась, предчувствуя, что всем надоевшая война скоро закончится. Пётр Лексеич заметался, готовясь к последним боевым действиям, которые добили бы врага в его логове. На князя Гагарина государь махнул рукой: не до него.
Это хорошо. Пётр злопамятен, он не простит за давностью лет, но теперь станет судить хотя бы не сгоряча. И Матвей Петрович осваивался в каземате со всеми возможными удобствами. Лакеи приносили ему из дома обеды и ужины, чистое бельё и книги. Дашка и Лёшка на свиданиях пересказывали свежие сплетни; дочь — то, что подслушала возле кабинета свёкра, канцлера Головкина, а сын — то, о чём болтали в гвардии и в кабаках. Правда, визиты детей постепенно становились всё реже: Дашку отвлекали семейные заботы, а Лёшке было скучно с отцом. Все в доме понемногу привыкали, что Матвей Петрович живёт не в своих покоях, а в подвале Адмиралтейства; страх за него отступил, и надобность во встречах стала казаться не такой уж важной. Матвей Петрович всё понимал и не обижался. Из былых дру-зей-вельмож к нему вообще никто ни разу не пришёл, только поклоны присылали — и на том спасибо. Зато Евдокия Степановна навещала каждый день. А что ей делать?
Ближе к весне, когда бессмысленное заключение уже совсем надоело, Матвей Петрович велел жене обратиться к светлейшему князю Лександру Данилычу Менши-кову: вдруг пособит? Пусть Евдокия Степановна подарит ему карету, на которую он уже давным-давно обзавидо-вался.
Меншиков, конечно, примчался в каретный сарай Гагариных.
— Батюшка Лександр Данилыч, родненький, на коленях молю, — плакала Евдокия Степановна, — попроси государыню Катеринушку за моего Матвей-Петровича! Она же любит его, авось заступится перед супружником!..
Меншиков ощупал резьбу на карете — крепко ли приделана, открыл дверку, проверил упругость сидений.
— Не изводись ты, матушка, — весело сказал он. — Не дадим Петровича в обиду! Он же нам свой. Мы все воруем!
— Прими в благодарствие! — Евдокия Степановна сунула Меншикову толстый тяжёлый кошель с золотыми — уже от себя, а не от мужа.
— Добрая колымага! — восхитился Меншиков и небрежно бросил кошель на подушки сидений в карете. — Жаль, улицы у нас мощёны худо!
Меншиков увёз карету, но у Матвея Петровича ничего не изменилось.
Он сидел в каземате и вспоминал свою жизнь. Вспоминалось только хорошее. Как в молодости с братом Василием, уже покойным, рыбачил на Байкале. Как на воеводстве в Нерчинске влюбился в огненную девку-даурку. Как в отчем селе Сеннице под Москвой освящал родовой храм. Как пошла вода по каналу, прокопанному в болотах Вышнего Волочка. Как смеялась Аннушка, меньшая доченька, ныне похоронившая себя в монастыре. Как строился дворец на Тверской. Как радовался государь на позорном параде пленных шведов. Как агукал младенец Гаврюшка. Как в Тюмени владыка Филофей показывал духовную пиесу. Как Ремезов возил в лодке на Прорву и там провалился в воду. Как сияла негасимая свеча в руках мёртвого владыки Иоанна — единственное чудо, которое Матвей Петрович видел своими глазами… Идут ли суда по его каналу? Звенит ли колокол в Сеннице? Кому Агапошка Толбузин пушнину продаёт? Жив ли Ремезов? Жив ли Филофей?
А царь Пётр всеми мыслями был на Балтике. Летом российские галеры подошли к побережью Швеции и высадили войска. Инфантерия и кавалерия брали шведские города, сжигали мельницы и артиллерийские мануфактуры. Флот разведывал морские пути к Стокгольму. Шведы трепетали.
Осенью Евдокия Степановна прибежала к Матвею Петровичу в каземат и чуть не упала без чувств. Чёрт занёс её на Троицкую площадь, где в это время казнили бывшего обер-фискала Лексея Нестерова. Матвей Петрович едва не подпрыгнул от нежданной радости. Впрочем, ужас, через который прошёл злой старик, остудил сердце Матвея Петровича.
Подкупленный ярославский провинциал-фискал Савка Попцов исполнил обещанное: написал донос на Нестерова. Дело обер-фискала разбирала всё та же комиссия Дмитриева-Мамонова. За Нестеровым подозревали взяток на триста тысяч. Старика обер-фискала вздёргивали на дыбе, били кнутом, а потом по рубцам хлестали горячим веником. Но Нестеров оказался крепче железа: он признал только те грехи, в которых его уличили со свидетелями. Обер-фискала приговорили к казни. На эшафоте его привязали к кресту, и полковой профос кузнечным молотом раздробил ему локти и колени. Старик молчал, как бесчувственный. Майор Дмитриев-Мамонов подскочил к нему и спросил, не раскаивается ли тот, не выдаст ли ещё какого вора, — Нестеров надменно отвернулся. Тогда ему отрубили голову. Заодно снесли бошки и трём другим фискалам-вымогателям, в том числе и Савке Попцову.
Матвей Петрович знал, что Нестеров — вор, и вор подлый. Нестеров брал взятки и предавал взяточников из одной лишь непомерной гордыни: бывший холоп, он мстил барам за свои унижения. И всё же Матвею Петровичу стало жаль обер-фискала. Хотя к жалости примешивался и страх за себя. Матвей Петрович словно бы располагал своё сердце к милосердию, надеясь, что сердца судей и даже государя как-то отзовутся на это и тоже преклонятся к прощению, когда начнётся суд над самим Матвеем Петровичем.
Умом Матвей Петрович понимал, что никакие особенные кары ему не грозят. Чем ему в рожу тычут? Сорока тыщами! Да светлейший за один хапок в зубах сотню уносит, и все это знают. Могли его ещё и на пушнине зацепить, ежели Агапошка майору Лихареву проболтался, однако губерния меховых долгов не имеет. Евреино-вы? Евреиновых допрашивал Нестеров, а его записям теперь доверия нет. Всё остальное — только подозрения. Он, князь Гагарин, не хуже любого прочего в державе: все берут, все тащат, все воруют. Доводы разума успокаивали Матвея Петровича, но душа отчаянно дрожала. Сатана силён и коварен: уж он-то найдёт, как сгубить человека.
Глава 14 «Из того колодца»
День испытаний наступил для Матвея Петровича в конце зимы. За окошком каземата засинел ранний вечер, когда дверь открылась, и вошли четыре солдата караула. Матвей Петрович поднялся с лежака сам, хотя ноги подгибались. Его провели по коридору и втолкнули в другой каземат. Здесь за столом сидел секретарь и чинил перо. Профос влез на лавку и продевал сквозь железное кольцо, ввинченное в балку потолка, морской плетёный трос, пропущенный сквозь другое кольцо в стене и намотанный длинным хвостом на корабельный ворот-кабестан. Кабестан и трос были дыбой.
Дюжий профос принял узника дружественно, словно собирался парить в бане, а не терзать на пытке. И скоро Матвей Петрович, раздетый донага, стоял на коленях посреди каморы. Руки у него были крепко связаны сзади и зацеплены за верёвку дыбы. Матвею Петровичу сейчас было не до стыда: он потел, исступлённо бормотал молитву, приготовляя себя к адской муке, и трясся от ужаса. Но боялся он только страданий, а не того, что выдаст какую-нибудь сокровенную тайну. Матвей Петрович был свято убеждён: в Сибири он не творил ничего дурного или беззаконного. Губернаторство само по себе предполагало всё то, что он делал, и ему не в чем было каяться.
— Щас царь придёт, обожди, — сказал князю Гагарину секретарь.
Пётр распахнул дверь каземата и с порога хищно ухмыльнулся.
— Степанов! — крикнул он вестовому, что остался в коридоре. — Трубку мне зажжённую принеси, кувшин ренского и кубок!
Пётр сел на лавку, рассматривая Гагарина.
— Хорош! — довольно сообщил он.
Матвей Петрович увидел, что государь предвкушает зрелище пытки.
Вбежал вестовой Степанов, подал дымящуюся трубку и поставил рядом с Петром на лавку кувшин и кубок. Пётр сразу налил себе вина.
— Пётр Лексеич, не терзай меня, — смятым голосом попросил Матвей Петрович. — Я ли тебе не друг? Я же тебе канал соорудил и Москву отстроил, я твою армию под Полтавой кормил и одевал… Кого губишь?
— Вора лихого! — ответил Пётр. — Или ты белокрыл, как серафим?
— От твоей казны не брал никогда! — замотал головой Матвей Петрович. — Дела путал, не следил, траты не записывал… Но не брал!
Матвей Петрович вглядывался в государя со страданием и отчаянной надеждой. Неужели царь не понимает, что из казны воровать — промысел жалкий? Сашка Ментиков пусть ворует, он иначе не умеет. А у него, у князя Гагарина, таможни и винокурни, откупы и подряды, пушнина и китайские караваны!.. Он от своего места получал вдесятеро против того, что мог бы украсть из казны! Для него воровать — всё одно, что посевное зерно молоть!
— С чего же ты богат?
Пётр плеснул из кубка в лицо Гагарину.
— Из того колодца черпал, который сам и выкопал!
Пётр смотрел на Гагарина с ненавистью. Голый, толстый и старый мужик — на вислых титьках шерсть вон вся седая. Сизая мотня — будто серьги петушиные. Боится дыбы — аж рожа плывёт; о пощаде с колен умоляет. Но этот голый мужик — первый хозяин на державе. Он, царь, по хитроумию в делах и на подмётки Гагарину не годен. Можно Гагарина на части порвать и псам скормить, но всё равно его не превзойти. А лучше царя быть нельзя!
— Крути, Пантелей! — распорядился Пётр.
И Матвей Петрович отпустил себя. Не надо напряжением воли бороться с пыткой и терпеть, стараясь ничего не сказать. Ему же нечего скрывать; у него нет узелков, которые надо развязывать. Самая прежестокая пытка — дело напрасное, ежели пытаемый не чует за собой греха, а Матвей Петрович греха не чуял. И поэтому ему нужно отдаться страданиям и просто отмучиться, сколько царь пожелает. Он — только тело, которое будет корчиться от боли.
Профос умело взялся за рукояти кабестана. Трос полез вверх, Матвей Петрович суетливо вскочил на ноги, но его согнуло, когда сзади задрались связанные руки, и наконец он истошно закричал, когда его подняло в воздух, и руки с хрустом медленно провернулись против своей природы, выходя из плечевых суставов. Тяжесть откормленного брюха раздирала тело даже без груза на ногах. Матвей Петрович повис, дёргаясь и завывая, а профос закрепил кабестан клином и деловито встряхнул в руке толстый кнут…
Матвей Петрович очнулся на полу, когда профос окатил его водой из ведёрка. В каждом плече горело по костру, вывернутые руки не шевелились, исполосованная кнутом спина ядовито пылала. Дрожали все поджи-лочки.
— Признаёшь воровство? — откуда-то издалека спросил царь.
— Не признаю, — прохрипел Матвей Петрович.
Царь вдруг оказался рядом с Гагариным. Схватив
за волосы, он задрал голову князя и сунул ему в лицо какую-то вещицу.
— А это признаёшь, козёл душной? — яростно спросил он.
В заскорузлых пальцах царя сияла пайцза Дерущихся Тигров.
Откуда пайцза у Петра?! Как это возможно?! Даже сквозь жгучую боль Матвея Петровича насквозь пронзило могильным холодом. Государь всё же вскрыл его душу, будто отодрал приколоченную дверь, но вскрыл не пыткой.
— Не ведаю сего… — прошептал Матвей Петрович.
В стылом каземате Адмиралтейства словно пахнуло пряностями. Пайцза — это не прореха в казне, это нестерпимый царю Китай! Это унижение от потерянного Амура и снесённого Албазина, это позорный обычай «коутоу», это надменный богдыхан, это недоступное золото Яркенда!.. А ещё пайцза — это дерзость губернатора, холопа, который ради своей выгоды переступил через гордыню государя, через интерес державы и через кровь!
— Лжа! Всё ты ведаешь, дьявол! — как аспид прошипел Пётр. — Сие — знак измены государству! За китайские караваны, иуда, ты вверг меня в войну с контай-шой! Я Аюке запретил воевать, а ты сам войну устроил, Петрович!
— Не было… — выдохнул Гагарин, но Пётр его не слушал.
— Войну только царь объявлять может, а ты — царь?! Царь, да?!
— И в мыслях не имел…
— Твоя корысть державы поссорила! Ты на мой престол невидимый сел! Ты, Петрович, хуже моего Лексея, которому сам же приговор подписывал!
Пётр распрямился надлежащим в луже Гагариным.
— Крути, Пантелей! — приказал он профосу с наслаждением мести. — Только не до смерти! Его ещё Сенат судить должен!
Дыба снова вознесла Матвея Петровича к потолку, и профос взялся за кнут. Царь ничего не спрашивал, отвечать ничего не требовалось, и теперь Матвей Петрович окунулся в безумие боли даже с облегчением: скорей бы из него вышибли дух! Царь не дознаётся до правды — он всю правду уже знает до конца, и сейчас просто терзает своего пленника, наказывая страданиями. А чаша страданий не бездонна.
Пётр курил трубку, наливался вином и с мрачным упоением наблюдал за пыткой. Он знал Гагарина двадцать лет, а то и больше, и Матвей Петрович всегда казался ему человеком особой породы. Все прочие рьяно кидались исполнять повеления государя, но их собачья преданность не имела цены — она изначально содержалась в натуре. А вот Гагарин не лез на рожон, брался за порученное не спеша, обдумав, примерив, и его одобрение заключалось в том, что у него царские замыслы оборачивались пользой. Но всё же князь Гагарин предал. Древняя спесь Рюриковича помножилась на бесстыжую неутолимую корысть, и Гагарин возомнил, что он главнее худородного царя.
Гордыню Гагарина Пётр постигнул, когда майор Дмитриев-Мамонов рассказал историю золотого китайского ярлыка. Сей знак попал в руки Петра просто чудом. В войске Бухгольца служил молоденький поручик из числа выучеников Яшки Брюса. В Тобольске оный юнец подженился. Потом ушёл в поход с Бухголь-цем. При баталии, раненый, угодил в плен к азиятам. От них и узнал, какое послание заключено в золотой побрякушке богдыхана и откуда она взялась у степняков. Юнцу хватило ума сообразить, как важно сие свидетельство для истолкования внезапной войны. В плену поручик увидел, как погиб тайша, владевший ярлыком. Поручик прибрал ярлык себе. Через год с лишним тобольский тесть выкупил своего невезучего зятя из плена. И юнец передал ярлык майору Лихареву. Правда, не сразу. Лихарев с войском отбыл на Иртыш исправлять то, что наворотили Бухгольц и Гагарин. Но упрямый поручик дождался возвращения майора. Молодец, что сказать.
Майор Дмитриев-Мамонов даже не поверил в подобную дерзость князя Гагарина. Не разъясняя ничего своим асессорам, он приказал Лихареву прикусить язык и отправился напрямик к Петру Лексеичу. Измена Гагарина не уместилась в голове государя. Пётр затребовал у Бухгольца аттестацию на поручика, и Бухгольц отозвался только превосходно. Пётр отослал ярлык с фельдъегерем на Волгу к хану Аюке, и Аюка подтвердил: да, се есть та самая пайцза, каковую привёз ему китайский посланник, а он отверг. И сомнений в предательстве Гагарина у государя больше не осталось. Потому старый друг Матвей Петрович Гагарин сейчас и висел, изломанный и окровавленный, на дыбе под сводом пыточной каморы. Поделом вору мука.
Пётр тешил душу, пока не опростал кувшин досуха. Вздёрнутый ещё дважды и ещё дважды избитый кнутом, Гагарин сорвал голос от крика, а потом умолк. Он свалился на пол каморы почти мёртвый. Профос Пантелей выплеснул на него несколько вёдер воды, но Гагарин так и не очнулся.
— Сдох, что ли? — спросил Пётр.
Пантелей, нагнувшись, пошевелил князя.
— Жив, — сказал он. — Токмо совсем плох.
— Сколько надобно, чтобы прямо стоять смог?
— Неделю, пожалуй.
— Трёх дней хватит, — решил Пётр и встал, морщась от боли в животе. — Эй, караул! — крикнул он в коридор. — Сволоки эту падаль в каземат!
Через три дня князя Гагарина доставили на Сенатский суд. В парике и в камзоле, с кружевным бантом на груди, Матвей Петрович еле держался на ногах, уронив искалеченные руки; сзади его подпирал солдат. Обвисшее лицо князя покрывала мертвенная бледность, но взгляд пугал непокорством, словно Матвей Петрович видел ад и выжил, и теперь ему ничего не страшно. Три дня после пытки он собирал себя, словно кашу, размазанную по стенкам горшка, и готовился к сопротивлению. Ещё не всё потеряно. Он не сдастся. У него есть, чем обороняться и на что надеяться. Он умнее всех этих сенаторов, потому и стал богаче их, и воля его крепка, ведь он ни в чём не покаялся на испытании. Его ещё не сломили и не загнали в угол. Сенатский суд заседал в зале Юстиц-коллегии; за высокими наборными окнами сырой ветер с Невы сёк ледяной крупкой по Троицкой площади. Евдокия Степановна рассказала Матвею Петровичу, что из этих окон Пётр любовался казнью обер-фискала, и князь не желал, чтобы и его казнили там же, где срубили голову Нестерову.
Важные судьи за длинным столом все до единого были знакомы Матвею Петровичу. Сашка Меншиков, светлейший. Граф Мусин-Пушкин. Адмирал Апраксин. Граф Андрей Матвеев. Толстый барон Шафиров. Князь Дмитрий Голицын. Граф Пётр Толстой. Канцлер Головкин Гаврила Иваныч. Князь Кантемир. Все они были приятелями Матвея Петровича по карточной забаве или товарищами по делам. И все раньше за честь почитали дружество с Гагариным. Ох, не забыли бы они об этом сейчас… Горели свечи, пахло воском и помадой, изразцовые голландские печи дышали ласковым теплом.
— Горько нам видеть тебя, Матвей Петрович, в сём скорбном положении, — сурово сказал Гаврила Иваныч, — но божья правда к возмездию взыскует. Посему выслушай обвинения от нас и от государя и скажи нам слово в свою защиту, а мы уж без злобы и лести судить будем, как с тобой обойтись.
Матвей Петрович встал покрепче.
— Зачтите, что имеете, — просипел он.
— Начинай, — кивнул Гаврила Иваныч секретарю.
Меншиков развалился в кресле, предвкушая любопытные подробности.
Матвей Петрович угрюмо глядел в окно. Конечно, за угождение Китаю Пётр ещё до суда приговорил его, князя Гагарина, к смерти, как до суда приговорил к смерти и собственного сына. Но Матвей Петрович понял: Пётр не открыл судьям истинную причину своей ярости — слишком уж постыдно быть государем, у которого подданные самовольно посылают войско против иноземной державы. На умолчание царя Матвей Петрович и опирался. Сенаторы верят, что судят князя Гагарина не за измену, а за воровство. Но кто не ворует? Меншиков — первый вор! За воровство смертью не карают!
Секретарь откашлялся и развернул листы.
Все обвинения Матвей Петрович знал и не считал их опасными, заранее заготовив ответы. Сорок тыщ Бухгольца? Он возместит своё упущение из своего кошеля. Хлебный обоз, что потерялся где-то в Вятке? Тоже возместит. Три тыщи денег государыни? Сей вклад не пропал: на него заказаны перстни, но обоз с ними застрял в Иркутске, арестованный майорской комиссией. Недоимки от губернии на сто тридцать тыщ? Дак то слободы не платят, а губернатор ни при чём. Купцы Евреиновы в Сибири табаком торговали? Но это уже Нестерова розыск, и Нестерову доверия нет. Жалобы какие-то из губернии? Народ на любое начальство всегда жалуется, ничего нового!
Однако потом зазвучало то, чего Матвей Петрович никак не ожидал услышать. Губернаторские поборы с купцов. Поборы с комендантов. Поборы с мужиков. Поборы на таможнях. Поборы за откупы. Притеснения бухарцев. Тайные корчмы. Тайные товары в китайских караванах. Провоз запрещённых грузов. Хитрость пушных перемен. Торговля без пошлин. Кража могильного золота. И всё — с именами, с датами, с указанием обретённой выгоды. Матвей Петрович едва не упал — караульный солдат подхватил его сзади за ворот, как щенка. Кто мог выдать всё это? Что за Иуда?!. Матвей Петрович лихорадочно перебирал в уме своих тобольских подручных. Это было важно: знаешь, кто оговорил, — сумеешь опровергнуть. И Матвей Петрович понял, кто его предал, когда секретарь зачёл ещё и обвинение в потворстве пленным шведам, назвав немалые суммы воспомоществования. Предал Ефимка Дитмер! Только он всё ведал досконально, только он мог записывать где-то себе украдкой, сколько с кого и когда губернатор принял в карман.
Меншиков весело присвистнул, изумляясь деяниям Гагарина.
— Добрая ищейка майор Лихарев! — сказал он.
Матвей Петрович обливался ледяным потом. Опровергнуть Ефимку он никак не мог. Дитмер не Бибиков и не Толбузин. Дитмера сам царь помнит, ведь он в лицо Петру заявил, что русские ужимают пленных шведов; за это правдолюбца Дитмера и укатали в Сибирь! А Ефимка угробил благодетеля!
Но беда была вовсе даже не в предательстве Дитмера. Всё, что Матвею Петровичу теперь ставили в вину, являлось сутью губернаторства! На кой ляд надобно губернаторство, ежели нельзя брать мзду с любого дела в губернии? На том и зиждется служба державе! Не мздою же мерят губернатора, а процветанием его губернии, и у Матвея Петровича в Сибири всё пёрло вверх, как на дрожжах! А теперь, выходит, сибирский губернатор — лихоимец? Теперь его службу почтут воровством? Государь мстил подло, как карточный шулер. Отеческое правило объявить беззаконием — всё равно что землю из-под ног выбить! Гнев снова пошатнул Матвея Петровича. Нет, не Дитмер его предал! Его предал сам государь! За все труды Матвея Петровича государь, глумясь, платил ему дыбой, кнутом, плахой и топором!
Матвей Петрович ощутил, что летит в бездну. Взгляд его метался с одного судьи на другого. Судьи все были как за тысячу вёрст. Но не может быть, чтобы они осудили на казнь! С ним, с Гагариным, они же одним миром мазаны! Они князю Гагарину всё равно что братья! С Гаврилой Иванычем Головкиным Матвей Петрович породнился — его Дашка замужем за сыном Гаврилы Иваныча, внук растёт! С Петром Палычем Шафировым Матвей Петрович тоже уговорился детей повенчать: своего Лёшку с его Нюткой! А граф Мусин-Пушкин сватал сына за младшую дочь князя Гагарина — жаль, что строптивая Аннушка из-под венца сбежала в монастырь. Ежели судьи — свояки, неужто не спасут? Неужто обрекут на страшную погибель? Нет! Они придумают кару полегче! Имений лишат. Сошлют. Язык прикажут урезать. В монахи велят постричься. В острог посадят. Да мало ли чего!
— Признаёшь ли вину за собой, Матвей Петрович? — спросил Гаврила Иваныч Головкин с суровой честностью в лице.
Спорить с показаниями Ефимки Матвей Петрович не мог.
— Не признаю! — глухо ответил он. У него оставалось самое последнее оправдание: древлеотеческое, от скрижалей прадедовых. — Я трижды после дыбы и кнута вину не признал, а из того следует, что по закону я невиновен!
Сенаторы взволнованно зашептались, и Матвей Петрович понял, что они раздосадованы. Они хотели, чтобы князь Гагарин сам себя осудил.
— Запирательство тоже вина! — огласил Гаврила Иваныч.
Душа Матвея Петровича носилась по залу суда, как птица, случайно влетевшая в окно, билась о стёкла, хлопала крыльями.
— Ох, Матюша! — с весёлым сочувствием вздохнул Меншиков. — Друг ты нам всем любезный, верно, бояре? — он оглянулся на сенаторов. — Сколь соли вместе съели, сколь вина вместе выпили! Однако же государь нам — превыше друзей и отца-матери. А потому исповедуйся, сердешный, и готовься с животом проститься. Уж не обессудь, но приговор наш тебе — петля!
В это время на площади в Троицком соборе колокол отбил повечерие.
…Государь жаждал мести. Не казни, не позорного умерщвления врага, в последний свой миг осмеянного чернью, а настоящей мести, когда враг не просто уничтожен, а раздавлен каблуком в лепёшку, точно жаба на дороге.
Матвея Петровича по-прежнему держали в каземате, но уже никого к нему не допускали. Только иной раз являлся вестовой от царя и сообщал, что происходит. Изменник должен узнать цену своей измены. Матвей Петрович плакал и зажимал уши, но караульные отнимали его руки от ушей. И каждая новость была будто убийство. Государь убивал своего врага многократно.
О о веем городам и острогам Сибири на базарах и в присутственных местах глашатаи прокричали царские слова о том, что князь Матвейка Петров Гагарин есть плут и недобрый человек, а потому отшиблен от места и будет повешен. Во всех канцеляриях державы Пётр повелел водрузить «зерцала»: дощатые тумбы с окошками, в окошках — наиглавнейшие указы, и два из них — про воровство сибирского губернатора. Чтобы всё государство от смоленских рубежей до китайской границы проклинало лихоимца во веки веков, аминь. Все портреты князя Гагарина было приказано разорвать и сжечь, и даже канал под Вышним Волочком, построенный Матвеем Петровичем, отныне из Гагаринского переименовали в Тве-рецкий.
Графиню Дарью Головкину заставили в храме встать на колени и под иконами отречься от батюшки. Монахиня Анастасия, а прежде Аннушка Гагарина — приняла великую схиму и удалилась в пустынь. Алексея Гагарина сослали служить на галеру. У Евдокии Степановны отняли все имения, все дворцы, все доходы, оставив ей только то, что она тридцать лет назад получила от своего батюшки в приданое к свадьбе. Царь шарил по жизни Матвея Петровича, подбирал всякую ниточку и злобно рвал её.
Только через год, натешившись, Пётр согласился завершить отмщение. По Питербурху было объявлено о долгожданной казни князя Гагарина.
В назначенный мартовский день толпа заполонила Троицкую площадь, посреди которой возвышалась виселица. Пришли все, кто смог: чиновники, канцеляристы, мастеровые, солдаты и офицеры в треуголках, слуги, ямщики, купцы, оброчные мужики, калеки-попрошайки, карманники, монахи и разные бродяги. С балкона аустерии из-под вывески с портретом Петра смотрели, покуривая трубки, иноземные посланники в шляпах с перьями и голландские шкиперы. Немало было и баб: поварих, портомоек, чистеньких горничных, лавочниц и полковых потаскух. Среди гомонящего моря людей громоздились кареты на грязных золочёных колёсах, торчали вельможи на конях. Сновали мальчишки, взвизгивали собаки, кое-где ругались, откуда-то слышался смех. Команда музыкантов стояла на паперти Троицкого собора и вразнобой завывала армейскими фаготами и гобоями. Окна двенадцати коллегий тихо и тепло светились — в пасмурный день во всех залах и кабинетах горели свечи. В окне Юстиц-коллегии, словно грозный призрак, темнела фигура царя.
Рядом с виселицей вытянулся длинный пиршественный стол, щедро заполненный бутылками вина и заморскими фруктами в серебряных вазах. За столом сидели господа сенаторы и другие любимцы государя, а среди них — замордованный матрос Лёшка Гагарин и старушка Евдокия Степановна, уже тронувшаяся умом, — вдова при живом ещё муже. Правил застольем князь Меншиков; он весело грыз яблоко. Пирующих отгораживал от народа строй гвардейцев. Холодный дождь сыпался на белые скатерти и пышные парики, но никто из участников застолья не порывался уйти, ведь это Пётр Лексеич придумал превратить казнь Гагарина в праздник и усадить за стол с угощениями жену и сына того, кто будет повешен во время обеда.
У причала пришвартовался плашкоут, подтянутый вёсельным вельботом от пристани Адмиралтейства. В плашкоуте стоял чёрный возок с гербами на дверках. По сходням карета съехала на берег, покатилась к виселице и остановилась. Конвойные открыли дверку и под локти свели со ступеньки человека в камзоле. Его голову покрывал платок. Один из конвойных снял платок, и толпа увидела лицо князя Гагарина. Лицо было пустым и мятым, как порванный мешок, из которого высыпалось всё без остатка. Князь исхудал; ветер ерошил его длинные, совсем седые волосы и белую бороду. Князю было всё равно. Он смотрел куда-то вперёд, но ничего не видел: ни людей, ни жены с сыном, ни петли. Казнили кого-то другого — не его. Матвей Петрович, которого все знали, давно ушёл сам из себя, как странник.
Евдокия Степановна размыто и беззубо заулыбалась и поклонилась супругу, а Лёшка Гагарин зарыдал, перекосив рот.
— Эх, не будем царя гневить! — оживлённо вскинулся светлейший, сразу и кавалер, и президент, и генерал-губернатор. Он забубенно тряхнул головой в кудрявом парике и высоко поднял тяжёлый кубок. — Выпьем, други, за Петровича, выпьем на посошок! Виват!
А потом музыканты умолкли, и зарокотали барабаны. На пристани грохнули пушки, и под низким серым небом Питербурха затрещали, бледно полыхая, рваные клочья салюта.
Глава 15 Выбирая Сибирь
Стены и башни кремля охватывали былой Воеводский двор подковой, и отовсюду, кроме Софийской площади, казалось, что кремль — кольцевой, как ему и должно быть. Василий Никитич с любопытством прогулялся вокруг сего бессмысленного сооружения, разглядывая новенькие стены и башни. Аркады, глубокие печуры подошвенного огня, двухвостые зубцы, бойницы, валики, размечающие ярусы на гладких стенах башен, ложные машикули, тесовые шатры. Но зачем всё это? Никто не осмелится нападать на кремль со стороны обрыва, а с напольной стороны фортификация у кремля никчёмная: без профилей и фланкад, и даже ров сухой — Верхний посад лишён воды. Пустая забава, а не крепость. Тобольск тщится соперничать в достоинстве с давними городами, имеющими кремли: с Новгородом, Псковом, Коломной, Тулой, Смоленском, Нижним, Казанью, Астраханью и, конечно, с Москвой. Только вот гордости здешней не два-три века, а даже одного года нет: кремль достроили минувшим летом. Неужто в Сибири денег девать некуда?
— К прискорбию моему, старина в нашем отечестве неискоренима, — по-немецки сказал Василий Никитич сопровождающему его Табберту. — Можно было бы тешить себя ожиданиями, что она отойдёт в былое с естественной сменой эпох, однако же праведный народ наш склонен восстанавливать её в прежнем неразумном величии.
— В отношении сего творения не соглашусь с вами, капитан, — лукаво возразил Табберт. — Сибирская страна богата древностью, но крайне скудна её свидетельствами. Оная крепость есть попытка создать памятник древности в день сегодняшний. Она нелепа лишь для современника. Уже для недальних потомков сия фортеция будет казаться ровесником Ветхого Завета.
Татищев хмыкнул.
— Вы шутник, фон Страленберг.
— Я живу в России более десяти лет. Я знаю, насколько вам, русским, желательно знание своей глубокой гиштории. Тому доказательством даже ваши собственные преизрядные упражнения, господин Татищев.
Татищев понял, что Табберт добродушно льстит и ему, и народу.
Осенний ветер волочил над Тобольском растрёпанные сизые облака. Расплываясь в облачных протоках, мягко шевелилось бледное пятно солнца. Иртыш обморочно отсвечивал, словно ничего уже не понимал, засыпая на ходу. Тобольск сроднился с этим простором, точно корабль с океаном.
Татищев прибыл в Тобольск для встречи с губернатором как комиссар от Берг-коллегии. Учреждённая государем год назад, Берг-коллегия должна была заниматься добычей полезных минералов, но скоро выяснилось, что найти минералы куда проще, чем извлечь. Для извлечения нужны работники, а для преобразования извлечённого сырья в полезный продукт нужны многочисленные припасы и дорогостоящие машины. Работники и припасы имелись в губерниях, однако губернаторы не желали нести расход: отряжать казённых крепостных на строительство заводов, выделять заводам земельные наделы, возить заводские грузы, кормить мастеровых и снабжать их всем, что потребуется. Губернаторы ссылались на собственные инструкции от Петра Лексеича, по которым никакого вспоможения горному промыслу не предусматривалось. И тогда государь вооружил своих комиссаров Берг-привилегией: реестром законов, которые непременно следует нарушать во имя процветания заводов и рудников. Артиллерийского капитана Татищева Берг-коллегия отправила в самую многообещающую губернию — Сибирскую — с особой задачей: опираясь на Берг-привилегию, он обязан был возвести новые железоделательные и медеплавильные предприятия.
Родовитый боярин Татищев сражался подле государя под Полтавой и в Прутском походе. Яков Брюс обратил внимание на интерес сего кавалериста к механике и послал его на учёбу в Германию, где Татищев изрядно преуспел в изучении земных богатств. Его любовью стала картография, но у Брюса в России Татищев начал служить по ведомству артиллерии. Когда Яков Вилимович возглавил Берг-коллегию, деятельный капитан Татищев получил указание следовать в Сибирь. В Тобольске, в губернаторском доме, Татищев увидел большую ландкарту Сибири, сделанную по-немецки тщательно и с немецкими подписями. Сию ландкарту губернатор Гагарин некогда изъял из почты Табберта по доносу Дитмера: Табберт пытался переслать свой чертёж в Москву барону Цедер-гельму. Совершенство ландкарты поразило Татищева. И он выяснил, что автор столь незаурядного произведения — пленный швед Филипп фон Страленберг. Татищев тотчас потребовал знакомства.
Они понравились друг другу — капитан Табберт и капитан Татищев. Татищев был на десять лет моложе Табберта, да и Сибирь знал не в пример слабее, поэтому Табберт отнёсся к комиссару с лёгким покровительством: для Табберта это было лучшей основой доброго расположения.
— Полюбуйтесь ещё на один сибирский куриоз, — любезно предложил он, заводя Татищева в заулок возле Воинского присутствия. — Сие чудовище есть ископаемый мамонт.
Татищев действительно изумился огромному костяку, стоящему за амбаром так же обыденно, как лошадь у коновязи.
— Его надобно бы в Кунсткамеру государю, — заметил Василий Никитич.
Табберт улыбнулся с видом «ну что я могу поделать?».
— А бивни напрасно ему в лоб влепили, — добавил Татищев. — Бивни из морды торчат, ибо мамонт суть тот же слон.
— У местных обывателей имеется сказание о звере Мамонте, который обитает в исполинской пещере близ града Кунгура, — начал Табберт.
Татищев, не перебивая, терпеливо выслушал рассказ шведа. Василий Никитич уже пожил в Кунгуре, уже знал сказание о подземном звере и даже осмотрел оную пещеру. Более того, он обследовал и другие провалы в земле в окрестностях Кунгура, брал воду из них и выпаривал, чтобы изучить осадок, — в котелках оставалась только вонючая известь. Сие означало, что вода растворяет известковые горы, с течением веков промывая в них ходы, и пещера, происхождение коей окрестные жители приписывают Мамонту, образована током подземных струй, а не усилиями какого-то сказочного существа. Но говорить обо всём этом фон Страленбергу Татищев не стал.
В Кунгур Василий Никитич был определён своей инструкцией, но в Кунгуре ему не приглянулось. Он искал способ устроить горные заводы так, чтобы губернатор, а тем паче коменданты не чинили заводам препятствий. Василий Никитич съездил в Соликамск и разведал, как солепромышленники изловчаются управляться с казённым начальством, но те приёмы для заводов не годились. И тогда он задумал вовсе отделить заводы от губернии, дабы вышло нечто вроде отдельного заводского государства. Для его столицы Татищев уже присмотрел хорошее место на Исети в невеликой дистанции от Ук-тусского завода. Теперь требовалось согласовать заводские интересы с предустановлениями сибирского губернатора. В успехе своего начинания Василий Никитич не сомневался, ибо новый губернатор Черкасский по общей аттестации был персоной робкой и на сопротивление немощной.
Князь Алексей Михалыч и вправду как огня боялся этих офицеров царя Петра — мелкопоместных, а то и вовсе нищих и безродных, зато напористых до дерзости. От них исходили только утеснения и тягостные утруждения: дай денег! дозволь! сделай без промедления что-нибудь немыслимое! W Алексей Михалыч давал, дозволял, делал, лишь бы отстали, но обмирал от страха.
Михал-Яковличу Черкасскому, последнему сибирскому воеводе, князь Алексей был младшим сыном. Ми-хайла Яковлевич царил в Тобольске целых двенадцать лет. Сначала он взял к себе в помощники старшего сына Петра, но Пётр, прослужив только год, заболел и умер. Михайла Яковлич призвал младшего сына. Алексей Михалыч прослужил три года, безропотно исполняя все указания отца, а потом упросил отпустить его с миром и уехал в Москву. Однако это жалкое соучастие в воеводстве аукнулось ему, когда царь Пётр стал искать замену низвергнутому Гагарину. Взгляд Петра упал на князя
Алексея Черкасского. Оный, дескать, уже похозяйничал в Сибири и знает, что там к чему. Царь повелел Алексею Михалычу собираться в Тобольск.
Князья Черкасские всегда обретались подле российских государей, и Алексей Михалыч тоже держался поближе к Петру, однако старался не иметь никаких поручений, чтобы не вляпаться в бедствия, как вляпались многие и многие. В Петербурге он ведал разными городовыми работами: надзирал за сооружением провиантских магазейнов и казарм, за изготовлением кирпича и осушением болот. Когда Пётр огорошил его Сибирью, Алексей Михалыч на коленях слёзно молил избавить от сего непосильного заданья, но государь остался непреклонен. И князь Черкасский покатил к чёрту на рога.
Сибирь встретила его полным нестроением. Кто чем занимается — шиш разберёшь, чиновники ни в чём не признаются и от всего отпираются, бумаги увезены в Петербург на следствие; кому Гагарин должен — все на крыльце стоят, а таковых, кто сам одалживался у Гагарина, ни души нету. Матвей Петрович, осуждённый на смерть, сидел в Петербурге в каземате, и Алексей Михалыч не мог узнать у него, что тот наобещал царю сделать в Сибири, а ведь царь непременно спросит за обещанное: это ясно как божий день.
Алексей Михалыч побоялся ссориться с обозлёнными сибиряками, тем более побоялся вызвать неудовольствие государя, а потому оплатил свою службу из своего кармана. Он всегда так делал, если случалась промашка, а денег у князей Черкасских хватало с избытком. И на собственные тыщи он достроил в Тобольске кремль, заброшенный Гагариным. Тыщ-то не жалко, зато сам целее будет. Ничто не обходится дорого, ежели можно возместить монетой. Гагарин вон гнался за корыстью, и где теперь Гагарин?
Родовой казной Алексею Михалычу пришлось рассчитаться даже за Бухгольца. Сих убытков потребовал майор Лихарев. Когда новый губернатор приехал в Тобольск, майор ждал его с длинной сметой: на что надо срочно потратиться, дабы не пропали втуне итоги лиха-ревской гишпедиции.
Майор Лихарев вышел вверх по Иртышу, забрав из Тобольска две сотни гарнизонных солдат и восемь сотен рекрутов. У него было тринадцать пушек и четыре мортиры. Он миновал Ишим, Тару, Омскую крепость, основанную Бухгольцем, и злосчастное Ямыш-озеро, а затем занял джунгарский город Доржинкит, где высились семь огромных саманных субурганов. Степняки не смогли оказать майору резистанцию: они потеряли зайсанга Он-худая, и в тот год весь доржинкитский аймак кипел междоусобицей тайшей, рвущихся на место предводителя. Рядом с Доржинкитом Лихарев заложил крепость, названную по субурганам Семипалатной. Комендантом сего ретраншемента майор оставил бывшего служилого полковника Ваську Чередова.
На исходе лета Лихарев достиг озера Зайсан, преодолел его и двинулся вверх по Чёрному Иртышу. И здесь гишпедицию встретило войско Галдан Цэрэна, сына контайши Цэван-Рабдана. У Галдана было двадцать тысяч всадников, а у Лихарева — менее тысячи солдат. Но Лихарев, бомбардируя степняков из пушек, ринулся в баталию. Затихая и разгораясь, бои полыхали три дня. Наконец Галдан Цэрэн признал непобедимость орысов и пригласил Лихарева на переговоры. И всё завершилось миром и подарками. Галдан обещал вернуть пленников из обоза полуполковника Ступина, захваченного Онхудаем, и поклялся в честности, разрубив саблей собаку. На обратном пути по Иртышу, уже ниже болотистого Зайсана, Лихарев заложил ещё один ретраншемент — Усть-Каменогорский, а меж крепостей утыкал всю реку сторожевыми форпостами. Губернатор Черкасский получил от Лихарева указание выслать в новозаведённые фортеции свежие партии гарнизонных солдат, а также оружие, припасы, провиант, лошадей и фураж.
Заботы сыпались на Алексея Михалыча со всех сторон. Едва он хоть как-то уладил дела с Лихаревым, навалилась неурядица с митрополитом. Владыка Филофей совершил беспримерное путешествие, побывал и в Туру-ханске, и в Иркутске, пересёк Байкал и добрался до Се-ленгинска — почти до границы с монголами. А по возвращении узнал, что князь Гагарин, его покровитель, осуждён государем на смерть как лихоимец и казнокрад. Тогда владыка сложил с себя сан и удалился в тюменский монастырь. Сибирь осталась без церковного управителя. Алексей Михалыч не сумел разубедить упрямого старика и оказался хуже Гагарина, который в своё время всё-таки извлёк владыку из затвора. Надо было просить у царя другого иерея.
А тут ещё, кроме Татищева, и этот сумасшедший немец — Мессершмидт.
Татищев встретил его на Верхотурской таможне. Сей бедолага вторую неделю заключался в каземате, потому что не говорил по-русски, а толмача, знающего немецкий, в Верхотурье не нашлось. Сопроводительным бумагам немца таможенный смотритель не поверил, сочтя их подделкой: слишком уж нелепой выглядела причина, по которой учёный иностранец ехал в Сибирь. Впрочем, многострадальный доктор Мессершмидт, похоже, уже притерпелся к таким конфузиям, ведь путь от Петербурга до Верхотурья, преодолённый Татищевым за пять недель, он преодолевал десятый месяц.
Татищев забрал Мессершмидта с собой. Познакомившись в Тобольске с Таббертом, Татищев перепоручил своего спутника шведу, а Табберт в свою очередь передал
Мессершмидта на попечение ольдермана Курта фон Вреха, ибо для конфиденции с губернатором доктору Мессершмидту необходимо было придать вид благополучия, соответствующего его важной миссии.
Табберт расспрашивал Мессершмидта с огромным интересом.
Даниэль Готлиб Мессершмидт учился в университетах Иены и Галле и получил степень доктора медицины. В Данциге у него была процветающая собственная практика. Любознательный Мессершмидт не только принимал больных, но ещё собирал гербарии, составлял коллекции монет, минералов и насекомых, проводил химические опыты, сочинял стихи на латыни, рисовал античные мраморы, расшифровывал манускрипты древних евреев, наблюдал за погодными явлениями и был прекрасным таксидермистом. Случай свёл его с русским царём Петром, путешествующим по Европе. Царя впечатлила разносторонняя натура молодого доктора, и Пётр предложил Мессершмидту поехать в научную экспедицию в Сибирь. Царь хотел, чтобы Мессершмидт изучил в Сибири всё, что там есть, без исключения: от курганов с могильным золотом до северных сияний. Мессершмидт понял, что в одном лице он может стать для России сразу Геродотом, Плинием и Колумбом. Он принял приглашение царя и отправился в Петербург. В Медицинской канцелярии ему выдали кое-какие инструменты, велеречивую инструкцию, подорожную грамоту с печатями, письма к губернаторам и комендантам и сто рублей денег. Остальные деньги — из расчёта пятьсот рублей в год — указано было получать на местах. С таким содержанием Мессершмидт и явился в Сибирь.
Простодушие и бескорыстие доктора поразили Табберта больше, чем его энциклопедические познания. Сунуться в Россию одному, без денег и без знания языка, не умея разжечь костёр или надеть сбрую на лошадь, — это совершенное безрассудство. А ежели оное сделано из любви к науке — тогда отвага, превосходящая даже воинскую. Табберт почувствовал, что завидует Мессершмидту, этому близорукому и узкоплечему германскому студиозусу.
Табберт сопроводил его к губернатору Черкасскому.
Алексей Михалыч ничего не понял из бумаг Мессершмидта.
— А в Сибири-то что надобно этому задохлику? — спросил губернатор.
— Он будет исследовать три натуральный царство, — ответил Табберт.
— Какие?
Алексея Михайловича насторожило слово «царство». Про Гагарина шептали, что тот хочет сделать Сибирь своим царством. Теперь лазутчик будет выяснять, нет ли такого же умысла у него, у Черкасского?
— Три натуральный царство есть растений, животность и каменный состав земли, — пояснил Табберт.
— Напомните ему, дорогой Табберт, что моя экспедиция получила одобрение самого царя Петра, — по-не-мецки сказал Мессершмидт. — В бумаге есть предписание оказывать мне помощь и всяческое содействие.
— Этот лист как раз у него в руках.
— Растения я понимаю, — кивнул Алексей Михайлович. — Аптекарские огороды, всякий чеснок и грибы опять же. Рыбу добывать не возбраняется любую. Птица — тварь для государственной казны бесполезная. А вот на пушного зверя откуп брать следует.
— Изготовлять чучел не есть промысел, — возразил Табберт.
— Что он хочет? — встревожился Мессершмидт.
— Говорит, что добыча пушного зверя облагается налогом.
— Сообщите ему, что я выплачу за чучела из денег экспедиции, но пусть мне выдадут эти деньги прямо сейчас.
Табберт перевёл Черкасскому.
— Пятьсот рублей не дам, — отказался Алексей Михайлович. Этот немец, да и швед тоже, были ему крайне подозрительны. Может, немец шведу побег готовит? — Дам двести рублей, — Черкасский решил согласиться серединка на половинку: так в любом случае безопаснее. — И велю написать промемории комендантам в Иркутск и Кузнецк, чтобы додали оставшееся.
Мессершмидт был доволен и этим результатом.
Вечером на торжественном ужине в доме полковника Арвида Кульбаша Мессершмидт признался фон Вреху:
— Знаете, господин ольдерман, в России я уже привык к непониманию властей. Но я согласился бы остаться и вовсе без субсидий, если бы имел спутника, подобного достойнейшему капитану Филиппу фон Страленбергу.
— Вы приглашаете меня в свою экспедицию? — удивился Табберт.
Мессершмидт беспомощно и наивно улыбнулся.
— Да, — честно признался он и, помолчав, смущённо добавил: — Мне кажется, что в неизвестности сей страны я совершу величайшие открытия. И я прошу о чести при этом свершении иметь вас в своих товарищах.
— Браво! — растрогался фон Врех и пылко хлопнул в ладоши.
Предложение доктора Мессершмидта странно взволновало Табберта. На следующий день Табберт отправился к Татищеву.
— Скажите, господин капитан, — попросил он. — Как вы полагаете, скоро ли наступит конец противоборству наших держав?
Война длится уже двадцать лет. Король Карл убит. Швеция добилась мира с Англией, Пруссией, Саксонией и Речью Посполитой. Русские десанты разоряют побережье и добираются до предместий Стокгольма. Государство в истощении. Ясно, что надо скорее завершать сию несчастливую кампанию. А завершение войны означает, что пленные будут отпущены домой, на родину.
Василий Никитич прекрасно знал положение дел. Два года назад он сам избороздил на галере всю Балтику, подыскивая хорошее место, где шведские и русские дипломаты могли бы встретиться без посредников. Татищев нашёл такое место: финский остров Аланд. В ратуше аландской деревушки Яков Вилимович Брюс, граф Ягу-жинский и граф Остерман много раз садились за стол переговоров со шведскими вельможами, но увы — ни до чего так и не договорились. Однако обе стороны остались в убеждении, что мир недалёк.
— Война завершится в самом ближайшем времени, — ободрил Табберта Татищев. — Сие дело непременное, господин Страленберг. И я буду рад встретиться с вами как с другом, когда вы обретёте своё отечество, чтобы побеседовать о предметах, занимающих нас обоюдно.
— Благодарю, господин Татищев, — поклонился Табберт.
Да, сибирское изгнание подходит к финалу. Но что же Мессершмидт?
Раздумывая, Табберт отправился на Троицкий холм к кремлю. Шатры кремлёвских башен гудели на ветру, словно тесовые колокола. Так звучал зов пространства. Так звучало вечное беспокойство, что будоражило душу, увлекая к пределам вселенной, хотя всё в жизни вроде было благополучно, и не к чему было стремиться, вверяя себя изменчивой стихии провидения.
Табберт смотрел с края обрыва, придерживая на голове треуголку. Огромное пасмурное небо, не обещающее ничего хорошего. Огромная холодная река. Огромная хмурая тайга, что поглощает все человеческие дерзания с такой же неумолимой жестокостью, с какой поглощают их горючие пески пустынь и солёные воды океанов. Что ему надо? Зачем ему бросать всё и уходить с безумным мечтателем в дикие дебри? Там нет счастья. Там нет славы. Там ничему нет конца. А до возвращения в отечество сейчас уже рукой подать. Но отечество — данность. Отечество не выбирают. А ему, капитану Филиппу Табберту, судьба дарует возможность выбора.
Табберт горько усмехнулся. Что ж, тогда он выбирает Сибирь.
Эпилог 1 1742 год. Учёный
А мнение короля Фредрика никто, в общем, и не спрашивал. Риксдаг был могущественнее короля и в прошлом году снова объявил России войну, надеясь вернуть Швеции те владения, которые она потеряла при короле Карле XII. Армией командовал граф Карл Левенгаупт — дальний родственник того графа Левенгаупта, который капитулировал под Полтавой. Боевые действия развернулись в Финляндии возле города Вильманстранд. Русские сразу изрядно потрепали шведов, но это ещё ничего не значило.
Российским императором тогда был младенец Иоанн Антонович, и от его имени правила мать Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская; русские называли её Анной Леопольдовной. Но трон желала заполучить цесаревна Елизавета, младшая дочь императора Петра. Елизавету поддерживала гвардия. Анна Леопольдовна опрометчиво объявила, что отправит гвардию на войну со шведами в Финляндию, и преображен-цы тотчас устроили дворцовый переворот. Елизавета Петровна стала императрицей. Канцлером она назначила князя Алексея Михайловича Черкасского, некогда служившего сибирским губернатором.
А война со Швецией продолжалась. Весной 1742 года в Финляндии русские без особых усилий взяли Фридрихс-гам, Борго, Нейшлот и крепость Хяме. Граф Левенгаупт умчался за указаниями в Стокгольм, и армия без него сдалась. Русские заняли столицу Финланда — Гельсингфорс.
Все эти события были далеки от портового города Карлсгам в лене Блекинге на юге Швеции, но город опасался десанта из Дании, и крепость на острове Фрисхол-мен была приведена в боевую готовность. Остров находился посреди карлсгамской бухты и прикрывал гавань. Командовал крепостью комендант — подполковник Филипп Юхан Табберт фон Страленберг.
Ветреным августовским днём в кабинет коменданта вошёл вестовой.
— Господин подполковник, — сказал он. — Пришвартовался паром.
Весь гарнизон знал, что старый подполковник — большой учёный. Его уважали другие учёные, с ним советовались вельможи из риксдага, он вёл обширную переписку и с каждым паромом получал пачку писем.
— Положите почту туда, Паулус, — подполковник указал на отдельный столик в углу кабинета, сплошь заваленный бумагами. — А грузы пусть примет по ведомости господин фельдцейхмейстер.
— С паромом прибыл какой-то капитан и просит аудиенции.
— Он представился?
— Нет, господин подполковник. Но сказал, что вам будет любопытно встретиться. Он уже пожилой человек и явно не склонен к розыгрышам.
— Тем не менее устав есть устав, — недовольно проворчал подполковник.
Странный гость, задержанный часовыми, ожидал коменданта у ворот, возле приземистого здания кордегардии. Потрёпанный плащ, потрёпанная треуголка, шпага в исцарапанных ножнах, тёмное лицо — слишком тёмное для европейца… Словно его навеки опалило безжалостное солнце пустынь или высокогорья… Нет, не может быть! Этого не может быть!
— Это вы, господин Ренат? — останавливаясь, спросил Страленберг.
— Здравствуйте, господин Табберт.
Может быть, они должны были броситься в объятья друг к другу — но Табберту было шестьдесят пять, а Ренату — шестьдесят: поздно для пылких чувств. И с того дня, как они расстались, прошло двадцать семь лет.
Подполковник Страленберг одёрнул камзол и сказал, улыбаясь только заблестевшими глазами:
— У меня есть контрабандная бутылка Гаммель Дан-ска на дюжине трав. Чертовски крепкая вещь. По-моему, как раз то, что нам сейчас пригодится.
— Да, хорошо, — помолчав, согласился Ренат.
Они пошагали мимо казарм и цейхгауза, через плац перед островерхой кирхой, и солдаты приветствовали коменданта.
— Всё равно не могу поверить, — негромко признался Страленберг.
— Я и сам не могу, — ответил Ренат.
— Как вы меня отыскали?
— Увидел вашу книгу.
Страленберг издал её уже давно, двенадцать лет назад. «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии» сначала вышло в свет в Стокгольме — сразу на немецком языке, и разлетелось по всей Германии, а ещё по Дании, Голландии, Австрии и Бельгии, и затем было переведено на английский. В работе над этой книгой Страленбергу помогал русский друг — капитан Татищев. Он приезжал в Швецию примерно тогда, когда в России умер император Пётр, и прожил здесь почти два года; с капитаном Таб-бертом у него завязалась крепкая дружба. Татищев перевёл книгу Табберта на русский язык, снабдив обширными комментариями — а заодно, следуя своей натуре спорщика, и опровержениями, но российского издания так и не появилось. Табберт потом следил за судьбой русского друга: Татищев командовал горными заводами в Сибири, усмирял башкирцев, руководил монетной конторой, не раз по лживым доносам попадал под суд и даже сидел в заключении в Петропавловской крепости, а сейчас служил губернатором Астраханской губернии. На любом посту, подобно Табберту, он продолжал заниматься историческими изысканиями: писал историю своей нации, изредка высылая в Швецию копии некоторых параграфов.
— Вы увлекаетесь историей? — спросил Страленберг у Рената.
— Нет, — Ренат покачал головой.
Небольшой комендантский дом был сложен из диких камней, как и вся крепость, и оштукатурен только внутри. Комендантские покои состояли из четырёх комнат: кабинета, гостиной, совмещённой с библиотекой, спальни и прихожей, где сидели вестовые и адъютант. Завтраки, обеды и ужины коменданту приносили с гарнизонной кухни.
— Вы не женаты? — удивился Ренат.
— Увы.
С семьёй у него как-то не сложилось. Да у него вообще много с чем не сложилось. Покидая пределы России, Табберт преподнёс императору Петру собственноручную карту Сибири, и Пётр пригласил бывшего пленного возглавить новую землемерную службу империи, но Табберт отказался. Он стремился скорее вернуться, чтобы написать книгу и обрести известность. Однако с книгой дело затянулось. В Стокгольме Табберта произвели в обер-лейтенанты и зачислили в Зюдерманландский полк, но военная карьера всё равно почему-то не задалась. Так что должность коменданта Карлсгамской крепости была лишь почётным отстранением от настоящей службы — той, которую он мог бы завершить в чине генерала. Словом, тоже увы.
Ренат сел в кресло. Страленберг извлёк из шкафчика бутылку настойки.
— А вы читали мемуары Курта фон Вреха? — спросил он. — Курт весьма точно описал обстоятельства нашей жизни в плену. И выразил сожаление о вашей гибели в походе полковника Бухгольца. Прискорбно, что эту ошибку уже не исправить: Курт скончался три года назад.
— Я не читал его мемуаров, — сказал Ренат.
Его плен был не таким, как у остальных. Его плен — это тайные свидания с Бригиттой, пьянство солдата Цимса, корчма в тайге… Ренат не испытывал тёплого чувства к сравнительному благополучию других пленных.
Указ об освобождении из плена каролинам зачитали в конце осени 1721 года. Первая партия шведов покинула Тобольск уже через месяц; уезжающих возглавил драбант-капрал Брур Роламб — главный виршеплёт общины, сочинявший оды на все праздники. Вторая партия, основная, вышла только в середине зимы; этой партией руководил ротмистр Георг Стернгоф. А Табберт тогда находился очень далеко от Тобольска и ничего не знал.
С доктором Мессершмидтом и нанятыми слугами Табберт уплыл вниз по Иртышу. В пути Табберт быстро сдружился с Мессершмидтом и стал называть его просто Даниэль. Их экспедиция поднялась по Оби к Томскому острогу. Местные крестьяне показали путешественникам гряду причудливых скал на берегу реки Томь; скалы были испещрены древними изображениями, и Табберт уговорил Даниэля задержаться подольше, чтобы скопировать рисунки. Тогда он ещё полагал их свидетельством Биармии — о, наивный фантазёр! Из Томска экспедиция Мессершмидта перебралась в Енисейский острог, оттуда — в Красноярский острог. С качинскими казаками Табберт ездил на реку Абакан и раскапывал курганы. В Красноярске он и узнал об освобождении пленных. Даниэль упрашивал его остаться, но слишком уж удивительны были открытия в Сибири — Табберту не терпелось скорей описать их, издать книгу и потрясти научный мир. Честолюбие перевесило все прочие соображения. Табберт простился с Мессершмидтом с искренним участием и уехал на запад — в Тобольск, в Петербург, в Стокгольм.
…Страленберг разлил настойку. Ренат поднял серебряную стопку, без слов чествуя хозяина, и выпил.
— Я приехал к вам, господин Страленберг, потому что хочу узнать о судьбах двух людей, — сказал он. — Кроме вас, мне спросить некого.
— Прошу, — предложил Страленберг.
— Йохим Дитмер, секретарь губернатора Гагарина, — назвал Ренат.
Бывший штык-юнкер Юхан Густав Ренат ненавидел этого мерзавца даже через три десятка лет. Но Страленберг не знал о чувствах Рената.
— У господина Дитмера всё благополучно, — улыбнувшись, заверил он. — Дитмер дал показания против губернатора, дважды выплатил крупные штрафы и беспрепятственно вернулся домой, прихватив с собой четырёх слуг. А через год снова отправился в Россию уже как посланник от короны. В России он и служил. Получил дворянство. Четыре года назад наш дорогой Йохим оставил дипломатическую стезю и перебрался в Фин-ланд. Представляете, господин Ренат, сейчас он тоже губернатор!
Ренат молча кивнул. Он никогда и не надеялся на воздаяние небес.
— А другая персона? — полюбопытствовал Стрален-берг.
— Вы можете и не знать о его участи… Полковник Иван Бухгольц.
— Отчего же, отлично знаю! — Страленберг улыбнулся ещё шире.
Причиной его осведомлённости был лейтенант Лоренц Ланг. Лоренц, честолюбивый юноша, в плену согласился присягнуть российскому царю. С караваном губернатора Гагарина он отправился в Пекин, дабы учредить там российскую торговую контору. Миссия провалилась. Лоренц вернулся. Но царь Пётр направил в Пекин посольство капитана Льва Измайлова, и Лоренц снова поехал в Китай уже как секретарь посла. На этот раз богдыхан Канси дозволил, чтобы в Пекине обосновался российский чиновник, надзирающий за торговлей купцов из своего отечества. И Лоренц прожил в Пекине пять лет. В 1722 году богдыхан Канси умер, на трон воссел богдыхан Юнь-Чен, он запретил русские караваны, и Лоренца выдворили из Китая.
Страленберг состоял в переписке с Лоренцем и знал обо всех переменах в его судьбе. Лоренца, знатока русско-китайского торга, назначили управлять этим торгом в пограничном Нерчинске. Торг и границу охранял Якутский полк, которым командовал полковник Иван Бухгольц. Бухгольцу поручили обустроить пограничную жизнь в целом. В 1727 году на речке Буре русские подписали новый договор с Китаем, и на речке Кяхте, притоке Селенги, Бухгольц основал Троицкий острог; острог защищал слободу Кяхту, которая превратилась в главные торговые ворота между Китаем и Россией. Бухгольц же с честью прослужил на китайской границе ещё тринадцать лет.
— Два года назад Бухгольц вышел в отставку в чине генерал-майора, — сообщил Страленберг. — Год назад он умер. А наш с вами добрый товарищ Лоренц Ланг, кстати, стал вице-губернатором Иркутской губернии.
Однако Ренат уже не помнил Лоренца Ланга: слишком давно это было, слишком давно… Ренату важно было узнать про полковника Бухгольца, который из-за его измены не выполнил приказ царя — не довёл до конца поход в Яркенд, и за это мог попасть на виселицу. Слава богу, не попал.
— А вы, господин Ренат? — наконец спросил Страленберг.
— Что — я? — удивился Ренат.
Его судьба оказалась такой странной, что рассказывать о ней было даже как-то нелепо — словно сказку о походе рыцаря в Палестину.
— Что случилось с вами? Каким чудом вы здесь?
«Каким чудом?» Ренат задумался. И в памяти поплыли степи, пустыни, барханы, ледяные горные хребты, грохочущие водопады, многоярусные разноцветные пагоды, руины древних азиатских крепостей, утопающие в песках, сражения конных полчиш и верблюды, навьюченные пушками… Всё это никак не сочеталось с балтийским прибоем, что бил в валуны бастионов — из окошка комендантского дома был слышен мерный накат морских волн.
Он побывал там, где никто из европейцев не бывал. Он видел Тибет, Гоби и мёртвое озеро Лобнор. Его пушки крушили стены священной Лхасы. Здесь, в Европе, этого никогда никому не понять… Контайша Цэван-Рабдан сделал его зайсангом, и его юрта стояла в Куль-дже на берегу реки Или, а вокруг был цветущий оазис, перед которым меркли сады Эдема.
Под его командованием была артиллерия джунгар и оток Улутэ — отряд рудокопов, литейщиков, пушкарей и оружейников. На берегу небесно-синего Иссык-Куля он построил настоящий завод, где плавили чугун, а в Яркенде, где не было никакого золота, — другой завод, где плавили медь. В ущелье речки Темирлик в тени багровых скальных башен его верные эзэны сверлили и собирали ружья для армии контайши. Верблюжьи батареи джунгар китайцы называли дыханием летящего дракона. А дома его ждала Бригитта — наперсница юной красавицы Цэ-цэн; Цэцэн была дочерью контайши Цэван-Рабдана от Цэдэрган, последней и самой любимой жены. Бригитта работала на ткацком станке, который смастерил ей Ренат, и шила наряды для весёлой и беззаботной Цэцэн. И во всём поднебесном мире, в степях, в горах и в пустынях не было народа, не трепетавшего перед джунгарами.
Всё закончилось, когда умер Цэван-Рабдан. Галдан Цэрэн, его старший сын от первой жены, боялся, что Цэдэрган поставит во главе Джунгарии своего сына Шуну, сводного младшего брата Галдан Цэрэна. Смерть застала Цэван-Рабдана в те дни, когда в Кульджу приехали послы от калмыцкого Аюки-хана. Галдан Цэрэн объявил калмыков виновными в отравлении отца и повелел казнить всех, кто связан с ними, а Цэдэрган была дочерью Аюки. Шуна бежал; Цэдэрган перерезали горло; четырём её дочерям, в том числе и Цэцэн, вспороли животы. Дайчины Галдана ворвались и в юрту Рената, чтобы умертвить Бригитту, но за Бригитту заступился престарелый Цэрэн Дондоб. Бригитта уцелела. Однако в те дни и ей, и Ренату стало ясно, что их рай на Или — зыбок, словно мираж, и надо искать пути к возвращению.
Галдан Цэрэн согласился отпустить шведов только в 1733 году — после семнадцати лет плена. Причиной тому было требование русского посла майора Угрюмова. Ренат и Бригитта с тридцатью хотечинерами выехали в степь и через полгода прибыли в Астрахань. Переведя дух, они отправились в Москву. В Немецкой слободе имелась лютеранская кирха, и там Юхан Густав Ренат и Бригитта Цимс повенчались. В Петербурге их затаскали по дворцам знати и по канцеляриям Военной коллегии, расспрашивая о жизни среди степняков, и Ренат тайно купил два места на бригантине, уходящей в Стокгольм. Так и завершились их скитания. Юхан Густав по закону получил чин капитана, отставку и жалованье за восемнадцать лет — с обязательным убавлением, которое налагается на пленных. Супруги Ренат купили дом в Гамла Стане — в Старом Стокгольме на острове Стадсхолмен. Вот и всё.
— Это невероятно! — искренне воскликнул Страленберг.
— Я тоже так считаю, — впервые за всю встречу улыбнулся Ренат.
— Мой глубочайший поклон госпоже Бригитте!
— Гита уже умерла, — просто произнёс Ренат. — Это случилось шесть лет назад, господин Страленберг. Она не выдержала морского воздуха родины. Ей было пятьдесят два года. Шесть лет назад умерло моё сердце.
Страленберг вскочил и быстрым шагом вышел из кабинета в спальню. В спальне он держал флакон с нюхательной солью. Сейчас ему потребовалось прибегнуть к этому средству, чтобы восстановить дыхание. Ренат сидел и ждал. Через некоторое время Страленберг вернулся, потирая лицо.
— Жизнь ещё не закончилась, мой друг, — сказал он.
— Закончилась, — спокойно и твёрдо ответил Ренат.
Когда пушка выстрелила к вечернему разводу караулов, Страленберг проводил Рената на пристань, где солдаты готовили паром к отплытию.
— Я рад, что вам есть чем занять себя, господин Страленберг, — Ренат посмотрел подполковнику Стра-ленбергу в глаза. — Наука — это прекрасно.
— О, да! — согласился Страленберг.
Он лгал. Но лгал не только Ренату, а всем, с кем был знаком. Он и сам давно уже не понимал, зачем делает выписки из чужих исторических трудов, зачем рассылает письма с вопросами, якобы собирая сведения о былых событиях и авторитетных точках зрения. Никакую новую книгу он никогда не напишет. Оставляя эту крепость, он сожжёт все свои бесцельные бумаги в камине. Да, он собрал интересные сведения о России, он придумал несколько остроумных теорий и сделал несколько точных наблюдений. Да, он называет себя учёным. Но он не учёный. И дело не в глубине познаний.
Даниэль — это был учёный. После того как Табберт оставил его, доктор Мессершмидт пропадал в тайге ещё долгие шесть лет. Вечно простуженный, слабый, не способный никем командовать, он плыл через пороги сибирских рек на утлых челноках, он тонул в болотах, голодал и даже побирался, он замерзал на перевалах неведомых горных хребтов, он блуждал в дебрях с какими-то каторжниками — и при этом составлял гербарии и коллекции минералов, набивал чучела, записывал предания инородцев и зарисовывал надписи с древних могильных камней. Он добрался до таинственного Улуг-Хема и до зловещей Большой Хеты, он видел недоступное плато Путорана, вечно укутанное облаками, он преодолел бурю на Байкале, он нашёл горящую изнутри гору близ Кузнецкого острога и серебряные жилы близ Нерчинска. В Петербурге Мессершмидта считали погибшим, а он вернулся.
Но ничего у него не сбылось. Ему не заплатили, и более того — едва не посадили его в тюрьму за растрату. Его титанический десятитомный труд «Обозрение Сибири» никто не опубликовал. У несчастного Даниэля забрали все материалы и больше к ним не подпустили. Больной, почти сошедший с ума от людского пренебрежения, семь лет назад Даниэль умер в полной нищете. И подполковник Страленберг не хотел такого для себя. Однако за благополучие он тоже расплачивался, хотя Ренату знать об этом не следует.
Он, Филипп Юхан Табберт фон Страленберг, прекрасно знал людей, которые кладут жизнь за своё дело, за познание мира. Доктор Мессершмидт. Капитан Татищев. Или тот чудной тобольский старик — Симон Ремезов. Это весьма достойные люди. Но боже всеблагой, пронеси их чашу мимо!
Ветер с Балтики разгулялся, а за островом оставалось спокойно. Баркас покачивался у причала, тихо стукая бортом в деревянную сваю. Гребцы разобрались по вёслам и ждали только гостя, что разговаривал с господином комендантом. По этому человеку было видно, что не жилец. То ли сильно нездоров, то ли просто устал от всего. Наверное, приезжал попрощаться.
— Не отказывайтесь от жизни, мой друг, — попросил Страленберг.
— Жизнь — она для молодых, господин Табберт, — ответил Ренат.
И Страленберг с ним согласился.
Эпилог 2 1722 год. Ученик
Государь давно досадовал, что не ведает своего государства. На западе, где Европа, границы были известны, селения описаны, ландкарты начерчены. А вот на востоке, начиная с Заволжья, и тем паче в полуночных краях, Российская держава постепенно растворялась во мгле безвестности. Конечно, в сей мгле пролегали дороги, речные и гужевые, однако же только дьявол знал, какие горы и долы, какие народы и земельные богатства содержатся в обширнейших областях, что бестревожно простираются там, где нет русских путей. Государь попенял на сие неустройство Сенату, а Сенат распорядился измерить всё отечество вдоль и поперёк и нанести искомые контуры на листы чертежей. Благо что люди для оной работы уже имелись — геодезисты из Навигацкий школы и топографы из Морской академии.
Навигатор Пётр Чичагов сын Гаврилов, получив астролябию и буссоль, отправился на визитацию в Сибирь и в Тобольске присоединился к отряду майора Лихарева.
Вместе с Лихаревым Чичагов добрался до озера Зайсан и далее до Чёрного Иртыша, по пути вычисляя координаты, и через год уже представил господам сенаторам научную ландкарту сего протяжённого водотока от устья Тобола до устья джунгарской Бурчун-реки. Господа сенаторы одобрили труды Чичагова и вскоре приказали ему сделать такой же чертёж Тобола, нижнего Иртыша и Оби от Нарыма и Сургута до Мангазеи. Под команду Чичагову отрядили сотню недорослей, учеников корабельных коллегиумов государя, — будущих землемеров и штурманов.
Штабом для своей гишпедиции Чичагов избрал, разумеется, Тобольск. Обер-комендант расселил геодезистов по обывательским домам, а самого Чичагова и десяток юнцов определил на жительство к Ремезовым: а куда ещё засунуть главного измерятеля, ежели не к главному знатоку Сибири?
В это утро Семён Ульяныч проснулся поздно, потому что накануне полночи спорил с Чичаговым, что длиннее — Обь или Иртыш? На самом деле этого никто не знал, но Семёну Ульянычу хотелось посадить навигацко-го всезнайку в лужу, и он его посадил. Так и надо сопляку. Семён Ульяныч вспомнил о своей победе, и ему сразу стало хорошо. Митрофановна сидела под образами и сшивала лоскутки. Беременная Машка возилась у печи, ворочая надутым животом. Больше в горнице никого не было. Солнце искоса било в окошки, из которых на лето вынули рамы; в печи на углях трещали две чугунные сковороды, и на всю избу пахло свежими блинами.
Хватаясь за печь, Семён Ульяныч проковылял к столу, выпил кружку молока и взял свою палку.
— Ты куда намылился, старый? — тотчас спросила Митрофановна.
— Отстань! — ответил Семён Ульяныч.
— Батюшка, а блины? — удивилась Маша.
— Там Тобольск чертят, а я блины буду в рот складывать?
— Лёшка с Лёнькой прилетят — тебе ничего не достанется.
— Чёнь-то найду, небось, для утробы, — отмахнулся Семён Ульяныч.
— Я Ване нажалуюсь, что ты один по городу шастаешь, — предупредила Маша, ловко снимая блин со сковородки.
— Вам же лучше, — хмыкнул Семён Ульяныч. — Авось шею сверну.
— Я у тебя палку заберу, скакун колченогий, — сказала Митрофановна. — И в печке сожгу. Вот тогда будешь дома сидеть, как седины требуют.
— Молчите обе, курицы! — прикрикнул Семён Ульяныч.
— И так чуть не преставился, — не унялась Митрофановна. — Я уж было порадовалась, что на лавке лежать будешь, а ты за прежнее, кровопивец?
— Мареей командуй, а я сам себе полковник!
Семён Ульяныч нахлобучил шапку и вышел в сени.
Во дворе у Ремезовых на свежей летней травке был поставлен длинный стол, и за ним сейчас сидели нави-гацкие школьники Чичагова — отроки лет по пятнадцать: ровесники Федюньки, младшего внука Семёна Ульяныча. Все они были в куцых поношенных камзолах флотского образца. Распустив толстую «Служебную чертёжную книгу» Ремезова на отдельные листы, школьники тушью копировали рисунки, накладывая на чертежи вощёную полупрозрачную бумагу. Это было задание командира. Пётр Григорьевич сказал ученикам, что для новых ландкарт ремезовские изображения будут служить опорой — привязкой исчисленных координат к местности. Семён Ульяныч втайне очень гордился, что его труд оказался таким полезным для науки, пускай даже эти школьники — балаболы, шлынды и вообще сорванцы.
С гульбища Семён Ульяныч услышал, как мальчишки зубоскалят.
— Какого пса, Сергунька, мы эти каракули переводим? По ним только Опоньское царство искать! Это что, ландкарта, что ли?
— Не реки, а грабли какие-то кривые!
Один из школьников, привстав, подвинул свой лист на середину стола:
— Смотрите, братцы, тут Илимский острог нарисован от Илима до Лены! Ого городище-то! Больше Москвы раз в триста!
Другой школьник, ухмыляясь, приподнял свой лист:
— А у меня, глядите, старикан-то наш древо изобразил! Знать, самое важное древо в Сибири, ежели на ландкарте обозначено!
— Учитесь у старика-то, остолопы! — сказал всем рыжий геодезистишка с подбитым в драке глазом. — Неча науку в башку запихивать, берёшь веник, тычешь в корыто с чернилами, мазяк-мазяк по листу — и готов чертёж!
Толстый и конопатый геодезистик завистливо вздохнул в ответ:
— Вот нам бы так, а? Не надо на край света переть, триангуляция эта чёртова пускай в пекло катится, астролябию в кабаке пропить можно, да и всё! Сиди и малюй себе, как бог на душу положит!
Семён Ульяныч понял, что эти щенки глумятся над ним! Глумятся над его чертежами и его неимоверными стараниями! Семён Ульяныч слетел с лестницы на школьников, будто коршун на цыплят.
— Ах вы змеючие выползки! — заорал он. — Ах вы сморчки! Ополоски! Чесотка овечья! Короеды! Саранча! Лоханки помойные!
Он огрел палкой ближайшего геодезиста и размахнулся снова, но шустрые мальчишки, привыкшие удирать от побоев, все разом мгновенно кинулись прочь из-за стола, уронив лавки. Друг за другом они горохом проскочили в открытую калитку и исчезли за воротами.
— Акриды! Слюни левиафановы! — кричал им вслед Семён Ульяныч.
Он постоял, успокаивая дыхание, и шагнул к столу поближе. На столе, брошенные, валялись его чертежи: Енисей, Бухарская каменная степь, Амур, Тобол, Байкал, Колыма, Камчатская земля… Семён Ульяныч принялся собирать листы. Ему стало горько от пренебрежения школьников. Но что тут поделать? Разве его покойный Петька испытывал почтение к отцовским трудам? Нет, не испытывал. Такой же был разбойник, как и эти — в камзолах. Нужно прожить много-много лет, пройти много-много дорог, лишь тогда и поймёшь, как важны эти образы дарованной богом земли. Нужно много-много узнать, тогда и поймёшь, что истина превыше учёности, как дар превыше канона. И Семён Ульяныч, тяжело вздыхая, сложил свои листы в деревянные обложки распотрошённой книги. А потом, подумав, собрал и недоделанные копии школьников. Всё ж таки это работа, а не пустая забава, и небо — планида ненадёжная: пойдёт дождь и загубит то, что недоделано. Мальчишкам тогда беда: изругает их строгий командир.
А мальчишки-геодезисты спрятались за углом в проулке.
— Чего он орал-то? — проворчал рыжий геодезист. — Сам-то ни шиша не смыслит в ландкартах! Я в первый год в школе и то лучше чертил!
Мальчишкам хотелось оправданий — не столько друг перед другом или перед Ремезовым, сколько перед Петром Гавриловичем Чичагиным, который приказал им уважать Ремезова и чертежи его не хаять.
— Он же не учил ни проекцию, ни масштаба! — согласился толстый.
— Широты от долготы не отличит! — добавил третий.
— Он квадрант в руках никогда не держал!
— Тихо, братцы, вон он идёт! — шуганул приятелей рыжий.
Мальчишки притаились за чьей-то телегой. В проёме проулка мимо проковылял Ремезов.
Он направлялся в кремль. Теперь в Тобольске никто не говорил «Воеводский двор» или «Троицкий бугор», все говорили «кремль». Это было приятно. Семён Ульяныч, конечно, с наслаждением полюбовался бы на своё творение снизу, с Троицкой площади, когда зубчатые стены и островерхие башни, озарённые утренним солнцем, серебром вытаивают из чистой синевы, словно сказочный Китеж-град проступает сквозь воду озера Светлояр, но по круче Прямского взвоза Ремезов уже не смог бы вскарабкаться, и потому повернул к пологому Никольскому взвозу. Успеет ещё натешиться.
У Семёна Ульяныча в кремле было важное дело. Надо схватить за горло губернатора Черкасского. Черкасский, в отличие от Гагарина, духом-то хилый, его можно взять нахрапом. Таким нахрапом Семён Ульяныч три года назад и выбил из него деньги на завершение кремля, а иначе так и щерилась бы над Тобольском щербатая гагаринская челюсть. А сейчас из Черкасского требуется вытрясти строевой лес на подворье для Машки и Ваньки. Ванька, шомпол казённый, ничего не хочет просить у начальства: гордый, вишь ли. Вот и будет его Машка осенью рожать в отцовской горнице. Ох, всё самому приходится на себе тащить! Скорей бы сдохнуть!.. Ежели Черкасский даст слабину — а Семён Ульяныч в том почти не сомневался, — то брёвна Ванька возьмёт на пристани: Леонтий уже присмотрел там хорошие кругляки, просушенные с прошлой весны. Лишь бы Гараська По-рошин, приказчик, не уволок их себе на плотбигце. Ко дню Ивана Травника лес перевезут на пустырь, откупленный Семёном Ульянычем у обер-коменданта, и следует начинать строительство. Ванька, мерзавец, не желает своих гарнизонных солдат к личной работе приставить — надо на него Машку натравить. И ещё Митрофановну. Не удержит он оборону, это точно. И тогда к Ильину дню хоромы будут готовы. Можно Машку переселять вместе с её пузом. Пусть в своём доме рожает. А то от младенца крику — уснуть нельзя. Родители должны маяться, а не он, Семён Ульяныч: он своё уже отмаялся. Всех своих вырастил, да ещё Левонтьевых злодеев тоже, и Семёнову Танюшку заодно, хотя Танюшка-то хорошая, не чета Машке, на деда не нападает, послушная… Мысли Семёна Ульяныча текли в кругу привычных домашних забот.
Он поднялся по взвозу, перекрестился на Никольскую церковь, хромая, прошёл мимо Святых ворот Софийского двора, мимо Гостиного двора, простучал палкой по вымосткам проезда ветхой деревянной Спасской башни, которая всё никак не могла упасть, и оказался на Софийской площади.
Торговые балаганы Черкасский отсюда изгнал: сказал, что не честь стольному граду иметь на главной площади базар. Теперь здесь завёлся новый порядок: на площади маршировали солдаты гарнизона. Оно и вправду пригляднее, чем ражее торжище, где то и дело кому-то бьют морду. Солдат — он сущность государственная и потому стать имеет тоже государственную; солдат собою любой город украшает, ежели ходит строем под барабан и левую ногу с правой не путает… Но сейчас служивых на площади не было.
Посреди пустого пространства толпились геодезисты. Они окружали маленький столик-мензулу с прикреплённой латунной загогулиной алидады, а рядом стоял большой стол, на котором были разложены бумаги — чертежи Верхнего посада. Над алидадой колдовал на-вигацкий ученик, другие ученики сновали с разными причудливыми инструментами в руках: нацеливали на солнце квадранты, вертели растопыренные угломеры с лимбами, таскали туда-сюда нивелиры на ходулях, глядели во все стороны в зрительные трубки. Те, что были с инструментами, диктовали помощникам какие-то числа. Некоторые на больших чертежах промеряли что-то длинными линейками или размеченными на градусы медными дугами. Пётр Гаврилович Чичагов ходил от ученика к ученику, растолковывал и поправлял.
Семён Ульяныч забыл, куда шёл. Работа с инструментами завораживала его: как людям удаётся из воздуха и света извлекать стройные числа? Но ещё удивительнее были чертежи новейшего манера — с пересечением прямых линий и долями окружностей, с какими-то мелкими цифрами в углах… Ведь эти прекрасные чертежи произведены от тех счислений, что извлекаются из бесплотного таинства пространства разными предивными инструментами! Геодезисты умели выявлять божье совершенство мира, перелагая его в точные и стремительные движения пера, и Семён Ульяныч легко читал в тех движениях план кремля и Софийской площади! И это совершали не какие-то волшебники, а самые обычные мальчишки, оболтусы, безусые вьюноши!
Семён Ульяныч бесцеремонно протолкался к большому столу и начал рассматривать ландкарты: Тобольск, Тобол, Иртыш… Всё как с птичьего полёта! Своими линейками, медными закорюками и зрительными трубками геодезисты возносили зрение на высоту ангелов и видели землю, как она есть, и вширь, и вдаль — до бесконечности. Это потрясло Семёна Ульяныча, и ему захотелось заплакать. На склоне лет он вдруг понял, как человек может воспарить над косной твердью и обозреть дольний круг бытия не силой бурного воображения, но ясным разумом, ненасытным к познанию!
Пётр Гаврилович Чичагов, чуть прищуриваясь, наблюдал за старым архитектоном, который жадно перебирал лист за листом, а из-под его шапки выбивались седые волосы, растрёпанные тёплым летним ветром. Ласточки метались над куполами собора и над тесовыми шатрами кремля.
Архитектон бережно отложил последний лист, растерянно поискал кого-то глазами и наконец наткнулся на Чичагова.
Ремезова передёрнуло. Распихивая мальчишек, он ринулся на командира геодезистов с одержимостью воина, что бросается на врага в штыковую атаку. Лицо у него дрожало, словно он слышал звон небесных сфер. Семён Ульяныч Ремезов вперился взглядом в Чичагова и властно потребовал:
— Научи!

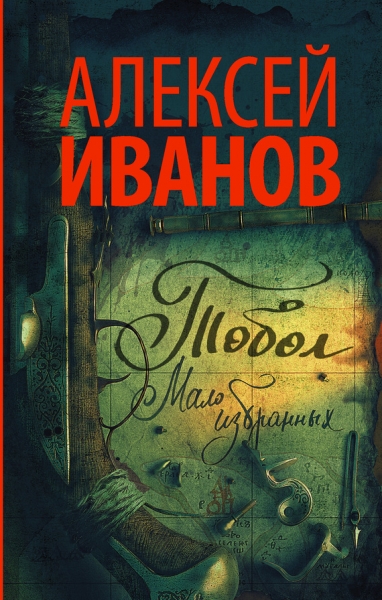







Комментарии к книге «Мало избранных», Алексей Викторович Иванов
Всего 0 комментариев