Печенежские войны
ПЕЧЕНЕЖСКИЕ ВОЙНЫ
Эпоха русско-печенежских войн охватывает весь X и первую треть XI века — то есть то самое время, когда происходило становление и утверждение Древнерусского государства.
Взаимоотношения Руси и Степи на тысячелетие определили исторические судьбы Руси, ход всей русской истории. Степь противостояла Руси, была чужим, враждебным ей миром. Но она была слишком близка, можно сказать, под боком; Русь не отделялась от Степи никакими естественными границами, никакими преградами, и потому ей приходилось то мириться, то воевать с нею — причём воевать жестоко, отстаивая с оружием в руках само право на своё существование. За сто с небольшим лет — с 915 года, когда печенеги впервые появились в русских пределах, и до 1036 года, когда возле самых стен Киева им было нанесено последнее, решающее поражение, — историки насчитывают по меньшей мере 16 больших русско-печенежских войн, не считая мелких стычек, происходивших, вероятно, почти беспрерывно.
В этой книге рассказывается о двух таких больших войнах — печенежском нашествии на Киев весной 969 года (это событие является центральным в романе Игоря Коваленко «Улеб Твёрдая Рука») и осаде печенегами города Белгорода в 997 году (ей посвящена повесть Владимира Буртового «Щит земли Русской»). Эти два события, да ещё, пожалуй, нашествие 992 года, увенчавшееся битвой на реке Трубеж, близ Переяславля, во многом можно считать кульминационными в истории русско-печенежского противостояния. Не случайно именно они более всего и остались в памяти поколений; именно им посвящены красочные рассказы, сохранившиеся в «Повести временных лет» — древнейшей летописи из дошедших до нашего времени.
Так кто же такие печенеги?
История этого народа во многом загадочна. Их считают тюрками, и это, безусловно, верно. Но в союз печенежских племён входили не одни тюрки, но и представители других кочевых народов — потомки сарматов, угры. Происхождение их имени неизвестно. Одни выводят название «печенеги» (в арабском произношении — «баджинак») от тюркского слова «баджа» или «бача» — «муж старшей сестры», «свояк». По мнению других, название народа восходит к тюркскому личному имени Бече — так могли звать первого вождя печенежского племенного союза. И то, и другое вполне возможно. В истории кочевых народов имя правителя нередко становится названием целого народа, а иногда даже и страны — таковы названия османов, узбеков, ногаев. Но печенегам не удалось создать своё государство. Они промелькнули на историческом небосклоне — и сгинули, подобно многим другим племенам и народам.
Русские книжники XI—XII веков причисляли печенегов к потомкам библейского праотца Измаила, вышедшим «на казнь христианам» из «Евтривской пустыни», находившейся, по их мнению, где-то «между востоком и севером»: «Вышло же их 4 колена — торкмене, и печенеги, торки, половцы», — рассказывал летописец. В общем, он не слишком удалился от истины: печенежский союз племён сложился приблизительно в VIII—IX веках, действительно, на востоке — на обширных пространствах между Аральским морем и нижней Волгой. Как это нередко случалось в истории переселения народов, опустошительному нашествию печенегов на земли Восточной Европы предшествовало их жестокое поражение в войне с другими, более сильными кочевниками. В конце IX века печенеги были вытеснены из района своего прежнего обитания родственным им тюркским племенным союзом гузов. (В скобках заметим, что автор первого из помещённых в настоящем томе художественных произведений напрасно называет печенегов огузами: на протяжении почти всей истории огузы (гузы) враждовали с печенегами; эти два народа, хотя и родственные между собой, как правило, не смешивались друг с другом). По словам знаменитого византийского императора и писателя X века Константина Багрянородного, изгнанные со своей родины печенеги, «обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения». Археологам хорошо известны страшные следы этого передвижения печенегов по захваченным землям в конце IX — начале X века: путь этот «отмечен пожарищами, гибелью подавляющего большинства степных или лесостепных поселений, замков и даже городов (на Таманском полуострове)» (Плетнёва С. А. Половцы. М., 1990. С.10). Продвигаясь на запад, печенеги столкнулись с кочевниками-венграми, обитавшими в то время в междуречье Днепра и Днестра (так называемой Ателькузе). Венгры потерпели сокрушительное поражение и вынуждены были покинуть свои земли. Они устремились ещё дальше на запад, к берегам Дуная, одолели обитавших здесь славян, захватили их земли и обосновались на новом месте, постепенно перейдя от кочевого к оседлому образу жизни. Печенеги же после победы над венграми почти на полтора столетия сделались полновластными и единоличными хозяевами огромных степных пространств между Нижней Волгой и устьем Дуная.
Но волны переселений по-прежнему накатывались одна на другую. Уже в первой половине XI века в южнорусские степи двинулись гузы, теснимые кыпчаками (или половцами, как их будут называть русские), а чуть позже, вслед за гузами, устремились и сами половцы — они-то почти на два столетия и заняли Степь, дав ей название — Дешт-и-Кыпчак, то есть Половецкая Степь, Поле. Но и половцам не суждено было уцелеть в исторической круговерти, ибо в 30-е годы XIII века с востока на запад, увлекая за собой десятки других народов, двинулись орды монголов...
И печенеги, и половцы, как ещё прежде них хазары и многие другие, исчезли с лица земли, не оставив потомкам ни своего имени, ни своего языка. Но в своё время они были могущественны, полны сил и во многом определяли политику во всей Восточной и Юго-Восточной Европе.
Так, в X и начале XI века Европа в буквальном смысле содрогнулась перед печенегами. С нескрываемым ужасом писали о них все, кому довелось их видеть или хотя бы слышать о них — и восточные авторы, и византийские писатели, и западноевропейские хронисты. «Наихудшими из язычников», «жесточайшими среди всех» называли печенегов и на Западе, и на Востоке. (Впоследствии подобные эпитеты будут применять по отношению к монголо-татарам). В то время печенеги находились на той стадии общественного развития, которую обычно называют «военной демократией». Печенежская земля делилась на восемь частей, которыми владели восемь орд, или «фем», как назвал их Константин Багрянородный. Каждая из них действовала самостоятельно, лишь от случая к случаю объединяясь с другой. «Фемы», в свою очередь, подразделялись на более мелкие образования — печенежские «орды». Верховная власть в каждой орде принадлежала верховным ханам, которым подчинялись более мелкие ханы (русские называти их «князьями»). Власть в Печенежской земле не наследовалась по прямой линии, но переходила, как правило, к двоюродным братьям или двоюродным племянникам умершего хана — каждая ветвь рода дожидалась своей очереди властвовать над другими. Но эта власть проявлялась прежде всего во время военных походов, набегов. По наиболее важным вопросам печенеги собирали народные собрания и принимали решение сообща.
Печенеги занимались кочевым скотоводством, а потому нуждались в обширных пастбищах. Они не имели постоянных жилищ, но повсюду возили за собой свои дома — войлочные шатры. В течение одного дня громадная орда могла сняться с места и отправиться в поход; женщины в пути сопровождали мужчин, на равных деля с ними тяготы странствия. Дети рождались во время кочевий, можно сказать, в седле, — а потому с рождения были привычны к лошади. Помимо того, что все — и мужчины, и женщины — славились как прирождённые наездники, они с детства умели владеть оружием — саблей, луком, арканом. Здесь каждый был воином и не знал другого ремесла.
Очень скоро печенеги приняли участие в торговле с Русью, Византией, Хазарией, странами Закавказья. (Русские, например, покупали у них коней, крупный и мелкий рогатый скот). Но их роль в международной торговле была особой, весьма зловещей — главным предметом печенежского экспорта стали пленники-рабы. Грабительские набеги в земли соседей, сопровождавшиеся уводом десятков, а подчас и сотен невольников, стали для них обыденным и наиболее прибыльным делом. Кочевые народы всегда имеют преимущества в военном отношении перед народами оседлыми. Русь и печенеги не составляли исключения.
Печенеги кочевали всего в одном-двух днях пути от южных границ Руси. Они были почти неуловимы для русских, а сами могли появиться внезапно у Киева или другого русского города — и беда приходила тогда в дома славян. Правда, русские князья умели и ладить с печенегами, подчас вовлекали их в свои собственные военные предприятия, направленные против других народов. Если не принимать на веру легендарное известие позднейших летописей о войне с печенегами киевского князя Аскольда в 867 году, то первое столкновение Руси и печенегов следует датировать 915 годом, временем княжения в Киеве князя Игоря Старого. Недолгая война, кажется, завершилась тогда скорым миром. «Приидоша печенези первое на Рускую землю, и сотворивше мир со Игорем, и приидоша к Дунаю», — рассказывает летописец. Спустя пять лет, в 920 году, Игорь вновь воевал с печенегами, но чем закончилась эта война мы не знаем — летописное известие о ней ещё более скудно. Так или иначе, но в 944 году тот же Игорь привлёк печенегов к своему походу на Византию. Объединённое русско-печенежское войско дошло до Дуная, и тогда византийцы прислали к ним послов с предложением мира — отдельно к русским и к печенегам — и обязались выплатить богатую дань. «Чего же ещё нам надобно? — сказала Игорева дружина своему князю. — Не бившись, получим и золото, и серебро, и ткани драгоценные. Ведь кто знает, кому из нас одолеть — нам ли, или им!» Игорь согласился на мир, Однако печенеги, по-видимому, остались недовольны. Им нужна была пожива, возможность открытого грабежа. «И повелел Игорь печенегам воевать Болгарскую землю, а сам возвратился вспять».
Мир с Печенежской землёй продолжался довольно долго. И Ольга, вдова Игоря, и их сын Святослав, по-видимому, дорожили миром и старались удерживать печенегов от войны. Начиная свои знаменитые походы против Хазарии и Византии, князь Святослав, как можно догадываться, заручался поддержкой свирепых кочевников. Да иначе было и нельзя. Ведь «против удалённых от их пределов врагов россы вообще отправляться не могут, если не находятся в мире с пачинакитами (печенегами), так как те имеют возможность.., напав, всё у них уничтожить и разорить», — писал в 50-е годы X века Константин Багрянородный, и это суждение оставалось справедливым и в последующие десятилетия.
Знаменитые походы князя Святослава, о которых рассказывается в романе И. Коваленко, составляют ярчайшую страницу истории Киевской Руси. Личность киевского князя, бесстрашного воителя, рыцаря без страха и упрёка, неизменно привлекала внимание историков и писателей. О нём спорили уже при его жизни, продолжают спорить и сейчас. Летописец XI века с восхищением описывал нрав князя, его доблесть, мужество в битве и непритязательность в походе: «Когда Святослав вырос и возмужал, начал он собирать многих воинов храбрых, и в походах легко ходил — словно пардус (то есть гепард, барс. — А.К.), и воевал много. В походах же ни возов за собой не возил, ни котлов и мяса не варил, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, на углях испёкши, ел. И шатра не имел, но подклад постилал и седло в головах. Таковы же и все прочие его воины были. И посылал в прочие страны, говоря: «Хочу на вы идти!» «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми — ибо мёртвые сраму не имут!» — эти слова Святослава, сказанные, согласно летописи, в разгар жестокой битвы с болгарами, навсегда стали символом доблести и мужества русских людей.
Но тот же летописец вкладывает в уста киевлян и слова осуждения Святослава, оставившего родную землю, Киев, на произвол судьбы ради далёкого заморского похода: «Ты, княже, чужой земли ищешь, а своею пренебрегаешь». И в этих словах тоже была правда, наверное, горькая для киевского князя. Святослав в ответ сможет лишь принять брошенный ему упрёк. «Не любо мне в Киеве жить», — ответит он киевлянам.
И верно — большая часть его жизни, после достижения им зрелости и политической самостоятельности, пройдёт вдали от родного дома, в далёких заморских походах и войнах. Дунайская Болгария, Переяславец на Дунае, а может быть, и Великий Преслав, столица Болгарского царства, гораздо больше, нежели Киев или Новгород, будут привлекать его внимание.
Внешняя политика Святослава, его отношения с соседними странами — Печенежской землёй, Византийской империей, Болгарией и другими — далеко не так однозначны и просты, как это может показаться, если судить по роману И. Коваленко. Так, например, к войне с византийцами Святослав привлёк и печенегов, которые, наряду с другими кочевниками — венграми, вошли в состав его войска. А вот союз Святослава с болгарами и совместные действия русских и болгар против византийцев, красочно описанные в романе, представляются весьма сомнительными, хотя именно такой идиллический взгляд на характер русско-болгарских отношений того времени автор романа мог почерпнуть из многочисленных трудов отечественных историков, представителей официальной советской историографии. Так часто бывает в исторической науке — братские и дружественные отношения двух народов кажутся извечными и неизменными и заставляют историка отыскивать проявления этого мнимого братства и в далёком прошлом. Но ведь в мире нет ничего постоянного. На самом деле во времена Святослава эти отношения складывались совсем по-другому. Сохранившиеся источники — русские летописи и византийские хроники — позволяют утверждать это вполне определённо.
Так, Святослав действовал в Болгарии очень жестоко. Он подчинил своей власти большую часть страны и по-хозяйски вёл себя в ней, подавляя всякое сопротивление. Когда Святослав с частью дружины спешно покинул Болгарию и устремился в Киев, подвергшийся нападению печенегов (это произошло весной 969 года), в Болгарии вспыхнуло восстание против завоевателей. Возвращение Святослава на Дунай сопровождалось морем пролитой им крови. «Приде Святослав в Переяславец, и затворишаяся болгаре в граде. И излезоша болгаре на сечю противу Святославу, и бысть сеча велика», — рассказывает летописец. Святослав смотрел на болгар уже как на своих подданных — а потому расценил восстание как измену. Он одолел болгар в битве. Расправа над побеждёнными была немедленной и чудовищной по своей жестокости. Согласно свидетельству византийского историка X века Льва Диакона, «объятых ужасом испуганных мисян (так византийцы называли болгар. — А.К.) он умерщвлял с природной жестокостью: говорят, что, с бою взяв Филиппополь (современный Пловдив. — А.К.), он... посадил на кол двадцать тысяч оставшихся в городе жителей и тем самым смирил и обуздал всякое сопротивление и обеспечил покорность» (Лев Диакон. История. М., 1988. С.56). Число жертв филиппопольской резни, возможно, и преувеличено византийским хронистом, но сам факт не вызывает сомнений. Город надолго обезлюдел. И, наверное, не он один. «И поиде Святослав... воюя и грады разбивая, яже стоят и до днешнего дне пусты», — это уже сообщение русского летописца, автора «Повести временных лет». Впоследствии, когда византийская армия во главе с императором Иоанном Цимисхием вторглась в Болгарию и захватила Великий Преслав (апрель 971 года), Святослав обвинил в военных неудачах «изменников» — болгар; по его приказу около трёхсот наиболее родовитых и влиятельных представителей болгарской знати были обезглавлены, многие болгары брошены в темницы. Как полагают историки, именно эта жестокость Святослава по отношению к покорённому им населению стала одной из основных причин его конечного поражения в войне с Византией. Ставка же на союз с печенегами не оправдала себя. Именно поражение печенежской конницы, почти полностью истреблённой византийцами в битве под Аркадиополем зимой 969/70 года, положило начало неудачам русского князя в войне с Империей; инициатива стала постепенно переходить на сторону византийцев. Впоследствии печенеги вообще отошли от союза со Святославом и превратились в его злейших врагов. Произошло же это, очевидно, не без дипломатических усилий со стороны византийцев, умело разыгравших «печенежскую карту».
Значительное место в романе И. Коваленко занимает византиец Калокир. Это личность историческая и в самом деле сыгравшая исключительную роль в русско-византийских отношениях того времени. Именно Калокир по поручению императора Никифора Фоки весной 967 года приехал в Киев и вступил в переговоры с князем Святославом. Эти переговоры и подтолкнули киевского князя к походу в Болгарию. Правда, о печенежской миссии Калокира (о которой также рассказывается в романе И. Коваленко) мы ничего не знаем. В событиях русско-византийской войны грек Калокир принимал участие на стороне Святослава (опять же вопреки утверждениям автора романа), и для этого были серьёзные основания: византийцы справедливо считали его предателем и главным виновником своих несчастий — ведь именно Калокир, по их мнению, привёл Святослава на Дунай и подговорил воевать с Империей. Однако какая-то миссия византийцев к печенегам, несомненно, имела место.
По мнению историков, нашествие печенегов на Киев весной 969 года, отвлёкшее большую часть сил Святослава от Дуная, действительно было подготовлено в Константинополе: политика натравливания своих врагов друг на друга, а особенно использование в этих целях кочевников-печенегов, давно уже стали традицией византийских императоров.
Ещё более определённо о «руке Константинополя» можно говорить в связи с нападением печенежского хана Кури на остаток войска Святослава у днепровских порогов в конце 971 — начале 972 года, когда Святослав возвращался из Болгарии на Русь после завершения войны и подписания мира с императором Иоанном Цимисхием. Византийский историк XII века Иоанн Скилица рассказывает, что после заключения мира со Святославом византийцы отправили к печенегам посольство во главе с неким Феофилом, епископом Евхаитским. Согласно официальной версии, Феофил должен был договориться о беспрепятственном пропуске русской дружины через владения печенегов, с которыми у византийцев установились к тому времени добрые отношения. Об этом якобы просил сам Святослав, весьма опасавшийся своих прежних союзников. О том, насколько добросовестно византийский епископ справился со своим поручением, мы можем судить по последовавшим за этим событиям. Осенью 971 года Святослав двинулся в обратный путь. По условиям заключённого мира, он вёз с собой военные трофеи, добытые в войне. У днепровских порогов русскую дружину поджидали заранее предупреждённые печенеги. Князь решил отступить и зазимовать в Белобережье, недалеко от устья Днепра. Вскоре в его лагере начался жестокий голод. В конце зимы — начале весны Святослав предпринял отчаянную попытку прорваться к Киеву. Однако кончилась эта попытка трагически. «И напал на него Куря, князь печенежский, и так убили Святослава», — рассказывает летописец. Куря исполнил своё давнее желание. Из черепа поверженного врага он повелел изготовить чашу, из которой позже пили печенежские князья. Согласно преданию, на черепе будто бы была сделана надпись: «Чужих ища, своя погубих» (или: «Чужих желая, своя погуби»). «И есть чаша сия и доныне хранима в казнах князей печенежских, — рассказывал позднейший летописец. — Пьют же из неё князья со княгинею в чертоге, егда поимаются, говоря так: «Каков был сий человек, его же лоб (череп. — А.К.) есть, таков будет и родившийся от нас».
Святослав одержал выдающиеся победы в войнах с могущественными противниками — Хазарией, Византией, Болгарией. Но именно печенеги — вековые противники Руси — нанесли ему последнее, ставшее роковым поражение. И это ли не знаменательно? Войны Святослава принесли славу Руси — и всё же они были далеки от разрешения главной, насущной задачи Древнерусского государства, связанной с обороной леке южных границ от самого близкого и потому самого опасного врага.
* * *
Задачу обороны Руси от печенегов унаследовал сын Святослава Владимир, вошедший в русскую историю с именем Владимира Крестителя, или Владимира Святого.
Ему пришлось столкнуться с печенегами практически сразу же после того, как он занял великокняжеский престол летом 978 года. Как известно, это произошло в результате междоусобной братоубийственной войны между Владимиром и его братом Ярополком. Владимир убил брата, но один из ближних «мужей» Ярополка, некий Варяжко, бежал к печенегам — «и много воева Володимера с печенегы», — сообщает летописец. Мир с Варяжко дался Владимиру нелегко — он «едва приваби» (то есть привлёк на свою сторону) мятежного воеводу, дав ему гарантии личной неприкосновенности. Вероятно, тогда же был заключён мир и с печенегами. Во всяком случае, до конца 80-х годов X века летописи молчат о русско-печенежских войнах.
Но всё изменилось в 988—989 годах, когда Владимир принял крещение и заключил союз с Византийской империей, женившись на сестре византийских императоров Василия и Константина порфирородной царевне Анне. С этого времени начались почти беспрерывные войны с печенегами, продолжавшиеся до самой кончины князя Владимира. «Была тогда рать от печенегов», «рати великие беспрестанные» — эти слова звучат рефреном ко всему летописному рассказу о княжении Владимира. И это были жестокие рати, потребовавшие от Киевского государства величайшего напряжения сил, и порой казалось, будто только чудо спасает Русь от военной катастрофы. Князю Владимиру Святославичу выпала великая роль защитника Руси, и не случайно, что именно он стал прообразом былинного князя Владимира Красно Солнышко, радетеля Киева, «отца» и покровителя знаменитых русских богатырей, собирающихся в его гриднице на «почестей пир», забывающих свои ссоры и обиды ради великого дела обороны Отечества.
Ещё ребёнком, весной 969 года, Владимир пережил ужасы осады Киева печенегами. Тогда его жизнь и жизнь всей княжеской семьи буквально висела на волоске, и лишь мужество и находчивость безвестного киевского отрока спасли княжичей от неминуемой смерти. Очевидно, страх перед новым печенежским нашествием остался у Владимира на всю жизнь.
Ему случалось терпеть от печенегов унизительные поражения. Иной раз лишь случай помогал ему одерживать верх над ними. В 992 году Владимир возвратился из хорватского похода (то есть из земли восточнославянских хорватов, живших в Прикарпатье) и тут узнал, что печенеги двинулись на Русь. Владимир выступил с войском из Киева и встретил врагов у брода на реке Трубеж, недалеко от города Переяславля. Печенеги предложили решить спор поединком двух богатырей (весьма распространённая практика в древних войнах). Владимир разослал по своему стану глашатаев, но долго в русском войске не мог найтись богатырь, достойный сразиться с печенежином, «зело превеликим и страшным», по выражению летописца. Это чувство страха и собственного бессилия перед печенегами, охватившее войско Владимира, по рассказу летописи, всего лишь на один-два дня, на самом деле очень хорошо передаёт состояние русского общества того времени, жившего в постоянном страхе перед возможными нашествиями «зело превеликих и страшных» врагов. Но народ нашёл в себе силы одолеть этот страх, сбросить оцепенение, нанести печенегам решительное поражение — так же и в войске Владимира нашёлся некий отрок, принявший вызов печенежского великана.
Едва ли случайностью можно объяснить то, что этот отрок представлял не воинов-профессионалов из дружины Владимира, но простых ратников, ополченцев. Точнее, его даже не было первоначально в войске Владимира, но один из «старцев», пришедших к князю, вовремя вспомнил о своём младшем сыне, отличавшемся невероятной физической силой: «Княже! Есть у меня сын меньшой дома; я с четырьмя сюда пришёл, а он дома остался. С детства его никто побороть не мог...» Этому-то юноше-кожемяке (по-древнерусски, «усмарю»)[1] и довелось одержать верх над печенежином в жестоком единоборстве на поле между двумя полками. «И кликнули клич русские, и побежали печенеги, а Русь погналась за ними, посекая их, и прогнала их». (Рассказ об этом поединке и о победе русских на Трубеже читается в «Повести временных лет»; он помещён и в документальном приложении к настоящему тому).
В 996 году Владимир с небольшой дружиной выступил против печенегов, внезапно оказавшихся у города Василев близ Киева. В недолгой схватке Владимир потерпел полное поражение. По свидетельству поздних источников, под ним убили коня; другого отыскать он не смог и вынужден был спасаться от врагов, укрывшись под василевским мостом. Тогда лишь Провидение защитило его от немедленного плена, а быть может, и гибели — Владимир обратился к Богу с молитвой о спасении и дал обет в случае избавления от печенегов поставить в Василеве церковь во имя Преображения Господня. И молитва была услышана — печенеги ушли, и Владимир благополучно, в полном здравии покинул своё ненадёжное убежище.
Да и в войне 997 года (о которой рассказывается в повести В. Буртового «Щит земли Русской») инициатива была полностью на стороне печенегов; русские лишь оборонялись, и опять же, кажется, только чудо спасло защитников Белгорода от полного истребления, а Русскую землю — от разорения.
В первую очередь Владимир стремился обезопасить Киев, не допустить повторения трагедии 969 года. Он укрепляет южную границу Руси, строит новые города-крепости на пути печенежских вторжений. Защита Руси становится общим делом всех славянских племён, независимо от места их проживания; вновь построенные крепости Владимир заселяет выходцами из северных областей страны.
Летописец рассказывает об этом под 988 годом: «И сказал Владимир: «Не добро, что мало городов около Киева». И стал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суде, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от словен (новгородцев. — А.К.), и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города, так как шла война с печенегами».
Перечисленные реки — притоки Днепра — плотным полукольцом окружали Киев с юга, востока и запада. Пять рек — четыре линии укреплений, четыре барьера, защищавших столицу Руси. Десна со своими притоками Остером и Сеймом впадает в Днепр слева, чуть выше Киева по течению. Крепости, поставленные по этим рекам, прикрывали прежде всего Чернигов, столицу так называемой Северской (то есть заселённой славянским племенем северян) Руси. Также слева, но уже ниже Киева в Днепр впадают сначала Трубеж, а затем Сула. В устье Сулы возник город-порт Воинь (само название говорит о занятии его жителей), а на Трубеже — заново отстроенный Владимиром Переяславль. Правый приток Днепра — Стугна. На ней города-крепости Василев, Тумащ, Треполь; за Стугной, немного подальше от Киева, у брода через Днепр — Витичев. От этих крепостей рукой подать до Киева. Однако в глубине стугнинской линии обороны, на реке Ирпень, в 991 году Владимир заложил город Белгород, ставший его главной военной базой. (См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982. С.385-386).
Владимир старался ставить города по возможности вблизи друг от друга — так, чтобы сигнальный огонь, разведённый в случае приближения неприятеля на башне одной из крепостей, был виден с другой. Теперь киевляне заранее узнавали о грозящей им опасности, и враг не мог внезапно оказаться у их стен. На отдельных участках границы (например, по реке Стугне) крепости соединялись мощными земляными валами. (Эти укрепления описал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, посетивший Русь зимой 1007 или 1008 года; фрагменты из его письма германскому королю Генриху II также помещены в приложениях к тому). При этом частично были использованы валы, возведённые ещё в незапамятные времена предшественниками славян, жившими в Поднепровье. Славяне называли их «Змиевыми» и верили, будто прежние богатыри-исполины впрягли в плуг гигантских змиев и так прочертили борозду, оградив свою землю не только от нежданного врага, но и от злых чар.
На пограничье, в чужом для русских «чистом поле», стояли «заставы богатырские», воспетые сказителями русских былин. Здесь несли службу знаменитые русские богатыри, соратники и сподвижники «ласкового князя» Владимира.
На горах, горах да на высоких, На шоломя [холме] на окатистом, Там стоял да тонкий бел шатёр. Во шатре-то удаленьки добры молодцы... Стерегли-берегли они красен Киев-град.Главной военной крепостью, поистине «щитом земли Русской», становится при князе Владимире Белгород на реке Ирпень. Владимир полюбил этот город более всех иных своих городов, говорит летописец, и заселил его множеством людей из разных концов своего государства. Именно в этом городе и разворачиваются события, описанные в повести В. Буртового.
В отличие от более раннего времени мы вряд ли можем предполагать какое-либо вмешательство Византии в ход русско-печенежской войны 997 года. Тем более нет оснований полагать, что в составе печенежского войска, подступившего к Белгороду, находились какие-либо «военные советники» из высокопоставленных византийцев. У печенегов, несомненно, имелись собственные причины для вторжения на Русь. Скорее всего, они двинулись к Киеву, намереваясь захватить и разорить стольный город Руси. Каким-то образом печенегам стало известно о том, что Владимир покинул свою столицу и отправился на север, в Новгород, за «верховными (то есть новгородскими. — А. К.) воями». Однако быстро возвратиться с дружиной на юг Владимир не смог. Согласно свидетельству скандинавских саг, приблизительно в это время Владимиру пришлось вести войну с норвежским ярлом Эйриком, вторгшимся в северные пределы Руси. Эйрик захватил и разорил город Ладогу, «перебил там много народу, разрушил и сжёг весь город, а затем далеко прошёл по Гардарике (Руси. — А.К.) с боевым щитом»; «он стал грабить, убивать людей и жечь повсюду, где он проходил» — и вполне возможно, что Владимир вынужден был лично организовывать оборону северных рубежей своей страны. Поздние русские источники сообщают также о войне Владимира в 997 году с «чудью» — финно-угорским населением Прибалтики и северо-восточных областей Руси, что, может быть, также связано с военными действиями русских против Эйрика (см.: Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997. С.322-323).
Так или иначе, но печенеги выбрали исключительно удачное время для нападения на Русь.
Вот тогда-то и принесли первые результаты усилия Владимира по укреплению своей южной границы. Построенная всего за несколько лет до этого крепость Белгород приняла на себя удар печенежской рати и смогла выстоять, не пропустить печенегов вглубь страны. По-видимому, печенеги не рискнули оставлять у себя в тылу сильный военный гарнизон, стоявший в Белгороде, и вместо дальнейшего продвижения к Киеву принялись за осаду города. Эта осада составила одну из ярких страниц русской военной истории.
Археологические исследования Белгородского городища (ныне село Белгородка в 23 километрах к западу от Киева) позволяют достаточно точно воссоздать первоначальный вид города. Во времена Владимира это была действительно первоклассная крепость, способная вместить в себя, помимо постоянного гарнизона, значительный военный отряд. Площадь белгородского детинца (внутренней крепости) составляла 12,5 гектара; сам детинец был окружён земляными валами с каменным и деревянным заполнением (их высота превышала 11 метров), мощными бревенчатыми стенами и глубоким рвом. К детинцу примыкал посад, также окружённый в конце X века мощным валом и рвом. Площадь укреплённого посада составляла уже 40 гектаров (значительная цифра по тем временем).
Очень необычно были устроены главные въездные ворота Белгородской крепости. Земляные валы поворачивали вглубь детинца на 45 метров и образовывали узкий проезд шириной всего 2 метра, по которому — под прицелом защищавших ворота воинов — должны были двигаться нежданные гости. В наиболее опасных местах возвышались мощные дубовые башни. Площадь основания одной из них, раскопанной археологами, составляла 3,75 на 2,7 метра. (Мезенцева Г.Г. Белгород. Археология Украинской ССР. Т.З. Киев, 1986. С.314-319).
У нас нет необходимости пересказывать ход военных действий и обстоятельства белгородской осады. Читатель прочитает об этом в повести В. Буртового, а также в отрывке из «Повести временных лет» (знаменитое сказание о «белгородском киселе»), помещённом в документальной части тома. Надеемся, что он оценит мужество защитников Белгорода, которые — в отсутствие князя и какой-либо помощи извне — сумели выстоять и своими силами отогнать неприятеля от города.
Мы не знаем истинных причин, которые заставили печенегов уйти, — в самом ли деле хитрость горожан, погодные ли условия, или, как это нередко бывает, собственные ссоры. Во всяком случае, Владимир прибыл в Белгород уже после отступления печенегов. По свидетельству позднейших летописцев, уведав, «еже печенеги много зла причинили», князь послал за ними погоню; посланные, однако, «не могши их догнать, возвратились».
Это, конечно, не означало прекращения печенежских войн. Позднейшие летописи сообщают о нашествиях кочевников в 998, 999, 1000, 1001 и 1004 годах. Вероятно, Владимир пытался не только воевать с печенегами, но и привлекать некоторую их часть на свою сторону. Ещё в 991 году, согласно свидетельству Никоновской летописи, в Киев пришёл печенежский князь Кучюг, который принял крещение и после того «служил Владимиру чистым сердцем», принимая участие в войнах против своих сородичей на стороне киевского князя.
Возможно, это всего лишь легенда. Но о проповеди христианства среди печенегов мы знаем и из других, вполне достоверных источников.
В январе 1007 или 1008 года (точная датировка затруднена) в Киев явился немецкий миссионер, епископ Бруно Кверфуртский, имя которого уже упоминалось выше. Он направлялся к печенегам для проповеди среди них христианства. Миссия Бруно к печенегам не принесла ощутимых результатов (по его собственным словам, крестилось лишь около тридцати человек), зато Бруно удалось заключить мир между печенегами и князем Владимиром. В те времена мирные соглашения скреплялись не только договорами (письменными или устными), но и обменом заложниками. Владимир отправил в Степь в качестве заложника одного из своих сыновей, имя которого Бруно не назвал. Разумеется, какие-то заложники — и притом достаточно знатные — были взяты в Киев с печенежской стороны.
Мы не знаем, как долго продержался мир, заключённый Бруно по просьбе Владимира. Во всяком случае, русские воевали с печенегами уже в 1013 и 1015 годах. Нашествие 1015 года стало для Владимира последним. Ещё до вторжения печенегов на Русь князь тяжело заболел. Он уже не мог сам возглавить дружину и потому послал против печенегов своего сына Бориса, которого любил более других своих сыновей и которому, вероятно, намеревался передать после своей смерти киевский престол. Однако всё случилось совсем по-другому. Как оказалось впоследствии, решение отца стоило Борису не только киевского престола, но и самой жизни.
Борису не пришлось встретиться с печенегами на поле брани. Узнав о приближении княжеского войска, кочевники отступили в степь. Борис же, «не найдя супостатов сих, повернул обратно». Но Владимир об этом уже не узнал. В то время, когда Борис только искал своих врагов и, не найдя их, решил повернуть обратно, а именно 15 июля 1015 года, Владимир скончался. Киевским престолом овладел пасынок Владимира, сын его брата Ярополка, Святополк; княжеская дружина отвернулась от Бориса и покинула его. Подосланные Святополком убийцы убили Бориса, а затем и его братьев Глеба и Святослава...
Так началась междоусобная братоубийственная война в Киевской Руси. Печенеги приняли в ней самое активное участие, выступая на стороне Святополка, получившего в русской истории безжалостное прозвище Окаянный. Вызов Святополка принял другой сын Владимира Святого — новгородский князь Ярослав, будущий Ярослав Мудрый; он и одержал победу в этой войне, дважды — в 1016 и 1019 годах — разбив печенежское войско Святополка.
Князю Ярославу Мудрому выпало окончательно разгромить печенегов, избавить Русь от страшной печенежской угрозы. Под 1036 годом летопись рассказывает о последнем нашествии печенегов на Киев. Ярослав был тогда в Новгороде. Узнав о наступлении печенегов, Ярослав собрал множество воинов, варягов и словен (новгородцев), и пошёл в Киев. «И было печенегов без числа; Ярослав же выступил из града и исполчил дружину: варягов поставил посередине, киевлян — на правой стороне, а на левом крыле — новгородцев... И начали печенеги битву, и сошлись на месте, где стоит ныне святая София, митрополия Русская, — рассказывал автор «Повести временных лет», — а было тогда то поле вне града. И бысть сеча зла, и едва одолел к вечеру Ярослав. И побежали печенеги во все стороны, и не знали, куда и бежать им: иные утонули в Сетомле, иные — в иных реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня». Мы столь подробно пересказали летописный текст потому, что это — последний рассказ о русско-печенежских войнах. Последняя попытка печенегов восстановить своё могущество на юге России провалилась. Время их безвозвратно ушло.
Годы княжения в Киеве Ярослава Мудрого оказались самыми счастливыми для Руси. Под давлением гузов (русские называли их торками) печенеги, в основном, покинули южнорусские степи; торки, в отличие от печенегов, не проявили к Руси повышенного интереса, а в 1060 году, уже после смерти Ярослава, объединённые силы русских князей нанесли им полное поражение. Время же половцев ещё не наступило, Русь могла вздохнуть спокойно — увы, слишком ненадолго.
Что же касается печенегов, то часть из них ушла на запад, к окраинам Византийской империи, и их история уже не пересекалась с историей Руси. Остальные перешли под покровительство русских князей, смешались с другими кочевниками, постепенно осели на земле, составив население южнорусских городов (вместе с торками, берендеями, турпеями и другими, получившими имя «чёрных клобуков»). Русские называли их «своими погаными» (слово «поганые» означает «язычники») — в отличие от «диких поганых», главным образом половцев, — и поручали им защиту южных рубежей Руси. В XII веке «чёрные клобуки» постоянно принимали участие в междоусобных войнах на юге Руси, поддерживая то одного, то другого князя, но самостоятельной роли уже не играли.
В последний раз печенеги упоминаются на страницах русских летописей под 1169 годом.
Алексей Карпов
Игорь Васильевич Коваленко Улеб Твёрдая Рука
Сказание первое ДИНАТ И КУЗНЕЦ
Глава I
Обратимся к тем далёким временам истории человеческой, когда подобно нам одни были скупы на пустые речи меж собой, а другие, напротив, болтливы без меры, когда земля и вода были богаты не только сутью своей, но и, как нынче, заботами людей и потом их, когда правда боролась с ложью, а справедливость — с бесчестьем, когда оружие решало всё и разумное слово тоже, случалось, решало, когда люди знали и ненависть, и любовь, и горе, и радость, и нежность, и месть…
Но с чего начать повесть о жестоком, жестоком средневековье?
Начнём же так.
Ненастным весенним днём 958 года после полудня по влажным плитам аллеи, ведущей от Большого дворца византийских императоров-василевсов к Медным воротам, главному выходу в город из Священного Палатия[2], неторопливой походкой имущего, без слуг и оружия шёл, сутулясь, человек. Ещё молодое, но уже бесцветное его лицо выражало глубокое раздумье.
Так, погруженный в мысли, он приблизился к крепостной стене, где, широко расставив ноги, упираясь длинными щитами в землю, в позах незыблемой мужской силы и недремлющего покоя стояли закованные в латы стражники из Великой этерии[3] — избранные воины властителя империи.
У нижних ступеней башни, не дожидаясь, пока у его груди скрестятся копья, он извлёк из складок богатой своей одежды небольшой четырёхугольник пергамента, предъявил начальнику стражи. Тот внимательно и долго разглядывал документ, после чего, прикоснувшись губами к подписи логофета дрома[4], воскликнул:
— Патрикий[5] Калокир, проходи!
Тотчас же наверху, в башне, раздался визгливый звук сигнальной трубы-буксина, и двое солдат, откинув задвижку массивной боковой калитки, выпустили Калокира за ворота.
С Босфора дул хлёсткий ветер. Грохот бьющегося о волноломы прибоя смешался с шумом начинающегося дождя. Низкие, тяжёлые, как стон, тучи заволокли небо, мрак опустился и на залив, и на малые холмы за Константинополем, и на сам город, лежащий на возвышенности полуострова.
Теперь уже Калокир почти бежал. Кутаясь в плащ, он пересёк площадь Тавра, затем, держась левой стороны улицы Меса, устремился к принадлежащему ему дому, который находился в противоположном конце этой главной улицы столицы, в сорока шагах от площади Константина.
Калокир вошёл в свой дом. Редко посещал он своё городское жилище. Взглянул в окно, туда, где за пеленой дождя смутно вырисовывались высокие зубчатые стены крепости Священного Палатия.
— Христос Пантократор, сохрани и возвеличь! Славься, Предвечный!
Вызванный появлением господина переполох вскоре прекратился, слуги разошлись по закуткам, чтобы предаться молитвам.
Не каждому дано верить в себя, но всякий может верить в бога. Каждый думал о себе, и чем большее рвение проявлялось в восхвалении и ублажении всевышнего, чем громче были вопли кающегося, тем сомнительнее была его совесть.
Калокир не оставлял на себе синяков неистовым крестным знамением, ибо в отличие от остальных верил не только в бога, но и в себя.
Небо в конце концов сжалилось, гроза и ветер стихали.
Уже различимы были мелодичные переклички бронзовых досок храмовых звонниц, звавших к вечерне. Улицы и площади огромного города оживали, заполнялись конными и пешими. Торговцы сладостями и их вечные спутники — нищие возвращались на углы и паперти. Всё смелей и смелей постукивали повозки, а военные патрули вышагивали по мостовым, не столько наблюдая за порядком, сколько заботясь о том, чтобы не забрызгать свои панцири.
На окнах подняли тростниковые, украшенные шёлковыми лентами занавески, но скудный уличный свет уже не мог рассеять мрак комнат. Зажгли свечи.
Калокир, сидя в главном зале дома, хлопнул ладонями. Откинулся тяжёлый полог, и в двери, согнувшись в почтительном поклоне, появился старый евнух. Судя по расшитому хитону[6] и изящным медным браслетам, это был баловень дината[7].
— Сарам, тёплую воду в бассейн, — устало бросил Калокир, — и обед тоже пусть подадут внизу.
— Да, господин, — раздался в ответ еле слышный писк.
— Ох заклевали б их вороны, ни крошки во рту с утра… — проворчал под нос Калокир, расчёсывая костяным гребнем жидкие свои волосы.
За спиной дината послышалось нечто похожее на вздох сочувствия. Калокир обернулся, вскинув брови.
— Ты ещё здесь?!
— Бегу, господин, бегу, — быстро ответил Сарам, сломившись так, что едва не уткнулся носом в щиколотки собственных ног, — но разве у Единственного и Всесильного, Божественного, да пребудет в вечном расцвете его щедрость, владыки нашего не нашлось вина и хлеба для достойнейшего из мудрецов Фессалии и Херсона?
Интонация, с какой был задан вопрос, почти нескрываемая ирония и насмешка в адрес «щедрого владыки» явно пришлись по душе Калокиру. На губах молодого дината даже мелькнула кривая улыбка.
— То выше нас, грешных.
— Да простит меня господин, — осмелев окончательно, елейным голоском произнёс Сарам, — пусть готовят коней на утро?
— Нас ждут другие дела. Не в Фессалии.
— Разве господин не вернётся в кастрон[8]?
— Коня пусть приготовят. Завтра отправлюсь на берег смотреть корабли.
— Будет, как велено, мой господин.
— Сейчас, за трапезой, ни песен, ни музыки, ни массажистов — никого. Мне надо думать… Ступай!
Пока динат Калокир будет совершать вечернее омовение, подробнее расскажем о нём и о том, о чём он сам, запивая обильные яства старым вином, собирается думать в тиши полуподвального зала, где над мраморной купальней курится призрачный пар.
Калокир принадлежал к знатному, некогда влиятельному и богатому роду. Его предки вознеслись ещё во времена правления Юстиниана, которому сопутствовала удача в завоевании обширных земель в Европе и Азии, и блаженствовали у самого трона около трёх веков.
За какие-то провинности род Калокира был отброшен на задворки. Сам Калокир, сын стратига Херсона, довольствовался властью лишь в старом родовом имении, затерявшемся в Фессалоникской феме[9]. Там предпочитал сидеть чаще, нежели в далёком Херсоне.
Сидел тихо, безропотно, смиренно поставлял людей в армию и посильную долю в государственную казну.
Он родился и вырос в атмосфере воспоминаний о поруганном величии. Самолюбивый мальчик долгие часы рассматривал оружие предков и мысленно клялся сделать с годами всё, чтобы склонились пред ним самые гордые головы.
Взрослый Калокир, хоть и опасался ещё возможной беды со стороны столицы, всё же стал, как говорится, потихоньку высовывать нос. Сын стратига хорошо владел мечом, и, хотя чувство страха бывало ему знакомо, он всё же не слыл трусом. Удостоен был высокого титула патрикия за воинские подвиги.
То был мир, где золото решало многое. Калокир рвался к наживе. Сначала принял участие в набегах акритов, пограничных византийских войск, на болгарскую землю. Добычу, пленных женщин и детей, выгодно продал в Солуни. Затем, купив в Константинополе корабли и нагрузив их тюками с паволокой[10] и ящиками с медными гвоздями, отправился в путешествие вдоль северо-западных берегов Понт-моря, поднялся вверх по Днепру на знаменитый славянский торг. Долог был путь в землю россов, куда, слышал, с обнажённым мечом ходить опасно, а ещё дольше — пребывание новоявленного купца в загадочной и удивительной стране. Только через два лета воротился из Киева. Дорогие собольи, куньи меха привёз, восковых шаров без числа. И неоценимое богатство — знание русского языка.
Закупил динат новые пашни, обновил, укрепил кастрон — свою цитадель в Фессалии, молодых работников привёл, скота вдоволь. Осмелился приобрести дом и в Константинополе, пусть не дворец, а всё же заметное жилище под боком у самих василевсов[11].
Жил в отдалённом имении сытно, беспечно, без жены и младенцев. Да вдруг, как гром среди ясного дня, простучали копыта, властно загромыхали железные кольца о дубовые ворота кастрона. Заметались по двору люди, словно куры под тенями ястребов. Ворвался Сарам в хозяйскую опочивальню, завизжал как резаный:
— О господин! Там гонцы со значками всесильного повелителя нашего на копьях!
— Много?
— Трое.
— Что говорят?
— Тебя требуют.
Не убить же, не надругаться прискакало трое всадников к столь отдалённому укреплению, где отряд вооружённых слуг под рукой дината.
— Впустить!
Сам вышел встречать вестников в двойной кольчуге под широким плащом. Меч в ножнах, шлем на голове парадный, не боевой, без гребня и налобника, страусовые перья колышутся величественно. На лице ни глаз, ни носа — одна улыбка. А в бойницах на всякий случай притаились лучники.
— Хвала Иисусу Христу! Пантократору слава!
— Воистину слава!
— Мы к тебе волею василевса. Божественный ждёт.
— Слава Порфирородному во веки веков! — воскликнул Калокир, чувствуя предательскую дрожь в коленях. — На что я, жалкий, понадобился святейшему?
— То нам неведомо. Не медли.
— Хорошо, храбрейшие, завтра же отправлюсь.
— Сегодня. С нами.
Динат льстиво вглядывался в запылённые лица гонцов, пытаясь хоть что-нибудь прочесть в них, но солдаты были невозмутимы, будто каменные.
— Хорошо, сегодня же, — согласился динат после недолгого колебания. — Вино и пищу дорогим гостям! Свежих коней! Живо!
Слуги стремительно, как зайцы с межи, сорвались с мест и кинулись исполнять приказ. Всадники спешились, благодарно кивая, приблизились к Калокиру. И он и они сняли шлемы в знак взаимного доверия.
Сборы были недолгими. Вскоре двинулись в путь.
Не близок путь в Константинополь. Скакали во весь отпор, сменяя лошадей по возможности часто, ночуя порой где придётся. Дорожные расходы живо истощали кошель Калокира, и это подтачивало его больше, нежели дурные предчувствия и затаённый страх.
В столицу прибыли поздним вечером, и велено было динату явиться утром в Палатий пешим, без слуг и оружия.
Ночью он почти не смыкал глаз. Не спал и весь дом на улице Меса. По углам шептались как о покойнике.
Наступил хмурый рассвет. Калокир помолился, надел перстень с ядом, дабы оградить себя от мучений, если понадобится, и отправился в Священный Палатий, откуда не всякому сумевшему войти удавалось выйти.
Священный Палатий — город в городе. Как ни блистателен Константинополь, наречённый византийцами Царицей городов, центром ойкумены, а крепость внутри его скрывала поистине непревзойдённые шедевры архитектуры и сказочную роскошь.
У Палатия его уже поджидал низкорослый тощий человечек в монашеском одеянии.
Калокир покорно следовал за безмолвным карликом. Он шёл и взирал на сутулую спину монаха с трепетом.
За толстыми и высокими стенами Палатия собрались лучшие дворцы и храмы империи. Соединённые крытыми переходами и ажурными надстройками, они изумляли красотой линий и строгостью пропорций, золотом куполов и шпилей, базальтовой облицовкой, разноцветными мраморными колоннами и плитами. И даже попадавшиеся на пути мрачные казармы, оружейные склады, жилища слуг и работников, хранилища тайной казны и тюрьмы были не столько заметны глазу на фоне многочисленных садов, где белели вывезенные когда-то из Рима, Древней Греции и эллинистического Востока гранитные и мраморные изваяния животных, мужских и женских фигур.
Ошалевшие от такого обилия красоты и чужой роскоши глаза честолюбивого дината алчно, завистливо впивались в ту или иную статью, губы неслышно шептали, как у спящего школяра: «О господи, господи…».
Впереди маячила согбенная спина монаха. Проникавший в эту обитель ветер с моря трепал полы его длинной и просторной одежды.
— Сюда, — внезапно молвил карлик и обернулся, источая всем своим видом чуть ли не отеческую любовь к одеревеневшему динату.
Калокир понял, что его привели в циканистерию — территорию Большого императорского дворца. Какие-то горластые юнцы упражнялись в верховой езде, взрывая копытами коней рыхлый наст площади, специально предназначенной для подобных скачек и военных игр.
Далее всё происходило как во сне. Чьи-то руки бесцеремонно ощупали его хитон и, не найдя утаённого оружия, хлопнули по плечу: «Проходи!» Затем всё тот же тощий монах вёл его по анфиладе огромных комнат, быстрые шаги утопали в коврах, и чередой красочных парусов свисали с потолков драгоценные ткани, лёгкие как паутина, и кружилась голова от волнения, благовоний и пронизывающего мерцания обнажённых клинков стражи.
Монах куда-то исчез, успев шепнуть:
— Великий логофет дрома.
Оставленный посреди комнаты, мало чем отличавшейся от предыдущих, Калокир растерянно озирался по сторонам.
В затемнённом дальнем от нафтовых светильников углу пошевелилась фигура, которую Калокир ранее принял за статую из тех, что украшает галереи и залы именитых дворцов. Поняв, что он не один, динат сломался в поклоне.
— Ты Калокир из Фессалии? — неожиданно просто и приветливо спросил логофет.
— Да, лучезарный.
— Ты был у язычников и знаешь их речь?
— Да, я торговал с руссами два лета на благо священной империи. — Калокир невольно ощупал зловещий перстень, словно источник бодрости.
— Ты воротился достойно?
— Я ничего не утаил от казны, милостивый, — заверил динат, не догадываясь, куда клонится допрос.
— Сие нам известно, как и прежние твои подвиги в битвах с булгарами. Всем ли ты доволен? Нет ли на сердце тяжести или обиды? Не гложет ли червь сомнения в чём-либо?
— О, я всем доволен! — Калокир насторожился, опасаясь подвоха. Причина и цель встречи с одним из наиболее могущественных чиновников были ему неясны, он боялся сказать что-либо не так, невпопад.
Усевшийся перед ним на высоком тюфяке крупный, преисполненный сознания своей силы человек смотрел внимательно, умолкнув, словно обдумывал что-то или выжидал. Почтительно молчал и динат.
Сквозь раскрытые решетчатые окна доносились низкие и протяжные завывания ветра Лёгкие занавески шевелились, точно крылья фантастических птиц.
Наконец логофет изрёк:
— Слух о твоей мудрости и удачах в походах достиг нас. Руссы у святого Мамы, купцы и прочие говорят о тебе и знают. Сам повелитель наш пожелал видеть ловкого дината из Фессалии.
— Повелитель, Всесильный и Единственный, пожелал меня видеть! — воскликнул Калокир.
— Он примет тебя сегодня и, быть может, удостоит назначения пресвевтом[12].
— Умру за Единственного! Бесценна щедрость Константина Порфирородного! Умру у ног его… О Святейший…
Вдоволь насладившись зрелищем, какое представлял собой одуревший от радости Калокир, логофет протянул руку, потряс его за плечо, как бы приводя в чувство, и доверительно, почти кощунственно произнёс:
— Константин уже ближе к богу, чем к нам. Ты обязан милости и заботам соправителя Романа. Запомни. Ему, и никому другому.
Глаза Калокира округлились, шёпот запутался и утих между пальцами, которыми он сжал собственный рот, как заговорщик. Грузный, крепкий мужчина, прямолинейный и грубоватый в своих суждениях перед невластными, как всякий фаворит трона, беспечно улыбался, а Калокир подобострастно глядел на него.
— Я ухожу, — сказал логофет, поднимаясь с тюфяка, — ты же, благообразный патрикий, жди, пока приведший тебя инок Дроктон не пригласит и не проводит в Золотую палату.
Тяжёлой походкой он двинулся к выходу, однако, пройдя несколько шагов, обернулся, сказал негромко и доверительно:
— Восхваляя в молитвах милость Романа, воздай должное и доместику[13] схол Востока, прославленному Никифору Фоке. Он сберёг в памяти былую услугу стратига Херсона, вспомнил сына его. Готовься. Тебя ждёт быстроходная хеландия[14] с охраной на борту в пятьдесят отборных копий, с огнём в двух трубах. Поручение будет важным и тайным. Если исполнишь волю Соправителя и доместика, высоко взойдёшь Но дело предстоит нелёгкое. Снова отправишься к тавроскифам, к нехристям этим, в Руссию.
Глава II
На юге Руси великой, в низовье Днестра-реки, где сходились земли уличей и тиверцев, затерялось в лесах село. Не село, а маленькое сельцо Радогощ. И всего-то было в нём шесть дворов и три десятка душ, считая старых и малых.
Трудились сообща, как одна семья. Всё у них было общее: и орудия труда, и скот, который не клеймили, у них не стояли в поле-оранице каменные знаки на межах, да и межей самих не видать. Работали плечом к плечу, хлебали часто из одного котла. Словом, были жители Радогоща, как говорили тогда, в супряге и толоке. Не держались бы вместе на отшибе-то, поди, замаялись бы в нужде.
Занимались всем понемногу, всякую заботу знали. Пахали и сеяли, собирали хлебушко дважды в году, ярь и озимь, зверя промышляли и рыбу, бортничали и ткали льняную холстину. На все руки умельцы, как везде на Руси испокон веку.
Да всё ж одно дело у них главное — варили железо. Дело то редкое и доходное, не каждому доступное. А старшим в артели неизменно выбирали хромого вдовца Петрю, у которого после смерти жены осталась вся отрада — дочь Улия шестнадцати лет, сынок Улеб чуть помладше сестрицы и работа.
Старый коваль Петря — мудростью над всеми. Сам Сварог, бог огня, заронил в него свою искру, благоволил и покровительствовал вдовцу в работе, и потому слыл Петря вещим, ибо в те времена кузнец вообще считался приобщённым к духам, с божьей искрой, и дано ему было не только ковать меч или плуг, но и врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от деревни.
Спряталось в зелёной тиши крошечное поселение с мирными жителями. Княжеские биричи не ездили к ним за побором, сами возили оброк вверх по реке в шумный город Пересечень не зерном и шкурами, а всё больше доставляли топоры, пряслица, просто необработанную крицу, кресала и прочую кузнь.
Биричи к ним в глушь не ездили, зато бродячие коробейники не преминули заглянуть в богатое железными изделиями село. Недаром звалась горстка избушек Радогощем, и верно — рады гостям всегда.
Вот раз сквозь сон расслышал Улеб, сын коваля Петри, далёкую призывную песню менялы, мигом открыл глаза, засмеялся громко и звонко.
Бревенчатая изба с проконопаченными мхом стенами была пуста. Отец и сестрица по обыкновению вставали до зари, раньше Улеба. Это понятно, Улия осталась единственной женщиной в доме, а у хозяйки доля такая — ложиться последней, вставать первой. Отец же достиг того возраста, когда сну отдают как можно меньше часов, ибо в отличие от молодых старики, всё чаще и чаще задумываясь о неотвратимости конца, узнают цену быстротечному времени.
Натянув рубаху и сунув ноги в лёгкие лыченицы — нехитрую обувь, сплетённую из лыка собственноручно, — Улеб тремя привычными прыжками достиг дальнего угла, где рядом с дежой для квашни стояли низкая кадка с водой и массивный ковш. Напился, нарочно проливая на грудь бодряще-холодные капли, и кинулся к столу, чтобы наскоро проглотить приготовленный для него милой сестрицей ломоть вкусного кислого хлебца с мёдом.
Сквозь слюдяные окошки сочился озорной утренний свет, падал пятнами на земляной, гладко убитый и посыпанный ярко-зелёной весенней травкой пол. Иссохшие метёлки уже потерявших за зиму душистый запах чабреца и тимьяна обрамляли божницу, на полочках которой были расставлены вырезанные из дерева фигурки идолов. Вдоль стен тянулись кругом низкие лавки. Иные покрыты расшитой рогожкой, иные так. Над лавками в избе кузнецов красовались медные святцы с лучинами.
Улеб толкнул дверцу, выскочил на порог и на миг зажмурился от яркого солнца.
— …а-а-а, поиграет мал-мала-а-а… — волнами доносилась знакомая песенка коробейника. Пестро одетый, звонкоголосый, с расписным лотком через плечо, он спускался по стежке вдоль песчаного берега особой походкой удалого путника.
Сестрица Улия с двумя подружками сидит на плоском камне под раскидистой вишней. Пригожие девушки, белолицые, глазастые, тонкие и стройные, как лоза. Венки на них из душистых ранних цветов, в длинных косах змеятся алые ленты. Щебечут меж собой увлечённо с виду, а на деле и слов-то друг дружки не слышат, все стреляют горящими глазами на тропинку, где ступает сапожками, поводит плечом, поправляя ремень ноши, да поигрывает кисточкой пояса белозубый кудрявый парень. Пусть коробейник полюбуется красотой девичьей, пусть рассказывает по свету, какие спелые ягодки скрывает живописный берег Днестра-реки.
— Мир вам, люди добрые!
— Мир тебе, Фомушко, желанный гость!
Поднял коробейник крышку своего лотка и давай раскладывать товар на зелёном бугорке, сыпля шутками направо и налево. Девушки, смеясь, вспорхнули с камня. Ребятишки огласили окрестность трелями глиняных свистулек и тягучими, хрипловатыми звуками кленовых дудочек, обожжённых замысловатым орнаментом.
Мужики поглядели через головы детворы и женщин на товар и, не найдя ничего стоящего, разочарованно разбрелись по своим делам. Не густо нынче в коробе Фомки.
— Что, Фомка, — радушно сказал кузнец Петря, — поешь с дороги-то? Или бражки поднести? Взмок весь.
— Я сыт, спасибо. А от бражки не откажусь.
Старый Петря кликнул сына, и Улеб побежал в избу за питьём.
Кузнец присел рядом с гостем, вытянув нездоровую ногу. Давно как-то раненый вепрь наскочил в камышах, распорол голень и кость сломал. Клыкастую кабанью морду Петря тогда нанизал на кол посреди двора, да что толку, если кость ноги срослась плохо, охромел навсегда.
— Чудно, Фомка, недавно был и опять к нам завернул. Ларь-то порожний, с чем ушёл, с тем скорёхонько и воротился. Новую песню вспомнил для нас, забыл чего иль полюбился кто?
— Полюбился, — хитро сощурившись, ответил парень, — покою не стало. С дельным разговором пришёл к тебе.
— Ну так зайдём в истобку, коли дело, — кузнец насупился в недобром предчувствии, из-под топорщившихся кустиков бровей взгляд серых глаз невольно скользнул по крыше, где лежало колесо от телеги — старинный славянский знак того, что в доме невеста на выданье.
— Тут порешим, — сказал парень.
Петря открыл было рот, намереваясь сразу же предупредить, чтобы про Улию и речи не было, но в этот момент подбежал сын с бадейкой, он и молчал пока.
Славный парень Фомка, но безродный, лёгкий умом. Нет, не отдаст за бродягу свою красавицу старый вдовец. Не быть ей женой балаболки, не разувать его перед сном, пусть и не мечтает. Жаль коробейника, лучше бы ему не заводить бесполезного разговора.
Вот Фомка оторвался наконец от посудины, перевёл дыхание, рот до ушей, и шлёп парнишку по плечу, норовя одновременно с места подсечь ногой. Улеб устоял, хохочет довольный, в свою очередь, схватил здоровенного парня за сапог, как дёрнет — тот и брякнулся с бревна. Куры шарахнулись от баловников, взметнув пыль.
— Силён у тебя дитятко! — восхитился коробейник, глядя вслед убежавшему победителю и отряхиваясь от пыли. — Скоро, Петря, посылай его в урочище без копья, одним кулачком сокрушит турьи хребты! Ну и кулачки у дитятки!..
— Захвалите ещё малого, и без того своё место забывает, всё норовит с мужиками в ряд, а то и опережает. Нехорошо, — для виду поворчал кузнец, а в сердце гордость за сына. И приятно, что разговор уклонился от нежелательной темы. — Что нового на миру?
— Откуда, сам посуди, свежие вести брать, коли кручусь возле вас, никак не уйду. Надоело ноги бить.
— Так не бей.
— Вот за тем и воротился к тебе. Выручишь, мы с тобой не первый год знакомы, не раз преломляли хлеб, верно?
— К чему клонишь-то?
— Всё к тому же, Петря, всё к тому же. — Фомка живо вывернул на ладонь из висевшего у пояса мешочка горсть чеканных серебряных монет. — Держи, всё отдаю! Пять гривен десять ногат. Хватит? И делу конец. Бери, твоё.
— За что же? — багровея, прорычал кузнец, поднимаясь во весь свой могучий рост. — Ты за что мне деньги предлагаешь, а?
— Известно, за Жара.
Петря, как подкошенный, плюхнулся на место. Даже вздохнул от неожиданности и облегчения. Враз отлегло от сердца.
— Тьфу! Сполоумел, леший! — Он рассмеялся. — Я подумал, ты девку запросишь в жёны.
— На кой мне жёнка! Мне рыжко нужен! Тебе-то что пользы в таком резвом коньке, хороша и простая лошадка, а мне в дорогах верное подспорье. Уступи, брат.
Вдруг кузнец обиделся, встрепенулся, будто оса его ужалила.
— Чем же это моя дочка тебе не по нраву? — спросил, насупившись.
— Красавица твоя Улия, слов нет. Первая красавица, лучше не встречал. Достойна руки княжича, куда нам, голытьбе. И не жених я, сам знаешь. — Фомка подбрасывал монеты на ладони, надеясь их звоном соблазнить собеседника. — Мне приглянулся жеребец, о нём и речь.
— Деньги даёшь большие, верно, только коня тебе всё равно не видать. Улеб ему полный хозяин, не я, — сказал Петря. — Ты не первый заришься, всем отказ.
Парень спрятал монеты в кошель, угрюмо поднялся с бревна и направился к ухожам за избой, к скотнице, даже не взглянув на бугорок с товаром, возле которого всё ещё мельтешили белые повойники женщин, бойких, говорливых в отсутствие мужчин.
Поднялся и Петря, торопливо заковылял туда, где в дыму и жару кипела работа. На ходу грозно прикрикнул на женщин, дескать, довольно забавляться и бездельничать. Те врассыпную.
Лёгкий ветерок с реки играл трепетными клейкими листочками деревьев, вплотную окруживших сельцо. Крошечное стадо паслось на опушке, не приближаясь, однако, к лесной чаще, над которой не смолкали многоголосые хоры птиц, чуявших дикого зверя.
Радогощ, собственно говоря, расположился не на самом Днестре, а чуть в сторонке, на берегу небольшой протоки.
Повисли в лазури белые облака, опалённые снизу ранним солнцем. Чистая студёная вода прямых, как листья сабельника, ручьёв рассекала душистый зелёный ковёр, усыпанный желтками одуванчиков.
На выметенной, посыпанной к лету крупным речным песком земле скотницы стояло ведро с водой. Позади аккуратно сбитого стойла лежали, прислонясь к нижней жерди ограды, новенькие заступы-мотыки с сердцевидными «рыльцами». В узкой дощатой пристройке висели уздечки, потники и сёдла, глядя на которые, можно было подумать, что здесь обитает не всего-навсего один, а по меньшей мере полдесятка коней.
Улеб плавно водил гребнем, расчёсывая гриву жеребца, приговаривал что-то, и конь-красавец косился добрыми, умными глазами на юного хозяина, будто понимал ласковые слова.
Да, это неровня низкорослым сумным лошадкам, покорно таскавшим груз по торговым дорогам. Странной, пустой казалась постороннему дружба оседлого сельского паренька и рождённого для простора угорского скакуна. Лелеял и холил Улеб своего красавца, и тот отвечал ему такой благородной привязанностью, что просто диву давались.
Ничего дороже хорошего коня не было в те времена всякому, кто носил одежду мужчины. Во всех краях и всех землях. Посажение на коня было главным в обряде пострига — обряде совершеннолетия. Если хотели сказать, что кто-то очень болен, вздыхали: «Не может на коня сесть».
Зря торговался Фомка, ушёл восвояси.
Обычно спозаранку определяли на коротком совете: идти ли сообща в лес добывать мясо и шкуры, плыть ли челнами с острогами на камышовые протоки, где ставили плетённые из ивняка рыбьи мерёжи-самоловы возле крепких заколов поперёк течения, натягивать ли сети-перевесы между деревьями в местах перелёта птиц.
Сегодня же чуть свет зарезали голубей в жертву Сварогу-Дажьбогу, окропили их кровью холм с идолищем Огненного Отца, сотворили недолгий обрядный танец, принялись варить железо.
Коробейник, правда, немного отвлёк, но дело не стояло. Вот только Петря задержался да сын его, воспользовавшись этим, сам, плутишко этакий, замешкался в скотнице, пришлось кликнуть к домнице.
Улеб прибежал послушно, скорёхонько, как и должно провинившемуся. Работали кормильцы охотно. И девушки на завалинке пели весело за пряжей, поглядывая на мужчин, чуяли, предвкушали удачу, а с нею и потешное гульбище вечером у костра за околицей. Так уж повелось: Днём работа без отдыха, вечером праздник, справа-пиршество опять же в честь-хвалу Сварога.
Хромой Петря сам раздувал пламя. Что есть силы вцепившись в держалки, сжимал и разжимал мехи из бычьей шкуры. Пот струился по морщинистым щекам, по спине и груди, рубаха потемнела от липкой влаги, глаза впились в домницу, и не понять, то ли это натужно охают мехи, то ли человек стонет от напряжения.
В такие минуты нет ему равного. Всё это знали, все почтительно стояли позади — свершалось руками вещего великое таинство.
В просветах между пышными кронами дубов, клёнов, буков высоко в небе, ярком, солнечном, едва различимыми точками парили орлы. К запахам цветов примешался запах гари, и глупые коровы на опушке поднимали головы, тревожно раздувая ноздри.
Наконец Петря оставил мехи, обессиленный, припал на здоровую ногу, упёрся дрожащими ладонями в землю, волосы слиплись на лбу, из-под косматых бровей стрельнул взглядом в сына, бросил, переводя дух:
— Пора. Бери изымало.
Домницу ломали пешнями, чтобы достать металл.
Улеб и Боримко, усердно пыхтевший крепыш, тут как тут, ухватили клещами огненную крицу, понесли на наковальню, чтобы бить молотами, снова подогревать и снова плющить, так много раз, чтобы стала плотной, без пузырьков и изъянов.
Принёс Петря вторую увесистую «лепёшку», кинул на малую наковальню и тоже давай обрабатывать. Машет пудовым молотом, точно былинкой, пересмеивается с сыном и другими хитрецами, дескать кто ловчей? Но и тут за ним не угонишься, даром что старше всех годами.
Не работа, азарт! Улеб горд отцом, силищей его, сноровкой. Добрую славу добыл Петря Радогощу. Скорее бы стать с ним вровень, скорее бы познать до конца науку. Кузнечное ремесло почётней иного.
Звонким эхом метался окрест бойкий перестук. Быть на весеннем Пересеченском торгу уличей новым изделиям приднестровских умельцев. Будет радость и смерду и высокородному.
— Меня обещал взять в городище, не забыл?
— Обещал, возьму.
— Снова водой двинем?
— Там будет видно, — отвечал Петря сыну. — Может, запряжём рогатое тягло, коли дороги окрепли.
Улеб мечтал, чтобы снарядили воловью колу — четырёхколёсную телегу, в которой обычно возили брёвна. Конечно, челнами по реке быстрей, но в том случае требуется больше людей. Кола громоздка, зато одна, ей и двух сменных погонщиков хватит, а челны малы, да каждому подавай по гребцу на уключину. Снарядят колу, Улеб сможет рядом ехать верхом, скакать на своём Жарушке.
Они переговаривались, не прерывая работы, отрывисто выкрикивая слова в чаду и грохоте.
Глава III
Девятнадцатый день плыли корабли византийского посольства, половину пути прошли. Шли гуськом, стараясь не слишком отдаляться от берега, чтобы в случае бури и крушения можно было добраться до суши хоть на обломках.
Лёгкая, стремительная хеландия с воинами шла впереди двух менее поворотливых торговых судов. Ветер часто сопутствовал» так что гребцы на военном корабле то и дело отдыхали, полагаясь на влекущую силу вздувшегося полотнища, а на остальных гребцы-невольники, несмотря на наполненные паруса, всё равно вынуждены были выбиваться из сил, чтобы не отставать.
На палубе хеландии, в окружении подчинённых ему солдат-оплитов[15] Калокир полнее мог прочувствовать значительность своей персоны. Он был спокоен за плывущую следом собственность, там оставлены верные надсмотрщики.
Кормчие тянули привычный заунывный напев. Выбеленные солёными брызгами и полуденным солнцем сосновые доски верхней палубы были покрыты грудами брошенной одежды и оружия.
На возвышенной носовой части бывалые оплиты вяло играли в кости. Обнажённые торсы изуродованы татуировкой и рублеными шрамами, резко выделявшимися отталкивающей белизной на загорелой коже. Угрюмо поглядывали они то на пирующего в одиночестве Калокира, то на командира своей полусотни, свесившегося за борт в судорогах морской болезни, плевались и сквернословили втихомолку.
Кружили крикливые, беспокойные чайки. Бесконечной чередой убегали барашки волн в сторону смутно видневшегося слева крутого берега. Бездонная малахитовая вода покачивала корабли. Дельфины резвились около каравана.
Велик простор моря, уходящего на горизонте в небесную синь. Это море поражало воображение всякого. Многие реки поят его, и само оно кормит многие земли. Всё это знают, всех оно приворожило. Имён ему люди дали разных, но одинаково верных. Северяне, например, нарекли Тёплым морем, для византийцев оно Понт Эвксинский, что означает: море Гостеприимное. Славяне, арабы и другие народы звали его морем Русским, ибо лежит оно у ног русской земли, издревле россами хожено.
Огромна и Рось-страна. Ох как велика и заманчива она, Русь!
С Дона и его низовий набегали хазары. В южных степях рыскали печенеги, кочуя меж дельтой Дуная и Сурожским морем и оставляя после своих набегов разорение, смрад, смерть. С северо-запада алчно поглядывали на неё воинственные норманны, пруссы, саксы, франки и прочие, кого на Руси называли немцами, то есть немыми людьми, потому что речь их была непонятна славянам.
Прежде, при княжении Аскольда с Диром, при Ольге и даже при храбром Игоре, сыне Рюрика, иноземным захватчикам часто удавалось безнаказанно уходить с наживой — Русь была раздробленной.
Но вот объединил Святослав Игоревич под своей рукой прочих князей, сплотил как смог вокруг Киева. Распрямила Рось-страна плечи, дерзости поубавилось у её недругов.
С отважной дружиной Святослав ходил во все стороны и везде видел спины врагов. До самой Византии добирался. И предупреждал тех, на кого готовил поход: «Хочу на вас идти».
Мудрый Константин, владыка морей и земель, пригласил мальчишку Святослава в гости. Тот отказался, сославшись на неполадки с вятичами. Пригласил тогда Порфирородный княгиню Ольгу, влиявшую на Святослава, как и всякая мать на сына. Ольга поехала. Хотела привезти из-за моря невесту мужавшему княжичу.
Принимали её в Священном Палатии пышно. Роскошь Царьградского двора отметила, но собственное достоинство сохранила.
Император, сам того не ожидая, а может, и нарочно объявил Ольге, что покорила она его красотой своей зрелой, предложил ей, вдове Игоревой, разделить с ним, василевсом, трон империи. Ольга и тут не оплошала, ответа прямого не дала, пожелала перво-наперво окреститься.
Константин Порфирородный вместе с патриархом Полцевктом возвёл её к алтарю и купели Софии-Премудрости, обратил княгиню русскую в новую веру. Имя ей дал христианское — Елена. Назвал сестрой.
Стала Ольга Еленой и ответила императору: «Ты назвал меня сестрой перед богом и людьми. Как же я, твоя сестра, могу стать тебе женой?» Обещала ещё наведаться в Константинополь. С тем и снарядила свои ладьи-насады в обратный путь. А с собою взяла священника Григория, приданного ей в напоминание о новой вере.
В золоте и парче воротилась домой, в милый сердцу Киев. Вновь стала не Еленой, а Ольгой, как назвали её при рождении в Плескове, откуда ещё девочкой когда-то была увезена на Днепр любимым, незабвенным Игорем.
Григорий же, священник дарённый, всех подивил своим видом и чёрной рясой. Однако скоро к нему привыкли.
Долго вспоминала княгиня дворцы и храмы, рассказывала подругам-боярыням на посиделках о далёком белокаменном государстве, описывала нравы и обычаи греков. Невесту Святославу так и не привезла. Не породнились, стало быть, с Византией.
Изнутри, как тлеющий в желудке яд, подтачивало Византию неослабевающее движение павликиан-еретиков, которые проповедовали отречение от чрезмерных благ и боролись против богатства правящей церкви. В Малой Азии плебеи ещё помнили крестьянское восстание во главе с легендарным Василием Медной Рукой. Там то и дело вспыхивали волнения. Всё это не давало покоя внутренней армии. Толпы шпионов ворохом приносили военачальникам тревожные вести.
Беспрерывно терзали империю старые её противники, от которых едва успевали отбиваться. Малые, но бесконечно повторяющиеся войны с арабами на востоке, с африканскими арабами в Сицилии и Южной Италии раздражали. Да и дерзкие налёты неуловимой угорской конницы на северные границы в состоянии были свести с ума своей отчаянной смелостью. Угры беспрепятственно проникали в Македонию через Булгарское царство.
Высокая культура и огромные богатства Византии притягивали к себе Русь, как и прочие страны. Естественным было стремление к беспошлинной торговле с Константинополем, к таинствам византийских ремёсел и культуры. Стремление это нередко сопровождалось и звоном оружия.
Насаждение христианства в окрестных и дальних землях помогало Византии подчинять своей воле другие народы и государства. И часто крестом империя добивалась не меньшего, нежели мечом или золотом.
А что же Русь? Ни крещение великой киевской княгини, ни родственные узы, которыми пытались связаться царственные дворы, не привели к подчинению Киева интересам Константинополя. Быстро развивающаяся Русь являла собой незыблемую силу, вынуждавшую Византию вести тонкую дипломатическую игру.
Булгария была вторым после Руси сильным славянским государством. Россы и булгары — вот кого, пожалуй, больше всех опасалась ещё державшая в подчинении многие народы, но уже заметно ослабевшая Византия. Империя хотела укрепиться, и задумал Священный Палатий, уповая на воинский пыл Святослава, столкнуть Русь и Булгарию, а печенегов натравить на Киев.
Но как воплотить мечту в действительность?
Роман, махнув рукой на отца, который, надо отдать ему должное, помнил русскую княгиню и посему проявлял некоторую медлительность, отважился на самостоятельные действия под давлением придворных политиков, хотя и не слишком любил отвлекаться от развлечений и забав.
Помимо различных намеченных ухищрений было решено направить для начала в обе страны посольства с особой, скрытной миссией. Одного наушника по имени блуд быстро снарядили к булгарам. Стали подыскивать человека на Русь. Такой нужен был, чтобы не знали россы о нём ничего худого, чтобы не смогли ни в чём его заподозрить.
Влиятельный, всемогущий Никифор Фока вспомнил и предложил посланником в Киев Калокира. Он на Руси бывал, знал язык, удача ему сопутствовала в торговле. Роману донесли о давней тяге молодого дината к лестнице славы.
…Вёсла идущих следом за хеландией купеческих судов ощетинивались и разом опускались на воду, чтобы тут же вскинуться вновь под очередной требовательный удар литавр.
Томившиеся от безделья солдаты раздражали Калокира. В первые дни плавания он развлекался тем, что повелевал разыгрывать тревогу. Презирая в душе прихоть посла, солдаты, хоть и без особого рвения, однако с бесспорной выучкой по сигналу командира полусотни выставляли щиты за вырезы бортов и дружно орудовали десятками копий, как одним.
Временами на дината находила меланхолия, и он подолгу неподвижно сидел на своём коврике, держа перед глазами круглый медальон, полученный из рук самого Романа. Иногда он обнажал меч и на виду одобрительно галдящих воинов ловко рассекал деревяшки, которые подбрасывал слуга Сарам.
Порою же, преимущественно в приятные, освежающие утренние или вечерние часы, он подзывал слугу и заводил странные беседы, если, конечно, их вообще можно назвать беседами, поскольку говорил, собственно, он один, а Сарам лишь подавал угодливые реплики.
— На последней стоянке мне показалось, что эти трое имеют недостаточно сытый вид. Ты обратил внимание?
— Да, да, обратил, — пищал слуга.
— Боюсь, там без моего надзора Дометиан с Одноглазым осмеливаются нарушать мой строжайший наказ. Я подозреваю, что они не дают им в пищу столько мяса, сколько велено. Нужно бы проверить, Сарам. Если мои подозрения подтвердятся, спущу с них шкуру. Жаль, что никто, кроме Дометиана, не знает языка огузов. Он мне очень скоро понадобится, не то бы я содрал с него шкуру уже сейчас.
— Да, господин.
— Нет большего преступления, чем обманывать собственного хозяина и благодетеля.
— О да!
— Дометиан глуп, слишком глуп. Надо было поручить тех троих тебе, да уж поздно. Впрочем, не так уж они и тощи. Сойдут как есть! Им не следует обрастать жиром, незачем их баловать, всё равно…
— Да, господин.
— Но приказ нужно выполнять! Сказано: кормить досыта — значит кормить. Ха-ха-ха! — вдруг рассмеялся Калокир. — Кормить и холить их за ту услугу, которую они окажут нам!
— Хи-хи, — пропищал и Сарам, радуясь, что динат высокого мнения о его умственных способностях, а толмачом Дометианом недоволен. — Твой разум, господин, достоин твоего прекрасного облика.
Калокир был отнюдь не красавцем, хотя сам он придерживался иной точки зрения на сей счёт.
Солдатам он сразу не понравился. Ещё на берегу, когда девятнадцать дней назад командир полусотни оплитов объявил строю, что этот облачённый в дорогие ткани купец есть их новый повелитель, среди копьеносцев пополз приглушённый смешок:
— Вот не ждали, что придётся охранять обезьяну!
— Ну служба, праведные…
Однако вскоре всеобщую неприязнь смягчило чувство некоторого уважения: динат-пресвевт прекрасно переносил качку и невзгоды, особенно не докучал, а самое главное — умел, как никто, быстро и точно поражать клинком учебные деревяшки на лету, которые в часы досуга подбрасывал перед ним его верный, внушающий страх своим недремлющим оком старый слуга.
Калокир, частенько перехватывая тяжёлые взгляды окружающих, понимал, что ещё несколько дней угнетающей качки на волнах, и воины начнут выть от скуки и недовольства.
— Скоро, скоро Борисфен! Терпение, дети мои!
Обросшие «дети его» на всех трёх кораблях с надеждой вглядывались вперёд. Там, в дымчатой дали, должны появиться разливные плавни, в которых смыкались пресные потоки Днепра и солёные воды моря.
Уже нередко с кораблей замечали бешено мчавшихся вдоль берега всадников. То одного, то группу. Они, как привидения, появлялись внезапно в просветах кустарников, в гривах холмов на своих низкорослых лохматых лошадках и исчезали, не позволяя разглядеть себя как следует.
Багряный диск солнца коснулся волнистой линии горизонта. В чистом, без единого облачка, жёлтом, как медь, небе кружили вороны, плавно загребая крыльями. Вдалеке над верхушками осокорей поднимался тонкий дымок, прямой, как натянутый шнур. Левее ещё один дымок, едва приметный, и ещё, ещё…
Хеландия первой обогнула каменистый мыс, далеко врезавшийся в море. Тотчас же на палубе раздался общий ропот, и не успел стихнуть спешный короткий звук сигнальной трубы, как левый борт уже скрылся под выставленными тяжёлыми щитами и копьями.
Этот заученный манёвр ромеев рассчитан на оборону от приближающегося сбоку вражеского судна, а между тем никакое судно не угрожало хеландии. Однако меры предосторожности в данном случае нелишни.
За мысом, укрывшись в его тени, притаилась целая толпа пеших и конных кочевников-степняков. Вооружённые луками, саблями и лёгкими метательными копьями-сулицами, сгрудившись тесным полукругом, облачённые в шкуры с вывернутым наружу мехом, печенеги настороженно глядели на великолепие чужеземных кораблей.
— Это огузы! — крикнул Калокир громко, чтобы его услышали и на подоспевших торговых судах. — Нам они не причинят зла! Приветствуйте их! Приветствуйте!
В ответ на нестройный хор византийцев печенеги-огузы молча зашевелились, пиная коней пятками и размахивая щитами. Полукруг распался на отдельные цепи, вытянувшиеся вдоль берега.
Завидев, что роскошные корабли убрали паруса, втянули вёсла и прекратили свой бег, сбросив за борт двулапые бронзовые якоря, полуголые ребятишки, ранее незамеченные с моря в толпе взрослых, шумной гурьбой помчались в гору, туда, где за деревьями виднелись дымы. Их обогнал всадник, суматошно хлеставший лошадь плетью. И детвора и всадник мигом скрылись за холмами. Остальные подступили к самому прибою.
Тем временем Калокир велел кораблям с товарами оставаться на безопасном отдалении, сам же, окинув беглым взглядом берег, указал кормчим хеландии на небольшую, но глубокую бухту, удобную для высадки.
— Дометиан! — сложив ладони рупором, позвал он.
И тотчас же от ближнего торгового судна отделился крошечный плотик с толмачом-переводчиком, поспешившим на зов дината.
Несмотря на дорогой узорчатый хитон, высокую шапку и крест, болтавшийся на цепочке и шлёпавший по груди человека с христианским именем Дометиан, печенеги сразу узнали в нём выходца из их рода-племени и, озадаченные больше прежнего, загалдели.
Ромеи во главе с Калокиром и переводчиком Дометианом ступили на сушу. Их окружили степняки. Так и стояли. Пришельцы изо всех сил изображали дружелюбие. Огузы никак на это не реагировали. Выжидали.
— Скажи им, что мне нужно видеть их властелина, — приказал Калокир толмачу. — Где их славный Чёрный каган? Спроси.
Дометиан торопливо перевёл его слова. В ответ раздался лепет множества голосов, точно ветер прошёлся по листве. Вперёд вышел юноша, видом своим выгодно отличавшийся от небогато одетых соплеменников. Он выкрикнул что-то и приставил остриё кривой сабли к груди дината.
— Требует, чтобы ждали молча, — трясясь и заикаясь, пояснил Дометиан.
— Помолчи… — сквозь стиснутые зубы процедил Калокир, но тем не менее смиряясь с унизительным своим положением. Взглядом он успокоил солдат, заволновавшихся при виде сабли, которой поигрывал варвар.
В тот момент, когда, казалось, множество рук вот-вот схватит и растерзает кучку растерявшихся византийцев, в отдалении послышался приближающийся топот копыт. Толпа с криками всколыхнулась и расступилась.
— Куря!
— Эйи-и-и шохра, Куря!
Впереди на тонконогом иноходце скакал каган. В седле держался легко, умело, далеко позади оставив свиту, в числе которой Калокир разглядел и того гонца с плетью, что недавно вместе с гурьбой полуголых сорванцов покинул берег.
Конь у князя хороший, сбруя и седло дорогие, саксонской выделки, добытые, должно, у какого-нибудь несчастного северного купца, оплаканного где-то в Падерборне или Госларе, ибо огузы не покупали и не меняли, а отбирали, убивая. Таким конём грех не залюбоваться. Обычные печенежские лошади — сплошь низкорослые трудяги, не изнурённые перевозками кочевого скарба. А всё же княжеский иноходец уже в летах, хоть и изящен ещё его бег. Всё подмечал динат.
Каган Куря — что значит: Князь Чёрный — с ходу бросил поводья в руки набежавшей челяди, мельком глянул на корабли и, спешившись, приблизился к чужестранцам.
Калокир вытащил из-за пазухи круглый императорский медальон, при виде которого Куря широко улыбнулся и, обняв Калокира за плечи, к большому смущению последнего, принялся лизать его щёку в знак особого расположения. Вдоволь обслюнявив морщившегося от отвращения дината, Куря обернулся к своим и воскликнул:
— Целуйте ноги моих братьев из Страны Румов!
Толпа пала ниц, и вскоре обувь ромеев была очищена от пыли.
Спустя полчаса они сидели в разбитом на возвышении шатре.
За откинутым войлочным пологом угасали последние краски заката. В низине зажглись блёклые дымные костры из хвороста и кизяка. За оградой из крытых повозок-вежей с задранными кузовами и уткнувшимися в землю оглоблями пасся табун. Гортанные выкрики сгонявших гурт пастухов-погонщиков смешались с блеянием овец. Женщины перекликались с мужчинами, рассевшимися перед чанами с кумысом. Вдали различимы были факелы византийских кораблей и расплывчатые фигурки печенежского дозора на верхушке мыса.
Перед каганским шатром в знак власти развевался пышный бунчук — конский хвост, прикреплённый к древку воткнутого в землю копья. Внутри шатра потрескивало и шипело пламя очага, в который капал жир жарившегося на вертеле барашка. Мясо отрезали кинжалами, запивали его не кумысом, а фессалоникским вином. Было душно, и тоскливое стрекотание цикад навевало сонливость.
Куря, одурманенный виноградной настойкой и духотой, смеясь сквозь зубы, запустил обе руки в мешочки с золотом, присланным из далёкого Константинополя, шевелил пальцами, услаждая свой слух звоном монет.
— Печенежский народ нам по душе! — начал Калокир, прикидывая, как бы получше подступиться к главной теме, ради чего, собственно, он и завернул сюда. — Ты правишь мудро!
— Не всех печенегов надо ценить, брат, не всех, — отозвался Куря. — Цените только моих огузов. А ятуков не надо.
— А что ятуки?
— У-у-у!.. — Чёрный каган сидя затопал пятками, расшвыряв подушки. — Отбились от нас ятуки. Сели между Днепром и Сурожью, землю роют, зерно растят, как русы. И якшаются с Кыювом, торгуют. Тьфу! Э, брат, прости, дай вытру.
Калокир утёрся сам, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить на неосторожный плевок грубостью. Желая поскорее завершить неприятное пиршество и перейти к делу, произнёс:
— Не горюй, даст бог, доберёшься до ятуков, проучишь. Но сперва послушай, что скажу. Есть к тебе, славный, просьба. Выполнишь, в убытке не будешь. — И динат подвинулся поближе, словно опасаясь, что их могут подслушать.
С помощью заметно осмелевшего, успевшего кое-как приспособиться к забытой обстановке соплеменников слабодушного Дометиана между каганом и Калокиром произошёл секретный разговор. Тайну здесь разделили пока лишь они. Трое.
Наутро, брезгливо озираясь, не привыкший к грубой постели проснувшийся динат поднял отяжелевшую от вечернего пиршества и ночного смрада голову. Чтобы прийти в себя, долго тёр виски тряпицей, окуная её в бадейку с водой.
— Нам пора прощаться, славный князь.
Согласно кивнув, Куря ударил рукоятью кинжала в медное било и приказал заглянувшему на сигнал стражнику:
— Позвать Мерзю!
Множество внешних голосов цепочкой понесли прочь, словно эхо, каганское требование. Вскоре явился званый. Это был тот самый юноша, что вчера на берегу, выступив из толпы, поигрывал саблей перед грудью дината. Он вошёл и поклонился.
— Э, Мерзя, мой верный, храбрый, быстрый волк! — приветствовал его Чёрный. — Возьми несколько воинов и спустись к морю. Там тебе передадут они, — он указал на ромеев, — из рук в руки трёх не связанных рабов. Приведёшь их сюда стороной, подальше от лишних глаз. Следи за ними крепко, чтобы не сбежали. Не бей, не надевай колодки. Все трое должны быть целыми и невредимыми. Смотри, чтобы твои люди не испортили одежды, какая будет на них, это важно. Остальное объясню потом. Ступай.
Тот снова молча поклонился и вышел.
Расставаясь с Курей, динат, осклабясь, не переставал повторять:
— Очень надеемся на тебя. Если сделаешь, как договорились, жди щедрых даров.
— Нас ли учить, э? — самодовольно ухмылялся Куря.
Калокир всё наставлял:
— Заприте их как следует, не забывайте кормить до последнего дня. Ты не забыл, когда должен настать этот день?
— Э, помню, помню.
— Только не торопись, славный, дождитесь условного момента. Нужно, чтобы это случилось, когда мы уже будем в Киеве на Святославовом дворе.
— Э, в Кыюве Святослав… у-у-у! — Степняк затряс кулаками. — Сплю и вижу кумыс в чаше из его черепа… — Он задумался. Затем, как бы очнувшись, сказал: — Всё сделаю, не беспокойся. Передай, брат Калокир, привет моим высоким братьям Константину и Роману, когда вернёшься в Страну Румов. Пусть они будут здоровы и щедры!
Динат внутренне содрогнулся от наглости варвара.
— Да, брат Куря, — улыбнулся он, — не только привет передам, но и расскажу в Царице городов о твоём немеркнущем дружелюбии. А Святославу, уверен, не миновать гибели, дай срок.
— И ятукам, — подсказал каган, — ятукам тоже, э?
— И ятукам не миновать, никому не миновать! Только выполни обещанное.
Калокир махнул рукой свите, и она, бряцая металлом одеяний, стала подниматься на борт. Сам же он немного замешкался, соображая, не спросить ли провожатого, чтобы избежать возможного недоразумения на порогах с теми отрядами огузов, которые, как он знал, так и подкарауливают путников в днепровских камнях.
Куря превратно истолковал медлительность высокого гостя, подумав, что динат проникся к нему глубокой симпатией и никак не решится расстаться с ним. Поэтому каган сделал несколько шагов, намереваясь, по обычаю, облизать щёку Калокира, но тот, разгадав сей трогательный порыв, отшатнулся.
— Прощай, князь! — сказал Калокир. — Мы увидимся, когда буду возвращаться, ты ведь обещал приготовить свежих гребцов для моих кораблей!
Ромеи отплыли под громкие ликующие вопли провожающих. Мрачно молчали лишь трое рослых славян, понуро бредущих от берега под конвоем пеших воинов Мерзи, юного племянника печенежского кагана.
С наступлением темноты корабли Калокира вошли в Днепр.
Но, прежде чем они достигли первого островка в днепровском устье, на глазах оплитов свершилась мимолётная трагедия. Волею дината евнух Сарам, словно визжащего поросёнка, заколол толмача Дометиана. И приняли смешавшиеся воды реки и моря тело того, кто уже не нужен был византийскому послу и кто заранее был обречён на смерть, поскольку он знал о заговоре против россов.
Глава IV
Улеб не поехал на торг в Пересечень, хотя отец и звал его с собой, как обещал. Отказался Улеб. Остался дома.
Было на то две причины.
Первая — налились зелёные опушки тугой, спелой силой, пышные травы требовали покоса на первое сено. Работа, необходимая для сельского жителя, не терпящая отсрочки. Не взваливать же эту заботу на одни женские руки. Мужчины собрались в дальний путь. А их в Радогоще легко сосчитать на пальцах.
И вторая причина, ещё поважнее предыдущей — просьба Боримки, дружка. В самом деде нехорошо получается: Петрин сын уже не раз хаживал с товарами в компании кузнецов, а вот Боримке не довелось, хотя оба одногодки, подручные, у наковальни равны.
Боримко гордый малый, да не удержался на сей раз. Когда поутру снаряжали артельную колу, загружали кузнью и едой на дорогу, подошёл к Улебу, сказал:
— Хочу с тобой.
— Я бы рад, сам за тебя просил, только отказали. Все уйдут, кто же в хозяйстве останется? И меня-то не взяли бы, кабы не давнее обещание.
— Хочу, — с отчаянным упрямством повторил Боримко.
Не принято у них противиться решению старших. Улеб удивлённо взглянул на приятеля. И вдруг почувствовал стыд, будто провинился перед этим славным пареньком, который, в сущности, имел полное право так же, как все, кому выпал жребий, предвкушать радости пребывания в городе, усердно запрягать волов, выслушивать добрые напутствия, обещать гостинцы с торга и вообще чувствовать себя настоящим мужчиной.
— Хочу, хочу, и всё, — шептал Боримко, потемнев от обиды. — Чем я хуже других?
Такого с Боримкой ещё не бывало. Уж не мальчик, слава богам, четырнадцатилетний, познавший два года назад постриг совершеннолетия, не к лицу ему каприз.
Улеб почитал и хозяйские дела, и, конечно, дружбу. Он порывисто обнял Боримку за плечи и, нарочито смеясь, крикнул:
— Кто сказал, что ты хуже? Мне, думаешь, больно охота тащиться в грязище? Езжай вместо меня, выручи!
— А как же Петря? Как же он, твой отец? — заливаясь краской от радости, спросил Боримка. — Не дозволят поменяться-то.
— Не бойся, дозволят. Батюшке-то что, абы число не менялось.
— Твоя правда, — оживлённо, будто и вовсе не кручинился, затараторил паренёк. — Я палицу возьму обоз охранять от разбойников или зверя, всё польза.
— Возьми, возьми, поищешь лиходеев, — хмыкнул Улеб, — тебе драка так и мерещится.
— А что, ты мягкая душа, от тебя мало проку, случись биться, зато я ка-а-ак начну! — Боримко принялся размахивать руками, изображая, как он расправится с обидчиками, если таковые попадутся.
Отец не возражал, лишний раз оценив про себя доброту и справедливость сына. Поклонясь и воспев хвалу Волосу, покровителю торговли, сдержанно ответив на низкие прощальные поклоны детей своих, Улии и Улеба, кликнул спутников от галдящих жёнок, велел трогать.
Всхлипнули нутром волы от натуги, заскрипели под тяжестью огромные дубовые колеса, кинулись врассыпную куры, копошившиеся в пыли единственной улочки. Впереди процессии двое верховых.
Скрылся обоз за лесным поворотом над речкой, только колёсный скрип доносится, затихая.
А Улеб косил траву.
Взмах. Ещё взмах. Потревоженные, сыплются из-под ног пестрокрылые кузнечики, стрекочут, словно игриво поддразнивают, а может, и подпевают по-своему женщинам, что зачем-то протяжно выводят в орешнике высокими голосами слова грустной песни-былины:
…Там стучит ведь матушка-а-а-земля, Да под той же сторо-о-онушкой восточноей, Как прямой-то дорогой еха-а-ать месяцы…
Вся сноровка в руках Улеба, в резвой его поступи, вся отрада сейчас в его молодом, голосистом горле.
…Захотелось мне-ка ехать во свою-у-у землю, Во свою землю, но-о-о-о не на родину, Я поехал теперь да во свою-у-у землю, Выезжал я тёпе-е-ерь да на чисто пола…
Наблюдает древний старец, опираясь сложенными руками на шалыгу-посох с изогнутым навершием. Сам тонкий, как посох, борода белым-бела до пояса, брови — тополиный пух, а из-под них колкий взгляд, дедовский.
За полдень трудились. Покосили на опушке всю траву. Девушки расстелили в тени платок, а на нём, как на скатерти-самобранке, русские маковые хлебцы, сладкая репа в мёду, сыр-творог, каша в миске да овсяный кисель.
Низкие изгороди тянулись по склону холма. В камышовых окнах протоки выступили к быстрине на бурых от тины сваях мостки для стирки. Неподалёку, на песчаном пятачке, невидимые с реки, лежали рядышком челны-стружки, окунув свою тень в воду, будто выползли на сушу погреться.
После обеда Улеб собрался погонять любимого жеребца вдоль чистой речной поймы. Нынче он поработал славно, можно и развлечься.
Вывел огненно-рыжего своего красавца из скотницы. Вёл по селу на поводу, прикидывая в уме, куда лучше податься. Вверх по реке или спуститься в долину за турье урочище? А может быть, ещё дальше?
Там, внизу, куда долетают морские ветры, леса дремучие, малохоженые, обрываются перед степью. Конечно, отец не позволил бы в одиночку забираться в такую даль, но сам он сейчас далеко, а больше с Улеба спросить некому. Только сестрица вдруг:
— Ты куда, братец, заторопился?
— Поскачу за кореньями.
Улия с подружкой на соседнем дворе, как обычно в эти часы, занимались пряжей, досужим девичьим делом.
— Это куда же? — не унималась.
— Известно куда, — отвечал, отведя глаза, — в Мамуров бор, куда же ещё.
— А чего глаза прячешь?
— Сказано: буду в Мамуровом бору! — рассерчал он. — Привязалась, глупая! Вот возьму хворостину, узнаешь у меня.
Улия, вовсе не глупая, почувствовала смущение братца. Враль из него неважный.
— Батюшка тебе что наказывал? Не ходи из дому, дожидайся. Нас оставлять не велел, забыл?
— Я недолго. Соберу кореньев на краску.
Из корней дикого мамура выделывали красную жижу, которой и раскрашивали холстину. Свежая краска всегда пригодится в хозяйстве, вот Улия и оставила брата в покое, сказала только:
— Смотри не ночуй в бору-то, там прыскучий зверь так и рыщет. Взял бы на случаи хоть меч какой.
— А, — отмахнулся, — я и руками задушу хоть рысь, хоть волка. И от вепря рогатину вырублю, нож-то при мне, а то и схоронюсь на дереве или ускачу в случае чего.
— Ладно уж, беги, да ворочайся засветло, храбренький мой, — ласково улыбнулась, тряхнув косой. — Суму под коренья захватил?
Умчался во весь дух Улеб. Ослабил поводья, давая полную волю резвому коню. Казалось, огненный вихрь промелькнул, только глухо простучали копыта да тяжело шлёпнулись сзади крупные комья грунта. И не скоро ещё успокоилась вода в мелких заводьях от панических прыжков перепуганных насмерть лягушек.
Река тянулась лентой, то поблескивая под косыми лучами солнца, разливаясь, то вдруг сужалась, наполовину укрываясь в тени высоких рощ. Далеко впереди, минуя почти голую долину, испещрённую неглубокими расщелинами оврагов, по дну которых журчали невесть откуда берущие начало ручьи, она вступала в новый лес, куда более густой и величественный, чем тот, что окружал Радогощ.
А что за тем лесом, Улебу неведомо. Слыхал только, что те места загадочны, они граничат со степью, тянувшейся до самой солёной воды.
Кончилась прибрежная твердь. Улеб шагом въехал в чащу, пригибаясь от веток к влажной шее коня. Потом и вовсе остановился, соскользнул на землю и, прихватив кожаный мешок, стал продираться в глубь бора, делая ножом отметины на стволах.
Вернулся с мамуровыми корнями для Улии, бросил наполненный почти наполовину мешок на Жара, подвесил к его шее. Коня не привязал, никуда не денется, достаточно одного слова: «Жди». Будет стоять как вкопанный.
Лес пленял, околдовывал его. Зачарованный, он уже не мог покинуть буйную зелень зарослей, каждый раз поражавших новизной восприятия, манивших, одурманивавших. Дитя природы, он был вскормлен ею и наполнен её силой, и он платил ей такой любовью, какой можно любить только родную мать. Он понимал жизнь леса.
Ступает по мхам и валежнику тихо, словно вовсе не касается. Приветливо посвистывает вёртким пищухам и поползням, что безбоязненно снуют, выискивая клювами жуков-короедов. Деревья нежно и крепко обнялись, позволяя бегать по их сплетённым рукам шустрым ласкам и шуршать землеройкам прошлогодней листвой под ногами.
Улеб всё дальше и дальше углублялся в чащу, читая звериные следы. Прохлада и сырость, как ни странно, ощущались всё явственней по мере удаления от реки. Улеб хотел выяснить, отчего так.
Вот лес поредел, отступил, открывая живописную поляну, залитую заходящим солнцем и щедро покрытую цветами. В воздухе стоял пчелиный гул. Огромный рой рассыпался в этом цветущем хранилище нектара.
Юноше, признаться, не очень-то хотелось сворачивать с пути, но, подчиняясь заведённому порядку, он всё же выследил борть, старое дерево с дуплом, в котором, не сомневался, маленькие труженицы сумели накопить достаточно мёда и воска.
Отмахиваясь от пчёл, вырезал над дуплом свой знак, хотя, пожалуй, вряд ли нашёлся бы тот, кто стал бы оспаривать обнаруженную им медушку.
Несколько храбрых насекомых ужалили непрошенного гостя. Однако укусы не омрачили его настроения. Он отыскал цветущую поляну, пересёк её, с любопытством направляясь к березняку, редко попадавшемуся в этих краях.
Стройные, трепетные, слегка патлатенькие, точно девчонки-баловницы в светлых крапчатых сарафанах, берёзы встретили юношу стыдливым шёпотом, расступаясь перед ним, робко прячась друг за дружку. И только их няньки, деревья-старухи с седыми буклями и тугими тёмно-серыми копытами-наростами трутовика на корявых облезлых стволах сердито шипели и трясли седыми волосьями.
Солнце рассыпало последнюю пригоршню бликов. Ветерок резвился в листве, и от этого мельтешили солнечные искорки, осыпались блестками на траву и кустарник, на стайку грациозных косуль, вытянувших мордочки в сторону приближающегося Улеба.
— Здравствуйте! Вот и я! Не ждали? — воскликнул он. Косули, смешно подпрыгнув на месте, разом исчезли, будто растаяли в мареве.
Солнце пало, пора было возвращаться. Однако решил ещё немного пробежать вперёд, туда, где виднелась за берёзовым частоколом полоска воды. И не пожалел о своём любопытстве.
Дивное озеро по краям заросло рдестом и ряской, крупной и плотной, как многолетний настил. Один ручеёк впадал в него и не вытекал. Озеро можно было бы сравнить со стальным овальным зеркалом в буро-зелёной оправе, если бы не рябь от ветерка да не рыбьи рты, жадно хватавшие воздух на поверхности.
Но ни холодная глубина воды, ни дышащие рыбины — ничто так не привлекало внимание Улеба, как прибрежная поросль, отделявшая озеро от не замеченного ранее болотца.
Вещий коваль Петря был настоящим травознаем. Улеб был его сыном. Он отличал лечебные травы безошибочно, не раз добывал их для родичей. Вот и сейчас собирал ирный корень да сушеницу, снимавшие боль ожогов кузни.
Но что это? Неужто?.. Улеб всплеснул руками и сломя голову кинулся навстречу внезапному открытию, швырнув под ноги травы, столь бережно собираемые только что.
Спотыкаясь в спешке, он огибал озеро, впившись изумлённым взглядом в обильные красноватые пятна. Сомнения нет, это настоящий клад.
— Хвала тебе, Сварог! Хвала, Дажьбог, за то, что привёл сюда!
Улеб с ходу прыгнул в воду, шарил, выбирал руками корневища болотных растений, покрытые тяжёлыми землистыми комьями красно-рыжего оттенка. Это была она, руда! Да как много! Она на дне, она на затопленных ветках, она обнажалась толстыми слоями на срезе берега. Вот уж удивит и обрадует своих, пусть только вернутся из городища!
Словно не веря, он всё барахтался среди обнаруженного богатства, измазался с головы до ног, промок до нитки.
Опомнился лишь с наступлением густых сумерек. Отобрал и сунул за пазуху образцы, кое-как привёл одежду в порядок, умылся и знакомым бездорожьем, через березнячок и пчелиную поляну поспешил обратно к Днестру.
Верный Жар издали почуял треск ломающихся сучьев, призывно заржал.
— Мы с тобой молодцы, Жарушко! Ай да молодцы! — ликовал Улеб, укладывая прихваченные куски руды в мешок. — Соскучился, я понимаю, дружок, но зато мы просто молодцы! Дай-ка закреплю мешок получше. Вот так. Будет дома радость похлеще мамуровых корешков. Ох и денёк, слаще не бывает!
Счастливый и взволнованный, он намеревался спуститься к реке, освежиться, но вдруг его внимание привлекли странные всплески. Он замер, прислушался. Полный настороженного любопытства, неслышно выбрался из-за деревьев и, прячась за раскидистым кустом, вгляделся в реку.
Улеб сразу различил силуэты четырёх длинных и узких челнов, плывших против течения. Какие-то люди в тёмных лудах, застёгнутых у горла так, чтобы не стесняли движения рук, молча и быстро, даже, пожалуй, излишне торопливо гнали челны, придерживаясь берега, с которого падала тень от высокой стены деревьев.
Луна ещё не выкатилась в чистый проем неба, и её смутно угадывавшийся сбоку свет не позволял разглядеть как следует ни тех, кто, привалясь к бортам, орудовал вёслами, ни тех, кто, сдерживая тяжёлое дыхание, упирался в дно не то шестами, не то копьями, стараясь не греметь, ни тех, кто просто сидел без дела на корточках. Плыли явно издалека.
Кто они? Торговые люди? Тогда для чего им таиться в темноте? Может быть, тиверские рыбаки? Тоже непохоже, хотя, судя по очертаниям одежды, могли бы за них сойти. Но на тиверских рыбачьих долблёнках в такую пору горели бы лучины, а эти крадутся или скорее укрываются от погони. И молчат. От кого они прячутся? Сердце Улеба забилось в тревоге.
Челны поравнялись с тем местом, где он притаился. Они были совсем рядом, и Улебу показалось, что в одном из них лежат связанные. Это настолько его озадачило, что он на мгновение позабыл об осторожности, раздвинул ветки перед собой, желая проверить, не ошибся ли.
Шелест раздвигаемых ветвей произвёл на плывущих такое впечатление, как если бы внезапно громыхнул гром. Головы их передёрнулись. Вскинулись луки, и в тот же миг трижды раздался короткий шипящий свист.
Две первые стрелы, сбив листья над головой Улеба, не причинили ему вреда, третья же, пущенная, как и предыдущие, вслепую, пронзив кожу между большим и указательным пальцами левой руки, расщепила ветку, которую он придерживал. Дико вскрикнула в стороне какая-то ночная птица.
Улеб замер, не издав ни единого звука, с пригвождённой рукой. Он даже не ощутил боли от изумления. Только бы смолчал и Жар. Улеб приложил правую ладонь к ноздрям коня на случай, если тому вздумается заржать.
Жар не выдал. Враги (кто бы они ни были, пока ясно одно — это враги), безмолвствуя по-прежнему, натянули луки, готовые повторить выстрелы, ждали, не послышится ли шорох опять. Но было тихо, очень тихо. Только ластились волны, и плясали в них зыбкие отражения звёзд.
Каждый мускул юноши напрягся, тело, как согнутый прут, приготовилось стремительно распрямиться в прыжке, пусть только попробуют причалить.
Но недруги, пошептавшись меж собой и, вероятно, решив, что их вспугнул не человек, а зверь, шедший на водопой, как будто успокоились, опустили оружие, подхватили вёсла и шесты, вновь погнали свои челны по реке и вскоре растворились в ночи.
Перво-наперво Улеб правой рукой выдернул из ветки, а затем и отломил наконечник стрелы, пригвоздившей его левую руку. От стрелы без наконечника освободился легко, протащив её сквозь рану, из которой наскоро высосал кровь и о которой тут же позабыл вовсе. Его интересовал железный наконечник, маленький трофей.
Улеб знал толк в любой кузне, и наконечники для копий и стрел в этом смысле не составляли исключения. Он сам их выделывал немало. Случалось видеть и чужую работу, сравнивать её со своей на торгах.
Слегка приплюснутый остроносый кусочек смертоносного металла, лежавший на ладони, бесспорно, отличался от знакомых изделий и соплеменников и северян. Судя по всему, это «жало» сделано за Дунаем, вернее всего придунайскими булгарами. И хорошо, если это так: значит, не отравлено. Да, но ведь булгары не враги, с малых лет это слышал. Почему же эта стрела?..
Сказывали, когда-то, ещё при Игоре Рюриковиче на Киевском столе, что-то не поделили великий князь и князь уличей. Дело дошло до драки. Воевода Свенельд привёл с Днепра на Днестр дружину, обложил Пересечень, и быть бы меж своими страшной беде, если бы не вмешалась мудрая Ольга. Да ещё и несчастье помогло миру: древляне погубили Игоря, стало Свенельду не до Пересеченя, ушёл вершить суд над древлянами по воле овдовевшей княгини.
Давно то было. Звон мечей и свист боевых стрел не залетали сюда с тех пор. Великий княжич Святослав добывал победы далеко-далеко, и стерегли его дозоры края земли росской.
Кто же сумел, кто осмелился пробиться снизу и под покровом ночи натянуть здесь боевой лук?
«Может быть, — думал Улеб, — зря не окликнул этих людей. Может, они и стреляли оттого, что приняли меня за грозного зверя или разбойников, засевших на незнакомом берегу. Луды на них ведь были славянские. Да и наконечник… С чего им нести зло? И куда так торопятся?»
Эти мысли теснились в его голове в то время, как он уже ехал шагом вдоль реки, стараясь производить поменьше стука копытами своего жеребца. И те загадочные люди, вероятно, успели далеко продвинуться.
Но потом он представил себе, что может произойти, если они обнаружат беззащитное селение. Ведь в Радогоще ещё могли гореть костры. Улебу доверили охрану родичей, и посему, отбросив всякие рассуждения и предосторожность, погнал коня так, что, казалось, задрожала земля и взошедшая луна кинулась прочь с перепугу, мельтеша за остроконечными зубцами лесной ограды.
Улеб мчался, ощущая коленями усилие мышц скакуна. Мешок с комьями руды и красящими корешками, который он не догадался выбросить, чтобы не мешал плотнее прильнуть к холке, подрагивал и колотился о щёку, и сердце стучало, норовя вырваться наружу, а сырой встречный воздух распирал ноздри и грудь.
Он не увидел их. Но они сразу услышали стремительно приближавшийся стук копыт. Успели спрятать челны в камышах и укрыться в засаде прежде, чем Улеб так неосмотрительно появился на освещённой луной тропе.
Жар с ходу перескочил через ручей, вскинув голову, внезапно почуяв опасность, шарахнулся в сторону, да было поздно. Петля аркана стянула плечи Улеба, он выронил нож, своё единственное оружие.
Его стащили с коня, он не упал на землю, а опустился на неё ногами и освободился от петли в тот момент, когда протянулись к нему вражьи руки. И отведали нападавшие кулаков юного кузнеца.
Первый страшный удар пришёлся по перекошенной от злобы скуластой физиономии, обладатель которой хрюкнул, перелетел через куст рябины и, как жаба, шлёпнулся в реку. Прятавшиеся под обрывом берега возле челнов кинулись спасать-вылавливать его. Другие же поспешили на подмогу тем, что, громко скуля и завывая, хватаясь за челюсти, головы и животы, корчились и ползали вокруг Улеба, сокрушавшего всякого, кого доставал тяжёлый, как молот, его кулак.
Молодой и властный их вожак не позволял рубить саблями, сам же кружил в темноте как бешеный, с дубиной, пытаясь улучить момент для удара.
Тройным условным свистом Улеб отогнал своего коня и теперь был за него спокоен. Он, казалось, ослеп от негодования, не понимал чужой речи, но догадался, что его хотят взять живьём, он бросился на подлых, а они отступали, как трусливые шакалы, и снова смыкались в кольцо. Улеб молотил кулаками воздух, презирая и проклиная их трусость.
Ах, если бы удалось ворваться в село с криком, поднять тревогу, сдёрнуть с гвоздя отцовский меч…
Подкравшись сзади, изловчился безусый вожак — дубина сделала то, что оказалось не под силу всей этой злодейской своре. Улеб пошатнулся, подкосились ноги, он уткнулся локтями в тёплую траву и лишился сознания.
Всё последующее походило на кошмарный сок. Качался мир, стонало небо, тихо всхлипывали струи воды возле самых ушей, ударяясь о дно лодки, и тяжесть давила на горло, на плечи, на грудь, сковала руки и ноги. И не слышал Улеб, не видел, как пылали соломенные стрехи жилищ, как падали под клинками застигнутые врасплох седые головы и лилась невинная кровь, как кричали младенцы и срывались от ужаса девичьи голоса, как мычал обезумевший в горящих ухожах скот, как волокли пленных чужаки, как развязали и убили троих, привезённых с собой, и оставили их трупы на единственной поруганной улочке Радогоща.
И больше никого и ничего не оставили на месте преступления, никого, кроме обезглавленных и тех, также убитых, трёх нездешних русобородых мужчин в светлых, расшитых булгарским орнаментом и с вложенными в их холодные руки мечами и секирами, которые эти трое ни на кого не поднимали. И любой коваль-оружейник при виде тех мечей и секир сразу же сказал: «Да, они сработаны за Дунаем». Но кузнецы были на торге в далёком городище, а Улеб лежал в грязном челне, придавленный тяжестью, и он ничего не услышал и не увидел, как не видел обвалившейся в пепелище кровли отцовского дома, а вместе с ней и обгоревшего колеса, два года извещавшего всех о том, что под крышей, на которой оно лежало, ждала своего счастья весёлая дочь вещего Петри, красавица Улия, невеста на выданье…
Чёрные, перегруженные добычей челны поспешили удрать досветла. Они неслись по течению Днестра-реки к морю. За спинами запыхавшихся гребцов полыхало скорбное зарево.
Глава V
— Гляди, Сарам, гляди! Красиво, заклевали б их вороны!.. Во-о-он на том берегу апостол Андрей благословил горы и поставил крест, предрекая город. И он возвёлся, город, и называют его ныне жители матерью городов своих.
— Но они, тавроскифы, не сберегли тот крест, господин, не сохранили, ай-ай-ай.
— Христос Пантократор не простит! Ещё поплатятся эти дерзкие руссы. Палатий до них доберётся.
— Да, да, мудрый мой господин! Вот ведь и сейчас мы добрались благополучно. Хвала тебе! Добраться добрались, но не гневись, если догадаются обо всём… дай бог выбраться.
— Пошёл вон!!
Корабли обогнули высокий, разделявший Днепр на два неровных рукава песчаный по краям остров, который на некоторое время скрыл всё великолепие раскинувшейся впереди панорамы стольного града Руси. Византийцы ревниво осматривали свои суда, не слишком ли утерян их лоск на тяжких волоках через каменистые пороги Днепра.
— Ждёт меня наш человек, ждёт среди недругов — всё утешение, — нащупывая за пазухой заветный медальон, бормотал Калокир.
Природа была щедра к этим краям. Звонкое лето стояло окрест во всей своей блистательной красе. Казалось, лучшие певчие птицы слетелись сюда, на высокие кручи. Цветастые луга причудливо обрамляли возделанные поля, на которых, размежёванные, чередовались скромные наделы загородных смердов, засеянные пшеницей, просом, ячменём, маком, полбой, коноплёй и сочивом.
Волны Днепра раскачивали множество малых и больших, зачастую обшитых по старинке кожей ладей, грузовых плотов и крутобоких набойных беспалубных корабликов с квадратными парусами.
На каждом росском парусе непременно красовался то оранжевый, то жёлтый, то красный диск намалёванного солнца. Через всю ширь могучей реки перекинулось многоцветное коромысло радуги — подарок недавнего мимолётного дождика.
Византийцы вели свои суда, прижимаясь к правому, населённому берегу, медленно и величественно проплывавшему слева по борту.
Калокир сменил громоздкий боевой наряд на скромную рясу чёрного цвета, достававшую ему до пят. Он придал своему бледному лику томное выражение, вся преобразившаяся, утратившая резкие очертания фигура источала кротость. Пальцы смиренно поглаживали крест, свисавший на цепочке с поникшей шеи, губы шамкали неслышную молитву.
Привыкшая к причудам своего временного повелителя свита отнеслась равнодушно к его перевоплощению, хотя, надо сказать, ряса на Калокире должна была вызвать удивление, осуждение, поскольку он не являлся священнослужителем. И если динат своим видом старался выразить подчёркнутую скромность, то оплиты, напротив, до блеска начистив мелом и суконными лоскутами панцири, подбоченились и приосанились, поглядывая на близкий берег.
Хеландия между тем миновала упомянутый остров, и теперь стали различимы за лесом постройки предгородни: землянки с бревенчатыми перекрытиями, маленькие четырёхгранные и шестигранные башенки терема в селище Берестовое, принадлежащем киевскому княжичу, высокие тесовые ограждения вокруг насыпи Аскольдовой могилы, древние рвы и свежие гробли Ольгиного двора в Угорьском, шалаши холопов, ролейных закупов, плоские кровли овинов и хлевов, мазанных унавоженной глиной, дымки отдалённой, скрытой деревьями верви, горбы курганов и сплетения тропинок, сбегавших к воде.
Но, пожалуй, наибольшее внимание путников приковывали к себе тянувшиеся вдоль прибрежной кручи большие закопчённые отверстия, подле которых суетились люди.
Это были знаменитые Варяжские пещеры. В них ютились те из северных купцов, что не хотели или не могли платить за более пристойный постой в лоне города. Днём и ночью горели пещерные костры, там готовили пищу. Тут же, внизу, тесной чередой, уткнувшись смолистыми носами в узкую полоску песка, покоились ладьи-однодерёвки небогатых торговцев. Ромеи называли такие моноксилами.
Незавидно одетые натруженные варяги кидали недоброжелательные взгляды в сторону нарядившихся, будто для парада, византийцев. Какой-то бывалый старец с грязной перевязью на бронзовом от загара теле, сложив рупором худые ладони, неожиданно громко для своего преклонного возраста прокричал по-эллински: — Эй вы, ослы на раскрашенных бочках! Снимите маски, лицедеи, покажите свои истинные рожи! До чего глупы и надуты! Каким ветром занесло вас, переодетые женщины!
Насмешливые его слова потонули в хохоте высыпавшей к воде толпы ятвягов, литовцев, пруссов, чудей, жмудей и прочих менял и бродяг с Холодного моря. В ответ раздались брань и угрозы оплитов.
Старый варяг, как видно, был знаком не только с языком византийцев, но и знал, как с его помощью наносить им оскорбления. Христианство строго запрещало рядиться в маски и переодеваться в одежду другого пола, ибо, утверждало оно, человек есть творение бога, нельзя изменять облик, данный человеку всевышним. Вот почему глумливое обвинение в грехе с берега больно задело тех, кто был на кораблях.
Вспыхнувшая перепалка грозила обернуться откровенной потасовкой. Кое-кто из оплитов требовал повернуть корабли на обидчиков, но Калокир своевременно прикрикнул на гребцов, растерявшихся было от противоречивых команд, и караван посольства с удвоенной энергией поплыл дальше, провожаемый свистом и улюлюканьями.
Вскоре пещеры остались позади, крики насмешников стихли. Река заметно сужалась.
Всё чаще и чаще взору путников попадались артели плотников. Потные, оголённые до пояса мужики стучали топорами, оседлав длинные, лежащие одним концом на подпорках брёвна. Иные варили смолу в чанах, помешивая варево кривыми жердями, иные же скоблили тёслами уже сколоченные ребристые, как остов обглоданной рыбины, каркасы кораблей. Изредка налетавшее с реки дуновение шевелило насыпь стружки, и плотники подставляли разгорячённые лица прохладе.
В воздухе смешались запахи жареного мяса, ладана, коптящейся рыбы и горелого тряпья. Щебетание птиц, ещё недавно услаждавшее слух, сменилось гвалтом людских голосов, звоном и перестуком железа, скрипом колёс, ржанием и мычанием скота, всеми возможными звуками работы и развлечений.
Вода кишела купающимися мальчишками, которые, дурачась, норовили ухватиться за вёсла, и теперь уже кормчим было не до созерцания ландшафта, нужно было внимательно следить за своим продвижением среди более мелких судёнышек и безрассудных ныряльщиков, чтобы не нарваться на неприятность: жизнь и имущество каждого росса стоили огромного штрафа, а то и молниеносной мести сородичей. Калокир хорошо это знал.
Солнце растопило радугу, оно припекало, доставая огненными стрелами повсюду. Душно было на реке. Ни последние капли вина, ни вода не утоляли жажду уставших путников. Полуденная истома заволокла небо над Киевом.
— Скоро ли конец? — спрашивали воины друг у друга.
— Где край нашим мукам? — тихо роптали гребцы.
— Когда же ступим наземь? — ворчали надсмотрщики.
Калокир отвечал всем сразу:
— Молчать! Ещё немного терпения! Господь уже привёл нас к цели!
Там, где Почайна впадала в Днепр, было самое удобное место для высадки. Калокир запомнил его с прошлого визита. Однако отыскать свободное место на причале оказалось не так-то просто.
С горем пополам протиснулись к суше. Зеваки наблюдали, как прибывшие бросали с кормы якоря, тянули сквозь ближние к носу весловые отверстия канаты и тщательно привязывали их к вбитым в грунт сваям.
Часть оплитов осталась стеречь корабли, рабов, которых хоть и отстегнули от вёсел, поднятых лопастями вверх и закреплённых торчком, но не пустили дальше палуб; тюки и мешки с товарами.
Старшими на берегу был назначен надсмотрщик без одного глаза. Выбор пресвевта не понравился копьеносцам: по их мнению, охрану кораблей и имущества следовало поручить кому-нибудь из более достойных, а не Одноглазому, который не был воином.
Калокир строго-настрого наказывал обрадованному доверием избраннику:
— Смотри, чтобы ни один гвоздь, ни один лоскут не пропал, за товары отвечаешь головой. А особенное внимание хеландии. Там, в нижнем её отсеке спрятаны сосуды с мидийским огнём — тайна тайн. Весь мир трепещет перед нашей жидкостью, воспламеняющей всё, горящей даже будучи выплеснутой на воду, и сама она для варваров — «огненная вода». Непостижимая сверхъестественная, а потому безмерно устрашающая. Никто здесь не должен заподозрить о ней на хеландии. Запомни. Гляди в оба.
— Не сомневайся, господин, я всё знаю, помню и понимаю. Я буду глядеть в оба, — заверил Одноглазый, поправляя повязку.
— Безглазый обещает смотреть в оба, — пронёсся ехидный смешок среди тех нескольких солдат, которым не суждено было попасть в город.
Во главе своих копьеносцев Калокир двинулся к видневшимся крепостным стенам. Толпа расступилась, давая дорогу ромеям и громко выражая одобрение их парадной выправке.
В людском водовороте мелькнул и исчез белый хитон евнуха Сарама. Динат велел ему позаботиться о еде для оставшихся. Сам же посол рассчитывал на щедрость местного правителя, щадя собственный кошель. Гостеприимство и хлебосольство россов были ему известны.
Если подняться к Горе, где жили князь и знать, от реки напрямик, то по левую руку будет Перевесище с дворами земледельцев. По правую — Щекавица, поселение охотников и скотоводов. Ещё правее простирается Оболонье, пристанище убогих смердов. А по ту сторону Горы тянется до самых дальних лесов огромное посевное поле, поделённое князем меж верноподданными гридями.
Однако наиболее примечательной, самой шумной и самой многолюдной была нижняя, прибрежная часть Киева — Подолье.
Кого только не встретишь в пёстрой сутолоке торжища! Чего только не увидишь на Подолье!
Вот сошлись белолицый новгородский гость и смуглокожий араб. Смеются, хлопают по плечам, торгуются изо всех сил, а речи-то друг дружки не понимают. Первый потряхивает связкой собольих мехов, другой щупает пушнину, приценивается, позвякивает пригоршней серебряных диргем. Ну чудак! На что ему меха в жаркой стране? Новгородцу монеты ни к чему, ему подавай добрый товар в обмен. Араб пленён соболями, кличет своего служку, и мальчонка, чёрный как смоль, вприпрыжку тащит тончайшие ткани.
А вот и темпераментный худосочный сарацин в длинной белой хламиде. Одной рукой удерживает запылённого верблюда с нагромождением тюков между горбами, другой жестикулирует как сумасшедший, кричит, спорит со степенным кривичем, который, если разобраться, не возражает вовсе, поскольку никак не уяснит, с чего тот кипятится. Верблюд, презрительно выпятив губу, лениво переводит взгляд с одного на другого, затем на толпу, оживляется вдруг, заметив нахально глазеющего на него буйвола, что приволок полный воз каких-то горшков, и, наверно, с трудом удерживается от соблазна плюнуть в глупого рогатого собрата.
Попадались ромеям и земляки. Они сразу отличали своих среди прочих по одеяниям, по крестным знамениям и обращениям к богу, которого без конца призывали в свидетели их бескорыстия в торге. Призывали, божились и тут же надували простачков.
Разноязыкие, разноликие люди смешались, как горох в мешке, плещут масла из корчаг и бочонков, обнимаются после удачных сделок, бранятся, не сойдясь в цене, похваляются товарами, тычут под нос драгоценные серьги и колты, перстни и ожерелья, а то и кукиш, глядят в зубы лошадям, дёргают вымя коров, мнут трескучие свёртки кожи, предлагая скорнякам за них костяные изделия, гогочут на проделки скоморохов, отталкивают нищих, которые не прочь проверить, хорошо ли лежит чужое добро, подбрасывают увесистые шары воска и сыра, угощаются мёдом и переваром, поют, хохочут, плачут, зазывают, примеряют, радуются, сердятся, апеллируют к присматривающим за порядком верховым дружинникам, что с наказующими шестопёрами в руках бороздят толпу.
Наконец динат и его спутники выбрались из этой кутерьмы, подравняли строй.
Подолье и крепость разделяла трясина, малопривлекательная, как и всё болото. Через эту зловонную жижу пролегла бревенчатая гать с дощатым настилом.
При желании болото можно было бы засыпать землёй и хворостом, утрамбовать, отведя воду в какой-нибудь овражек. Однако киевляне благодарили судьбу за столь труднопроходимую естественную преграду на подступах к укреплению. В самом деле, случись нападение — вражескому войску пришлось бы с этой стороны преодолевать болото по единственному узенькому переходу. Вытянувшихся в цепочку неприятелей на тверди встретят дюжие росские богатыри и перебьют, сменяя друг друга для передышки, не давая сойти с качающейся под ногами гати.
Искушённые в боях оплиты Византии сразу оценили выгоду такого месторасположения и подивились дальновидности местных градостроителей.
— Поселились тут во время оно три брата, три князя, — поучал на ходу Калокир, — единому имя Кий, а другому Щёк, а третьему Хорив, сестра их Лебедь. Сидел Кий на Горе, а Щёк сидел на холме, где ныне и есть Щековица, а Хорив на другом холме, от него же и произвели во-о-он то место Хоревицей.
— Ишь ты, — безразличным тоном откликнулся старшина копьеносцев, то и дело снимая тяжёлую перчатку, чтобы утереть ладонью пот с лица, — трое, значит, их тут сидело. Всего трое… Вот бы тогда нагрянуть, изловить да на дыбу! А сестрицу бы в темницу, чтоб не насмехалась.
— С чего ей насмехаться? — спросил кто-то сзади.
— Красивая, должно, была, — подхватил ещё чей-то голос. — Девы тут красавицы, будто наши.
— Молчать! — Командир полусотни грозно обернулся. — Все они тут насмешники! — И добавил, подражая динату: — Заклевали б их вороны!
— Речку в стороне называют руссы её именем, Лебедью, — продолжал Калокир. — Да, сотворили те трое град и нарекли его в честь старшего брата Киевом. Это знать вам теперь нужно, пригодится, варвары почитают знающих.
Посольство благополучно перебралось через болото, преодолело горбатый бревенчатый мост через глубокий наполненный водой ров и, пройдя вдоль насыпи перед окольными стенами, достигло следующего моста, остановилось перед запертыми Лядскими воротами, по обе стороны которых уходили в высь две похожие как близнецы четырёхгранные башни-вежи, наполовину выдвинутые за линию частокола.
Вверху, над плотно подогнанными друг к другу заострёнными кольями забора, поблескивали шлемы стражников, расхаживавших по слегка наклонённому внутрь помосту. Ветер полоскал яркие значки росских копий.
Ромеи стояли внизу, задрав головы, насколько это позволяла их жёсткая одежда. Сигнальщик протрубил в рожок, требуя, чтобы пропустили.
Их, разумеется, и без того давно увидели, и уже громыхали засовы и гулко раздвигались массивные, обитые медью дубовые створы ворот, их толкали могучие руки рослых молодцев, при виде которых оплиты сразу поняли, почему динат-пресвевт принял миролюбиво-смиренный облик задолго до прибытия в город и отчего облачился в скромную рясу.
— Греки пришли! — раздался голос наверху.
— Греки пришли! — подхватил следующий стражник.
— Греки! Греки! — понеслось дальше.
Со всех сторон подходили воины, бежала поглазеть простодушная челядь, нарядные девицы собирались стайками на крылечках ближних теремов, степенно шествовали бородатые именитые мужи с растопыренными от обилия драгоценных перстней пальцами холёных рук, выглядывали из стрельчатых расписных окон нарумяненные жёны.
Улочки ожили, сбросив полуденную сонливость. Все, кто высыпал на солнечную площадь перед воротами, здоровались с блистательными пришельцами, отвешивали радушные поклоны.
Прижимая к груди крест, Калокир пристально смотрел на приближавшегося в сопровождении нескольких верховых паробков-оруженосцев знатного всадника, успевая одновременно поощрять взглядами своих оплитов, что, прислонив копья к стене и сдёрнув шлемы, дружно колотили в поднятые над головами щиты рукоятями обнажённых мечей. Этот дробный и громкий стук был воинским приветствием всех племён и народов. Они колотили до тех пор, пока подъехавший воевода не воздел обе руки и динат не повторил его жеста.
— Я тебя знаю, храбрейший Сфенкел! Привет тебе! — воскликнул Калокир, касаясь ладонями стальных наплечников спешившегося воеводы. — Узнаешь ли ты меня?
— Привет тебе, человек! — отвечал киевский воевода. — Я не знаю тебя.
— Как же! Вспомни! Я Калокир! Когда-то ты преломил со мной хлеб на своём дворе. Твои свечи до сих пор освещают мою обитель в Фессалии. А ты, остался ли ты доволен моими паволоками и медью?
— В мой дом скверны не попадёт. А тебя, добрый человек, прости, не припомню. Киев знал о твоём приближении. Ты посол Царьграда? Князь велел встретить тебя лаской.
— Препроводи на Красный двор, я должен донести туда тайные вести, — сказал Калокир.
— Идём.
Воевода грузно ступал сапогами по брусчатке, увлекая за собой строй ромеев. Шли они вверх по извилистой улице мимо чадящих мастерских ремесленников и гончаров, вертевших свои круги на обочинах мостовой, мимо богатых теремов и приземистых лачуг прислуги.
Чтобы не обидеть гостей, Сфенкел тоже отправился пешком. Позади процессии вели коней на поводу его паробки. Эти совсем ещё молодые парни, спотыкаясь, открыв рты, неотрывно смотрели на мерно покачивающиеся перья на шлемах некоторых чужаков.
Провожать строй кинулись лишь вездесущие ребятишки. Взрослые же, не пропустившие ни единого слова из недавних переговоров, остались на площадке, чтобы обсудить услышанное и увиденное. Мужчин заинтриговали намёки посла на какие-то тайные вести. Женщины, естественно, были склонны посудачить насчёт внешнего вида царьградских гонцов.
Мужи степенно толковали:
— По всему видать, вести те дурные.
— А может, и нет.
— Не иначе, самый главный после цесаря грек пожаловал. Много железа на его холопах.
— А может, и нет. Лицом недужный и без коня.
— Или они зажитники, посланы вперёд просить корм на постой. Думаю, быть к вечеру ихнему обозу.
— А может, и нет.
— Точно быть обозу. Должно, снова греки везут нашему княжичу подарки, чтобы подсобил Царьграду мечом.
— А может, и нет. Уж больно говорливый гонец-то. Нет, не на поклон явился.
— По всему видать, дурные вести…
— А может, и нет.
Женщины щебетали в сторонке своё:
— Ой, интересно мне знать, они паву съедают, когда перья повыдергают на шоломы, или чтут и ощипанную?
— Мне больше нравятся перья с длинноногой птицы-бегуньи, пуховые — любо! Чёрные люди мало их привозят — дорого берут, а эти и вовсе не торгуют, сколько ни проси.
— Отчего бы?
— Им самим, должно, не хватает на всё войско. Или боятся, чтобы наши не наделали и себе. Тогда бы поди разберись а поле на сечи, где кто.
— Я знаю, та птица скачет по горячим пескам далеко-далеко за морями-океанами, за Землёй греческой. Поймать её трудно, не догонишь конём в сыпучем песке, а песка мно-о-ого, конца-края не видать.
— А этот, с мёртвым лицом, главный ихний, перьев не носит, по жаре надел рубаху до пят. Черна рубаха, что твоя сажа, как у того грека, который при матушке нашей, при Ольге.
— Я вам скажу, греки прислали Ольге второго, чтобы вдвоём её, матушку, пуще прежнего подбивали к своему богу. Тьфу! Вот княжич им задаст, будут меру знать, помяните моё слово.
Станут женщины долго обсуждать событие, до ночи пересуды не кончатся и ещё на утро останутся с избытком. Иное дело мужи, потолковали, и хватит, разбрелись по своим заботам, по домам да ухожам. А забот хватает, хоть и войны нет. Надо и поесть, и попить, и шлёпнуть по шее подвернувшегося под руку служку, чтобы знал. Что Знал, не суть важно, лишь бы знал. Такова господская логика.
Улица, начинавшаяся от Лядских ворот, была самой длинной, однако почему-то называлась Малой. Если в начале её преобладали жилища ремесленников, то по мере приближения к Детинцу увеличивалось число более богатых двухэтажных сооружений именитых граждан, высокие и добротные обиталища которых выгодно отличались от мастерских сравнительной опрятностью и чистотой.
Солнце играло на медных верхах тесовых башенок, в которых, наверно, и человеку не поместиться. Каждую башенку венчало крошечное изображение птицы или животного. Правда, порой не удавалось угадать конкретных прообразов иных изображений, но это не умаляло достоинство тех, кто их вырезал и укрепил наверху, рискуя сломать шею.
В соседних закоулках истобки, не терема. Проезжие части не мощены деревом, колоса выдолбили глубокие колеи в их плотно утрамбованном, окаменелом грунте. Сточные канавы разъедены выплесками помоев.
Мальчишки носились как угорелые, размахивая деревяшками вместо мечей и крышками от чанов вместо щитов. Няньки покрикивали на шалунов и грызли орешки. Мамки покрикивали на нянек и тоже грызли орешки.
То и дело из-за углов выскакивали всадники, и тогда все прохожие шарахались к низким тынам или стенам. Пропустив коней, пешие вновь запруживали улочку, а воздушные завихрения из-под копыт гнали вместе с пылью ореховую шелуху.
Все эти городские картинки мало трогали заморских гостей. Их донимали жажда и голод, и они мечтали о скорейшем прибытии на Красный двор, где надеялись утолить то и другое.
Гордость не позволяла Калокиру поторопить возглавлявшего шествие Сфенкела, который, в свою очередь, гордый тем, что идёт в голове столь торжественного и нарядного отряда, ступал важно, не спеша, давая возможность зевакам вдоволь полюбоваться процессией. Утомлённый динат чуть не подвывал от злости, когда Сфенкел задерживался, чтобы подробно объяснить какому-нибудь приятелю, что это за люди, куда и зачем он их ведёт.
Вот наконец и Детинец.
Стены его покрепче окольных. Скреплённые глиной и смолой валуны не тёсаны, в углублениях плесень и белёсый мох. Перед внешней стороной насыпи торчали заострённые надолбы. К удивлению ромеев, они миновали ворота совершенно беспрепятственно.
Прекрасный терем выставил башни, в которых могло бы укрыться множество людей. Княжеские хоромы поражали размерами, на всём была печать величия и власти, в глазах рябило от золотых и серебряных росписей, разноцветных лент и гирлянд, обвивавших каждый столб или перило.
Ковры, устилавшие даже землю перед широкими ступенями входов, поглащали шаги озабоченно бегавших туда-сюда многочисленных наёмных слуг и невольников. Почтенные старцы, как изваяния, грелись на солнышке, восседая на низких скамьях и держась за высокие посохи с круглыми шишками, усыпанными драгоценностями.
И вместе с тем под самым носом всего этого великолепия безмятежно и комично прогуливались куры и голуби, индюшки и гуси с подрезанными крыльями. Лохматый пёс, уронив лопоухую голову на передние лапы, валялся посреди двора, он, казалось, пролежал так целые годы, не реагируя ни на переступавших через него отроков, ни на перезвон связки отмычек в руках пробегавшей мимо какой-то ключницы, ни на громыхавших при ходьбе незнакомых пришельцев.
По обе стороны Красного двора тянулись просторные ухожи, за ними достойные постройки, где жили княжеские избранники, громоздились кладовые, деревянные и белокаменные гридницы для пиров, а на них ощерились, точно в страшной улыбке, размалёванные медвежьи черепа, насаженные на шесты.
Все эти сооружения смыкались в огромное кольцо, внутри которого находилось лобное место. В центре площади стоял Перун.
Когда-то это был обыкновенный дуб. Он рос себе до тех пор, пока не обрубили крону и ветви. Могучему стволу топорами и тёслами придали черты бога, и он, бог войны, отец богини смерти Нии, стоял крепко, незыблемо, ибо дубовые корни по-прежнему оставались в земле. Здесь, на капище Перуна, давались клятвы перед походами и сжигались останки погибшей знати.
Сфенкел отправился искать князя. Византийцы, опасливо озираясь, украдкой плевали в сторону идолища.
Вернулся воевода вместе с красивой девушкой, с нескрываемым интересом разглядывавшей убранство чужестранцев. Сама же она была одета сравнительно просто. Холщовое платье с вышивкой на опястье широких рукавов облегало стройное, гибкое тело.
— Княжич шлёт вам привет, гости дорогие! — издали сообщил Сфенкел. — Подождите малость, скоро он освободится.
— Что может быть важнее прибытия пресвевта? — обиделся Калокир. — Скажи, чем он занят?
— Как раз, должно, начал тереть рёбра.
— Что?
— рёбра, говорю, трёт мочалом. В бане. Только воротился с соколиной охоты.
— Сам трёт?.. — вырвался нелепый вопрос у растерявшегося дината.
— Когда сам, а когда и гриди помогают, — последовал столь же значительный ответ.
— Мы… ты, храбрейший, препроводи… Им нужен отдых и стол, — проклиная в уме своё внезапное смятение, пробормотал Калокир, указав на оплитов, в немом восторге обступивших девушку. — Да, им следует предоставить пищу и отдых.
— Конечно! Конечно! — Мясистая физиономия воеводы расплылась в улыбке. — Уже распорядились, накрывают. Все ступайте за девой, накормит.
Оплиты послушно двинулись за красавицей, точно стадо голодных мулов за щепотью дразнящего корма.
Не слишком искушённый в церемониях Сфенкел посчитал свои обязанности исполненными и теперь не прочь был отлучиться по собственным делам. Но динат вцепился в него взглядом.
— Малушка-то накормит всех воев досыта, — сказал Сфенкел, — не беспокойся. И опочивальню отведёт им славную, будут довольны.
— Она кто, княжна?
— Нет, просто Малушка, роба. Ольга перевела её из скотниц в ключницы, горенку дала наверху. Сам княжич просил за неё матушку. И братца её, Добрыню, возвёл в старшую дружину. Она, Малка, пригожая, Святославу по душе. Ты бы, мил человек, поостерег своих воев-то… Княжич горяч сердцем.
— Препроводи меня, — нетерпеливо прохрипел Калокир, — препроводи же меня куда-нибудь.
— Да! Правильно! Я помню, что твоё дело не терпит. Сам хотел предложить, но опасался, что обидишься ещё. Я, мил человек, княжичу-то объяснил: вести, мол, из Царьграда спешные. А он мне: «Раз спешные, пусть, коли не против, идёт сюда. Заодно и помоется с дальней дороги».
Довольный, что сумеет наконец отделаться от чопорного грека, Сфенкел увлёк впавшего в меланхолию Калокира в глубь двора.
Глава VI
Сознание вернулось к Улебу, когда каюки[16] уже далеко уплыли от пожарища.
Он лежал на боку, крепко связанный, придавленный какими-то тяжёлыми предметами. Упруги — гнутые поперечные жерди на дне челна — впились в тело, и туго прижатые верёвками к бёдрам руки онемели, а голова гудела от боли после нещадного удара. Рот был заткнут войлочным комом.
Он приоткрыл глаза. Была ещё ночь, однако уже угадывались первые проблески приближавшегося рассвета, на их фоне смутно, как призрак, вырисовывалась фигура гребца, который быстро-быстро орудовал веслом, упираясь коленом в приподнятую корму каюка. Улеб не мог разглядеть остальных, но он ощущал их присутствие по отрывистому дыханию и частым нестройным всплескам невидимых вёсел.
Первым его порывом была отчаянная попытка закричать и вскочить на ноги. В ответ на слабый стон очнувшегося пленника раздался приглушённый смех печенегов.
Если бы луна, светила ярко, если бы удалось приподнять голову, Улеб увидел бы очертания незнакомого берега, голого, низкого, а за ним бескрайнюю, уходящую в мрак равнину. И ещё увидел бы, как широко разлилась река, как замедлилось её течение.
Ему казалось, что случившееся — неправда. А если даже и правда, то близок конец этому кошмару, вот-вот налетит, как вихрь, росский дозор, отобьёт, отомстит.
И точно внемля его мольбам, порою с берега доносились стук копыт и тревожное ржание. Улеб весь напрягался, узнавая верного друга, извивался, силясь освободиться от пут или вытолкнуть войлок языком, чтобы свистом предупредить коня об опасности.
Он чувствовал, как чёлн резко поворачивал к берегу. Печенеги размахивали арканами, суетились, гомонили, но топот копыт исчезал так же стремительно, как и появлялся. В эти мгновения Улеб желал одного — смерти.
Рабство… Что может быть хуже? Сердце юноши сжалось, едва он представил себе, с каким упорством, с каким недоумением и горестными криками будут родичи обшаривать Мамуров бор, воротясь с торга. Ведь он сказал сестрице, что отправляется туда за кореньями. И никто, вероятно, не узнает о его судьбе.
Человеку нет ничего дороже жизни. Улеб любил жизнь. Но тогда, окружённый коварными, он готовился встретить смерть грудью. Судьбе же угодно было сохранить его, пусть. И Улеб мысленно поклялся сделать всё, чтобы тот, кто задумал обратить его в рабство, сам в конце концов проклял час, когда совершил преступление.
На рассвете Улеб основательно разглядел того, что по-прежнему торопливо, словно всё ещё опасаясь погони, загребал веслом на корме.
Это был низкорослый плотный человек с тёмными бегающими глазами. Жёсткие и прямые, как нити, волосы обрамляли круглое лицо, ниспадая на покрытый испариной лоб мокрыми прядями. Он устойчиво держался на крепких, слегка изогнутых ногах в меховых сапогах, в которые были заправлены подвязанные под коленями шнурками кожаные штанины. Пропотевшая рубаха была вовсе диковинной, сшитая из двух разных кусков, один из которых представлял собой меховую шкуру, а другой — обычную холстину. Козий мех приходился на спину, холстина — на грудь. Явно принадлежавшая не ему тёмная славянская луда, что, по-видимому, для маскировки была наброшена на плечи во время ночного набега, теперь валялась под ногами. Оголённые исцарапанные руки были проворны. Улеб невольно отметил про себя, что такому крепышу по силам грести долго и долго.
Печенеги пересидели день в овраге, укрыв каюки, не разгружая их. С наступлением темноты вновь двинулись в путь, и опять плыли всю ночь, а с рассветом нового дня уже не прятались, плыли открыто.
Волны всё ощутимее раскачивали чёлн, били в низкий борт с равномерными интервалами. Участившиеся брызги насквозь пропитали войлок во рту Улеба. Почувствовав горьковато-солёный привкус влаги, он понял, что находится уже в море. Юноша слышал раньше, что вода у моря солёная и её нельзя пить, но никогда прежде не пробовал её вкуса. И он не знал, что вкус морской воды подобен горечи слёз, потому что не знал самих слёз.
Между тем печенеги окончательно осмелели. Видно, близился конец плаванию. Их гортанные выкрики доносились с других лодок, шедших впереди. Однако прошло ещё много времени, прежде чем появились признаки оживления уже не только на челнах, но и на берегу.
Сначала это был топот множества лошадей, словно гнали табун вдоль кромки воды. Затем с суши стали окликать плывущих. Окрестность огласилась шумом взбудораженного стойбища. В воздухе запахло жильём.
Улеба подхватили сзади, приподняли, показывая сбежавшейся толпе. Он содрогнулся при виде ликующих степняков, пеших и конных. Они размахивали руками, смеялись, указывали пальцами на него и куда-то в сторону.
Ими были усеяны волнистые гребни высокого берега, а за ближней грядой холмов виднелись ещё более высокие холмы, на склонах которых стояли рядами какие-то странные подобия круглых шалашей, обтянутых шкурами и с дымящимися остриями верхушек. Оттуда бежали всё новые и новые живые цепочки, обрывались у края поросшей кустарником лощины, возникали вновь, уже близко, присоединялись к общему хору встречающих.
Челны ткнулись в берег. Кто-то выдернул кляп изо рта Улеба и обрезал верёвку на ногах, чьи-то руки волокли его одеревеневшее от долгого неподвижного лежания на дне лодки тело вверх по осыпавшейся мелкой галькой и сухими комьями земли тропинке на самую вершину мыса.
Расступилась толпа, освободила пятачок, где его и усадили и куда складывали награбленное. Довольные, что соплеменники вернулись целыми и невредимыми, если не считать опухшей и посиневшей физиономии лишь одного, того самого, что искупался в Днестре после соприкосновения с кулаком Улеба, печенеги встречали каждую захваченную у россов вещь новыми воплями.
Сидя с вывернутыми за спину руками на пыльной и жёсткой траве, в ответ на щипки и тумаки пленник, прерывисто дыша, только сверкал глазами, озираясь вокруг. Но эти его гневные, полные ненависти взгляды ещё больше распаляли толпу.
Улеб отвёл глаза к подножию мыса, где всё ещё выгружали добычу под руководством молодого, сравнительно опрятного, вооружённого до зубов воина, на долю которого приходилась большая часть приветствий. Многие цокали языками и восхваляли его:
— Мерзя! Шохра!
— Эй-и-и, Мерзя! Мерзя!
— Го-о-о-эе!
Три каюка были уже полностью разгружены. Печенеги вытащили их на хрустящую гальку, затем неторопливо, явно красуясь и важничая перед зрителями, направились к последнему, четвёртому, причаленному в отдалении. Шли за самыми ценными трофеями. В толпе пронёсся гул восхищения.
И вдруг, покрывая всё: и шум толпы, и галдёж чаек, и рокот прибоя, — раздался душераздирающий нечеловеческий крик. В нём была такая боль, что даже глумливая орда притихла от неожиданности. Обезумев, Улеб кричал и бился, силясь вырваться из рук навалившихся, с трудом удерживающих его степняков. Он увидел, как от челна в одной связке вели нескольких ребятишек и трёх девушек. Первой шла Улия.
…В стороне от стойбища, за извилистым оврагом, обозначенным густыми пыльными зарослями крапивы-яснотки, лежали, точно оброненные белые шапки, известняковые валуны. В нагромождении больших камней дожди и ветры образовали углубления, достаточно широкие и высокие, чтобы в них мог поместиться сидящий и тем более лежащий человек.
Узкий вход в одну из таких естественных темниц перекрыли массивной крышкой с крепкими внешними подпорками. Через щель, служившую одновременно отдушиной и отверстием, сквозь которое узнику просовывали пищу, внутрь этого каменного мешка проникал скудный свет.
Улебу не надели колодку, как это обычно проделывали на первых порах с порабощёнными, а заточили сюда за буйство.
Его не били. Напротив, старались уберечь от увечий. Пищу давали отборную и вдоволь. Воду тоже не забывали. Землю в пещере устлали толстыми, сплетёнными из травы подстилками. Подобная «забота» указывала на то, что пленника считали ценным и, видимо, берегли для продажи. Но кому?
Улеб припал к щели, пытаясь выяснить, возможен ли побег. Щель была довольно широкой, и, если прижаться к ней глазами, можно разглядеть происходящее снаружи.
Неподалёку, прислонившись спиной к валуну, лицом к пещере сидел, подогнув под себя ноги, рослый детина. Стражник был один, но, судя по ширине его плеч и вздувшимся буграм мускулов, стоил двоих, а то и троих.
Заходящее солнце уже не припекало, но тем не менее страж изнывал от жары, исходившей от нагревшихся за день камней. Эта туша поленилась перебраться в тень редких сосен, зелёным островком выделявшихся поодаль на фоне серых волн степи, или же просто не смела удалиться.
Чтобы убить скуку, страж вполголоса тянул заунывный напев. Со стороны оврага ему вторили насекомые, зудящим столбом стоящие над зарослями крапивы. Изредка, должно быть, чувствуя на себе взгляд, он прерывал пение, прищурясь, смотрел туда, откуда этот взгляд исходил, и, поддразнивая узника, изображал испуг, спешно пододвигая к себе щит и саблю, как будто тот мог их перехватить, лопотал что-то и в конце концов разряжался смехом, довольный своей забавой.
По виду нельзя было предположить, что он отъявленный злодей, но Улеб сразу отказался от попытки как-нибудь разжалобить его или подкупить щедрыми обещаниями. Впрочем, какие могли быть переговоры между людьми с чуждыми языками?
Переменчивый ветер приносил то свежее дыхание моря, то отвратительное зловоние сгнивших объедков и всякого сора, которые сбрасывались в овраг. Слух едва улавливал отдалённый скрип передвигающихся повозок и голоса.
Уже обагрился закатом горизонт, уже исчезли тени, уже не раз наведывались какие-то мужчины и женщины, чтобы потолковать с охранившим пещеру огузом, а Улеб всё не отрывался от щели, точно не мог наглядеться на белый свет, будто всё ещё рассчитывал увидеть своё спасение или сестрицу с несчастными земляками, чья судьба беспокоила его больше, нежели собственная.
Прилетела кукушка-зегзица, схоронилась в соснах, закуковала. Это Жива, богиня жизни, обратилась, как всегда, кукушкой, голосом своим подаёт надежду.
— Жива-зегзица, сколько мне жить?
Бесконечно её кукование. Не сосчитать обещанных лет.
— Спасибо тебе, добрая, спасибо. Но зачем мне столько?.. Помогла бы лучше вырваться на волюшку. Ох, вложи в мою руку сварожий меч, что ковался молотом батюшки, закалялся на ветру мною в седле быстроногого Жарушки. Ты уже подарила мне четырнадцать вёсен, и всегда-то я не меч любил, а молот. Быть отныне по-иному. Подари же мне ещё хоть годок, только вольный…
Стояли сосны, склонив друг к другу лохматые шапки, точно группка немых случайных свидетелей, забредших в степь.
Скучно стражнику сидеть на склоне дня меж безмолвных камней. Ему хотелось в окружение костров, где остывал в чашах свежий кумыс. Хоть бы пленник произнёс звук, и то развлечение.
— Э, руся, — тихо позвал он, — эй!
Нет ответа. Он позвал снова. И снова молчание. Тогда он растянулся во весь свой огромный рост. Лежал так, покусывая травинку, бормоча под нос. И вскоре послышался его храп.
В стане печенегов тем временем праздновали удачный набег. Предвкушая новые дары от тех, по чьей указке направил челны на чужую реку Куря, каган Чёрный самодовольно выслушивал своего племянника, в словах которого чудился ему звон византийских монет.
Мерзя не скупился на похвалу в собственный адрес:
— Никто не услышал, как я налетел со своими воинами! Никто не видел, как я уходил!
Невесте Мерзи, смуглянке Лие, в честь такого события было дозволено немного постоять у полога каганского шатра.
Она во все глаза смотрела на рассказчика, готовая по малейшему жесту исполнить любое его желание: подать или убрать чашу, утереть его разгорячённое лицо или ополоснуть его пальцы в бадейке, которую держала наготове вместе с чистой тряпицей.
— Всех побили! Всё сожгли! — похвалялся Мерзя, ёрзая и размахивая руками.
Каган одобрительно кивал.
— Никто не спасся! Быстро связали, — возбуждённо продолжал хвастун.
— Э, чего же так мало привёз? — спросил Чёрный князь.
— Хе, они же не давались! Нет, нет, не то… они убегали! Ты сам велел проследить, чтобы ни один не убежал. Пришлось порубить.
— Верно, — сонно согласился Куря.
— Их было сто! Больше! А мы победили! Они рядами, стеной на нас…
— Э, Мерзя, ты же говорил, что не ждали вас.
— Ну да… это… я и говорю: они спали рядами… под стеной. А мы, я ка-а-ак налетел! Я молодец! Я могу и Кыюв захватить! Дай мне половину войска!
Куря вдруг открыл один глаз, хитро прищурился, заправил усы за уши. Ехидно спросил:
— Может, тебе всё войско отдать? И свой бунчук, а?
Мерзя осёкся, потупился.
— Тех троих, что увезли с собой, оставил там?
— Конечно, великий! — Хвастливый племянник вновь оживился. — Всё исполнил, как было велено.
— А этого, бешеного, как взяли? Силён он, чуть не разметал толпу на берегу, когда вывели. За такого дорого возьму.
— Он и там буянил. На меня напал сзади, но я ка-а-ак двинул его кулаком, он перелетел через куст и ка-а-ак шлёпнется в воду — еле выловили. Да… — вдруг вздохнул Мерзя, — еле выловили из реки… Слыхал, как он взвыл сегодня!
— Я думала, светловолосый не от страха закричал, а оттого, что увидел своих, — робко подала голос Лия. — Одна дева, на него похожая, руки к нему тянула и тоже кричала. Может, они…
— Молчи! — Мерзя вскочил, затопал ногами. — Как смела открыть рот перед великим каганом и мною! Эй, кто-нибудь, плетью её, плетью!
И даже после исчезновения насмерть перепугавшейся невесты он всё ещё тряс кулаками, злобно пинал бадейку, которую смуглянка обронила, когда покорно принялась шлёпать сама себя по щекам, прежде чем убежать в страхе, вопил на весь шатёр:
— Она думала! Она смеет думать, женщина! А я говорю, что светловолосый кричал, испугавшись одного моего вида!
До поздней ночи пылал светильник в шатре. Внизу, у подножия холма, также горели огни, они мерцали в лощине, точно кто-то рассыпал пригоршни светлячков. В трепещущем свете ближних костров призрачно мельтешили тени.
Куря вышел подышать свежим воздухом перед сном. Опираясь на плечо племянника, оглядывал стойбище, слушал нестройное песнопение, чередовавшееся с шумными ссорами, лепет спящих в вежах, переклички пастухов, стерёгших гурты, и дозорных воинов.
— Был у меня тайный совет с братом из Страны Румов, — сказал Куря. — Вернутся его корабли, получим, что причитается и снимемся отсюда. Уйдём на пороги, на Днепр. Если румы приплывут от Святослава с успехом и скажут, что он попался на их хитрость, нам открыт путь до самого Кыюва. Хватит отщипывать крохи, ударим в самое сердце.
— Скоро? — спросил Мерзя.
— Не знаю. Дождёмся верного часа. Может, и не скоро, но дождёмся. Я сам всё решу, сам.
— А что за хитрость у румов?
— Э… не объяснил толком, но сказал, что Святослав далеко уйдёт с дружиной, очень далеко. И ещё говорил, что твоё, храбрый волк, нападение и те трое, которых он нам передал, а ты отвёз и бросил, где велено, кусочек той хитрости. Вспомни, всё ли сделал как надо?
— Ай, мудрый, зачем обижаешь! Я храбрый и умный волк! Храбрей и сильней меня нет! Никого!
— Э?
— Кроме тебя, кроме тебя. — Спохватился, пал ниц, обслюнявил сапоги кагана. — Ты, великий, ещё храбрей и умней!
Куря обычно свирепел, если кто-либо осмеливался слишком превозносить себя в его присутствии, и зарвавшийся племянник запоздало вспомнил об этом.
Каган вложил в ножны выхваченный в горячке кинжал, примирительно поднял струсившего не на шутку племянника и назидательно изрёк, указывая на бунчук, символ своей власти:
— Не возносись выше этого. Ты моя надежда. Единственная надежда к старости. Запомни крепко.
Расстроенный столь плачевно обернувшимся триумфом, Мерзя закивал головой, попятился, сломясь в поклоне, точно ему перешибли хребет, и растворился во тьме. Мерзя долго слонялся окрест, возмещая зло на всякой мелюзге, попадавшей под руку. Забрёл к валунам за оврагом.
Огромный детина-стражник, как мы знаем, спал возле оставленной на его попечение пещеры с пленником. Могучий храп сотрясал воздух.
— А, спишь! Спишь, собака! — Мерзя кинулся к нему, как настоящий волк к жертве. — Спишь! Так-то ты, Маман, выполняешь наказ! Убью!
Великан вскочил от неожиданности, вытаращился спросонья. Со стороны сцена выглядела нелепо: в гневе Мерзя напоминал зайца, который обжёг лапы на углях и, обезумев, прыгал на скалу, ударяясь и отлетая. Скалу, естественно, напоминал великорослый стражник.
— Собака! — визжал Мерзя. Он гулко колотил кулаками в щит, которым Маман успел прикрыться. — На кол! Я тебе покажу!
Эта возня стряхнула со стражника остатки сна. Он вдруг рассердился. Ещё бы, его заставили скучать тут в одиночестве, сами же пировали внизу, а теперь вот этот, которого он мог бы одной рукой зашвырнуть на сосну, должно быть, насытившись и навеселившись вдоволь, подкрался, чтобы ругать и колотить его за пустяковый, по его мнению, проступок.
Подумав так, великан прямо задрожал от обиды, бросил щит, вне себя схватил крикуна за пояс — и крапивные заросли оврага всколыхнулись и затрещали под упавшим в них телом.
Мерзя, казалось, лишился рассудка. Ушибленный и ужаленный, он выкарабкался наверх, по-собачьи перебирая ногами и руками, бессознательно вернулся на четвереньках к стражнику. Маман, сам ошалевший от содеянного, в отчаянии обнажил саблю: раскаиваться поздно.
Стоя на четвереньках, Мерзя чихал, отплёвывался, скулил, оглушённый, потрясённый до глубины души. И тут в голове Мамана внезапно мелькнула мысль, достойная самого находчивого умника. Он грозно рявкнул:
— Кто пришёл? Кто посмел напасть на каганского стража?
— Э… Это я, Ме… Мерзя, великий, храбрый вол… Волк! Я Мерзя! Ты поднял на меня руку! А-а-а! На самого Мерзю поднял!
— Тихо, а то рассеку на куски.
— Что? — шёпотом спросил каганский племянник, едва не лишившись чувств. — На куски? Меня?
— Кого же ещё!
— Разве ты меня не узнал? — ещё тише прошептал «великий, храбрый волк».
— Нет, не узнал.
— До сих пор не узнал, а?
— Слушай, Мерзя, я тебя не узнал, и всё. Тебе понятно? А раз не узнал, простят, если что. — И Маман угрожающе поднял саблю. — Из-за одного, пусть и знатного, не станет каган губить лучшего воина. Забудем. Не то…
— Да, да, да, да… Я тоже тебя не узнаю, Маман. Я ухожу. Но ты не спи. Не будешь спать? Не будешь?
— Нет, не буду, — пообещал великан ему вдогонку и тут же лёг на траву и захрапел на всю округу.
Шатаясь, точно больной, Мерзя добрел до своего ложа, свалился как труп. Он не рискнул поднять шум. Слишком большим, непоправимым позором покрыл бы себя, если бы те, что трепетали перед ним, вдруг узнали, как проучил его простой воин.
А в глухой каменной темнице, изнурённый, измученный горькой своей участью и тяжкими мыслями, беспокойно ворочаясь во сне, лежал Улеб. Он не слышал ни полуночной ссоры огузов, ни шороха ящериц, встревоженных тем, что в их обитель заточили человека, ни шелеста прибоя, ни криков степных сов, ни громкого храпа стражника Мамана.
На рассвете с моря поползли туманы.
Густая пелена низко стелилась по траве, и от этого, казалось, шевелилась сама земля. Туман скапливался в ложбинах, лежал широким покрывалом на равнине, а крупные камни и холмы, точно горбы нырнувших в молоко верблюдов, торчали на поверхности.
Было тихо и сыро. Маман зябко поёжился, открыл глаза и… ничего не увидел. Вокруг белым-бело, хоть глаз выколи.
Эка невидаль — туман. Стражник нехотя стал подниматься на ноги, потягиваясь, жмурясь и зевая. Когда он встал, молочная пелена доставала ему до колен. Удивительно, как чётко разграничивались приземистый слой тумана и прозрачная, до звона чистая воздушная ширь над ним.
Маман ещё не видел этой забавной фантазии природы, поскольку, заложив руки за шею, продолжал потягиваться, хрустя суставами, с закрытыми глазами и распахнутым в зевке ртом. Но, когда открыл глаза, обомлел от изумления. Стоял не шевелясь, точно боялся спугнуть видение.
— Хэ-э! — восхищённо выдохнул наконец и ущипнул себя несколько раз. — Уй-и, атэ!..
Перед ним, будто в сказке, висело безногое туловище рыжевато-красного коня. Через мгновение Маман сообразил, что вовсе и не висит туловище, а просто стоит себе целёхонький конь, только ноги его исчезли в непроглядном слое тумана. Конь-огонь! Уздечка на нём изящная, лёгкая, а к шее привязан небольшой кожаный мешок. И не пустой мешок!
Конь косился на медленно и осторожно приближавшегося к нему человека, навострил уши, повернулся, чтобы удобней было лягнуть копытом, но от пещеры не отходил. Заржал тихо, тревожно, устало.
Услышал Улеб, вздрогнул, мигом слетел с него тяжкий сон. Бросился к щели, не жалея лба. Всё разглядел, всё понял.
— Жар! Жарушко! — В приглушённом темницей возгласе благодарная радость, удивление, горечь, беспокойство, нежность. Улеб вытянул губы к щели, свистнул трижды. «Спасайся! Беги! Скорей!»
Жар послушно шарахнулся, но не умчался. Закружил меж больших камней, спотыкаясь о скрытые малые. Бегал, гонялся за ним Маман, сам чуть шею не свернул, а коня не поймал. Убежал за подмогой.
Улеб снова свистнул что есть силы. На этот раз Жар покорился сигналу. Метнулся к оврагу, исчез в нём, как крупинка в ковше с молоком. А слева уже бежали, толкаясь в спешке, печенеги с арканами.
Прибежали к пещере, а коня и след простыл. Пелена тумана успела сомкнуться за Жаром, снова белая сырость расстелилась ровной гладью.
Улеб наблюдал сквозь щель, как, недоумённо лопоча, суетились по пояс в тумане злые со сна огузы. Они тормошили Мамана: уж не задумал ли тот посмеяться над ними? Великан поскрёб затылок, развёл руками, шагнул к пещере, отбросил подпорки, отодвинул тяжёлую крышку. Выволокли Улеба, облепили, повисли на нём, загремели на всю степь:
— Атэ нирдэ? Атэ нирдэ?
Улеб слов этих не понимает, но догадывается, что спрашивают: «Где конь?» Да разве он скажет! Пусть хоть душу вытряхнут, а не скажет.
Жар, к несчастью, сам себя выдал. Глупышка, он почуял, увидел из укрытия того, за кем, хоть и в отдалении, а всё-таки преданно следовал многие вёрсты по своей и чужой земле. Он поспешил к Улебу с радостным ржанием, позабыв об осторожности.
Петли упали на жеребца со всех сторон. Это печенеги, умели, как никто иной. Натянули верёвки, ловко поймали беднягу, закричали, довольные, и сразу к мешку кожаному. Вспороли его кинжалами, запустили руки, надеясь, должно быть, схватить драгоценности, и вытащили… охапку мамуровых кореньев да комья болотной руды. Сплюнули с досады, стали запихивать пленника обратно в каменный склеп.
Странно, но Маман почему-то и коня не опутывал и к росичу не прикоснулся, он задумчиво застыл, опустившись на камень и уставясь под ноги взглядом.
Улеб лежал в темноте как убитый. Упёрся кулаками в холодную заплесневелую стену. Молчал. А в ушах не стихали, врезаясь в память, два печенежских слова: «Атэ нирдэ?», «Атэ нирдэ?» — «Где конь?»
Крепко врезались в память те два слова…
Глава VII
Сфенкел подтолкнул Калокира внутрь баньки, сам шагнул вперёд, растворившись в клубах пара, что-то кому-то сказал и, возникнув вновь, выскочил вон, прикрыв за собою дверцу.
Калокир очумело глядел на розовые пятна, мельтешащие, едва различимые в густом чаду. Громко перекликаясь, смеясь, стуча кадками, молодые здоровенные россы заполнили развесёлое пекло.
Добрую половину баньки занимало странное каменное сооружение. Этот громоздкий, похожий на печь овал примыкал к стене и выходил сквозь неё во двор удлинённым жерлом, в которое снаружи кто-то беспрерывно подбрасывал поленья, поддерживая жаркий огонь. Купальщики то и дело плескали на раскалённые камни воду. Пар шипел и вздымался, ударяясь в потолок, так, что казалось, вот-вот банька взорвётся и взлетит в воздух.
Это был сущий ад. Задыхаясь, динат попятился, осеняясь крестным знамением с таким усердием, какого прежде за ним, пожалуй, не водилось. С перепугу он решил, что всё слепо в этом вареве. Однако его заметили я, наблюдая, как он крестится, загомонили:
— Смотрите, братцы, важный грек! Точно! Воевода прав!
— А чего это он, а? Чешется, что ли?
— Это матушкин Григорий!
— Нет, другой, братцы! Но тоже чёрный!
— Ступай сюда, человек! Вот место на лавке! Сымай рубаху!
— Ну-ка помогите гостю!
— Давай, грек, не робей! Небось охота попариться-то с дороги?
Попался патрикий. Совсем скис от такой бесцеремонности, а сердиться — как тут рассердишься, если хохочут дружелюбно, без издёвки, суют бадейку, место уступают, подбадривают. Видно, парильня эта им дороже любых ритуалов.
Делать нечего. Сидит одуревший Калокир, полноправный посол Византии, покорно трёт своё пузцо мочалом. Озирается без толку. Ему бы чин чинарем поклон отбить да представиться как положено. Но разве разберёшь, где князь, а где кто? Все на лавках в чём мать родила. Голышом — все едины. Бормочет динат растерянно:
— Я высочайшим повелением… Калокир, пресвевт, из… препроводили помимо воли… Высочайшим повелением намерен сообщить…
— Успеется, дорогой гость, успеется. После долгих-то вёрст нет ничего краше воды, огня да квасу. Потерпит дело, мойся пока в своё удовольствие как дома.
Сказавший эти слова был юн годами, совсем мальчишка, но крепок телом по-мужски. Даже в клубах пара можно разглядеть голубизну его глаз, прямой, чуть приплюснутый нос, гладкое, продолговатое лицо с выпиравшими скулами и подбородком. Простые гриди дочиста выбривали головы. Этот же, хоть и был брит тоже, однако с его макушки свисал локон волос, отличавший знатного родом. Серьга в одном ухе золотая с двумя жемчужинами и рубином посредине.
«Вот он, князь, вот он, Святослав, — догадался Калокир. — Этот человек, ещё мальчик, сумел пошатнуть покой нашего трона? Невероятно!..»
Калокир бросил мочало на лавку и устремил на соседа полный достоинства взгляд, слегка откинув голову и выпятив губу.
— Ты чего насупился, гость? — спросил юноша, поливая свои плечи квасом и покрякивая от наслаждения. — Я сказал: не робей, будь как дома. Рады тебе. Мы-то вот поспешили сюда, чтобы не в болотной грязи после охоты, а с чистым лицом и телом встретить высокого вестника Царьграда. Всегда рады тому, кто знает и чтит наш обычай. На-ко ополоснись квасом — любо!
— Осмелюсь заметить, — молвил динат, — я привык совершать омовения в бассейне. В мраморной купальне с благовониями. И если бы не препроводили…
— Ха! — прервал его речь Святослав. Широко открыл глаза, точно два голубых кружочка под стрельчатыми бровями. И вдруг, всплеснув руками, разразился смехом: — Ой, шутник! Ай, затейник! Вы слышали, гриди? Ему плох наш квасок! А мы-то, мы старались уважить. Прости нас, молим покорно.
Вокруг, дурачась, подхватили:
— Прости, добрый человек!
— Он, братья, привык к бассейну!
— К благовонию!
— Нехорош ему наш квасок!
— Ай, шутник!
— Я не шутник, — бросил динат простолюдинам, — я посол Святейшего… — И тут его взгляд остановился на Святославе. Князь молчал, и в его глазах Калокир увидел нечто такое, что подбросило его на ноги, затем подломило ноги.
— Ладно, благовонный, встань, не валяйся. — Святослав поморщился. — Мы ослышались. Считай, не поняли шутки-то.
— Да… дай квасу!
— Стало быть, ты прибыл прямо из Царьграда? — серьёзно спросил княжич. — К матушке с приветом? Иль ко мне?
— К тебе, величайший, к твоей милости. С тайными вестями.
— Тайные? От цесаря? Сам прибыл или с челядью?
— Свита моя за обедом. Твоя дева препро… отвела.
— Коням задали корм?
— Я приплыл кораблями. Оставил внизу.
В них что?
— Один с парадом, каковой положен пресвевту в твоё государство, в других товар разный. Всё больше ткани и медь. Гвозди. Хорошие.
— Добро, пошлю посмотреть после.
— Благодарю тебя, великий князь! Величайший! Справедливейший! Дар привёз, не одни вести.
Святослав пошёл из баньки в сенцы, где лежала одежда. За ним потянулись гриди. А следом и Калокир, радуясь, что всё обошлось, и злясь, что сам себя обрёк на унижение невоздержанностью в словах.
Шли через Красный двор. Народ дворовый кланялся князю и дружинникам. Кто помладше — в пояс, кто постарше — склонял голову.
Шли гурьбой, а князь впереди. Одеты в чистое. В длинных, до колен, косоворотках, подпоясанных ремешками, на которых болтались ножики, ключи, огнива и всякие побрякушки, в таких же холщевых штанах. Головы не покрыты, гладки как шары. Многие были безоружны, оставили мечи и луки вместе с лошадьми. Лица пунцовые после баньки.
Калокир среди них в своей рясе — бельмо бельмом. Но зато его оплиты, высыпавшие навстречу во всём параде, сытые, отдохнувшие, сияли панцирями. Динат издали крикнул им что-то по-эллински, те давай колотить мечами плашмя по щитам, стало быть, приветствуют росского князя.
Святослав улыбнулся в ответ, а гриди дружно подняли руки, раскрыв ладони: тоже, значит, поздоровались, одобрили. Служки и рабы, что стояли, склонясь, по обе стороны ковровой дорожки, и те покурлыкали восторженно под носы для порядка. На верхушку самой высокой башенки терема вскарабкалось солнце, глядит с любопытством. Оно себе светит да помалкивает.
Выбежала Малуша-ключница, увидала княжича, зарделась, потупила очи свои прекрасные, белой ручкой этак плавно повела, дескать, заходите отведать хлеба-соли в своём дому. Дружно пропели хвалу идолу на Перуновом капище громовыми глотками и поспешили, внемля жесту девицы-красавицы, отведывать.
Стали с плоских лотков-сковородок есть дичь, что ими же бита поутру, стали пить мёд-брагу, пуская по кругу огромную, как ведро, братницу, стали слушать бояна-старца что щипал свои звонкие гусли, восседая на высокой скамье меж столов.
«Варвары, — думал динат, озираясь, — варвары…»
Убедившись, что он предоставлен сам себе, Калокир принялся украдкой изучать окружающих. Это занятие настолько поглотило его, что он даже на время отложил кушанья.
Настороженно-пристальный его взгляд скользил по лицам пирующих. Если бы кто-нибудь внимательно присмотрелся к послу, то, безусловно, догадался бы, что с ним происходит нечто странное. Словно бы невзначай поигрывая медальоном, полученным в Константинополе из рук самого Романа, динат осторожно пытался привлечь чьё-то внимание к этому знаку.
Пировали в просторной белокаменной пристройке за теремом. Называлась она Большой гридницей.
Длинные доски столов, покрытые цельными скатертями, в несколько рядов тянулись от широко распахнутой двери до самого подножия княжеского престола. Престол — подобие кресла на постаменте с тремя ступенями внизу. У изголовья — щит на двух скрещённых мечах такой выделки, что дух захватывает.
У входа в Большую гридницу по бокам двери стояли караульные стрельцы. Они вдыхали запахи трапезы и цокали языками. Нахальные куры то и дело подкрадывались на цыпочках, чтобы заглянуть внутрь, но стрельцы службу несли исправно, кричали им: «Кыш!» — и угрожающе потрясали секирами. Куры, разумеется, отступали.
Пришло время вспомнить Святославу о так и не выслушанных тайных вестях из Царьграда. И ещё вспомнил про заморские корабли с товарами, что стояли на киевском перевозе. Сам захотел на них взглянуть, а заодно и выслушать посла дорогой. Подал знак — конец трапезе. Встали гриди, с грохотом отодвинув скамьи, обернулись к нему, разом гаркнули:
— Хвала тебе, внук Рюрика!
А княжич:
— Коня!
Привели под уздцы осёдланного белого жеребца княжеского. Со двора по плетёной дерюжке подвели его прямо к престолу. Взлетел Святослав в седло, тронул только коня коленями и, гарцуя, подался из гридницы на площадь.
— Где грек?
— Я здесь, — отозвался динат.
— Едем.
Калокиру тоже коня подвели. Он не сплошал, вскочил на него ловко, подобрав чёрный подол одеяния. Со всех сторон послышался приятный его слуху гул одобрения. И княжеский взгляд помягчел.
Из конюшен расторопные служки вели лошадей для дружины и посольских оплитов. Многие воины князя спешно вынимали из седельных сум кольчуги, надевали тут же.
Тронулись шагом за ворота через городище по гати за окольными стенами вниз, к Подолью, к Славуте-реке.
Впереди Святослав с тремя старыми воеводами: Свенельдом, Асмудом и Претичем. Рядом с ними Калокир. А позади этой пятёрки, приотстав шагов на двадцать, следовала кавалькада охраны.
Лёгкие росские всадники в кольчугах, переливавшихся в лучах заходящего солнца, как рыбья чешуя, держали копья торчком, и полоскались на ветру разноцветные косицы. Тяжёлые, закованные в панцири ромеи ехали особнячком, но улыбались на шутки россов и даже что-то отвечали по-своему, хотя, конечно, ни те, ни эти не понимали друг друга. Оплиты привалили свои копья к плечам остриями назад. У всех щиты за спинами. Не враги едут — собеседники.
— Говори, что за вести, — сказал Святослав.
Посол приосанился, откашлялся и торжественно начал:
— Соправитель, Величайший и Неповторимый Роман, сын Константина Порфирородного и внук Льва Философа, грядущий повелитель Европы и Азии, венец василевсов, шлёт тебе благодатный привет, ибо все мы, и он, и ты, и мы, и они — все дети Иафетовы! Все мы братие, все племя Иафе…
— Стой! — Святослав замахал руками, едва не уронив поводья. — Говори по-человечески. За привет спасибо. Больше ничего не прислал?
— Два кентинария золота. В дар.
— С этого бы и начинал. Что дальше?
— И ещё обещал десять. А то и пятнадцать.
— Хм, за что же? Столько-то зря не посулят, верно, Свенельд.
— Твоя правда, княжич, — отозвался воевода. Двое других, Претич и Асмуд, также закивали головами. Они внимательно слушали каждое слово, наклонившись в сёдлах, грузные, суровые. — Тут что-то нечисто. Пусть говорит дело.
— Чего же хочет твой цесарь? — спросил Святослав в раздумье.
Калокир, несколько сбитый с толку тем, что его прервали, не дав произнести тщательно продуманное вступление до конца, продолжил свою речь с меньшим пафосом:
— Арабы враждуют с нами, и булгарам, посягнувшим на священные земли империи, неймётся. Но не это главные вести, смелый, бесстрашный и справедливый князь. Мне поручено сообщить тебе с глазу на глаз, что задумал Пётр, булгарский царь, потеснить тебя. Собирает в Преславе несметное войско. И сейчас уж, нам известно, щиплет Русь с юга, скрыто посылает отряды на Днестр проверить, крепко ли стоишь после ссоры с вятичами.
— Откуда известно?
— Оба сына Петра обучались военному искусству в Константинополе. Оба, особенно Борис, недовольны действиями отца, осуждают. От них обо всём и доведались.
Святослав нахмурился, тень нашла на его лицо. Он осадил коня, замер, задумался. Воеводы сгрудились вокруг. Остановилась и свита поодаль, отгоняя любопытный народ.
Асмуд сказал:
— С юга никакой тревоги не поступало и не слыхать поныне. Коли б опять, скажем, зашевелилась Степь, я бы поверил. Даже рад был бы поразмяться, гоняючи степняков. Но с булгарами ныне нету разлада.
Претич сказал:
— Не верю и я. Внизу спокойно. И зачем булгарам с нами биться? Им с ромеями пот не утереть.
Свенельд старше всех, битый-стреляный викинг-варяг прожил жизнь, водил полки и во славу норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого, и Игорю служил, а нынче у Святослава, он сказал:
— Ищет Царьград свою выгоду в твоём мече, княжич. Вот моё мнение.
Святослав поднял взгляд на посла. Этот взгляд уже знаком Калокиру. А на ближних буграх стихли крики толпы. Догадался народ, что произошло нечто серьёзное, если уж сам князь потемнел лицом.
— Твоя воля, великий! — собравшись с духом, воскликнул динат. — Я передал тебе что велено, какой с меня ещё спрос? А что до слов моих, пускай время докажет. Есть заговор в Преславе, и на деле должно подтвердиться.
Ничего не сказал Святослав, повернул коня, хлестнул плёткой по белому его боку, помчался обратно к Горе. Дружинники поскакали за ним, поднимая пыль. И ромейские оплиты, не разобравшись, в чём дело, понеслись назад следом. Калокир не стал их окликать.
Приблизился Калокир к замешкавшемуся посреди дороги Претичу, спросил:
— Сестру во Христе, княгиню вашу, где найти?
— Матушку, что ли, Ольгу? Она в Угорьском в летнем дворе. Во-он туда. Но тебе же не войти без провожатого.
— Вот мой пропуск! — заявил Калокир, извлекая крест.
Претич пожал плечами и поскакал догонять Святослава, и отпрянула от коня сомкнувшаяся было толпа зевак.
Калокир сначала направился к перевозу, туда, где возвышались изогнутые носы трёх его судов. При его появлении никто из валявшихся на песке, разомлевших от безделья солдат, оставшихся при кораблях, не поднял головы. Кое-кто из них играл в кости. Судя по всему, они успели обвыкнуться здесь. Сарам коптил над хвойным костром двух жирных лещей, нанизав их на обструганную ветку.
Вскоре динат уже ехал рысцой по направлению к сельцу Угорьскому, с удовольствием выслушивая писклявые стоны и причитания хилого евнуха, которому велел сопровождать себя. Вместо лакомой свежекопчёной рыбы Сараму достались дорожные кочки.
Какой-то человек, с виду княжеский дружинник, вынырнул из придорожного кустарника. Калокир резко придержал лошадь, и Сарам, мысленно произведя незнакомца в ангелы, перевёл дух.
Почёсывая ушибленное место пониже спины, куда пнул его динат, отсылая в сторону, и всхлипывая от усталости и жалости к самому себе, Сарам издали наблюдал за ними.
— Нет, это не ангел, — сказал себе евнух, присмотревшись к незнакомцу. — Не ангел, а скорее наоборот. Прости, господи!..
Вот Калокир показал незнакомцу медальон. Тот в ответ тоже вынул какую-то поблескивающую вещицу. Оба, судя по всему, были рады встрече. Этого уже Сарам не мог понять. В самом деле, что хорошего и тем более радостного нашёл именитый динат из Фессалии во встрече с воином-варваром? И о чём так оживлённо и вместе с тем опасливо озираясь по сторонам, говорят они, столь неравные люди? Что у них общего?
«Так вот почему пресвевт империи шатается без охраны, — думал евнух, — он искал этой странной встречи без свидетелей. Гм… меня, как видно, всерьёз не принимает».
Сарам тёр лоб, скрёб затылок, щипал подбородок, но всё равно не мог вспомнить, где встречал этого человека или, по крайней мере, что напоминало ему его лицо.
И вдруг евнуха осенило: он похож на Калокира! Та же самая физиономия, что достаточно намозолила глаза Сараму за долгие годы службы динату.
Что-то лисье было в облике незнакомца. Казалось, это не человек, а лисица, ряженная в одежду людей. На сильно вытянутом лице мельтешили маленькие выпуклые глазки, точно перекатывались две горошины.
«Хи-хи, сошлись, красавцы, нос к носу, — злорадно ухмыляясь, подумал евнух. — Интересно, о чём шепчутся? И что это мой распрекрасный господин сует ему? Неужто золото? Лопну от любопытства. Ой, а куда девался тот? Так и есть, обратно прыгнул в кусты, ветки колышутся. Я сам прыткий, но такого ещё не видывал. Канул, будто и не было вовсе. Ох ловкий мошенник при здешнем владыке!»
Размышления Сарама прервал окрик Калокира, и он покорно подбежал к хозяину, заранее охая и ахая. Они продолжили столь неожиданно и загадочно прерванный путь.
В сельцо вопреки ожиданию проникли легко.
Чистый, опрятный двор был обнесён кое-где частоколом над гроблей, кое-где плетнём, каждый кол которого обвивали цепкие стебли ползучих растений. Чувствовалось, что тут царство женщин. Только вдоль южной ограды, где был главный вход, в ложбине перед крутым курганом Аскольдовой могилы прохаживались молодые лучники.
Юноши-лучники обернулись на скрип калитки и без тени любопытства или удивления, ничего не спросив, проследили лишь за тем, чтобы пришельцы не перешагнули черту непонятно от кого и зачем охраняемого старинного могильника-жальника.
Подобно тому, как восседали на скамьях Красного двора на Горе почтенные старцы с посохами, здесь так же, нахохлясь, точно наседки, восседали знатные тётки с прислужницами. На чём восседали, понять трудно. Скорее всего на скамьях, только скрытых под широкими, раскидистыми, словно хвастливо разостланными тканями и оборками. Ну чисто торговый ряд под навесом из дранки! А навес-то покоился на высоких резных столбах и, видимо, служил укрытием посиделок от жары или дождя.
Оставив лошадь на попечение первой встречной робы, Калокир с напускной смиренностью, точно попал в женский монастырь, приблизился к боярыням. Сарам за ним.
— Мир вам, женщины! — поздоровался динат.
— Мир вам, женщины, пропищал и Сарам, повторяя и коверкая непонятные для него слова приветствия.
Калокир сердитым взглядом отогнал Сарама прочь, чтобы не вмешивался куда не просят. Тот уныло поплёлся к плетню, устроился там, присев на корточки, поглядел по сторонам и заклевал носом.
Чинно поклонившись, боярыни с любопытством смотрели на Калокира. Одна, что поближе, спросила:
— Чего тебе надобно, человек?
— Я послан к вашей княгине Властелином вселенной. Много дней и ночей добирался. Велите узнать, примет ли.
Одна из прислужниц бросилась к терему.
— Говоришь по-нашему, уж не из наших ли будешь? — спросила всё та же боярыня.
— Нет. Гостил здесь прежде.
— А тот, второй, что писклявый?
— Он евнух, — дината смутил неожиданный вопрос — Мой отец, великий воин, давно купил его у какого-то сирийца. Или отбил. Не знаю. Сарам служит верно и не глуп. Советуюсь с ним иногда. Я им доволен, не обижаю.
— Экий, — рассмеялась она, — похваляешься, что он советчик тебе!
Динат смутился пуще прежнего.
Вскоре его пригласили в покои. Он ушёл, шаркая сандалиями под длинной, непривычной для него рясой, а боярыни смотрели ему вслед, сочувственно шептали наперебой:
— Ещё одного принесло, беднягу, полоумного.
— Этот потолще Григория будет и моложе.
— А всё ж лицом нездоровый.
— Григорий то наш как-то сказывал, будто есть такие из этих, из ихних, что в черне ходят, которые сами себя в ямы сажают, никуда не отлучаются всю жизнь. Кузнечиков да мух наловят, насушат и выкушают. Или воды пригоршню хлебнут — вот и вся еда. А чтобы не хотелось ещё чего, железо на себя понавешают, чтоб болело и отвлекало.
— И этот, не иначе, мух наелся, сердечный, очень уж плох лицом.
Калокир же, минуя двух расступившихся юных стрельцов, вошёл наконец в большую комнату, всю увешанную коврами и метёлками душистых трав, и сразу различил княгиню среди прочих, хоть и не видел её никогда прежде.
— Привет тебе, сестра! Привет, Елена! Я донёс его через тысячи стадий, рискуя телом, но не душой! Я спешил к тебе, не жалея ног!
— Здравствуй, сказала Ольга. Поклонились и остальные. — Ты спешил ко мне, но успел заглянуть к моему сыну и даже омрачить его мимоходом. Тайны швыряешь налево-направо, говорят. Ну и ловок!
Калокир подивился: когда успела узнать? Но не выказал и тени растерянности. Напротив, продолжил с ещё большим подъёмом:
— Да пусть вспомнится тебе слово, данное Порфирородному! Снова ждёт тебя Священный Палатий! Скоро ль, узнать поручено, исполнишь обещанное?
— Жива буду, наведаюсь, может, после зимы. Так и передай в Царьграде.
Динат изобразил ликование. Даже промокнул под конец сухие глаза широким рукавом рясы якобы от избытка чувств. И, не найдя больше, чем бы ещё выразить восторг, застыл перед ней, прижимая руки к груди.
— Что Константин, дышит ещё брат мой вечный? — спросила.
— Дышит! Дышит, сестра! — А про себя добавил: — «На ладан дышит, чтоб ему…»
— Слава богу, — сказала.
Ольга была уже в годах. Статная, всё ещё крепкая, белолицая, с большими влажными миндалевидными глазами, над которыми изгибались, как крылья, тёмные и широкие брови. Длинные, с пробором от середины высокого чела волосы, помазанные душистым маслом, ниспадали на атласные одежды, вышитые, усыпанные камешками. На руках мерцали жемчужные опястья и голубыми нитями сплелись жилки под тонкой кожей. Взгляд её твёрдый.
— Сыну твоему славному, это верно, принёс тревожные вести… — начал динат.
Но она оборвала:
— Знаю. Сам-то добрался благополучно?
— Спасибо, сестра. Вот только… коня не подали к кораблю. Ноги со свитой бил, пока добирался от реки до Красного двора.
— Не беда, сказала с усмешкой. — Я в Царьграде, помню, больше твоего намаялась. Сколько стояла на приколе перед цепью Суда[17], знаешь? Я, великая княгиня. Да ты не ёрзай, обиды не затаила. Давай уж рассказывай, что там у вас нового. Всё рассказывай, подробно. Сядь.
Калокир повиновался. Полилась неторопливая беседа. Дотемна. И на другой день к вечеру позвала его, расспрашивала. И на третий.
Сытно и хмельно было Калокиру, катался как сыр в масле в теремке. И Сараму нравилось, тоже «катался», только пониже этажом.
Так прожил динат ровно семь дней на Ольгином дворе.
За семь дней с помощью пройдохи евнуха ловко и выгодно распродал весь товар, что был на кораблях. Весь, без остатка. Мёдом и воском нагрузил свои суда. Стал подумывать: не засиделся ли?
Оплитам на Горе жилось вольготно и затейливо. Кое-как приноровились объясняться с местными то запомнившимся словом, то жестом. И не подтрунивали над ними даже детишки, привыкли, не дразнили немыми. Киевские воины брали их с собой на боевые игрища и ученья, носились вместе по лугам, похвалялись друг перед другом ратным искусством. Россы всё больше и больше нравились ромеям. Динат заволновался.
Но вот на восьмой день чуть свет, едва пропели первые петухи, прискакал к Ольге с Горы дружинник, с ходу перемахнул через плетень, простучал его конь по двору так, что мигом высунулись в окна тётки.
Гонец у крыльца сложил ладони рупором и давай кричать:
— Где посол? Святослав кличет! Живо!
Скоро был Калокир у знакомого престола в Большой гриднице.
Святослав на престоле сидит туча тучей. Воеводы сидят пониже княжича, тоже хмурые. Малая дружина у стен толчётся, шепчется. Мрачные гриди, глазами сверкают, руками мечи трогают, будто рвутся куда-то, устоять не могут на месте. Где-то рядом тихонько так голосит скорбница, и не видно, где она, плакальщица, и кто на неё шикает, велит замолчать.
Калокир вошёл ягнёнком, дескать, не понимает, в чём дело. Ударил челом у престола. Краем глаза заметил загрязнённые, должно быть, дальней дорогой сапоги какого-то юноши, всклокоченного, исцарапанного, в изодранной на лесных тропах одежде.
Святослав сказал юноше в испачканных сапогах:
— Повтори всё слово в слово.
— Я Боримко, коваль из Радогоща, что в низовьях Днестра-реки, в земле уличей, — возбуждённо заговорил тот. — Только нет уже Радогоща… Нету! Воротясь домой с Пересеченского торга, мы нашли на берегу пепел и руины, мёртвых родичей и поруганные божницы. Всё разбили, пожгли, всё разграбили подлые. Ушли, но оставили трёх своих мёртвых. Тех злодеев сразил мой побратим, Улеб, сын Петри. Больше некому: он один оставался в селе с жёнками, стариками да подколением. А его самого, Улеба, не нашли. И девушек трёх, и малых ребят. Вот платье и секиры злодеев. Я привёз их сюда. Заступись, великий князь! Не прости!
На полу у ступеней престола лежала груда тряпья и секиры. Среди гридей, глядевших туда, куда указал Боримко, новой волной прокатился грозный ропот.
— Что скажешь на это, грек?
Калокир помедлил с ответом, смотрел на привезённые юношей-уличем вещи, потом произнёс со слезой в голосе:
— Что мне сказать, всё уж сказано. Несчастный отрок не обманул тебя. И привёз он одежду и оружие, сам видишь, булгарские.
— Ладно, молвил Святослав и вновь обратился к юноше: — Улебом, говоришь, звали пропавшего. Видно, был добрый молодец, коли сам уложил троих. Моего младшего брата, княжича, тоже Улебом зовут, он гостит нынче в Новгородской земле на Ильмень-озере, мой троих не уложит… А скажи-ка, храбрый Асмуд, чьи дозоры на Днестре?
— То граница светлого князя уличей, — ответил воевода.
— Куда он смотрел, о чём думал в Пересечене! Он посмел проглядеть разбой в наших землях! Как позволил поднять подлые руки на Рось! Кому?
— То были булгары, — сказал Калокир. — Они вошли в Днестр. Воля твоя, великий князь, но поверь, я спешил сюда не ради торговли. Ах, великий, сердце моё сжалось от сострадания к этому несчастному отроку. — И он устремил на Боримку жалостливый взгляд, поднеся рукав к глазам. — Бедные, бедные, горе вам вдали от княжеского щита!
А Боримко князю:
— Наши мужи все ушли, подались вверх по реке, испивши горюшка. Куда бросаться с отмщением, неведомо: кругом глухой лес да вольные поля. И нету чужого следа. Я же, господин мой великий, заступник, поспешил к тебе не с одной жалобой, я давно хочу стать под твоею рукой. Испытай, коли нужно, только возьми в дружину. Сослужу верой и правдой, не уроню щита и чести!
— Ладно, — тихо сказал Святослав, — это после.
— Одного никак не пойму, — вдруг заметил Свенельд, — почему эти трое остались лежать на пепелище? Ведь смогли же злодеи увезти с собой наших, а своих, выходит, оставили? Нет, тут что-то нечисто.
— Не успели, наверно, — сказал Калокир. — Да и, возможно, ночь была, всего не приметишь по-горячему. Воры чаще ночь выбирают.
Святослав поглядел на него, словно видел впервые, будто позабыл о его присутствии. Динат торопливо откланялся, пошёл к двери мимо расступившихся дружинников, среди которых мелькнула ушастая, безбровая физиономия Лиса. Здесь послу уже делать нечего. Всё, что нужно, содеяно.
Уже у самого порога динат расслышал, как молвил Святослав кому-то за его спиной:
— Позвать сюда тысяцкого Богдана!
— Собрать вече, князь? — спросил Претич. — Булгары не немцы какие-нибудь, тут уж потребует люд объяснения.
— Вече! Вече! — подхватили голоса.
— Нет! — вскричал Святослав. — Снаряжу гонца к Петру в Преслав. Богдана ко мне!
«Снаряжай, посылай, — молвил динат про себя, пересекая Красный двор, направляясь к выходу на Малую улицу и к Лядским воротам, за которыми ждала его прямая дорожка к берегу. — Посылай гонца, так-то лучше. Пусть он попробует туда добраться…»
Глава VIII
Улеб уже потерял счёт дням. Он уже не смотрел в щель, за которой гуляли ковыльные волны, дымили костры, шумели голоса и сиял солнцем или мерцал звёздами небосвод. Он царапал в тоске бесчувственные липкие камни, в бессильной ярости рвал на себе одежду. Порою впадал в забытье теряя счёт времени, лежал, уронив голову на руки, ждал.
И дождался.
Как-то раз послышались шаги, заскрипела крышка, откинулась. Внезапно хлынувший свет на миг ослепил его. Чьи-то руки поволокли его наружу. Он и сам торопливо выполз, встал на дрожащие ноги, стряхнул с себя чужие руки, распрямился до боли в занемевшей спине, озирался, словно не верил перемене.
Прямо перед ним и с боков — настороженные наконечники копий. Совсем рядом. Острия нацелены в него. Это были огузы из свиты усатого человека в меховой перевязи, с серебряными бляхами и подвесками, в круглом и низком, как перевёрнутая чаша, шлеме без навершия, надвинутая до бровей.
Властелин степняков восседал на прекрасном стройном коне, губы которого ещё кровоточили, бока и круп пересекали следы от бича, гибкая лебединая шея была понуро опущена, а заплетённая кем-то в косички светлая грива стелилась по траве. Усатого звали Курей. Конь под ним — Жар.
В стороне от печенегов, точно не желая смешиваться с ними, стояли неведомые люди. Они сверкали своим металлическим убранством, с дивных ребристых шлемов свисали разноцветные перья. Их длинные, украшенные пёстрыми лентами и значками копья не ровня печенежским.
Особой роскошью и горделивостью манер отличался среди них молодой, но дряблый и бледный лицом, с одним лишь коротким мечом на поясе и с заброшенным за наплечники шёлковым плащом сутулый воин. Как видим, Калокир вновь сменил рясу на одежду воина.
— Назови своё имя.
Улеб вздрогнул. К нему обратились на родном языке! Уж не ослышался ли? Может быть, это кто-нибудь из своих? Может, пришли на выручку из каких-либо дальних мест родины, где принято так одеваться? Пришли выкупить? Но нет… За своих россы спрашивают кровью. И не носят одежд как у немцев. Это чужие.
— Назови своё имя, раб!
— Кто здесь раб? — спросил Улеб.
— Твоё имя! Отвечай!
— А кто ты?
Брови дината полезли на лоб. Он завопил:
— Знаешь ли, перед кем стоишь! Ты! Раб! Отвечай, не то рассеку надвое! — И он ухватился за меч.
— Я не помню, кто я, — ответил Улеб сквозь зубы. — И не знаю, кто ты, говорящий моим языком. А меча твоего не страшусь, нет тебе пользы в убитом.
Улеб не боялся смерти, да и не ждал её от оружия этого незнакомца. Не для того берегла и кормила пленника Степь, чтобы какой-то пришелец зарубил его ни за грош. И всё-таки, опомнившись, решил зря не рисковать, дерзя рыцарю. Замолчал, будто смирился.
Калокир же монет на ветер не бросал. Хоть и вспылил, да вспомнил, что за убитого пришлось бы раскошеливаться перед Курей. Видя, что юноша опустил глаза, он отступил на шаг, выпятил губу, поморщился и не без тайного умысла пробормотал:
— Подсовывает мне полоумного. У этого дохляка, наверное, не только память отшибли, но и вытряхнули последние силёнки. Где уж такому весло толкать, едва держится…
Улеб вспыхнул. Всё ясно, этот богатый человек специально пришёл за ним, но разочаровался. Нельзя допустить, чтобы снова его затолкали в пещеру и обрекли на постылое одиночество. Уж лучше сейчас попасть к этому, чем остаться у огузов на бессмысленную погибель. А разум затмила обида на брань, и запылали щёки юного кузнеца, не стерпеть, что назвали его слабосильным.
— Я не заморыш!
Он схватил два из направленных на него копий за древка, зажав под мышками наконечники, откинулся телом, изогнулся, напрягшись, и на противоположных концах толстых и крепких копий взметнулись вверх, дрыгая ногами как лягушки, сразу два печенега. Улеб держал их на весу, а они от неожиданности верещали и все дрыгали ногами, пока не догадались выпустить копья и не шлёпнулись на землю.
Все вокруг: и огузы и чужестранцы — только ахнули. Куря позеленел от стыда за своих опозорившихся воинов, рука его потянулась к сабле, но тут же изменила направление, ловя тугой мешочек, брошенный хохочущим Калокиром.
— Беру! Беру его! — воскликнул динат. — Ещё таких давай, не поскуплюсь! — Он подал оплитам знак, и те повели Улеба, набросив на него кожаные петли, мимо оврага к берегу.
— И коня возьми! — кричал Улеб, силясь обернуться. — Длинноусый сидит на моём коне! Возьми коня! И всех наших! Выкупи-и-и!
Оплиты волокли Улеба, не обращая внимания на его отчаянные крики, не понимая их смысла. Уже далеко позади остался тот, к кому взывал юноша. Вот уж и море синеет во всю ширь. Улеб упирается, его толкают, тащат, а он всё ещё бормочет, пытаясь объясниться с конвоирами:
— Заберите всех, выкупите… сестрицу мою выкупите, люди… И коня, Жарушку, отберите у степняков… Они, как воры, схватили его, говорили «Атэ нирдэ»… Я запомнил… Куда вы меня уводите? Зачем? Ох люди!
Оплиты с Улебом исчезли за горами холмов. Проводив его взглядом, Калокир призадумался. Он расслышал то, что кричал ему Улеб. «Значит, — думал динат, — во время набега печенегам достался не только этот силач, а ещё кое-что, чего они или не успели, или не хотят мне показать».
Никого и ничто из захваченного на Днестре нельзя было оставлять здесь, вблизи Руси. Мало ли что, рассудил Калокир, вдруг сбежит кто из похищенных и всё откроет своим. Или ещё какие обстоятельства позволят Святославу добиться правды.
Палатий не простил бы послу провала. Не дай бог!.. Нет, нет, каждая живая душа, каждая вещь с Днестра, попавшая в Степь — вероятный риск. Но как это объяснить кагану, если толмача Дометиана съели рыбы, а от жестов и ужимок, как он убедился, слишком мало толку.
— Хороший у тебя конь, Чёрный князь! Заклевали б вороны… Хороший конёк, лучше твоего прежнего, — заговорил Калокир смесью из росских и элинских слов, коверкая их, как ему казалось, на печенежский лад, будто от этого они могли стать понятными степняку. — Я знаю, что его привёз Мерзя оттуда. — Динат указал рукой на север. — Я должен его забрать. Должен забрать всё, что оттуда, понимаешь?
— Э? — сказал Куря.
— Отдай, говорю, всё, что захватили. Сколько хочешь?
— Э?
— Тебе говорят, тащи всё и всех, я увезу подальше от греха!
— Э?
— Бэ! Тьфу!.. Господи, прости и огради меня! — Не переставая браниться под нос и вздыхать, динат вытащил из-за пояса новый мешочек, извлёк из него пригоршню монет, сунул их кагану, затем потянул к себе уздечку коня, давая понять, что покупает не торгуясь.
Куря соскочил с седла, упрятал золото в меховушку поглубже, засеменил к ближайшему подданному, спихнул того наземь, проворно взобрался на лохматую его лошадёнку и выжидающе уставился на дината.
Больше часа, запарившись вконец, Калокир размахивал руками и корчил рожи, чертил пальцами в воздухе немыслимые зигзаги, становился на четвереньки, изображая будто бы попавшихся на аркан домашних животных, вскакивал и, согнувшись в три погибели, медленно, волоча ноги, кружил меж камней, подражая связанным пленникам, при этом для пущей убедительности делал вид, что рвёт на себе волосы (хотя, как мы знаем, рвать-то у него почти нечего) и содрогается под воображаемой плетью, потрясал мешочками, которых, надо сказать, за его поясом было достаточно, чтобы разбудить сообразительность десятка безголовых.
Короче говоря, всеми доступными способами он старался втолковать Куре своё желание. Причём теперь он не просто поругивал себя за преждевременное избавление от переводчика, а казнился в мыслях. Теперь едва ли не скорбил по Дометиану, как по родному.
В конце концов его пантомима увенчалась успехом. То ли помогли красноречивые жесты, то ли сделали своё звонкие мешочки, так или иначе — Куря догадался, чего от него хотят.
Увидев росских полонянок, динат ахнул. Он, не раздумывая, дал кагану за них вдвое больше запрошенного. Монеты отсчитал вслепую, не в состоянии оторвать глаз от Улии, настолько его поразила её красота.
Между тем оплиты доставили Улеба на один из кораблей. На торговый, не на хеландию. Он так и не узнал о том, что Калокир выкупил и коня, и остальных пленников. Сердце юноши сжалось, и он с отчаянием думал: «Конец… разлука… Меня увезут, а они останутся, и я ничем не смогу им помочь. Никто из наших не видел, как увезли меня, никто не узнает, что со мной сталось. Сестрица моя, милая Улия, увижу ли тебя ещё? Смогу ли когда-нибудь отыскать и спасти?..»
Корабль был большой, каких ещё Улебу видеть не приходилось. Шагов двадцать пять в длину и не меньше восьми в ширину. Такой же, как и второй, покачивавшийся поодаль, и только, пожалуй, уступал размерами третьему, на котором ещё с берега он заметил отряд вооружённых воинов.
Всё чрево корабля, надстройки кормы и носа были завалены тюками и ящиками, бочками и мешками. Над складами вдоль обоих бортов тянулись дощатые помосты, поддерживаемые снизу четырёхгранными тесовыми стояками.
На этих помостах были узкие подобия скамеек, и сидели на них обнажённые люди по двое почти в каждом ряду возле круглых, обитых по краям толстой кожей отверстий в бортах. Скованные цепью люди понуро сидели, сложив руки на вытянутые внутрь вёсла.
Надсмотрщики надели железное кольцо на щиколотку Улеба, предварительно обмотав железо тряпицей, чтобы не тёрло ногу. Затем подрезали его волосы, обрили половину головы, содрали рубаху, вернее остатки рубахи, и Улеб стал похожим на остальных гребцов.
Низко над головой нависли поперечные балки, на них от носа к корме были проложены доски. Четыре толстые доски шириной в два локтя каждая. По ним кто-то прохаживался.
Свет проникал сверху и через весловые отверстия. В белёсых полосах неба парили чайки, а справа сквозь дыру была видна колышущаяся зеленоватая с пенистыми прожилками вода.
Улеб взглянул на соседа слева. Глаза неподвижного чернокожего раба были закрыты. Лоснящийся, как и всё его мускулистое тело, выпуклый лоб упирался в кисти рук, скрещённых на гладкой отполированной ими же поверхности круглой и толстой, как бревно, рукоятки весла. Время от времени он проводил языком по потрескавшимся губам, и поэтому было ясно, что он не спал.
Переведя глаза на другого, Улеб встретился с полным сочувствия и дружелюбия взглядом. Ни малейшего намёка на уныние не было на подвижном смуглом и юном лице того, кто всем своим видом явно хотел ободрить нового товарища.
Лицо это было прекрасно. Это было лицо умного, весёлого от природы, неунывающего и смелого человека, который не верил в бесконечность беды.
Улеб невольно расправил плечи. В тёмных глазах незнакомца он увидел отражение своих надежд. Он словно ощутил невидимые нити, протянувшиеся, подобно узам союзников, между ними. С его уст готов был сорваться благодарный возглас, но тот, темноглазый, предупредил его порыв, указав красноречивым взглядом на удалявшихся с плетями в руках надсмотрщиков. Разговаривать гребцам строжайше запрещалось.
Когда надсмотрщики спустились по лесенке с помоста к основанию мачты и там, прислонясь к брускам её «гнезда», уселись в тени на своих подушках среди тюков и бочек, юноша чуть слышно шепнул Улебу, ткнув себя в грудь:
— Велко.
Улеб тоже назвался шёпотом. Оба тут же, чтобы не вызвать подозрений, отвернулись в разные стороны, хотя Улебу не терпелось узнать, смогут ли они вообще понять друг друга, смогут ли обменяться ещё хоть какими-нибудь словами, кроме произнесённых имён.
Вскоре желание поговорить с Велко позабылось на время. Наверху послышались отрывистые команды. Надсмотрщики, развалившиеся было на подушках, вскочили и, задрав бороды, тоже закричали что-то. Гребцы встряхнулись, принялись торопливо высовывать вёсла наружу, за борта до тех пор, пока медные набойки не упёрлись в края отверстий.
Размахивавший плетью Одноглазый уже был там, где сходились помосты, а его напарник, оставаясь внизу, вытянул одну руку б сторону левого борта, другой же, схватив колотушку, принялся бить в литавру, задавая ритм, и гребцы по левому борту разом навалились на вёсла, корабль покачнулся и начал разворачиваться.
Улебу казалось, что стучит не литавра, а его собственное сердце. Мысленно он прощался с родиной, с отцом, с Радогощем, с сестрицей, снова и снова клялся вернуться, отомстить, спасти.
И не знал он, не ведал, что на другом корабле, обливаясь слезами, Улия тоже прощалась с родимой сторонушкой и с ним. И её увозили на чужбину, и думала она, что оставляет в Степи любимого братца.
Плыли и плыли…
Когда караван достиг маленького островка, возвышавшегося как раз против устья Дуная, все три судна причалили к безлюдному клочку суши. Одни ромейские воины отправились к реке на лёгких плотах, чтобы пополнить запасы пресной воды. Другие с луками высадились на материк пострелять дичи. Третьи просто разминались на тверди островка. Каменистые неровности островка кое-где были покрыты чахлым кустарником и обожжёнными пучками трав. Неподалёку на ровной по краям и с углублением посредине площадке смеющиеся оплиты толпились вокруг того самого бледнолицего и носатого господина, что выкупил Улеба у степняков. Писклявый старик под одобрительный гомон солдат подбрасывал короткие деревяшки, а бледнолицый господин рассекал их на лету и самодовольно косился на зрителей.
Наблюдавший всё это вместе с Улебом, Велко первым отодвинулся от отверстия и неожиданно произнёс:
— Стадо ослов. — И тут же, вздохнув, сам себе возразил: — Нет, в бою все они достойные, знаю…
Обрадовавшись славянской речи, Улеб тихо спросил:
— Ты кто?
— Я булгарин, — ответил Велко, — из Расы. А ты?
— Днестровский улич, кузнец.
— Был кузнец, — криво усмехнулся Велко. — Я тоже был чеканщиком. Потом ушёл в войско. Лучший лучник среди юнаков. Был, а теперь вот…
— Я здесь долго не задержусь, не таков я, — горячо прошептал Улеб.
— Известно, не останешься. Приплывём в Константинополь, всех, наверно, распродадут. Или на другой корабль попадём.
— Как ты попал сюда, Велко?
— Ромеи взяли в бою. Раненого. А тебя, как я понял, обменяли на наших?
Тоже взяли в бою. Подло. Но не эти, а печенеги. Потом уже продали тому носатому. Насиделся в темнице с ящерицами…
— Нет, нет, Улеб, тебя наверно, обменяли на наших. Непонятно, правда, какой в этом смысл, но обменяли.
— Почему так думаешь?
— Было тут три булгарина, их кормили досыта, держали внизу, не на вёслах, а когда стали у печенегов, их связали и увели. В столицу вашу плыли уже без них. На обратном пути снова стали у печенегов, тебя привели, а их нет. Обменяли, значит.
— Носатый дал степняку золото за меня, сам видел. — Улеб вдруг задумался, напрягая память, промолвил: — Постой-ка, Велко, погоди-ка… кажется, я припоминаю… Ну да, я заметил той ночью, когда напали, троих в лодке, связанных… и стрела вашей работы, дунайской…
— Ляг, Улеб, отдохни. Видно, совсем надорвался с непривычки, заговариваешься.
— Не в этом дело. Просто… ладно, не в этом дело. Слушай, кто этот человек? Мне кажется, он захворал.
Велко глянул на спящего негра, вздохнул и пояснил:
— Его зовут Даб. Больше ничего не знаю. Как попался, откуда, за что, неизвестно. Он не понимает нашей речи. Без тебя совсем худо приходилось; двоим толкать весло — хуже не бывает. Хороший он человек, очень сильно тоскует по воле, глаз не поднимает. А может, и болен.
— Говоришь, были в самом Киеве… Чего же ты нашим-то не крикнул? Ух, задали бы наши ромеям!
— Тсс. Тише, ты не дома.
— А если перепилить цепь? — Улеб потянулся к кольцу на щиколотке, ощупал его. — Перепилить бы, освободиться всем и ночью перебить стражу, захватить корабль.
— Чем перепилить? Если бы даже удалось, всё равно не ушли бы, военный корабль в два счёта догонит.
— Так не убегать же! Ударить! Перебить всех! Бить!
— Тише, тебе говорят. На словах всё просто. С военного корабля метнут из труб греческий огонь, только подойди — вспыхнешь и ахнуть не успеешь. И чем собираешься с ними биться? голыми руками? И я не трус, да головы не теряю. Ты меня слушай, я воин, ты нет.
— Эх, Велко, я-то подумал, что в тебя можно верить…
— Ты меня не понял, брат. Не горячись, Улеб, если хочешь свободы. Я сам только и думаю о ней. Но сейчас мы в одной цепи, её не разорвать, сам видишь. И нет лучника искусней меня.
Улеб положил руку на плечо Велко в знак признательности за дружбу. Этот добрый жест смутил юного булгарина. По его плечу, привыкшему к болезненным прикосновениям плети, прошла дрожь. И не столько добросердечность тронула Велко, сколько то, что Улеб не побоялся открыто её выразить.
Плоты с ромеями, ходившими в реку за питьевой водой, воротились. Под гнусавый сигнал буксина оплиты потянулись на корабли, прекратив шумные забавы. Остров опустел.
— Вёсла-а!
И снова всплески за бортом, глухие удары литавр, крик чаек, человеческий стон и солёный, как море, пот.
Глава IX
Прежде чем благословить Богдана в трудный путь, юный князь долго о чём-то с ним беседовал взаперти. Утром в тереме ещё не толкалась, не суетилась челядь, был слишком ранний час. Однако стоявший на страже у входа в главную княжескую горенку воин опасливо косился по сторонам, прижимая большое своё ухо к двери и прислушиваясь к тому, о чём говорили Святослав и тысяцкий. На безбровом, вытянутом, как лисья морда, лице подслушивавшего отражалась то досада, то радость в зависимости от того, достигали слова говоривших его слуха или нет.
Судя по тому, как часто прекрасная Малуша бегала за угощениями, княжич придавал разговору с Богданом особое внимание. Никто, кроме любимицы Святослава, не был допущен в покои, и это обстоятельство подчёркивало тайный характер беседы.
Как только девушка появлялась с очередным подносом или кувшином, стражник по прозвищу Лис, отпрянув от двери, принимал отрешённый вид. Но стоило ей скрыться за дверью или сбежать по лавинкам вниз, он снова весь внимание.
Малуша дверь то в последний раз прикрыла неплотно. Лис отчётливо расслышал:
— Коли разобраться, Пётр хлеб ест не отцовский, на своём сидит. Нет ему от Царьграда покоя. — Говорил Святослав в раздумье. — Ромеи, понятно, об утерянном помнят. Понятно, что и булгары землю свою утверждают. Всяк владыка для себя мыслит…
А Богдан, помолчав, заметил:
— Знаю твои думы, знаю. Хоть и всяко бывало… А и греки нам не доброхоты, княжич, нет.
Святослав ему:
— Что греки? Им персы-арапы более поперёк, от них грекам главная забота исстари. Нас же опасаются и чтят. Потому и норовят поставить над нами своего бога. Батюшка мой, хоть и ходил на греков, да после поладил, печатью скреплял с цесарем великие любы. Как не чтить им запись вручённую, Игореву. Не посягнут на нас, не посмеют. А булгары, стало быть, дерзнули.
— Да… Радогощ разорён. Грек сказал правду.
— Я хочу на Дунай идти.
— Погоди, княжич, я всё разведаю. Узнаю помыслы булгарского господаря.
— Скачи в Преслав нунь же, не медли. К осени жду. Возьми с собою мой знак. Бери-ка, повесь на шею и не снимай.
Вот за дверью раздался стук отодвигаемой лавки, послышались шаги, дверь распахнулась, и Богдан вышел на галерею, освещённую утренним светом сквозь высокие окошки. Тысяцкий ещё раз поклонился, затворил дверь и, даже не взглянув на невозмутимо застывшего стражника, стал торопливо спускаться вниз, во двор, придерживая на груди княжий знак — медвежий клык в золотой оправе на тонкой цепочке.
Лис слышал, как выводили Богдану коня, как тихо прощался он с двумя-тремя гридями, оказавшимися в эту раннюю пору на Красном дворе, как удалялся и затих конский топот.
Голова Лиса отяжелела после бессонной ночи, руки, сжимавшие копьё и щит, слегка дрожали, но он всё ещё напряжённо обдумывал своё, терпеливо дожидаясь смены.
Когда Богдан уже оставил за спиной окольные стены, ворота и мост через гроблю, по Белградской дороге пересёк Поле вне града и, миновав Близкий лес, свернул налево, на просёлочную тропу, направляясь к лежавшему за многими вёрстами между Киевом и истоками Рось-реки городищу, где в первый раз должен был сменить коня, Лис дождался отдыха и, проспав до полудня, отправился в погоню.
Лис знал, что сможет увидеть тысяцкого там, где нужно ему. Он всё рассчитал. Богдан не станет гнать коня, ибо князь велел не поднимать переполоха бешенной скачкой (коварный стражник слышал тот наказ собственными ушами), а будет двигаться хоть и расторопно, однако не привлекая к себе особого внимания.
Лис торопился. Он не задерживался даже в людных встречных погостах. Лошадь хрипела на скаку, и сам он чувствовал жажду.
Ребятишки с криками перепрыгивали через плетни, бежали в пыли, поднятой сумасшедшим всадником. Земледельцы, пропалывавшие посевные угодья, распрямляли спины и с любопытством смотрели ему вслед, прикрывая ладонями глаза от яркого солнца, уже клонившегося к горизонту.
Окрестные поля были невелики, но возделаны тщательно. Люди трудились. К ручьям овражков гнали скотину на водопой. Маленькие выбеленные жилища с плоскими крышами из дранки, сквозь которые местами просачивался дымок, жались друг к дружке на косогорах. Убогих землянок почти не видно за зеленью. Плодородна земля, и считали поляне, что жили на ней в достатке.
В дальнем лесу тропа разветвлялась. Несколько еле различимых в траве стёжек веером расходились в разные стороны. По какой из них проехал Богдан? Лис осадил разгорячённую лошадь, замешкался на распутье, тяжело дыша от возбуждения. Он растерянно кусал и облизывал пересохшие губы.
Наконец устремился вперёд наугад. Но чем больше углублялся в лес, тем сильнее охватывало его сомнение. Богдан оказался проворнее, чем предполагал догонявший. А ведь именно здесь, у Дальнего леса, рассчитывал Лис настичь княжеского гонца.
Не мог Богдан уйти далеко, и Лис принялся свистеть и прислушиваться, не отзовётся ли? Ага, вот и шорох неподалёку. Замер на месте, вглядываясь в чащу. Шумно раздвигая высокую и густую поросль, выбирался к тропинке заросший, оборванный человек.
Вид у человека был свирепый, отталкивающий. Угрюмые его глаза-угольки сверкали недобро из-под бровей. В ниспадающих на грудь и плечи всклокоченных волосьях застряли обломки коры, листья, травинки и мелкие сучья. Весь он был какой-то дикий, зловещий, точно лютый зверь. Сквозь грязные рубища проглядывало столь же грязное, изъеденное, расчёсанное до крови тело.
Лис презрительно усмехнулся, заметив топор у оборванца, однако на всякий случай всё же положил руку на рукоять своего меча.
— Кто такой? — спросил он как можно твёрже, хотя сразу догадался, что перед ним обыкновенный изверг. Один из тех, кого за какие-то тяжёлые проступки извергли из рода, вынудив жить в лесном уединении. — Отвечай княжескому дружиннику!
Оборванец молчал, злые его глаза смотрели не моргая.
— До меня только что был здесь кто? Куда он поехал? Ты видел, я знаю! Отвечай! не то!.. — Лис перебросил щит с плеча на локоть и обнажил меч. — Ну?
Изверг, невнятно мыча, отступил, прижался спиной к древесному стволу, взмахнул рукой, указывая направление.
Чтобы избавиться от него, Лис швырнул ему резану и, пока тот искал крохотную в полногтя, серебряную монету в траве, помчался, пришпорив лошадь, куда указано, пригибаясь под встречными ветвями и радуясь, что легко отделался.
Вековые деревья стояли плотными стенами по обе стороны тропинки. Лошадь часто оставляла на шершавых стволах клочки шерсти, но мчалась, напрягая последние усилия. Она была из ратного табуна.
Когда Лис наконец вырвался из лесного мрака, кругом, куда ни кинь взор, простиралась залитая светом низина. Раздольный ветер шалил в серо-зелёном безбрежье душистых трав, скользя по шелковистым шелестящим степным волнам. Солнце золотистым щитом упиралось в горизонт, опаляя огромный голубой шатёр неба.
Впереди чётко вырисовывался силуэт всадника на стройном вороном коне. То был Богдан, гонец в страну, лежащую за горами.
Тысяцкий, вероятно, напевал какую-то из бесконечно длинных народных песен, чтобы скрасить одиночество. Потому-то, вероятно, он не сразу услышал окрик скачущего за ним.
Лис окликнул снова, погромче. Услышав наконец, Богдан прекратил пение, обернулся, стал ждать.
— Ба! Откуда ты взялся? — удивлённо воскликнул он, признав того, кто ещё сегодня утром охранял своим копьём его беседу с князем. — Что случилось, Лис? Эй, ты спалил лошадёнку, вконец загнал! Кем послан? С чем?
Но Лис не ответил, с ходу проскочил мимо, устремляясь к неглубокой ложбине в стороне от дороги, и там, поровнявшись с единственным на всей равнине кустиком, рухнул в траву вместе с лошадью.
Тысяцкий спешился, подбежал к нему, тревожно вопрошая:
— Что ж ты, брат? Уж не мне ли так поспешно нёс недобрые вести? Иль приказ какой? Говори! Не беда ли стряслась?
— Успокойся, — тяжело дыша, простонал упавший, — нет беды ни в Киеве, ни в доме твоём. Дай скорее напиться, слова вымолвить не могу.
Тысяцкий протянул ему мех, помог подняться на ноги, чуток успокоенный услышанным. А тот всё глотал и глотал, жадно, ненасытно, сжимая мех дрожащими руками, и стекали капли по углам рта, шевелились в складках шеи почти невидимые, точно бесцветные колючки, волосы.
— Ничего у меня не выпытывай, — наконец молвил Лис, оторвавшись от меха. — У тебя своё дело, у меня своё. Только дело моё твоего спешнее, княжичем запечатанное. Хоть ты и тысяцкий, а не скажу. Не велено.
— Чудно мне, что на тебя выбор пал в важном деле то, коли правда!..
— Кто под руку подвернулся, тому и честь дана. Стой, не выпытывай, просил же.
— Ну и напугал ты меня, братец! — успокоившись вовсе, воскликнул Богдан. — А то было решил, что несёшь следом худое. Что ж, я в чужие дела не гляжусь. Разойдёмся, стало быть, своими путями.
— Куда мне идти, — хмуро отозвался Лис, — коли лошадь сгинула.
— Зачем гнал, глуздырь окаянный! — вдруг осерчал Богдан, даже ногой топнул. — Не впервой в седле, а гонишь как угорелый!
— Сама понесла. Испугалась, должно, лесного изверга.
— А… И я встретил ирода. Только он не разбойник, хоть и меченый. Безъязыкий. Язык то выдернули за большую ложь, я знаю.
— Что мне делать, как быть? — тихо спросил Лис с напускной грустью, оглядываясь на судорожно поводящую копытами павшую лошадь.
— Тебе куда нужно?
— Сперва к Рось-реке, а дальше — молчок.
— Ладно уж, разом доберёмся до городища. Рядом побежишь. — Богдан ободряюще потрепал Лиса за плечо. — Ступай сними своё седло, и тронем. В городище добудем тебе борзого, дорого не возьмут, держись за мою ногу, не отставай.
— Спасибо, брат. Отблагодарю с лихвой, — сказал Лис. — Только сними-ка сам моё седло, сделай милость, не могу я ей, кобылке, в глаза глянуть, сдыхающей. Подсоби, Богданушко, не сочти, что тысяцкий, а я прост. Сил нет.
Богдан сочувственно кивнул, повернулся, но не успел и шагу ступить, как тут же, полный скорее изумления, нежели боли, крик его огласил пустынную степь.
Он кричал, пятясь к кусту и пытаясь дотянуться до рукоятки клинка, вонзённого ему в спину.
— А-а-а! За что? Твоя благода-а-а… Измена! Изме… ох…
Предатель смотрел на него круглыми от страха глазами, полз на четвереньках прочь до тех пор, пока качающийся ковыль не укрыл упавшего и затихшего гонца. И тогда, выждав немного, всё ещё перебирая дрожащими ладонями и коленями по тёплой траве, Лис приблизился к убитому, быстро обшарил обагрившуюся кровью шерстяную одежду. Затем, довольный поживой и найденными письменами, оттащил бездыханное тело на дно ложбины, забросал землёй и травой.
Он повесил на шею снятый с убитого медвежий клык на золотой цепочке и бросился ловит вороного, настороженно отпрянувшего от чужой руки. Поймал, вскочил в седло, утяжелённое уже двумя притороченными к нему сумами — своей и чужой, гикнул для острастки и был таков.
Была глубокая ночь, когда Лис почувствовал запах горелого леса. Рощу, по которой осторожно ступали копыта коня, недавно выжгли дотла, чтобы будущей весной превратить в плодородное поле. В будущем здесь, на месте выкорчеванных обуглившихся пней, заколосятся хлеба на перепаханной вместе с золой земле.
Из глубины сожженой подсеки взгляд далеко проникал в пространство и мог без труда приметить мерцающие огоньки небольшою городища.
В городище жили семьи слободских воинов. Большинство воинов, как видно, гостило дома: время мирное. Часть же, должно, несла службу где-то на стыке владений поляк и клобуков.
Лис подбоченился, не спеша спустился с холма, проехал по гулкому мосточку к стене, трижды ударил в било, висевшее на крюке ворот. Из бойниц, позёвывая, выглянуло несколько стражей. Подсвечивая факелами, они равнодушно рассматривали ночного пришельца.
Лис облегчённо вздохнул. По выражению их сонных лиц он понял, что здесь никого не ждали и, следовательно, вообще не были предупреждены ни о визите княжеского гонца, ни о том, кто именно послан Святославом. Значит, и впредь опасаться нечего. Значит, не страшны ему ни ближние, ни дальние заставы, через которые ещё предстояло пройти во время многодневного следования в очень далёкую Византию, куда влекла его мечта о сказочной награде и славе. «Не оплашаю, так поспею в Царьград раньше посольских кораблей, — подумал радостно. — Ай удивится Калокирушко моей расторопности».
Тут ему сверху:
— Кто ты и что привело тебя в такую пору?
— Вот грамота великого князя! — ответил Лис, надевая краденый свиток на конец опущенного из бойницы копья. — Вот моя охранная грамота! Скорее отворите гонцу стольного града Киева! Велите, как войду, приготовить мне угощение, достойную одрину и свежего коня к утру! Да прикусите языки, братцы! Волею Святослава!
И пока стражники, с которых мигом слетели остатки дрёмы, послушно откидывали запоры, Лис неслышно и самодовольно хихикал. Как не верить в грядущий успех, если навстречу в окружении ратников уже выходил спешно вызванный местный воевода, чтобы отдать полагающиеся столичному гостю почести.
Глава X
Ветер обрывал снасти. Море швыряла корабль из стороны в сторону, и он скрипел всеми своими суставами, точно хрупкое существо в лапах свирепого чудища, норовящего переломить его кости. Страшен был шторм.
Ветер злобно хохотал, шипел, завывал, бесновался.
С трудом удерживаясь носами против волн, корабли то проваливались в бездну, то вновь вздымались. Из остывших людских глоток вырывался уже нечленораздельный хрип.
Так кошмарно прошёл день. Прошла ночь…
Улеб давно перестал их считать, дни и ночи в море. Целая вечность, казалось ему, миновала с тех пор, как ноги его в последний аз касались земли.
Порою по громким возгласам и всеобщему оживлению наверху он догадывался, что в поле зрения каравана попадали либо встречные суда, либо прибрежные селения. Тогда измученные невольники вытягивали лица, обращаясь в слух, пытаясь угадать, что именно взволновало ромеев наверху. Помыслы оторванных от внешнего мира людей тянулись туда, где что-то происходило, кто-то проплывал мимо, кто-то выбегал из жилища на откос, чтобы проводить корабли проклятием или приветствием.
Поправляя повязку, Одноглазый вскарабкался по шестовой лесенке на палубу. Только подошвы его изорвавшихся сандалий мелькнули над головами гребцов. Почуял близость дома, где и резвость взялась.
Другой надсмотрщик, оставшийся внизу, хоть и продолжал отрывисто выкрикивать команды, однако в голосе его уже не слышалось прежней суровости.
Гребцы безнаказанно галдели, ворочая головами во все стороны. Послышался даже чей-то смешок. Этот прозвучавший на помостах смех, скорее похожий на всхлипывание, ножом резанул слух Улеба.
Велко был ближе к весловому отверстию, припав к нему, он говорил:
— Вижу волноломы мандракии[18]. Вижу галеры[19].
Мы вошли в бухту. Вошли в Золотой Рог, Улеб, это конец мучениям. Или начало новым, как знать… Нет, это конец! О будь проклят путь пройденный!
Впервые за несколько недель плавания оживился и Улеб, невольно поддавшись общему настроению.
— Велко, брат, нас выпустят отсюда? Пустят на твердь?
— Да, Улеб, да.
— И не погонят снова по воде куда-нибудь?
— Не годны мы теперь на вёсла. Пока не пригодны. Да и корабль нуждается в починке. Скорее всего дадут всем отдохнуть и окрепнуть. Потом заставят чинить корабль, латать пробоины, тесать новую мачту, плести ужища.
— Заставят чинить корабль, пусть. Наладим и сами же на нём сбежим. Подговорим всех.
— Ах, Улеб, к твоей бы силушке да ещё голову…
Улеб обиделся. Кусая губы, он тщетно искал, чем бы ответить, как бы повесомее пристыдить, укорить Велко за нерешительность. Всякий раз, когда Улебу приходила на ум какая-нибудь дерзкая мысль, Велко гасил его пыл, твердя: «Не время, не место. Пойми, загибнешь без пользы».
Вероятно, разговор обернулся бы ссорой, если бы в этот момент не появился Одноглазый с двумя солдатами. Надсмотрщик приказал убрать вёсла, и гребцам, едва они исполнили это принялись остригать подросшие волосы. Слышно было, как загремели на носу и корме якорные цепи.
Невольников с выбритыми наполовину головами расковали и, притихших, сгрудившихся, повели наверх, к сходням, упиравшимся в грязно-жёлтый песок бухты, что распростёрлась у подножия возвышенного полуострова, на котором раскинулась столица Византии.
Невиданное зрелище открылось глазам Улеба. Его поразило бесчисленное множество самых различных кораблей и лодок под знаками разных стран и народов.
Весь огромный и широкий овал берега кишел пёстрыми толпами. Такое скопление народа впервые встречалось Улебу, выросшему в лесной тиши.
Хрипы, мычание, ржание тягловых животных, крики чаек, низко паривших над замусоренной водой, скрип повозок, разноязыкие голоса мужчин и женщин, блеск и великолепие одних и убогая нищета других — всё смешалось в этом столпотворении.
Устремив взгляд поверх портового хаоса, Улеб различил вдалеке мрачные очертания крепости. Толстые и высокие каменные её стены казались продолжением серого скалистого отвеса, нависшего над водой. Десятки массивных башен, сложенных из отёсанных гранитных глыб, венчали обращённую к морю стену и те, что тянулись к самому городу, растворившемуся в дымке. За стенами громадной крепости, выглядывая, словно из засады, возвышались базилики храмов, золотистые купола, железные углы крыш многоэтажных сооружений.
— Твердыня, — услышал Улеб шёпот приятеля. — Крепость власти.
— Всё у них рублено, тёсано, — растерянно проговорил Улеб, — всё обстругано, даже деревья…
— То кипарисы, — пояснил Велко, — такими растут.
Богатая земля ромеев, величественна и самодовольна столица, раскинувшаяся под сенью столбов Европы и Азии, возведённых ею же, и горда она обоими этими каменными столбами, обрамленными рощей вечнозелёных дубов, символами Священной Владычицы на меже двух частей света.
Улеб и Велко понуро стояли вместе с остальными невольниками у борта, оглядываясь на хеландию и второй торговый корабль, которые причалили поодаль.
Оплиты во всём блеске своего снаряжения и выучки двумя колоннами шествовали по бокам человека, купившего Улеба у печенегов. Юноша узнал Калокира ещё издали. Рядом с динатом семенил Сарам. Оплиты щитами оттесняли толпу, прокладывая путь своему господину.
Часть солдат, повинуясь приказу, окружила невольников и повела юс по направлению к городу, часть ушла с командиром. Калокир и Сарам замешкались на берегу.
Улеб брёл рядом с Велко, не поднимая глаз на разодетых в шелка встречных горожан, стыдясь своей наготы, своего опалённого солнцем, обветренного, изъеденного морской солью тела, смущаясь жалких лоскутов, оставшихся от штанов, едва прикрывавших бёдра, страдая от выставленной напоказ своей выбритой наполовину головы, вновь кляня тех, кто лишил его родины, отчего дома, сестры, коня, кто обрёк его на позорище перед глазеющими девами и мужами чужеземного города, по мостовым которого он неуверенно шагал отвыкшими от тверди ногами.
Улицы были запружены жителями, в городе с полумиллионным населением никому не было дела до унылой, затерявшейся, словно в потревоженном муравейнике, кучки рабов и их конвоиров.
Раскалённые солнцем каменные сооружения усиливали духоту летнего дня. Не было спасения от жары в тени многоэтажных зданий и церквей, чередовавшихся с крохотными фруктовыми садами, цветниками и скверами. Канавы под высокими двухъярусными арками акведуков Велентова водопровода, протянувшегося вдоль полуострова, источали смрад отбросов.
Женщины, прикрывая рукавами лица, подставляли кувшины под струи фонтанов. Мулы и лошади наездников, отбиваясь хвостами от мух, лениво пили из лужиц под висячими цистернами. Острые запахи снеди и перебродившего винограда исходили из раскрытых настежь дверей таверн и харчевен.
Зазывалы всевозможных ремесленных цехов старались перекричать друг друга. Нищие в венках из увядших цветов пытались перекричать зазывал. Торговцы сладостями и фруктами тоже силились быть услышанными. И над всем этим витала заунывная восточная мелодия флейты, на которой одержимо играл какой-то старец в грязно-белом хитоне, сидящий на корточках на мраморной плите перед Милием-столбом на центральной площади, от которого византийцы исчисляли мили всех дорог, ведущих из Константинополя.
— Что бы ни случилось, помни о клятве, Велко.
— Наш уговор я не забуду, Улеб. И в разлуке я буду думать только о встрече. Я верю, что мы разыщем друг друга, будем мстить разом. Но, прошу, не горячись безвременно, обживись, привыкни, научись языку их и обычаю, иначе не пробиться к волюшке.
— Как хочу я спасти Улию, вызволить из Степи! Как хочу рассчитаться с погаными! Как хочу вернуться в Радогощ!
— Подави же свой гнев до времени. Прощай.
— Прощай, брат.
На берегу динат заканчивал наставления Сараму перед тем, как отправиться в Палатий, где уже знали о прибытии пресвевта и ждали его.
— Итак, — говорил Калокир подобострастно осклабившемуся евнуху, — продашь всё, что сможешь. Всё продай. Корабли и товар. Рабов тоже. Не продешеви!
— О да, господин.
— Гляди, чтобы с умом. Русских купцов, что стоят у святого Мамы, не подпускай сюда и на шаг. Чтоб к моему возвращению на улицу Меса всё было кончено. Приготовь обед и купальню. Буду слушать пение красавицы. Ответишь головой, если заезжие руссы пронюхают о тех девах с младенцами.
— Не сомневайся, мудрейший, отдам их только нашим купцам, дальним. Увезут — как не бывало. А скажи, щедрейший, как быть с тем отроком, что с иными уведён к твоему дому?
— Тоже продать. И тоже кому-нибудь из отдалённой фемы. И вот что… пусть ему прежде отрежут язык на дворе. Так будет надёжней, нигде не проболтается. И коня его красного продай подороже. Покончу с делами и подамся в Фессалию. Устал я. Исполняй, что велю!
— Слушаюсь и повинуюсь, прекрасный.
Динат круто повернулся и двинулся прочь пешком, без охраны, вперив озабоченный, преисполненный сладкой надежды взгляд в величественные скалы, на которых возвышались крепостные стены с массивными башнями.
«Чьи песни он собирается слушать за обедом? — недоумённо думал Сарам. — Не объяснил толком. Должно быть, запросит приглянувшуюся в Палатии. Гм… ещё обзаведётся хозяйкой на свою голову. Оттуда, того и гляди, приведут ведьму капризную, со свету изживёт… То-то я заметил, как он вздыхал и за сердце хватался на хеландии. Выходит, мыслил о како-то красотке».
У Медных ворот Священного Палатия динат предъявил начальнику внешней стражи заветный медальон, однако тот не пропустил его сразу, а исчез, почтительно попросив Калокира оставаться на месте.
Трудно объяснить, почему начальник стражи поступил так. Ведь Калокир и медальон с оттиском василевса показал, и сообщил своё звание. Кто знает, в чём тут причина.
«Я разумен, предусмотрителен и осторожен, а потому спокоен», — сказал себе Калокир.
И всё же уверенности у него поубавилось. Он терпеливо стоял в тени под огромной стеной, погруженный в мысли. Конечно, обидно и оскорбительно, что воротившемуся с честью послу не устроили пышной встречи. Даже простые стражники не выказывают особого внимания. Только и всего, что отгоняют попрошаек, чумазых, оборванных калек и юродивых, которые вечно шляются у Палатия в надежде перехватить подачку какого-нибудь вельможи.
Особенно настойчиво пытался прорваться к динату всклокоченный субъект с сумкой через плечо. Он что-то кричал издали, но голос его тонул в общем шуме. Стражники Щитами или тумаками валили его в пыль, но утирая кровь и слюни, всякий раз, отбежав, чтобы, скуля, потереть ушибленные места, вновь и вновь возвращался, наровя проскочить через цепь воинов, которые, конечно же, встречали бродягу новыми тумаками и оплеухами.
Динат и бровью не повёл на эту возню. Мало ли что может кричать презренный попрошайка. И даже когда один из потерявших терпение стражников так хватил крикуна древком копья поперёк спины, что тот рухнул наземь и распластался надолго в состоянии лишь беспомощно сучит руками и ногами, Калокир остался безучастным.
Вот наконец отворилась массивная боковая калитка, и в тёмном её проёме показалась фигурка карлика в монашеском одеянии. Калокир сразу узнал монаха по имени Дроктон, что когда-то встречал его тут и сопровождал в циканистерий ненастным весенним днём.
Увидев Калокира, монах не приветствовал его обычными словами прославления Христа, а просто тряхнул островерхой скуфейкой:
— С чем воротился, долгожданный?
— Ника! — воскликнул динат, поднимая ладонь, как это делали победители с древних времён, изображая бурную радость.
— Пришедшему с победой — хвала! — без особого энтузиазма молвил Дроктон. — Следуй за мной. Тебя ждут во дворце Ормизды.
— Кадмова победа[20]… — неслышно ворчал Калокир. — Приплыл без выгоды, с убытками. Не пустой хвалы мне надо, а награды.
Монах, не оглядываясь, ступал по плитам аллеи, ведущей в глубь крепости. Дворец Ормизды находился в восточной части крепости. Рослые, закованные в броню воины с символами восточной схолы на шлемах как изваяния стояли по обе стороны входа, сложив ручищи в жёстких перчатках на рукоятях обнажённых, упирающихся в ступени лестницы мечей.
Неподалёку лежала груда оружия, оставленного теми, кто входил внутрь. Калокир тоже отстегнул и бросил парадный меч, украдкой приметив, однако, куда бросил чтобы потом не рыться, отыскивая свой среди чужих.
Монах ощупал одежду дината, после чего подтолкнул легонько вперёд, указал на дверь в полумраке коридора.
Зал, в который тупил Калокир, предназначался не для аудиенций, а для гимнастических упражнений и воинского тренажа. Толстые тюфяки, сложенные в дальнем углу в несколько слоёв, стойка с тупыми деревянными мечами, палашами и трезубцами, посеченный пол, борцовские набрюшники, висящие на крюках, и два-три гимнастических снаряда, придвинутые к стенам.
— Почему ты молчишь? — раздался голос прославленного полководца Фоки. — Подойди ближе, достойный Калокир. Что принёс, радость или огорчение?
— Разве смею я говорить первым! — начал динат, с трепетом приблизившись на несколько шагов.
— Был ты в Руссии?
— Да, я был там, и, клянусь, Святейший не ошибся в выборе пресвевта!
— Был ли в Округе Харовоя у Кури?
— Да. Печенежский каган сидит вдоль берега Понта, там и застал его. В Округе Харовоя, на границе с руссами, осели ятуки, они ладят с Киевом и не хотят подчиняться Куре. Каган в затруднении, под его рукой лишь Евксинское побережье и пороги Борисфена. Но войско его по-прежнему несметно и сила несомненна. Он готов и жаждет двинуть полчища на Киев, как только Святослав отлучится из столицы. И он, Куря, это сделает. За десять кентинариев.
— Он их получит, — изрёк Никифор Фока. — Он получит двенадцать! За поход на Киев одарил бы печенега и двенадцатью!
При упоминании о таком количестве золота Калокир заговорил с жаром:
— Я сумел убедить Святослава во враждебности булгар. Русский князь сущий дьявол, но я перехитрил его. Хотя и погубил много своих подданных во имя успеха…
— Не тревожься, услуга твоя не померкнет.
За кровь же убиенных в пути христиан господь не потребует своей епитимьи[21]…
— Слава тебе во веки веков! — воскликнул Калокир обрадованно.
— Тебе отойдут земли казнённых павликиан. Наделы выявленных еретиков станут твоими, ибо сам господь велел так поощрять верных ему, и леги[22] василевса лягут на эдикт[23] тотчас же, едва подтвердится то, о чём ты сообщил мне.
— Скоро Святослав уйдёт на Булгарию, а Куря сокрушит Киев.
— Достаточно ли убеждён ты в этом?
— О да! С помощью огузов я всё устроил. Своими ушами я слышал, как Святослав велел снарядить гонца к Петру за объяснениями, и гонец тот отбыл.
— Кто же убил гонца в Булгарии?
— Подкупленный воин из прежней свиты княгини Ольги, крещёной Еленой.
— Где доказательство?
— Оно будет. Обидную весть Святославу принесут в Киев с Дуная. Скоро воин Лис доставит доказательство сюда собственноручно.
— Одного обещания мало. — Однако, как видно, доместику пришлась по вкусу бойкая находчивость пресвевта, он улыбнулся, поднялся во весь рост и благосклонно коснулся рукой плеча Калокира. — Ты оправдал доверие.
— Благодарю тебя, светоч всего Священного Палатия! Прости мою смелость и скажи, удостоюсь ли я…
— Нет, ты не сможешь созерцать Сопровителя, он занят молитвами о продлении лет Константина Порфирородного на земле: Константин всё ещё болен. Я сам донесу до бесценных ушей Романа всё, что было сказано тобою. — И, взглянув на скляницу часов, добавил: — Ты свободен.
…Динат, хотя и чувствовал голод, однако не очень спешил покинуть Священную Обитель, доступную далеко не всякому. Шёл по главной аллее степенно, с удовольствием поглядывая по сторонам, как хозяин или по меньшей мере завсегдатай этого райского уголка столицы. Неожиданная встреча с блистательным представителем рода Фок больше чем льстила его самолюбию.
«Я держался перед ним воистину достойно, — твердил сам себе. — Устал… Уеду на время. Спать, пить и есть безмятежно. Какое блаженство! Без унижений, без ненавистных. Лежать на ковре под оливой, слушать кефару, наслаждаться танцем дивной… Русская полонянка прекрасна как утро. Благо, Куря не догадался утаить от меня жемчужину. Благословен был поход… — Но вдруг динат вздрогнул. — Господи, я, кажется, не предупредил Сарама, чтобы оставил её мне!»
Встревоженно торопясь к площади Тавра-Быка, где улица Меса, на которой стоял его дом, брала своё начало, он налетел на оборванна с потёртой сумой через плечо. На того самого упрямого крикуна, что был избит стражниками за настойчивые его попытки прорваться в числе попрашаек к динату, когда последний, как мы помним, глухой и равнодушный к возне стражи и нищих, томился в ожидании перед Палатием.
Динат хотел было пнуть наглеца, преградившего путь, но тут же, вглядевшись в бродягу, исторг из груди изумлённый возглас:
— Ты? Это ты, Лис?
— Кто же ещё, — захныкал оборванец. — Да, это я. Это я надрывал глотку. — Голос его истерично прорезался. — Я взывал к тебе! Я, оказавшийся здесь по твоей воле! Я пытался обратить на себя твоё внимание, но ты отвернулся! Нарочно? Притворялся, будто не слышишь? Я тебя звал, а меня избивали за это, как шелудивую собаку! В двух шагах от тебя! В двух шагах! Избивали!
— Но что, наконец, случилось?
Вокруг них быстро собирались любопытные горожане. Ещё бы не собираться толпе: где это видано, чтобы нищий повышал голос на богача? Где это слыхано, чтобы патрикий внимал непочтительной речи какого-то иноземца в лохмотьях?
— Говори по порядку. Идём отсюда. Собрал, глупец, полгорода. Граждане! — обратился Калокир к народу. — Граждане и рабы, разойдитесь! Это блудный брат мой! Он вернулся из паломничества! Оставьте нас!
Призыв этот возымел своё действие. Вскоре динат и Лис, которых предоставили самим себе, уединились, отойдя в тень деревьев, росших над обрывом. Лис кое-как пришёл в себя после истерики. Калокир нетерпеливо спросил:
— Ну?
— Тридцать девять дней я добирался сюда. Четыре дня ожидал тебя у ворот вашего Детинца.
— Выкладывай дело! — Динат поморщился. — Только короче. И без того утеряно время на пустую болтовню. Без обеда сегодня.
— Обед ждёт твою милость! — Лис от возмущения даже поперхнулся словами. — Ага! До меня тебе, видно, нет больше дела! Я-то хоть крошку съел? А кто меня обрёк на муки? Кто?
— Ты сошёл с ума! Отвечай, уж не упустил ли гонца в Преслав?
Лис махнул рукой, устало опустился на корточки, припал спиной к дереву, прикрыл глаза, словно погрузился в дремоту, в забытье.
— Гонца я убил. — Голос Лиса прозвучал неожиданно тихо и ровно. Под взметнувшимися веками показались опустошённые водянистые глаза. Что-то надломилось в нём окончательно.
— Всё исполнил. Заколол тысяцкого Богдана в поле за Киевом.
— За Киевом? Надо было в Булгарии! Ты что, забыл уговор? О боже, что ты содеял!..
— Иначе нельзя было. Не бойся, степные звери и костей не оставили, никто не узнает. А грамоту и свиток я выкрал, забрал с собою.
— Уф! заклевали б… Что? Не бояться? Мне? Ха-ха-ха! Сам бойся, если обнаружат. Ты бойся! Ты!
— Чего мне-то бояться после всего? Все земли прошёл, до самого Преслава доскакал, вместе с Блудом передал Петру наговор на Святослава. Все земли прошёл, все, дважды меня вязали в дороге, принимали за беглого вашего холопа. Бежал от дозоров то ваших. Много с собой вёз ценностей, монет и слитков, да отобрали, заграбили. Я, воин дружины киевской, вынужден был ноги бить на чужбине, глодать отбросы и подаяния смердов, ночевать в стогах и норах. Изорвался в клочья, побои сносил…
— Ведь при тебе был охранный знак, почему не объяснил на границе и здесь?
— Пробовал, да речи вашей, ромейской, ещё не умею сполна.
— Глупец ты, Лис, глупец! Внизу, во-он там, у святого Мамы, стоят русские купцы, всегда отыскал бы толмача среди них.
— Ну уж нет, златоустый, туда я и не гляну. Неровен час встречу кого из своих. Не ты ли сам строго наказывал сторониться?
— Верно.
— Вот я и верил, всё себя уговаривал: дождусь Калокирушку, проведёт к цесарю, получу своё, утешусь. Живой добрался, и то ладно, а обещанной награды не миновать, так?
— Своё получишь. Важно, что выкрал ты свиток и грамоту. Давай их сюда скорей.
— Нету.
— То есть?
— Нету их у меня. Совсем нету.
— Где? Где же они? — Челюсть дината отвисла, он потянулся к суме на плече понуро сидевшего на корточках Лиса. — Шутишь? Набиваешь цену? Сейчас же давай свиток и грамоту убиенного!
— Пусти суму то, порожняя. Сказано, нету. Отобрали вместе со всем, заграбили в дороге.
— Кто? Кто отобрал? — прошептал Калокир, холодея.
— Я почём знаю. Дозорные ваши.
— Где?!
— Почём я знаю. Место запамятовал. Давно то было, еле ноги унёс, и то ладно.
Калокир уставился на него, точно громом поражённый, задохнулся, не в силах вымолвить слова. Лис, казалось, дремал.
Справа от них громыхали колеса повозок, поднимавшихся к шумному городу по выдолбленным в каменистом грунте колеям. Слева внизу поблескивал синий Босфор, испещрённый пятнами парусов. Никто из прохожих не обращал внимания на странную пару, укрывшуюся под прохладной сенью дубов над обрывом.
— Обедать с тобой буду, — мечтательно бормотал Лис с закрытыми глазами. — Завтра пойдём к цесарю пораньше. Одежду мне дашь красивую, ромейскую. Когда получу свой дворец и войско, верну тебе и одежду и угощение с лихвой. — Вытянутая его физиономия так и светилась от предвкушения благ. — Ведёт время то терять, веди в дом, Калокирушко, притомился я очень. Замуравело былое, как сказывал Богдан когда-то. Идём, что ли? Расскажу за столом всё подробно, где был, что видел.
Он поднялся, кряхтя, повернулся к динату с улыбкой, но прочёл в злобном взгляде нечто такое, что заставило его содрогнуться:
— Ты чего, грек?
Лис хотел отпрыгнуть, но одеревеневшие ноги отказались повиноваться. Он хотел закричать снова, но перекошенный от ужаса рот издал лишь хриплое шипенье. Он хотел защититься, но ничего, кроме тряпичной сумы, не было под рукой. Короткий меч Калокира вошёл ему меж рёбер по рукоять, едва не задев упрятанный под лохмотьями золочёный медвежий клык, тот самый талисман Святослава, что был снят с убитого русского гонца на Белградской дороге.
Калокир уже шагал по улице Меса, торопясь домой, когда на дорогу, протянувшуюся от берега к городу мимо стен Священного Палатия, собрав последние силы, чудом выполз раненый Лис. Счастье его, что не был сброшен с обрыва брезгливым динатом. Выполз к людям из рощи.
А тем временем возле особняка в конце улицы Меса происходило необычное. Поток пешеходов с площади, вливаясь в улицу, как бы завихрялся у этого дома, словно ручей, ударившийся о препятствие. Возбуждённые горожане, толкаясь и гомоня, заглядывали через приотворенные воротца в небольшой дворик.
«Заварил Сарам торговлю на весь квартал», — раздражённо подумал динат, прибавляя шагу.
Хозяина, должно быть, увидели из окон, потому что сейчас же навстречу ему высыпало несколько слуг. Впереди, спотыкаясь и воздевая к небу тощие руки, бежал сам евнух.
— Отчего такой переполох? Почему весь этот шум возле дома? — сердито набросился на него Калокир, едва тот, запыхавшись, пал к его ногам.
— О милостивый! — жалобно запищал скопец, учащённо моргая глазками, вернее одним, поскольку второй заплыл огромным лиловым синяком. — Ты пришёл, заступник наш! Защити!
— Что за чушь? Ты пьян? Продал ли всё, как я велел? Видно, хороша выручка за мои товары, если без моего позволения устроили пиршество!
— Не брал я вина, спаситель, не брал!
— Отвечай, продал всё?
— Да, господин, да.
— Ту деву, русскую полонянку, тоже?
— Да, господин, ещё на берегу. Всех трёх вместе с младенцами. На кораблях живо управился и поспешил сюда, чтобы продать соседям оставшихся гребцов. Только хотел твоей волей отрезать язык тому отроку, но он… он, варвар… ой-ой-ой!
— Что он?
— Не дался. Других гребцов распродали тихо, а этот взбунтовался.
— Только и всего? Уж не из-за этого ли весь переполох, позорящий честь моего дома?
— Ой, — сказал Сарам.
Калокир схватился за голову.
— Боже! — вскричал он. — Я велю поджарить твои пятки, старая обезьяна! И прежде всего, гнуснейший, за то, что продал красавицу! Кому ты отдал её, лучшую из жемчужин?
— Ой, — повторил Сарам.
— Отвечай!
— Ка… ка… какому-то торговцу из Македонии. Он дал за неё тридцать солидов. Целых тридцать! Я старался. Но теперь вот отрок…
Динат ударом ноги отшвырнул евнуха так, что тот покатился, как щенок, визжа и стеная, на других онемевших и переминавшихся в растерянности слуг.
— Дармоеды! — лютовал динат, устремляясь к дворику сквозь расступившихся зевак. — Испугались юнца! Обленились, трусы!
Однако, очутившись по ту сторону ворот, он осёкся, обвёл очумелым взглядом дворик, в котором царил невообразимый хаос, будто недавно пронеслась и разметала всё буря, оставив после себя настоящий погром, за его спиной сгрудились те, кто следом вошёл с улицы. Представшее перед Калокиром смахивало на головоломку, на картину-загадку, какую снабжают надписью: «Что тут неправильно нарисовано?»
Невольно попятившись, он ухватился за рукав возвышающегося над всеми незнакомого бородача, статного и ухмыляющегося, как видно, случайно забредшего на шум.
Не обращая внимания на Калокира, мужчина этот в отличие от прочих не галдел, не суетился, а спокойно и пристально наблюдал за происходящим. И одет он был не так, как остальные: необычного покроя кожаную рубаху, просторную, с глубоким вырезом, из которого выглядывали ключицы и мышцы могучей груди, опоясывал широкий плетённый из бечёвок набрюшник. Кудрявую крупную голову, посаженную на толстую жилистую шею, венчал белый колпак с белым гусиным пером. Стоял мужчина крепко, как монумент, расставив ноги и заложив растопыренные пальцы сильных рук за набрюшник.
— Связать! Вырвать язык! — вдруг, очнувшись, завопил динат, нервно простирая указующий перст на сторону низкой крыши пристройки в глубине двора, на которой тяжело дышащий, полуголый, побелевший от ярости, напряжённо изогнувшись, стоял Улеб.
Левая рука юноши судорожно сжимала кривой держак, прикреплённый к толстому и прочному, как щит, черепку, оставшемуся от какой-то разбитой посудины. Правая стиснута в кулак. Посреди двора перед пристройкой на взрытой и захламлённой площадке ползали или неподвижно распластались стонущие люди из окружения дината.
— Схватить! Взять его!
Словно отрезвлённые приходом хозяина, голос которого придал смелости домочадцам, сразу четверо отделились от толпы. По одному они вскарабкались на крышу. Улеб ринулся навстречу, отразил черепком удары нападавших и обрушил на их челюсти и скулы свой мелькающий кулак. Трое бесчувственными мешками свалились с крыши и ахнуть не успели, четвёртый отступил сам, едва не сломав шею в панике.
— Вперёд! Взять!
Лишь камни градом застучали по черепку, которым Улеб прикрыл голову, и по доскам пристройки. Никто не хотел рисковать.
— Трусливые мыши!
— Может, сбегать на площадь за патрулём? — раздался писк Сарама откуда-то из-под земли.
— Позорить меня на всю столицу! Этого ещё не хватало! Заячьи души! Дармоеды! Разбежались от одного безоружного тавроскифа! Придётся мне показать вам, как расправляются со строптивыми язычниками истинные мужи империи!
С этими словами Калокир звонко обнажил меч. Но внезапно его резко остановил незнакомец в кожаной рубахе и с белым колпаком.
— Не пристало достойному патрикию идти с мечом против голого кулака, — прогремел он, пощипывая курчавую бородку. — Нельзя рубить безоружного удальца, нельзя. Этому мальчику нет цены, разве ты не видишь? Какая находка!..
Окинув удивлённым взглядом атлетическую фигуру непрошеного заступника, динат запальчиво огрызнулся:
— Кто вмешивается в чужие дела на чужом дворе? Кто ты такой?
— Сам раб — врождённый боец. Мне нравится его твёрдая рука, уступи его мне. Назови любую цену.
— Нет, он должен понести кару за непослушание, за увечья моих людей.
— Твои люди не стоят твоей светлой милости и забот. Даю пятьдесят златников за юного скифа — и по рукам.
Калокир мгновенно остыл, услыхав названную цену. Невиданную цену предложил ему рослый незнакомец за раба, которому полагались пытки и казнь. Пятьдесят златников — цена троим.
— Будь по твоему. Но добавь ещё десять за причинённый бунтовщиком ущерб.
— Согласен, — кивнул незнакомец. Он подозвал своего прислужника, приземистого крепыша в синем хитоне, велел отсчитать шестьдесят монет, что тот и проделал весьма расторопно.
Завершив сделку, могучий атлет в кожаной одежде сделал несколько шагов к пристройке и, заметив, как насторожился и напрягся Улеб, следивший за ним, остановился и весело рассмеялся. Его позабавило, очень позабавило то, что юноша, как видно, не собирался покориться даже ему, гиганту.
— Ой боюсь, ой страшно, — притворно всхлипнул великан и нарочно затрясся всей тушей так, что перезвон побрякушек его набрюшника услыхали, наверно, и на площади Константина. Народ покатился от хохота.
— Скажи ему, чтобы спустился, — сквозь смех попросил дината незнакомец. — Скажи, со мной шутить не стоит.
Калокир обратился к Улебу по-росски:
— Немедленно слазь и следуй за этим человеком. Он не причинит тебе вреда.
— Меня хотят сделать немым, — отозвался юноша, — но я скорее обниму Нию[24], чем дамся на поругание.
— Не смей на священной земле упоминать свою языческую богиню смерти, безумный! Благо, что ушам праведных христиан недоступна скверна твоих речей.
— Не верю тебе, коварный грек!
— Овца заблудшая, тебе говорят, отныне ты принадлежишь… — продолжил было Калокир, но, запнувшись, обернулся к великану в кожаной одежде с вопросом: — Кто ты? Я так и не узнал твоего имени.
— Я Анит Непобедимый, наставник школы кулачных бойцов ипподрома. Скажи ему, что он принят в мою палестру. И ещё скажи, его упрямство может плохо для него кончиться. Я теряю терпение.
Калокир охотно перевёл Улебу эти слова, после чего ушёл в дом, не желая больше думать ни о чём, кроме еды и сна.
Но Улеб не повиновался.
Под всеобщие возгласы Анит, подпрыгнув, сдёрнул Улеба за ноги, тот даже не успел среагировать, настолько стремительно и неожиданно ловко для своей внушительной комплекции проделал это отлёт.
Оказавшись на земле, Улеб, потеряв остатки благоразумия, принялся беспорядочно осыпать смеющегося великана ударами.
Ощутив их, Непобедимый понял, что тут не до смеха. Он спешно принял бойцовскую стойку, и ему пришлось изрядно повозиться с изнурённым вконец, полуголодным рабом, прежде чем удалось защёлкнуть с помощью добровольцев невольничье кольцо на взмокшей его шее.
Отдышавшись и приведя себя в порядок после потасовки, Анит не сводил с Улеба восхищенного взгляда, шептал:
— Какая удача!.. Он добудет мне новую славу на арене.
Сказание второе ЛИКИ ВО ТЬМЕ
Глава XI
Словно старцы, седые и древние, поют бессмертную сказку траве и деревьям, долинам и взгорьям, теремам и пещерам той страны, что дивной птицей из дедовских легенд распростёрла крылья на меже двух миров, и одним то крылом достаёт чудо-птица до холодного края земли, а другим — до тёплого её пояса.
Человек приходит и уходит, а люди вечны. Так вечна и мать-земля, на которой, подобно людским поколениям, сменяют друг друга в бесконечном своём круженье и годы, и времена их.
И давно и недавно поблекли скошенные хлеба, и отшумели дожди в берёзовых рощах, и отсверкали белизной снежные сугробы, и льды ушли, обнажив реки. Снова стало солнышко ласковым, добрым над пробуждённой от зимней спячки природой.
В прохладной глубине росских лесов, на дне овражков и ложбин, затаённых буреломами, ещё сохранились редкие лепёшки ноздреватого талого снега. А в открытых полях предгородни тепло. Босоногие подростки с игрушечными луками, трещётками и колотушками будут прилежно гонять птиц, пока зёрна не дадут окрепших всходов.
Но вот сейчас малолетние вихрастые защитники посевов, позабыв о своих колотушках и трещётках, вглядывались в даль, прикрывая глаза ладонями. Что привлекло их внимание?
Легко держась в сёдлах резвых скакунов, мчались двое. Они неслись во весь дух, словно наперегонки, выскочив из леса и устремляясь по Белградской дороге к видевшимся луковкам Киевских теремов, призывно поблескивавшим на Горе под лучами весеннего солнца.
Один из верховых был здешним дозорным воином, о чём без труда мог догадаться всякий встречный, стоило лишь взглянуть на его снаряжение.
Чуть откинувшись назад, мерно покачиваясь в такт коню, он держал поводья вытянутой правой рукой, Левая рука придерживала длинное копьё на плече. На конце копья пониже острия болтался жгут сухой соломы, который обычно зажигался в момент опасности, если сам дозорный, обнаруживший её, находился в отдалении от главной сигнальной вышки. Звали воина Иванко.
Другой нездешний. Это так же безошибочно определяли все, кто попадался навстречу.
Внешность чужестранца была благообразна: прямой нос, изящно очерченные лоб и подбородок, румяные щёки, брови вразлёт над густыми ресницами, стан гибкий и тонкий. Пригнувшись к холке коня так, что заячья шапка едва удерживалась на голове, он вприщурку поглядывал на сопровождавшего. На нём тоже была кольчуга, но железная её ткань пряталась под пригрязненной одеждой, сшитой, подобно шапке, из заячьих шкурок серым мехом наружу. У левого бедра сверкало широкое лезвие булгарского кривака без ножен. Имя этому юнаку — Блуд. Таково его настоящее имя, не вымышленное.
Оба, не сбавляя прыти, проскочили в распахнутые городские ворота, опрокинув лоток с горшками какого-то незадачливого скудельника, устремились вверх по длинной и шумной Малой улице.
— Дорогу! Сторонись! — выкрикивал Иванко.
Люди выбегали из лавок, высовывались из окон.
Эхо стучащих по брусчатке копыт россыпью металось между пёстрыми стенами жилых построек, сжимавших проезжую часть улицы, которую бороздили мутные, исходящие паром ручейки.
Молоденькие работницы на Красном дворе стайкой высыпали поглазеть на пригожего булгарина, который почему-то, к их разочарованию, держался отчуждённо. Даже гриди подошли поближе, всех обуяло любопытство.
— Где князь?
— Княжич где?
— С утра подался к матушке в Угорьское. Нездорова Ольга, — отвечали.
И снова помчались Иванко с Блудом, теперь уже с Горы к берегу через гать на болоте, через людный торговый край Подолья, вдоль Почайны, затем вдоль буро-синего Днепра-Славуты вниз, туда, где виднелся на лесистых кручах курган Аскольдовой могилы, к сельцу Угорьскому.
— Княжи-и-ич!
— Тихо! В чём дело?
Из окошка, свесившись наружу до пояса, выглянул Святослав. Брови грозно нахмурены, ветер буйно трепал русый локон волос на бритой его голове.
— Привет тебе, великий! — задрав подбородок, вскричал Иванко. — К тебе, красно солнышко, пожаловал булгарский вестник! Мне передали его у Родняграда, и я вот поспешил с ним сюда!
— Поднимитесь немедля. Оба, — строго приказал княжич. — Расшумелись, окаянные, тут вам не кружало, а матушкин двор. Нездорова она…
В большой горнице, занимавшей добрую половину второго этажа, народу было мало. Святослав, великая княгиня, воевода Асмуд да четверо стражей. Посреди горницы стоял низкий округлый стол под белоснежной скатёркой, на столе ничего, кроме кубка с лечебным зельем волхвов — крепкая ромашковая настойка — и незажжённой свечи. Бревенчатые стены увешаны рушниками и дощечками с набойной мозаикой.
Ольга, осунувшаяся, с воспалёнными глазами, закутанная в точно такой же пуховой платок, какие на боярынях при дворе, сидела в высоком кресле лицом к двери. Было ясно, что болезнь подтачивала её изнутри, причиняла страдания, однако осанка и взгляд этой славившейся твёрдым характером женщины говорили о том, что не сдавалась недугу, терпела боль и даже силилась улыбаться сыну.
Княжич, в просторной рубахе, ремешок с кистями, в мягких красных сапожках на собольем меху, сидел на скамье у раскрытого окна, скрестив на груди руки.
За окном виднелись облепленные грачами ветки огромного клёна, луг и кусок просёлочной дороги, по которой ползали, точно жуки, крестьянские телеги.
На краю этой же скамьи, почти в самом углу горницы, расставив мощные ноги в толстокожих сапожищах, восседал косматый Асмуд. Грудь воеводы прикрывали две толстые выпуклые стальные пластины, ремни которых были стянуты узлами на спине. Старый вояка сидел не на голой скамье, а на сложенной в несколько раз грубошёрстной подстилке, по-видимому, служившей ему и плащем. Ножны меча упирались в ковёр между ступнями, ручищи сложены на рукоять, на ручищах квадратный щетинистый подбородок, исподлобья пронизывающий взгляд тёмных слезящихся и припухлых глаз. Дышит Асмуд с хрипотой, в ухе подрагивает серебряная серьга.
У дальней стены стояли стражники. Когда с поклонами ступили через порог Иванко с Блудом, трое стражников стали перед дверью, четвёртый — между Ольгой и Святославом, чуть отступив назад.
Блуд снял шапку.
Святослав поглядел, подождал немного, да и обратился не к нему, а к дозорному:
— Ну, Иванко, кто он, как звать, с чем явился?
— Мне не сказывал, княжич, хотел тебя видеть, вот.
Тут шагнул Блуд вперёд, откашлялся, губы облизал и молвил, вскинув густые ресницы:
— Я булгарин Милчо из Карвуны. Послан к тебе, великий князь россов, царём Булгарии, чтобы выразить его недовольство твоими действиями и предупредить, чтобы впредь внимательнее относился к выбору тех, кого отправляешь в Преслав. Твой гонец, нечестивый Богдан, оскорбил Петра, посадника божьего, и за это поплатился жизнью.
Он сказал это внятно, с поднятой головой, стройный и благообразный, с лицом красивым, как у девушки. Наступила мёртвая тишина. Лишь внизу, за окном, гомонили людские голоса да трещали грачи на клёне. Ни один мускул не дрогнул на суровом лице Святослава. Он произнёс:
— Я слышал каждое твоё слово. Но у меня есть сведения, что мой славный тысяцкий не добрался до Преслава. Его там не видели. Что ответишь на это?
— Сведения твои неверны. Он был там, там же и остался навеки за неслыханно дерзкий язык свой. А в доказательство вот тебе обратно твои свиток и грамота, что были привезены к нам нечестивым Богданом. — И Блуд вынул их из сумы, положил на стол. На свитке печать Петра.
— Что ж, выходит, твоя правда, хотя не вижу ещё и знака… охранный мой знак, клык золотой на цепи. — Алые пятна проступили на лбу и щеках князя, он продолжал: — Правда и то, что мой человек не мог оскорбить твоего повелителя. Значит, убит вами. Я ждал его осень, ждал зиму, весну. Однако… ты смел, очень смел, Милчо из Карвуны.
— Вестнику нечего опасаться, вестник неприкосновенен, — заявил Блуд.
— Так, — сказал Святослав, — неприкосновенен. Как и Богдан.
Дрогнул Блуд.
— Твоя справедливость известна. Ты всегда соблюдал закон. Я царский посланец, я ни при чём. Передал тебе, что велено. Никого и словом не обидел.
— Не ты ли разбойно жёг и грабил наш Радогощ?
— Нет, я там не был, — сказал Блуд. — За содеянное царским указом я не ответчик. Бог царю судья.
Поднялся Святослав, зашагал из угла в угол. Стражники следили за ним, ворочая головами, ждали его приказания.
С дальних лугов пахнул тёплый ветер, стукнула ставенька, покачнулись за окошком ветки, с которых шумно сорвалась стая грачей. Где-то заржала выскочившая за ограду лошадь, послышался смех и топот дружинников, бросившихся её ловить. Асмуд с места хмуро покосился за окно, обронил слово невзначай:
— Засиделись богатыри на муравушке, на оружии плесень.
Святослав внезапно остановился перед матерью, спросил, касаясь ладонью её увядшей руки:
— Благословишь?
— Слаба я, дитятко. Сиди в Киеве.
— Как же, матушка, усидеть. Не усидчивый я, весь в тебя.
— Сложишь голову, неугомонный. Мать пощади, не ходи на Дунай. Не сердце твоё — камень.
— Благослови! Я верю, волхвы тебя поднимут, матушка! Благослови, великая! Во славу оружия благослови! Дай, мудрая, взять с обидчиков кровную виру[25]!
— Да, — сказала Ольга. — Но обещай сидеть со мною, пока не окрепну.
Зашевелились воины-стражи, позвякивают кольчугой. Святослав с колена вскочил, воевода медведем кинулся к нему с лавки, сгрёб в объятие. Позабыли про лжебулгарина. А он покашлял в кулак, мол, делать здесь больше нечего.
— Ага, — пробасил Асмуд, указывая глазами на переминавшегося с ноги на ногу Блуда, — этого тут порешить, княжич, или вывести?
— Ни один волос не падёт с его головы, — сказал Святослав. Он ушёл в самый дальний угол горницы, взял с полки глиняный пузырёк с краской, стерженёк для письма и ленту, повернулся к столу, развернул свиток, тот самый, свиток, который побывал уже в стольких руках, и быстро, размашисто начертал что-то через всю его чистую сторону, свернул вновь и лентой перевязал. А воевода тут как тут, уж и свечку зажёг, повернул пламенем вниз, капнул воск на перевязь свитка. Князь перстень приложил — готово.
— Вот тебе, Милчо из Карвуны, моё новое послание твоему Царю. Отдай Петру, как достигнешь Преслава. Он хотел этого. — И, обернувшись к воеводе, добавил: — Ты, Асмуд, иди с ним. Скажи, чтобы дали провожатых да осёдланный табун, коли хочет. Пусть летит обратно без задержки тем же путём, каким прибыл.
Святослав приблизился к окну и стоял там, погруженный в раздумье. Он проследил, как Блуд пересёк двор, затем перевёл взгляд на луга поверх тёмной далёкой щетинки леса, над которым простиралась чистая синева неба. Неотрывно глядел князь на запад. Невесело.
А за Киевом, уже далеко-далеко, в лесных придорожных дебрях довольный собою Блуд решился взглянуть На Святославову запись. Придержал коня, приотстал от Иванки, сломил украдкой печать, быстро свиток развернул и увидел знакомые многим слова «Хочу на вас идти».
Рассмеялся, ибо не видеть булгарам того свитка.
Погребальный звон стоял над Византией. Вознеслась в небесное царство душа почившего императора Константина Порфирородного. Умер бессмертный.
Стоял перезвон, оглушал, сотрясал столицу и окрестности. Плотно закрыты все окна и двери, кроме церковных и храмовых. Тучи вспугнутых звонницами воробьёв суматошно взмыли над куполами, над верхушками кипарисов и обелисков, над запруженными народом улицами и площадями.
Покорный закону и любопытству, высыпал народ из домов. Все вышли до единого. Те, кого не вместили храмы, предавались всеобщей молитве под открытым небом. И хоть не всех опечалил тот день 959 года, но каждый старательно выражал скорбь. И на всех больших улицах и площадях видели в тот день священную колесницу с мраморным саркофагом.
Процессия змеем выползла из Палатия и растянулась по городу. Подданные усопшего владыки расступались, жались к стенам, очищая последний его земной путь.
Впереди процессии, кружась и завывая, брели глашатаи. Потом показывался сам патриарх Полиевкт в хрустящей от золота ризе, несущий в одной руке скромный крест, в другой — жемчужную диадему василевсов. Мальчики в белых балахонах, должно быть, олицетворявшие собою кротость и духовную чистоту, семенили за патриархом, послушно воздев к небесам замлевшие рученки. Сзади них в полусотне шагов шли с опущенными головами могучие телохранители Константина в широких перевязях из пятнистых гепардовых шкур.
Приутихшая толпа смотрела на усыпанную цветами колесницу Порфирородного, которую тащили за длинные кожаные лямки избранные военачальники Их имена горожане нашёптывали друг другу.
— Справа Афанасий Громоподобный, я узнал его.
— А это кто?
— Который?
— Тот, что выпрямился, смотрит поверх голов.
— Сам доместик Востока Никифор Фока. Грех тебе.
— И ещё один из рода Фок, Вукол.
— Смотрите, смотрите! Роман! Боже, я узрел черты Августейшего!..
— Посмотри лучше, как его августейшая красотка пялит бесстыжие свои глаза на воителя Никифора Фоку.
— Осквернительница супружеского ложа.
— Отсохнет язык твой, богохульник!
Горожанин, осмелившийся, перешёптываясь с соседом, непочтительно отозваться о василиссе[26], вероятно, относился к числу тех, кто не мог простить владыке, что он в своё время вопреки воле покойного отца взял в жёны дочь простого владельца харчевни с улицы Брадобреев.
Да, василисса Феофано ещё недавно босоногой девченкой с именем Анастасия продавала фрукты, бегая с корзинкой между столами известной всему Константинополю таверны «Три дурака», принадлежавшей её отцу. Слух о её необычайной красоте и звонком, как серебряный колокольчик, голоске достиг ушей Романа, он приказал доставить певунью в Палатий, из которого она уже не вернулась на улицу Брадобреев. Стала у трона. О её тайных встречах с Никифором Фокой не знал только муж её, василевс Роман…
Отец её тоже почил в лаврах. А новый хозяин «Трёх дураков», сказывали, с утра до ночи гоняет своих дочек фруктами по знаменитой харчевне, надеясь на такое же чудо в своей судьбе, какое выпало предшественнику. Обе дочки нового владельца весёлого заведения, Митра и Кифа, по слухам, внешностью не уступают счастливице Феофано, особенно младшая, Кифа, да разве повториться чуду?
История торговки Феофано, взошедшей на ступени храма святого Стефана во дворце Дафны, где бракосочетались императоры, стала притчей во языцех и, пожалуй, достойна более подробного описания, однако сейчас не это сейчас не это интересно для нас.
Траурное шествие завершали музыканты и воины. Печальные звуки греческих флейт-сиринксов, свирелей, фракийских гайд и арабских скрипок заглушались топотом солдат. Развевались боевые знамёна — свидетели былых побед.
Затем взору присутствующих открылась ужасающая, отталкивающая картина. Люди пятились, содрогались. Женщины испуганно прижимали к себе детей, мужчины хмурились, глядя на толпу наёмных плакальщиц.
Несколько сотен старух обрывали на себе волосы и одежды, царапали тела и лица. Ползущие на коленях, они сотрясали воздух воплями и рыданиями. Жутко было наблюдать, как ползут они, точно кишащая в пыли масса безногих калек в грязных лохмотьях. Фальшивое исступление несчастных существ страшно омерзительно, как и сама их профессия, как и сам ритуал, требующий самоистязания за плату.
Днями позже эти же самые старухи заполнили эти же самые улицы. Только теперь уже они ползли на коленях, стеная, а, напротив, довольно бойко ступали, принаряженные кем-то из придворных распорядителей в пёстрые дешёвые накидки, нестройно тянули заздравную песнь, изображали радость и ликование. И геральды-глашатаи, отгонявшие их, громко трубили весть о начале благословенного и нераздельного правления Романа, продолжателя Македонской династии. И церковный перезвон был оживлённым, лёгким, и музыка на площадях игрива.
Поскольку Христос руками патриарха Полиевкта возложил венец на голову Романа II, жители Константинополя принялись настраиваться на грандиозный праздник. Со всех сторон фемы сгоняли на убой скот, везли клетки с птицей, горы съедобной зелени, восточные сладости и прочие лакомства. Варили вино, разукрашивали постройки. Съезжались издалека желающие попытать удачи на праздничных состязаниях. Скрипели колеса фургонов бродячих актёров, стучали копыта коней искателей приключений. Служители ипподрома готовились к встрече гостей.
А пока на Марсовом поле Евдома, расположенного за городской чертой, близ порта, и представлявшего собой несколько окольцованных садами дворцов, великолепные газоны и Трибунал, где обычно совершались торжества, выходы императора, особые богослужения, Воинские ристалища или иные развлечения царствующего двора, состоялись провозглашение повелителя Ойкумены и воинский парад. Отсюда были посланы гонцы во все доступные страны с приглашением на грядущее празднество.
Там же, в Евдоме, а точнее в белоколонной ротонде посреди благо ухающего сада, произошла сцена, не лишённая для нас интереса.
Слегка утомлённый событиями последних дней, уединился Роман под сенью цветущих деревьев погожим тёплым вечером.
Отослав свиту, он долго полулежал на мраморной скамье ротонды. Уткнул локоть в подушку, подпёр ладонью щёку, глядел задумчиво вдоль сиреневой аллеи на огни лежащего внизу порта. Мерцающие отблески костров, у которых, он знал, грелись или готовили ужин люди, приплывшие из разных концов света, трепетно отражались в воде, словно множество светящихся, извивающихся, присосавшихся к берегу пиявок.
Ничто не нарушало покой Божественного. Разве только вкрадчиво звякнет в тиши броня на каком-нибудь из сомлевших от неподвижности телохранителей, что стояли, невидимые, где-то по сторонам, да глухо донесётся волна отдалённого гулянья. В густой синеве воздуха витали успокаивающие, убаюкивающие, как журчание нежных струн, трели цикад. Нет-нет да и вздохнёт неподалёку уснувший павлин.
На редкость был чист и приятен вечер. Взор лежащего наедине с мыслями василевса, казалось, проникал в бесконечность пространства, и отчётливо виделось ему желтоватое зарево по ту сторону Великого пролива. То светился на противоположном берегу Босфора городок Халкедон — ворота Азии.
Роман хлопнул в ладоши. В проёме аллеи тотчас возник силуэт воина.
— Логофета дрома ко мне.
Силуэт безмолвно исчез. Василевс неотрывно глядел на огни за Босфором, поглаживая пальцами холодный мрамор колонны.
В сопровождении двух слуг, держащих в вытянутых руках пылающие факелы, логофет предстал перед повелителем.
— Никифор вернулся в Халкедон?
— Он ещё здесь, — ответил логофет. — Обожаемый, как ты велел, мы не спускали с него глаз. Его поступки не дали пищу подозрениям.
— Поступки?
Отблески факелов плясали на лоснящихся щеках логофета, и этого казалось, будто он беззвучно смеялся. На самом же деле ему было не до смеха. Необычный вызов застал его врасплох на пиру. Он изо всех сил старался удерживаться на ногах твёрдо, и это ему удавалось с большим трудом, ибо крепко вино в евдомских подземельях.
Заметив его состояние, Роман не разгневался, поскольку грешно сердиться на подданных, пирующих в твою честь, тем более что и сам он любил приложиться к чаше.
— Я жду, сказал Роман мягче, усмехнулся, — можешь сесть. — И милостиво кинул тому под ноги одну из своих подушек. Уселся сам.
— О Лучезарный! Не смею! Не достоин! — воскликнул логофет, но всё же охотно опустился на подушку и даже потратил изрядную толику энергии на то, чтобы скрестить под собой ноги.
— Говори.
— Вчера, моё Солнце, ни он, ни его племянник Варда после проводов вознёсшегося отца твоего не отлучались из Палатия.
— Что делал Фока?
— В его покои не удалось проникнуть даже карлику Дроктону. Ормизда охраняется его людьми. — А сегодня?
— Сегодня в полдень он посетил ипподром. Конюшни.
— С кем встречался, с кем говорил там?
— Ни с кем. Там он не задержался. Зато удостоил особым вниманием палестру Анита Непобедимого. Долго беседовал с Анитом как с равным.
— О чём?
— Эта их встреча, в сущности, была повторением прошлых. Общеизвестна страсть Фоки к школе кулачных бойцов. Разве пристойно подобное общение с низшими?
— Посещение клоаки не делает ему чести, — изрёк Роман, — но это не запрещено. О чём же шла речь у них?
— Анит похвалялся учениками. Особенно каким-то юнцом, которого приобрёл у того самого дината, что плавал в Руссию. По словам Непобедимого, раб обучился всем тонкостям кулачного боя всего за год. Анит во всеуслышанье пророчит ему величайшую славу.
— Славу рабу?
— Да, да, во всеуслышанье.
— И что же Фока?
— Доместик потребовал показного боя тут же, на малой арене палестры. А раб заупрямился. Никифор Фока разгневался, его свита изрубила бы юнца на куски, если бы Анит не умолил пощадить упрямца, намекнув, что ты, Божественный, можешь осудить самоуправство азиатов в твоей столичной школе. С тем Фока и ушёл.
— Раба-смутьяна, конечно, четвертовали потом?
— Нет. Анит ведь намерен выставить его на зрелище в твою честь.
— И то верно. Поглядим, что за невидаль откопал Непобедимый. Наказать всегда успеется. Раб кто?
— Тавроскиф. Совсем молод. На редкость ловок и силён. За право поставить на его плече своё клеймо Анит отдал динату шестьдесят златников, нарёк Твёрдой Рукой и бережёт как сына.
— Пусть же выставит его против ставленника Фоки, когда вознесусь на кафизму[27] ипподрома. Всё равно кто будет биться с азиатом, лишь бы взял верх во славу мою и честь столицы.
Внизу постепенно угасали портовые костры. В бледном лунном свете скользили рыбацкие моноксилы. Между лохматыми контурами деревьев метались летучие мыши. Ветерок уже не приносил глухие голоса пирующих со стороны дворцов, шелестел неокрепшей листвой, и на молочно-белых колоннах ротонды мельтешили тени ветвей.
Словно угадав мысли василевса, логофет сказал:
— Завтра Никифор Фока будет уже по ту сторону пролива и не покажется здесь до самого празднества.
— Фока — надёжный щит от арабов, — молвил Роман. — Пусть будет покой в Азии. Но сейчас ему нужно думать и о руссах с булгарами.
— Скоро, скоро ты, Наилучший, увидишь желанное.
Кивнул василевс, поднялся, величественно зашагал прочь. Мгновенно, как по команде, вынырнули из тьмы недремлющие телохранители, окружили его, плотно сомкнули щиты, двинулись, громыхая, и вспыхнул лунный свет в ребристых шлемах, кольчугах и панцирях. Запылало сразу множество светильников.
У Большого дворца Евдома кольцо легионеров разомкнулось, торжественно и благоговейно пропуская властелина на широкую лестницу, усыпанную блестками и душистыми ночными травами, что согласно поверью способствуют приятным сновидениям. Развернув строй, солдаты застыли по обе стороны входа.
Прежде чем войти внутрь, Роман задержался на верхней ступени, повернул лик на восток, будто силился разглядеть что-то в звёздной мгле. Безмолвный, недвижимый, красивый, в длинных белых одеждах, пересыпанных мерцающими драгоценностями, он стоял и слепо вглядывался в пространство, туда, где лежали скрытые ночью и неохватными расстояниями иные страны.
И вдруг ахнула стража. Василевс испуганно замахал руками как крыльями, отбиваясь от летучих мышей, неожиданно посыпавшихся из темноты на белый шёлк его хитона, вскрикнул и исчез в чреве дворца.
— Дурное предзнаменование… — зевая во весь рот, прошептал логофет.
Глава XII
Ни одно заметное событие в жизни империи не обходилось без ипподрома. И, поскольку в истории Византии события чередовались с калейдоскопической быстротой, ипподром Константинополя почти никогда не пустовал с тех незапамятных пор, как был построен.
Ипподром примыкал к восточной стене Священного Палатия. В центре арены находился Хребет, представлявший собой вытянувшиеся в линию овальные приземистые постаменты, на которых торчали в ряд статуи и символические изваяния. Амфитеатром расходились от арены скамьи трибун. Эта гигантская чаша вмещала до десяти мириадов людей. И над всеми возвышалась кафизма, с которой созерцали состязания василевсы и их приближённые. В этот день, День Романа, зрелище можно было, пожалуй, назвать грандиозным.
Колыхалось море голов. Тысячи глоток в едином порыве извергали оглушительные вопли радости или разочарования. Тысячами горящих глаз в неописуемом экстазе следили зрители за бешённой гонкой по кругу. Сменяя друг друга, новые и новые пятёрки квадриг выезжали на арену. Лучшие лошади соперничавших цирковых партий несли колесницы, взрывая упругий наст из кедровых опилок.
В воздухе витали клички коней, имена возниц. Победителей уносили на руках в громе хвалебных возгласов. Побеждённые убегали под градом сыплющихся на них с трибун ипподрома объедков, камней, подушек. Не мелочь, а золотые солиды переходили из рук в руки.
По узкому газону, разделявшему арену и трибуны, и между рядами беснующихся зрителей носились в седьмом поту грозные курсоресы. Они, блюстители порядка, то и дело пускали вход заострённые жезлы, пытаясь охладить чрезмерно горячих, но всё равно там и сям бесконечно вспыхивали потасовки, нередко заканчивавшиеся поножовщиной, воплями раненых, избиением и изгнанием зачинщиков.
Многочисленные служители ипподрома обитали в тесных контурах под трибунами. Жилые помещения чередовались с отсеками, где содержали зверей для травли, с конюшнями и складами. Вместилища палестры Анита Непобедимого также находились под трибунами, в левом крыле ипподрома.
Когда-то это была гимнастическая школа. Но популярность состязаний гимнастов увяла. Зрители предпочитали кулачные бои. Старое название школы осталось — палестра. Невольники юноши в ней по-прежнему занимались гимнастикой, акробатикой, бегом, плаванием и даже под присмотром бывалых вояк обучились искусному владению различным оружием, но все эти занятия были лишь дополнением к главным упражнениям бойцов. Кулачных бойцов.
Палестра — гордость и насущный хлеб Анита Непобедимого, знаменитейшего из силачей Империи Тёплых Морей.
Все знали его, но никто не знал, откуда он родом. Одни высказывали предположение, что атлет пришёл в Константинополь вместе с группой искателей счастья с берегов далёкой Вислы. Другие утверждали: он с берегов Нимфии. Находились и такие, что поговаривали даже, будто он лазутчик или беглый раб, присвоивший чужое имя и пробивший своими кулачищем дорогу к богатству и славе.
Сам Анит никогда и ничего о себе не рассказывал. Потому-то и окружён был ореолом таинственности этот великан с лицом северянина, с телом смуглым, как у южанина, с характером, вобравшим в себя, казалось, и жаркий темперамент юг, и, холодную суровость севера.
В день, описываемый нами, а точнее, в полуденные часы сравнительного затишья на ипподроме между первой и второй частями праздника в неизменной своей кожаной рубахе, распахнутой на груди, по привычке заложив растопыренные пальцы за широкий набрюшник, сидел Анит в углу небольшого зала и внимательно следил за упражнениями учеников. Он не выкрикивал замечаний, не ругал, не хвалил, только беззвучно шевелил мясистыми губами, и подрагивала курчавая светловолосая его бородка.
— Довольно! — с напускной строгостью крикнул наставник. — Готовые ступайте в бассейн и одеваться, остальные долой сглаз по своим местам.
Юноши устремились к узкой двери, на ходу утираясь ладонями и переводя дыхание. Стихло эхо дробных хлопков под облезлыми сводами зала, в котором устоялись запах человеческого пота и чад нафтовых светильников, ибо свежий воздух почти не проникал в его полумрак сквозь единственную отдушину — дверь.
— Твёрдая Рука! — негромко позвал Анит.
Тот удивлённо обернулся, уловив в голосе наставника нечто похожее на смятение и печаль, приблизился к тумбе в углу, где, не меняя позы, продолжал сидеть Непобедимый. Анит отвёл глаза, пошарил взглядом вокруг, будто что-то искал.
Все четыре стены были до половины обшит досками с толстыми войлочными набойками. Войлок обветшал под вмятинами от ударов. На узких полках выше дощатой обшивки горбились стопки лоскутов воловьей кожи, которыми обматывались кисти и запястья перед схватками. На полу громоздились мешки и всякие хитроумные снаряды. Эка невидаль, нечего там искать Аниту.
Сколько ни блуждал его взгляд, а всё же встретился с выжидающими глазами Твёрдой Руки. Непобедимый натянуто улыбнулся, легонько похлопал ученика по бицепсам и произнёс наконец:
— Мальчик мой, я открыл тебе секреты своего искусства, я научил тебя презирать плоть, я старался вложить в тебя и другие знания, доступные только мыслящим, я когда-то спас тебя от меча твоего прежнего хозяина. Так ли это?
— Да, — последовал ответ.
— Я одинок, успел привязаться к тебе, моя надежда… Помнится, что обещал тебе благо. Так?
— Да.
— Память и у тебя хорошая. Запомни же то, что услышишь сейчас. — Анит поднялся с тумбы, плотнее притворил дверь, прислонился к ней спиной и умолк на некоторое время, очевидно, подыскивая нужные слова. Было ясно, что какая-то тяжесть легла на его сердце.
Он был хозяином. Светловолосый юноша, стоявший перед ним, был рабом. Раб не испытывал ненависти к хозяину. Это звучит чудовищно, но это было так. Ни один из подневольных учеников Анита Непобедимого не таил на него зла. Даже самый строптивый из них, Твёрдая Рука.
Анит не пользовался правом унижать, хотя, конечно, и бывал груб, как все, на чьей стороне власть. Он обладал силой и мужеством, а сила пользовалась особым уважением.
Хотя Твёрдая Рука не мог сказать себе: «Я ненавижу этого человека», — Анит всё же был в его глазах одним их заслонявших свободу.
— Запомни, — повторил Непобедимый. — Сегодня ты впервые ступишь на Большую арену вместе с испытанными бойцами. Выйдешь в восьмую, последнюю, пару. Против Маленького Барса из Икония.
— Почему против маленького? Давай зверя крупнее.
— Погоди, — усмехнулся Анит, — увидишь, какой он маленький. — И вдруг вновь омрачился. — Справишься ли… Лучше, если не справишься с ним, ибо, как сказал Гомер, победа меж смертных превратна…
— Я не ослышался, Анит? Хочешь, чтобы я уступил?
— Ты не ослышался, а я не оговорился, — вздохнул атлет.
— Тогда я и шагу не сделаю из этого логова! Иди туда сам!
— Молчи! Да, Непобедимый учит побеждать. Да, в моей палестре победители таких состязаний, как сегодня, получали свободу. Да, тебе она тоже грезится. Да, да, да, всё это истины. Но не сейчас. Слушай меня, не прогадаешь. Я приказываю тебе лечь перед бойцом из Малой Азии.
— Не верю, — сказал Твёрдая Рука, — не верю, что тебе нужно моё бесчестье в первом же бою. Я ждал этого часа. Нет, не отступлюсь от надежды! Лицемерны твои обещания, лживы!
Анит так пнул ногой в дверь, что крякнули петли, вне себя бросился к висячему пузырю, который недавно усердно колотили его питомцы, и от одного страшного удара бычья кожа оглушительно лопнула. Кто-то испуганно заглянул в дверь и мгновенно исчез, точно его ветром сдуло. Неузнаваемый наставник схватил ученика за плечи и, обжигая дыханием, зашипел ему прямо в лицо:
— Маленький Барс — первый боец доместика Фоки. Того всесильного мужа, чей меч уже однажды едва не отсёк твою пустую голову за отказ биться в его усладу. Кто тебя спас? Я! И тогда спас я! Анит! Маленький Барс прихлопнет тебя как муху, вот он какой!
— Я выйду на честный бой, — твердил юноша, — за свою свободу. Выйду, потому что ты сам объявил мне об этом.
— Выйдешь и уступишь азиату. Так нужно, если хочешь жить.
— Нет, Анит.
Наступившую в зале тишину нарушал лишь усиливавшийся гул толпы, вновь стекавшейся на ипподром. Прерванный праздник возобновился.
Анит сказал вдруг совершенно спокойно:
— Если Маленький Барс из Икония возьмёт верх, доместик Никифор Фока вновь блеснёт над столицей. Свободный Барс должен победить, и тогда против него выйду я, тоже свободный, и повергну азиата в честь василевса. Роман утешится, но и лавры Фоки не увянут. Существует средь высших такое, о чём нам не следует знать. Не будем дуть против ветра. А твоё от тебя не уйдёт, обещаю. Но сейчас… Ступай к остальным. Ты в последней паре. И помни: всё, что слышал здесь, сказано человеком, которому ты дорог.
— Мне воля дороже слов, — сказал юноша, — надо за неё и с тобой в круг войти — войду. Я другое слышал. Будто ещё старый цесарь объявил тут когда-то, что дарована будет воля всякому из палестры, кто тебя осилит в кругу.
Анит заглянул в глаза любимого ученика и молвил тихо:
— Бедный мальчик, огради тебя бог от этого…
Вышли к трибунам и уселись на скамье в ожидании своего часа.
Между тем наверху заполненные до отказа трибуны нетерпеливо требовали начала состязаний лёгких колесниц, по одной лошади в упряжке. Но сигнала не давали. Ждали Василевса.
Наконец десять мириадов зрителей вскочили со своих мест, вознесли руки и пропели хвалу. Курсоресы врассыпную бросились от кафизмы, их сменили телохранители императора, и сам Роман II показался наверху башни. Божественный и его свита расселись и застыли, напоминая аккуратно расставленные раззолоченные бюсты.
Отворилась медная дверь у основания башни, из неё вышел глашатай, он картинно встал на площадке, упёршись руками в ажурную оградку, медленно обвёл взглядом обе крутые внешние лестницы кафизмы, словно хотел убедиться, что никто посторонний не осквернил своим присутствием их священные ступени, после чего торжественно выкрикнул традиционную фразу:
— Да озарит мой свет всех вас, римляне[28]! Начинайте!
Трибуны взревели с новой, восторженной силой, ибо голос этого глашатая считался голосом самого василевса. Просигналили буксины, и, взметнув опилки арены, рванулись из-под арки кони, и защёлкали бичи возниц, и казалось, что вот-вот начнут лопаться от крика люди вокруг, и эхо ликующего ипподрома полетело над городом до самых дальних маслиновых рощ.
Колесницы — синие, жёлтые, зелёные, красные — пёстрой вереницей растянулись по всему овалу арены. Но вниманием бушующего ипподрома завладела одна из них. Никто не сомневался в её победе. Огненный конь и на пятнадцатом круге бежал так же легко, как и в начале гонки.
Изящен и стремителен бег огненно-рыжего коня.
Выкрашенная в белый цвет колесница была достойна восхищения. Ею ловко управлял возница крохотного росточка, он стоял на тонкой оси между высокими колёсами, одновременно удерживая струны-вожжи и прикрывая, выставив локти, лицо кулаками, чтобы не захлебнуться ударами встречного воздуха.
— Где вскормлен такой? — неслось по рядам.
Начался предпоследний, девятнадцатый круг, когда из ниши под трибунами вышли кулачные бойцы. Анит в своём нарядном белом колпаке с пером и его питомцы расселись на специальной скамье, оглушённые воплями окружающих.
Едва Твёрдая Рука взглянул на арену — вскочил, точно ужаленный. Он даже не пытался скрыть или подавить волнение, охватившее всё его существо. Впрочем, никому не было до него дела. Один лишь всевидящий учитель заметил судорожный порыв своего любимца.
— Что с тобой?
Ответа не последовало. А между тем завершался последний круг гонки, возбуждение ипподрома достигло высшей точки. И вдруг сумбурный гул толпы рассёк резкий, пронзительный крик:
— Жар! Жарушко-о-о!
Перо отказывается описать то неописуемое, что произошло на ипподроме вслед за этим криком, ибо невозможно найти слова, способные в полной мере передать картину суматохи, какая всколыхнула и без того бурлящее людское море.
Не каждый из десяти мириадов горланов расслышал крик Твёрдой Руки, но все десять мириадов увидели собственными глазами, что сотворил этот крик.
— Жар! Жарушко-о-о!
Огненно-рыжий конь с белой колесницей, уже готовый разорвать грудью гирлянду из живых цветов, тот самый скакун, которому оставалось несколько прыжков до победной черты, непостижимым образом уловив в общем шуме голос юноши, взвился на дыбы и с громким ржанием завертелся на месте.
Столь внезапно остановившуюся белую колесницу с ходу сшибли другие, мчавшиеся за ней. С треском рассыпалась она. Точно стрелы из сломанного колчана, разметались спицы колёс, покатились лопнувшие обода, кувырком отлетел в сторону ошеломлённый возница.
А колесницы всё сталкивались и сталкивались, образуя шевелящуюся груду, в которой смешались разноцветные щепы, клочья тряпья, хлысты, ленты, обезумевшие лошади и люди. Вот так куча мала!
Жар растерянно носился по арене вокруг Хребта, над растрёпанной гривой развевались обрывки поводьев. Невредимый, резвый, гордый, как алый факел, он искал того, кто его окликнул.
Улеба (мы, конечно, давно догадались, что это был именно он) буквально силой Анит и двое массажистов втолкнули в нишу и потащили в одну из комнатушек палестры. Хорошо, что Непобедимый не растерялся и проделал это сразу, пока толпа не разобралась что к чему, иначе бы не сносить головы нарушителю зрелища.
Отправив массажистов обратно и опустив за собой щеколду дверцы, Анит стал в позу судьи, сложив на груди руки и хмуря брови. Ждал, когда юноша придёт в себя. Потом сказал:
— С меня довольно. Если выживешь после боя с Маленьким Барсом, сам не пощажу тебя.
— С меня тоже довольно! Не на потеху войду в круг, ради воли!
Улеб решительно шагнул к выходу, но Анит, играя желваками, преградил ему путь.
— Не выйдешь, пока не позову.
— Я хочу наверх! Должен выйти к нему! Он мой!
Он хочет, — с сарказмом заметил Анит, — один свободный господин хочет видеть… кого?
— Своего Жара! Коня моего!
— Ах, вот как! — продолжал наставник, с трудом сдерживая негодование. — Разумеется! Ты же свободный! Ты же достаточно богат, чтобы выкупить его. Может, заодно приберёшь к рукам все конюшни Царицы городов?
Анит размахивал в воздухе кулачищами, уже не сдерживаясь, кричал, потрясая бородкой:
— Не обещай я повелителю показать тебя, избил бы собственными руками! Только сунься наверх, разорвут и затопчут! Я догадался, что красный конь имеет к тебе какое-то отношение, сразу заметил, как исказилось твоё лицо, едва ты вышел к арене. В который раз я спасаю тебя! Довольно же! Горький сей день для тебя, больше я не учитель, а враг твой! Буду смотреть без жалости, когда курсоресы крюками поволокут твой труп из круга!
Улеб глядел в одну точку, думал: «Анита прощаю, он незлоблив ко мне, хоть и грозится. Это ль не радость, что увидел Жара своего! Уж я разузнаю, где искать его, когда выберусь отсюда. Жди и ты, Улия-сестрица, я приду за тобой на чужбину. Быть бы живу мне…» Сверху непрерывными волнами доносились шум и топот.
Удар гонга. Худощавые, как на подбор, жилистые меднотелые бегуны в разноцветных набедренных повязках застыли перед чертой, вытянув правые руки и слегка наклонив вперёд туловища. Со вторым звуком гонга ринулись разом, только пятки замелькали. Притихшие было трибуны вновь всколыхнулись.
Пока бегуны носились по кругу, сменяя друг друга, кулачные бойцы всех фем под предводительством своих наставников и под надзором нескольких выборных граждан из числа зрителей торжественно направились к Хребту, где поочерёдно, Нахлобучивая на голову покрывало, вслепую вынули из серебряной вазы «свои» буквы — бронзовые жетоны с выбитыми на них прозвищами доставшихся им соперников.
Вызвали Твёрдую Руку, велели ему оставаться на скамье под аркой. Он жребий не тянул. Противник был известен заранее, и Улеб искоса с любопытством поглядывал на того, кто также не касался вазы и тоже разглядывал противника, оценивая.
Человек огромного роста, могучего телосложения. Нелепое его прозвище — явный плод иронии, ибо менее всего он походил на барса и тем более маленького.
Широкий приплюснутый нос, близко сдвинутые к переносице глаза под низким лбом, покрытые редкой растительностью щёки, жёсткие чёрные волосы, скрученные на затылке в тугой жгут, толстая коротковатая шея. Казалось, массивный подбородок прятался за дугами ключиц. Широкая и выпуклая грудь, расслабленно свисающие скобы мускулистых рук, тонкие поджарые ноги со вздувшимися венами. Если к перечисленному отнести ещё наряд, состоявший, как подобает бойцу, из коротких штанов, набрюшника, обычно не столько предохранявшего живот, сколько указывавшего границу дозволенного чужому кулаку, и повязку из воловьей шкуры, уберегавшую пальцы правой руки от вывихов, — вот и весь внешний облик ставленника великого доместика восточных войск.
Жеребьёвка окончилась. Те несколько граждан, что присутствовали при ней в роли свидетелей, облечённых доверием сограждан, разбежались к трибунам объявили пары.
И тогда же глашатай с кафизмы под всеобщий ропот недоумения громогласно призвал к себе Анита Непобедимого. Однако, как выяснилось, это не повлияло на ход празднества. Анит растерянно поплёлся к кафизме, не понимая, зачем он там понадобился, и был ещё на полпути, когда волею василевса начались бои и зрители успокоились, вернее, наоборот, разразились новыми страстями — спутницами массовых зрелищ.
Пары сменяли одна другую. Под неистощимые вопли толпы бойцы усердно тузили друг друга, как разъярённые петухи. Поверженных изгоняли с позором, причём особенно рьяно свистели и ревели те зрители, для которых их поражение оборачивалось денежными убытками. Победителей уносили на руках.
Вернувшись на арену, Анит прямиком направился к безучастно сидящему Твёрдой Руке.
— Эй, не узнаю задиру! — бодро обратился он к юноше, присаживаясь рядом на корточки. Видно, визит к кафизме оказался приятным или во всяком случае безопасным. — Выше голову, мальчик, не то подумают, что струсил мой хвалёный боец перед Барсом.
Улеб невесело усмехнулся:
— Ты чему рад? Твои-то ложатся перед гостями, как сговорились.
— Не все, не все, мой мальчик, я видел оттуда.
— Не нравится мне лживое представление.
— Не беда, — оборвал его Анит, — Барс размахнётся, понравится.
— Тем и тешусь.
— Там, внизу, помнится, было тебе не до шуток, — заметил Анит весьма благодушно, точно нравилась ему эта словесная перепалка, — теперь же, вижу, ты настроен шутливо, мальчик мой. Я не против. В круг нужно идти с лёгким сердцем. Могу порадовать ещё. Сказали мне, что Барс из Икония готовился как никогда. Тебе не устоять, я знаю это лучше других. Отныне ты мне безразличен. Шути и смейся, всё позволено обречённому. Глумись надо мной, не моргну даже. Я добрый, помолюсь за тебя, безбожника, Христом клянусь.
— Клянусь Сварогом, отплачу тебе когда-нибудь добром тоже.
— Повтори.
— Отплачу тебе добром за доброту.
— Благодарю, — рассмеялся Анит, — запомню. Сам же вспомни всё, чему научен мною. Надеюсь, ты продержишься долго перед силачом Никифора Фоки, ибо богу в лице Романа угодно, чтобы боец доместика не блеснул слишком скорой своей победой. О чести же василевса снова позаботится сам Анит Непобедимый.
— Меня в круг кличут. — Улеб резко поднялся со скамьи и ринулся на голос зазывалы.
— Иди, мальчик мой… Прощай!
Ну и странный же был человек тот Анит, неровный характером, путаный в мыслях и поступках.
Твёрдая Рука уже стоял у кромки песчаного круга, истоптанного ногами предыдущих бойцов. Напротив также за пределами круга шириной в две маховые сажени стоял его грозный противник. По газону перед трибунами бегали служители в высоких пёстрых колпаках и выкрикивали народу прозвища обоих, восхваляя их достоинства и прославляя тех, во имя кого они вышли на бой.
Согласно ритуалу два человека из свиты Никифора Фоки воздели руки своего Маленького Барса к небу. Двое чинов из Палатия проделали с Твёрдой Рукой то же самое. Зрители дружно откликнулись восторженными приветствиями.
Вот четверо посредников демонстративно ощупали воловьи шкурки на правых кулаках бойцов, дескать не припрятано ли под перевязями железо, и разом отбежали прочь, растопырив пальцы: всё в порядке, мол, пара готова. Последовал привычный возглас глашатая:
— Да озарит мой свет всех вас, римляне! Пусть начинают!
Росич шагнул в круг. Левая рука, как должно, ладонью вперёд, точно выставленный маленький щит, правая кулаком на бедре. Взгляд цепкий. Анит, наставник, учил в палестре по глазам врага угадывать его намерения.
Помнил юный и то, что перед схваткой полагались взаимные словесные угрозы. Умение предварительно оскорбить и охаять противника расценивалось как доказательство храбрости.
Приняв стойку подобно Твёрдой Руке, Маленький Барс разразился бранью под одобрительное гоготанье трибун:
— Эй, ничтожество, не вижу тебя! Где ты? Отзовись, жалкий скиф! Хоть пискни, не то наступлю ненароком, раздавлю пяткой! Вот беда, совсем затерялся среди песчинок!
Улеб молчал.
— Покажись! — куражился ромей, и зрители покатывались со смеху. — Ах, как это я упустил из виду, — он хлопнул себя по лбу, — ведь червяки безголосы! Так пошевелись, червь, чтобы я смог разглядеть тебя под ногами!
Анит, раскрасневшийся от досады, издали усиленно подавал ученику знаки, требуя, чтобы тот отвечал Барсу, даже подсказывал начальные слова витиеватых ругательств.
Улеб молчал. Зато соперник его не терял времени даром, потешался вовсю.
— Ну вот, почтенные граждане, что же мне делать? — Корча рожи, он оборачивался во все стороны, как бы ища совета. — Как теперь быть? Граждане! Христиане! Как быть мне? Слышу исходящее от скифа зловоние, но не вижу его самого!
Молчал Улеб, побелев лицом.
— Скажи наконец что-нибудь, несчастный! — раздался отчаянный крик Анита. — Ответь ему, пока не забросали объедками! Отвечай, не то изгонят!
— Трус! Безъязыкий раб! — ревела толпа. — Утопи его в плевке, Маленький Барс! Бей, круши варвара! У-у-у, гнуснейший трус!
И Улеб воскликнул внезапно и страшно:
— Быть убийству!
Эхом прокатились по притихшим рядам бесчисленных скамей амфитеатра слова юноши. Будто от страха спрятался краешек мутного солнца за куполом дворца Антиоха, и голуби пали всей стаей на кровли домов, и дико прозвучал визгливый хохот какого-то пьяницы где-то далеко наверху, на самых последних местах трибуны.
Только сейчас понял Улеб, почему его противнику дали такое прозвище.
Огромный Маленький Барс преобразился. Казавшийся поначалу неповоротливым и угловатым, он весь собрался в подвижный комок. Упругими кошачьими прыжками перемещался по кругу, рассчитывая ошеломить всех каскадом обманных телодвижений, показной неутомимостью и рычанием. Туловище его то сжималось пружиной, то изгибалось дугой. Он появлялся сразу со всех сторон. Однако Твёрдая Рука был внимателен, ловко уклонялся от ударов, отступая пока, чтобы скомкать первый натиск самонадеянного, хитрого и опытного силача.
Они кружили, вцепившись друг в друга взглядами, кружили до тех пор, пока Барсу не стало ясно, что росича не испугать наскоком, что тот не дрогнул, а умно выжидает, когда прекратится эта бесплодная пляска.
Настал черёд азиату оценить соперника по достоинству. Сорокалетний мужчина перестал рычать зверем, прыгать козлом и молотить кулаками воздух впустую. Выровнял дыхание. Юноша оказался удивительно увёртливым, и великан пошёл на него массивной грудью без лишних выкрутасов, полагаясь теперь только на зрелую силу своих мускулов.
Когда они сошлись, Улеб не увидел тавра на плечах Барса. Правду сказал Анит: боец Фоки был свободным. Это озадачивало, ибо трудно понять, зачем свободный человек не посвятил свою врождённую мощь настоящему ратному делу, а топчет песок ипподрома ради прихоти и тщеславия других.
Словно угадав мысли Твёрдой Руки, Барс прохрипел:
— Позабавь меня, раб. Сдохни!
Пудовый кулак просвистел у самого виска, Улеб еле успел уклониться. Промахнувшись, Барс быстро наступил ногой на ногу согнувшегося юноши, не позволив тому отпрянуть, и вновь размахнулся.
Этот приём не новинка. Будто на упражнении в палестре, Улеб мигом припал на свободную ногу, вытянув придавленную, и вскинутой ладонью левой руки погасил вражеский удар, одновременно посылая свой кулак справа в короткую шею Барса.
Но и встречный этот его удар оказался не лучше. Тугая повязка на кулаке лишь чиркнула по надёжно прикрывшей горло ключице ромея. Это не в палестре, напарник был не тот. Там были семечки, здесь твёрдый орех, мужчина, живая крепость.
И всё-таки Барс отшатнулся, Улеб выдернул ногу, точно из капкана. Присел и взвился. Цель ускользнула. Снова присел, опять метнулся и вновь мимо. Барс умело защищался и уже не похвалялся, не грозился, не сквернословил, плотно захлопнув рот — не до того.
Вскоре симпатии зрителей разделились. Ловкие, чёткие, полные грации движения юноши вызывали невольное восхищение многих.
— Бей, Маленький Барс! Проломи ему череп! — в экстазе вопили сторонники Никифора Фоки.
— Не поддавайся, Твёрдая Рука! Вперёд! Смелее! Во славу Божественного! — кричали те, кто искренне принял сторону новичка, и те лицемеры, что находились неподалёку от кафизмы и надеялись привлечь внимание василевса своим рвением.
Будь Никифор Фока простолюдином, он, наверно, кричал бы погромче низших. Однако великому военачальнику, жемчужине византийской знати, первому из прославленного рода, тайно, но решительно прокладывающему путь к трону, подобает хранить сдержанность, пусть, даже если снедает страстное желание посрамить своим ставленником бойца столичной палестры, подвластной сластолюбивому Роману, на глазах у всех, ибо чувства народа склонны к сильнейшему.
Между тем Барс вынужден был теперь отступать под ударами Твёрдой Руки. Удары эти всё чаще и чаще достигали цели, становясь всё ощутимее и ощутимее.
Пятился Барс, прилагая все усилия и призывая всё накопленное годами умение, старался изо всех сил не выйти за пределы круга под натиском вездесущего кулака молодого бойца. Трижды переступивший черту побеждён. А юноша был неистов, отважен, умён в бою. Да, не пустые были слухи об удивительном мальчишке Непобедимого.
— Довольно! — сложив ладони рупором, увещевал Анит ученика. — Ложись! Плати мне послушанием за доброту, как обещал! Хватит тебе для начала!
Но росич по-прежнему, впившись взглядом в растерянные глаза противника, теснил и теснил того, как пчела зверя. Не привык Барс к затяжным поединкам, задыхался, нелегко ему столько времени перебрасывать из стороны в сторону груду собственных мускулов. Услышал вдруг Улеб прерывистый шёпот:
— Не выдержу больше… поддайся… одарю щедро…
— Неужто наконец заметил меня на песке?
— Ах ты проклятый червь! Изувечу!!
Лицо врага покраснело подобно железу в огне. И привиделась Улебу наковальня и раскалённая кузнь на ней. Не оплывший жиром злобный лик напротив — горячая крица из печи. Крицу бить-молотить — кузнецу дело спорое.
Рухнул Барс, как подрубленный, на колени. Жуткая гримаса боли и ужаса передёрнула его лицо, помутнели, остекленели глаза. Распластался и затих. Последний удар Твёрдой Руки стал роковым.
Ревел ипподром:
— Смерть варвару, погубившему праведника!
— Лавры!
— Кому лавры, убийце?
— Слава Твёрдой Руке!
— Кол заведомому убийце!
— Слава Божественному! Хвала Аниту! Честь молодому бойцу-триумфатору!
— Сжечь язычника! Дьявол двигал его руками! Сжечь в чреве Тавра!
— В театр на растерзание хищникам!
— Лавры ему!
— Сме-е-ерть!
Замелькали короткие зелёные плащи курсоресов, что, сомкнув ряды, сдерживали напиравшие толпы разъярённых и ликующих людей остриями жезлов и обнажённых мечей. Потрясённого Улеба пронесли на руках к мраморным ступеням кафизмы. Цветы и камни сыпались на него.
— Смерть или лавры? — громоподобно вопрошал ипподром, обратясь к василевсу.
Божественный молвил устами глашатая:
Лавры!
Раздался трубный сигнал, извещавший об окончании состязаний. На арену вышли музыканты для заключительного шествия. Сопровождавшие их служители зажгли множество факелов, огненные языки замерцали блёкло, невыразительно, ибо ещё не наступили сумерки, хотя солнце и скрылось из виду. Возле выходов в город образовалась толчея: самые нетерпеливые из зрителей поспешили домой, живо обсуждая виденное.
Нет! — тщетно восклицал Улеб. — Нет, ещё не конец! Хочу в круг с Непобедимым! Волю хочу добыть!
Глава XIII
Наставник палестры был приглашён в Палатий и вернулся оттуда с таким видом, будто спустился с небес.
Щедрость василевса распалила щедрость и в нём. Он решил одарить Твёрдую Руку горстью крупных монет. Тугой, как кулак, мешочек с золотом для раба — явление настолько редкое, что молве и не припомнить подобного.
И не менее редко можно видеть кубки с хмельным виноградным напитком в руках подневольных. Но сегодня Анит во всеуслышание распорядился выдать в его отсутствие вино и пищу бойцам, какую пожелают.
Так рассуждая, довольный собою и всем на свете, пересёк Непобедимый опустевший ипподром, милостиво отвечая на приветствия полусонных сторожей, которые всегда безошибочно узнавали знаменитого атлета даже издали по особой, уверенной походке и его манере похлопывать по бляхам набрюшника при ходьбе.
Приблизившись к нише, ведущей в помещения палестры, он замер и прислушался. Голоса, сочившиеся снизу, отнюдь не напоминали весёлый шум пирушки. От удивления и досады Анит не сразу заметил ещё более странное отсутствие стражи наверху и на нижней площадке лестницы. Толкнул ногой дверь, согнувшись, чтобы не задеть головой дверную лутку, шагнул в зал и застыл у порога, поводя взглядом.
Посреди зала лежал опрокинутый стол, повсюду валялись скамьи, черепки битой посуды. Курсоресы из охраны левого крыла ипподрома, ощетинясь жезлами, стояли в угрожающих позах перед оттеснёнными в угол учениками палестры. Всё вокруг носило следы недавнего столкновения, как видно, прерванного появлением хозяина. В наступившей тишине лишь громко стонал стражник, что сидел на корточках, придерживая челюсть обеими руками, да потрескивали светильники.
— Что здесь происходит?
Один из курсоресов, тыча в Улеба пальцем, пояснил:
— Похоже на бунт. Этот осмелился громогласно обвинить тебя во всех грехах. И все они развесили уши, а Прокл с площадки услышал и позвал нас. Мы прибежали и тоже слышали, как раб чернит твоё имя. Вот их благодарность за угощенье! Прокл хотел покарать его жезлом, но скиф ударил его раньше, а потом схватил вертело. Видишь, как мучается бедный Прокл. Мы собрались перебить их за неповиновение, и, клянусь, сделаем это, если ты не возражаешь.
— Все вон! — крикнул Анит курсоресам.
— Но, Непобедимый, ведь раб называл тебя бесчестным трусом. Все слышали.
Анит резко повернулся к Улебу, на побелевшем его лбу выступили капли пота.
— Это так? Отвечай, Твёрдая Рука!
— А разве это не так? — сказал Улеб, глядя Аниту в глаза.
— Значит, ты уже начал лить яд измены в души моих учеников? Ты, которому я нёс золото в награду, хотел поднять их против своего благодетеля?
Улеб швырнул вертело на пол, приблизился к Непобедимому вплотную.
— Ты обманул меня. Сегодня я заслужил свободу. Где твоё слово, Анит? Стань со мной в круг. Или вели своим псам зарубить меня. Смерть или свобода!
Наставник, к общему удивлению, выслушал юношу спокойно, затем произнёс:
— Убирайтесь все. Оставьте нас вдвоём.
Когда все, кроме Улеба, удалились, наставник несколько раз прошёлся из угла в угол, затем поднял одну из скамеек и устало опустился на неё.
— Смерть или свобода… — сказал он. — Боюсь, тебя ожидает первое. Ты умрёшь, едва покинешь палестру. Бесславно умрёшь от мечей охраны ипподрома или от копий городских патрулей. С твоим нравом не выжить в этой стране без моего надзора. Со мной же познаешь благо. Дай срок, и я срежу свой знак с твоих плеч. Но не сейчас. Сам Никифор Фока велел мне сберечь тебя. Что у великого воина на уме, я не знаю, но могу ли ослушаться? — Он взял Улеба за руку, усадил рядом с собой. — Нет, не трус твой учитель, не бесчестен, только хочет вывести тебя к славе. Имя Твёрдой Руки может воссиять рядом с именем Непобедимого. Не хватает времени, чтобы объяснить тебе всё, но, чтобы доказать, необходимо время. Я старею и подумываю о том, кто способен продолжить моё дело. Нет тебе равных, я знаю.
— Хочу на родину, искупиться хочу перед родичами, — сказал юноша тихо. — Да не понять тебе, видно…
— Ошибаешься, мальчик мой, я понимаю больше, чем думаешь. Ты пробудил во мне воспоминания о тяжёлой моей юности.
— Отпусти с миром.
— Повторяю, ты падёшь за пределами палестры. Твой бывший хозяин, патрикий Калокир, уже пытался выкупить тебя. Кажется, ты понадобился не то кому-то в его отдалённом кастроне, не то самому динату. Это опасно, ибо Калокир теперь человек видный, умеет добиваться своего. Неспроста охотится за тобой, неспроста.
— Посторонись, Анит, и я сам о себе позабочусь. Ты лучше других и, если тебе будет худо, а я окажусь не слишком далеко, поспешу на зов. Вот моё слово.
Непобедимый знал цену словам любимого ученика, а те, что услышал сейчас, тронули сердце атлета.
Долго молчали они. Долго и мучительно раздумывал Анит. И молвил в конце концов:
— Тебе одному из всех я не скоблил головы. И кольцо с шеи снял, когда привёл сюда прошлым летом с улицы Меса. Обещай, что не будешь биться во славу другого.
— Ни в кругу, ни в поле не стану биться во славу чужого племени. Я на Руси родился, росичем и помру.
— Храни тебя бог, безбожник. — Анит обнял юношу, ласково потрепал за льняные волосы, поднялся со скамейки. В эту минуту он показался Улебу прекрасным и мужественным как никогда. — Возьми, мой мальчик, это может тебе пригодиться. Бери, бери, твоё по праву. — Он протянул Улебу мешочек с монетами и направился к двери. У порога обернулся с печальной улыбкой, подмигнул, погрозил пальцем и многозначительно добавил: — Я тебя не отпускаю, верно?
— Анит! Учитель! Я хотел сказать… Я хочу выразить…
— Сомкни губы, мужчина.
— Прощай, Непобедимый!
— Прощай, пока не задушил тебя собственными руками.
— Ох, Анит!.. Тебе не место здесь, идём со мной! Там, за Днестром-рекой, научу тебя лучшему ремеслу! Дам свой молот! Отцовский! Какое железо рождалось бы в наших руках! Анит, ты создан для кузни! та слава повыше твоей! Я покажу тебе красное от руды озеро в Мамуровом бору, там её сколько угодно! Отыщем Улию — и домой, к нашим!..
Сначала Анит испугался, подумав, что малый тронулся умом, потом прислушался к сумбурным восклицаниям и, уловив их смысл, разразился хохотом. Он хохотал, запрокинув голову, держась за колыхавшуюся грудь, тряся бородкой и выпучив глаза.
Но почему-то хохот этот постепенно обретал какую-то странную окраску. Звуки, вылетавшие из клокочущего горла атлета, становились всё глуше и глуше, хриплые, точно кашель больного и скорбного. И вот стало тихо. И тихим был голос Улеба, когда он сказал Аниту:
— Не знаю, что со мной… Прощай… Нет, погоди. Ты не скажешь, где стойло того красного коня?
— Знаю, что у тебя на уме. — Анит открыл дверь и, уже переступив порог, бросил через плечо: — Первая конюшня от ворот.
И, хлопнув дверью, ушёл. Улеб потёр щёки ладонями, встряхнулся, словно от забытья, и, выждав немного, выглянул наружу.
На площадке за дверью никого не было. Лестница, ведущая наверх, тоже была пуста. Улеб незамеченным прокрался к трибунам, спрятался между скамейками и огляделся.
Посреди арены, под сенью статуй Хребта, гогоча и переговариваясь, десятка два курсоресов разделывались с бочонком вина в пляшущем свете смолистых факелов, воткнутых в грунт. Наблюдая, как стражи пируют, Улеб усмехнулся. Что же, пускай, ему это наруку. Ночь стояла тёплая и звёздная. За стенами ипподрома ещё не стихали песни подгулявших горожан, мелодичные переклички музыкантов, крики и ссоры, обычно венчавшие чрезмерно затянувшиеся празднества.
Чтобы скорее достичь первой конюшни, можно было бы пересечь арену напрямик, вряд ли пирующие у Хребта курсоресы, ослеплённые факелами и вином, разобрали бы что-либо дальше нескольких шагов от себя, однако осторожность не излишняя, и Улеб бесшумной ящерицей пополз вдоль скамей трибуны.
Конюшню стерегли двое. Сидя на корточках друг против друга, они вычерчивали что-то на песке, должно быть, играли в какую-то игру. Внутри помещения горел свет и видны были стойла и кони. Обильный этот свет снопом падал наружу, образуя на песке резко очерченный четырёхугольник, в самом центре которого и устроились играющие.
«Их, пожалуй, не трону, — сказал себе Твёрдая Рука, — если согласятся отдать Жара подобру-поздорову за мешочек Анита». Но, приблизившись к конюшне, подумал: «Ага, вот и Прокл, тут как тут. Нет, не стану платить за своего Жарушку. Кто платит за своё же добро!»
Притаился юный у самой кромки тени, совсем рядом с увлечёнными игрой курсоресами, прислушался к их голосам. Оба были поглощены развлечением настолько, что и не подозревали о присутствии постороннего, надёжно укрытого стеной ночи за пределами яркого света.
— А я так, — приговаривал один, расчерчивая пальцем песок.
— А я этак, — отвечал другой.
И вдруг оба резко повернулись в ту сторону, откуда донеслось тихое хихиканье. «Прокл, прекрасный Прокл, подойди ко мне», — игривым шёпотом звала невидимая в темноте женщина. Оба открыли рты и захлопали глазами. А из тьмы опять: «Ну что же ты медлишь, Прокл, беги ко мне, глупенький, иль не узнаешь? Ах, Прокл, я бы сама бросилась к тебе, да света боюсь, заметят — прогонят, а ведь погляди, какие лакомства для тебя в моей корзинке». И снова хихиканье.
Прокл спросил приятеля, заикаясь:
— Ты слышишь? Я прекрасный? Меня зовут? Кто?
Зачарованным лунатиком он шагнул на таинственный зов, ибо так уж устроен мужчина. И, едва переступил черту света, трепеща от любопытства, в тот же миг, оглушённый, рухнул. Много времени спустя, когда утренняя свежесть вернёт его в чувство, бедняга будет ломать голову, тщетно соображая, что с ним произошло и куда девались его платье и оружие.
Между тем другой стражник, оставшийся, оцепенел от непомерного удивления и набожного страха, ибо кто знает, кому принадлежал ночной шёпот, земному ли существу или небесной сильфиде. Откуда же взяться на ипподроме обычной женщине?
Он стоял на четвереньках, а из тьмы доносились возня и хихиканье, потом наконец появился Прокл, пятящийся спиною. Вот Прокл обернулся, и сторож увидел, что это вовсе не Прокл, а настоящий ангел в одежде Прокла. И он, этот, можно сказать, подросток с еле различимым пушком над верхней губой, с глазами чистыми, как у младенца, со светлыми волосами, по-девичьи ниспадавшими на плечи, правда, плечи несколько великоваты даже для такого высокого мальчика, почти извиняющимся жестом попросил потрясённого стража подняться. И когда тот, бессознательно повинуясь чудесному видению, выпрямился на ногах, ангел легко, точно крылышком, взмахнул кулаком — и второе тело, громыхнув кольчугой, распласталось на песке до утра.
Улеб бросился разыскивать своего любимца. Жар перебирал ногами, бил копытом, тряс пышной гривой, лебедем изгибал свою сильную шею. Его волнение передалось остальным лошадям, конюшня огласилась ржаньем. Улеб спешно седлал коня, приговаривая:
— Ты узнал меня, Жарушко, узнал. Теперь мы вместе в чужой стране, рядышком, как дома. Вырос ты, стал-то каким! Вот и свиделись… Не отдам тебя больше в чужие руки, не дрожи, успокойся, верный мой.
И гладил коня, и обнимал, и прижимался к нему лицом, и щемило сердце у юного росича, увлажнились глаза, будто видел себя летящим в седле по прибрежным тропинкам милой родины, где струится, как песня родичей, голубая река и звенит птичьим звоном Мамуров бор, а дымки очагов Радогоща вьются, точно длинные косы пригожих девчат, голосистых подружек красавицы Улии, и железо искрится под молотом вещего Петри…
Вывел Жара на поводу к воротам. Оглянулся. У Хребта ещё продолжалось винопитие. Крюк на воротах тяжёлый, сразу не совладать, и Улеб долго с ним бился, пока откинул. Очутившись на шумной улице, вскочил в седло, двинул коня шагом, готовый сразить всякого, кто надумал бы заслонить путь.
И внезапно едва не наехал на какого-то нищего. Их, убогих, полным-полно слонялось близ ипподрома даже ночью.
При виде чудом увернувшегося от копыт оборванца Улеб вздрогнул и досадливо обронил по-роски:
— Чтоб тебе лопнуть, расселся на дороге!..
В зыбком уличном свете остроносое ушастое лицо нищего с нахлобученным до самых бесцветных бровей венком из сорных трав и увядших цветов казалось особенно жалостливым. Это жалкое, уродливое существо, наверно, умышленно вырвало клок грязной одежды в том месте на боку, где виднелась давняя, плохо зажившая, гноящаяся рана, чтобы ужасным её видом вызывать сострадание прохожих.
Напуганный оборванец собрался было разразиться привычными воплями и стонами, чтобы заставить того, кто чуть не пришиб его своим конём, раскошелиться. Однако стоило нищему услышать упомянутые выше негромкие сердитые слова наездника, как он тут же замер безмолвно с раскрытым ртом и вытаращенными глазами.
Улеб, поглядывая по сторонам, поспешно миновал уродца, опасаясь, чтобы этот короткий эпизод не привлёк к нему всеобщего внимания.
Только не было, к счастью, до него дела в этот час ни переодетым ищейкам, ни полуночным гулякам, ни шутам, ни торговцам, ни музыкантам, ни зевакам, ни ряженым. Мало ли конных толкалось среди развлекающейся пешей черни, мало ли их бороздило городскую сутолоку.
Звёзды гасли в фиолетовом небе, угасало и гулянье в Константинополе, когда у крайнего дома по улице Меса раздался требовательный стук. Слуга громко спросил, не отпирая:
— Кто там?
— Мне нужен динат Калокир, сын стратига Херсонского, — послышалось в ответ.
— Этот дом принадлежит славному патрикию Калокиру, — затараторил на редкость словоохотливый слуга. — Но моего хозяина сейчас нет дома. У него, мудрейшего, забот хоть отбавляй, и никто тут не знает, где он, кормилец наш бесценный, в Священной Обители, у Золотого Рога или, возможно, отбыл в кастрон предков своих незабвенных.
— Как туда проехать? — спросил решительно голос за оградой.
— Туда?! Нужно ехать до Фессалоники, потом в сторону, в сторону. — В тоне болтливого слуги слышалась явная насмешка, он даже высунул нос, чтобы поглядеть на чудака, для которого, судя по всему, ничего не стоило тотчас же отправиться на край света ради свидания с Калокиром.
В чётком, грациозном силуэте всадника было нечто такое, отчего ухмылка мигом слетела с лица слуги, и он почтительно пробормотал, словно просил прощения за свою развязность:
— Слишком далеко. Ты, как посужу, нездешний, а я… мы не ждали в столь поздний час важного гостя.
— Есть тут скопец по имени Сарам? — нетерпеливо перебил его юноша.
— Хозяин там, там и Сарам! — вырвалось у неисправимого балагура.
— Ты, я вижу, малый бойкий на язык, — миролюбиво заметил юноша. — Держи золотой и отвечай, могу ли я выкупить немедленно человека по имени Велко без ведома Калокира. Или хотя бы увидеть его.
— О щедрый! О великий муж! — восторженно вскрикнул слуга, пряча монету. — Я знаю такого, да, да, его зовут Велко, но, прости великодушно, всех молодых невольников и невольниц наш хозяин, да продлятся годы его бесконечно, увёз с собой. Ах, какой умный и замечательный этот Велко! Как он любит меня! Как я его люблю!
— Сомневаюсь, — бросил всадник и тронул поводья.
— Постой, — опасливо озираясь, окликнул слуга юношу и тихо добавил: — Я понял, ты вовсе не друг нашему хозяину. Смекнул кое-что. Словом, я, Акакий, прозванный Молчуном, готов развязать свой язык до конца и выложить всё, что знаю. Ведь ежели, к примеру, дашь мне ещё золотой, узнаешь правду и о хозяине, да падёт на его голову мешок с камнями, и о молодом булгарине, да спасёт и сохранит его бог, и о Сараме, чтоб он изжарился в аду.
Захлебывающийся шёпот этого болтуна, весь его многозначительный вид указывали на то, что он действительно мог сообщить важное и полезное. Улеб сунул в его ладонь ещё солид.
— Говори да поживей, недосуг мне стоять посреди улицы.
— Я сейчас, сейчас, мигом, — забормотал Акакий и потянул коня за узду в тень маленького дворика, — лошадь здесь привяжи, ступай за мной, укроемся в пристройке, никто не услышит, все спят. А твой человек пусть снаружи присмотрит за воротами.
— Какой ещё человек?
— Да твой же. Ты мне доверься, храбрейший. Нет мне милее того, кто намерен прищемить хозяина, да падут на его череп сто мешков с камнями! Скажи своему напарнику, пусть ожидает без шума.
— Я один, — раздражённо сказал Улеб, — протри глаза и дело говори.
— Будь по-твоему, ведь ежели, к примеру, ты так хочешь, я прикинусь слепым, — согласно закивал тот, — хотя глаза мои, как у кошки. Раз так желаешь, притворюсь, будто не заметил за тобою ещё одного, пешего. Считай, что не видел я, как позади тебя таился твой телохранитель, да продлится его служба такому справедливому воину бесконечно!
Улеб оглянулся, настороженно потянувшись к оружию, но ничего подозрительного не обнаружил за спиной. По улице Меса по-прежнему безмятежно шатались поредевшие гуляки. С площади Константина доносилось нестройное песнопение нескольких неугомонных глоток, сменивших недавний хор веселившейся толпы. Небо заметно посветлело, и уже можно было различить на его фоне очертания куполов и неровные линии строений. «Уж не дурачит ли он меня? — подумалось Улебу. — Не ловушка ли это?»
— Эй, малый, — грозно сказал он, — со мной шутки плохи.
— Прости! Я пошутил, конечно, пошутил. Мне просто показалось. Никого я не видел, — залепетал слуга. Кланяясь и подобострастными жестами обеих рук приглашая за собой, он попятился к пристройке. Там зажёг свечу, плотно притворил дверцу.
В прилепившейся к стене дома, выходящей во дворик, тесной пристройке, на низкой крыше которой когда-то Улеб отбивался от тех, кто по приказу жестокого дината хотел лишить его языка, в этой самой пристройке сейчас он слушал угодливый рассказ Акакия.
Вот главное, что узнал Улеб.
Когда в отсутствие дината евнух Сарам неосмотрительно продал какому-то богачу из Македонии некую красавицу полонянку, Калокир хотел подвесить его за это на воротах, чтобы прохожие могли плевать в его сторону, ибо на воротах дома вывешивают воров. Взбешённый динат объявил, что Сарам украл у него долгожданное счастье.
Но евнух избежал наказания, поклявшись Калокиру отыскать и вернуть деву. И он сдержал слово. Отправился в Македонию, выкупил красавицу, а заодно и некоторых молодых гребцов, поскольку Калокиру снова потребовались испытанные люди на вёсла, он готовился в очередное плаванье. Среди выкупленных был и пригожий булгарин Велко из Расы. Сломленный путешествием слабосильный Сарам вскоре умер.
В Македонии Велко и юная полонянка полюбили друг друга крепко и чисто, как могут полюбить люди общей судьбы. Тайные светлые чувства юноши и девушки согревали обоих в нелёгкой их жизни на чужбине надеждой на лучшую долю.
Динат предложил красавице стать хозяйкой, женою его. Но она не соглашалась. Уж динат ей подарки подносил, так и этак увещевал, да всё зря. Плакала она, убивалась. Так и не скорилась дева. Тогда динат вскричал: «Заклевали б вороны! В темницу её! В Фессалию! В башню! Пока не образумится! Сама запросится под венец. Я дождусь! Хоть год, хоть два! Десять лет буду ждать, а не выпущу!»
И её увезли и заперли, как повелел. Сам же он остался до поры в столице завершать дела в гавани.
Велко всё это время был на берегу, работал при кораблях, ничего не знал. А узнал, отчаянно поспешил на выручку. Но его сразу поймали, и за город-то не успел выбраться. Хорошо хоть живым оставили. Снова пригнали на корабль. Там и поныне.
Выслушав рассказ Акакия до конца, Улеб задумался. Он стоял, прислонясь к стене, смотрел на подрагивающий язычок пламени догоравшей свечи.
Послышалось тихое тревожное ржание коня. Юноша быстро выглянул наружу, сказал вполголоса:
— Тихо, Жарушко, я скоро. Потерпи.
Он не заметил, как чья-то тень отпрянула от ограды и скрылась за углом.
— Дай ещё солид, — шептал ему в затылок слуга, — не видал я подобной щедрости. Никогда не видал, чтобы кто-нибудь так легко расставался с золотом. Да поможет тебе господь в грядущих подвигах! Ведь ежели, к примеру, человек не жадный — он человек, не кто-нибудь. Ведь ежели…
— А дева та, кто она? — спросил Улеб, резко прервав Акакия.
— Бог её знает. Лицом бела, похожа на северянок, тут их множество перебывало. И где только их Калокир не добывал! Он ведь с мечом в ладу, рыскал на верхних границах. А эту вроде бы снизу привёз, с моря. Красавица. Хозяин зовёт её Марией, но это, должно быть, не её имя.
— Сестрица моя, подобно той деве, тоже светла лицом, — невольно произнёс Улеб. — Как знать, может, и её, бедную, степняки под замком держат да голодом морят, как динат деву ту, Марию… Велко, Велко… Ты говоришь, он в гавани здешней?
— Булгарин твой? Да.
— Прощай. — Улеб вышел к Жару, отвязал его, вскочил в седло и шагом двинулся вниз по опустевшей улице. Светало.
Ветер метался между плотно прижавшимися друг к другу каменными домами, гонял пыль и сор. Глазницы окон зияли чернотой. Подумалось Улебу, что сам он сродни гонимой ветром песчинке.
В стороне, за домами, шумно проскакала кавалькада. Ещё одна, поодаль, уже в другую сторону. Слышалось бряцанье доспехов. Перекликались голоса. Было что-то угрожающее во всей этой суете.
Юноша остановил коня, прислушался, не рискуя двигаться дальше к лежащей впереди площади. «Заперт, окружён в городе, — мелькнула мысль, — не успел выбраться на простор». Но тут же попытался себя успокоить: «Сварог поможет, выпутаюсь как-нибудь. А коли нападут, я им костей наломаю много, прежде чем…»
Внезапно чья-то тень вынырнула из-за угла. Выхватив меч, юноша позволил незнакомцу приблизиться, и, когда тот резко приковылял к нему, делая какие-то непонятные знаки, Улеб узнал того самого нищего, которого чуть не сшиб у ворот ипподрома.
— Не бойся меня, златовласый, — озираясь, по-росски произнёс запыхавшийся оборванец.
— Ты знаешь… нашу речь?! — изумился Улеб.
— Я родом полянин. Не трать время на лишние расспросы, тебя повсюду ищут. Повинуйся мне, если хочешь спастись.
Нищий в мгновение ока, как кошка, вскарабкался на коня, пнул Жара пятками, перехватил поводья, обняв Улеба сзади, точно какой-нибудь хозарин, умыкающий невесту, и уже через несколько минут они очутились в тихом переулке.
— Стой здесь, — коротко бросил узколицый и, соскользнув на землю, исчез в подворотне.
Улеб настолько был обескуражен, что всё ещё держался за меч, не зная, вложить его обратно в ножны или сжимать рукоять на всякий случай. Ждал, чем всё это кончится.
Оборванец вернулся скоро с заспанным всклокоченным старцем с вызывающе драгоценной серьгой в ухе. Старик зябко скрёб грудь, глядел неприветливо, явно недовольный тем, что его разбудили.
— Отдай ему весь кошель, тот, что за поясом у тебя, — приказал узколицый, — он принесёт что надо.
Улеб повиновался. Старик поймал звонкий мешочек, кивнул оборванцу, затем онемевшему Улебу, после чего живёхонько и бесшумно удалился.
А таинственный нищий вновь схватил уздечку, повёл уже пешком коня с Улебом в седле через захламлённые дворики, мимо красильных мастерских с огромными чанами на тлеющих углях, мимо спящих вповалку подмастерий и бродяг.
Там, где остановились, Улеб огляделся и понял, что они оказались в заброшенном дровяном складе, примыкавшем к задней стене ночлежки для убогих. Нетрудно было догадаться также, что все красильни и ночлежка принадлежат старцу с серьгой.
Утренний свет сочился причудливыми нитями сквозь кривые щели прогнившей постройки, в углах которой, матовые от паутины, громоздились вязанки гнилых поленьев. Казалось, тронь их — и рассыплются трухой. Запах плесени, грибной сырости, истлевшей козьей кожи, остатки которой висели на ржавых гвоздях, вбитых в провисшие балки, неприятно щекотал ноздри.
— Слезай, здесь безопасно, — сказал оборванец.
— Чем обязан я твоей заботе? — Улеб постарался придать голосу как можно больше дружелюбия. — Кто ты, нежданный спаситель? И почему решил, что я нуждаюсь в помощи?
— Когда-то меня звали Лис, а нынче и сам не знаю, кто я. — Он поднял было на юношу глаза, но тут же опустил их. — Уже известно, что из палестры бежал боец, он избил курсоресов, переоделся в их одежду и увёл лучшего жеребца из цирковой конюшни.
— Я знаю, что и в этой стране достаточно честных и добрых людей. А ты, откуда ты?
— Из Киева-града.
— Эва-а!.. Давно тут маешься?
— Гм… не помню… давно.
— Как попал сюда?
Лис долго молчал, сидел на корточках, раскачиваясь, обхватив острые колени, выпиравшие из-под рубища, потом сказал:
— Не спрашивай, Твёрдая Рука, я… не помню.
— Ты меня знаешь?!
— Все мужчины столицы, даже презренные, знают лучших бойцов Непобедимого, — ответил Лис. — Живущим подаянием не удаётся проникнуть на зрелища, но мы целыми днями толчёмся у ипподрома с протянутой рукой. У избранных есть языки, у плебеев — уши.
— Но как догадался, что я Твёрдая Рука? Ведь ты не видел меня на арене.
— У Анита есть только один росич, Твёрдая Рука. Курсорес, наступивший конём на христарадника у ворот, не ругается по-росски. Я следовал за тобой до самого дома проклятого Калокира, подкрался и слышал, о чём ты толковал с Акакием, его прислужником, — продолжал Лис. — Я знаю всё, что делается в столичном логове дината, у меня с ним свои счёты.
— У тебя? С ним? Ничего не понимаю. Тут какая-то тайна. Я могу её знать?
— У тебя, златовласый, своя, у меня своя. Зачем тебе знать то, чего я сам не открываю?
— Но ты не посчитался с опасностью, помогая мне, почему?
— Динат лютый враг мой. Я понял, что он и твой недруг. Лис помог Твёрдой Руке, а Твёрдая Рука придёт на помощь Лису, когда понадобится, разве не так?
— Конечно! — воскликнул Улеб.
— Нам сюда принесут всё необходимое. Одежда курсореса выдаёт тебя с головой. Сменишь её на платье странствующего воина. Я же, коли не возражаешь, превращусь в слугу-оруженосца. Коня смени тоже.
— Нет, Жар будет со мной.
— Ладно, — согласился Лис. — Прикроем его холстиной, как это делают франки. Мне бы только подступить к динату… Тебе же обещаю служить без обмана и корысти.
Улеб сказал:
— Пусть будет так. Только не ищу я прислугу, не по мне помыкать другими. Будь товарищем. Не стану я гоняться за Калокиром, хочу отыскать побратима в бухте Золотого Рога. С ним или без него хочу отправиться морем или сушей сперва за сестрицей в каганскую Степь, а после в Рось-страну, домой.
— Тсс!..
Красильщик привёл на поводу осёдланную кобылу, нагруженную двумя объёмистыми тюками.
— Этот старец с драгоценным ухом не иначе колдун, — сказал юноша с иронией, едва красильщик ушёл.
— Не в нём колдовская сила, а в твоём кошеле, — заметил Лис.
Когда торопливо переодевались, Лис повернулся к Улебу спиной, явно стараясь скрыть от него что-то. Но юноша, хоть и не рассмотрел как следует, а всё же заметил ненароком, как блеснуло нечто золотистое, свисавшее с шеи Лиса на тонкой цепочке. Отчего тот прятал от глаз напарника какую-то безделушку, почему не выбросил нищенские лохмотья, а сунул их в суму у седла? Улеб не придал этому значения, лишь усмехнулся про себя. Он начинал привыкать к чудачествам нового приятеля.
Преобразившийся Лис с наслаждением поглаживал на себе пристойное одеяние. Внезапно, увидев треугольники палестры на плечах юноши, он захихикал пронзительно, почти истерично и выпалил, подняв вверх кривой, давно не мытый указательный палец:
— А ведь ты раб, беглый раб, а я, слуга твой, был и есть свободный!
Улеб рассмеялся в ответ.
Глава XIV
— Ну вот, златовласый, — сказал Лис, придирчиво оглядев Улеба, — теперь тебя опознать непросто. Едем, мой новоявленный франк!
— А ты, не обижайся, очень похож теперь на Калокира, — заметил юноша, — тоже преобразила одежда.
— Знаю. Не раз говорили и прежде.
— Едем на берег, к Велко. — Улеб тронул коня, и оба всадника, покинув двор красильни, выбрались в проулок, свернули за угол и направились вниз по выщербленным мостовым кривых улочек, ведущих к морю.
Лис был прав, редко кто обращал на них внимание. Разве что бойкие молодые торговки, подбоченясь при появлении пригожего чужеземца, ослепляли юного лукавыми улыбками, предлагая фрукты к сладости, игриво расхваливали красу рыцаря и потешались над неприглядным ликом его оруженосца.
Но ни Улеба, ни Лиса не трогали летящие вслед шуточки и насмешки звонкоголосых смуглянок Востока и их босоногих детишек, что шаловливыми стайками носились между лотками с нехитрыми товарами окраины под провисавшими поперёк улочек верёвками с бельём, путаясь под ногами у взрослых мужчин, встречавших день ремесленных кварталов привычной своей работой, безучастной ко всему постороннему.
Городские патрули сковали и здесь, то и дело попадались навстречу. Поначалу они вызывали настороженность у наших героев, те даже украдкой хватались за рукояти мечей под короткими своими плащами. Однако, надо полагать, поглощённым поисками беглого раба стражникам и шпионам некогда было и глаз поднять на роскошно одетых всадников, коих множество шаталось повсюду в праздном любопытстве.
И всё же рискованно было сейчас появляться в гавани. Всякий беглец, если рассудить, устремляется либо на большие дороги, либо в порт, где можно сесть на уходящий корабль. Там-то, в гавани и на дорогах, главные поиски. Это понятно, потому-то Улеб не стал возражать, когда Лис вдруг сказал:
— К заливу нам спускаться нельзя. Переждём. Ищейки думают, должно, что ты успел ночью уйти за стены.
— Не предполагал, что из-за меня поднимется такой переполох.
— Да, — усмехнулся Лис, — забегали, точно по меньшей мере сам цесарь пропал. Признайся, перебил небось целую когорту, удирая с ипподрома?
Улеб пожал плечами.
— Какой там, задел рукой одного-двух походя, только и всего.
— Стало быть, отдали богу души, раз задел. Рученька у тебя известная… Сам Маленький Барс, рассказывали, испустил дух. Плохо твоё дело, рабу не прощают убитых воев, будь он хоть трижды знаменит на арене.
— Что ж, так и будем петлять меж домов дотемна?
— Лучше отсидеться в здешнем кружале. Да и поесть охота.
— У меня ничего нет, — вздохнул Улеб, — мешочек Анита остался у старца с серьгой.
— Не беда, — хрипло рассмеялся Лис и похлопал по поясу, — тут припрятано кое-что на чёрный день. И ещё храню клад в безопасном местечке, покажу в своё время хижину, где зарыт он. Кладут, кладут иногда, хи-хи, монетку-другую в длань несчастного калеки.
— Тогда спешимся, вон очаг и веселье, — предложил Улеб.
— Ну уж нет, в такой день не годится нам глодать хлеб пополам с половой, мы отметим твоё вызволение в знатной харчевне, не с плебеями.
— Привык и хочу ломать хлеб с простыми людьми, — сказал Улеб.
— Хороши мы будем в доспехах средь бедного люда. Хочешь, чтобы народ сбежался поглазеть на паладина у котла уличных ремесленников? Хочешь, чтобы мигом узнали и схватили тебя?
— Будь по-твоему, — согласился Улеб, и они повернули к главным кварталам города.
Ехали рядом, почти касаясь друг друга коленями. Мерно стучали копыта неторопливо и грациозно вышагивающих коней. Лив полудремал в седле, разморённый ранним солнцем после бессонной ночи. Улеб же вовсе, казалось, не ощущал усталости. Ничего не ускользало от внимательных его глаз.
Подле старых каменных арок Валенотова водопровода вечнозелёные оливковые деревца выглядели совсем неказистыми. Тучи маслинных мух витали над этими кривоствольными рощицами. Вокруг богатых домов, облицованных мрамором, с декоративными порталами, среди аккуратных лужаек и цветников возвышались кипарисы, столь же непохожие на невзрачные маслины, сколь непохожи были на замурзанных полуголодных детишек ремесленников сытые отпрыски аристократов, что лениво щурились на прохожих-проезжих, прислонясь к белокаменным колоннам портиков.
Толпа то рассасывалась, то вновь сгущалась. Всё уживалось в общей картине городского хаоса: роскошь и нищета, разум и глупость, горе и радость, граждане и бесправные, солнце и тень.
Улеб видел всё это: людей, дворцы и лачуги — и смутно угадывал те или иные признаки полузабытого пути от бухты к дому Калокира, который оставался сейчас где-то в стороне, между площадями Тавра и Константина. Ему казалось, что он припоминает каждый булыжник мостовой, по которой когда-то вели его, нагого и униженного, и новая волна обиды и гнева захлёстывала сердце, снова и снова вставали перед ним видения пережитого, и чудились призывные голоса родичей с Днестра-реки и тихий плач сестрицы, укоризненный шёпот Боримки, звон отцовской наковальни.
— Войдём туда, — сонно произнёс Лис и указал на вывеску таверны «Три дурака» в конце улицы Брадобреев. — Там найдём вино и пищу достойные.
Перед фасадом харчевни была зелёная лужайка, разделённая на две равные части песчаной дорожкой, которая вела к увешанному гирляндами цветов входу. На остриженной траве кувыркались и балагурили ряженые карлики-зазывалы.
Чуть в сторонке сидел на скамье улыбающийся крепыш, чьей обязанностью, видимо, было следить, чтобы чернь не приблизилась к харчевне для избранных. Человек этот вскочил и почтительно склонил голову перед юным воином и его спутником. Улеб тоже поклонился в ответ, чем поверг того в изумление. Лис прошипел:
— Не забывай, что ты господин, не ровня ему. Ох, пропадём с тобой… Держись как подобает знати, иначе всё испортишь.
Они передали поводья двум подбежавшим мальчуганам, наверно, хозяйским сыновьям, которые деловито привязали Жара и лошадь Лиса к кольям под холщовым навесом у задней стены и тотчас же помчались за кормом и питьём для животных.
— С коней накидок не снимать! — наказал Лис мальчишкам. — Ничего не трогать! Смотрите мне! — И, заметив вышедшего навстречу хозяина, пояснил: — Мы не задержимся, впереди ещё долгий путь.
— Как пожелаете, доблестные и щедрые путники, — молвил хозяин, лица которого нельзя было как следует разглядеть из-за слишком низких и частых его поклонов. Он широкими жестами приглашал гостей в благоухающее чрево своего заведения, сам спешил впереди.
— Любезные распрекрасные дочки мои, Кифа и Митра, украсят песнями вашу трапезу. Сюда, досточтимые странники, сюда.
Улеб и Лис спустились за хозяином в полуподвальное вместилище «Трёх дураков», выбрали местечко поукромней.
— Разве мы не собирались выждать тут темноты? — чуть слышно спросил Улеб.
— Отсидимся, как порешили, но другим не обязательно объявлять об этом. Пусть кони будут наготове, мало ли что. А за хозяина не беспокойся, — усмехнулся Лис, — он не огорчится, коли задержимся, лишь бы плата была хорошей. Да, сытно и чисто тут… Тебя здесь искать не станут.
— Почему ты знаешь?
— Это место вне подозрений, сюда, хи-хи, не впустят и свободного простолюдина, не то что беглого.
— А вон там, гляди, пируют простые все. Те, в жёлтом.
— Ну, в такой ранний час, должно, кой-кого пускают… — неуверенно молвил Лис, вглядываясь в дальний угол, куда указал глазами Улеб. Затем сказал твёрдо: — Нет, люди те не простые, позолоты на них хватает. Сдаётся мне, они с того берега, уж я-то разбираюсь, кто откуда. — Он махнул рукой. — Не мешают, и ладно. О чём мы?.. Ах да. — Лис придвинулся к собеседнику и зашептал в самое его ухо: — Так вот, харчевня эта известна повсюду. Прежний её хозяин — отец Феофано, жёнки Романа ихнего, василевса. Случай привёл сюда владыку, и, сказывали, он пал перед красотой певуньи Анастасии, то бишь нынешней Феофано. Хи-хи, от этих самых столов и бочонков пригожая девица птичкой выпорхнула к престолу. Такая пригожая да лукавая, что этим же престолом и поиграть может, а воеводами ихними уже играет, сказывают…
Лис умолк: к ним уже торопились хозяин и обе его дочери с обильным и разнообразным угощением.
Хозяин был ещё не стар, как и его благообразная супруга, что беспрерывно высовывалась из-за полога, передавая дочерям всё новые и новые блюда.
Прелестные сёстры щебетали без умолку, живо расставляя кушанья и напитки на гладких, тёмных от времени досках массивного стола с резными толстыми ножками, словно исполняли какой-то весёлый танец. Лис, осклабясь, подхихикивал им, а Улеб сидел потупясь, смущённый несколько легкомысленными одеждами девчонок.
Заметив хмурый вид рыцаря, хозяин прогнал дочек, и те послушно отступили в тот самый дальний угол зала, где в полумраке пировали трое шумных мужчин. Других посетителей не было в столь раннее время.
От мяса и фруктов, от изящных кувшинов с вином и затейливо нарезанных овощей и сыра исходил аромат. Улеб и Лис с наслаждением принялись за еду.
Блаженствуя за столом, Лис разоткровенничался:
— Эх, копил я монетки, откладывал, от животика отрывал, мечтал собрать добрый кошель, с ним и подняться, а вышло… Пойми, даже средь попрошаек убогих, с кем водился у ипподрома, прослыл скрягой, потому что не вносил свою долю в их поганый вечерний котёл после дня унижений Грыз, бывало, отбросы вместе с собаками, чтобы сберечь каждую номисму[29]. Ждал и верил, что настанет мой час…
— Послушать, впору от угощения твоего отказаться.
— Ну нет, Твёрдая Рука! Для однодумца ничего не пожалею! Только и ты услуги мои и ласку не забудь после.
— Имени моего не выкрикивай, — строго сказал юноша, хотя вряд ли кто мог их услышать в эти минуты. — Не пей больше зелья, хватит.
— Да, помутился малость, — согласился Лис, — отвык. А бывало, когда-то с братиной по кругу… — Внезапно встряхнулся, глаза — щёлками, отшвырнул обглоданную кость, зашептал взахлёб: — Нет, златовласый, Лис не покойник. Я всегда воскресал. Били меня в открытом поле, били и укромно. От меча Калокира тоже выжил. А доберусь до него… Отдаст моё — отступлюсь, не отдаст — самого порешу. С тобою на него пойти — ладно…
Улеб пристально посмотрел на Лиса, сказал:
— Калокир и мой враг, и Велко, и твой. Это мне понятно, но неясен смысл многих твоих слов. Что-то прячешь ты от меня за словами-то. Может, лучше открыться? Недомолвки вредны меж своими.
— Душа не кормёжка, на стол сразу не выложишь. — Лис громко рассмеялся, произнеся это.
Смех его был услышан хозяином харчевни, который тотчас приказал что-то дочкам. Те заупрямились было, но потом младшая сорвалась с места, как егоза, выскочила на коврик посреди зала и звонко запела какую-то не эллинскую песню, подпрыгивая и пристукивая бубенцом о колени и бёдра. Трое воинов в жёлтых накидках, что пировали в дальнем углу, подбадривали её восторженными криками.
— Зачем эта юница притворяется радостной? — молвил Улеб, смущённо отводя глаза от танцующей девушки.
— Не суди её строго, уж такая у девчонки доля — забавлять кружало. — Лис с трудом ворочал языком. — Хозяину, видно, и впрямь не даёт покоя судьба Феофано. А девчонка, скажу я тебе, пригожа на диво.
Хитрый Лис не слепой, приметил, как юноша, краснея, нет-нет да и стрельнёт своими светло-серыми глазами в красавицу. И любопытство в его глазах, и робость, и неведомый трепет. Снова Лис рассмеялся, приговаривая:
— Для тебя старается, всё перед тобою вертится, прямо зависть берёт. А о чём поёт, не разберу ни слова, непонятен язык её песни.
Улеб вздохнул, откинулся на скамье, прислонясь спиной к стене, повёл вокруг подчёркнуто безразличным взглядом.
В глубокой огнедышащей и закопчённой нише, выложенной изнутри грубо отёсанными камнями, помещался огромный вертел. Под вертелом — противень с жёлобом, отведённым к широкому, как корыто, чану, чтобы не пропадал жир. Пламя очага лизало с боков вращающуюся тушу барана, отблески огня шевелились на каменных стенах, круто уходивших к округлённым сводам и сплошь покрытых высеченными изображениями животных.
Зал был вместительным, гулким. Полтора десятка приземистых дубовых столов располагалось полукругом, обрамляя уже упомянутый коврик из раскрашенного тростника, на котором продолжался танец, и занимая почти всё пространство от внутренних ступеней живописного входа до тяжёлого полога, за которым хлопотали стряпухи под присмотром хозяйки.
— Сидим, — вздохнул Улеб, — не сидеть бы мне на жиру…
Лис причмокивал лоснящимися губами, любуясь девушкой, и бормотал:
— Надо сидеть дотемна, сам знаешь. Щебечет-то как, приглянулся ты ей, златовласый, ой, приглянулся! — Вдруг крикнул певунье: — Как звать тебя, птичка?
— Я Кифа! Ки-и-ифа!
Звон бубенца и голос шалуньи стали нетерпимыми для юноши. А может быть, невыносимым почудилось ему собственное смятение, какое испытывал он оттого, что глаза сами собой отказывались созерцать жаровню, стены, скамьи и прочее, всё чаще и чаще обращаясь к малютке Кифе. Так или иначе, но Улеб вдруг хлопнул ладонью по столу и воскликнул:
— Довольно! Уймись, притворщица!
Она сразу умолкла, точно внезапный хлопок юноши сорвал маску с её личика. Смутилась, зарделась вся.
Лис бросил на Улеба досадливый взгляд, собираясь образумить того каким-нибудь язвительным замечанием, но не посмел, сообразив, что Твёрдую Руку сейчас лучше не задевать.
— Уйди, милая, не серди моего господина, — сказал он. — Вот тебе в утешение. — И царственным жестом бросил ей горсть оболов. Девушка обиженно отпрянула, и монетная россыпь долго звенела на полу.
Она, чуть не плача, смотрела на Улеба. То юность, загадочны и неожиданны её порывы и проявления.
— Пора к Велко в гавань. — Улеб встал решительно и непреклонно. — Надоело прятаться. Подкрепились, и будет.
Но не успели они сделать и двух шагов к выходу, как из глубины зала раздался окрик:
— Стой!
Тихо охнув, шарахнулись хозяин с хозяйкой и старшая дочка их, Митра, за полог, высунули оттуда лица с открытыми в испуге ртами. Трое воинов шли из своего угла прямо на Улеба, угрожающе поправляя на себе нагрудники и наплечники, пристёгивая на ходу ножны мечей.
Лис обмер, словно его окатили ледяной водой. Он не мог понять, отчего едва ли не радостная улыбка вдруг озарила юношу, когда до того дошёл смысл происходящего. Хозяин спохватился, кинулся к выходу, чтобы кликнуть с улицы людей, но Улеб коротко приказал Лису:
— Дверь! Запри и стой там щитом!
Трое незнакомцев в жёлтых плащах ещё не успели приблизиться, тогда как Лис, надо отдать ему должное, уже исполнил приказ Улеба с поразительной ловкостью для калеки, взлетев на ступеньку. Хозяин растерянно повернул обратно.
— Кто ты, презренный чужестранец, изгнавший прекрасную Кифу и отнявший у нас удовольствие? — раздувая ноздри, спросил первый из троицы. — Кто ты, если с самого начала оскорбил нас своим непочтением, не приветствовал наше оружие, войдя сюда?
— Я Улеб, росс по прозвищу Твёрдая Рука, — впервые чётко произнёс юный слова, которым суждено отныне и впредь хлестать слух недругов.
— Твёрдая Рука?! Римляне, вот беглый раб Анита!
— Да, это он! — подхватил второй. — Узнаю беглого скифа, убийцу нашего Барса!
— О счастье! — продолжал третий. — Удача! Мы поймали его! Сам попался!
Улеб, выслушав их, обратился к Лису:
— Напомни-ка, приятель, как называется эта харчевня?
— «Три дурака», — охотно откликнулся Лис со ступеней у выхода, где стоял со щитом и мечом, как было ему велено.
Улеб кивнул с усмешкой, оглядел недругов с ног до головы, сказал:
— Их действительно трое.
Резко отпрыгнул в сторону. И вовремя, ибо сразу три клинка вдребезги разнесли посуду в том месте, где он только что находился. Удары были нанесены с такой силой нападавшими, что они замешкались, выдёргивая глубоко вошедшее в доски стола оружие.
Их замешательство позволило Улебу мгновенным ударом кулака сокрушить того, что был поближе. Бедняга рухнул с коротким стоном и уже не пытался подняться даже тогда, когда случайная струя прохладной влаги из опрокинутого кувшина, пролившись на его лицо, вернула ему сознание.
Двое других, наглядно убедившись, что Анит Непобедимый даёт своим ученикам весьма точные прозвища, приняли позы по всем правилам воинской выучки и вновь попытались атаковать юношу. Улеб в эти минуты напоминал отчаянного мальчишку, увлечённого любимой игрой. Все попытки нападавших поразить его заканчивались неудачей, Твёрдая Рука ускользал от них как заколдованный.
Между тем с улицы доносились беспокойные крики, кто-то ломился в запертую дверь. Хозяин и хозяйка возмущённо кричали, не смея, однако, вмешиваться в драку. Обе девчонки, особенно Кифа, напротив, встречали радостным смехом каждый головокружительный трюк Улеба. Их симпатии были явно на стороне пригожего юноши. Лис наблюдал за проделками земляка, возбуждённо приговаривая:
— Ай молодец! Научили ромеи малого на свою беду! Что творит-то с ними, меча не вынув, голыми руками! Что, красавицы, хорош оказался мой паладин? Гляди, Кифа, вот это танец!
Если бы не эти нескромные речи Лиса, юноша, возможно, продолжал бы опасную игру в ловкость. Кроме того, дело начинало принимать серьёзный оборот, поскольку дверной запор уже трещал под натиском ломившихся снаружи. Настало время выбираться из западни.
Улеб обнаружил наконец свой меч правой рукой, а левой подхватил клинок солдата, лежавшего под столом. Встретил нападавших взмахом обеих вооружённых рук, показал им особый приём, известный среди искусных пеших витязей под названием «два креста».
Вот уж воистину стоять двум крестам над могилами.
— Перун твой хранитель! — вскричал потрясённый Лис. — Проси его, пусть выведет нас отсюда! Дверь не выдержит скоро! Должно, полгорода сбежалось на шум!
Снаружи били в дверь уже размеренно каким-то тяжёлым тараном. Раздался треск проламываемого дерева. Лис втянул голову в плечи и зажмурился.
Улеб лихорадочно соображал, как быть. Метнулся к очагу, где жарился баран, и, зачерпнув из противня первым попавшимся под руку сосудом горячий жир, выплеснул его на ступени перед дверью. Сам прижался к стене, крикнув Лису:
— Сюда! Делай, как я!
И тут в полуподвальный зал «Трёх дураков» ворвались уличные блюстители порядка во главе с тем самым крепышом, что встречал посетителей у входа в заведение. Ворвались и… кувырком покатились, считая лбами жирные скользкие ступеньки, давя и подминая друг друга.
Пока они барахтались на полу, Улеб и Лис прошмыгнули в дверной проем и очутились возле залитой солнцем лужайки. На глазах оторопевших хозяйских мальчишек мигом отвязали своих осёдланных лошадей, галопом помчались по улице Брадобреев.
— Держи-и-и! Хвата-а-ай! — понеслось вдогонку.
Жар стремительно бы умчал Улеба, но юноша чуть придерживал скакуна, щадя менее резвую кобылу Лиса. И всё же бег их был достаточно быстрым, ибо прохожие едва успевали сторониться, бранясь во всё горло. Даже не оглядываясь, чувствовали беглецы нараставшую сзади лавину погони.
— Нашёлся раб, убивший Барса! Ловите Твёрдую Руку! — покатилось от квартала к кварталу. — Варвар и его сообщник оставляют за собой бездыханные тела христиан! Не дадим уйти безнаказанно!
Молва обгоняет любого коня. Всё чаще и чаще из-за углов выскакивали навстречу вооружённые смельчаки, и всадникам приходилось прокладывать путь мечами. Вопли раненых и ушибленных придавали новую ярость погоне.
Впереди открылась запруженная народом площадь. Казалось, это конец, ибо немыслимо было пробиться сквозь такую толпу. Благо Лис, хорошо знавший лабиринты нижней части города, не растерялся и с криком: «За мной!» — свернул в проулок, ведущий на сравнительно пустынную улицу Шерсти.
Беглецы беспрепятственно миновали уже большую часть зловонных сушилен и мастерских скорняков, швейных цехов и примерочных, чередовавшихся с тесными жилищами вдоль узкой, но длинной улицы, когда увидели впереди двух других седоков, скакавших в том же направлении.
Скорее всего это были мирно торопившиеся по своим делам портняжка и его подмастерье, потому что перед обоими лежали на спинах мулов тряпичные рулоны, которые они бережно придерживали локтями, согнувшись в три погибели. А за ними в самом конце улицы Улеб разглядел притаившуюся засаду.
— Держи-и-и их! — вдруг подражая приотставшей погоне, что есть силы закричал юноша, указывая на скачущих впереди себя швецов. — Хвата-а-ай!
Солдаты выбежали из засады и, размахивая копьями, набросили верёвочные путы на ни в чём не повинных портного и его помощника, которые возмущённо отбивались как могли, звали на подмогу собратьев по цеху, и те, конечно же, не замедлили откликнуться. Завязалась шумная потасовка. А когда дружные обитатели улицы Шерсти дубинами и речами разъяснили служивым их ошибку, Твёрдой Руки и Лиса уже и след простыл.
Глава XV
Утро следующего дня Улеб встретил в заброшенной рыбацкой хижине, откуда просматривались и крутой скалистый берег, и лазурная гладь воды за колючими маквисовыми зарослями, и едва различимая тропинка между нагромождениями камней.
Пробудившись от беспокойного сна, Улеб долго сидел на охапке жёсткой, собранной накануне травы, послужившей ночным ложем, словно не мог понять, где он и как здесь оказался.
Наконец вскочил на ноги и тревожно позвал:
— Лис!
Ответа не было. Только поодаль тихо заржал конь, услыхав голос хозяина. Осторожно ступая, юноша углубился в кустарник и без труда отыскал крошечную просеку, где они спрятали на ночь лошадей. Жар и кобыла напарника были на месте.
— Лис! Где ты, Лис?
Солнце уже поднялось высоко. Беспечно щебетали птицы, и ни скрипа колёс, ни людского гомона, ни звонниц, ни шума работы и торга, ничего привычного уху. Никогда ещё Улеб не вставал так поздно.
Встревоженный отсутствием напарника, он вскарабкался на утёс. Перед взором простиралась земля ромеев, и вода, и небо, и столица их, и гавань Золотого Рога.
Теряясь в догадках, просидел на утёсе до полудня, обратив лицо в сторону залива. Когда уже отчаялся дождаться пропавшего, сзади вдруг послышался шорох осыпающихся камешков. Улеб вздрогнул от неожиданности, быстро обернулся и увидел человека в лохмотьях и с посошком в руке.
— Ты! — изумился Улеб.
— Я. Кто ж ещё? — Лис беззвучно смеялся. — Что, златовласый, испугался? Проглядел меня? Я таков.
— Где ты был и почему на тебе снова эти ужасные рубища? Иль опять решил христарадничать у греков? Зачем ушёл тайно?
— Погоди, — перебил его Лис, — погоди сердиться. Послушай лучше меня.
— Нет, — вспылил юноша, изнурённый слишком длительным ожиданием, — сперва объясни, зачем ушёл тайно.
Лис прекратил смех, заворчал:
— Нетерпеливый ты. Я не разбудил тебя из жалости: измотался ты вчера. Хоть и плох был твой сон, неспокойный, а всё же сон. Ты стонал и метался ночью, звал кого-то: «Подойди, подойди ближе». И ещё: «Скорей в степь, скорей, Жар, ждёт лебёдушка горемычная». А то и командовал по-эллински: «Руби! Ложись! Встань! Ещё руби! Бей ребром! Локоть в сторону, вниз, вперёд!» Скажи, златовласый, для чего во сне локтем-то двигать, а?
— Ты не виляй, Лис, говори дело. Куда бегал на заре? Почему в развалюшке рыбацкой яму вырыл?
— Я тебе раньше сказывал, небольшой кладишко там у меня был схоронен, вот и вырыл. А куда бегал… идём в хижину — сам увидишь.
— Тут говори!
— Хорошо. Твёрдая Рука хотел разыскать булгарина по имени Велко? Так вот, я его нашёл.
— Велко здесь? — Улеб радостно бросился к Лису. — Привёл его?
— Я видел его, всё рассказал, и он поклялся, что приплывёт к той скале с наступлением темноты.
— Ты видел его собственными глазами… он жив, слуга дината не обманул меня. Рад ли был он весточке обо мне?
— Ещё как!
— Лис, добрый мой Лис, — растроганно молвил Улеб, — прости, что едва не подумал о тебе дурно. Вовек не забуду преданности твоей!
— По правде говоря, не я его разыскал, а дева. От неё и узнал.
— Дева? Какая дева? Лис, я умру, если сейчас же не объяснишь всё по порядку!
— Когда мы переоделись на складе красильщика в одежду странствующих воев, я не выбросил нищенские лохмотья, помнишь? — не спеша начал тот. — Спрятал их в свою суму. Сегодня они мне пригодились. Много убогих шляется на берегу, и я смешался с ними. Так, неузнанный и незамеченный, пробрался к пристани, где наготове стоят и корабли проклятого Калокира.
— Дальше, дальше, — поторапливал Улеб.
— Я долго наблюдал, как люди дината таскают по сходням мешки и бочки, прислушивался к именам. Ни одного из них не звали Велко.
— Он там! — вскричал юноша. — Должен быть там!
— Разве я сказал, что его вообще нет на берегу? Я сказал: Велко нет среди грузчиков. Убедившись в этом, я хотел убраться восвояси, когда чья-то нежная ручка прикоснулась к моему затылку. Ах, златовласый, что это было за прикосновение! — Лис сморщил рожицу, закатил глаза и благоговейно причмокнул губами. — Я готов сломать собственную шею, чтобы поцеловать свой затылок в том месте, которого коснулась её прелестная ручка!
— Ты издеваешься надо мной! Где Велко? Отвечай, не то моя ручка прикоснётся к твоей башке, и ты поцелуешь Нию!
— В арсенале, — выпалил Лис, которого угроза Твёрдой Руки мигом вернула из сладострастного забытья в грубую реальность. — Велко и ещё одного раба отправили в Манганский арсенал за греческим огнём для кораблей. Видно, Калокир снаряжает их очень далеко. Я видел твоего булгарина, когда они вернулись. А когда их послали за новым сосудом, я успел шепнуть ему, что ты здесь и будешь ждать его вечером у скалы за мусорной свалкой. Они уплыли двумя моноксилами, на каждом всего по одному надсмотрщику. Я только взглянул на твоего дружка и сразу понял: он будет здесь! Уж и одежду раздобыл для него. А ведь самое интересное, он, оказалось, и без меня уже знал, что исчезнувший из палестры боец-триумфатор, о котором толкуют повсюду, это росич Улеб, его побратим. Так и сказал мне. Он, булгарин твой, ещё вчера ухитрился сбегать к постою киевских купцов у церкви святого Мамы, надеясь там встретить тебя. Сказал: там ищеек претора[30] тьма тьмущая.
— Как же ты догадался, что это был именно тот, кто мне нужен, ведь ты прежде не видел Велко?.. Что-то в рассказе твоём темно…
— Идём в хижину, может, и понравится, — ничуть не обидевшись, предложил Лис и первым заковылял вниз по расщелине, цепляясь за выступы камней и корневища растений. Не оборачиваясь, приговаривал самодовольно: — Когда войдём, сразу хватайся за что-нибудь, чтобы не упасть от удивления.
Улеб спускался с утёса следом, умышленно приотстав и держась за рукоять меча.
— Смотри, кого привёл тебе! — раздался торжествующий возглас Лиса, едва они очутились перед лачугой. — Что же онемел, Твёрдая Рука? Приветствуй её! Сама принесла тебе своё сердце!
— Здравствуй, — с трудом выдавил из себя юноша, — вот уж и впрямь диво дивное… Что потеряла, красавица, за городской стеной?
— Тебя, — чуть слышно ответила смуглянка, опуская ресницы.
Улеб Тоже вдруг зарделся почему-то, откашлялся, глаза отвёл. Так и стояли друг против дружки молча. Девушка смотрела в землю, юноша — на облачко. Лис глазками этак стрельнул в неё, потом в Улеба, хмыкнул в кулачишко, насмешник:
— Ишь затараторили, языкатые, спасу нет. Пусть уж вас, беседуйте, а я отлучусь пока, сменю рубища свои на ладное. — И отошёл в хижину.
Молчали, молчали юные, да сколько ж можно? Вот подняла она ресницы. А Улеб подбоченился, глянул открыто, будто на чудо желанное.
Голубая, покрытая вышитыми белыми лилиями, символом девичьей чистоты и целомудрия, одежда с широкой рострой охватывала гибкое, стройное тело Кифы. Даже выглядывающие из сплетённых ремешков сандалии ноготки пальцев на маленьких ножках были выкрашены в голубой цвет, цвет покорности. Как скромна и тиха была она, как непохожа на ту прежнюю Кифу, что бесёнком кружилась меж столами в харчевне батюшки.
— Зачем забрела в такую даль? — ласково спросил Улеб. — Как нашла сюда тропку?
— Слуга твой привёл.
— Не слуга он мне, а товарищ, — поправил Улеб. И тут же спросил строго: — Добром пришла иль с обманом?
— Ты меня оттолкнул, тем и привлёк…
Кифа неуверенными шажками приблизилась к Улебу, положила ладошку на боевую его перчатку. Он руки своей не отвёл, сел на камень, и она опустилась рядышком, осмелела, принялась рассказывать бойко:
— Пела тебе одному. Не такой ты как все… Лучшего не встречала. Отец подумал, что вы знатные странствующие франки. Белолиц ты, волосы светлы, как у северных рыцарей. И велел развлекать вас. Вспомнила старую песню франков, что пела мне в детстве стряпуха одна, вспомнила и обрадовалась. Эта песня о птице, которую заперли в клетке, и она всё щебечет, бедняжка, кличет далёкие ветры, чтоб сломали прутья и выпустили её к солнышку. Я пела тебе, потому что казался мне ветром залётным, долгожданным, но ты рассердился. Лишь после узнала, что ты Твёрдая Рука.
— Как же нашла? — растроганно молвил Улеб.
— Поняла я два слова из всего, что крикнул ты своему человеку. «Велко» и «гавань». Никому не призналась. Вы ушли от погони, то я умолила всевышнего уберечь тебя. И думала: «Знаю, где искать его». И поспешила в гавань к старой Галли, несчастной моей тётушке, попросила: «Галли, милая, помоги отыскать на берегу человека по имени Велко. Имя редкое в наших краях, значит, он иноземец». А она: «Велко — имя булгарское. Где спрашивать его, среди граждан или рабов?» — «С кем может быть в дружбе подневольный боец палестры, избранник мой? — подумала я и сказала: — Ищи меж рабов». А когда прибежала к ней на заре, узнала, что есть у Золотого Рога два Велко — виновар на Малом винограднике и молодой гребец с корабля фессалийского дината. О эта умница Галли! Захочет, отыщет иглу на дне залива! Я помчалась к молодому булгарину. После, там же, увидела и твоего слугу… товарища, узнала, хоть он и переоделся нищим, хитрец этакий. Возрадовалась, словно тебя самого узрела, едва не бросилась ему на шею от счастья. Всё рассказала, всё объяснила ему.
— Ты хорошая, Кифа, добрая, — молвил Улеб в раздумье. — Ты тоже мила мне. Жаль, пути у нас разные, не судьба… Спасибо тебе, будь благословенна. А скажи-ка, Кифа, никто не видел, куда вы пошли с Лисом?
— Нет. Мы брели через лог у самой воды.
— То-то я не заметил вас с утёса. Смотри не проговорись в городище своём.
— Снова меня прогоняешь! Не хочешь взять с собой? — Девушка вскочила, всплеснула руками. — Побойся бога!
— Если б сам я мог знать, где начинается мой путь…
— Разве Лис не сообщил главного? Он просил меня обождать в этом домике, сам же полез на утёс, чтобы сразу же рассказать тебе всё.
— Что он должен был ещё сообщить мне? — удивлённо спросил Улеб. — Что ещё, кроме сладкой вести о Велко? И о тебе.
— Но ведь он сторговался в гавани с тем купцом, который обещал ночью принять нас с тобою на корабль.
Услыхав эту новость, Улеб громко позвал:
— Лис!
Тот явился сразу, и, не будь Улеб и Кифа так взволнованы, они без труда догадались бы по выражению хитрой его физиономии, что он подслушивал их, притаясь внутри хижины.
— Ты, приятель, как видно, непревзойдённый мастер запутывать разум ближних, — сидя на камне и вперившись пытливым взглядом в Лиса, строго произнёс юноша, — однако всему есть предел, моему терпению тоже. Купец и корабль, что значит эта загадка? Объясни. Даю тебе сроку ровно столько, сколько понадобится твоей тени, чтобы продвинуться на пядь.
— Срок достаточный, — Лис ухмыльнулся. — Итак, златовласый, будешь век меня помнить, ибо я не только умею запутывать разум, как ты изволил выразиться, но и заботиться о ближних. Считай, что сегодня поутру я снова спас тебя.
— Всё слышу, как твердят вокруг: спасаем, спасаем тебя, спасаем. То Анит, то ты…
— Тень моя движется, Твёрдая Рука, не перебивай. Предыстория слишком долгая, пядь коротка. Слушай суть. Нашёлся купец, который ночью отплывает на торг в Рось-страну. Птолемей, купец тот, невзлюбил почему-то великого воеводу ихнего Никифора Фоку, он был счастлив видеть на ипподроме, как посрамил боец столицы ставленника Халкедона. Смута между высокими порождает вражду и меж подданными. По эту сторону Босфора молва гласит, будто люди Фоки похитили бойца-триумфатора в отместку василевсу и упрятали на улице Брадобреев, но он, то есть ты, Твёрдая Рука, перебил их и бежал. Говорят, что сам Анит Непобедимый подтверждает это. Многие внизу восхищаются Твёрдой Рукой. Для тех же, кто наверху, пусть совершивший подвиги, но поправший обычай, — беглый преступник и только. Однако тебе беспокоиться нечего: Птолемей охотно возьмёт тебя с собой, не выдаст. Возьмёт, понятно, тайно. Корабль его полон товаров, и такой воин, как ты, на борту дороже целой когорты обычных. Послужи ему, пока не достигнешь родины.
— Если так, я согласен, — молвил Улеб, внимательно выслушав Лиса, — при условии, что он прихватит и Велко с тобой. Не оставлю вас на произвол судьбы.
— Нет, Твёрдая Рука, я остаюсь. Тебе нужно в Степь за сестрицей, мне в Фессалию, рассчитаться с Калокиром, велик должок за ним, окаянным. Булгарин твой тоже сказывал, хочет в замок дината, чтобы выкрасть из заточения возлюбленную. Стало быть, дороги расходятся. Я, признаться, думал на дината идти с тобой, да уж коль подвернулся булгарин — добрый путь тебе в Рось без нас.
— А я? Как же я? — вскричала Кифа со слезами на глазах. Обхватила колени Улеба, взмолилась: — Унеси меня ветром! Возьми с собой, единственный, несравненный! Не хочу без тебя! Не смогу!
Юношу тронул и смутил порыв девушки, он бережно поднял её, точно хрупкую голубую птицу, улыбался тепло и нежно. Кифа склонила голову, и рассыпались чёрные в лентах её волосы на широкой груди Улеба, как сгоревший ковыль на крутом холме. Он сказал ей:
— Прости меня, Кифа… Не взвалю на тебя своей тяжкой доли. Я одинокий воин, а врагов у меня много в твоей стране и дальше, в Степи, до самой родимой межи. Я один, и одному быть мне, покуда не исполню свой долг. Ищи отраду на своей земле.
— Ах, желанный мой рыцарь, как хочу я увидеть вместе с тобою другие земли! Увези в свою крепость, буду петь и плясать для тебя от зари до зари, станешь пить виноградный сок из моих рук! Я сама изгоню слуг из твоих покоев, сама разожгу фимиам в кадилах и сама буду вплетать свежие розы в твой венок на пирах!
— Моя крепость… — усмехнулся Улеб. — На земле родных уличей были у меня молот с наковальней да железная крица в огне — всё богатство. А иного не надо.
— Неправда! — Смуглянка капризно надула алые губки, даже стукнула кулачком по его груди. — Грех обманывать! Все знают, у Анита в палестре бойцы из пленённой знати восточных и северных стран. Всем известно также, что господь наш не плебеев наделяет такою отвагою, благообразием и умом. Просто хочешь отвергнуть любовь мою, хочешь сердце моё разбить обманом. — И расплакалась.
Улеб в полной растерянности заморгал, обернулся невольно к Лису, словно прося совета и помощи, а тот дрожал от непомерного старания подавить в себе смех. Сдержался всё-таки от неуместного смеха, поскрёб белобрысую голову, подмигнул Улебу, дескать, не страдай и не майся, парень, Лис её привёл, Лис её и отвадит.
— Вот что, ягодка, — обратился он к Кифе, — милу быть — это ещё не всё. Я и сам любоваться тобой не устану, а что толку в том? Шла бы ты домой, в «Три дурня», к батюшке. Чем иным утешься, а друга моего не смущай, и так уж темнее тучи. Он ещё дитя малое, рано жёнку ему искать, рано брать на себя обузу. Ступай, сладкая, ступай себе, нам забот без тебя хватает. Повидались, и будет.
Улеб, «дитя малое», показал ему кулак, и Лис сразу осёкся, снова поскрёб макушку, соображая, что бы придумать получше да повнушительней, тем паче что Кифа и ушком не повела. И придумал, хитрец. На то он и Лис. Собрался с духом и крайне вычурно, приподняв за подбородок заплаканное девичье личико, сказал:
— Согласна ли гореть в геенне огненной вместе с антихристом, неразумная? Если согласна топтать верность господу своему ради верности человеку по прозвищу Твёрдая Рука, иди с ним!
Мигом высохли слёзы на округлившихся глазах девушки. Отшатнулась, бедняжка, попятилась, потрясённая, конечно, не столько напыщенностью речи, сколько страшным её смыслом. Улеб, сам того не подозревая, также онемев от выходки Лиса, как нарочно, застыл в позе, могущей быть расценённой как поза гордого еретика на костре. Лис же нашёл в себе силы величественно ретироваться в хижину, точно в келью, где рухнул на жёсткую травяную подстилку и забился в беззвучном хохоте.
Слепая набожность Кифы оказалась во сто крат сильнее её рассудительности и смекалки, ещё недавно удивлявших Улеба и Лиса. Девушка фанатично крестилась и пятилась, пятилась от юноши, точно от дьявола.
Вскоре Улеб и выскочивший из лачуги Лис могли видеть, как далеко внизу, будто мельтешащий бело-голубой мотылёк, убегала она, путаясь в длиннополом своём наряде, устремляясь туда, откуда начинались проложенные колёсами повозок дороги к стенам города.
Улеб, омрачённый и подавленный, смотрел ей вслед. Лис, напротив, смеялся до колик, всё пришлёпывал себя по бёдрам, хвастался:
— Ай напугал я рабу божью! Ай ловко отвадил девку-то!
— Может, зря ты с ней так… Ведь искала меня с доброй заботой. А теперь оставаться рискованно.
— Нет, девчонка болтать не станет. Ей, прозревшей, хи-хи, нынче денно и нощно каяться перед богом своим. Хороша она, твоя Кифушка?
— Не знаю. Мне и правда о девах не время гадать. — Щёки Улеба залились краской, он откашлялся и глаза отвёл точно так, как было это накануне, когда неожиданно обнаружил смуглянку возле хижины. — Надо бы, Лис, с конями спускаться, ждать Велко у воды. Любовь, любовь… У Велко любовь, у Кифы… Будто нету уже места в мире для ненависти…
— Есть ещё, есть, — отозвался Лис, погружаясь в одному ему ведомые мысли.
Стайки пёстрых рыб сверкали в прозрачной воде, омывавшей подножие скал. Лениво колыхались бурные нити водорослей в затопленных расщелинах. Чайки прилетели сюда отдохнуть после суматошных кружений в гавани.
Скоротечны мысли. Бесконечны часы напряжённого ожидания.
Лис плескался поодаль в крохотной заводи, фыркал, бултыхался, шарил руками в трещинах, с шаловливым смехом извлекал оттуда крабов. Улеб задумчиво сидел на полоске песка под крутым тенистым навесом берега.
Пустынно окрест. Лишь далеко в стороне различим был в солнечном мареве плот искателей моллюсков. Точно призраки, исчезали в воде обнажённые загоревшие ныряльщики и вновь появлялись на поверхности, чтобы тут же, жадно глотнув горячего воздуха, опять погрузиться на дно.
Время шло. Сумерки пали, сменил их вечер, близилась ночь. Ловцы моллюсков зажгли на плоту факелы, и не видно уж было во мгле ни плота, ни самих ныряльщиков, только огоньки дивно плясали на отмели.
Лодка появилась из тьмы внезапно. Чёрная, просмолённая насквозь долблёнка ткнулась носом прямёхонько в крошечную песчаную бухту. Взволнованно, крепко обнялись побратимы после долгой разлуки, молча, как подобает ратным мужам.
Лис вклинился меж ними, бормоча:
— Довольно вам, братья, кости ломать друг другу. Надо спешить. На вот, булгарин, оденься, заранее припас для тебя. А мы пока чёлн утопим. — Лис вынул меч, шагнул к однодерёвке и тут же удивлённо спросил: — Это что ты привёз, парень? Не труп ли надсмотрщика?
— Нет, — рассмеялся Велко так, что заблестели в темноте его белые зубы, — я не кровожадный. Все уснули, когда я похитил моноксил, а заодно и посудину со священным огнём греков. Нет им большей досады, чем пропажа боевого огня. Мне бы ещё лук добыть да стрелы…
Улеб и Лис с любопытством ощупывали серебристые бока сосуда, поднимали его, прикидывая на вес, покачивали, слушая, как полощется внутри знаменитая горючая жидкость.
— Ишь ты, — восхитился Лис, — разумны ромеи. Только на кой оно нам? Утопим тоже.
— Зря, что ли, старался брат мой? — возразил Твёрдая Рука. — Спрячем и бочку, и чёлн в рыбацкой хижине. Может, и сгодится когда добрым людям. Лодчонка-то просмолена добротно, век сохранится.
Вытащили лодку с сосудом на песок, подхватили с двух концов и понесли наверх, осторожно ступая по осыпающейся каменистой тропке ущелья. Улеб и Велко в оживлённой беседе делились былым и чаяниями.
— Значит, опять расстаёмся, — сказал Улеб. — Видно, и впрямь завладела тобой пленница Калокира, коли жизнью готов рисковать ради свидания с ней.
— Она мне дороже жизни, Мария моя, дороже всего на свете, — отвечал молодой чеканщик. — Я должен вырвать её из темницы.
— Что ж, — подумав, согласился Улеб, — ты прав. Я ведь тоже спешу на помощь сестрице. Что-то общее есть в наших помыслах, тем и утешимся.
Лис сказал:
— Я позабочусь о булгарине, как позаботился о тебе, Твёрдая Рука. Ну, прощайтесь тут. Пора. Уже ждёт, наверно, корабль Птолемея в трёх сотнях шагов за последним мысом.
С лошадьми на поводу побрели они вдоль кромки воды. Иные места приходилось преодолевать вброд, иные даже вплавь. Ночь выдалась безветренная. В воздухе тонко верещали летучие мыши.
За последним мысом берег выровнялся, триста шагов отсчитали скоро. Лис поднял руку, все замерли, прислушиваясь.
— Никого, — сказал Улеб.
— Тсс… — Лис пошарил под ногами, отыскал два увесистых камня, и два громких всплеска разорвали тишину. И внезапно из ночи донеслось два хлопка в ответ, потом частые удары весла о воду.
— Это за тобой, златовласый, — сказал Лис, облегчённо вздохнув. — Прощай. Надеюсь, меня не забудешь.
— Спасибо за всё, Лис, прощай и будь счастлив, — сказал юноша.
— Прощай, брат, — Велко положил свои руки на плечи Улеба, — горжусь тобой.
— Прощай, Велко. Жаль расставаться. Мы бы у купца лук и стрелы добыли для тебя, показал бы своё уменье перед степняками. Береги Жара, он верно тебе послужит. Будьте с удачей! Может, и свидимся когда, кто знает.
Улеб погладил шелковистую гриву Жара, прижался щекой к влажным губам животного. Конь опустил голову низко, он ведь всё понимал, умница.
— Эх, Жарушко, огненный мой, — вздохнул юноша, — далеко забросила нас судьба-разлучница, повидали мы горюшка вместе и врозь, всяко бывало. Настал час воротиться в родные края одному мне. Ты уж прости, коли что не так. Велко люби как меня, он не чужой нам с тобою.
Тут причалил к берегу плотик, какие обычно содержатся на всех больших византийских парусниках, с него спрыгнул рослый моряк. Он помог сойти на сушу худощавому вооружённому мужчине в кольчуге, затем, бросив весло, поднял с настила лук, приложил к тетиве стрелу и застыл в, позе преданного телохранителя, широко расставив босые ноги.
Мужчина в кольчуге приблизился к нашим героям и, узнав среди них Лиса, обратился к нему низким, спокойным голосом смелого человека:
— Ты не обманул меня. Твёрдая Рука здесь, с тобой. Всякий, кто видел его на арене днём, признает и ночью. Он согласен с моим условием?
— О да, — быстро ответил Лис.
— Хорошо, — сказал Птолемей, ибо это был именно он, и вынул из-за широкого пояса длинный, как чулок, кошель, протянул Лису. — Получай сполна, как договорились. — Купец ещё раз оглядел всех троих, спросил: — Где женщина?
— Её нет и не будет, — хихикнул Лис, тщательно пряча деньги за пазуху, — сбежала ещё днём, чтобы поспеть в храм к вечерне.
— Хорошо, — усмехнулся Птолемей и обернулся к моряку: — Ты слышал, Андрей, женщины не будет на корабле, не забудь сразу же порадовать этой вестью своих головорезов. Оставь лук и подай запись.
Моряк опустил лук, принёс с плотика тонкую деревянную пластину, на которой были вырезаны слова соглашения. Приняв дощечку из рук телохранителя, Птолемей передал её Улебу вместе с кинжалом.
— Поставь своё имя при всех, — сказал он, — режь на ощупь в правом углу.
Улеб резко повернулся к Лису и, с трудом сдерживая негодование, спросил по-росски:
— Что это значит, Лис? Снова загадка? Может быть, лучше мне сесть на Жара, Велко — на твою кобылу, а тебя вместе с этими наглецами уложить навеки? Что за награду он дал тебе? С какой стати?
— Всё правильно, златоустый, таков был наш уговор с купцом, — заикаясь, пояснил Лис. — То заручная запись. Ты сам согласился мечом сберегать его в пути. За это и выдал он золото. Договор был — платить загодя. Я так рассудил: нам с булгарином оно нужней на чужбине-то, ты же, Твёрдая Рука, вернёшься на родину.
— Я о золоте не слыхал от тебя, — рассерчал на Лиса и Велко, — а коль был у вас такой уговор, сейчас же отдай его Улебу.
— Мне всё ясно, — прервал его Улеб, — мудрый Лис прав, как всегда. Ничего мне не нужно, хочу скорее на корабль. — Он высек своё имя на доске, вернул её невозмутимому Птолемею, обратился к нему по-эллински: — Я Улеб, росс по прозвищу Твёрдая Рука, готов защищать твою жизнь и товары от разбоя в море до тех пор, пока не высадишь меня далеко от своей страны в месте, которое я укажу тебе. Клянусь, не нарушу запись!
— Хорошо, — сказал достойный купец.
И они ударили по рукам.
Улеб ещё раз сердечно распрощался с Велко, Жаром и Лисом, прежде чем ступил на плот, который под тяжестью уже троих, плохо повинуясь веслу в руках Андрея, не скоро доставил его на корабль.
Когда наконец плотик стукнулся о высокий борт судна и все трое вскарабкались на него по узловатой верёвке, купец сразу же распорядился зажечь сигнальные огни и поднять парус. Птолемей был не только храбр, но и предусмотрителен, ибо корабль находился за пределами бухты Золотого Рога, выход из которой перегораживался на ночь гигантской цепью.
Парус бессилен в безветрии. Гребцы налегли на вёсла.
Плыл корабль. В блёклом свете луны вырисовывались зубчатые очертания удалявшихся укреплений византийской столицы. И чудился Улебу топот копыт его огненного Жара, уносящего в седле вольного Велко, и слышался серебристый голосок прелестной смуглянки Кифы, молившей в отчаянии: «Верни-и-ись!..» И виделись юному просторы отцовской земли за печенежской степью.
Плыл корабль. Улеб стоял на его носу, презирая сон спящих на палубе воинов-наёмников, подчинённых ему, он смотрел вперёд и тихо запел с детства памятную песню уличей.
Славный сын коваля, честный и сильный, не знавший руки, способной свалить его, в эти благодатные минуты он не мог и предположить, какой страшный удар поджидал его впереди.
Плыл корабль. Плыл далеко и долго, ибо крепки мускулы гребцов, а ночь велика. Как забрезжил рассвет за спиной, дунул ветер попутный, наполнился парус, украшенный каким-то таинственным знаком, и запенились барашки в море. Улеб видит: красив и надёжен парусник Птолемея, не остановить его никаким бурям. Бока высокие, выпуклые, в три цвета крашенные, впереди, на носу, два обитых железом кола торчат, один ниже другого.
Только Улеб недолго любовался кораблём. Взгляд всё больше тянулся к берегу. И чем дальше и пристальней всматривался он, тем ощутимее вытеснялась из груди радость нараставшей тревогой. С восходом солнца оросился юноша к купцу:
— Эй, куда мы плывём? В Рось-страну? Почему солнце сзади?
— В город Рос. А страна там норманнская.
Птолемей был всё в той же кольчуге, с кинжалом на тонком ремне возле пояса, нос орлиный, глаза мудреца, строен, лёгок походкой, руки скрещены, на обветренном, тёмном лице глубокие складки морщин. Он не мог понять, отчего побледнел Твёрдая Рука, гордость и глава его охраны.
— Ты плывёшь в Рось-страну, к моей родине! — крикнул юноша как безумный. — Мы должны в Рось-страну! На восток! Там другие берега! Поворачивай! Я сойду на землю печенегов! Нет?! Ты меня обманул! Умри, мошенник! — Улеб метнулся к изумлённому купцу с кулаками и, вероятно, убил бы того на месте, но споткнулся, будто подкосило стойкого жуткое прозрение, и тотчас же навалились на него все, кто был на палубе.
Птолемей смотрел, вытаращив глаза, на барахтавшуюся груду тел, слышал стоны и вопли тех, кого Улеб калечил в безудержном гневе. Но всё же десятки рук сумели опутать его канатом и привязать к мачте.
— Мне нужно на восток! Мне нужно к морю Русскому! — срывалось вместе с тяжёлым дыханием с окровавленных губ Улеба. — Мне нужно в наше море!
— Помилуй, я не скрывал, а ты знал, что уплываем в другую сторону! — с искренним недоумением воскликнул Птолемей. — Вот запись, там имя твоё! Постой, постой… кажется, я начинаю понимать… Нет, Твёрдая Рука, не я тебя обманул. Рось-страна… Рос… Конечно! Знай же, сначала плывём мы к пустынным берегам Кордовского халифата, где, думал я, собирался ты нас покинуть. Потом достигнем океана, а там мимо франков и саксов, через Северное море к норманнам в Роксильде. Этот торговый город мы, купцы, меж собой называем коротко — Рос. Так и сказал я подосланному тобой человеку: «Плыву в Рос». Клянусь, нет моей вины пред тобою.
Улеб ошеломлённо молчал. Невидящий взгляд его блуждал по столпившимся вокруг ромеям.
— Развяжите его, — приказал купец. Однако никто не шелохнулся, боясь приблизиться к росичу. — Эй, кто-нибудь! Оглохли?
Разрезали кинжалом путы, освобождая Улеба, но он остался сидеть под мачтой, уронив голову на руки.
— Безвинный я, поверь, — сочувственно говорил Птолемей, присаживаясь рядом. — Помочь тебе нет возможности. Слишком дорого ты мне достался. Хочешь не хочешь — обязан служить мне. Не такой ты человек, чтобы нарушить клятву. Кто кого не понял или извратил мои слова, меня не касается, корабль поведу как должно.
— Велик путь туда и обратно? — глухо спросил Улеб.
— Да неблизок, признаться. Годы. — Птолемей вдруг ободряюще похлопал юношу по плечу. — Зато оба воротимся богатыми. Увидишь полсвета, богаче вдвойне. Трус для меня — червь, а такой воин — всё. Ты ведь от клятвы не отступишься.
— Оставь меня. Уйди.
Но Птолемея, обрадованного тем, что Твёрдая Рука внешне выглядел уже довольно спокойным после недавней вспышки, трудно было унять.
— Никто, кроме меня, не отваживается ходить к северным людям за мехами. Милуют меня их страшные плавучие драконы, благоволит ко мне сам Олав, вождь норманнов. Вот он, охранный знак их Олава, на моём парусе. Дважды ходил я в северные города, даст бог, ворочусь и после третьего раза.
Юноша медленно поднял на Птолемея полные боли глаза, сам поднялся, точно хмельной. Было что-то такое написано на прекрасном его лице, что даже бесстрашнейший из мореплавателей Византии вздрогнул.
— Скажи, ромей, скажи мне правду, — хрипло произнёс Улеб, расправляя плечи, — тот хромой славянин, что сговорился с тобой обо мне, знал, куда ты плывёшь на самом деле?
— Знал.
Юноша круто повернулся и направился к своему дозорному месту на носу корабля. Заслышав его шаги, наёмники, щеголяя воинской выучкой, вскочили, выстроились, приветствуя своего нового командира. Улеб взошёл на пурпурную площадку прямо над торчащими из корабельного носа железными кольями — таранами, под которыми разламывались упругие волны, и устремил взор в синее безбрежье.
— Измена!.. — шептал он навстречу солёным брызгам. — Измена… Хоть ты, Велко, прозрей и не дайся проклятому извергу. Сварог всевидящий, надоумь моего побратима покарать предателя в этот час!
Глава XVI
От Большого дворца василевсов к Медным воротам Палатия неторопливой походкой имущего, окружённый слугами, с высоко поднятой головой шествовал всем известный динат из Фессалии Калокир, сын стратига Херсона в Крыму.
Тяжёлые его сандалии гулко и уверенно ступали по плитам аллеи, в то время как шаги многих встречных почтительно замедлялись. Иные вельможи и вовсе останавливались, чтобы поклониться одному из самых частых посетителей Священной Обители.
Так, погруженный в мысли или просто напустив на себя благородную задумчивость, он приблизился к стене крепости, где когорта стражников избранной императорской гвардии отдала ему честь.
Шагая впереди слуг и телохранителей по коридору, образованному выстроившимися воинами с длинными, до земли, щитами и поднятыми торчком копьями, Калокир с удовольствием слушал, как кричали стражники с башен тем, кто находился с наружной стороны ворот:
— Дорогу патрикию!
— Коней!
— Благословен гость владыки нашего!
— С богом!
«Слыхала бы гордячка Мария, как прославляют её господина здесь, смягчилась бы, может… — размышлял Калокир, полезая в седло своего вороного. — Но знаю, ни славой моей, ни богатством строптивую не сломить. Брату требует воли, росичу этому, а где его взять, если сам Анит не знает? Ох-хо-хо…»
Не будь сердечных забот, Калокир был бы жизнью доволен сполна. Он начинал привыкать к почестям и вниманию, которые выказывались ему не только низшими, но и знатными людьми столицы.
Ходили про него всевозможные слухи и догадки. Калокира боялись, завидовали ему, льстили в глаза, а за спиной, как водится, презирали, глумились, ненавидели и в тайных разговорах называли не иначе, как «этот длинноносый выскочка».
Калокир слеп и глух в своём честолюбии, он и не подозревал о презрительных насмешках и скрытой неприязни окружающих, принимал показное за чистую монету. И обольщался без меры, наполняясь сознанием собственной значимости, втайне надеялся достичь даже трона.
День начался очень удачно. Сам всемогущий правитель пожелал его видеть и выслушать. Он, Калокир, был принят Романом Вторым, и услаждали его слух слова похвалы из святейших уст Божественного.
Обернувшись к громаде крепости, на массивных стенах и башнях которой лежало раскалённое небо, динат мысленно воскликнул: «Будет день, вознесусь в Крепость Власти!»
Витая мысленно в облаках, динат не сразу заметил группу всадников, неотступно следовавшую за ним и его свитой от самой кипарисовой рощи, что разделяла Палатий и городские кварталы. Когда же обнаружил преследователей, удивился, затем встревожился. Остановился. Вгляделся внимательно. Скромная одежда мирных граждан, в какую были облачены подозрительные наездники, не могла скрыть от намётанного глаза их воинскую выправку.
Калокир почувствовал неладное. Выхватил меч, взмахнул им несколько раз в воздухе, точно рассекал воображаемые фишки в излюбленном упражнении, чтобы придать себе храбрости. Опасная неожиданность страшней, чем просто опасность. Противный холодок пополз от затылка к спине.
— Заклевали б их вороны!.. Похоже, эти четверо пронюхали о драгоценностях василевса в моих сумах. Или же… Нет, охрану негласную высылать не станут вослед. А может… подосланные убийцы? Но кем? Невероятно. Средь бела дня, на виду у толпы… Это воры.
Между тем преследователи, посовещавшись, свернули в проулок, всем своим видом выражая досаду, поскольку поведение Калокира и его всполошившихся телохранителей привлекло внимание горожан. Даже нищие потянулись от углов и папертей в предвкушении схватки.
Представление не состоялось, и разочарованные зеваки разбрелись. Всё ещё взволнованный динат поспешил прочь.
Как ни гнал своего вороного осмотрительный Калокир, лошади незнакомцев оказались проворнее. Он глазам не поверил, когда обнаружил всех четверых, уже поджидавших его у ворот дома по улице Меса.
— Спрячь свой меч, достойнейший, мы безоружны, — дружелюбно и негромко сказал один из них. — Меня зовут Евсевий Благоликий. Не слыхал? Я не обижусь, суть не в этом. Мы посланы к тебе с добрым делом. Пославший нас наказал избегать любопытства посторонних.
— Кто он, пославший? Что нужно вам, христиане? — несколько успокоившись, тоже вполголоса спросил Калокир.
— Это узнаешь. Да озарит и тебя, как нас, сияние его немеркнущей доблести!
Калокир поспешно изрёк:
— Нет большего сияния, чем сияние диадемы наместника божьего! Я уже созерцал его сегодня, слышал Богоподобного, стало быть, не его волею вы гнались за мной.
Приблизившись к оторопевшему динату, Евсевий принялся нашёптывать тому что-то на ухо.
Когда он кончил, Калокир нахмурился, забегал глазами по сторонам, заёрзал в седле, отослал слуг, потёр лоб в лихорадочном раздумье, вымолвил:
— Я могу, я готов… соберусь только с духом…
Евсевий и трое других всадников, спокойные, самоуверенные, двинулись шагом к площади Константина.
Калокир же, полный смятения и неведомых нам сомнений, спешившись, одиноко зашагал в противоположную сторону через весь город по мощёному спуску. Добрался до нужного места на берегу пролива, бормоча, как во сне: «Либо всё потеряю, либо приобрету неизмеримое на новом пути».
Обычную хаотическую и живописную картину являла собой пристань. Шум и гам в торговых рядах и под полотнищами навесов, где укрывались от зноя моряки, их подруги, продавцы сладостей и пресной воды, игорные мошенники, прихлебатели, наниматели, работодатели, попрошайки и прочий разношёрстный люд.
На обособленной стоянке малых судёнышек динат отыскал чёлн с жёлтым парусом величиною не больше столовой скатёрки и гружёный охапками свежих роз, на корме которого, точно на краю плавучей клумбы, кроткой птичкой примостился божий человечек в монашеской рясе.
Непостижимое существо этот Дроктон. Всякий раз, когда происходили важные повороты в жизни дината, непременно и необъяснимо, как вещее видение, возникал монах-карлик, о котором, сколько Калокир ни пытался, ничего толком не мог разузнать. Какая же роль отведена власть имущими этому недоростку в сложной и часто трагичной суете сует? Символ рока в подобии человечьем?
Так или иначе, устами Евсевия полководец Фока повелел Калокиру немедленно явиться в Халкедон, и этот монах, уже в который раз снова именно он, молча и загадочно увлекал за собой дината в новую авантюру. Вдвоём на утлой лодчонке они пересекли Босфор.
«Хитро придумано, — успокаивал себя Калокир, — конечно, мы везём цветы. А обернись их хитрость лукавее моей, рассеку карлика, как подброшенную деревяшку».
Калокира не назовёшь простачком. Он умел извлечь выгоду из любых ситуаций, гордился собственной дальновидностью, мирился с мыслью, что в великих играх не без риска, не знал роковых ошибок и надеялся не угнать их и впредь.
Признаться, он давно уже пронюхал кое-что о скрытном соперничестве между слабовольным Романом и суровым воином Фокой, хотя первый всячески и во всеуслышание возносил второго. Чуял, чуял динат-пресвевт, что главная сила в стане последнего.
Всё в Халкедоне напоминало военный лагерь. Подавляющая часть населения — войска. Лишь у самой воды в неказистых домишках-склепах, прилепившихся к берегу, влачили существование мелкие торговцы, ремесленники и рыбаки, подвизавшиеся около армии. Издали плоские крыши этих домишек напоминали выщербленные ступени широкой лестницы.
Добротные казармы с вклинившимися в их ряды церквами и скромными жилищами военачальников тянулись бесконечной спиралью. Мостовые грохотали под колёсами тяжёлых обозов и копытами катафрактарной конницы[31], которой особенно славился Восток империи.
Дроктон привёл Калокира к высокому увенчанному белым куполом зданию с далеко выдвинутым портиком. Внутрь они не вошли, а направились к ротонде в глубине неухоженного виноградника. Монах безмолвно указал динату на скамью и удалился.
Калокир долго ждал в одиночестве, прислушиваясь к топоту марширующих где-то солдат и зычным командам, долетавшим к ротонде, из которой хорошо просматривалась лишь тропа между пыльными виноградными шпалерами. Ждал, когда позовут.
Но Никифор Фока пришёл к нему сам. Без охраны. Он прошагал по тропе и очутился в ротонде так стремительно, что никак не предполагавший увидеть великого доместика именно здесь, среди неприглядных лоз, над которыми роились мухи, динат растерялся и не успел отвесить достойный поклон. Сообразив, что стоит с таким человеком лицом к лицу, динат похолодел от ужаса.
И потом, спустя много времени после этой встречи, он будет мучительно вспоминать короткий их разговор, ибо протекал он столь же стремительно, как и само появление Фоки, и оборвался внезапно, почти не запечатлевшись в памяти.
— Для чего был в Палатии сегодня? — быстро, с ходу спросил некрупный плечистый воитель.
— Велено плыть в Округ Харовоя! Пора Куре собираться на Киев!
— Ответ воина. — Поощрительная улыбка тронула мужественное лицо доместика.
— Ходил на булгар, твоя милось, когда-то.
— Немного прожил, а уже исходил полсвета.
— Истинно так, наилучший! — Калокир молодцевато втянул пузцо и выпятил грудь. — В Руссию ходил дважды до твоей благосклонной воли.
— Уплывёшь туда, но не теперь, а когда велю. Возвращайся в Фессалию, замкнись там и жди моего наказа. Моего. Ты расслышал?
— Ох… да, наилюбимейший.
Фока саркастически усмехнулся:
— Вот бы поучился у тебя любви ко мне вздорный племянник мой Варда. У стратига в Херсоне были ещё дети?
— Нет, обожаемый. Нет у меня брата.
— Отныне будет. И, гляди, не забудь возлюбить его тоже. Имя ему — Блуд, тебе знакомое. С ним заодно возлюбишь и ещё два десятка верных мне воинов. А чтобы любовь твоя была надёжнее, получишь награду похлеще Романовой. И ещё запомни. Блуд и все, кого отправляю с ним, возлюбят тебя всей душой, уж присмотрят за тобой в Фессалии, будь спокоен.
Сказал Никифор Фока, как отрезал, и ушёл.
Калокиру казалось, что его ударили чем-то тяжёлым по голове. Снова оставленный наедине с мухами и пыльным виноградником, он ухватился за колонну ротонды, чтобы не упасть. Страх, унижение, гнев и смятение исказили и без того неприглядный его лик.
— Что? Что он сказал? — бормотал динат, скребя ногтями ослизлый мрамор колонны. — Изгоняет меня в кастрон под стражу? За что? Понимаю! Не понимаю… Нет! Скорее отсюда! Скорее к василевсу!
Но динат никуда не бросился, а бессильно опустился на корточки, сжимая свой череп.
— Блуда, этого безродного проходимца Блуда, приставит ко мне соглядатаем! Я для Фоки ничтожная тля. Как мне быть? Подчиняюсь и запомню унижение от Фоки. Меня, Калокира, сына стратига… А сам он, боже, на кого похож! Топчет пыль собственными сапогами, заклевали б его вороны!
— Грех прерывать молитву ближнего, да время не терпит, — внезапно раздался голос.
Калокир вздрогнул, поднял глаза и увидел стройного улыбающегося юношу с необычайно красивым лицом. В жгучей своей обиде динат не заметил, как возник Блуд, за спиной которого стояли дюжие воины в лёгких жёлтого цвета плащах.
— Слава непревзойдённому нашему повелителю! — стараясь взять себя в руки, ответил динат, нажимая на слово «нашему», и тоже изобразил улыбку. — Всемилостивейшему угодно, чтобы я принял тебя, как брата, в своём имении. Дорога в Фессалию с тобой, брат, мне в радость. — А про себя добавил: «Нет худа без добра, скоро увижу Марию».
День спустя завершили показные сборы, сели на корабли дината и отплыли на глазах у столицы. Однако, едва Константинополь скрылся из виду, пристали к берегу. Люди Блуда, оставшиеся на борту, увели суда на полных парусах куда-то. Сам же Блуд вместе с Калокиром и двадцатью воинами, сойдя на сушу, пересели на ожидавших их коней, чтобы двинуться на запад, где веют ветры с моря Эгейского.
Ни Одноглазый, ни остальные надсмотрщики, боясь расплаты за беспечность, так и не признались господину о похищенном мидийском огне и сбежавшем гребце-булгарине. Они были несказанно рады, узнав, что хозяин покидает их. Безудержная радость моряков удручила Калокира, ибо он расценил её как проявление чёрной неблагодарности.
Но настоящим оскорблением для Калокира явился поступок Блуда, который обезоружил дината с издевательской ухмылкой и со словами: «Брат мой, ты доверен моим заботам, и я уже сейчас хочу проявить их. Не обременяй высокородное тело тяжестью излишней ноши, прошу, передай мне свой меч».
Глава XVII
Наконец Лис сказал:
— Довольно спорить. Никто из обитателей кастрона-крепости, кроме самого дината, ни разу меня не видел. Я проникну туда. Жди меня или вестей ровно три дня. Я управлюсь.
Велко задумался, опустился на тростниковый жгут, заменявший скамью, и сидел некоторое время, сжимая виски ладонями. Затем поднял на приятеля карие, доверчивые, как у младенца, полные надежды и страдания глаза, кивнул согласно и произнёс короткое напутствие:
— Будь осторожен.
Высунувшись из шалаша, Велко наблюдал, как Лис, босой и обросший, в грубошёрстной и драной пастушьей рубахе, перехваченной на бёдрах верёвкой, с длинной крючковатой палкой в руке, отбирал вместе с подпасками тех овец, на которых указывал пальцем старик.
Старший пастух был угрюм и сдержан. С того самого момента, когда Велко и Лис избрали пристанищем его шалаш, молодой булгарин не мог отделаться от сомнения и тревоги. Велко не раз уже делился своими опасениями с Лисом, но последний лишь улыбался в ответ, как всегда, загадочно и самонадеянно, успокаивал:
— Он не выдаст, верь мне.
И Велко старался верить Лису, как доверял ему в течение всего долгого, изнурительного, невероятно трудного пути от моря до Фессалоники. Лис поражал простодушного юнака умением легко и ловко выпутываться из самых сложных положений, в какие им приходилось попадать довольно часто.
Когда они достигли владений Калокира, Лис каким-то чудом сошёлся и поладил с пастухом, вёл с ним секретные переговоры, завершившиеся, к немалому удивлению Велко, тем, что неприветливый с виду мистий[32], укрыв их коней в каштановой роще, не только кормил и поил пришельцев, но и взялся помочь Лису пробраться в кастрон, который каменной твердыней виднелся вдали, опоясанный полями и глинобитными жилищами земледельцев.
Овец, отобранных на убой, погнали по пыльной дороге к укреплению. Блея и толкаясь, удалились они. Стихли и крики погонщиков.
В отсутствие Лиса пастух запретил Велко покидать шалаш, сам же подолгу бродил с козами и овцами в лугах. Его широкополое подобие шляпы из листьев каштана можно было разглядеть то над высокими травами пастбища, то у придорожного колодца, то в группе крестьян, останавливавшихся, чтобы посудачить с мудрым.
Поначалу Велко обижался на почтенного мистия, явно избегавшего общения с ним, однако вскоре догадался, отчего старик умышленно уходит от шалаша подальше. Каждый, кому вздумалось бы заглянуть к пастуху в гости, сразу бы понял, кого он прячет. Вот и кружил старик, не щадя слабых ног, до самого вечера в отдалении, точно птица, отвлекающая опасность от своего гнезда. Порой юноша горячо сожалел о том, что послушно остался, но нарушить уговор не мог.
Третий день настал, протянулся тишиной, завершился.
Таяли бледные языки костра. Пастух сидел на бревне. Плоский лик его был спокоен и задумчив. Из ворота шерстяной рубахи выглядывала такая же коричневая и морщинистая, как лицо, иссохшая шея, обвитая чернеющими набухшими жилами, словно змейками. Старик жевал не спеша, как всякий знающий цену хлебу насущному.
Велко взволнованно мял кусок сыра, напряжённо прислушивался к предвечерним шорохам.
Вдруг мистий заговорил. Впервые заговорил многословно и доверительно:
— Я человек мирный, тружусь по найму, лишь бы пропитаться. Но если всевышний немилостив к твоему напарнику, я не откажусь от помощи тебе. Всё равно выкрадем твою деву, не пощажу и старости своей ради доброго деяния. Не падай духом, сынок.
— Ты всё знаешь? — воскликнул юноша. — Отец, твой народ зол и несправедлив к нам. Я тоже, как ты, жил в мире когда-то. Я обижен на твой народ. А у тебя сердце из доброты и сострадания.
— Нет злых народов, есть злые люди.
— Как же ты сможешь помочь мне, если это не удастся Лису, самому хитроумному из всех, кого я встречал?
— Я ещё думаю.
— Нет, отец, я не стану подвергать тебя…
— Не перечь, скажи лучше, зачем связался с родственником нечестивого Калокира?
— Не понимаю, о чём ты?
— Не хитри со мной, сынок, — глухо сказал старец. — Блекнет твой помысел в союзе с одним из их рода. Для чего тебе пачкаться прикосновением к склоке господ? Я хоть и неможный годами, а не слепой. Вижу, что оба они единоутробны, оба две капли воды и лицом и телом. Хоть и одет твой поскромней Калокира. Жаль мне, что во имя спасения своей девы ты прибегнул к его содействию. Я их породу знаю, не отпустит тебя без отплаты, и увязнешь в их неведомой распре.
Велко уразумел заблуждение собеседника, рассмеялся:
— Успокойся, добрый человек. Лис не родня Калокиру. Внешнее сходство их действительно поражает без меры. Только Калокир — негодяй, Лис же друг моего побратима.
— Нехорошо, значит, вышло. Согрешил я, думаючи так о человеке. Ты уж, сынок, не рассказывай ему, если вернётся.
— Лис вернётся, я верю.
Велко встал и отвернулся от костра, жадно вглядываясь туда, где ещё различалась в сиреневых сумерках кривая утоптанная дорога, петлявшая от укрепления на холме до ближних пастбищ, разделённых тёмной рощицей, в которой спрятаны были верные кони и оружие.
Юноша не ошибся в своих ожиданиях. Едва ночь опустилась на землю, послышались торопливые шаги. Лис почти бежал, постукивая палкой.
— На колени, булгарин! — издали крикнул он и захихикал, завидев юношу в свете костра. — Я несу прекрасные вести!
— О Лис! — Велко бросился обнимать его. — Она в безопасности? Ты видел её?
— Дай отдышаться и жажду утолить. — С притворным ворчанием Лис отстранил Велко и, приняв из рук старика миску с водой, сделал несколько больших глотков, утёр губы, возбуждённо поглядывая то на юношу, то на пастуха, сидевшего с крайне заинтересованным видом.
— Отвечай же! — Велко нетерпеливо тормошил его. — Где она?
— Жива и здорова твоя милая, трепещет небось, ожидаючи скорой встречи с ненаглядным. Тебе нужна Мария — ты её получишь, строптивую затворницу дината. Мне же нужен сам динат, да только не повезло мне, нет его тут, нету. — Лис огорчённо шлёпнул себя по ляжке. — Опять упустил я лютого врага.
— Могу ли я в чём понадобиться? — послышался голос пастуха.
Лис глянул на старца и сказал:
— Сейчас мы уйдём оба, но, возможно, поутру снова заявимся. Уже втроём. Заготовь нам харчи в долгий путь, если можешь. А сам язык проглоти, пока не простынет наш след.
— Не беспокойся, — сказал пастух, — мы с теми, кто против наших притеснителей, чтоб им пропасть, господам ненасытным! — И он затряс седой головой, забормотал что-то невнятное, то ли проклятие, то ли молитву.
В роще, где были их лошади, Лис и Велко сменили пастушьи рубахи на воинскую одежду. Затем двинулись в сторону кастрона, придерживаясь полоски редкого кустарника.
Осторожно и осмотрительно ковыляя впереди, Лис тихонько бросил спутнику через плечо:
— Времени нет порассказать тебе всё подробно, да и нужды в том тоже нет. Дева будет с тобой, положись на меня, не зря я истратил три страшных дня в гнездовище Калокира. Ох, булгарин, чего только не наслышался я за то время.
Они добрались до стожка сена на краю поля, что доставало своим краем до самого берега крошечного и вытянутого озера. Взошла луна, и свет её засеребрился на полоске воды у подножия холма, на котором возвышалось спящее укрепление феодала. Словно страж на часах, изредка окликала кого-то выпь. А уж где-то за множеством стадий и вёрст вечерняя заря сплетала объятия с утренней.
— Что ещё удалось узнать тебе, Лис?
— Калокир далеко, он отправился к печенегам с подачкой Палатия.
— Что же мешкаем? Поспешим к ней!
Лис удержал Велко за руку, сердито молвил:
— Тсс!.. Сядь! Так, горячий, недолго испортить все мои хлопоты. Сказано: жди, значит, жди. Мне видней, коли взялся тебе помогать. — Он настороженно высунул нос из стожка, задержался взглядом на запертых воротах кастрона и, успокоившись, нырнул обратно в душистое сено. — Зорька твоя ясная, голубка… А ведь, булгарин, дружку твою динат перед отъездом из заточения выпустил. Сказывают, и впрямь голубкой заворковала с ним всем на удивление.
— Что? Повтори, что сказал!
— Сказал, что слышал. Калокир будто бы побожился ей братца вызволить из каганского плена. Для того, дескать, и снарядил корабли в Степь. Вот она и помягчела, недотрога.
— Лис! Убью тебя!
— Стой! Да она ж тебя, неистовый, одного-то и любит пуще жизни! Как услышала про тебя — залилась слезами, дурёха, от радости. Потерпи ещё малость, доставят её тебе прямо в руки. И крови-то лить не придётся. А кто позаботился? Я.
Внезапный порыв ветерка прошелестел травой, словно оповещал о близком рассвете. Но, как ни коротка летняя ночь, она ещё не уступила землю свету. Ещё не пробудились птицы, и сон людской в этот час особенно крепок. Тишина.
Но что это? Безмолвие уходящей ночи нарушил вкрадчивый лязг отодвигаемых запоров. Две тени пробирались вдоль стены. Спустились к подножию холма, исчезли, словно погрузились в воду. Вот крошечный плот с едва уловимыми всплесками пересёк рябь лунной дорожки.
Лис жестом велел юноше оставаться на месте, сам поспешил к плоту. Велко видел, как Лис не то пожал обе руки приземистому оглядывающемуся человеку, не то сунул ему что-то, после чего последний кинулся наутёк и мигом растворился в сумраке.
Лис бежал с девушкой по тропинке через пастбище к роще, размахивал руками, приглашая юношу следовать за ними.
Беглянка путалась в полах длинного тяжёлого хитона с чужого плеча, глаза её закрыты, прерывистое дыхание срывалось с уст, и даже в темноте была различима мертвенная бледность девичьего лица. Поравнявшись с любимой, Велко поймал трепетную и прохладную её руку.
— Мария!..
— О ладо, долгожданный мой, я чуть жива…
Развесистые кроны деревьев роняли глубокую тень, укрывшую их. Расступились каштаны, открывая полянку, и призывно заржали застоявшиеся кони, почуяв людей.
Противоречивые чувства, презрение и зависть, охватили Лиса при виде столь откровенных проявлений торжества со стороны молодых людей. Но чем дольше поглядывал он на них искоса, тем явственней просыпалось в его душе нечто совершенно неведомое прежде. Оно, это незнакомое, непонятное, одновременно сладкое и щемящее чувство росло, пугая своей новизной.
Лис, убийца и лжец, впервые в жизни испытывал удовлетворение, наблюдая чужое счастье.
Велко и девушка стояли рядышком на обломке упавшего дряхлого дерева, держась за руки. Ласковые их слова нежной песней вплетались в тихий шелест листвы. Казалось, не будет конца умильным их речам.
— Ну будет ластиться-то, надо готовиться в путь, — сказал Лис. — Стало быть, так: я на своей кобыле с основным грузом, а вас Жар легко вынесет и двоих. Пора. А ещё завернём к пастушьему шалашу. Прихватить бы полтеи баранчика. Как достигнем первого города, распрощаемся. Ты хоть имя открой напоследок, красавица.
— Улия, — ответил за девушку Велко. И повторил благоговейно: — Улия.
— А сама-то онемела? — рассмеялся Лис ободряюще. — Что невесела?
Девушка встала, стройна и печальна, полными слёз глазами неотрывно смотрела на Велко. Сказала чуть слышно:
— Прощайте… Я остаюсь.
Велко с Лисом отшатнулись, разом вскрикнув от изумления.
— Я остаться должна, — повторила твёрже.
Вот уж кто онемел, так это Велко.
Лис же в гневе встряхнул её за плечи, воскликнул, срываясь на визг:
— Как смеешь глумиться! Мы добирались сюда вечность! Я отдал стражнику последнее, что сберегал на чёрный день! Я не динат, капризов бабьих не потерплю!
Струились слёзы по щекам, плакала Улия и шептала:
— Должна я остаться, должна, должна… дождусь его, родимого…
— Калокира, что ли?! — Лис даже подпрыгнул. — Ах, такая-сякая, он родню твою погубил, а ты же по нём рыдать?! Опомнись! Или правду молва гласит о твоём сговоре с динатом?
— Он тут ни при чём, — отвечала бедняжка, — не о постылом печаль моя…
Велко, словно очнулся от страшного удара, спросил:
— Неужто, Улия… Ох, Мария, я немил тебе больше?
— Ладо, милый, что же делать мне, коли обещал грек воротиться с Улебом, братцем моим младшеньким, беззащитным, из заморских степей. Как же можно мне не дождаться Улеба?
— Улеб, сказала ты? — взволнованно переспросил её Велко.
— Улебом звать твоего братца? — словно эхом отозвался голос Лиса. — Уж не тот ли Улеб, что пленён был печенегами на Днестре, в земле уличей?
Девушка охнула и опустилась на траву, как скошенный цветок. Лис и Велко ошеломлённо обменялись взглядами.
— Нет, не может быть, — бормотал Лис. Припадая на нездоровую ногу, он сделал несколько шагов по полянке, затем вдруг резко обернулся, в два прыжка очутился рядом с девушкой, которая, казалось, вот-вот лишится сознания, и, отчётливо выговаривая каждое слово, спросил:
— Как звалось сельцо, откуда ты родом?
— Радогощ, — обронили остывшие губы.
И тут Велко, сорвавшись с места, подхватил её на руки, целуя и крича, точно безумный, так, что слетели с веток и закружились в светлом небе над проснувшейся рощей птицы.
— Это он! Мой славный Улеб! Он! Ах, твой братец, Улия, брат и мне! Утешься, голубка, наш Улеб вовсе не беззащитный, он свободный воин! Люди нарекли его Твёрдой Рукой! Тебя он помнит, ничего, никого не забыл! И мне и ему, — юноша указал на Лиса, — Твёрдая Рука в разное время поведал о несчастной доле Радогоща, и всё рвался он в приморские степи, чтобы спасти тебя и отомстить ненавистным.
— Месть, месть, месть… — неожиданно вырвалось у Лиса. — Люди волками рыщут по миру с местью на острие меча. Видно, нет ни конца, ни начала у злобы нашей.
— Не слушай, милая, не слушай! Нет, Лис не прав, люди добры повсюду, злы только нелюди. Сам Улеб сердцем мягок ко всякому чистому, — пылко продолжал юноша, — рука его тверда лишь против подлых!
Улия жадно ловила слова возлюбленного, бедняжке казалось, что всё это сон: и встреча с Велко, и вести о братце, и рассвет с громким пением птиц. Канула ночь, солнце вышло к лугам и перелескам, осушило слёзы-росу, и засверкали девичьи глаза, будто солнце своим светом озарило не только землю, но и саму жизнь.
— Где он теперь?
— Нам известно главное, — отвечал Велко, — он уплыл в Рось-страну. Взгляни, вот его конь! Узнаешь? Да, это верный его Жар! Он унесёт нас в земли славян, где, клянусь, мы отыщем Улеба! В дорогу!
— А как же мясцо пастуха? — подал голос Лис.
— Сколько можно тянуть с неимущего! — возмутился булгарин. — Сам-то он одним сыром питается. Надо совесть иметь. Пожелаем ему добра, и в путь!
— Я баранчиков печёных страсть как…
— Вперёд! — Велко вскочил в седло и, наклонясь с нетерпеливо гарцующего Жара, подхватил девушку с земли, усадил за своей спиной.
Счастливая и слегка встревоженная грядущей неизвестностью, Улия обняла своего избранника так, что маленькие её ладошки скрестились на его груди, и прижалась щекой к его затылку.
Лис тоже, отвязав свою кобылку, вскарабкался в седло, тронул поводья, поцеловав при этом воздух, и все трое покинули каштановую рощу и выехали на дорогу.
Вскоре очертания кастрона скрылись из виду, наши герои спустились в низину и облегчённо вздохнули: теперь никто из слуг Калокира не мог приметить беглянку и её спутников. Ну а встречных крестьян можно было не опасаться, они не враги.
— Унеси меня, сокол ясный, унеси в родимую сторонушку, — ласково шептала Улия в шелковистый затылок чеканщика.
Велко млел от блаженства. Лис ехидно и завистливо бубнил в кулак:
— Ну, бабы! Горазды ластиться да мурлыкать! А он-то распустил слюнки. А и то сказать, хороши они, наши девицы. Эта, пожалуй, покраше Кифы. И не одна-то ещё не склонялась на мою грудь… Тьфу!
Мёртвая, каменистая равнина простиралась вокруг. Вид её был бы совсем удручающим, если бы за валунами, похожими на надгробия, не лежало небольшое и круглое, как голубая миска, новое озерцо. По берегам рос густой и высокий тростник. Дорога изгибалась у озера, подступая к прибрежным зарослям, а дальше вновь тянулась к горизонту прямая как нить.
Лис пристально вглядывался в даль. Его внимание привлекло подозрительное облачко пыли на дороге. Внезапное волнение Лиса передалось остальным. Спешившись и ведя лошадей на поводу, они на всякий случай углубились в заросли. Уложили коней неподалёку, сами принялись наблюдать.
— Целый отряд, — тревожно заговорил Лис, отличавшийся необыкновенной зоркостью, — не менее двух десятков. Кажется, акриты[33]… Жёлтый цвет?.. Азиаты?..
— Что нам до них, — отозвался Велко, — пусть себе скачут стороной.
— Однако далеченько забрались от своей границы, — продолжал Лис, — у ромеев не принято, чтобы акриты одной фемы шатались по дорогам другой. Что-то неладно. Судя по нарядам и снаряжению двоих… Конечно, те двое патрикии. Но почему… похоже, того господина на вороном жеребце охраняют как пленника.
И вдруг Лис умолк и побелел. Пальцы его рук судорожно впились в плечо Велко. Приближавшийся отряд уже оглашал окрестность дробным стуком копыт.
— Калокир! Гляди, булгарин, там Калокир под стражей. Или я не в своём уме?
Лис и впрямь, казалось, лишился рассудка. Немалых усилий стоило Велко удержать его на месте. Юноша обернулся к Улии, кивком головы указал на послушно лежащих коней, и она, поняв немую его просьбу, отползла к животным и приложила ладони к их ноздрям, чтобы не заржали, почуяв кавалькаду, не выдали.
Запылённые, свирепые от усталости воины ехали, не соблюдая строя. Породистые, отменно обученные лошади тоже выглядели утомлёнными, ступали, низко опустив шеи и чуть приседая ногами.
Калокир что-то коротко произнёс, обращаясь к конвоирам, вероятно, предложил воспользоваться удобным местом для водопоя. Все стали слезать с коней.
— Мы пропали, — в отчаянии прошептала Улия, — схватят нас.
Велко глянул на Лиса и взялся за рукоять меча, готовый к смертельной схватке. Лис приложил палец к губам и сморщился, как бы показывая молодым людям помалкивать и не шевелиться, сам же, обронив уже вслух: «Чему бывать, того не миновать, коль сам он ко мне явился», — внезапно поднялся во весь рост и решительно заковылял навстречу отряду.
— Привет тебе, Блуд! И тебя я узнал! — воскликнул он, видя, что воины вытаращили на него глаза, будто выскочил к ним водяной из болота. — Я одинокий путник, избегаю встреч с разбойными людьми, оттого и прятался, заметив вас издали.
Солдаты окружили его плотным кольцом, ибо так повелел им жест командира, который, надо отметить, весьма оживился, будто какая-то сила смахнула печать усталости с красивого, как у девушки, его лица.
Динат же крестился и лепетал:
— Сгинь!.. Сгинь!..
— Оставь, Калокирушка, оставь свои замечания, — сказал Лис, болезненно улыбаясь, — не оборотнем, а собственной плотью предстал перед тобой. Я жив и не помню коварства. Забудем прошлое. С миром пришёл в твои земли, с миром и уйду, если вознаградишь меня за все былые заслуги и страдания. — И, понизив голос, чтобы не расслышали в своей засаде Велко и Улия, продолжил, доверительно подмигивая: — Если поладим добром, я тоже в долгу не останусь. Так услужу тебе тут же, на месте, что сам удвоишь награду. А тебя-то, любезный Блуд, никак не предполагал встретить в этих краях. Эхе-хе, сколько воды утекло с тех пор, как виделись в последний раз. Ну и денёк выдался! Вовек не забуду! Дай обниму!
Блуд молча и брезгливо оттолкнул Лиса, который на самом деле намеревался заключить того в объятья.
Тут динат наконец пришёл в себя настолько, чтобы собраться с мыслями, и бледное от природы его лицо покрылось пятнами от ударившей в голову ярости.
— Вели отдать мне меч! Рассеку наглого, как деревяшку! — в гневе обратился он к Блуду.
— Стало быть, так порешил, Калокирушка… — прошипел Лис. — Что ж, Блуд, ты воевода видный, будь же и правым. Я неглуп, сразу смекнул, что и тебе досадил изменой окаянный, иначе бы не волок ты его под стражей за тридевять земель. Ты меня знаешь, так позволь рассчитаться с нашим обидчиком.
С этими словами Лис бросился к динату, чтобы поразить его в самое сердце, и уже сверкнула острая сталь, но раздался грозный окрик Блуда:
— Стой! Эй, так не годится. Я тебя знаю, верно, но и противник твой мне знаком. — Блуд рассмеялся, эхом прокатился смех и в кругу его воинов, им, видно, пришлось по вкусу неожиданное развлечение, даже про водопой позабыли. — Ты немного ошибся, Лис, совсем немного. Я не судья достойному динату, а гость его. Мой гостеприимный хозяин требует оружие, пусть получит его. Решайте свой спор поединком, а мы расступимся.
Солдаты живо расширили круг, не расслышав странного шороха в зарослях. Лишь чуткие уши Лиса уловили шелест тростника, и он догадался, что это Велко порывается выскочить ему на помощь, а девушка изо всех сил удерживает его от безрассудного шага.
Лис крикнул, задрав подбородок к небу, чтобы Велко услышал:
— Это моя забота, мне и расхлёбывать! Молчите, что бы ни случилось! Один не трое! Помни, кто с тобой, помни о своей клятве ей! Авось огрею сейчас Калокирушку — ножки вытянет!
Воины и оба патрикия, принимая выкрики Лиса за диковинное обращение язычника к духам, подивились прыти хромого уродца. Лис второй раз в жизни ощутил в себе сладкое и щемящее чувство, подобное тому, какое испытал в каштановой роще, когда привёл туда счастливых влюблённых.
Со звоном и скрежетом скрестилось оружие двух очень похожих друг на друга противников.
Необычайно умение Калокира, страшен и неотразим меч в его натренированной руке. Хоть и бывал Лис когда-то в рядах известной на весь мир дружины, а всё же не устоял уже под вторым ударом искусного в рукопашном бою дината. Да, Лис был обречён. И рухнул он, обливаясь кровью, испуская жуткий предсмертный вопль.
Этот душераздирающий вопль изрубленного, корчащегося в чудовищных судорогах был настолько ужасен, что солдаты и оба патрикия бросились прочь. Живо достигли кони византийцев крутого холма, лишь на гребне которого вздумалось Калокиру оглянуться.
— Мария?! — вскричал динат. — Там Мария! И не одна! Сбежала! Скорее, Блуд, хватайте их! Озолочу!
Да, к несчастью, Велко с Улией слишком рано покинули убежище, торопясь хоть чем-нибудь облегчить страдания умирающего. До ромеев ли было им, когда Лис в двух шагах от них, прекратив свой страшный вопль, тихо отдавал небу душу.
— Он ещё жив, спаси его, Велко, спаси, — умоляла Улия в растерянности.
— Ему уже не помочь, — вздохнул юноша, подкладывая под голову лежащего свёрнутый свой плащ и откупоривая тыковку с водой, чтобы оросить запёкшиеся губы умирающего.
— Что он говорит? — ломая в отчаянии руки, спросила девушка.
Велко и сам заметил, как мучительно шевелились губы Лиса. Он низко склонился и расслышал прерывистое:
— Изверг… Вижу немого изверга… лес… на Белградской дороге… за Киевом… Я продал… родину продал… подыхаю… как изверг… на чужой… Я убил гонца Богдана… А Блуд… Блуд назвался Милчо… из Карвуны… назвался послом Петра… оклеветал булгар… Калокир клеветал… Это ромеи послали Курю… на уличей… с подлогом… Велко, Велко… Быть войне… булгарами и нашими… Прокляни меня…
— Он бредит! Прощай, Лис, прощай! — крикнул юноша, не веря тому, что услышал. — Кошмарный бред его.
— Это не забытье… — собрав остатки сил, Лис нащупал что-то за пазухой, вытащил, разжал кулак, и Велко с Улией увидели позолоченный медвежий клык на цепочке.
— Знак высоких гонцов великого князя Киевского, — прошептала Улия. — Откуда он у него?
— Не булгары… я погубил Богдана… возьми, Велко, спрячь… сохрани…
Юноша повиновался, ошеломлённый, а Лис продолжал страшную исповедь, с невероятным трудом выдавливая из себя хриплые звуки:
— Быть войне… меж братьями… Прокляните, заблудшие… Я продал… Улеба продал… обманул… Корабль Пто… Птолемея увёз его… не в Рось-страну… в другую сторону… Не вернуться Улебу…
— Молчи! Не смей! — Велко отпрянул, подхватил девушку на руки. — Он лжёт, Улия! Лжёт!
— Нет, это правда… тайна душила… теперь мне легко… мне хорошо… умира… — Лис вздрогнул и испустил дух.
С бесчувственной девушкой на руках Велко стоял, оцепенев, посреди дороги и слепо глядел на марево пыли, из которой, точно жёлтые привидения, с громким топотом выскочили конные воины. И не мог он понять, почему набросились на него эти люди, зачем вяжут его и Улию, куда тащат.
Когда, так и не дождавшись зова хозяев, огненный светлогривый Жар вместе с навьюченной лошадью Лиса вышел из прибрежных зарослей, вокруг стояла полуденная тишина. Только прошуршала где-то в сухой траве вспугнутая копытами ящерица, да на озере какая-то птица вскрикнула одиноко и печально.
Глава XVIII
Немного лет кануло с тех пор, как проводил Роман отца в мир иной. Думал ли он, обожавший земные радости, что сам отправится следом за Порфирородным так скоро…
Вновь отшумел над Византией погребальный звон, сотрясая столицу и все провинции, и снова птицы, всполошённые звонницами, кружили над куполами и обелисками. Отслужила империя панихиду, прокатили военачальники катафалк с прахом почившего, проползли по улицам и площадям Константинополя плакальщицы.
Событие это завершилось бунтом народа, воспользовавшись которым, Никифор Фока мечом проложил себе путь к власти. А через месяц женился на лукавой августейшей вдове, красавице Феофано.
И ликовали толпы, приветствуя нового василевса, первого из рода Фок.
Итак, взошёл Никифор Фока на трон империи, чтобы править.
Неспокойно, черно было в стране. Воюя против Сирии, Никифор Фока не мог одновременно сражаться и с Русью, он искал союзников в Булгарии, печенегов же поторапливал в их сборах на Киев.
— Веди! — отозвалась дружина единым криком. — Веди и верь!
— Веди, — сказал Асмуд, — не гневись на меня, старого, верь в походе!
Святослав рукой сжал-тряхнул удила, громыхнул в сердцах левым кулаком о червлёный щит у колена, молвил сердито и тихо:
— Попусту за словами хоронимся. Едем же! — и сдёрнул боевую рукавицу, разрезал ладонью воздух перед собой. — Вперёд, соколы!
Но не покатилось эхо звонких бубнов, не пели кленовые дудки, и копыта утонули в мягкой траве. Тихо двинулись конные ряды молча, как велел князь. Дружина выступила из Киева.
Сдержанным был ропот толпы на холмах. Малышня голопузая не высыпала на дорогу, как бывало прежде, жалась к матерям, подавленная общей печалью. Развёрнутый стяг дружины провожали тысячи влажных глаз.
Бежала дружка князя ключница Малуша по обочине, закрыв ладонями рот, босая и простоволосая, боялась вслух повторять тревогу ночных сновидений, долго-долго бежала, словно всё ещё надеялась, что обернётся он, да суров был Святослав, вёл свои копья решительно, слеп и глух ко всему и всем, кроме дороги и гридей.
На возвышении замерла девушка, и услышали задние ряды пеших и конных громкое и отчаянное:
— Погода, храни россов!..
Скрылся город вдали. А Малуша всё виделась на косогоре, недвижимо стояла. Трепал ветер белую холстину платья с вышитым узорочьем на широких рукавах. Руки прижала к груди, где висел княжий подарок — золочёный футляр с иглами для шитья, и светился игольник на солнце, сиял, будто сердце.
Уходя, пожелали мужчины мысленно: «Вам, матери, жёны, сёстры и девы юные, не скучать без нас под опекой Мокоши. Ждите за пряжей с богиней своей да шейте рубахи нам, в коих праздновать возвращение».
Не Днепром и морем двигалась дружина на Дунай, а в сёдлах, ибо так было сказано на вече. «Правы отцы полков твоих, Святослав, веди посуху, — говорили старейшины. — Сколько ни плыли Славутой, всегда на порогах засады каганские. Не страшен Куря, били его походя, но и многих своих молодцев потеряли бы под погаными стрелами на Крарийской переправе[34], да на каменьях волоков. Нынче с истинной силою мериться».
Едут и едут плотной, упругой лавиной, не спеша и усердно. Много новых прямоезжих путей проложили сквозь дремучие пущи и буйные степи. Оружие не в обозе, на них. И обозов-то самих нету. Не просто выступили, а понесли «рыбий зуб» — моржовую кость, древний знак обиды меж народами.
День за днём, день за днём миновали городища и погосты. Выходили навстречу общинные старшины. Дружина же мимо шла, на поклоны и приветствия отвечала сдержанно. Подымался грозный стяг, распятая медвежья шкура под остроконечным навершием. И дивился встречный люд сему угрюмому походу, переговаривался:
— Сам великий князь золота не надел.
— Каждый при нём в обувенье верёвочном, в дорожной шерсти и железе без украшений.
— Стало быть, предстоит нашим сеча многотрудная, коль не украсились.
На своей земле воеводы не высылали сторожевые отряды, смело шли. Посылали вперёд лишь зажитников, не волчьей же сытью питаться. За битую птицу и говядину, за каждую миску еды, за воду и корм лошадям никому не платили. И боярину попутнему и смерду — тяжкие убытки. А уж бедному, конечно, тяжелее тяжкого.
От зари до зари стучали копытами. Только ночью знала дружина большой привал и отдых.
А ночи стояли звёздные, душные. Костры редко жгли, так было тепло и ясно. Прогревались за день пески и камни, не хранилась в дубравах прохлада, млели цветы на лугах, а змеи спали прямо на голой потрескавшейся земле. Иссохли ручьи, заплесневели затоки рек. Лишь колодцы, давая студёную влагу своих глубин, утоляли жажду воспалённых ртов.
С рассветами, сколько хватал глаз, простирались необъятные степи, и всё чаще и чаще попадались среди стелющихся под суховеями трав на верхушках курганов тёсанные из валунов чужетворные древние идолы, божества кочевников, забредавших сюда с Дона и находивших здесь не отраду, но гибель, ибо и тогда, и теперь, и впредь не снискать пощады тем, кто злонамеренно ступал или ступит на землю россов.
Наши гордые предки изгоняли незванных нещадно, да щадили, не рушили изваяния хазар и половцев. Так и стояли чужие лики окрай южных степей наших.
Росские боги всё больше из дерева резаны. Не из сухого, из живого дерева. Сухое дерево мертво. И глядят воины Святослава на колченогих, грудастых половецких баб, что сложили уродливые руки на каменных плоских своих животах, каждая — повторение предыдущей.
Дивятся воины. Юный направит коня к старому воеводе, спросит негромко:
— Старший брат мой, голова твоя в снегу, всё тебе ведомо, ты скажи-ответь, отчего не повалены идолища поганых?
Седовласый ему степенно:
— Камень тёсан умело, лики эти — человечье творенье, в них покой, не угроза, нашим истинам не помеха. Мирное творение всякого человека велми прекрасно. Нам завещано, завещаем и мы: не предай красу поруганью.
— Даже если чужого племени?
— Красота едина для всех.
Мудрая правда в словах этих. Для всех красота едина. Но она не единый предмет или зрелище, а повсюду, во многих, и тем мила сердцу и разуму людей, способных постичь и сберечь её или найти.
Где предел прекрасному? Его не ищи. А всего краше небо Родины, её леса, холмы, равнины, города и сельца, лежащие во всю ширь земли-кормилицы, на которой века оставляют следы нашествий, изгнаний, смерти и возрождения. Пусть останутся потомкам в напоминание об истерзанном прошлом и курганы, и изваяния — всё. Пусть грядущие знают былое.
Брод через Днестр указал юный ратник Боримко. Перешла дружина реку и за нею села на отдых. Княжич велел три дня сидеть. Чистили оружие, выгуливали коней, чинили одежду, набирались сил. Удивил свои полки князь, прежде не знали от него подобных приказов в походах, никогда не сидели попусту. И хмурый он, сердитый, всё мыслит-размышляет, уединясь, чернее тучи.
Боримко, едва объявили велик привал, набрался смелости, подступился к вождю.
Святослав остался верен своему походному правилу: с мечом в дороге — невзгод поровну. Словно простой воин, прилёг на потник, седло сунул под голову, оружие у изголовья положил, охрану свою отослал к общим огнищам. Лежал в одиночестве, заложив руки под затылок, не мигая смотрел на звёзды, вдыхал едкий дымок тощего костерца, собранного из сухотравья и кизяков, слушал гридей, что тихо пели поодаль.
Боримко пробрался к его костру с охапкой веток, вроде бы заботясь об огне, сам преклонил колени у стяга, воткнутого древком в земную трещину, покашлял негромко.
— Кто тут?
— Это я, Боримко из Радогоща. Не прогневайся, заступник, позволь испросить.
— Почему тут?
— Я огонь стерегу. Позволь слово молвить, великий, тяжко мне…
— Говори.
— Недалеко отсюда, полночи бегу верхом, пепелище моего Радогоща. Я к Днестру ворочусь, на берег, где стоял родимый дом, поклонюсь, перечту поминание. Отпусти, княжич, сделай милость, уважь сыновий долг. Завтра с заходом солнца буду здесь.
Святослав вдруг вскочил, подошёл к молодому соратнику, поднял его с колен, сказал твёрдо:
— Нет.
Никак не ждал Боримко отказа, удивился безмерно. Испугался даже сердитого вида князя. А тот стоял рядом, глядел куда-то в сторону, поверх головы онемевшего юноши, сам юный, властный, озабоченный. Лунный свет отражался на влажных скулах и лбу, русый локон волос прилип к бритой макушке, крупные, белые как соль зубы покусывали травинку.
Вот Святослав, точно в забытьи, положил руку на плечо дружинника и сказал уже мягко:
— Нам идти будет ещё труднее. Сбережём и коней и себя до времени. Потому-то и отдал три дня на покой. Твоя просьба достойна хвалы, понять тебя могу, но и ты уразумей мои опасения. Не на Степь идём, не в Югру[35], не за море Сурожское, а идём на Дунай. Обиду несём, не злобу. Не пущу тебя, брат, огражу твою рану от новой боли, не хочу распалять в твоём сердце жажду крови, ибо кровная месть слепа, не щадит ни малых, ни старых. Росский воин не зверь прыскучий.
— Я не зверь. Поклониться хотел только жальнику.
— Вот накажем виновных за все злодеяния, разом поклонимся и Радогощу, и Богдановым сиротам, и святому капищу.
— Эх, княжич, не уважил сыновий долг мой… А что до малых и старых… наших-то резали без разбору, того не забыть.
— Ступай! — вспыхнул князь. — Знай место своё в строю! Ладное войско не стая вразброд. — И, когда Боримко, покорясь сквозь досаду, удалился и смешался с россыпью густо мерцавших шлемов и кольчуг вповалку отдыхавшей братии, Святослав бормотал что-то, ворочаясь с боку на бок.
Настал час, когда двинулись вновь тысячи конных и пеших. Шли и шли в череде восходов и закатов, а Русь за спиной. Ясно, шли нелегко, часто с кровью продирались.
Нежданны-негаданны были для всякого человека иного племени. Упрямо держал Святослав свой путь к Дунаю, на Доростол, долгий путь, не единым павшим росичем на дорогах отмеченный.
…Окаймляли поляну поросшие орешником косогоры. Беззаботно журчал ручей. Влажный воздух напоен запахами скошенных трав, овечьих стад и свежего сыра, хотя ничего этого: ни стогов, ни овец, ни сыроварен — не было видно.
И не сразу первые ряды дружины разглядели встречный отряд на фоне густой и высокой поросли. Статные воины, как на подбор, восседали на тонконогих конях.
Подчёркнуто спокойные, в одинаковых расшитых цветными узорами шерстяных безрукавках поверх белых рубах со шнуровкой на груди, в коротких штанах из дублёной коровьей кожи, с остроносыми прабошьнями на ногах, с непокрытыми головами, смуглолицые, черноусые, с длинными волосами, перехваченными на затылке ремешками, юноши, прикрыв шеи коней щитами и приспустив острия пик, неторопливо переводили взгляды с приближавшегося киевского стяга на своего предводителя и обратно. И всего-то отряд насчитывал щитов сто, не более.
Предводитель их, старый, с отёчным и, казалось, сонливым лицом, одетый куда богаче прочих, совершенно безоружный сидел на пне шагах в двадцати спереди сотни, наблюдая исподлобья, как выстраивают пришельцы знаменитый свой клин на всякий случай, заполняя поляну. Чуть позади пня за спиной хмурого старика махонький черноглазый мальчонка с трудом удерживал за поводья двух гарцующих скакунов.
Асмуд и Свенельд вмиг оказались подле Святослава. Первый с ходу спросил князя:
— Что за люди? Булгары, волохи, угры?
— Волохи все.
— Сметём их или станешь слушать?
— Послушаю.
— А на что строй меняем, княжич? — подал голос Свенельд. — Нешто горстка нашему ходу помеха? Нешто слал ты им вызов?
— Может, за буграми схоронилось в листве целое войско. Я теперь никому не верю. Мы ж незваны здесь — им и спрашивать.
— Однако старший волох не выказывает тебе почтения, — недовольно заметили оба воеводы, — не поклонился тебе, великому, не назвался, даже с пня-то не поднялся.
— Я сказал: то его право. Кто-нибудь ступайте к нему с разговором. — Святослав спрыгнул наземь и направился к ручью смыть с лица и рук дорожную грязь. Его лучники без команды натянули тетивы, беря под прицел пространство, разделявшее ручей и орешник, где стояла встречная цепь.
Асмуд кликнул толмача и, позвякивая кольчугой, вместе с ним приблизился к старцу на пне. Видя, что тот даже не шевельнулся, тоже присел на кочку, сказал:
— Великий князь россов шлёт тебе привет, человек!
Старший волох, словно очнувшись, заговорил в ответ неожиданно высоким и бойким голосом:
— Где же сам? Где он, князь ваш суровый?
— Аль не узнал? У ручья.
— Как узнать, если все вы одеянием схожи один на другого.
— Он таков, — молвил Асмуд. — Он велел узнать, почему твои копья у нас на пути.
Старик долго молчал, жуя впалыми губами, потом, будто не расслышал вопроса или подзабыл, сказал так:
— Какое то войско. Собрал пастухов, дал оружие. Вы зачем здесь, с войной или в гости?
— Несём булгарам рыбий зуб, — удивлённо ответил Асмуд. — Разве это не известно тебе?
— Нет. Откуда знать, если Киев нарушил свой же обычай.
— Ну уж нет! — возмутился Асмуд. — Не таков сын Игоря! Он при мне отправлял булгарского гонца со свитком, а в нём слова булгарам «Хочу на вас идти». Уж давно то было. Видно, крепко они готовились встретить нас, коли до сих пор не удосужились ответом.
— Кто гонец?
— Сейчас… как бишь его… Да! Милчо из Карвуны. Малый близок к свите Петра.
— Что ж, — сказал волох, — может, и был такой. Только сам я не всё могу знать. Моё дело тут стеречь. А прослышал о вас только вчера. Вышел встретить с тем, что собрал. Не знаю, как быть…
— Да никак, — улыбнулся Асмуд, — дай за золото-серебро то, чего князь для дружины запросит. А не дашь, прощай и на том.
— Ваш с булгарами спор нам противен.
— То уж наша забота, отважный. Уведи, волох, своих молодцов-то, не накличь понапрасну беды на их пастушьи головы, мало их у тебя.
— Идите с рыбьим зубом мимо, воля ваша. Только мир подивится этой войне, не добудете на Дунае славы. — Сказав так после раздумья, старик поднялся наконец с пня, взобрался на одного из коней, что держал под уздцы его мальчик, и удалился в глубь орешника, явно нехотя уводя за собой свою сотню.
До Асмуда и всей росской дружины донёсся прощальный тонкий, как свист, его голос:
— Ничего не дадим вам и за гору серебра!
Дальше день и ночь двигалась киевская дружина, как по пустыне. Никто ничего не продавал Святославу, не менял, не пускался в переговоры. Поизносились, конечно, поизорвались. Ели конину, походя битую дичь, спали под открытым небом.
Спешно шли, минуя уже попадавшиеся богомильские общины булгар. Точно привидения в длиннополых ветхих одеяниях, подпоясанных верёвками, сбегались богомилы[36], шаркая стоптанными калигами, поднимали невообразимый шум, жгли гигантские факелы.
— Анафема вам! — кричали. Плевались, исступлённо колотили кулачишками по собственным мослам, царапали тощие груди и снова плевались. — Да сломятся ваши мечи! Трижды анафема вам, ведомые дьяволом!
— Братоубийцы! — отвечали россы, оглядываясь. — Не видим хлеба-соли! Значит, повинны вы! Горе вам!
Ветер приносил через вёрсты, поля и скалы зябкое, пасмурное дыхание моря, колыхал камыши Дуная. Чумазые лохматые тучи заволокли небо. Молчали птицы, и солнце скрылось за набухшей небесной мглой. Всё омрачилось вокруг.
Ранним пасмурным утром показался Змиевый вал над рекой. За ним Доростол. Скоро отыскали брод, перешли Дунай. Ещё издали, прежде чем увидеть защитные сооружения, услыхали россы тревожный перезвон разноголосых клепал. А ближе подошли, разглядели группу всадников, галопом нёсшихся навстречу по извилистой каменистой тропе, пестрели длинные косицы на поднятых копьях скачущих.
Князь кивнул воеводам, и те вскричали дружине:
— Сто-о-ой!
И отрывисто зазвучали другие команды, полетели эхом над разворачивающимися полками, и взрыхлилась земля ископытью. Затихли тысячи, ожидаючи, как один. Лишь кони ржали, пугаясь нараставших раскатов грома. Начал накрапывать дождь, усиливаясь, усиливаясь, и вот уже полило как из ведра. И новый грохот огласил окрестности, но это уже не гром, это воины разом подняли щиты над головами, укрываясь от хлёстких струй.
— Женщина! — закричали, указывая на приближавшихся всадников.
— Женщина, — вглядевшись, произнёс Святослав растерянно и досадливо. — Оскорблением встречает имя моё сей город.
Между тем булгары в полном боевом облачении осадили лошадей в нескольких шагах от спешившегося Святослава и его свиты, сгрудились полукольцом. Лица суровые, мужественные. Застыли как вкопанные, почтительно склонили копья с яркими косицами, скрестив наконечники над женщиной, что недавно скакала во главе их. А она по-мужски соскочила с коня, подбежала, взмахивая руками, чтобы удержать равновесие на скользком, размытом грунте.
Небольшого роста, гибкая, как мальчишка, она не скрывала волнения. Тяжело дыша после скачки, резким движением сдёрнула с плеч широкий плащ, швырнула в грязь и ступила на расстелившуюся шёлковую ткань красными забрызганными глиной сапожками, вскинула голову, презирая ливень и ветер.
Стройное тело плотно охвачено тонкой кольчугой из блестящих серебряных колец, изящных, точно рыбья чешуя, и вся она в этот миг почудилась серебристой рыбкой в потоках воды. Глаза глядят строго, в упор. К ней приблизился один из булгар, передал что-то, и вот уже можно разглядеть в её правой руке накрытый тяжёлой крышкой кубок с вином, в левой короткий меч. Обе руки, с мечом и кубком, протянуты к росскому князю, снявшему шлем.
Не шелохнулся Святослав, выдержал взгляд, лишь губы прикусил.
Видя, что он не решается сделать выбор, она воткнула меч в землю у его ног, рядом поставила кубок и, скрестив на груди руки, стала ждать, что скажет.
А он молчал, потупив взор. Молчали и неотлучные Свенельд с Асмудом, и воевода Волк, и Сфенкел. И прочие отцы полков тоже не проронили и звука. Только в задних рядах прошуршало некоторое движение, поскольку многие поднимались на цыпочки, раздвигая шишаки впереди стоящих в попытке разглядеть происходящее. По прекрасному лицу гордой булгарки струился дождь, чистый и тёплый как слёзы.
Но вот из гущи ратников самовольно выступил Сфенкел, доселе державшийся поодаль. Косматые брови его сошлись на переносице, борозды морщин собрались на лбу. Бросил искоса взгляд на княжича, осуждая его немоту, и, стараясь придать своему хриплому голосу сдержанность, обратился к удивительной посланнице крепости:
— Великий князь россов давно сделал выбор. Он сам пришёл бросить рыбий зуб к ногам вероломных. И не тебе, дева, пристало встречать его, а достойному, не тебе говорить с ним на открытом судилище.
Слушая воеводу, она так и не отвела глаз от Святослава, которого, надо заметить, встряхнула и вернула к действительности короткая речь Сфенкела. И едва воевода умолк, княжич властным движением руки отстранил его, сам спросил незнакомку, поразившую его воображение по-девичьи прелестным и в то же время воинственно-отважным своим обликом:
— Ты кто?
— Сейчас ни имя, ни жизнь моя не стоят и перпера[37], — сказала она. — Вон Доростол, ворота Булгарии, о нём вся забота наша. Алеманов[38] мы встретили бы стрелами без разговора, к вам же вышли, ибо надеялись, что молва неверна. Да видно…
— Болтливая женщина в одежде мужей, кто ты?
— Я и семеро этих юнаков — исконные булгары, — отвечала она, не дрогнув, — сам царь слушал бы любого из нас, не перебивая. Мои предки, истинные булгары, триста лет назад пришли сюда с ханом Аспарухом, чтобы стоять славному государству на Балканах. Мой отец, храбрейший из комитов[39], сложил голову за Доростол. Мой брат, Кинчо Чашник, неизменный паракимомен преславского царевича[40]. Мой муж, здешний владыка, давно в отъезде, к несчастью. Нет сейчас никого выше меня в Доростоле. Кому же ещё встречать нежданных? — Молодая женщина провела тыльной стороной изящной ладони по лицу, убирая мокрые пряди волос, затем снова скрестила руки на груди и выпрямилась. — Ты знаешь теперь, что я достойна внимания, знаешь, что Доростол — ворота нашей страны, знай же ещё, что не пустим вас в те ворота, пока живы.
— Ох женщина… и где только собираете вы такое множество пустых слов? Не из тех ли книг, что в руках твоей свиты? Для чего они держат письмена-то на виду?
У некоторых булгар, что прибыли с ней, действительно были массивные книги в деревянных обложках с затейливыми металлическими застёжками.
— Всякая книга в руке говорит о высокородности держащего её, — последовал ответ.
— Это верно, — сказал княжич, — однако мы от дела уходим. Ты сказала: ворота страны. Ворота… Не из этих ли ворот выходили убийцы? Ну-ка взгляни, что покажу.
Святослав подал знак, и Боримко тут как тут, злой, промокший до нитки, с мешком на плече. Бросил парень ношу к ногам женщины, развязал тесьму, вывалил на шёлковый её плащ груду тряпья и железа, в коей, хоть и с трудом, а всё же можно было опознать одежду булгарского покроя и несколько поржавевших секир, тех самых, что оставлены были печенегами в сожжённом Радогоще.
— Ваше?
Она оглянулась на своих юнаков. Подошёл тот, что прежде передал ей кубок и меч, поглядел, пожал плечами, ничего не понимая, кивнул ей и отступил на своё место.
— Признали! Деваться некуда! А невинную кровь разглядели? А это узнаешь? — загремел Святослав, закипая гневом, и показал на ладони два полукруглых обломка цветного воска, что сковырнул когда-то со свитка, помеченного Петром и принесённого в Киев коварным Блудом.
— Печать царёва… — недоумённо проронила булгарка. — Что означает всё это?
— Прочь же с дороги! — Князь мигом взлетел в седло, и белый как снег жеребец взвился под ним на дыбы. — Братья! Довольно мокнуть под недобрым небом! Войдём в крепость! Настанет сушь, двинем дальше, на Тичу, к стенам Преслава! Выше стяг!
Дождь бил, косой и хлёсткий, сходились с грохотом тучи, ломали друг друга, высекая молнии, и, озарённая огненными сполохами безумствующей стихии, простёрла руки отважная женщина в отчаянной попытке удержать всколыхнувшуюся массу людей. В громком крике её боль и негодование:
— Остановитесь! Всевышний наполнил плоть земных существ горячим соком, доколе же разумным из живых проливать его, алый сок божий! Именем господа нашего заклинаю!
— Прочь!
Не повернули булгары обратно, не разомкнулось крохотное полукольцо юнаков, храбро подняли копья навстречу лавине, и лавина подмяла их, и потонули крики семи несчастных в общем гуле, и покатилась росская дружина неудержимо и мощно, а в городе видели это, и с новой силой ударили звонари в клепала церквей.
Расторопный Боримко успел подхватить с земли знатную деву, спас от копыт. Она вырывалась, билась в цепких его руках, как скользкая рыбёшка в неводе, колотила его по щекам, царапалась, а парень терпел, удерживая её на коне впереди себя, приговаривал только:
— Уймись! Да уймись же, с жёнками не воюем. Цыть, глупая, благодари, что цела. Вишь, на княжиче лица нет.
Надрывались звонницы в Доростоле-твердыне, терзая сердце и слух. Крепость — будто ёж перед медведем. Святославово войско развернулось, построилось.
Позади рва насыпь, поросшая плющом и бузиной. Плющ вился и полз до самого верха стен. У подножия насыпи грядки возделанной марулы, там влажно, благоуханно, и река, прикрывавшая город по одну сторону, и стоки от неё по дну рва чистые, не захламлённые, даже рябь от мечущихся рыбьих мальков видна, едва гром ударит.
Башенки-вежи любовно окрашены и расписаны по ладно подогнанным брусьям незатейливыми, но весьма выразительными узорами. Что-то схожее, перекликающееся было в общем рисунке этого города и тех, что остались на родной земле пришедшего войска.
— Проклятый Похвист! — воскликнул Святослав, сердясь на упрямого духа, ниспославшего нескончаемый ливень. Спохватился, вздрогнул, ожидаючи небесного огня и грома в ответ на ругань.
Асмуд тем временем распорядился, чтобы князю наскоро соорудили шатёр из белой холстины, которую воевода таскал за собой на сумной лошадке. Паробки управились споро, и Асмуд предложил Святославу укрыться от непогоды, но тот и глазом не повёл, пристально вглядывался сквозь пелену дождя в очертания лежащего впереди укрепления.
— Начнём, княжич? — спросил воевода Свенельд.
— Пускай Боримко отведёт болярку в шатёр. Да стерегите в оба, — сказал князь. — Ты, Свенельд, речами горазд, отправляйся и покричи им. Поднимут запоры добром, отдохнём, подождём царёва вестника. Объясни: великая смута у меня на душе, я готов принять их повинную и откупную, коли выдаст их царь злодеев, погубивших село на Днестре и Богдана.
— Мудрое слово твоё! — громко молвил Свенельд. Затем, понизив голос, чтобы слышал один Святослав, добавил: — Слово словом, а дело делом. Оглянись, княжич. Копья с мечами трудно шли за тобой. И что же теперь, когда дело близко к завершению?
— Ну, варяг, помолчи-ка!
— И не смолчу. Ты в соплях ещё на коленях моих сидел, — осерчал воевода. — Зря мы, что ли, сюда добирались столько дней, коренья да конину жрали. А пришли, ты развесил уши перед бабой ихней.
Раздался гул в стане россов. Это волнение вызвали стрелы булгар, что посыпались сверху.
Под крики дружинников поднял Святослав копьё-сулицу, метнул в сторону города, конечно, не целясь, вполсилы, и недалеко пролетело княжье копьё, да и не нужно ему далеко лететь, то просто сигнал. И, по обычаю, обратились воеводы к полкам своим кратко:
— Князь начал! Начнём и мы!
Притащили порубленные в ближайшей роще деревца, забросали ими ров в двух местах, против Западных и Восточных ворот, а поверх деревьев щиты и по настилу этому устремились на приступ.
Булгарские лучники — меткие стрелки, засели в бойницах, разят оттуда. А бойницы защищены навесными плашками. Россы долго метали сулицы, пока наконец не посбивали ими подпорки. Без подпорок плашки захлопывают бойницы-то, мешают стрелкам.
Там и тут упёрлись в стены гибкие леса — длинные, наскоро сколоченные шесты из обструганных древесных стволов с набойными поперечинами. По ним, по лесам, карабкаются, звенят мечами, да никак не достичь верха: больно стойки защитники и умелы, неприступны крепостные заборола.
Лязг и скрежет железа, треск ломающейся древесины, хлопки сыплющихся каменьев, ржанье лошадей, крики сражающихся, топот, брань, шум дождя и неумолкающий перезвон церквей — всё смешалось.
Откатились назад, тысячи рук натянули тетивы, и со свистом взметнулись тысячи стрел. Под их прикрытием поволокли таран и ну раскачивать, ну ломиться в ворота. Удар за ударом. Каждый страшней предыдущего. Так и пробили брешь, разворотили массивные створы.
Юнаки из крепости вышли перед проломом с бревенчатыми щитами на подпорках. Те щиты диковинны, огромны, как плоты, вытащенные на сушу.
— Долго маетесь! — вскричал Святослав. Коня ударил, рванулся вперёд, обнажив свой меч. — А-а-а!..
— А-а-а-а! — подхватили вокруг и следом.
Силу такую не удержать, коли хлынет сполна. Захлестнула людская лавина, смяла преграды и ринулась в поверженные Восточные ворота, словно река в щель плотины, растеклась по кривым узким улочкам.
Вскоре на площади, на лобном месте, князь въехал на помост, куда прежде взбирались лишь глашатаи да палачи, и, не слезая с коня, возбуждённо оглядел смешавшихся воинов, своих и здешних. Схватка внутри города грозила обернуться затяжным и страшным побоищем.
— Болярку ко мне! Живо!
Самые дюжие гриди, построившись клином, с трудом прокладывали путь сквозь беснующуюся людскую запруду. Благодаря их усилиям, конь, несущий Боримку и его подопечную, притихшую от увиденной картины знатную булгарку, медленно, но верно продвигался к площади. Глаза округлились от ужаса на бледном её лице, а побелевшие губы беззвучно шевелились в молитве.
Как пушинку, вознесли её на руках, поставили рядом с князем. Он легонько тряхнул поникшие плечи женщины, просит, багровея от крика:
— Не дадим же волкам сытно рыскать окрест! Призови к смирению! А жилища не разорим, сама знаешь!
Помедлила. И всё же кивнула согласно.
Все, кто был возле них, принялись колотить о щиты рукоятками мечей и секир. Зазвучали сигнальные дудки, привлекая внимание сражающихся.
— Слушайте! Слушайте! Слушайте все!
Противники, завидев знатную булгарку и росского князя стоящими на возвышении рядом и простирающими руки к бурлящим улицам, мало-помалу прекращали схватку, застывали на месте в тех позах, в каких застигал их сигнал отбоя, и обращались в слух. Булгары удивились и обрадовались тому, что цела и невредима их господарка.
Постепенно угасала битва. В наступившей тишине шелест ливня почудился скорбным, жалобным, укоризненным. Пронзительный и внезапный, срывающийся женский голос, казалось, достиг самых отдалённых уличных лабиринтов:
— Люди! Славные мои юнаки! Не хочу, чтобы головы полегли! Мы не сложим оружия, отступим на Балту, к Переяславцу, и вольёмся в царёво войско! Там нужнее удаль живых, а не весть о погибших! Здесь же силы слишком неравны! Бог милостив к нам, пал Доростол!..
Лил бесконечный, невиданный дождь.
Сказание третье И НАСТУПАЕТ УТРО…
Глава XIX
Катилось колесо истории, подминая годы.
Не вышло у Палатия намеченное, не истребили славяне друг друга, а слились единой силой, хоть и всяко бывало. Думал с тревогой об этом Никифор Фока, василевс.
А за его царственной спиной поднимал голову крупнейший малоазиатский феодал, победоносный красавец полководец Иоанн Цимисхий, к которому воспылала страстью жена венценосца, неуёмная Феофано. С её помощью Цимисхий достиг взаимопонимания с дворцовыми чинами, недовольными василевсом, и готовил переворот.
В интригу был вовлечён и Калокир, искушённый в политических играх и дипломатии.
Спешной и скрытой была миссия вновь вынырнувшего на поверхность Калокира в Округ Харовоя. Он даже вопреки обычаю не прихватил с собой товаров, ни кораблей торговых с лишними свидетелями. Один корабль не караван, в глаза не бросится. Мало ли их, быстроходных военных посудин, одиноко мечется вдоль побережья Понта.
И уж так случилось, так совпало, что в тот самый день 968 года, когда хеландия пресвевта вошла в Босфор из моря Русского, с противоположной стороны, из моря Эгейского, вошло в пролив ещё одно судно. То был корабль купца Птолемея, на борту которого находился беглый кулачный боец Улеб Твёрдая Рука, бывший раб Калокира.
Суетливым и чрезмерно раздражительным стал Калокир в последнее время. Годков прибавилось, а степенности, как ни странно, поубавилось. Может, сказалось долгое вынужденное безделье в Фессалии под присмотром Блуда и его распоясавшейся солдатни. А может быть, и сладостное предчувствие сгущавшейся грозы над диадемой главного обидчика, василевса Фоки, наполняло дината новой надеждой и вдохновением.
Итак, не мешкая ни секунды, Калокир помчался из гавани к улице Меса, намереваясь передохнуть и принарядиться дома, чтобы затем в лучшем виде отправиться с докладом прямо к Цимисхию, минуя трон.
«Пусть Иоанн первым узнает о моих успешных переговорах с Курей, — возбуждённо рассуждал он на ходу, — этим польщу ему. Скорей бы Цимисхий и патриарх Полиевкт раправились с ненавистным Фокой, тогда бы и я рассчитался с Блудом и всеми, от кого претерпел надругательства.»
Добрался до дому, перевёл дух и, отмахиваясь от славословия слуг, спустился в подвальное помещение, где искупался и, наскоро помолясь, набросился на тут же поданные ему явства.
Насытился, отвалился от стола, прислонился спиной к угодливо подставленным сзади растопыренным рукам прислужника, и, щурясь от удовольствия, вкушая фрукты глядел на искристый напиток в кубке.
— Хм, — произнёс динат, — там, откуда я вернулся, угощают не виноградным питьём, а молоком кобылы. Заклевали б их вороны! Ты, Молчун, жаждешь молока лошади?
— О нет, господин, — с готовностью отозвался лакей по прозвищу Молчун. Это был тот самый болтливый Акакий Молчун, с которым в ночь побега из палестры встретился и говорил Улеб Твёрдая Рука. С той поры, как не стало евнуха Сарама, обязанности старшего прислужника дината исполнял Акакий. — Нет, нет, господин, не хочу я лакать пойло варваров. Ведь ежели, к примеру, дать мне кобылье молоко, я могу заржать. Я люблю благодатную кровь винограда! Ах, как люблю!
— Да? Уж не твоя ли страсть к винограду опустошает неприкосновенные запасы моего подземелья?
— О нет, господин! — Акакий собрался даже замахать руками для пущей убедительности, но тут же спохватился и вновь бережно подпёр ладонями спину чуть не опрокинувшегося хозяина. — Нет, нет, я не люблю виноградный сок! Это он всё требовал. Сам не больше кошки, а поглощает, как буйвол, даром что божий человек. Ведь ежели, к примеру, подать ему не то, он сразу хвать по лбу.
— Кто он? — удивился динат.
— Я же говорю: божий человек. Седьмой день сидит в твоих покоях. Он утверждает, что ты так велел.
Калокир вскочил на ноги, уставился на слугу и, прожёвывая финик, глухо воскликнул:
— Что болтает твой язык? Какого ещё проходимца посмел впустить под мою крышу? Кормишь и поишь кого попало в моё отсутствие! Где этот самозванец?
И тут в гулкой, тускло освещённой купальне, наполненной запахами пищи и лёгкими ароматными испарениями бассейна, раздался негромкий, но отчётливый голос, исходивший от аксамитовых[41] занавесей у входа:
— Я здесь. Успокойся и изгони своего слугу. Мне есть что сказать тебе.
Калокир обернулся на голос, всмотрелся и… тихо опустился на скамейку.
Монах-карлик как ни в чём не бывало присел рядом, облокотился о мраморное изображение рыбы, из раскрытого рта которой била в чашу купальни струйка воды, выждал, пока не стихли шаги Акакия, и сказал, точно каркнул:
— Выплюнь кость.
Калокир послушно выплюнул косточку от финика.
— Рад тебя видеть в своём доме, — произнёс он. — Чем обязан твоему посещению? — Всё внутри дината заныло от страха. Он вообразил, что эта ищейка из Палатия пронюхала о его причастности к тайному заговору Цимисхия и патриарха против Никифора Фоки.
— А я рад твоему возвращению из Округа Харовоя, — сказал Дроктон, не ответив на вопрос дината. — Что обещал Куря?
— Хочешь фигу? — любезно осклабился динат, пытаясь собраться с мыслями.
— Благодарю, не голоден, — ещё любезнее отказался монах. — Так что же Куря? Поведёт сабли на Борисфен?
— Я пресвевт василевса, и лишь ему, Божественному, отнесу свои вести. Прости, но мне следует поторопиться, я мечтаю пасть к стопам владыки сегодня.
Дроктон рассмеялся, запрокинув голову так, что куколь едва не слетел с его макушки. Это было более чем странно для монаха.
— О-хо-хо! Полно тебе! Мечтаешь пасть к стопам Фоки! Ха-ха! Ты мечтаешь ему яд подсыпать! Яд, но не добрые вести.
— Как смеешь ты! Как смеешь обо мне… ужасное кощунство… заклевали б тебя…
— Молчи и внемли, — прекратив смех, жёстко сказал Дроктон. — Я послан к тебе за сведениями о печенегах, о намерениях их кагана. А тебе и впрямь следует торопиться. Только не в Палатий, а в крепость Адрианополя, где будет ждать тебя наш спаситель Иоанн. Сейчас он в Европе.
— В Адрианополь? Где доказательства твоих слов?
Монах ухмыльнулся и уже мягче добавил к сказанному выше:
— Мне дозволено сообщить тебе, что сыну херсонского стратига будет пожалован очень высокий чин.
— Мне? Боже милостивый!..
— Служи верой благодателю нашему, — изрёк Дроктон и с горделивым видом наполнил кубок себе, затем динату. — За диадему Иоанна Цимисхия!
— Ты с нами?! Но это зелье и твой сан… как можно… моё вино мирское, не ровня… — промолвил Калокир.
Дроктон на сей раз придержал куколь, когда запрокидывал голову в новом взрыве смеха. Калокир смотрел, как подрагивает, словно пламя свечи на ветру, язычок во рту карлика, и сам улыбался, ощущая радостное облегчение. А монах, насмеявшись вдоволь, подмигнул, поднимая кубок, сказал:
— Осушим до дна! Согрешим и забудем, ибо грешить грех!
Полчаса спустя, проводив коротышку, счастливый динат распорядился, чтобы слуги приготовили всё необходимое для дальней дороги. Он отправил Акакия в ещё более долгий путь, в свой кострон, наказав тому перевезти красавицу Марию под надёжной охраной из Фессалии в Андрианополь, не снимая с рук и щиколоток непокорной девы стальных цепочек.
С рассветом следующего дня Калокир был уже в седле своего вороного, и уже не томик библейского Нового завета лежал в его походной суме, а объёмистая книга о таинствах военного искусства, трактат Маврикия «Стратегикон».
Несколько оторвавшись от свиты и обоза, ехал динат на запад, и за его спиной таял в дымке блистательный Константинополь, столичный город, в который Калокир надеялся вернуться триумфатом. А впереди ждал его другой город — жемчужина Македонии.
Он ехал и рассуждал: «Цимисхий обольстил Полиевкта обещанием вернуть церкви богатства, усечённые Фокой. А Дроктон… Дроктон — моя судьба. А может быть, он перст красавицы Феофано? Что, если именно этот монашек сгубил Порфирородного именем Романа, сгубил Романа именем Фоки, губит Фоку именем Цимисхия, погубит и Цимисхия… моим именем! Возможно такое? Допускаю, подозреваю его причастность ко многим таинствам. Дроктон против всех, в том смысл его бытия. Месть песчинки колоссам. Досягнуть бы трона с его помощью, сразу же его на куски… Калокир Солнцеродный… Христиане, да озарит вас василевс Калокир Солнцеподобный, Фессалийский-Первейший! И василисса Феофано?.. Нет, василисса Мария!»
…А между тем корабль купца Птолемея уже достиг византийской столицы.
Сам Птолемей, заметно одряхлевший, но счастливый, что сможет наконец обрести покой в родном краю, ослабевшими, трясущимися руками обнял плечи воина, который стоял на палубе впереди всех и пристально вглядывался в очертания обетованных берегов.
Светлые волосы молодого воина струились под ветром на кольчуге спины и плеч, щека и бровь рассечены шрамом, всё его резко очерченное лицо потемнело от зноя и стужи минувших лет, а глаза лучезарны, как день, завершивший жестокие скитания.
Шептал Птолемей, обнимая воина:
— Благословенным будь! Тебя, а не бога благодарю, Твёрдая Рука! Без тебя, мой неистовый друг, не видать бы нам земли нашей.
Видавшие виды завсегдатаи шумной гавани и люди случайные сбежались поглазеть на купеческий парусник, вид которого вызывал у сгрудившихся на пристани бывалых моряков подлинное уважение.
Каждому, кто знал истинную цену трудных морских дорог, достаточно было лишь скользнуть взглядом по обшивке, по стволу мачты, по обломку одного из кольев-таранов на носу, по обветренным лицам приплывших на нём смельчаков, чтобы сразу догадаться о необычайности пережитых ими приключений и опасностей.
Не все ушедшие с отважным купцом несколько лет назад вернулись обратно. Об этом тоже нетрудно было догадаться, и множество добровольцев, сочувствуя почтенному мореходу, тут же вызвалось бескорыстно помочь ему разгрузить переполненные корабельные кладовые.
Мигом подкатили повозки, и работа закипела.
Только двое на корабле, казалось, были безучастны к происходящему: молодой светловолосый воин со шрамом на щеке, неподвижно сидевший под мачтой, и худосочный старик в кольчуге, висевшей на нём, как мешок на жерди.
Вдруг какой-то балагур признал купца:
— Ба! Граждане, да это никак Птолемей! Бродяга, ты ли это? Откуда пришёл таким немощным?
— Я вернулся от норманнов, — объявил Птолемей, обводя соотечественников гордым взглядом.
— Как уцелел?
— Три года нас оберегал знак Олава, вождя норманнов. А после смерти его приходилось биться в пути.
— Биться с драконами? Без огненных труб?
— И не раз, — отвечал купец. — Простым оружием, борт о борт.
Восторженно загудела толпа.
Корабль поднимался в воде, освобождаясь от бремени груза, и обнажались чёрные и скользкие, будто масляничные, наросли морских трав выше днища, гроздья ракушек, диковинные шевелящиеся присоски.
Чайки с криком щипали их. Птолемей прошаркал ногами к мачте, опустился рядом с молодым воином. Долго сидел без движений, печальный и безмолвный.
Почтенный купец произнёс наконец:
— Ты не передумал, Твёрдая Рука?
— Нет, — последовал краткий ответ.
— Глупо отказываться от своей доли.
— Я за ней не гонюсь. Уступи, что обещал, и ладно.
— Какой тебе прок в потрёпанном и разбитом этом корабле?..
— Он ещё хорош, — возразил Улеб.
— Одному тебе с ним не управиться, а других не нанять.
— Поищу попутчиков среди наших торговых людей, что обычно постоем у Святого Мамы. Там не найду, придумаю что-нибудь. На худой конец всегда можно обменять его на ладью поменьше. Уступи, словом.
— Чудной ты, Твёрдая Рука, ей-богу, чудной… Не всему должному на миру научил тебя Непобедимый.
— Вот его-то, Анита, надо бы мне повидать напоследок, — сказал Улеб. — Он поможет без лишнего шума обменять корабль на лёгкую ладью, если не найдётся мне попутчиков. Жив-здоров ли Непобедимый, признает меня или нет?..
— Сам ты душой нездоров, — проворчал Птолемей под нос. — Мой тебе совет: бери корабль, меняй, продавай, поступай как знаешь, только беги отсюда, куда собирался, не мешкая. Для тебя, Твёрдая Рука, промедление опасно. Я же выручить не сумею, если вспомнят и схватят. Да и мне самому непоздоровится, когда узнают, кого укрывал.
— Не беспокойся, — сказал Улеб, — сейчас попрощаемся.
— Я велю Андрею оставаться у корабля, он тебе может понадобиться сегодня.
— Незачем это.
— Не упрямься, — сказал Птолемей. — Он посторожит, пока не вернёшься из города. Ты ведь хотел наведаться к Непобедимому или уши мои ослышались? Кто бросает корабль без присмотра?
— Хорошо, — согласился Улеб, — пусть Андрей окажет мне эту услугу, коль настаиваешь. Прощай.
— Обрети своё счастье, Твёрдая Рука!
Минуту спустя Улеб проводил взглядом удалявшуюся вереницу гружёных повозок, позади которых несли на носилках одряхлевшее тело купца-мореплавателя. Птолемей беспрерывно оборачивался и поднимал тощую, казавшуюся на расстоянии чёрной руку, а седая его голова покачивалась.
Улеб вздохнул. Теперь этот корабль его собственность.
Опустевшее судно было приковано к берегу двумя толстыми канатами. Солнечные стрелы ломались и вспыхивали на воде, все звуки сплетались в тягучую нить, и чудилось Улебу, что эта звучащая нить тянется, тянется, пронизав уши, и тепло забытого покоя обволакивало его, убаюкивало.
Он вздрогнул от прикосновения чьей-то руки к его плечу, мигом вскочил, бессознательно обнажил меч и открыл глаза.
— Эй, осторожней! — отпрянув, вскрикнул Андрей. — Это не враг!
— Что нужно?
— Да уж не дырки в брюхе от твоего меча.
Улеб улыбнулся ему, стряхнув с себя остатки сна, молвил добродушно:
— Ещё не свыкся я с мирной стоянкой. Ишь, до заката проспал.
А моряк ему сочувственно с ответной усмешкой:
— Это понятно. — Он бросил на палубу принесённый с собой огромный свёрток, пояснив: — От хозяина на дорогу. Он просил передать также, что тебе нельзя искать встречи с Анитом. Хозяин узнал, что твой бывший наставник уже не владеет палестрой, он изгнан из ипподрома, лишён имущества и всех прав, влачит жалкое существование.
— Анит Непобедимый в беде? Почему?
— Откуда мне знать.
— Где он?
— Говорят, пропадает в ночлежке какого-то красильщика. Злые языки твердят, будто иногда по ночам к нему является дьявол в облике заботливой красотки. Это, конечно, выдумки, однако кое-кто сомневается, поскольку иначе не объяснить, как бедняга ухитряется добывать пропитание, если все от него отвернулись, боятся, точно прокажённого.
— Погоди-ка, постой… — Юноша напряг память. — Красильщик тот… с серьгой в ухе?
— С серьгой ли в ухе, с кольцом ли в ноздре, мне откуда знать. Я ведь с тобою был на краю света, не сидел тут.
— Слушай, Андрей, — взволнованно молвил Улеб, — кажется, я знаю того красильщика. Сам когда-то прятался в его сарае с подлым Лисом. Вниз от дома Калокира, потом свернуть направо в проулок. Попытаюсь его отыскать!
— Нужны тебе лишние хлопоты? — удивлённо буркнул моряк.
— Жди меня, — бросил Улеб и проворно сбежал по сходням на сушу.
— А вдруг это не тот! — донеслось с корабля вослед.
— Проверю! Жди!
Путь от Золотого Рога до улицы Меса бывший раб не забыл и через тысячу лет. Ноги сами привели его к городскому дому дината через лабиринт шумных кварталов.
И в доме, и в маленьком дворике при нём царило слишком радостное, откровенно весёлое оживление, обычно не свойственное домочадцам чёрствого Калокира.
На крыльцо выскочило миловидное создание в нарядном балахоне. Стрельнув глазками в незнакомого воина, молоденькая пухлощёкая работница вприпрыжку помчалась в глубь двора и скрылась в погребе, оставив после себя тонкий аромат розового масла, которым до лоска было натёрто её темнокожее личико.
Когда шустрая мавританка пробегала обратно с маленькой круглой корзинкой, наполненной душистой зеленью, Улеб поймал её за руку.
— Что за праздник у вас, егоза? Уж не поминки ли по хозяину?
Она смеялась, сверкая белыми зубками. С бесцеремонным и доверчивым любопытством рассматривала незнакомца, вид которого, бесспорно, производил выгодное впечатление. Сообщила ему:
— Наш тиран в Адрианополе. Отныне не нами ему помыкать, а солдатами.
— А скажи-ка, милейшая, не слыхала ли ты о судьбе человека по имени Велко чеканщик? Он когда-то был здешним невольником.
— Велко, Велко… — мавританка поморщила лоб. — Не тот ли это булгарин из Расы, которого хозяин поймал вместе с Марией, когда они пытались улизнуть из фессалийского кастрона… Ну да, с ними был ещё один похититель.
— Лис! — вскрикнул Улеб. — Говори, что известно о них!
— Знаю не больше других, — настороженно ответила она, заметив, как по лицу пригожего незнакомца разлилась внезапная бледность. — Мой дружок, Акакий Молчун, рассказал бы тебе подробней, но его, увы, тоже нет здесь. Хозяин послал его за Марией.
— Если я тебя правильно понял, дева, на которую посягал Велко, жива и невредима, а что сталось с ним самим? И куда подевался его напарник Лис?
— Не будь на тебе одеяния воина, — заметила она, — я решила бы, что предо мной ритор, ищущий разгадку красивой любовной трагедии.
— Из нас двоих сейчас, пожалуй, ты больше напоминаешь ритора, — отрезал Улеб, хмурясь. — Оставим красноречие. Мне нужно знать, где Велко и где подлый Лис.
— Не хочу говорить о покойниках. — Юная мавританка обиженно выпятила губки и даже сделала несколько шагов по направлению к дому, но обернулась на печально застывшего воина.
С площади Константина долетали громкий шорох шагов и голоса. По мостовым деловито стучали колеса повозок и копыта лошадей. Густые сумерки пали на город.
Девушка поставила корзинку на крыльцо и приблизилась к Улебу, который всё ещё задумчиво стоял на месте, ткнула пальчиками в поникшие его плечи:
— Отчего голову повесил, рыцарь? Ты спрашивал, и я ничего не скрыла от тебя.
— Лис его погубил… — молвил Улеб. — Фи, какой ты! — Она легонько стукнула юношу кулачком в толстокожий щиток на груди. — Сам схватил меня, а теперь замечать не желаешь.
— Прости, — произнёс он словно в забытьи.
С тем и двинулся прочь.
— Погоди! — Босые её ступни быстро-быстро прошлёпали по гладким булыжникам мостовой, она догнала его, смущённая, прошептала тихонько: — Хочу ещё рассказать…
— О чём?
— Не знаю. Спроси что-нибудь.
— Всё узнал, больше нечего.
— Про Акакия рассказать?
— Сто лет он мне снился, твой Акакий.
— Ну тогда… тогда просто так… поцелуй.
Улеб чмокнул подставленную ею щёку и зашагал вниз по улице Меса.
Все предметы, прохожие, редкие и чахлые деревца в обведённых каменными зубцами приствольных кругах, освещённые уличными светильниками, бросали длинные тени. Бродячие собаки сварливо пожирали выбрасываемые из окон остатки людского ужина. Мелкие торговцы запирали свои лавчонки, перекликались и балагурили, хвастаясь друг перед дружкой дневной выручкой.
Вот и памятный проулок.
Улеб торопился, почти бежал, придерживая у бедра ножны. Узкое ущелье между стенами старинных зданий с крохотными витражами окошек было пустынным и тёмным. Даже луна и звёзды не заглядывали сюда: пристройки верхних этажей смыкались, закрывая небо.
Он с трудом разыскал еле различимую дверцу в глухой и высокой ограде, постучался. Дверца отворилась, брызнув светом. Улеб шагнул через приступку, отстранив какого-то человека, и очутился перед довольно обширным пространством. Это была анфилада двориков, обособленных дощатыми сооружениями с широкими дымоходами на плоских крышах. Там и сям полыхали костры. Чумазые полуголые мужчины маячили между верёвками, на которых висели мокрые холсты, перемешивали шестами зловонное варево. Женщины с тщательно подвязанными волосами и в длинных кожаных перчатках, сидя на корточках, толкли и перетирали в порошок какие-то коренья и травы, молча, остервенело, как стирают слишком грязное бельё.
Улеб сразу понял, что оказался там, куда стремился. Правда, он не мог припомнить, чтобы в этой преисподней так же кипела работа, когда несколько лет назад Лис затащил его сюда вместе с Жаром. Впрочем, это неважно.
Твёрдая Рука шёл от котла к котлу, от огнища к огнищу, из сушильни в сушильню, потоптался и возле каменных штат, на которых женщины приготавливали красящий порошок, но нигде не обнаружил человека, хоть отдалённо напоминавшего Анита.
Появление вооружённого юноши в редкой одежде из дублёной крокодиловой кожи с изящными воинскими наплечниками вызвало настоящий переполох, и владелец красильни не замедлил явиться.
— Чем могу услужить? — осклабился он, сверкая серьгой в ухе. Он не узнал Улеба.
— Мне нужен Анит Непобедимый.
— Ага! — обрадовался красильщик. — Наконец-то! Я устал проклинать день, когда согласился принять этого грубияна. С тех пор как ваши люди приказали мне не спускать с него глаз, я совсем измучился. Поскорей уведи его. Но почему ты один? Ах, зачем остальные не вошли с тобой! Нрав у Анита вспыльчивый, он силён как буйвол, будь же с ним осторожен. Или ты… — Красильщик вдруг испуганно всплеснул руками и залепетал: — Умоляю, о великодушный, не руби его тут, уведи подальше. Чернь и так глядит на меня волком. Многие ещё помнят его и чтят. Мне же он безразличен, я ипподрома не посещал и никогда не совал нос в высокие дела.
Твёрдая Рука сказал с нарочитой свирепостью:
— Где этот негодник?
— Во-о-он в той ночлежке. — Длинный палец красильщика был таким кривым, что определить по нему точное направление возможно лишь очень сметливому глазу. — Раньше там содержались дровишки, а теперь содержатся людишки. — Молодой воин не оценил каламбура, и красильщик спохватился, поспешил добавить: — Чтобы не оскверняли по ночам священные паперти храмов, я приспособил для них, убогих, помещение. А беру взамен сущий пустяк Что дадут, и ладно.
Именно здесь, на задворках красильни, прятались Улеб и Лис, отсюда в первое утро свободы бывший боец палестры выехал на своём верном Жарушке, переодевшись странствующим франком и не подозревая тогда, что судьба ещё раз приведёт его в это неприглядное место.
Улеб остановился под лучиной, не решаясь войти туда, откуда пахнуло спёртым воздухом и просачивались вялые голоса, сопение спящих вповалку, хруст соломы под беспокойно ворочавшимися во сне бедолагами. Внутри ночлежки было черно.
— Анит! — позвал юноша, поворачивая лицо к свету, чтобы его можно было разглядеть получше, — ты меня слышишь, Анит?
И он ощутил, как всколыхнулась и вновь напряглась чёрная тишина за гнилыми дощатыми стенами. Там охнул кто-то надрывно, утробно, будто глотнул кипятку.
— Выходи! Тебе велят! — Это вмешался расхрабрившийся красильщик, который, оказывается, приплёлся следом за юношей.
Улеб сказал непрошенному помощнику негромко, но веско:
— Убирайся, не то выкрашу так, что не отмоют в усыпальне.
Красильщика словно ветром сдуло.
Изгнание хозяина придало любопытства обитателям ночлежки. Один вылез, второй, третий. Поползли на свет. Но тот, кого Улеб звал, не показался.
— Учитель, — звал Улеб, — я знаю, что ты здесь. Выйди.
Молчание. Только хлопали веки изумлённых оборванцев, обступивших витязя, точно упавшего с неба.
Улеб отметил про себя, что все они хоть и грязны, однако целёхоньки и здоровы, куда упитанней тех несчастных у дымных чанов, в мастерских и сушильнях. Мелькнуло смутное воспоминание о Лисе, который как-то жаловался, что не удалось ему примкнуть к шайке столичных лженищих, обыкновенных лентяев, преуспевших в одурачивании простачков поддельными язвами и увечьями.
— Отзовись, Анит. Я слышу твоё дыхание. Тебе, Непобедимому, не место в зловонном гнездовище бездельников и плутов.
И тут наконец раздалось глухое, как сдерживаемое рыдание:
— Поздно, мой мальчик. Если это и вправду ты, а не чудесное видение.
— Анит! Ты не забыл меня! Выходи!
— На что я тебе, раздавленный и бесправный? — печально отвечал невидимый атлет. — Зачем тебе смотреть на мой позор?..
Улеб бросился внутрь ночлежки, руки нащупали жёсткую курчавую бороду и лицо сидящего в темноте. Глаза и щёки Анита были мокры. Улеб силком поднял его грузное тело, обнял за вздрагивающие плечи и потащил к двери. Пропуская их, разомкнулось кольцо христарадников. Юноша крикнул им:
— А ну-ка марш обратно в нору! И не высовываться, кому шкура дорога! — И обратился к Аниту с укором: — Что потерял ты среди обманщиков и трусов?
— Я им чужой, — сказал атлет, — а в том, что пропадаю здесь уже не первый год, не моя вина, не моя воля.
— Кому же под силу совершить над тобой подобное?
— Никифору Фоке.
— Тот воевода, боец которого пал от меня в кругу арены? Нынешний цесарь?
— Ты сам назвал причину моего несчастья, — сказал Анит, одобрительно разглядывая в свете догоравшей лучины возмужавшее, взволнованное лицо Твёрдой Руки, рубец на его щеке, красивое воинское облачение. — Великий мальчик, падение твоего наставника началось с падения Маленького Барса из Икония.
— Вот как!.. Я всё понял. — Улеб задумался, покусывая губы.
— Лучше бы Фока убил меня, чем так унизить. Но ты… как отыскал меня?
— Случайно. Ты жив, и клянусь, я вытащу тебя из этой грязи!
— Да, ты уже не тот, мой мальчик, Где был все эти годы? Почему вернулся?
— Об этом потолкуем после. Скажи лучше, что делал ты вне ипподрома?
— То чудо, — отозвался Анит, который был одет не бедно, весьма опрятно для бездомного и мало походил на голодающего. — Ангел-хранитель снизошёл ко мне. Давно нежданно и негаданно явился ангел и продолжает навещать меня и кормит, поит, утешает. Она святая…
— Так это женщина?
— Да. Ангел истинный. — Анит прикрыл глаза и по привычке сунул руки за поясок, заменивший былой набрюшник наставника палестры. — Так знай же, что, придя ко мне впервые, она, как думаешь, чьё вспомнила имя? Твоё!
— Что?!
— Готов поклясться. Мне говорит красильщик: «Анит, к тебе гостья». Я глядь — божественная юница. Говорю ей: «Ты не ошиблась, дочь моя?» — «Нет», — отвечает, если ты тот, кто отпустил бойца по прозвищу «Твёрдая Рука».
— Уф!.. — Улеб даже испариной покрылся на зябком ночном воздухе. — Нет, нет… сестрица бы помянула моё настоящее имя, дарёное отцом. Кому ещё думать обо мне… Шутка твоя жестока.
— Ты слушай. Сначала я решил, что она подослана Фокой. Сказал ей: «Никто, дитя цветов, не станет содействовать побегу своего раба». А она: «Ты волен не доверять мне, только мне известно, что ты человек добрый и страдаешь за доброту свою. Я, — говорит, — хочу тебе помочь. В чём главная нужда?» В те дни, мой мальчик, я умирал без крошки во рту, ибо, как и ныне, запрещено мне было трудом добывать пропитание. Такая казнь. Я ей сказал: «Чего хочу душой, в том ты бессильна. А плотью своей одного желаю — чёрствой лепёшки». — «Хорошо, — говорит, — раздобыть еду мне легче лёгкого. Жди вечера». И пришла. И принесла еды вдоволь. И после наведывалась. Так до сих пор. Взамен же ничего. И объяснить таинственную добродетель отказывается.
— Так уж ни слова? — усомнился Улеб.
— Ни полсловечка!
— Ну а я при чём? — заинтригованно допытывался юноша.
— Не знаю, побей меня гром, бывало, допытываюсь: «За что мне такая милость? Сколь долго будешь бескорыстно кормить ненасытного да укрывать его наготу шелками?» Она одно: «Помню о нём».
— Сама назвалась?
— Нет. — Анит обескураженно пощипал бородку. — Надеюсь, откроется всё равно. И дождусь конца своему позору, Василевсы не вечны… прости, господи!
— Может, и так, — заметил Улеб, — но я на твоём месте и сейчас не сидел бы жалким.
— Куда мне деться?.. Пытался вырваться, но… не иголка в сене. Непобедимому не затеряться среди прочих.
— Ладно, учитель, довольно тешиться ангельскими небылицами да плакать по былому. Пора нам.
— Куда?
— Бежать отсюда. Я за тобой пришёл. С рассветом будем в море. У меня есть корабль.
— Не собираешься ли ты заверить меня, будто владеешь настоящим кораблём?
— Да. А теперь он принадлежит тебе. Дарую. Ты знаешь, я не больно склонен владеть чем-либо, кроме оружия и чести.
— Кто поведёт корабль? Я никогда не пробовал.
— Мы вместе. Охотно научу тебя морской науке.
— О как превратны времена! — воскликнул Анит. — Мой ученик будет моим учителем!
— Ты прав, времена меняются. Нет в тебе прежней решительности.
— Напротив! С тобой я согласен на любую дерзость! И нужных людей соберу, клянусь!
Улеб сказал:
— Идём. Красильщик не поднимет шума, он, как я понял, принял меня за человека из Палатия. Даже сам просил, чтобы я увёл тебя подальше.
— Нелишне знать, куда направимся, улизнув отсюда благополучно?
— Мне нужно к печенегам сестру искать. А после домой, на родину.
— Чую, снова будешь подбивать меня на кузнечное дело в твоей стране. Признайся сразу.
— Уговаривать не стану. Сам после плаванья решай, как дальше жить.
— Моя земля здесь, Твёрдая Рука. А василевсы всё-таки не вечны.
— Каждому своё, как пишут на щитах катафракты. Идём же.
— Погоди, — сказал Анит не без смущения, — как раз сегодня обещала посетить меня… Скоро явится мой ангел. Я должен объяснить своё бегство, проститься с ней. Да и тебе, пожалуй, надо повидаться, раз поминала твоё имя.
— Ну нет, — возразил юноша, — на кой мне таинственная твоя утешительница. Ты знаменит, с тобой пусть и жеманится да распускает девичьи загадки. Мне ж это ни к чему. И без того потеряно полночи, а я ещё намерен заглянуть в одно укромное местечко среди дальних скал, прихватив с собою кое-что припрятанное. Если сбереглось за эти годы.
— Тогда иди. За меня не беспокойся. Буду на берегу, где условимся, с верными людьми и… со спокойной совестью перед нею. Где стоит корабль?
— На краю Большого причала близ песчаной полосы, — ответил Улеб после некоторого колебания. — Спросишь корабль Птолемея. Запомни, Птолемея. А сторожит его человек по имени Андрей. Скажешь ему, что послан мной. Его отпусти и жди меня.
— Не задерживайся на скалах, мой мальчик, надо успеть покинуть залив до восхода солнца, как только опустят на дно заградительную цепь. — Бородатый атлет уже сам напоминал мальчика, охваченного азартом, и это порадовало Улеба. Ещё недавние казавшиеся безысходными уныние и подавленность могучего телом мужчины буквально на глазах испарилось без следа.
Улеб рассмеялся и пообещал:
— Постараюсь. А ты возьми мой меч на всякий случай.
— На всякий случай у Непобедимого есть кулаки, — смеялся Анит, — проложу ими путь к гавани, будь уверен.
— Хорошо. Поклонись от меня своему загадочному чертёнку с лепёшками.
— Изыди! Сгинь!
— Всё. Исчезаю. До скорого свидания на воде.
Улеб пересёк дворы, посреди которых продолжали пылать костры и суетились у медных котлов, задыхаясь от едкого пара, безмолвные полуголые работники.
Красильщик наблюдал за ним, прячась за бочкой. Твёрдая Рука поманил его пальцем и, когда тот подбежал, точно солдат к полководцу, обратился к нему многозначительно, с таким видом, какой, вероятно, присущ реальному полководцу, доверяющему реальному солдату весьма важное и ответственное поручение:
— Выслушай и хорошенько запомни каждое слово.
— Я весь внимание, достойный посланник власти, — угодливо отозвался красильщик, кланяясь.
— Именем всевидящего василевса и в интересах Священной Империи ты обязан сохранить в глубокой тайне то, что сейчас доверю тебе.
— Боюсь. Недостоин. Всю жизнь сторонился…
Улеб наклонился к его уху и тихонько сказал:
— Я ухожу. Спустя время твою обитель покинет Анит Непобедимый. Он обречён. Близок час твоего избавления от опасного постояльца. А главное, никто не должен видеть, как Анит уйдёт отсюда, дабы не просочились слухи о его погибели.
— К неверным? Осмелюсь спросить, не станут ли они, неверные, мстить мне за соуча…
— Молчи! Я не всё сказал. — Улеб с наигранной подозрительностью озирался по сторонам, явно заботясь о том, чтобы их не подслушали. — Священной Крепости угодно, чтобы ты незамедлительно содеял следующее. Первое — вкопал столб прямо на пороге ночлежки. Второе — высек на том столбе вот такую метку, — он начертил на подножной пыли треугольник с точкой посредине, — и, наконец, третье. Сейчас же погаси костры и уложи спать работников, предварительно накормив их досыта, чтобы сон их был крепок и они не смогли ни слышать, ни видеть ничего до утра. Горе тебе, если не исполнишь хоть что-нибудь из того, что велю. Ты понял?
Совершенно обалдевший хозяин красильни в ответ лишь мотал головой так, что плясала, тускло поблескивая, драгоценная серьга в его ухе.
— Понял… не понимаю… всё понял, великий перст Владыки!
— Предупреждаю снова, — грозно молвил Улеб, — все три наказа должны быть исполнены без малейшего обмана. Это очень важно. Иначе пожнёшь участь Анита.
— Боже упаси!..
Давясь сдержанным смехом, Улеб откинул щеколду, толкнул сапогом скрипучую дверцу и шагнул в мрак проулка, довольный своей проделкой.
В светлом проёме, за которым открывалась улица, озарённая городскими огнями, на миг показались три силуэта. Женщина куталась в чёрную накидку, на обоих сопровождавших её мужчинах также были чёрные плащи.
Завидев Улеба, все трое прильнули к стене, укрываясь в её тени. Улеб успел заметить, что руки мужчин при этом нырнули под складки плащей, где, по-видимому, было припрятано оружие. На всякий случай положив ладонь на рукоять меча, он проследовал мимо них, словно не видел вовсе.
Потревоженные им полночные незнакомцы, убедившись, что встречному воину нет до них никакого дела, поспешили в свою сторону, Улеб в свою.
Он благополучно выбрался из нижних кварталов города и устремился к берегу напрямик, не по широкому изгибу дороги мимо каменной громады сонного Палатия, а по едва различимой тропинке, бежавшей к заливу через реденькую посадку карликовой шелковицы. Он был бодр, поглощённый радужными мыслями о предстоящем плаванье.
И вдруг:
— Стой! Кошелёк или жизнь!
Два верзилы с повязками на физиономиях размахивали дубинками и устрашающе пыхтели.
— Что же вы, полуночные, — сказал Улеб, — этак ведь испугать можно. То-то люди потемну шарахаются друг от друга.
— Кошелёк!
— Тяжёлая у вас работёнка, как погляжу, беспокойная, некогда и глаз сомкнуть. Отдохните, пожалуй. — Ребром ладони Улеб нанёс два молниеносных удара по их запястьям, и дубины покатились под откос. Затем два взмаха кулаком — оба громилы рухнули разом, утихли, улеглись валетом, как мирно спящие на одной лавке братья.
Улеб поочерёдно приложил ухо к груди каждого и облегчённо вздохнул — живы. Прежде чем продолжить прерванный путь, он ласково посоветовал лежащим, как будто они уже очнулись:
— Отдохнув, сменили бы ремесло…
Он торопливо спустился к воде, обойдя стороной береговые постройки и стоянки кораблей, и направился к дальним скалам, вырисовывавшимся под луной.
За его спиной мерцали, удаляясь, портовые огоньки. Пряные запахи бодрствующих таверн вскоре сменились зловонным дуновением, исходившим от лежащих справа оврагов. Сойдя с укатанной тверди, шагал по песку и гальке, придерживаясь кромки воды, бликовавшей, как нефть.
Улеб брёл и брёл вдоль подножия скал, порой разуваясь, чтобы не промочить обувь, порой перепрыгивая в темноте с камня на камень, пока не достиг наконец крошечной заводи с горбатой плешинкой чистого песка, где несколько лет назад ожидал с Лисом лодку Велко чеканщика, и была тогда девушка, не забытая и поныне…
Вдруг чуть слышные голоса.
Невероятно, чтобы это могли оказаться Велко и Лис, но всё же Улеб с колотящимся сердцем бросился наверх, лихорадочно цепляясь за выступы камней и обнажённые корневища растений, не обращая внимания на срывавшиеся из-под его ног и громко шлепавшиеся с высоты в воду обломки скалы и земляные комья.
Возле тлеющих углей под открытым небом сидели какие-то люди. Их было двое.
Шумное возникновение Улеба на площадке у развалин лачуги подбросило их на ноги. Оба замурзанных молодца, неистово крестясь и икая, уставились на него, точно громом поражённые.
— Охотники? Или бежавшие из неволи? — наконец спросил он миролюбиво.
— Разбойники. Лютые. — Оба зажмурились и покорно вытянули к пришельцу руки, решив, наверно, что их сейчас начнут вязать.
Улеб сел на валун, глядя на них, как лекарь на безнадёжно больных, и чумазые мальчишки тоже опустились на землю как по команде.
— Удивительное дело, — сказал Улеб спустя минуту, — куда ни ступи ночью, повсюду бродят парочками под луной не возлюбленные, а грабители. Где же ваши дубины? Сейчас уши надеру.
— Мы раздобыли топоры, — шмыгая носом, поспешно и жалобно отозвался один из них. Второй толкнул его локтем, но тот отмахнулся и добавил: — Внизу лежат, в моноксиле. О-о-стрые.
— Что-то я не приметил вашей лодки у воды.
— Спрятана в расщелине.
Улеб внимательно изучал испуганные, давно не мытые, совсем ещё мальчишеские лица обоих и с иронией поинтересовался:
— И многих вы успели заграбить?
— Нет. Никого. Мы ещё только готовимся.
— Сбежали из дому? — допытывался Улеб.
— Нету у нас дома.
Что именно побудило беспризорных мальчишек к откровению перед незнакомым взрослым человеком, загадка последнего. Оба успокоились, поглядывали на нежданного собеседника с явным восхищением.
— Хотите со мной в море? — решительно произнёс Улеб после раздумья. — Станете моряками и воинами. Верю, не предадите меня. А сейчас помогите-ка извлечь из-под развалин этой лачуги кое-что припрятанное добрыми людьми. Я за этим пришёл.
Мальчишки переглянулись и, потупясь, дружно принялись исследовать свои босые и грязные ноги, которые отнюдь не заслуживали столь подчёркнутого внимания.
— Моноксил внизу, в расщелине, — не поднимая глаз, виновато пробормотал один из них, — а мидийский огонь тут.
— Откуда вам известно? — изумился Улеб. — Вы обнаружили тайник? Ладно, лютые разбойнички. Берите-ка сосуд и айда вниз, к лодке. Поживей, други, мы должны поспеть на корабль досветла. Да не забудьте, как спустимся, сейчас же ополоснуться. Немытых не потерплю на корабле.
Всё спало вокруг, убаюканное вкрадчивой и тягуче-тоскливой песней цикад. Лишь изредка, превозмогая дремоту, далеко-далеко перекликались часовые на башнях крепости, исполинские стены которой нависали над её ребристо-чёрным зеркалом пролива, выставив зубья волноломов. И дрожали звёзды в воде, и таяли постепенно.
Незамеченной тенью проскользнул моноксил над толстой железной цепью, замкнувшей бухту. Цепь та непреодолима для больших судов, а крохотной, низкой и узкой однодерёвке не помеха.
Подплыв к кораблю с теневой стороны, Улеб перестал грести, осторожно поднялся во весь рост, сложил ладони рупором и тихонько позвал:
— Андрей.
На досках палубы, скрытой за выпуклостью высокого борта от горящих глаз мальчишек, жадно вкушавших приключение, послышались шаги, и спустя мгновение показалась фигура моряка.
— Твёрдая Рука? Господи, я чуть не проклял тебя, приятель, подумал, что уже не вернёшься из города, загулявшись.
— Тсс!.. Погаси факел и помоги нам.
— Ты не один? — шёпотом спросил Андрей.
— Нас трое. Бросай верёвку.
Больше ни слова не проронил Андрей без спроса. Даже при виде сосуда с мидийским огнём. Только пощупал его, удивлённо прищёлкнув пальцами, да покачал головой.
— До нас никто не приходил к тебе? — спросил Улеб, когда сосуд был тщательно спрятан.
— Нет.
— Ты никуда не отлучался?
— Нет. Птолемей обещал, что ты не станешь держать меня здесь до глубокой ночи.
— Прости, — сказал Улеб. — И прощай.
Над городом заметно прояснился небесный купол. Напряжённый слух уже мог уловить первые звуки просыпавшихся пригородов. Живущие на отшибе крестьяне встают задолго до пробуждения горожан.
Улеб не отрывал глаз от берега. А бывшие «лютые разбойники» между тем лазили по кораблю, как любопытные обезьянки. Они обследовали весь его нехитрый такелаж, обшарили каждый закуток.
Ярким румянцем залилась восточная щека небосвода. С моря призывно дохнуло свежестью. Всё вокруг ожило, зашевелилось, зашумело. И пришёл наконец Анит Непобедимый. С добрым десятком крепких парней.
— Заждался! — Улеб обнял его. — Решил, что прохудилась твоя память. Условились ведь как? То-то. — Взмахом руки он призвал прибывших поскорее подняться на борт и, когда все до единого взбежали на корабль, спросил Анита: — Где раздобыл такое войско?
— Мои ученики, бойцы отменные, — гордо пояснил тот, — последние ученики поруганной палестры. Иных уже нет в столице, а тех, что остались, сам видишь, удалось собрать. Всю ночь бегал, оттого и опоздал к назначенному сроку. Да ещё одна причина задержала…
— Ладно, теперь в сборе, пора в путь, — сказал Улеб.
— Не торопись, мой мальчик. — Анит смущённо теребил курчавую бородку. — Ты, вероятно, рассердишься, только не моя вина… Словом, сейчас прибежит… гм, ещё кое-кто. Я не смог отказать.
— Если ты пообещал ещё кому-то, что возьмёшь его с собой, я не возражаю.
Повинуясь приказу Улеба, «лютые разбойники» проворно спрыгнули на доски пристани, обрубили нижние узлы канатов, вернулись, ловко перебирая руками, втащили канаты на корабль, аккуратно смотали их и, задыхаясь от старания и упиваясь сознанием собственной пригодности, кинулись помогать, вернее, путаться под ногами у бойцов Анита, которые удерживали на месте уже не привязанное судно, выставив вёсла и легонько подгребая ими.
Молчаливые парни и без подсказки знали, как и что делать. Сильные, сообразительные. Было ясно, что к любой работе им не привыкать. Улебу приятно было отметить и усердие вчерашних босоногих беспризорников.
— Идут! — вскоре воскликнул Анит и помахал рукой.
С берега ему ответила взмахом маленькой руки какая-то женщина, лица которой не разглядеть, поскольку она куталась в чёрную накидку, достававшую ей до пят. По бокам от неё шагали двое, то ли слуги, то ли приятели — Улеб не разобрал. Оба несли на спинах тяжёлые кожаные мешки, ухитряясь при этом ограждать хрупкую спутницу от толчеи.
— Она, ангел мой… — прошептал Анит и обернулся к Улебу. — С нею два её брата. Оба, я знаю, готовы растерзать нас с тобой за то, что увозим её, как сама пожелала.
— Почему отпускают? — спросил Твёрдая Рука без особого, однако, интереса. Юноша был слишком озабочен мыслями о предстоящем путешествии, чтобы размениваться на всякую чепуху вроде какой-то, по его мнению, взбалмошной девицы, охмурившей знаменитого атлета своей загадочной заботой.
— Упросила их, умолила, — продолжал Анит. — И ей и братьям с малых лет опостылело житьё в родительском доме, хоть и сытом, да насквозь порочном. Она же добра от природы, светла душой.
Девушка между тем распростилась с провожатыми и чёрной птичкой вспорхнула на корабль по трапу, только хлопнули крылья — полы её накидки. Простучала сандалиями и скрылась в надстройке кормы, точно в клетке.
Юные братья таинственной беглянки безмолвно и злобно взглянули сначала на Улеба, затем на Анита, швырнули мешки прямо им под ноги и ушли.
Твёрдая Рука уже отдавал гребцам громкие, весёлые команды, сам толкал весло, пока корабль не выбрался из сутолоки залива на простор. К счастью, был попутный ветер. Он наполнил парус, и убрали вёсла до худшей поры, поплыли в открытое море.
То присвистывал Улеб ветру, чтобы резвее гнал судно, то приветствовал чаек на родном языке, то глядел дальше синей воды в бесконечную дымку востока, породившего светлый день, ибо солнце взошло оттуда, оно поднялось высоко.
Анит встал рядом, положив руку на плечо Улеба, замер.
— Как будет?
— Не ведаю, — взволнованно молвил Улеб, — но жду…
— Бедняжка, всё боялась, что ты её прогонишь, не возьмёшь с собой, — вдруг сказал Анит, — вот и сидит, прячется, пока не позовёшь.
— На кой мне, сам расхлёбывай. Между прочим, я видел их, её братьев, когда покидал тебя в полночь. Испугались меня, прижались к стенке.
— Тебя попробуй не испугайся, рубаха скрипит, щитки блестят, меч по сапогам хлопает. Вон красильщик, на что пройдоха и плут, а сам от такого гостя ополоумел. Вообрази, костры под чанами погасил, работников накормил и отправил спать, будто в праздник.
— Это я так постарался.
— Да ну! А несчастные подмастерья не знают, поди, на кого и молиться за неслыханную хозяйскую щедрость. Век буду помнить, из какой грязи вытащил меня, — благодарно сказал Анит. — Оба вы ангелы, и она и ты. Ниспошли нам господь вечное благо!
Улеб только плечами пожал, а Непобедимый задумался, заложив руки за пояс. Позади их слышался смех. Там, под мачтой, на покачивающихся досках сидели тесным кругом бойцы, подставляли обнажённые торсы горячим лучам, судачили, разбирали оружие, прихваченное в дорогу, подтрунивали над шалостями мальчишек, наслаждались свободой и отдыхом, гадали о плаванье: далеко ли, надолго ли? Двое из них, как заправские кормчие, надёжно удерживали массивную лопасть кормила, за которым пенился убегающий след.
Анит неожиданно сказал, спутав все мысли Улеба:
— Вот что, Твёрдая Рука, будь что будет, пора мне признаться. Она за тобой пошла, хоть и не звал ты, я же тут ни при чём.
— Не понимаю.
— А что понимать, ясно слово, как божий день. Я ей обязан жизнью, потому и не осмелился оттолкнуть безутешную. Получается, я вроде сводника.
— В толк не возьму, о чём речь.
— Выслушай, не перебивай. Она мне всё рассказала. И о жизни безрадостной среди пьяниц, и про случайную вашу встречу, и о схватке, и бегстве, и о погоне, и про то, как разыскала тебя, как ужаснули её речи твоего напарника, как молила Христа помиловать за грешное чувство своё к безбожнику, как поняла однажды, что не вырвать из сердца стрелы, и решила, испытав все душевные муки, что слаще они угрозы адовой, а без милого избранника много трудней.
— Кифа?!
Улеб бросился на корму, распахнул, едва не сорвав с петель, округлую дверцу надстройки, сдёрнул с девушки покрывало.
— Кифа… — повторил чуть слышно и легонько, трепетно провёл рукой по чёрным, как смоль, волосам пригожей ромейки, упавшей ему на грудь.
Лицо её было мокро от слёз.
Глава XX
— Успокойся, Мария, — приговаривал Калокир и плавно водил руками над головой Улии, не отваживаясь прикоснуться к светлым её волосам, струившимся из-под алой ленты на плечи, — забудь прошлое, как готов забыть и все огорчения, что познал от тебя.
Повзрослевшая, осунувшаяся за эти годы, но не потерявшая своей необычной привлекательности девушка медленно поднялась с мраморной скамейки и направилась через зал к огромному окну. Калокир и присутствовавший тут же Акакий Молчун одновременно сорвались со своих мест и, опередив её, угодливо распахнули створы-ставни.
Небольшой и уютный дворец, отведённый динату на окраине Андианополя, куда всего час назад Улия была доставлена из Фессалии, венчал верхушку самого высокого холма и назывался Орлиное гнездо. Жёлтая песчаная дорожка спиралью опоясывала зелёные склоны холма, сбегая к его подножию и теряясь там среди пышных цветников и садов, за которыми поблескивали крыши и купола города.
Живительный, напоенный чудесным ароматом цветов и щебетанием птиц воздух хлынул в раскрытое окно, из которого открывался дивный вид на белокаменный город, и различимы были с такой высоты серебристые змейки двух рек, сливавшихся воедино в лазурной дали.
— Нравится тебе? — тихо спросил Калокир. — Здесь ты не пленница.
Улия смолчала, смотрела в окно, будто не слышала вкрадчивого, ненавистного голоса:
— Дай срок, Мария, — мечтательно говорил Калокир, — мы вместе ступим в столицу. Нет, нас внесут на щитах в триумфальные ворота Харисия. На Священную башню. Ещё более прекрасный город ляжет к твоим стопам. Чего же ещё тебе нужно?
— Пить… — вдруг произнесла Улия.
Динат сделал несколько лихорадочных глотательных движений, как будто поперхнулся словами, затем набросился на слугу, также поражённого тем, что молчунья заговорила, затопал сандалиями, замахал кулаками, заорал:
— Скорей! Она хочет пить!
Акакий подпрыгнул, бросился вон со всех ног, с размаху налетел на дверь, отскочил назад, завопил:
— Что принести? Какой напиток? Ведь ежели, к примеру, принесу не то…
— Что желают испить твои уста, сладкоголосая? — шёпотом спросил Калокир.
— Простой воды.
— Воды! Подать воду! — вновь закричал динат и пинком послал из зала вертящегося, как юла, слугу. — Скорей! Скорей! О боже!..
За дверью раздался грохот. То ли Акакий нёсся по внутренней лестнице, перелетел через несколько ступенек кряду, то ли катился кубарем. Весь нижний этаж всполошился, даже стражники, надо полагать, оставили посты, забегали, загомонили.
— О боже!.. — повторял Калокир. — Мария! Свет моих очей! Отрада моих ушей!
Мужчина, помышляющий о благополучной и долгой супружеской жизни, должен принять сердце избранницы, а не взять его. Принять и взять — различный смысл несут два этих слова. Сильному взять недолго, только недолговечно взятое силком. Надёжна лишь добрая воля. Калокир это знал.
Вбежал Акакий, подал чашу. Она утолила жажду и сказала:
— Хочу быть одна. Устала очень.
— Молчун, препроводи Марию в её опочивальню! — гаркнул динат слуге и, едва они удалились, взволнованно зашагал из угла в угол.
Не всё складывалось у дината так гладко, как ожидалось и как сулил монах Дроктон ещё в Константинополе.
Правда, Калокир не мог пожаловаться на приём, оказанный ему в Андрианополе. И перед строем легионеров провели, и дворец приготовили ему видный, и охрану приставили. Однако все эти почести оказаны ему не самим Цимисхием, а его приспешниками. Иоанн Цимисхий незадолго до появления Калокира отбыл на Восток.
Калокир жаждал обещанного воинского железа. Надеялся, что, вероятно, эдикт о высоком его назначении огласит сам Иоанн Цимисхий по возвращении в Адрианополь.
Мысли об этом теснились в голове дината, когда он беспокойно вышагивал из угла в угол, оставшись в опустевшем после ухода Улии и Акакия верхнем зале Орлиного гнезда.
Скоро ли вернётся Иоанн Цимисхий, никто в Андрианополе не знал, ибо намерения его неведомы простым смертным и подотчётны только господу богу да разве его представителю на земле в лице патриарха Полиевкта.
Динат прекратил хождение взад-вперёд, остановился посреди зала, ощутив какую-то подозрительную смуту в груди. Молодой слуга ушёл с красавицей и до сих пор не кажет носа. Что такое? От этих лицемерных прислужников, мистиев, телохранителей, гребцов и прочих плебеев всего можно ожидать, только отвернись. Ещё свежа в памяти история с Лисом и Велко.
Схватив со стола увесистый пестик, Калокир что есть силы принялся колотить им в бронзовое било, и, наверно, далеко за пределами Орлиного гнезда был слышен этот резкий, требовательный гул. Стражи очумело сбежались на зов с обоих ярусов дворца. Прибежала вся челядь, вплоть до поварят, приведших под руки слепого массажиста. Акакий, как и положено ему, явился первым.
Калокир отослал всех лишних небрежным «Псс!», сам притворил за ними дверь и грозно обернулся к Акакию:
— Что Мария?
— Должно быть, отошла ко сну с дороги. Я проводил её, как ты велел, сюда вернулся, но не посмел войти, поскольку ты, мудрейший, сам с собою говорил о чём-то, надо думать, очень важном. Ничтожному не следует вторгаться в мысли высших. Ведь ежели, к примеру, взять мой куриный ум да заглянуть…
— Уймись! — оборвал динат болтливого слугу.
— Молчу, мой светоч. Раз господин велит, я проглочу язык. Ведь ежели замешкается кто…
— …или болтать начнёт без меры, — подхватил динат, ловя Акакия за шиворот, — я с ним проделываю это! — И Калокир так стукнул слугу лбом о подоконник, что тот сразу остыл и захныкал, ощупывая вскочившую шишку.
Динат же с удивлением разглядывал вмятину на подоконнике. Сказал:
— Достаточно ли почтительным ты был в пути со своей госпожой?
— О да! Я зорко охранял её. Весь наш отряд плотно её окружил… заботой.
— Какие новости ещё привёз из Фессалии? Что Блуд?
— Смирился, отпустил Марию, хоть и скрипел зубами. Я и сейчас ломаю голову, за что Блуд так невзлюбил моего доброго господина? Ведь ежели, к приме…
— Опять?
— Нет, нет, бесподобный! Я хотел сказать, что, если разобраться, ему подобает молиться на тебя. Не в собственном кастроне ест, пьёт и спит, а в твоём.
— Ты прав, Молчун, — со вздохом молвил Калокир, милостиво кладя унизанную перстнями руку на плечо слуги. — Однако недолго осталось ему праздновать. Настанет срок, и его повешу за ноги, как того булгарина.
— Булгарин? А-а, Велко из Расы. — Акакий беспрестанно трогал, щупал, измерял шишку на лбу с таким сосредоточенным видом, будто собирался подарить человечеству научный трактат о возникновении лиловых выпуклостей на головах людей под воздействием твёрдых подоконников и непрерывном росте оных. — Выходит, от тебя скрыли правду.
— Скрыли? Что именно?
— Правду о том булгарине, который похитил Марию, а ты, великодушный, приказал повесить его за это вниз головой на стене фиссалийского укрепления.
— Его не повесили?!
— Живой и невредимый, — сказал Акакий.
— Глупец! Я самолично наблюдал, как люди Блуда вздёрнули его за ноги.
— Я, господин, тогда там не был и ничего не видел. Ведь ежели, к примеру, вспомнить, что я только теперь побывал в Фессалии, как же я мог видеть? Но я слышал об этом своими ушами двадцать дней назад. Булгарин Велко жив.
— Кто смеет утверждать подобное?
— Не помню точно… кажется, какой-то лучник. Случайный разговор. Так, между прочим.
— И что же он сказал, тот лучник?
— Божился, будто было так. Его, булгарина, подвесили, но он не стал кричать и каяться и не взмолился. Все вскоре разошлись. Ведь ежели, к примеру, рассудить, кому охота созерцать молчащего на пытке? Ты тоже на него махнул рукой, оставил воронам и удалился, чтобы запереть беглянку в башне. И задержался там. А стража со стены заметила, как набежали снизу пастухи, на брёвнах прошмыгнули через озеро и мигом выкрали булгарина. Их старшина, овечий мистий, перерезал верёвку. Охранники опомниться не успели, они уже обратно по воде. Тогда, боясь твоего гнева, стражники подвесили на место Велко чучело из мешка с травой. Ты глянул издали и не обнаружил подлога. Ведь ежели, к примеру, вспомнить, был вечер. А утром тебе сказали, что к трупу привязали камень и утопили. Булгарин больше не занимал тебя, ты думал о Марии. Вот что я слышал.
Калокир стоял некоторое время с открытым ртом. Акакий переминался с ноги на ногу, прикидывая, то ли дать стрекача, то ли остаться и посмотреть, хватит ли хозяина удар. Но динат пришёл в себя, проронил:
— Да, припоминаю, так было…
— Конечно, господин, они там, все преступные бездельники и дармоеды, не то что я!
— Заклевали б их вороны! — вскричал Калокир. — Теперь всё прояснилось. А я ведь смирился с исчезновением пастухов. Лишь бы овцы не пропали. Мистий не раб и не парик[42]. Как всякий наёмный, он волен уйти, если хочет. Я даже возрадовался тогда, ведь ежели, к приме… Тьфу! — Калокир схватил железный пестик со стола, где стояло сигнальное било, и швырнул его в Акакия. — В зубах навязло! Ещё раз услышу твоё «ведь ежели», задушу!
Проворный слуга увернулся и завопил:
— Не буду! Никогда! Помилуй!
— Смотри, Молчун, — предупредил Калокир и устало опустился на мраморную скамейку, привалившись к подлокотнику в виде львёнка с замысловато скрюченным хвостом. — О чём я говорил?
— Осмелюсь напомнить, ты, драгоценный, обрадовался, когда узнал, что пастухи исчезли.
— Да. Они тем самым добровольно отреклись от воздаяния за труд на пастбище.
— Воры! Бежали с твоим рабом! — фальшиво возмущался Акакий.
— Блуд знал об этом и поленился их догнать?
— Ещё бы! Пальцем не пошевелил, нахлебник, не удосужился седлать коней в погоню. Он тебя не любит, обожаемый. Все они предатели. Один я неподкупный, хоть и не видал награды.
— Чего бы ты хотел за верную службу? — язвительно спросил динат.
— О, если б отослал меня обратно в Константинополь, я хорошенько присматривал бы за хозяйским добром.
— Умолкни! — оборвал его Калокир. — Ты пригодишься мне и в армии. А мавританка подождёт. Да и ты, Молчун, не великомученик. Ступай к опочивальне госпожи и не смей отлучиться. Поплатишься головой, если что-нибудь случится с Марией.
Акакий попятился. Но Калокир задержал его:
— Она знает о побеге булгарина?
— Да, ей известно. Мне лучник сообщил, будто люди слышали, как Велко крикнул напоследок: «Голубка, я вернусь и всё равно спасу тебя!» Велко, говорят, настырный малый. А она, твоя Мария, как я догадался, в седле молилась за него. Я ехал рядом и слышал. Ещё упоминала чьё-то имя.
— Милчо из Карвуны! — предположил динат, похолодев. — Так всегда называет себя перед варварами Блуд. Неужели и он… Блуд красив…
— Нет, господин, Мария ненавидит Блуда, им подружиться невозможно. Да и не Милчо вовсе поминала она, а.» дай бог памяти… какого-то Булея. Или Пулеха. Нет, нет, Улебия как будто. Языческого идола, возможно. Тьфу.
— Голубкой, значит, обзывал… — Динат вскочил, зачем-то вдруг плотно затворил окно. — Грозился, висельник, снова вернуться в кастрон за нею?
— Да, он такой. Ведь ежели, к примеру…
— Пшел во-о-он!
Тяжёлый пестик полетел в уже захлопнувшуюся дверь.
Не меньше получаса шагал Калокир из угла в угол, оглашая проклятиями гулкие своды верхнего зала, пинал валявшиеся подушки, вазы и кувшины, скамью и даже массивный постамент Атланта, державшего круглый аквариум с пёстрыми рыбками.
Внезапно внимание дината привлекли приветственные возгласы внешней охраны. На цыпочках, быдто его могли заметить или услыхать снаружи, подкрался он к окну и разглядел сквозь решётку, как часовые, ловя поводья, помогают спешиться группе всадников.
По расцвеченным султанчиками на шлемах и по чешуйчатым стальным наплечникам, напоминавшим раковые шейки, он узнал своих местных опекунов: почтенного хилиарха Гекателия и таксиарха[43] с незапоминающимся именем. Прочие четверо были сопровождающими лакеями или оруженосцами налегке, они остались при лошадях, в то время как хилиарх с таксиархом, обнажив головы, ступили во дворец.
Так же крадучись Калокир устремился к ковру на стене, сдёрнул первый попавшийся меч, выхватил из настольной шкатулки несколько свечек и, подбрасывая одну за другой, принялся рубить их на лету.
Мелодично звякнул висячий колокольчик, в дверную щель просунулась голова Акакия.
— К тебе из войска, господин.
— Проси.
Военачальники уже переступили порог, но Калокир всё ещё самозабвенно расправлялся со свечками, демонстрировал незаурядную ловкость и, лишь покончив с последней свечой, как бы невзначай обнаружил присутствие посторонних, быстро сунул меч в петельку на ковре, скромно поздоровался с вошедшими и смущённо опустил глаза, как великовозрастная девица, которую застали за игрушками младшей сестрёнки.
— Великолепно! — воскликнул хилиарх Гекателий, окидывая взглядом усеянный восковыми обрубками пол.
— Поразительно! — подхватил таксиарх с труднопроизносимым и потому незапоминающимся именем. — Армия обрела в твоём лице истинного виртуоза.
Уж так застеснялся, так застеснялся Калокир:
— Ах, славные, не стоит восхищаться. То для меня просто развлечение. Я… Вы… врасплох… Сожалею, любезные мои друзья, что слишком увлёкся столь лёгким упражнением и не слыхал, как вы вошли.
— Нет, нет, — ещё разок воскликнул Гекателий, на которого, надо отметить, действительно произвело впечатление недюжинное мастерство того, кто внешне менее всего походил на искушённого воителя, — ты был великолепен! Какой размах! Какой удар!
А таксиарх уж молчал, он посчитал, что с Калокира достаточно.
Динат гостеприимно пригласил их сесть. Все трое чинно расселись, не спеша, обстоятельно, как парламентёры перед ответственными переговорами.
Гекателий был дородный, крупный мужчина. Как многие обременённые излишним весом собственного тела, он плохо переносил жару, вызывавшую в нём одышку и потливость.
Таксиарх являл собой противоположность хилиарху. Он был поджар, как гончая, скуласт, моложав, с холёными ногтями тонких нервных рук, с глазами мутными и мудрыми, как у змеи. Предпочитал молчать.
— Здесь царил переполох, когда мы подъезжали, — произнёс Гекателий, — уж не случилось ли чего дурного?
— Ты не ошибся, — сказал динат, — мне сообщили, что бежал от наказания один бунтовщик, булгарин.
— Всего один? Это ли потеря! Вот у меня большая часть невольников — булгары, и все они удрали.
— Всех нужно изловить!
— Они повсюду убегают. Слетаются со всех сторон к своему войску и к русинам. Им же хуже. Когда пойдём топтать их разом, живыми или мёртвыми отыщем там всех беглых псов. Я — своих, ты — своего. Не миновать им кары. — Гекателий потянулся к аквариуму, бесцеремонно зачерпнул воды, побрызгал на лицо. — Я не в себе от удушья после скачки. Высоко поселил тебя Цимисхий.
— Мы посланы к тебе епископом нашим, — подал голос таксиарх.
— Он здесь, в Адрианополе? — оживился динат. — Уже вернулся в епархию?
— Сегодня прибыл из столицы. Мы встретили его раньше граждан.
— Немедленно к нему! В его устах должна быть весть о моём высоком назначении! — Калокир направился к столику с бронзовым билом, чтобы призвать Акакия и приказать тому седлать коней и принести парадный наряд, достойный визита к церковному главе провинции, и был уже на полпути к висячему сигнальному диску, как вдруг остановился, оглянулся на гостей, которые по-прежнему сидели на скамейках в сибаритских позах. — Вы отказываетесь препроводить меня?
— Епископ никого не принимает. Он шлёт тебе благословение. И, верно, весть о том, что василевс поставил леги на эдикте о назначении дината из Фессалии…
— Меня командующим схолы? — вырвалось у Калокира.
— …лишь советником при Иоанне Цимисхии в бессмертной армии Европы, — торжественно закончил хилиарх.
Динат поник. Военачальники с удовольствием наблюдали за миной разочарования, отразившейся на вытянувшемся лице Калокира. Он прошептал:
— Мне обещал Дроктон… Я буду ждать Цимисхия.
Гекателий вновь освежился водой из аквариума, после чего доверительно заговорил:
— Дроктон, Дроктон… Мои уши впитали столько мифов об этом иноке у трона, но сам я не встречал его воочию. Дроктон простой монах. Епископ — носитель епитрахильи[44], сан почти небесный. Но даже он не изрекает воинских указов, его уста — источник лишь вестей для гарнизона. И тот из нас блажен, кто внемлет им.
— Ну что ж, советник — это правая рука доместика Цимисхия, — сказал динат, с внезапной строгостью и назидательностью уставясь на гостей.
Таксиарх вскочил, точно в нём резко распрямилась скрытая пружина. Поднялся со скамьи и Гекателий.
— Хвала тебе, любезный друг и новый наш соратник! — воскликнул Гекателий, про себя отдав дань изворотливости ума дината.
— Прошёл слишком малый срок, как я ступил в этот город. Слишком ничтожный срок для нашей дружбы, — холодно сказал Калокир.
В верхнем зале Орлиного гнезда на некоторое время наступила гнетущая тишина. Потом её нарушил Калокир. Он зашагал, не обращая внимания на тех двоих, что несколько растерянно ворочали головами, следя за его проходками из угла в угол.
Динат хоть и чувствовал себя обманутым, но всё же смекнул, что существенные выгоды можно извлечь даже из такого малого определённого звания в тагме[45], как советник при доместике. Нужна лишь твёрдость. Поразмыслив, он успокоился, прекратил измерять шагами гулкий зал и снисходительно улыбнулся воинам.
Ещё недавно склонный держать язык за зубами таксиарх внезапно заговорил:
— Тяжки наши заботы. Сражаемся с ними, умираем, пленим, но они убегают, будто вода сквозь пальцы.
— О ком ты? — удивлённо спросил Калокир. — Ты вспомнил похитителя моей Марии?
— Какой Марии? Я о булгарах, о сирийцах, руссах, уграх, алеманах — не перечесть. Проклятые! Ни страха перед Иисусом, ни поклоненья нам, ни чинопочитания. Когда же наконец господь их вразумит, не ведающих догмы так, как мы!
— Господь надоумил нас, как покарать язычников и всех вероотступников! Скоро, скоро двинем священную армаду на руссов и булгар, на всех, кто с ними заодно. Близко, неотвратимо укрощение непокорных! — вещал Калокир. — И с верой в это я удаляюсь. Акакий! Поди сюда, Молчун!
Динат что есть силы ударил в бронзовое било.
Глава XXI
Твёрдая Рука, Анит и Кифа взобрались на утёс и оттуда оглядели всю бескрайнюю ширь пространства.
— Что ты высматриваешь? — интересовался Непобедимый.
— Зачем мы высадились в этой пустыне? — спрашивала Кифа.
Улеб не отвечал, озирался окрест взволнованно, недоумённо.
Впереди, сколько хватал глаз, простиралась степь.
На ковыльном ковре ближних бугорков зияли тёмными вкраплениями пятна золы и торчали вбитые в грунт рогатины и колья над потухшими остатками былых очагов. Повсюду виднелись следы покинутого стойбища.
Сзади, у подножия утёса, шуршал прибой. Бойцы Анита не бросали вёсел, хотя корабль незыблемо стоял у самого берега, удерживаясь днищем на песчаной полоске, которую море облизывало волнами. На палубе «лютые разбойники» с криками размахивали руками, им не терпелось поскорее получить от взрослых позволение сойти на сушу и поохотиться.
— Эге-ге-ей! — кричали с корабля мальчишки. — Уже можно на-а-ам?
— Тут не найдёте даже мыши! Ничего живого! — ответил им Анит сверху. И обратился к Улебу: — Не огорчайся. На то они кочевники. Поплывём дальше, настигнем где-нибудь.
— Боюсь я за тебя, — Кифа нежно тронула руку юноши.
Улеб промолвил:
— Вон там, где сложен хворост, стоял бунчук кагана и его шатёр. По этой стежке вели от моря наших. Улия шла первой…
— Я продрогла на ветру, — Кифа зябко поёжилась. Смуглянка давно рассталась с мрачной накидкой, какая была на ней в день отплытия из Константинополя. Сейчас она красовалась в светло-розовом, связанном из тончайших копринных нитей платье, слишком лёгком для прогулок в море.
Улеб набросил на её плечи свою грубошёрстную луду.
— Наши люди устали, — сказал Анит, — они заслужили отдых.
— Здесь мёртвый берег, разве ты не видишь?
— Мы оживим его.
— Но ненадолго, — сказал Твёрдая Рука.
— Тебя обеспокоило исчезновение печенегов? Отыщем.
— Если они углубились в степь, нам не догнать без коней. Если же передвигаются вдоль кромки моря, мы их должны настигнуть. Жаль, что не застали Курю. Отсюда было бы легче прознать дорогу на Днестр. Я мечтал податься с сестрицей прямо к своим, во владения уличей. Теперь всё усложнилось.
— Не унывай, мой мальчик, распутаем клубок.
— Только не хватайся сразу за меч, — с мягким укором сказала Кифа Улебу, — мы их перехитрим. После стольких лет Куря тебя не узнает и ничего не заподозрит. Отныне ты пресвевт Палатия, а мы посольская свита. — И она не удержалась от озорного смеха.
Улеб ласково погладил её по голове, благодарно сжал могучее плечо атлета и сказал им обоим:
— Спасибо, друзья! Не успели узнать мою печальную историю, как тут же придумали её благополучное продолжение.
Воины-моряки и два шустрых «лютых разбойника» с удовольствием восприняли весть о предстоящем ночлеге на тверди. Они быстро соорудили из найденных на берегу жердей и старой корабельной парусины вполне надёжный заслон от ветра, клинками накосили травы на постель, собрали хворост и развели огонь.
Родник, мигом обнаруженный мальчишками на дне овражка, дал жаждущим воду. Кустарник, таивший дичь, дал свежую пищу.
До ночи было ещё далеко, когда маленький лагерь погрузился в сон. Не спалось лишь Улебу. Он охранял покой тех, кто разделил с ним все трудности путешествия, глядел на их лица и с замиранием сердца думал о человеческой отзывчивости, о доброте и самопожертвовании, о подлинном товариществе, что сближает разных людей в любом краю земли.
Чтобы побороть искушение сна, Улеб снова взобрался на утёс. Настойчиво притягивала его взор распростёршаяся у ног равнина.
И вдруг поодаль, в сиротливых соснах, как и тогда, когда он пленником томился здесь, прижавшись к щели каменного склепа, закуковала кукушка. И, как много лет назад, прошептал он:
— Жива-зегзица, сколько мне жить?
Бесконечно её кукование.
С рассветом нового дня тревог и надежд отчалил корабль. Он плыл вдоль пустынного побережья. Наполненный ветром парус увлекал его к днепровскому устью. Тщетно вглядывались Улеб и его попутчики в изменчивые очертания суши, там ни души, ни дыма.
— Благо нам опять помогает ветер, — лукаво промолвила Кифа, — моему рыцарю не нужно толкать весло, и я могу разговаривать с ним.
Она пришла к Улебу на нос корабля, где всегда можно было его увидеть в те часы, когда парус позволял оторваться от вёсел. Юноша улыбнулся. Её присутствие неизменно вызывало в нём нежность.
Природа умница. Даже несмышлёных животных она наделила инстинктом заботы о более слабых в их породе. Даже безъязыкие твари, имущие силу самцов, рьяно оберегают всё стадо.
В разумном же роду людей самый сильный — мужчина. Счастливый удел всех мужей — защита рода и труд во имя его процветания, ибо отчизна важнее всего.
Но и для мужчины жизнь не полна, если нет в нём сознания ответственности за слабое существо, за женщину. Для возмужавшего Улеба такой желанной подопечной нежданно-негаданно явилась ромейская девушка Кифа.
— Кифа, — сказал юноша, — в студёных морях мне часто чудилась твоя печальная песня.
— Что ты! — встрепенулась она. — Я знаю только весёлые!
— Вспомни, ладо, ты её пела мне когда-то. В подвале своей харчевни на улице Брадобреев. Про птицу в клетке.
— Ах, не забыл, мой рыцарь!.. То песня франков, чужая.
— Разве хорошие песни бывают чужими! Спой её снова. Теперь я понимаю слова франков. Блуждаючи с Птолемеем, научился речам всяких немцев.
Кифа молвила:
— Петь не стану. А скажи мне, познавший наречия многих народов, как, однако, собираешься изъясниться с Курей?
— Мечом.
— Тут усмешкою не отделаться. Войдёшь к их кагану без пропускного знака да ещё и без толмача, заподозрят обман. Я боюсь за тебя, опасаюсь, что задуманная нами хитрость обернётся плачевно.
— Когда был у них в неволе, — сказал Улеб, — услышал и запомнил два печенежских слова. Да, пожалуй, их к делу не приспособить. Только навредить могут. Степняки гонялись за моим жеребцом, за Жарушкой, искали его в тумане и кричали по-своему: «Где конь? Где конь?» Я запомнил эти два слова.
— А сейчас где тот конь?
— Я его уступил чеканщику из Расы, побратиму.
— Печенеги!! — раздался внезапный крик. — Печенеги бегут! Вон они, за камнями! Много! — Оба «лютых разбойника» возбуждённо указывали на то место крутого берега, где выпирали из высокого бурьяна три огромных гранитных зуба.
Люди на суше вели себя странно. Действия их были разрозненны, сумбурны. Они явно не знали, встречать ли заморский корабль или бежать от него подальше. Одни прятались за выступами камней, встревоженно выглядывали оттуда, метались от укрытия к укрытию, другие, напротив, карабкались на гранитные глыбы и, выставляя себя напоказ, смотрели в море, прикрывая ладонями глаза от солнца.
— Да, — сказал Улеб, — это они.
Все, кто был на борту, сгрудились вокруг юноши, ожидая его распоряжений. А он бросился к мачте. Анит и несколько бойцов помогли ему убрать парус в считанные секунды.
Печенеги, кто посмелее, приблизились к самой воде. Те, что прятались, тоже покинули свои укрытия и потянулись к предполагаемому месту высадки чужестранцев.
— Не понимаю, — удивлённо молвил Улеб, — почти безоружны. Это на них непохоже.
— Не ломай голову, — сказал Анит. — Не грозятся железом оттого, что Округ Харовоя в согласье с империей.
Юноша на всякий случай велел Кифе и мальчишкам запереться в надстройке. Девушка послушно скрылась на корме. Мальчишек, разумеется, пришлось загнать туда бесцеремонными пинками.
Корабль мягко ткнулся косом в берег. Единственный сохранившийся после давешних схваток с норманнами его кол-таран вошёл в глинистую почву обрыва.
Анит Непобедимый перебросил конец длинной доски на твердь, не спеша окинул взглядом тесно сомкнувшихся печенегов, оглянулся на безукоризненный строй горстки своих храбрецов.
— Что дальше? Так и будем стоять да глазеть друг на друга? Ну и встреча! Хоть бы повод какой-нибудь дали, а то ни биться, ни говорить с этим племенем.
— Что с ними сталось?.. — недоумённо произнёс Улеб. — Это не войско.
— У них и узнай.
— Каким образом? — Улеб в сердцах сдёрнул шлем и перчатки, швырнул под ноги. — Как же выпытать у них про Улию?
— Христос спаситель, они не меньше нашего ждут разъяснений.
— Воины предпочитают пустые речи меж собой, — послышался сзади насмешливый голос Кифы. Девичье любопытство побороло осторожность. — Обычные люди, ни капельки не страшные. Молва о них несправедлива. Хоть и нет на них кольчужной ткани, хоть и не дал им господь благодати, язык и облик православных, зато не сверепы и забавны очень.
— Да уж попали на забаву, — проворчал Улеб.
Между тем печенеги всё прибывали и прибывали. Осмелели помаленьку, загомонили меж собой. Какой-то коренастый и скуластый человечек закатил штанины и почему-то полез не на сходни, а в море со связкой невзрачных беличьих шкурок. Он стоял по колено в воде, вытянув руки, держал рыжеватую связку пушнины на весу, потряхивал ею, прищёлкивал языком и призывно лопотал что-то, как заправский меняла.
И всё-таки подавляющее большинство держалось отчуждённо. В глазах немой вопрос: «Кто вы, приплывшие издалека, и почему, одетые, как боги, завидев нас на берегу, прервали свой путь к большим торговым городам? Не за жалкой низанкой полусгнивших белок завернули сюда, так за чем же?»
— Нет, это не войско, — снова сказал Улеб.
— Отстегнём мечи, выйдем к ним вдвоём и попытаемся договориться, — предложил Непобедимый. — Потребуем, чтобы вызвали своего кагана. Раз ты решил спасти сестру, не теряй времени. Кифа, мой ангел, правильно заметила: мы отвлеклись от дела пустыми пересудами.
Улеб с Анитом шагнули в круг печенегов. Те встретили безоружных куда приветливей, нежели раньше, загомонили пуще прежнего. Иные подняли растопыренные ладони в знак доверия. Иные, улыбаясь, закивали головами. Были и такие, что невозмутимо, а может, и презрительно глядели на пришельцев.
Улеб указал на себя и отчётливо произнёс по-эллински:
— Я. Посол Страны Румов.
Затем ткнул пальцем в толпу печенегов.
— Вы. Позовите Курю.
И тут произошло нечто совершенно неожиданное для него. Из всего сказанного им печенеги разобрали только «Румов» и «Курю». Но этого оказалось достаточно, чтобы повергнуть их в неописуемую ярость вместо предполагаемой радости.
— Куря? — с ненавистью вопрошали они.
— Ит Куря! — исступлённо ругались другие. — Шакал!
— Гачи, рум, гачи!! — вздымая трясущиеся от негодования кулаки, наступали третьи.
Казалось, вот-вот с полсотни разъярённых людей вцепятся в абсолютно сбитых с толку Улеба и Анита. Резкий, острый, как боль, отчаянный крик Кифы встряхнул Улеба. Он увидел, как мощным движением рук Анит отбросил передний ряд нападавших, как всколыхнулись копья и сверкнули топоры спешивших на выручку бойцов. И он вскрикнул, покрывая своим голосом шум назревающей бойни:
— Торна, греки! Назад! Уберите оружие! Свершилось чудо! Или эти несчастные не те, за кого мы их приняли! Они проклинают Чёрного!
Бойцы щитами оттеснили печенегов, которых, в свою очередь, озадачило поведение светловолосого витязя, запретившего своим воинам колоть и рубить их. Хоть и бурлила толпа по-прежнему, но её уже что-то сдерживало от намерения немедленно растерзать чужеземцев.
— Куря — тьфу! Куря — шакал! — Улеб изобразил отвращение. — Я не посол Страны Румов!
Мало-помалу печенеги успокаивались, уставясь на него широко раскрытыми глазами. А он уже улыбался и говорил по-росски:
— Я росич. Понимаете? Я русский человек. Кто из вас понимает меня?
Он попросил Анита увести бойцов, чтобы они не смущали своим присутствием уже вовсю притихшую толпу. И когда те отошли, повторил снова:
— Я росич. Из уличей.
— Руся? — послышалось наконец в ответ.
— Да, да, я руся! Черти этакие, руся я, руся!
Будто ветер прошелестел листвой, так пронёсся среди них приглушённый шёпот. Недоверчиво косясь на Улеба, переглядываясь, они всё чаще и явственней произносили в сумбурном своём споре слово «Маман-хан».
Вот какой-то печенег, сбросив кафтан, чтобы не стеснял движений, что есть духу припустил через бурьян мимо каменных зубьев прочь от моря.
Улеб сообразил, в чём дело, согласно закивал:
— Давайте, люди, давайте сюда своего Мамана.
— Что такое? — спросил Анит.
— Если не ошибаюсь, послали за толмачом.
— Дай бог, чтобы не за конницей.
Улеб с нетерпением и волнением дожидался местного толмача. Он надеялся с его помощью разобраться во всём, что поразило его сегодня. А главное, хоть что-нибудь разузнать о судьбе Улии. Он и сейчас думал о сестрице, как думал в годы разлуки с отчим домом, с щемящим чувством неискупленной вины.
Мелкими шажками, осторожно ступая в колючем сухотравье, к нему приблизилась Кифа. В тёмных, как спелые вишни, её глазах ещё не унялась тревога за жизнь любимого; смуглое, тонко очерченное, подернутое бледностью личико не успело согреться после пережитого леденящего страха. Она, словно слепая, на ощупь ухватилась за руку Улеба, прижалась к нему, неотрывно и настороженно наблюдая за печенегами. А те, в свой черёд, уставились на неё, как гурьба бедняков на изумруд.
Дыхание моря играло лёгким, точно розовая паутина, платьем девушки. Она, стройная и хрупкая, была прелестна и трогательна, ибо стояла, сама того не подозревая, в позе матери, заслоняющей собою дитя. Улеб умилённо сказал:
— Испугалась, Кифушка?
— Я им покажу, — отозвалась, — пусть только попробуют тронуть. Я тебя защищу. — И она показала кинжал, припрятанный в широком рукаве. Сердито, предостерегающе глядела на безмолвно любовавшуюся ею толпу.
Улеб рассмеялся. Печенеги тоже загоготали, оценили, значит, поступок маленькой защитницы светловолосого силача. А Твёрдая Рука подхватил её как былинку, понёс на корабль, приговаривая:
— Уморила, глупышка! Тебя не разберёшь: то поёшь наперекор буре да мужей вдохновляешь, то помираешь со страху, когда незачем. Вспомнил, как забоялась речей Лиса и удирала по оврагам. Нынче вот с ножом на сотню степняков. Сил нет, до чего потешная!
Тем временем вдали показался какой-то великан, он бежал со всех ног. Следом за ним торопился ещё один, он, второй, казался просто букашкой по сравнению с первым. Печенеги на берегу, обратясь к бегущим, замахали руками, закричали:
— Маман! Маман!
— Вот это уже настоящий Барс, — оценивающе прищурясь, сказал Анит Непобедимый. — Такой украсил бы любую палестру. Будь осторожен, мой мальчик, начинай разговор с двух-трёх шагов, не ближе. Сдаётся мне, не толмач был у них на уме, когда отправили гонца, а это чудовище, коим, наверно, задумали нас пугать.
— Да, собеседник достойный, — согласился Улеб.
— Видишь, он на ходу загребает воздух левой ладонью, — продолжал Непобедимый. Атлет стоял, широко расставив ноги, заложив руки за пояс и задрав курчавую бороду, то есть с таким видом, какой принимал когда-то в школе ипподрома, поучая своих бойцов. — Левой загребает, стало быть, скорее всего левша. Ныряй низко, ногу в сторону, не назад. Пошлёт левый кулак, кивай вправо, огибай вытянутую его руку, завлекай по кругу, он тяжелее тебя. Сам бей снизу и коротко.
— Погоди-ка…
— Ты чего? Дрогнул? Тогда я потягаюсь.
— Мой страж! Это он! — вскричал Улеб. — Маман стерёг пещеру, в которую меня заточили степняки. Клянусь, он обнимет Нию или я вытрясу из него весть о сестрице!
С этими словами Улеб бросился навстречу великану. Анит и моргнуть не успел, как оба они уже стояли друг против друга в стороне от всех. Издали было видно, как Улеб возбуждённо схватил Мамана за меховую рубаху и, казалось, оглушил того потоком слов, расслышать которые, однако, наблюдавшим с берега не удалось.
— Ой, начнут драться, — шептала Кифа, очутившись рядом с Анитом, — боюсь за него.
— За кого, за прибежавшее чудовище? Не пугайся, мой ангел, Твёрдая Рука его не сразу прикончит. Такую глыбу одним ударом не свалить даже лучшему ученику Непобедимого.
— Смотри, смотри, они разжали руки, отпрянули оба. О чём говорят? Боже, о чём они говорят? Не дерутся.
— Ага! — азартно воскликнул Анит. — Наконец противник двинулся! Ума у него, погляжу, меньше, чем у мухи, хоть и вымахал как слон. Безумец, как он идёт на Твёрдую Руку! Разве так идут в поединок на бойцов Непобедимого! Руки разверз, весь раскрылся. Ну, ангелочек, сейчас твой рыцарь так ахнет кулачком это чудовище, оно мигом обнимет эту… как её, прости господи… Нию!
— Кто она? — ревниво спросила Кифа, и было ясно, что этот вопрос давно вертелся у неё на язычке. — Почему Твёрдая Рука вспомнил о другой?
— О женщины! — усмехнулся Анит и пояснил: — Тебе Ния не соперница. Так язычники славянского племени называют смерть. — Он вдруг осёкся, удивлённо проронил: — Что это значит?..
Удивляться было чему. И не только Аниту с Кифой, а и каждому на берегу. Печенег обнял росича. И хотя Улеб не ответил на явно дружелюбный жест великана, но и сам не проявил больше враждебности. Вскоре Улеб вернулся на корабль мрачнее тучи. Маман же подбежал к соплеменникам и что-то стал им втолковывать.
— Хвала и честь нашему пресвевту, — не без иронии сказал Анит, разочарованный тем, что бой не состоялся и ученик его на сей раз не блеснул уменьем. — Что же, мой мальчик, не пришлось трясти чудовище, само выложило весть о твоей сестре?
— Маман ничего не сообщил о судьбе Улии. Он её не помнит. Ни её, ни прочих пленников из Радогоща. Да и меня-то самого не сразу признал.
— Экий непомнящий, — усомнился атлет, — не смог сообщить или не захотел?
— Маману таить нечего, — убеждённо отрезай Улеб.
Кто-то из бойцов молча подал ему его меч, шлем к перчатки. Улеб пристегнул ножны к поясу, шлем и перчатки бросил в лодку, которая так и лежала на палубе под высоким бортом с того момента, как была погружена на судно памятной ночью в Константинополе.
— Что ты надумал? — спросил Анит.
— Корабль принадлежит тебе, учитель, но моноксил мой. Надеюсь, и мальчишки-разбойники не будут возражать. Я должен покинуть вас.
Все ахнули. Непобедимый шагнул к Улебу вплотную и молвил, сдвинув брови:
— Какую смуту заронило в тебе это чудовище? Если не объяснишь толком, мы утопим всё стадо вместе с их Маманом!
— Не смей их оскорблять! — взорвался Улеб. А поостыв, сказал: — Хорошо, я объясню. — Он обвёл взглядом лица ромеев. — Да будет вам известно, други, случилось страшное. Степной каган двинул полчища на Киев.
Расслышав «каган» и «Киев», произнесённые на корабле, печенеги хлынули к самому краю берега, подступились к судну. Окрестность огласилась возмущёнными и призывными их криками:
— Ит, Куря! Ит!
— Куря шакал!
— Халас Кыюв!
— Э, руся! Комэклэши!
— Сэнин Кыюв!
Анит и его парни озирались. Мальчики спрятались за спину Кифы, а она зажмурилась и зажала уши ладошками. Улеб поднял руку и воскликнул, стараясь заглушить печенегов:
— Тихо, люди! Чего вы хотите?
Маман тоже воздел руку, требуя от земляков молчания, и, когда те немного успокоились, объявил по-росски:
— Ятуки ругают Курю. Он, собака, погнал огузов на Кыюв. Там нет Святослава. Ятуки ругают сабли огузов. Ятук и руся — братья. Надо Кыюв спасать.
Улеб благодарно кивнул, попросил:
— Пусть братья не шумят, я буду говорить с добрыми румами.
Они угомонились, и юноша вновь обратился к товарищам:
— Два племени в Степи — огузы и ятуки. Маман, рождённый в стане воинственных кочевников, повздорил с воеводой Марзей, племянником кагана, ушёл к ятукам и, как они, мирно трудился за плугом по соседству с росскими погостами. Огузы били их, заграбили коней, имущество и жёнок. Ятуки не ратники, да и они не дрогнули, а вместе с нашими оборонялись против Кури. А с Чёрным каганом силища несметная, что туча прузи-саранчи. Секли всех подряд, как траву. Маман сплотил тех, кто спасся, поставил временное селище. Он мне сказал, что хочет обучить мужей и с ними поспешить следом за Курей. Отомстить. Он слышал, будто наш княжич с дружиной нынче в Булгарии, вот, мол, отчего осмелели огузы и полезли вверх по Славуте.
— Чему он хочет обучить их, твой Маман? — спросил Анит.
— Ятуки научили его обращаться с мотыгой и возделывать хлеб, теперь же, в лихую годину, он научит их искусству боя.
— Много он понимает в этом, — неожиданно буркнул Анит. — Где им железо добыть? Где клинки изготовить? Разве только дубины и смогут выстрогать. Гиблое дело.
— В умелых руках деревянная палица не уступит кузни, — возразил юноша.
— Именно, — ворчал атлет, — в умелых.
«Лютые разбойники» тем временем успели приобщиться к толпе печенегов, посмеивались там, с чисто мальчишеской непосредственностью щупали всякие побрякушки, украшавшие кафтаны и рубахи новых приятелей, пытались заполучить их в обмен на нехитрое своё богатство — сухари и орехи.
Губы Кифы дрожали, когда она тихо спросила:
— Ты покидаешь меня? В чём же я провинилась?
— Пойми, Кифушка, я должен поскорее добраться до Киева. Нужно опередить степняков во что бы то ни стало, — сказал Улеб. — Поставлю на моноксил лёгкий парус, уключины, прихвачу всё необходимое и помчусь по морю и по реке. Моей родине грозит беда.
— А я?
— На корабле Анита ты в безопасности. Начнёте перевозить товары, как он мечтал, станешь богатой и счастливой. Не девичье это дело рисковать головой. Твоя страна далеко. Плыви с Анитом. Я не забуду ни красы твоей, ни доброты, ни весёлых песен.
Медленно скатились из-под густых и длинных её ресниц две крупные слезы, упали на розовую ткань шелковистого платья, словно капли росы на трепетный лепесток цветка из прекрасных садов Византии.
Смелому воину не страшны ни меч, ни копьё, ни вода, ни огонь, ни чёрт, ни дьявол. Страшны лишь девичьи слёзы.
Чтобы не видеть их, Улеб спешно взялся за дело. С помощью ятуков выволок лодку и споро оснастил её, как требовалось для долгого и опасного пути. Даже мачту с поперечиной приладил крепко, вёсла выстругал топором.
К шлему и перчаткам, уже лежавшим в моноксиле, прибавились щит, тугой лук с пучком стрел, черпак, мешочек с солью, кольчуга про запас и моток пеньковой верёвки. Всё.
Нет, не всё. Твёрдая Рука вспомнил, извлёк из корабельного тайника серебристый сосуд и бережно перенёс его на своё судёнышко. Теперь всё. Можно прощаться со всем на свете, что не имело отношения к родимой сторонушке.
— Бью челом до самой земли, — произнёс и низко поклонился друзьям и любимой, поклонился и печенегам-ятукам.
И вдруг, надо же, как гром среди ясного неба, раздался вопль Анита Непобедимого:
— Не позволю!!
Атлет прогромыхал ножищами по сходням, прыгнул с размаху к воде, к лодке, схватил сосуд, прижал к брюху, как зверь детёныша, и опять как заорёт:
— Не дам мидийский огонь в руки варваров! Сие святыня империи! Неприкосновенный огонь армии христиан! Тайна тайн!
Вороны, что примостились поодаль на трёх гранитных зубьях над зарослями бурьяна, панически взмыли в воздух, будто кто-то запустил в них камнем. Испуганно попятились печенеги. Парни на корабле скребли затылки: с одной стороны, им, недавним невольникам, начхать на святыню обидчиков, с другой — они считали Анита своим вызволителем и привыкли во всём его поддерживать. Но и Твёрдая Рука для них не чужой. Поскребли, почесали затылки и притворились глухими-незрячими, без них разберутся. Кифа же была слишком погружена в собственные страдания, чтобы отвлекаться на причуды мужчин. А на лукавых физиономиях «лютых разбойников» отражалось полнейшее равнодушие.
Улеб подошёл к Непобедимому и мягко сказал:
— Не срамись перед людьми, учитель, верни сосуд на место. Это подарок Велко чеканщика, побратима моего.
— Не смей посягать!
— Ах, Анит, осерчаю напоследок, жалеть будешь. Поклади, говорю, на место, не тронь чужого.
— Кому огонь чужой, мне? Отойди! — Атлет, выпятив брюхо вместе с серебристым сосудом, наступал на юношу. — Не такой Непобедимый, чтобы отдать в руки безбожников святая святых! Сокрушу!
— Вот незадача, — вздохнул Улеб, — какая оса тебя ужалила?.. — Но тут же добавил твёрдо: — Кабы попросил по-человечески, так, мол, и так, дай горящую жидкость, чтоб корабль защищать, уступил бы, а коль раскричался — не отдам огонь греков, хоть лопни.
Анит и сам почувствовал, что хватил через край. Росич пережил неволю, а с ней такие лишения, что имел сейчас право на трофеи побогаче этих. И он, никто другой, пришёл на помощь Аниту в трудный час. Остыл атлет. Подумал, подумал — вернулся к моноксилу, положил сосуд на место, выждал, когда стихнет всеобщий вздох облегчения, и громко изрёк:
— Я смиряюсь. Не империя наша сотворила мидийский огонь. Она взяла его у древних. Лучше бы вовсе не родиться ему, огню этому.
В том весь Анит, такой неровный характер, взрывной и отходчивый.
Солнце клонилось к закату. Море и раньше было довольно спокойным, а теперь и вовсе превратилось в синюю гладь, как застывшее стекло. Бултыхались, резвясь, шаловливые дельфины, вспугивали чаек, которые взлетали с криком и вновь опускались на воду отдохнуть. От дельфинов расходились круги, и чайки плавно покачивались, точно тополиный пух, на затихающих волнах.
— Мне пора, — сказал Улеб.
— Я с тобой! — Кифа розовой птицей порхнула в лодку.
— Нет, зорька ясная, нам в разные стороны.
— Не гони! Хочу с тобой хоть на край света!
— Образумься, глупенькая, впереди, на Днепре-Славуте, злые огузы, там страшно.
— Без тебя мне и в добром покое страшно. Без тебя я умру.
— Видно, судьба, — молвил Улеб, краснея от радости. И, чтобы скрыть от окружающих смущение, чуток пошумел вроде как для порядку: — Слёзы утри! Доколе ими глаза мутить! И впредь не рыдай! Смотри мне! — Он покашлял б кулак, покосился по сторонам, зарделся пуще прежнего. Кликнул мальчишек: — Эй, разбойнички лютые, бросьте-ка нам… с невестушкой ещё один щит!
— Удачи вам на Борисфене, ветра попутного. Господи, убери с их пути сатану, не допусти искушения духа и плоти, — грустно прокричал Анит, обнимая Улеба и Кифу, затем опять Кифу и ещё раз её, ещё.
Улеб прервал его молитву и объятья смехом:
— Будет, будет тебе, Анитушка! И когда успел снова стать таким набожным?
— Сам лба не перекрестишь, ангела моего разохотил, так позволь хоть мне помолиться за вас на дорогу. Навсегда расстаёмся.
— Тебе тоже плыть, за себя и молись.
— Я остаюсь, — заявил Анит, — не допущу, чтобы чудище всё испортило.
— Кто? Что?
— Твой Маман не сумеет научить их воинскому делу. Это сделаю я. Превращу несчастных земледельцев в настоящее войско, не будь я Анит Непобедимый, великий наставник бойцов!
— Ого! Вот такая речь мне по нраву! — возрадовался юноша. — А как же корабль и товары?
— Обучу их сражаться на славу, — сказал атлет, — тогда стану купцом. Впрочем… не быть мне торговцем, мой мальчик, мне палестра нужна. Всё равно вернусь в столицу, как не станет Фоки. Василевсы не вечны…
— Прощайте! Будьте все счастливы! — воскликнул Улеб и ударил вёслами по воде. — Держись крепче, Кифа. Мы в Киев проскочим, посрамим степняков. И Улию отобьём у них.
— Прощайте! — кричал им вдогонку Непобедимый.
— Прощайте! — кричали воины-гребцы.
— Прощайте! — кричали «лютые разбойники».
— Хош! Хош! Руся! — кричали ятуки, размахивая меховыми шапками.
Глава XXII
Крохотное судёнышко долго плутало в камышовых протоках днепровского лимана, прежде чем выбралось на широкую стремнину. Улеб и его спутница поначалу плохо ориентировались в незнакомых местах. Потом, обретя верное направление, они двигались расторопнее.
Если дул попутный ветер, летели птицей. В часы полного затишья или при встречном ветре приходилось убирать парус и браться за длинные вёсла, которые хоть и требовали больших усилий гребцов, зато гнали моноксил вверх по реке с достаточной скоростью.
Мускулы Твёрдой Руки неутомимы. За несколько дней было покрыто весьма значительное расстояние, куда большее, нежели предполагалось.
По ночам делали привалы. Улеб стрелял полночную живность, ловил линей в тине и водорослях заливов. Кифа готовила пищу. Надо признать, делала это отменно. Что ни варила-жарила, всё вкусно и выше всяких похвал. Не зря росла при кухне знаменитой константинопольской харчевни. Насытившись и запив ужин чистой днепровской водицей, они тут же засыпали под открытым небом.
Едва брезжил рассвет, снова пускались в путь, не останавливаясь до самого темна.
Порой лысые склоны обоих берегов бороздили извилистые овраги, порою же надвигались и уходили вспять сосновые и смешанные леса. Внезапно и зримо появлялись стада диких животных, они шумно убегали, потревоженные лодкой и людьми, которые, в свою очередь, настораживались от их топота, остерегаясь засады огузов.
В низовьях Днепра кочевники не попадались. Но Улеб и Кифа понимали, что с каждым новым днём увеличивалась вероятность такой встречи.
— Куря не может идти быстро, — говорил Твёрдая Рука, — его войско обременяет слишком громоздкий обоз. Жилище, жёнок, детей, пожитки, скотину — все они тащат за собой. И оседают подолгу.
— Скоро река кончится, а их не видно, — вторила Кифа.
— Славута нескончаем.
— А мучениям нашим будет конец?
— Достигнем порогов, за ними, должно, дней десять, и Киев.
— Боже милостивый! — всплеснула она руками. — Мы, оказывается, ещё на порог не ступили.
— Пороги — то каменные заборала в воде. Они нам всего опасней.
— Ты видел их?
— Нет. Но слышал про них от Велко. Мой побратим невольно ходил сюда с греком-купцом на торг. Велко всё видел и мне сказал, а я запомнил. Как начнутся каменья, станем в иных местах подниматься в обход, посуху, волоком.
— Ты у меня самый сильный, тебе моноксил волочить невелик труд. И я помогу, мой рыцарь.
— Сколько раз просил, называй меня человеческим именем!
— Улеб, Улеб, — сказала она, — тебя зовут Улеб из Радогоща.
— То-то.
Улеб размеренно грёб, упираясь ногами в смолистые упруги, откидываясь назад и наклоняясь вновь, и убегали из-под лопастей вёсел пенистые водовороты, будто нанизывались на стремительный след, как бусинки на нить.
Ему радостно было видеть Кифу рядышком, неотлучно. За эти дни он изучил милые черты её личика так хорошо и подробно, что и во сне они чудились ему явственно, и потому сновидения были легки и приятны.
Кифа всем своим существом впитывала неизменную нежность, исходившую из глубины его светло-серых глаз. Она любовалась ловкостью и совершенством его крепкого тела, не знавшего лени и устали, всем его мужественным обликом, в котором, однако, нет-нет да и проскальзывало нечто наивно-детское, умилявшее её.
Это взаимное тёплое чувство гасило в душе Кифы тлеющий страх перед круто повернувшейся судьбой, подавляло редкие вспышки памяти о минувшем, ту щемящую сердце боль, какая неизбежна для всякого, кто навсегда расстаётся с родным домом.
Одновременно пугающим и манящим казалось ей будущее. Улеб, благородный витязь из неведомого ей племени уличей, и есть её настоящее. Нет, не раскаивалась певунья, что добровольно ушла за ним на край света. Всё ей было ново и интересно.
— Улеб! — Кифа звонко рассмеялась. — Улеб, ворчун из преисподней!
— Ладно тебе, — сказала он ласково, — сама-то сущий чертёнок на мою горячую голову.
— Ой, горячий какой! Горим! — Она черпала за бортом воду и со смехом брызгала в дружка.
— Опрокинемся! Да уймись ты, глупенькая, накличешь ещё печенегов.
Напоминание о действительности мигом остудило девушку. Личико её сделалось серьёзным, она пригладила мокрыми руками разметавшиеся иссиня-чёрные волосы, молча взяла малое весло и, устроившись на корме, принялась выравнивать курс челна, устремив вперёд пристальный взор.
В Днепре такое обилие рыб, что на широкой его поверхности расходились круги и слышались громкие всплески, будто плыли впереди, по бокам и сзади лодки целые подводные хороводы русалок, которые шаловливо высовывали из глубины ладони и хвосты и шлёпали ими по речной глади.
Безветрие. Истома. Жарко. Бесконечная россыпь ослепительных бликов на голубой скатерти реки. Вкрадчивое, жалобное повизгивание деревянных уключин. Ровное дыхание неистового гребца. Почти беззвучный однообразный напев на устах юной ромейки.
Затрещал камыш — это вывалился напролом, чавкая в иле, клыкастый вепрь и застыл, позабыв о водопое, уставился налитыми кровью глазами на плывущих. Беззаботно хрюкали полосатые поросята, в небе парили степные орлы, а на лесных опушках спокойно разгуливали олени.
— Куря шёл по той стороне. Здесь зверье непуганое, — сказал Улеб.
— Очень много вокруг пастбищ, — сказала Кифа, — животным на приволье нет числа. Кто хозяин всему? Люди есть где-нибудь?
— Великое множество. Городищ да весей не перечесть. Я слыхал в холодных морях, как там нарекли мою родину — Страна Городов.
— Знаю, — сказала Кифа, — Гардарика.
— Вот-вот. В первый град наш, в стольный, мы и должны поспеть прежде недругов.
— Я твоя невеста? — внезапно спросила девушка.
— Жена, Кифушка! А свадьбу справим, как только управлюсь с государственными делами, — важно, этак торжественно молвил юноша. — Вот прогоним огузов, отыщем Улию, воротимся к батюшке в Радогощ, сразу надену венок, разведу огонь, станем прыгать да песни петь, мёд-брагу пить. Такое гулянье закатим — в самом Пересечене отзовётся!
— Что я, ведьма — в костёр сигать, я плясать буду.
— То священный огонь. Сварожий, праздничный. Кто ж не скачет через него на веселье! Свадьбу справим по русскому обычаю, с игрищами, с удалыми забавами, с гуслями да перезвонными бубенцами! Ты своей красой не уступишь и нашим девам. Тебя, Кифушка, можно брать под венец громогласно, напоказ всему миру.
Смуглянка засмеялась, счастливая от слов таких. Затем неожиданно опечалилась.
— Ты чего? — удивился Улеб.
— Даст бог, приплывём в твою… нашу столицу, а у меня нету новых нарядов. Засмеют…
— Не до смеху там будет нынче. Что ж до нарядов, будут у тебя, моя суженая, красивых рубах сколько захочешь. Белых, тонкого полотна, узорочьем расшитых до пят. Накопаем железа в Мамуровом бору, наварим крицы, накуём всяческой кузни и увезём на торговище уличей. Я тебя с собой повсюду брать буду. Выбирай, чего душе угодно, хоть все лавки опорожни, ладо моя!
— Правильно!
— Нынче плохо нам, зорька ясная, растеряли родню…
— Не дай бог попасть кочевникам в плен, — встрепенулась она, — разлучат нас с тобою.
— Пусть попробуют! Нам нельзя загинуть, надо Киев предупредить. Не ко времени Святославу гостить в Булгарии. Постой-ка, постой… — Улеб даже грести перестал. — Маман сказал, князь большую дружину увёл… для чего?
— Здешний владыка, видно, не боится покидать свой акрополь, сам ушёл и копья увёл из столицы. А если наместники трон займут? Василевсы мудрей, на границах содержат акритов.
— Ой, Кифа!..
Так и плыли изо дня в день, в разговорах, в печали и радости. Все дивились, сколь мир велик.
Улеб, признаться, нет-нет да и подумывал раньше: «На корабле-то, может, смелой была оттого, что какой ни есть, а кусочек её отчизны. Каково же будет на утлом челне посреди неведомой ей Рось-страны?» Напрасно тревожился, она надёжная подруга. Прямо не верилось. Ай да Кифа!
…Плыли, плыли они.
Глинистые и черноземные кручи слева всё чаще и чаще чередовались с каменистыми оползнями, подрубленными снизу буровато-молочной каймой песка. Древний степенный Днепр был настолько широк, что казался выпуклым.
Но вот приметили Улеб и Кифа, что стали берега постепенно сближаться. Через тысячи вёрст дотянулись сюда многопалые руки гор, и пытались они ослабевшими от расстояния пальцами задушить реку, да тщетно. Лишь немного сдавили те руки неудержимо ползущее плавно-извилистое туловище Славутица, а пальцы их каменные местами пообломались и осыпались в воду — пороги.
— Ветер! Поднимается сильный ветер! — вскричала Кифа. — Он дует вспять течению и понесёт нас на крыльях!
— Слава мудрому Погоде! — Улеб приготовил парус и веревки-ужища, сложил на дно надоевшие вёсла.
Теперь он сидел сзади и держал кермо, одновременно управляясь с ужищами наполненного паруса. Кифа пристроилась у его ног, обхватив свои колени и уткнувшись в них подбородком, зябко поёживалась от налетевшей прохлады.
На лесистых склонах стали попадаться сожжённые и опустошённые прошедшей ордой поселения.
Моноксил настойчиво пробирался сквозь пену волн и водоворотов. Иногда приходилось помогать ему вёслами, как шестами. На отмелях прыгали в бурлящие струи и подталкивали судёнышко руками. Порою же огибали каменные преграды волоком. А только начиналась сравнительная гладь и глубина, снова мчались лихо и неутомимо.
Печенежскую силу на порогах не видели, однако чувствовали, что следуют за ней по пятам, догоняют неотвратимо.
Однажды столкнулись с огузами. Не с самим войском, не с обозом его, а с малым отрядом, всего в семь пеших и три конных. Может, то был нижний дозор кагана или запоздалое пополнение. А может, и просто замешкались и отстали от полчища, кто знает.
Случилось это на Крарийской переправе, в самом узком месте Днепра, где издавна степняки повадились устраивать засады и нападать на путников.
Печенеги заметили парус, притаились. Высокие скалы стиснули реку, их отвесные стены как бы образовали ворота, известные среди византийских торговых людей под названием Пасть Диавола.
Едва лодка оказалась в этой гранитной пасти, как в западне, огузы выскочили из укрытия, и пущенные ими стрелы со свистом пробили полотнище, вонзились в мачту и борт. К счастью, слишком поспешные выстрелы не причинили вреда Улебу и его спутнице.
Улеб резко повернул чёлн к скале, рассчитывая улизнуть под прикрытием её навеса прежде, чем враги успеют натянуть луки заново. Манёвр удался. Стрелы поражали сверху лишь зазевавшихся на стремнине рыб или бесцельно высекали каменную порошу.
— Мы пропали? — спросила Кифа.
— Они пропали, — буркнул в ответ Улеб, прикидывая, как поступить дальше. — Ну-ка попридержи лодку.
Кифа ловко перебежала на нос судёнышка, вцепилась обеими руками за край небольшой трещины, силясь удержать моноксил под напором воды. Удержала. Улеб обмотал весло плащом и высунул его наружу. Стрелы посыпались с новой силой. Те из них, что попадали в приманку, Улеб выдёргивал и складывал под ноги, приговаривал с досадой:
— Из-за них, глуздырей, вынужден дырявить новёхонькую луду, дарённую Птолемеем.
Огузы яростно и беспрерывно натягивали звонкие тетивы и, вероятно, ругали себя за то, что не догадались заранее переправиться на противоположную скалу, откуда без помехи сразили бы неподатливую поживу.
Вскоре бесплодная их стрельба прекратилась. Воздух огласился досадливыми воплями. Улеб ещё разок поддразнил их веслом. Стрел больше не было.
— Пусты колчаны, — удовлетворённо сказал он, — пора беседовать с ними с глазу на глаз.
Иная дева на месте Кифы небось повисла бы на шее, не пускала бы, причитала бы в страхе, дескать, нельзя идти против стольких, а она — вот бесёнок! — сама подзадоривает:
— Проучи их, славный мой, покажи им, бессовестным, как на женщину нападать! Сколько времени из-за них потеряли.
— Наверстаем. — Улеб убрал парус, чтобы не закрывал обзор, и осторожно повёл однодерёвку вдоль гранитного отвеса, перебирая по нему руками, отталкиваясь и подтягиваясь, направился туда, где зияла в скалах широкая прорезь. — Не упустить бы их, Кифушка. Если отступят к своему войску и сообщат про нас, худо.
Достигли расщелины незамеченными. Твёрдая Рука быстро надел кольчугу и с мечом полез наверх.
— Сиди тихо, — велел напоследок, — я скоро.
Выглянув из-за камней, он сперва увидел трёх низкорослых лохматых лошадок с войлочными потниками на прогнувшихся спинах, без седел. Чуть поодаль всё ещё бестолково суетились на краю обрыва обескураженные огузы.
Семеро из них были в меховых безрукавках и штанах, заправленных в мягкие, скроенные из цельного куска заячьей шкуры полусапожки. Троих, не иначе спешившихся, наездников предохраняла грубо сплетённая медная броня, у наборных поясов болтались кривые сабли без ножен, на головах тоже медные шлемы без шишаков. Главное вооружение семерых пеших воинов составляли луки, да колчаны-то теперь были пусты.
Они возбуждённо галдели, пытаясь заглянуть в пропасть поглубже, некоторые с этой целью стали на четвереньки, а иные даже легли и свесились со скалы. Наверное, дивились: куда исчез каюк?
Старший огуз призвал остальных взяться за руки, и они послушно растянулись цепочкой так, что двое, самые крепкие, упирались ногами в срезы обрыва, повисли над пучиной, пытаясь всё-таки разглядеть внизу лодку.
Улеб кинулся к валявшимся без присмотра сулицам, схватил первую попавшуюся и, разбежавшись, метнул что есть силы. Прицельно пущенное копьё поразило третьего в веренице степняков, он рухнул замертво, а двое, ранее удерживаемые им, с ужасным визгом полетели в кипучий поток Пасти Диавола, и он поглотил их.
Потрясённые внезапной гибелью сразу троих, огузы не успели опомниться, как Твёрдая Рука прыгнул в самую их гущу, с ходу рассёк мечом четвёртого. Перепуганные лошади бросились врассыпную.
Часть печенегов покатилась с откоса за копьями. Улеб не смог им помешать, поскольку занялся теми тремя в медной броне, что выхватили сабли и уже ринулись в схватку. Он завертелся как юла, отбиваясь и нападая одновременно. И трое вскоре пали под каскадом неотвратимых его ударов.
Между тем подоспели степняки с копьями. Один из них довольно метко бросил свою сулицу издали, и она просвистела так стремительно, что росич едва увернулся. Гонимый неудачей, этот усатый огуз повернул обратно, подхватил два мешка из общей груды и стал улепётывать с ними вдоль берега.
Улеб мечом разнёс в щепы лёгкие копья двух оставшихся, после чего, вложив меч в ножны, шагнул к ним с голыми кулаками.
Тут уж запахло палестрой.
— Ну, охотники до росского добра, вот и свиделись!
Ухватил их за шивороты, как грохнет лбами — испустили дух.
— Вон ещё! Вон ещё! Убежит! Скорей! — Кифа указывала на улепетывающего усача, волочившего мешки, и протягивала юноше лук.
— Ты зачем здесь?!
— Я моноксил привязала, не бойся.
— Вот я тебе! Кому сказывал: сиди и жди!
— Не сердись, я хотела тебе помочь, но опоздала. Очень крутая гора, пока поднялась…
— Связался с дурёхой на свою голову!
— Убегает ведь! Убежит!
— Брысь на место! — Улеб, разгневанный не на шутку, грубо отобрал у неё лук и стрелы. — Ещё раз ослушаешься, пеняй на себя!
— Да смотри же, смотри, убежит, бессовестный! Пропадём!
Но обременённый ношей огуз был ещё недалеко. Твёрдая Рука задержал дыхание, натянул тетиву так, что оперенье стрелы прикоснулось к самой его скуле. Молнией сверкнул острый наконечник в лучах заходящего солнца.
— Всё, — сказал Улеб, — последний. Ну и воины. И такие-то лезут на Киев.
— Слабые очень нам достались, — с ухмылкой заметила Кифа. — Потому и отстали от своего войска.
Снова двинулись в трудный путь. Ветер им помогал. Камни кончились, Днепр разливался как море, и вставали навстречу зелёные острова, и уходили мимо. День сменяла ночь, а ночь день. Благоухало раздольное лето, будто не было беды впереди.
Витичево городище Куря пожёг, как и прочие поселения. Полыхало багровое зарево, с жутким гулом прошивали ветры горящие стены и стрехи. Сколько погублено было людей! Скольких каган полонил, заковал в колоды! Несть числа…
Черной тучей шли печенеги.
— Ах, Улеб, побыстрее греби от ужасного ада, — плакала девушка, — бог отвернулся от жителей этого города.
— Снадобьем от всякой напасти была и есть полоса меча! Где же наши? Где охранная рать?
Улеб резал воду вёслами. Плыли ночь напролёт, пока не оставили поруганный Витичев далеко позади себя. И посветлу плыли и плыли.
Встречные погосты были безлюдны, заброшены. Вероятно, здесь прослышали накануне о приближавшейся орде. Обшитые брёвнами полуземлянки, избы-срубы и приземистые мазанки провожали чёлн слезливыми глазницами слюдяных окошек. Дверные проёмы зияли пустотой.
— Эх, был бы Жар, верхом мы бы живо… Тут ещё нету войск Кури. Не спеша ползут, ироды, не боятся: встретить их некому. Неужто великий князь не удосужился оставить хоть малую дружину?..
Улеб ошибся, решив, что враги ещё не добрались до этих мест. Он вёл судёнышко открыто. А возле какого-то сельца вдруг появились печенежские всадники числом не меньше полусотни. Чёрный каган не забыл выслать вперёд головной отряд.
Огузы поскакали вдоль пологого берега, размахивая плётками и саблями. На версту опередили чёлн. Некоторые, сбросив одежду, полезли в воду с кинжалами в зубах и, держась за шеи лошадей, поплыли наперерез.
Твёрдая Рука стрелами повернул обратно. Тогда они, выбравшись на сушу, посовещались о чём-то и подались назад, к сельцу.
— Ага, испугались, бессовестные! — Кифа хлопнула в ладоши.
Но Улеб нахмурился, обеспокоился, молвил:
— Плохо, ох как плохо… Я приметил в затоке два струга. Наши не упрятали их, только и всего, что понатыкали пучки сухого камыша с боков, торопились, видать. Как бы степняки не кинулись к стругам, там уключин множество.
— Пусть догоняют. Ты их проучишь, а я посмотрю.
— Уф!.. Что сказать, коли волос длинный, а ум… Пропаду с тобой, шалой, ей-ей, и ты тоже пропадёшь. Тебе бы мужиком уродиться, глупенькая. — Вёслами резко так зачастил, чуть не лопаются они, длинные и упругие. — Худо дело, коли сядут в струги. Настигнут, сдавят с ходу тяжёлыми лодиями — наша хрустнет, как ореховая скорлупа. В волнах барахтаться — какой я воин.
— Не догадаются.
— Помолчи пока, очень прошу.
Произошло, как и предполагал Улеб. Вскоре из-за поворота показались оба струга с печенегами. Мощные и устойчивые, добротно сколоченные росскими умельцами, они скользили резво, точно многолапые водяные пауки. Расстояние между лодкой и ними сокращалось и сокращалось. Что делать?
Улеб задыхался от усилий. Подобную гонку Днепру, наверно, не часто доводилось видеть. Как будто гнались две большие зубастые щуки за обречённой плотвичкой.
Уже различимы затылки, шевелящиеся руки, спины, плечи преследователей. Огузы галдели и оборачивались, показывая лоснящиеся лица под овечьими, заячьими, лисьими, волчьими шапками и зеленовато-медными или ржаво-железными теповерхими шлемами.
— Догоняют! Догоняют! — в отчаянии вскричала Кифа и прикрылась плетёным щитом, ожидая града смертоносных стрел.
— Хотят взять нас живьём, — сквозь стиснутые зубы выдавил Улеб. — Бросай в воду лишнее, облегчим моноксил.
Он перерубил крепления мачты, повалил её за борт.
— Греби! Я сама!
Улеб снова налёг на вёсла, а она принялась выбрасывать всё, что попадалось под руку: моток верёвки, второй щит, дубовый черпак. Даже мешочек с солью шлёпнула в волны.
— Это тоже?
Под плащом, укрытый от палящего солнца, лежал серебристый сосуд.
— Огонь греков! — воскликнул Улеб. — Как хорошо, что не отдал его Аниту! Ну, степняки, держитесь! Сейчас согреемся! Помянем чеканщика!
Огузы решили, что преследуемые сдаются, поскольку каюк их остановился, и победно взвыли, поигрывая саблями. Некоторые бросили вёсла, чтобы получше рассмотреть добычу. Кое-кто засмеялся, точно залаял, подумав, что воин на каюке поднял белый бочонок с драгоценностями, наивно предлагая выкуп. Иные же цокали языками и уже спорили, кому брать красавицу.
Улеб посёк мечом тонкие стенки сосуда, и хлынули за борт струи вязкой, резко пахнущей жидкости. На поверхности реки расплылось огромное радужное маслянистое пятно. Течение отнесло его прямо на струги. Узрев невидаль, печенеги притихли.
Улеб отшвырнул пустотелую посудину подальше — она, как пузырь, закачалась за кормой, и выхватил из-за пояса кремни-кресала, высек искры, воспламенил пропитанную горючей смесью шерстину, предварительно обмотав ею конец стрелы, тотчас же посланной из лука в жирное пятно, которое краем своим уже коснулось обеих лодий с врагами.
Жуткая вспышка обагрила Днепр. Казалось, огонь взметнулся до самого неба, опалил, очернил его дымом и воплями степняков, воплями, леденящими кровь в жилах.
И долго потом плыли Улеб и Кифа в глубоком молчании, удаляясь от страшной картины, приближаясь к конечной цели нелёгкого своего пути верста за верстой, час за часом. А где-то позади, теперь уже по пятам за ними, катились полчища Кури, истребляющие походя всё живое, беспощадные как чума.
Киев открылся как-то внезапно, шумно, многоголосо сразу после дремучих лесов.
Обогнув высокий остров, Улеб и Кифа перво-наперво увидели обжитые пещеры на круче правого берега. У Варяжских пещер тех царил невообразимый переполох. Чужестранные гости спешно грузили на большие и малые свои корабли непроданные товары. Суда отчаливали, сталкиваясь в суматохе бортами, вырываясь один вперёд другого, устремлялись вверх по Днепру.
— Печенеги! — гремело повсюду. — Идут печенеги снизу!
За пещерами подле бора тревожные дымы. Там стучат колы беженцев, ревут волы, кричат младенцы на руках матерей. Спасается народ из Берестового, Угорьского и прочих селищ, запрудил дороги, ведущие к укреплённому городищу.
Скользит моноксил Твёрдой Руки и Кифы, и видят они, как живыми ручьями стекаются со всех сторон к валу-насыпи златоглавой Горы людские потоки, тащат на себе всё, что успели прихватить из дому. Кто несёт куль с мукой, кто горшок с зерном, кто пряжу, а кто и просто бежит, держась за голову.
— Степь!
— Вон степняки скачут!
А и верно, огузы тут как тут, отовсюду нагрянули. Их кибитки жуками ползут вперевалку, пыль стоит в полуденной дали. Надвигаются, ощетинились копьями всадники без числа.
Твёрдая Рука и его подруга выпрыгнули из челна, взобрались на яр, догнали своих.
— Эй, мужи! — кричит Улеб. — Станем грудью!
— А что пользы без войска стоять с кольями против тьмы! — отвечают. — Вся надежда на Претича!
— Где же он, воевода ваш?
— Где-то бродит с поборами! Ужо задаст Претич лиходеям, как доведается и придёт выручать! Ишь как близко осмелились сунуться!
Ну что тут поделаешь? Улеб хвать Кифу за руку, и вбежали они последними в город. Едва юркнули, со скрипом закрылись за ними ворота крепости.
Люди рассеялись по улицам семьями где попало. Тут же скотина, пожитки. На валу народ толпится, бурлит, стар и млад проклинает печенегов, что рассыпались окрест.
Прежде чем сомкнула орда свои зловещие полчища, простучали и затихли, удаляясь, копыта на Белградской дороге. Улеб, как все, проводил того конника взглядом сверху и спросил соседа, пожилого крестьянина в дерюжке и лаптях, с исхудалым, землистого цвета лицом и куцей бородкой:
— Куда он подался?
— Мати отрядила паробка к Святославу, — ответил тот.
— Проскочит?
— Должон. Вишь, малый-то ловкий, из обученных парубков Гуды, охранника Ольги-заступницы. А ты сам-то откудова будешь, не из немцев ли? Да и дружка твоя на наших девок несхожая.
Улеб пояснил погромче, чтобы расслышали в толчее и другие, косившиеся с подозрением:
— То одёжка на мне норманнская, довелось у них побывать не по собственному хотению. Сам я русский человек. Из уличей. А дева моя, верно, из греков, она душой с нами.
Глава XXIII
За годы странствий Твёрдой Руке не раз приходилось участвовать в битвах больших и малых. На суше, на море. Однако никогда ещё не испытывал он участи осаждённого.
В былых рассказах искушённых греков расписывались не столько шедшие на смерть или защищавшие жизнь люди, сколько чудовищные боевые машины: всевозможные тараны на колёсах, гигантские катапульты, метавшие тяжёлые ядра и каменные глыбы, способные разрушать любые твердыни, колоссальные передвижные башни с трубами, изрыгавшими огонь, и множество других сокрушающих сооружений.
Ничего подобного не было у печенегов.
Много дней кряду лавина за лавиной с громкими, дикими воплями накатывались они на столицу россов и вновь откатывались от неприступных её стен, оставляя убитых и раненых под градом сыпавшихся камней и брёвен.
Уже выступили деревянные срубы, на которых держался соп. Так часто набрасывались враги на него, на вал, что земля и калёная глина осыпались. Трупы скатывались по истерзанной насыпи в ров, и вся гробля наполнилась ими до краёв.
Снова и снова гнал Куря огузов на приступ. Его шатёр стоял в безопасном отдалении, на песчаном бугорке за болотом, через которое протянулась узкая гать. Зоркий глаз мог рассмотреть Чёрного рядом с каганским бунчуком, развевавшимся на длинном шесте.
Обороной руководил престарелый воевода Гуда. Он служил ещё покойному князю Игорю. Когда-то, давным-давно, Игорь, сын Рюрика, посылал его, Гуду, сватать Ольгу в Плескове. С той поры и остался Гуда при княгине.
Телом он дряхлый, умом же хоть куда. Расставил немногих своих ратников на помостах за заборолами, придал им всех мужчин, кто способен держать оружие, — вот и отражали нападения.
Одни ворота Киева выходили на север, другие, Лядские, на юг, а третьи, Золотые, на запад. Крепкие ворота. Башни-вежи по бокам выставлены за линию стены, позволяли осаждённым обстреливать недруга с флангов.
Но были ещё одни. Ложные. Они вели в ловушку, что называлась в просторечье «захап». Вот у этих-то ложных ворот и орудовал Улеб с горсткой храбрецов.
Только хлынут враги снизу, Улеб с молодцами давай тянуть за канаты, створы распахивать. Огузы вваливаются в образовавшуюся брешь, орут, машут саблями, а перед носом-то у них, непутёвых, глухая стена. И обратно нет хода: росичи захлопывали створы за их спинами. Печенеги в захапе, как в кармане. Хоть бей их сверху, хоть держи, точно в мышеловке.
Понял Куря, что не взять Киев с наскока, и решил покорить измором. Обложил плотным кольцом, ждёт.
В городе начался голод. Народу набилось много, коровёнок, что с собой привели, съели. Куры, гуси, хлебушко, мёд и квашеная капуста кончились. Мужики ремни варят, жуют. Бабы куда выносливей их, а и те пухнуть стали. Детишки охрипли от криков, мрут от живота. Колодцы до дна повыпили. Плохо дело.
Не тяготились сытые огузы осадой, напрочь осели стойбищем, точно в своей Степи. Киевские жрецы слабенько голосили на Перуновом капище посреди Красного двора, уповали на идолище:
— Творец всего сущего, сам себя породивший, накорми нас, защити нас и сохрани, пролей дождь.
Однажды оживились люди на валу, простёрли руки, указывая друг другу за реку. На далёком том берегу всколыхнулось пыльное марево.
— Претич!
— Воротился Претич из нижних застав!
— Вона подмога долгожданная!
Воспрянули духом. Сейчас начнётся сеча. Хоть и исхудали очень, а готовы ринуться с кольями да вилами, как только Претич переплывёт Днепр и поспешит на выручку.
Постукивая клюкой, взошла Ольга по крутым лавинкам на самую высокую башню Большого терема, с надеждой повела дальнозоркими очами в заречную синеву. Седая, хворая, еле душа в теле. С нею невестка, внучата Ярополк и Олег. И ещё внучек, сынок Малуши-ключницы, малолетний Владимир, любимец великой княгини.
Но что это Претич? Вышел к воде и ни шагу более. Стоит как пень. День миновал, второй, третий — недвижима его дружина. Что такое? Уж бранят его вслух и мысленно, нету мочи терпеть, ожидаючи, косит беспощадный мор ряды защитников города. Отчаялись, обступили княгиню:
— Мати, отворим ворота печенегам. Всё одно пропадать, коли Претич мешкает.
Всё припомнилось ей: и слава росского оружия, и невянущие песни о походах мужа и сына, и месть древлянам за гибель Игоря, и Олеговы щиты на вратах Царьграда, и её пребывание там, и свято хранимая честь родимого края.
— Нет, — ответила твёрдо. — Не пущу презренную Степь осквернять наш стол! Лучше голодная смерть, чем позорище!
Всколыхнулись головы, склонились. И опять побрели киевляне на вал сурово и молча, плечом к плечу. А к Ольге решительно приблизился незнакомый воин. Лицо открытое, смелое, простоволос, ступает легко, будто рысь, у бедра широкий меч. За ним прячется черноокая девушка в рваном розовом платьице. Это Улеб и Кифа. Он сказал:
— Я улич из Радогоща. Судьба привела к тебе. Сбегаю к Претичу. Что ему передать, мати?
— Что ж, попробуй. Призови его, бездельного, к долгу. Только не верится, чтобы удалось тебе проскочить через заслон печенегов.
— Авось перехитрю их, — сказал он. И добавил: — У меня к тебе просьба. Ежели со мной что случится, приюти мою жёнку, будь ей заступницей без меня. — Он подтолкнул вперёд Кифу, ничего не понимавшую, смущённую присутствием властной старухи с клюкой. — Это, матушка, ромейская дева, мой сердечный друг.
— Обещаю, — коротко молвила Ольга.
Улеб отвесил низкий поклон и отправился к помосту над Ложными воротами. Изготовил из верёвки аркан, принялся вылавливать им огуза из числа тех, что скулили в захапе. Изловил и выволок наверх. Беличью шапку с кафтаном и круглый размалёванный щит с него содрал, а самого опять в ловушку.
Кифа забеспокоилась, спрашивает:
— Зачем тебе?
— Стемнеет, переоденусь и полезу за стену. Может, проберусь к нашим. Сколько же топтаться им без дела!
— Пропадёшь! Что со мной будет?
— Не бойся. — Улеб улыбнулся, чтобы ободрить её. — Не теряй своих лучей, солнышко, я тобой похвалился перед народом.
— Не за себя тревожусь.
— Я тоже. Киев на волоске.
— Схватят ведь. Городу не поможешь и сам не вернёшься. Я знаю, ты у меня самый смелый, но сейчас твоя прыть бесполезна. За стенами не десять врагов — мириады.
— Не зря мне запомнились когда-то два печенежских слова. Вот и пригодятся. Я хитрость задумал, с ней попытаю удачи. — Улеб снова улыбнулся. — Поди-ка лучше поищи уздечку. Нужна. А я тем временем помыслю заранее, где сподручней спускаться.
— Хорошо. — Смуглянка загадочно прищурилась, и в её зрачках-вишенках запрыгали знакомые Улебу чёртики.
— Ты чего это, Кифа? Уж не замыслила ли тайно последовать за мной вечером?
— Что я, глупая — лезть на стену.
— То-то и оно, что безрассудная, всего от тебя жди, Кифа.
— Успокойся, из города я не выйду. А уздечку тебе поищу. — И вприпрыжку побежала вдоль мощёной улочки-конца, как игривая козочка.
Время тянулось медленно. Словно нехотя погружались луковки теремов в сумрак неба. Подле самой Горы, на Боричевом увозе печенеги перегоняли стада, отобранные в дальних погостах и пастбищах. Щёлкали бичи, гортанно выкрикивали погонщики, мычал скот.
Не утерпел Улеб, не стал дожидаться глубокой ночи. С помощью узловатого каната спустился по затенённому простенку, укрываясь за выступом малой вежи. Переждал, схоронясь в рытвинах внешней насыпи. Только начал прикидывать в уме, как бы проползти дальше, и вдруг отчётливо расслышал знакомую песенку.
Сидевшие неподалёку печенеги повскакивали на ноги и, как гнус-мошкара на свет, повалили на доносившийся девичий голос. Путь открыт. Улеб прошмыгнул во вражеский стан, затесался в толпу степняков. Не отличить его от них в полумраке: шапка меховая, у висков два беличьих хвоста болтаются, на плечах кафтан, на спине круглый щит с рисованной мордой какого-то страшилища.
Поглядел на киевскую стену, где Кифа, отплясывая, распевала весёлую византийскую песенку. Подумал благодарно: «Так вот она, тайна моей певуньи. Спасибо, умница, отвлекла огузов от дружка, подсобила».
А на стене подхватили её напев другие защитники, мужчины и женщины, хоть не знали ни словечка заморской песенки, да понятен был главный смысл: наплевать на подлых воров, что столпились у росской твердыни.
Возле каганского шатра Куря негодует. Племянник его, Мезря, раздаёт пинки своим лучникам направо-налево за то, что не могут попасть в девушку стрелами. Попробуй-ка попади, когда наверху её прикрывают и разят оттуда без промаха.
Улеб мечется среди огузов с уздечкой в руке, вроде потерял своего коня. Не видел ли, дескать, кто пропажу?
— Атэ нирдэ? (Где конь?) Сам всё ближе и ближе подбирается к Днепру. Никому до него нет охоты, отмахиваются: ищи, мол, не приставай, без тебя тошно. Вот и хорошо. Иного от них не надобно.
Реки достиг, шапку долой, кафтан тоже, кой-кого подвернувшегося хватил бойцовским кулаком напоследок, и бултых. Схватились огузы, да поздно. Стреляй, не стреляй вдогонку — и впрямь, как говорится, канул в воду. Удалился за предел перестрела, поплыл поверху быстро-быстро, как лягушонок.
А с того берега уже заметили его, руки подают. Выволокли на сушу. Он воинов Претича отстранил, поднялся — ноги подкашиваются, весь дрожит мелкой дрожью, отдышаться не может.
— Дайте воды…
Какой-то юнец присел перед ним на корточки, шлёпнул себя по ляжкам, хмыкнул:
— Чай, не напился! С него ручьями хлещет, а он…
— Цыть! — оборвал юнца властный всадник в синем плаще, сивобородый, угрюмый. Длиннющая его бармица стекает от шлема по спине, концы её пропущены под мышками и связаны на груди. — Принесите испить!
Бросились гурьбою к воде, зачерпнули шлемами, принесли, обгоняя один другого. Улеб напился, поглядел исподлобья. Сотни две наберётся воев. Пасутся кони осёдланные, сытые. На дне овражка пирамидками сложены копья вокруг древка со стягом. Костры не жгут, не хотят выдать себя огнями.
— Вы бы ещё норы повырыли, — укоризненно молвил Улеб, — стыд за вас.
Зашевелились, загомонили, обступили со всех сторон. Кто-то виновато и торопливо сует ему принесённый из обоза ломоть.
— Ну-ка, братушка, поешь сальце с хлебом.
— В Киеве жёнки с подколением пухнут, а вы сало жрёте! Видеть всех вас противно! — Улеб сжал кулаки. — Дайте только отойти чуток после купания, так расквашу, сукины дети, попомните! Ладно вы сберегаете стольный град!
Крупнолицый бородач в синем плаще спешился, кряхтя, позвякивая железом. Все расступились, пропустили старшего. Улеб шагнул к нему.
— Ты и есть воевода Претич?
— Я и есть, — хмуро произнёс тот, — а ты, отрок, от матушки, что ль?
— Вот каков наш Претич! — гневно продолжал Улеб, словно не слышал его вопроса. — Киевляне велели кланяться вызволителю, а то как же. Послали меня разузнать, не дует ли тебе на открытом-то месте, не желаешь ли перину, чтоб удобнее было нежиться тут, пока родичи костьми ложаться.
— Ты того… погоди лаяться да язвить, — заворчал Претич в бороду, — сам посуди разумно. Нас мало, печенегов же тьма. Ну пойдём, ну переправимся, а что пользы? Посекут нас, как ступим через реку. Нет уж, сохраню хоть дружину.
— Так прислать перину ай нет? — процедил Улеб сквозь зубы. — Позаботься о себе на ветру, не простынь, а то боимся Святослава, не простит нас, поди, коли тебя не убережём.
Воевода вспылил, топнул сапожищем и грюкнул:
— С кем посмел языком тягаться! Да я тебя, щенок! Я тебе… — Претич вдруг поперхнулся словами, обмяк, призадумался.
Вокруг шумели ратники:
— Сказывали тебе, Претич, веди, не мешкай!
— Веди! Живота не пожалеем!
— Сам не станешь, без тебя пойдём!
— Святослав воротится, не пощадит!
— Хоть княгиню с княжатами выхватим!
— Дожили! Срамота!
— Веди, Претич, веди!
Воевода над всеми возвышается, руки распростёр над всколыхнувшимися шишаками, всех перекрыл своим зычным голосом:
— Тихо! Тут не торговище — войско! Тихо, вам говорю!
Крики смолкли, но ропот не унять. Обступили коня, на которого снова взобрался Претич. И он объявил:
— Готовьтесь. Двинем пораньше, до петухов.
Всю ночь валили могучие сосны на яру, рубили стволы, долбили их, строгали шесты и вёсла. Новые добавились к тем лодкам, что имелись. На рассвете сели в них, затрубили в боевые трубы.
Звонкое эхо кинулось через Днепр, ударилось о леса и горы, вернулось, рассыпалось, далеко-далеко, зазвучало со всех сторон, точно грянуло отовсюду великое множество воинов. Огузы вскочили спросонок и, не разобравшись, в чём дело, закричали в паническом страхе:
— Святослав?!
— Руси!
— Халас боли!
— Гачи! Гачи! Эй-и-и!
А киевляне не растерялись, поддали жару, тоже затрубили со стен, ликуя и крича:
— Святослав!
— Наши-и-и!
И действительно, не прошло и получаса — к радостному изумлению самих осаждённых, к счастью малочисленных ратников Претича, к ужасу степняков, взметая тучи пыли и сотрясая конскими копытами землю, ослепляя блеском неистово вертящихся клинков, оглушая поля и дебри раскатистым кличем, влетела на родной простор подоспевшая из придунайских краёв дружина Святослава. Донёс вовремя гонец призыв Киева.
С ходу, с лета врезались россы в гущу огузов. Щиты червлёные, мечи широкие, кони взмылены после долгой дороги, но несут стремительно, мощно. Хоть и печенежская конница не лыком шита, а дрогнула.
Ольга сверху, с резной башенки терема глядит, глаза её сухи, спокойны. Шепчет:
— Святослав, дитятко, подоспел…
Горохом рассыпался по небу гром, брызнул тёплый летний дождик, оросил поле, точно из лейки, и прекратился. Люди и лошади скользили на мокрых кручах, особенно там, где глина. Извалялись, повыпачкались с ног до головы.
Куря тщетно пытался сплотить своё разметавшееся войско, отступая к Неводничам. А с тыла внезапно ударил в него невесть как появившийся здесь отряд. Выставляя какие-то странные переносные сооружения, сколоченные из тщательно заострённых кольев, чем-то напоминавшие ощетинившихся ежей, и ловко орудуя дубинками, эти смельчаки вызывали удивление.
— Глядите, глядите, — кричали росичи, — печенеги меж собой передрались!
— Печенег печенегу рознь, — пояснили сведующие, — то наши друзья, ятуки! Тоже подоспели на подмогу!
— Кто бы мог подумать, что мирные пахари горазды на сечу! И ещё как! Горстка, а чего вытворяют — загляденье!
— Беда и пахаря приспособит!
Один лишь Твёрдая Рука знал достоверно, кто выучил ятуков столь завидно владеть дубинками. Во всех их действиях чувствовалась школа Анита Непобедимого, хотя самого наставника не было среди них. Маман тоже почему-то отсутствовал.
Две трети войска потерял Куря в скоротечном сражении под Киевом. Сам еле ноги унёс. С оставшимися наездниками и частью обоза бежал через Перевесище по старой дороге в дремучий бор, а оттуда подальше, в Степь. Так удирал, что и про племянника позабыл, бросил Мерзю на произвол судьбы.
Наши не преследовали его, озабоченные тяжёлым состоянием изморённой столицы и разрушенной предгородни. Надо было поскорее людей напоить-накормить, устранить следы побоища да заняться восстановительными работами. Труда предстояло уйма. Залечив же раны, можно и победу отметить.
Улеб обшарил каждую трофейную кибитку, каждый брошенный огузами шатёр, осмотрел каждую группу освобождённых, но сестрицы своей Улии нигде не обнаружил.
Он отыскал Кифу, и они отправились за Неводничи, где временным лагерем расположились ятуки.
На девушке были цветастый сарафан, монисто из варяжского янтаря с золочёной подвеской-лунницей, плотные льняные чулки и новёхонькие лыченицы. Обычно непокрытые её волосы теперь украшало височное кольцо, с которого падали на открытый лоб изящные модные трезны. На пальце молочной каплей красовался финифтовый перстень. Щедро одарила её Ольга за то, что досадила врагам вчерашней пляской и песенкой со стены.
Ятуки встретили их радушно и шумно, как старых приятелей. Кифа со свойственной ей непосредственностью сразу же присоединилась к тем киевлянам, что нашли здесь обильное угощение и сочувствие, уселась в их кругу и принялась усердно черпать деревянной ложкой похлёбку из общей мисы. А Улеб попытался выяснить судьбу Анита у того самого коренастого и скуластого человека, кто когда-то с видом заправского менялы предлагал связку беличьих шкурок ему и Непобедимому, стоя по колено в море рядом с кораблём. Между ними состоялась презабавная беседа.
— Корабль. Силач. Во-о! — Юноша колесом выгнул грудь, набычился и поиграл мускулами, изображая атлета. — Помнишь? Анит. Где он?
Весёлый ятук в ответ сверкнул зубами, взбежал на возвышенность, очутившись над Улебом, и там, наверху, тоже изобразил силача. Правда, грудь у него малость подкачала, не выгнешь её колесом. Пришлось ему вместо груди выпятить пузцо, чтобы хоть как-нибудь вышло повнушительней. Решив, что мимикой достаточно перещеголял собеседника, он добавил этаким горделивым тенорком:
— Маман во-о-о-о-о!
И сбежал вниз довольный.
— Ладно, ладно, — со смехом закивал Улеб, — считаешь, что ваш Маман поболе Анита, пусть. Я не спорить пришёл. Ты мне скажи, друг, где Непобедимый?
Ятук не понимал. Тогда юноша сделал вид, будто ищет Анита, зовёт, озираясь вокруг. Наконец ятук сообразил, чего от него добиваются, выразительно махнул рукой за горизонт и уже невесело произнёс:
— Э, Анит — ек, Маман-ек. Хош, Анит. Хош, Маман. Румы.
Настал черёд Улебу недоумённо скрести затылок. Так безрезультатно и оборвался бы их разговор, кабы не пришёл на помощь один из сотрапезников Кифы. Этот человек, очевидно, понимал язык печенегов. Долговязый, заросший, он отвалился от мисы с похлёбкой, облизал свою ложку, сунул её за обворы на ноге и, прежде чем удалиться на призывные звуки клепал, доносившиеся с горы, бросил Улебу через плечо:
— Будет без толку молоть-то, кличут на сходку. А кого выспрашиваешь, тут нету. Малый тебе толкует, что обоих нету, разом, говорит, подались в Страну Румов, к грекам, стало быть.
— Вот как, — промолвил Твёрдая Рука. — Значит, Непобедимый прихватил с собою Мамана. Обзывал его чудовищем, а сам сманил в плаванье. Ну и Анитушка, леший бородатый!.. — Он повернулся к подруге, окликнул её: — Кифа, айда и мы послушаем, что княжич скажет.
Очень нравился смуглянке её новый наряд, слишком часто попадались навстречу лужицы-зеркала. Иными словами, из-за её беспрестанных любований собою они поспели лишь к завершению сходки. Пришли, а Святослав уже кончил речь. Только всего и расслышали, как сказал он напоследок своего обращения к столпившимся киевлянам:
— Немало народила нас мать-земля, вот и возьмёмся всем народом да воздвигнем поруганные кровли сызнова. И дружина моя, отложив мечи, разойдётся по вашим дворам, поляне, подсобит по совести. А управимся, будет праздник и медовый пир!
Глава XXIV
Гончарная мастерская, в жилой истобке которой Улеб и Кифа нашли себе притулок, была невелика и неприглядна, как впрочем, и все остальные жилища ремесленников, ютившихся на Оболонье, этом беднейшем предместье Киева.
Закопчённый дворик ограждён покосившимся тыном. Плоский хворостяной навес на четырёх столбах ронял тень на скудельные станки, перед которыми, скрестив ноги, на низких скамейках сидели за работой сам владелец мастерской и три его помощника. Два других подмастерья, мальчики лет восьми-десяти, скребли глину в овражке, таскали дрова от поленницы к очажным ямам или сметали глиняные крошки с залитой солнцем сушильни.
Хозяин гончар-скудельник, жилистый, сухонький, лысый человек с беззубым, всегда полуоткрытым ротишком и с тёмно-коричневыми складками-мешками под глазами, беспрестанно моргавшими обожжёнными веками, одной рукой вращал деревянный круг на стержне, прикреплённом к скамье, другой обрабатывал с помощью специальной щепки глиняную заготовку, придавая ей очертания будущей посудины.
Старшие помощники принимали от мастера готовые кринки, ставили их на круги, выглаживали лоскутами смоченной овчины, острыми палочками или гребешками наносили орнамент. Мальчики, в свою очередь, сушили, обжигали изделия и ставили на их донышках хозяйское тавро.
Кифа бегала к омуту за водой, варила гончарам обед, стирала их фартуки, а в свободные часы усаживалась на колоду и наблюдала за работой мужчин.
Ей было тоскливо в отсутствие Улеба. Не знала, как убить скуку, ведь и словом-то не с кем обмолвиться, сколько ни заговаривай, все лишь кивают бессмысленно и знай крутят свои трескучие деревяшки. И отлучиться нельзя, Твёрдая Рука наказывал строго-настрого.
Огорчённый тем, что ничего не удалось разузнать про сестрицу, Улеб поначалу собирался кинуться по пятам за ушедшими к морю огузами, однако его заверили, что каган растерял невольников и невольниц и даже бросил на произвол судьбы многих своих приближённых.
Хоть и порушили степняки большую часть жилищ под Горой, но не успели предать пожару. Из Белграда, из Вышеграда, из Чернигова и Любеча откликнулись умельцы. Даже радимичи прислали своих хитрецов. Потянулись сверху, воротились и корабли иноземных гостей, что отсиживались в лихую годину в тихих заводях Десны и Сожа. Стало в Киеве терпимо.
Крепко подсобил Улеб гончару устранить разруху на дворе, за что и получил на временное пользование крохотную горенку в его доме. Едва кончили плотничать, юноша сразу же помчался в Подолье. Он ещё раньше заприметил там большую кузницу, призывно громыхавшую неподалёку от того места, где Киянка впадала в Почайну.
Почти и не видела Кифа возлюбленного. Томилась, бедняжка, совсем поскучнела. Сжалился гончар, посочувствовал пригожей ромейке. В день объявленного князем праздника хлебнул пива из хмельной дежи, взял Кифу за руку и повёл за собой, повелев подмастерьям отправляться на торг без него.
А скудельничек-то лысенький, кривоногенький осоловел, касатик, подбородочек задрал, важно этак ступая, босиком, зато в праздничной вышитой распашонке с поясом при пушистых кистях, вёл, словно дочь на выданье, вёл смуглянку и привёл прямо в кузницу.
Пламя пышет, мечутся молнии, гром гремит под пудовыми молотами. Вот работа сплеча!
Улеб взмок в азарте, никого, ничего не видит, кроме огненной крицы. Остальные вокруг него себе перестукивают.
— Эй, парень! — окликнул его гончар. — Ты бы деву свою проводил к рядам. Поднёс бы ей пряников медовых! Праздник нынче!
— Это ты? — удивился юноша. — Что случилось, Кифушка?
Она обиженно потупилась. А скудельник глазками заморгал, рот искривил, вот-вот оттуда, где у прочих ресницы растут, закапает на белую его рубашку с петушками: больно жалостливый старикашка-то. После пива. Укоризненно топнул пяткой, истошно завопил на юношу, потешая других:
— Слыхали, люди добрые! Что случилось? Заморская дева по нему сохнет! А он, душегуб её, весь чумазый, железяки колотит с утра до ночи! Так и сердечко девичье расколотить недолго!
— Будет, будет тебе, отец, — смутился Улеб, — не срами ты нас попусту. Дело делаю.
— Ить не простая она, заморская! Хорошо ли об нас подумает, скучаючи! — кипятился дедок. — На-ко, держи от меня куну на гостинцы ей! — И сунул деньгу царственным жестом, хотя Улеб и глазом не повёл. — Ступай да купи ей пряников!
Накричался, набранился вдоволь и удовлетворённо засеменил прочь, туда, откуда неслась благозвучная музыка дудок и бубенцов, где месили площадную грязь пёстрые толпы, распевали коробейники, балагурили шуты и от души пировало простолюдье, заполняя низину.
— Белены объелся или хмельного хватил через край? — спросил Улеб у Кифы, кивая на тропинку, по которой резвёхонько улепётывал гончар.
— Он хороший, а ты бессовестный. Променял меня на плебейский пот. Точно раб, приковался здесь.
— Это верно, — рассмеялся Улеб. — По душе мне такое рабство! Век бы не отходил от наковальни, век бы только и слушал её перезвон!
— Много хоть настучал в кошель?
— Кифа, Кифа, чужое дитя… — сказал Улеб. — А и деньги есть, не бойся, не пропадём.
Обнажённый до пояса, он сбросил дымящиеся полотняные рукавицы, подмигнул приятелю, и тот окатил его студёной водицей из ушата. Улеб фыркнул от удовольствия, утёрся холстиной, натянул на себя неизменную рубаху из крокодиловой кожи, пригладил ладонями волосы, поклонился ковалям и удалился с Кифой по той же стежинке, что и гончар.
Девушка защебетала, будто птичка, выпорхнувшая из тёмного дупла на яркий свет. Шла вприпрыжку, опираясь на руку Улеба. Шум и гам массового гулянья волнами катился навстречу.
По зелёным склонам стекались ручейками из лесов и полей крестьяне, а из городища, приплясывая на шаткой гати, спешили через болото к Подолу стольная молодёжь. Кто пешком, кто верхом, кто с дружками, кто сам-один.
— Красиво как, господи! — воскликнула Кифа.
— Да, красиво, глаз не отворотить, — взволнованно вторил ей Улеб.
— На весёлом просторе дышать легко! Как ты мог запереть себя в дыму средь ужасного грохота!
— Так и мог. Мне варить руду да поигрывать молотом слаще сладкого. Знаешь, Кифа, я все эти годы мечтал о кузне. Вот увидишь когда-нибудь, как работают в Радогоще, залюбуешься. Сколько, бывало, задумывался: конь и меч — хорошо, только забота у жаркой домницы всё же лучше для мужей. На родной земле впитал я силушку в руки. Навострил меня вещий Петря, батюшка, ладно бить крицу. На чужой земле научил Анит мои руки сокрушать человека. Мне отцовская наука дороже во сто крат.
— Грех тебе на Анита хмуриться, — сказала она, — вспоминай его с благодарностью. Человека сокрушать, ясно, дело немилое. Но какого? Иного не сокруши, так он тебя не пощадит, вгонит в землю, не посмотрит, твоя ли, чужая.
— Это верно. Разные на миру и там и тут.
— Хватит дурное вспоминать. Бежим, что-то там интересное!
Девки, щёлкая орешки, смеялись, повизгивали, шарахались в нарочитом испуге, хлопая сарафанами, опять напирали, норовя потрепать скоморошного медведя. А он, топтыжка, отплясывал под дудку положенное и уселся, пасть открыл и давай поглаживать брюхо лапами. Награды потребовал. Потом кто посмелей стали с мишкой бороться. Он, ручной, приученный угождать, поддавался даже младенцам. Добрый росский зверюга.
А вокруг, стараясь перекричать друг дружку, зазывали, приглашали к блинам, пирогам. Хочешь — пей молоко, кисель хлебный, хочешь — бражку с маковыми коржами, а коли карман в дырах — ни того тебе, ни сего, ступай мимо или стой да гляди на имущих, может, и поднесёт кто.
Сыплются серебром звуки-бреньки гуслей в руках бродячих слепцов. Тут не товаром богаты менялы, а бойким своим языком. Свистят свистульки, трещат трещотки, и тараканьи бега, и перья летят в петушином бою, и кружится лихая карусель.
Кифа всё больше ныряет в лавки, украшения разные примеряет, ткани щупает, кружева и ленты перебирает, приценивается к девичьим цацкам. Улеб же тащит её на площадку для игр и состязаний, ограждённую разноцветными кольями. Там пыхтят и куражатся красны молодцы.
Понравилось Улебу биться ладонями на высоком бревне. Заливаясь разудалым смехом, он со всяким расправлялся легко. А внизу, под бревном-то, канава с жидкой грязью. Неудачники падали в лужу, хлюпались в ней, выбирались под градом насмешек.
Вот сквозь гогочущих зрителей вдруг пробрались-проломились какие-то рослые парни. Все до одного в необношенных длиннополых рубахах, непривычно топорщившихся на них, и в соломенных шляпах. Что за ряженые?
Подступились к бревну, по которому прохаживался юноша в ожидании соперника, поглядели на него, на лужу, обвели взглядами притихшую в предвкушении очередной забавы толпу. Один из них, судя по всему, заводила, голубоглазый, белозубый и самый статный, чуть-чуть задиристо прищурился и обратился не столько к дружелюбно улыбавшемуся Улебу, сколько к людской толкучке за своей спиной:
— Неужто всех подряд повывалял этот немчура?
Толпа невнятно загудела. Улыбка слетела с губ Улеба.
— Эй, оратай, я такой же немой, как и твои хлопы, — сказал он, — коли отложил соху ради веселья, не хорохорься загодя, полезай ко мне, померяемся.
Парни дружно заржали, как жеребцы в табуне, а голубоглазый воскликнул с радостным удивлением:
— Ба! Что же, сродник, проучу-ка тебя, чтоб не шибко нос задирал!
Голубоглазый властно отстранил дружков, надвинул шапку-бриль до самых бровей, взбежал на бревно по тесовому наклону и принял бойцовскую стойку. Не полез напролом, как предыдущие, и Твёрдая Рука сразу оценил это. С умелым бойцом встретиться куда приятней, нежели с безрассудным.
Твёрдая Рука увлёкся поединком. Зрители тоже, по-видимому, обрели удовольствие, толкались, спорили, бились об заклад. Парни в соломенных шляпах молчали внизу.
Улеб встретился взглядом с впившимися в него голубыми глазами и увидел в них назревавшую ярость. И огорчился. Одно дело потешное единоборство, другое — растущее озлобление. Ишь противник — гордец, распалился-то как. Пора кончать баловство.
Изогнулся Улеб, резко взмахнул ладонью, и соперник плюхнулся в канаву. Толпа ахнула и отпрянула, отряхиваясь от брызг.
Голубоглазый как ошпаренный выскочил из лужи, ослеплённый мутными потоками, отплёвывался, шарил в отвратительной жиже трясущимися руками, отыскивал шляпу, чтобы накрыть ею превратившийся в грязный комок длинный локон волос на голой макушке.
Улеб застыл в недоумении и растерянности, ибо не мог сообразить, отчего вдруг народ испуганно разбежался кто куда, почему приятели поверженного двинулись к бревну с победителем, выхватив из-под рубах оружие. Кифа, оставшись на опустевшей площадке одна-одинёшенька, тоже онемела от удивления.
Твёрдая Рука пантерой прыгнул через головы к оградке, выдернул кол, и, наверно, омрачился бы праздник нещадным побоищем, если бы вовремя не отвратил его повелительный окрик:
— Не троньте беловолосого! Всё было честно.
Голубоглазый приблизился к Улебу, смахивая рукавами грязь с лица, оглушённый падением.
Улеб сердито встретил его словами, всё ещё сжимая кол:
— Ну! Хороши наши пахари, так-то выходят на игры-затеи в своём роду. Ножи хоронят за пазухами, точно глуздыри-лиходеи.
Голубоглазый уставился на него, словно на невидаль. То к своим обернётся, то опять буравит Улеба изумлённым взором, выжимая при этом подол почерневшей рубахи. Помаленьку народ подходил, возвращался как-то робко, настороженно. Кифа сомкнула брови, взъерошилась воробьишкой, вклинилась между ними, заслоняя собой Твёрдую Руку. А он уже кол отшвырнул, заметив, что парни остыли.
— Ещё никто не валил меня с ног, — наконец произнёс голубоглазый.
— Меня тоже, — сказал Улеб.
— Ты единственный.
— Хватит, братец, забудь, — молвил Улеб. И добавил без хвастовства: — Не кручинься, мне многих случалось теснить. Не мужицких сынов в холстине, а бывалых воинов в броне. Да не на шутовском бревне, а в смертном бою. Обучен этому.
— Гм, и я себя почитал не последним.
— Говорю тебе: хватит затылок чесать. Знаешь, друг, я, признаться, восхитился тобой. Больно ловок ты и умел для простого орателя.
Голубоглазый почему-то поморщился, за ним поморщились и покашляли в кулаки остальные. Кифа между тем тормошила Улеба, просила:
— Идём отсюда. Устала я. Никакого порядка на ваших зрелищах, ни служителей, ни курсоресов. Бедненький мой, напугали кинжалами?
— Что ты, Кифа, я очень доволен! Но если ты и впрямь умаялась, идём. Завтра простимся с Киевом. Надо Улию отыскивать. И свой очаг.
Голубоглазый вдруг спросил:
— Ты действительно не из немцев?
— Росич я! Улич! Сговорились вы всё, что ли! — взорвался Улеб.
— Так о чём же лопочешь с ней не по-нашему?
— Да ну вас!.. — Улеб досадливо махнул рукой, обнял Кифу за плечи, и они побрели рядышком по тропинке к Почайне, повернули вдоль берега, удаляясь к Оболонью, где уже поднимались предвечерние дымки и таяли в синем небе. На огородах у речки волы вращали поливальные круги скрипучих чигирей. А на дальних лугах раздавались щелчки пастушьих кнутов.
— На чём мы отправимся завтра? Отыщем свой моноксил?
— Нет. Я слыхал в кузнице, будто недавно прибыли повозы из владений клобуков и Пересеченя. Готовятся в обратный путь не порожними. Можно подрядиться.
— А я видела корабль. Наш, торговый, со знаком Большой пристани Золотого Рога. — Девушка тихо вздохнула. — Анит, наверно, где-нибудь под Константинополем…
— Уж не скучаешь ли по Царьграду? — насторожился Улеб.
Кифа крепче прижалась к нему и шепнула:
— Откровенно? Да. Но останусь с тобой.
— Ваши купцы здесь не в новинку, — сказал Улеб, — уплыть с ними нетрудно, была бы охота.
— Я твоя жена?
— Да, да, да.
— Почему же прогоняешь?
— Я?!
— Бессовестный.
— Всяк у тебя бессовестный да бессовестный. Вот заладила, чудо-юдо пучеглазое. Между прочим, в Радогоще хоромы точь в точь как избушка твоего сердобольного горшечника. Не раскаешься?
— Я останусь с тобой навсегда.
Вот и дворик гончара. Пусто в нём. Хозяин и подмастерья ещё не вернулись с Подолья. Улеб прилёг отдохнуть на скамье под навесом. Кифа принялась кормить курчат, подсыпая им зерна из сита и кроша мякину. Потом подхватила коромысло с бадейками и вприпрыжку сбежала по тропинке в лопухах прямо к берегу за свежей водицей: надо кашу сварить, тесто замесить да испечь. Завтра поутру снова крутиться гончарным кругам, а какая ж работа натощак.
Улеб поднялся. Не годится, чтобы дева одна хлопотала. Он выбрал дровишек посуше из поленницы под стеной, распалил костёр меж двух камней, взял метлу, подмёл двор, сушильню почистил, поубрал черепки и щепы вокруг обжига. Кифа явилась с реки, похвалила. Приятно. Сам хорош, и жёнка у него будет не ленивая, значит, и семья ладная.
Мягко опустился вечер, серый, густой, как оседающая пыль. Зацвиринькал сверчок в приступках крыльца. Огоньки замерцали дивной россыпью до самых лесных стен, что тянулись чёрными щетинами от днепровских круч.
Далеко-далеко, за Вышеградской дорогой, под Горой, на обширной цветущей долине, разделявшей Уздыхальницу и Олегову могилу, на стыке двух речушек, занялась костровая зарница молодёжной сходки. Парни бросали венки в чистые струи Глубочицы, а девицы — в Киянку. Чьи венки прибьются-встретятся в месте слияния быстрых вод, тем и суждено ходить парой всю ночь в озорном хороводе. Вот и бегали бережками за течением за своими венками с замиранием, с трепетом, с нарочитым хохотком, гадая, который дружок или какая дружка выпадет, нечаянный или желанная.
Гой да, Рось-страна, Песня русская, Всем нам матушка Ты единая, Красно солнышко, Диво дивное.Светла и прекрасна ночь над весями. То не звёздочки-веснушки в сиреневой вышине, то отражение земных цветов, день передал их небесной тверди сохранять до утра. Улеб стоял у плетня, любовался.
И вдруг:
— Слышишь? Скачут к нам. Не скудельник с ребятами, а какие-то ратники.
И правда, простучали, прошуршали в траве копыта. Четверо всадников спешились у ограды, где Улеб стоял, подошли к нему. А коней было пять, он приметил.
— Вот ты где! — сказал один из прибывших. — Узнаешь?
Улеб внимательно оглядел рослых воинов, покачал головой, обронил:
— Не припомню чтой-то. Обознались вы.
— Тебя, брат, нельзя запамятовать. Собирайся. Поедешь с нами. Мы тебе и коня под седлом прихватили.
— Вот как! — Улеб скользнул взглядом по широким ножнам, что висели у бедра каждого, крикнул Кифе по-эллински: — На гвозде у изголовья! Сама же запрись!
Незваные гости моргнуть не успели, как смуглянка метнулась в избу, снова выскочила на крыльцо, бросила юноше его меч, опять юркнула за дверь, приникла изнутри к слюдяному окошку.
— Повтори-ка, — сказал Твёрдая Рука, — зачем пожаловали?
— Не балуй, собирайся. Великий князь тебя требует.
— Князь?! И в глаза-то меня не видывал. Нет, не знаю я вас, не верю. Убирайтесь.
— Не дури, тебе говорят.
— Почему с оружием заявились? Этак я не люблю.
— Мы же гриди! Ты что, с неба свалился? Мы дружина его.
— Да как будто похожи… На что я великому понадобился? Обознались вы, не иначе.
— Ну, брат, всяких встречали, а такого ещё не бывало, — загалдели воины, — где это слыхано, чтобы с княжескими гонцами пререкались да наказу владыки перечили!
Улеб обернулся к окошку, кивнул Кифе, дескать, не волнуйся, молча сел на коня и помчался с ними к Горе напрямик.
В Красном тереме носилась как угорелая челядь, из распахнутых настежь окон и дверей лился яркий свет. В белокаменной Большой гриднице дружина справляла трапезу.
Улеба провели через верхние хоромы, где пировали бояре, не воины, к укромной палате, оставили в ней, наказав ему ждать, и скрылись. Шум пиршества проникал в эту пустую, огромную, гулкую комнату сквозь плотно задёрнутый полог.
Вскоре прибежал всклокоченный паробок и крикнул:
— Ступай вниз! Княжич жалует тебе место в гриднице!
— Вы что это, малый, потешаться надо мной вздумали? — осерчал Твёрдая Рука. — Уже вели мимо гридницы. Теперь сызнова мне толкаться среди хмельных? Не пойду! Он меня звал, пусть сам и поднимается. Я вам не шут гороховый бегать туда-сюда.
Паробок даже подпрыгнул, услыхав такую дерзость. Глазами на юношу хлоп, хлоп. Попятился и канул. Снова оставшись в одиночестве, Улеб малость поостыл, что-то ёкнуло в груди: не слишком ли погорячился? Князь ведь требует, не кто-нибудь. Он и за морем слыхивал, как жесток Святослав. Что сейчас будет?..
Не прошло и десятка минут, как внезапно оборвались голоса за пологом, громыхнули лавки-скамьи, должно быть, бояре повскакали со своих мест, пропуская кого-то. Всколыхнулся полог, вбежали два воина, замерли по бокам входа. Всколыхнулся полог ещё раз, и ступил в палату вождь россов.
— Фью-у-ить!.. — присвистнул Улеб и почесал за ухом, а брови его поползли на лоб. — Выходит, я великого князя с бревна да в грязищу… Дела-а-а…
Голубоглазый уставился на юношу точно так, как и давеча на Подолье. Только был он уже не в замызганной крестьянской холстине, не под шляпой соломенной, не в лаптях, а в белой с золотом одежде, при серьге и в сапожках.
— Ну, строптивый, — изрёк Святослав, усмехнувшись, — на кол тебя?
— Прости, — отвечал Улеб и коснулся рукою пола, — недостоин я сидеть с кубком подле славной дружины.
— Не лукавь, ты достоин, коли умудрился меня самого свалить с ног при народе. Ты мне люб. Иди ко мне тысяцким.
— Нет, княжич, я вернулся из дальних стран, чтобы снова ковать железо…
— Откуда родом?
— Я Улеб, сын Петри из Радогоща, что в земле уличей.
— У меня братец есть, тоже Улебом звать. Мой тебе не чета. — Святослав вдруг засмеялся. — Улеб с Днестра-реки? Улеб из Радогоща? Уж не тот ли ты, про которого Боримко сказывал втапоры? Жгли вас люди в одеждах булгар? Бился с ними на пепелище много вёсен назад?
— Не булгары то были, а степняки! Где Боримко?
— Знаем, знаем теперь, что не булгары были.
Святослав встряхнулся, резко глянул на стражников, и один из них бросился прочь, повинуясь безмолвному приказу. Князь же Улебу как во сне:
— Сейчас Боримку покличут. — И второму стражнику: — Запроси сюда и матушку, коли бодрствует. Будет что повидать в нашем празднике.
Вскоре в комнату ворвался Боримко, и обнялись они с Улебом крепко-крепко. Мяли-тискали один другого, хлопали по плечам, всё не верили, что встретились после долгой разлуки, что и князь проявил такую благосклонность, редкую для него. Ухмылялся Святослав самодовольно, будто умышленно подстроил это свидание на диво подданным.
— Ай да молодец! — ликовал Боримко, тормоша Улеба. — Добрался к нам из греков!
— Почему ты здесь? — Улеб тормошил Боримку.
— Я в стольной дружине! В Радогоще не хуже прежнего! Лишь тебя и других вспоминают, оплакивают.
— А откуда узнал, что я был у ромеев?
— Да от Велко же! Мы с булгарами ныне в братском союзе, одним войском стоим в глотке ромеев.
— Велко?! — Улеб даже присел.
— Ну да. Он, чеканщик, прибился к нам вместе с многими. Все булгары, кто под греками был, стали в полки. И у нас и у них равный спрос с Царьграда за подлоги.
— Значит, Велко из Расы живой…
— Ещё как живой! Первый лучник в войске-то!
— Где сейчас? — спросил Улеб трясущимися губами.
— За Дунаем, в Переяславце. Там и наши остались. Мы ведь малым числом отлучились оттуда, чтобы Курю прогнать. Скоро снова туда воротимся. — Боримко поклонился Святославу и опять повернулся к Улебу, возбуждённый, счастливый. — Как я рад тебе! Когда прибыл?
— Месяц, считай. Славный день! Завтра с Кифой, своею суженой, собираюсь к родителю.
Святослав что-то больно размилостивился, извлёк из-за пояса золочённый медвежий клык со своею печаткой, протянул его Твёрдой Руке.
— Принимай мой особый знак. С ним легко достигнешь своего сельца. Предъяви на заставах, свежих коней дадут.
— Вот те на, — удивился Улеб, — я видел однажды подобный на шее у Лиса, как он попал к лиходею и обманщику?
Святослав потемнел лицом, сказал:
— Служил у меня, будь он проклят под землёй и в небесной тверди! Он убит. Давняя то история, твоим же булгарином и поведана нам в Переяславце.
Улеб только глазами хлопал. Боримко осмелился пояснить:
— Обо всём доведались. Издыхая, Лис сам отдал Велко похищенный у покойного Богдана медвежий зуб и признался, что был в сговоре с важным ромеем, что царьградский посол науськал Курю на Радогощ, и степняки так набег подстроили, чтобы мы заподозрили булгар. И ещё Лис признался, что тебя завлёк в западню, в безысходное плавание, да и Велко чеканщика хотел погубить.
— Ихний цесарь, я слышал, готовится дать нам великий бой, — сказал Святослав. — Скоро, должно, сойдёмся в сечи. Ты бы, Улеб, пошёл ко мне тысяцким, по душе твоя удаль.
— На сечу с ромеями я согласен, — сказал Твёрдая Рука, — буду там, помяни моё слово. А сейчас хочу в Радогощ. Истосковался по родичам, скитаючись окрай света. Я надеюсь сестрицу свою повидать. Всё мне чудится, будто спаслась она от каганского плена.
Тут Боримко подскочил:
— Не в степи она и не дома. Куря отдал её вместе с прочими былому послу из Царьграда. Велко видел Улию в малой крепости этого грека, пытался вызволить, да тщетно. Неужто не знал?
— Быть не может… — Улеб прислонился к стене. Потом ринулся к Боримке и затряс его что есть силы. — Поклянись!
— Чур тебя, сполоумел, что ли? — Бедный воин едва не задохнулся от немыслимой встряски. — Коли за каждую весть хватать да мотать меня этак, вовсе язык отвалится. Говорю тебе: там она.
— Вот что, — молвил Твёрдая Рука, и взгляд его загорелся, — нынче поутру опять двинусь к ромеям. Я без Улии домой не вернусь, я в ответе за всех пропавших. Ты, Боримко, отвези мою жёнку, Кифу, в Радогощ, пусть её примут пока без меня. Объясни батюшке, что и как, сделай милость.
— Охотно! Только как же ты без Велко? Он с Улией сердце разделил. Надо вам разом, не простит, узнавши, что его обошли. Да и лук его меткий — большое подспорье.
Улеб глянул на князя с мольбой.
— Дозволишь, великий, моему побратиму оставить войско на время?
— Я булгарину не указ, — ответил Святослав. — Запросил бы, скажем, Боримко — гридям нельзя отлучаться в такой час.
— Ах, княжич, — только и вздохнул Боримко.
— Чу, матушка сюда идёт, — молвил князь. — Ну-ка в гридницу! Пируйте себе и ждите нас! Все долой! Кроме Улеба.
Нехотя удалился Боримко вслед за стражниками.
Комнату уже заполняла пёстрая свита Ольги. Сама она, седая, в тёмном одеянии, как монахиня, вошла, постукивая клюкой. Девки живо подставили ей скамеечку, набросали подушек — села. Дряхлый священник Григорий стал по один бок от неё, а телохранитель Гуда, точно старый медведь, по другой.
— Звал меня, дитятко?
— Не жури, матушка, что обеспокоил. — Святослав склонил колено и поцеловал её руки. — Не знаю, зачем и позвал. Видишь ли, тут случилася встреча. Ты ведь любишь глядеть, коли что случается. А уж всё позади.
— Не сержусь, — прошептала. — Кто ж кого повстречал?
— Да вот богатырь из уличей и Боримко наш случайно сошлись под твоей кровлей после различных лет.
Улеб выступил из притенённого угла к светильнику. Княжич опустил руку на его плечо, подвёл ближе к скамейке, где восседала княгиня, продолжал:
— Осчастливил его твой дом, матушка. Все считали его погибшим, а он, вот он, воскрес, что твой бог!
Ольга вдруг улыбнулась Улебу и сказала:
— Вот ты где, сокол. Сам прилетел. А я уж Гуду загоняла: разыщи да разыщи того отрока, что Претича надоумил. Ты чего, гордец, от моей награды схоронился?
— Богатырь и тебе знаком? — удивился Святослав. — Что он ещё натворил? Меня, князя, в грязищу сшиб на гулянье, а тебе, матушка, чем услужил?
— Не одной мне, всему Киеву. Ловко бился с печенегами на стане, да ещё ловчей обхитрил их и заставил Претича пошевеливаться. Смелый отрок. Я запомнила его имя. Как не запомнить, коли оно у него, как и у непутёвого твоего братца.
Святослав легонько толкнул Улеба локтем, и тот догадался наклониться и почтительно чмокнуть протянутую руку Ольги. Ощутил под губами холодные, тяжко пульсирующие жилки под дряблой кожицей.
— Где таился всё это время? — спросила она.
— Приспособился в Оболонье у мастеровых людей, — отвечал Улеб.
— А чернавка твоя где? как её, дружку-певунью… Фия, Фика… нет, нет…
— Кифа, — подсказал он. — Она, мати, со мной.
— Тут, в тереме?
— В пригородне. Меня дожидается на дворе у скудельника, где столуемся.
Ольга глянула на сына, Святослав — на её молодых боярок, крикнул:
— Ну-ка, девки, бегом! Пусть Иванко! Живо!
Посыпались из комнаты, как горох из пригоршни, крича уже с порога:
— Иванко! Иванко-о!
Улеб смущённо пожал плечами: для чего, мол, весь этот сыр-бор. Дескать, чудной народ в княжьем роду, и зачем только шум поднимают, если ни он, ни Кифа в ласке их не нуждаются. Однако смолчал, не осмелился отказом задеть хозяев Красного двора, тем более, что не почуял себе унижения.
Между тем княгиня обратилась к сыну:
— Оставь его в Киеве вместо Претича.
— Невозможно, матушка, — отвечал Святослав, — он уйдёт со мной на Дунай. Претич же научен, а огузы больше не сунутся.
Улеб встрепенулся.
— Нет, княжич, — возразил он, — я с дружиной не могу. У меня своя забота. Ты обещал не неволить.
— Успокойся, — сказал Святослав, — тебе не запрещаю искать сестрицу. Ты намерен взять в напарники Велко, а где он? В Переяславце. Вот нам и по пути туда. И с девой-то своей будешь, считай, до самого Пересеченя. Там Боримко свезёт её в Радогощ и догонит нас. Я всё помню.
— Спасибо тебе, — кивнул Улеб.
— Ну и ладно, — молвила Ольга и поднялась, — пойду я. И тебя, сын, заждались небось твои нехристи. Слышь, как горло-то дерут да посудой грохочут внизу. А отрока этого одари. Отдай ему, что ли, двух-трёх полонённых огузов, пускай поставят ему дом на Днестре. Он ведь, сказывала я тебе, наквасил их в захапе множество. Его добыча по праву.
— Ничего мне не надо, — сказал Улеб, — не желаю их видеть. Сам срублю избу для жёнки, не маленький.
— Будет, будет ершиться-то, — громыхнул Святослав, — совсем, гляжу, распоясался! Нет так нет, а гордынею не размахивай.
Простучала клюка Ольги и затихла. Удалилась и свита её. Княжич с Улебом тоже ушли. С новой силой грянуло пиршество в верхних покоях.
Обильное пламя факелов освещало на внешних тесовых подпорках гирлянды цветов и подвесные охапки благовонных трав: чабреца, девясила, тимьяна, выхватывало из сумрака белые стены, бросало пляшущие отблески на плоский лоснящийся деревянный лик Перуна, и от этого казалось, будто идолище подмигивало и гримасничало, поощряя окружающее веселье.
Улеб внезапно остановился и молвил:
— Покажи мне огузов.
— Ага! Всё же любишь подарки!
— Мне они не нужны, — сказал Улеб, — покажи только. Что-то стало охота. Уважь прихоть.
— Пойдём. — Князь кликнул слуг: — Эй, кто-нибудь! — И, когда те подбежали, направился в глубь двора впереди всей ватаги.
Гриди отомкнули ближайшее дощатое вместилище, посветили. Огузы зашевелились, повскакали, сгрудились, точно стая загнанных волков. Дружинники князя морщились, а сам он плевался, как невоспитанный подпасок. Улеб внимательно оглядел всполошившихся пленников и вдруг воскликнул:
— Я как чувствовал! Здесь один из них! Вот он! Сам Мерзя попался!
— Что ты чувствовал? Кто попался?
— Один из тех, что подожгли Радогощ и наших угнали. Он был главным у них. Это он меня сзади дубиной-то. Ну сейчас я ему всё припомню!
— Толмача сюда! — крикнул Святослав так, что пошатнулись стены конюшни и огузы присели в страхе. — Боримку зовите! Всех сюда! Ещё одно свидание у нашего Улеба! Я придумал потеху, коли так!
Сбежались на крик все, кто был поблизости: и знать, и мелкая чадь. Дружина гурьбой повалила из гридницы, дожёвывая куски на ходу и утирая рукавами пену питья на губах. Выволокли опознанного в самый круг. Боримко тормошит Улеба, очумело бормочет:
— Что такое?
— Признали убийцу уличей! — понеслось по толпе.
Князь живо объяснил толмачу суть дела, и тот долго по-печенежски втолковывал что-то озиравшемуся огузу, при этом указывал пальцем то на Улеба, то на Боримку, то на кромешную даль ночи. Степняк слушал. Потом сам залопотал быстро-быстро. Затем снова толмач.
Все уже устали ждать конца затянувшегося непонятного их разговора. Наконец огуз принялся, завывая, колотить себя в грудь и по скулам. В два прыжка подскочил к Твёрдой Руке, и не успел юноша опомниться, как степняк лизнул его щёку.
Улеб содрогнулся от отвращения, схватил наглеца поперёк мехового кафтана, так отшвырнул, что тот отлетел, как ядро из пращи.
Толмач сообщил Святославу, о чём толковал с печенегом, и князь объявил:
— Он племянник кагана по имени Мерзя. Он сознался и признал улича. Ну, ещё он Курю ругал, себя оправдывал.
Закричали в ответ возмущённо:
— Нет пощады ему!
— Судить нунь же!
— Смерть убийце невинных!
— Деревьями разорвать!
— На Перунов костёр его!
Святослав поднял руку, унял голоса, вынес своё решение:
— Пусть же Улеб и его угостит дубиной.
— Не хочу карать безоружного, — сказал Твёрдая Рука. — Не могу.
— Я могу! — Боримко выступил в круг. — Дайте мне отплатить этому за слёзы родичей!
Но Улеб его отстранил, предложил:
— Надо так. Мерзя отсчитает их своих ровно столько, сколько напало на наше село. Принесите им сабли. Вот мой меч. И сойдёмся. Не осилю, гоните их в шею на все четыре стороны.
Толмач перевёл Мерзе требование юноши. Тот закивал, отобрал себе подмогу. Загалдели огузы, довольны. Ещё бы, двенадцать против одного. Уже видели себя безнаказанно бегущими на все четыре стороны. Принесли им сабли. Стали они в ряд, смотрят на светловолосого чудака, что сам напросился на погибель, ждут сигнала.
— Многовато их, — зароптали росичи.
— Ой ли, справишься? — сказал Святослав. — Я дозволю, но только вдвоём с Боримкой.
— Хорошо, можно так. Отойдите, братцы, — сказал Твёрдая Рука, — наше теперь дело.
В этот момент, как нарочно, на горячем коне подоспел Иванко, доставил Кифу, как Ольга велела.
Увидела смуглянка, что милый её с обнажённым мечом рядом с каким-то воином против дюжины сабель в центре круга из щитов безучастных дружинников, рванулась к нему, повисла на шее — не оторвать. Закричала как резаная, прямо сердце зашлось у каждого.
Малуша-ключница, любимица князя, поддержала несчастную криком:
— Деву жалко, а вдруг потеряет ладо! Ах, мужи, хватит кровью куражиться! Не оскверняйте хоть праздник наш! Не дозволь им, княжич!
И князь, подумав, отменил бой, хоть Улеб с Боримкой пытались протестовать.
Малуша взяла Кифу под руки, проводила в сени к праздничной трапезе. Мамки-няньки приветливо встретили юную гостью, плясунью заморскую, окружили заботой на Красном дворе.
Глава XXV
В описываемые времена был год, отмеченный утратой в трёх странах, связанных между собой нашими сказаниями. На Руси, в Булгарии и Византии. Года 969-го, месяца июля, дня одиннадцатого умерла великая княгиня Ольга. Почила тихо и покорно от неизбежного недуга всех людей, от старости. Следуя древнему обычаю, поляне положили её в днепровскую ладью, пронесли на плечах через град, посад и предгородню туда, где сама когда-то присмотрела место для собственного жальника. Хоть и была причастна к христианской вере, оплакивали её как всех предков на родине. Хоронили не в санях, как то делалось в зимнюю пору, а в лодке, поскольку лето стояло. Ещё когда жива была, успел проститься с матушкой Святослав. После тризны отпрысков своих так определил: Ярополка оставил в Киеве, Олега отослал в Искоростень править Деревской землёй, а побочного сына, малолетнего Владимира, отдал Новограду, раз уж сами новогородцы запросили его. Свершив это, Святослав воротился к войску за Дунай.
Года 969-го умер булгарский царь Пётр, сын Симеона, того самого бесстрашного, знаменитого Симеона, что в своё время провозгласил себя «царём булгар и греков», терзал ромейские армии как никто иной до него и как никто иной до него расширил границы придунайского государства. Как и Ольга, почил Пётр от скончания лет своих. Погребли его под церковный звон и заупокойные моления монастырской братии. Старший сын его, Борис, принял власть. Чтой-то поначалу не поладили они с росским княжичем, случилась меж ними ссора со всеми бранными последствиями, однако вскоре Святослав признал его полномочным, законным владетелем, и сошлись они в общих помыслах о возмездии Константинополю.
Года 969-го, месяца декабря, дня одиннадцатого не стало византийского василевса Никифора Фоки. Суровый воин, носивший после гибели сына власяницу, в рот не бравший вина и мяса, более чем полжизни проведший в походах, взявший сто городов мечом, почил насильственной смертью в своей же столице. Его жена Феофано ночью впустила в императорские покои своего любовника Иоанна и его воинов. Так был убит василевс. Отгремели колокола, пролили крокодиловы слёзы наёмные плакальщицы, скорбно прокатили катафалк на виду у горожан и храмов сами же убийцы. Ну не сами, так те, что направили их. Иоанн Цимисхий надел окровавленную диадему. Взял трон крупнейший воитель и землевладелец из Малой Азии, в поместьях которого трудились сотни париков. Стал править ещё рабовладельческим и уже феодальным своим государством, могучим, как прежде.
Улеб Твёрдая Рука отправился вместе с дружиной Святослава на Балканы.
Чтобы сэкономить время и не тащить за собой сумных коней (князь, мы знаем, страсть как не любил обузу в походах), Святослав намеревался преодолеть этот путь по течению реки и моря в парусных насадах. Однако стало известно, что Куре удалось быстро собрать и усадить в низовьях Днепра, от порогов до лимана, все уцелевшие племена Степи, кроме ятуков.
Именно ятуки, преграждавшие Чёрному кагану подступы к землям соседей своими новыми поселениями, сообщили о том, что Куря встаёт и ложится с мечтой о питьевой чаше из черепа киевского владыки. Княжич хмыкал в ответ. Но осмотрительные мудрецы уже в который раз советовали не плыть, а воспользоваться давно проторённым путём посуху. Они предостерегали:
— Увязнешь у моря, день и ночь отбивая засады. Степь не выйдет на открытый бой, будет рвать клочья, а и тем задержит. Управишься с Царьградом, тогда и плыви вспять, коли охота в ладье покачаться и с разбойными нападениями порубиться играючись.
— Будь по-вашему, — согласился, подумав, — двинем в сёдлах.
Близ Пересеченя простился Твёрдая Рука с Кифой, пообещав, что вернётся с удачей. Боримко отвёз её в Радогощ, вместе с сыновним приветом Улеба родимому сельцу.
Хромой Петря и все сородичи очень радостно встретили весть про Улеба, молодую жену его приютили-приняли охотно, заботливо. Вскоре накрепко полюбилась она уличам. Хоть, как говорится, и чужого поля ягода, но пригожа, уживчива. Нрав у Кифы весёлый, приемлемый, не ленива она — это главное. А речи местной скоро выучится с новыми подружками-балаболками.
Догнал Боримко соратников. Святослав пожурил молодого воина, что задержался на Днестре сверх дозволенного, но наказывать не стал. Боримко ведь исполнил просьбу Твёрдой Руки, своего славного земляка, в котором княжич души не чаял.
Улеб и Боримко ехали рядом. Бесконечны расспросы первого, терпеливы ответы второго. Ни на шаг не отлучались друг от друга, всё не могли наговориться о Радогоще, всё вспоминали минувшее детство, всё о будущем грезили.
Мерно стучали по широкому тракту копыта коней. Ровными рядами поблескивали начищенные шишаки шлемов. Развевались разноцветные косицы на копьях. Полыхали червлёные щиты за спинами.
Тепло и солнечно вокруг. Налились соком гроздья тучных виноградников на крутых склонах, плоды айвы благоухали, вдали дышали прохладой непроходимые горные пущи, а земные впадины были устланы цветами.
— Ой ликовал наш вещий, как услыхал, что я тебя отыскал! — в сотый раз рассказывал Боримко.
— Это я тебя отыскал, — замечал Улеб.
— Кто кого — одна радость! Петря меня прямо в медушу пихнул, а там пива-а-а!.. Три дня голова гудела. Потому и задержался.
— Руды у наших хватает?
— Добывают помаленьку.
— Где?
— А за речкой у тиверцев.
— Кузнь идёт хорошо?
— Каждое седьмое утро снаряжают повоз. Живут, не мрут. Не только Фомка-коробейник зачастил, множество их, менял, заглядывает.
— Я вернусь, лучше будет, — приговаривал Улеб мечтательно.
— Известно, — согласился Боримко, — ты большое подспорье.
— Знаю сокрытый клад в Мамуровом бору. Там железа в болоте полным-полно. Без меня, поди, накопилось.
— Я бы тоже домой помыслил, да привязался к войску — не оторвать. Да… Кифа, дружка твоя, приглянулась всем. И про Улию, конечно, только и пересуды. Петря сызнова колесо от телеги поднял на стреху. Пусть всяк видит: есть в избе девица на выданье. Верит, что привезёшь её.
— Отыщу, если жива, — молвил Улеб.
— Хоть и на чужбине, а жива. Жива!
— Жива, — повторил Улеб. И сказал вдруг недовольно: — Понапрасну батюшка колесо поднял напоказ, она уж засватана.
— Я рассказывал в Радогоще про Велко, — подмигнул воин, — объяснил всё по чести. Петря взгромоздил колесо для виду только, на радостях. Ты не бойся, вещий не воспротивится, отдаст дочку за чеканщика, коли люб он ей. — Боримко залился смехом. — Бедный Петря! Сколько ртов-то навалится сразу! И ромейка тут, и булгарин, и своих двое! Вот счастливцы! Две невиданных свадьбы гулять уличам!
— А и правда! — рассмеялся и Улеб. Но вдруг уже озабоченно: — Быть бы этому.
Пересекли вброд дунайский приток Серет и направились вверх по левому берегу великой реки. В пути прибился к ним небольшой отряд угров на высоких тонконогих лошадях с притороченными к сёдлам связками дротиков, с диковинно изогнутыми, непомерно большими луками на плечах, с овечьими лихо заломленными шапками на головах, сдержанные в словах и порывистые в чувствах, как все горцы.
На булгарской земле повсюду селяне собирали фрукты в полудиких садах, били дичину, вялили и солили мясо и рыбу на зиму. Подобно крестьянам трудились, копошась в скудных наделах, монашеские общины.
Прохладным полднем пришли в Переяславец, запруженный разноязыким воинством. Там и свиделись наконец Улеб из Радогоща и Велко из Расы.
Время было тревожное. Готовились к битвам. Шли учения, манёвры, выгуливались, набирались сил табуны боевых коней, изготавливалось и оттачивалось дополнительное оружие, шились стяги, плелись и ковались щиты, пополнялся провиант. Встретиться с прославленными армиями Византии — дело нешуточное. Всякий то понимал в дружине неистового Святослава, решившего дать бой ромеям.
Улеб и Велко обнялись по-братски крепко и молча. Затем рассказали друг другу о пережитом, обстоятельно обсудили задуманное.
В нелёгкой службе прошла зима, лето. А осенью, раздобыв необходимое снаряжение и опять же до поры простясь с товарищами, отправились побратимы пешком в далёкую Фессалию, поскольку были убеждены, что Улия по-прежнему томилась там.
Не досужья прогулка в чистом поле. Случались стычки, погони. Иной раз и отсиживались: рисковать нельзя. Акриты в пограничных городах были бдительны как никогда. Тучи сгущались на рубежах. Аристократы жаждали бойни, лелея надежду на захват новых земель. Простые же люди, особенно земледельцы, уставшие от слишком частых опустошительных передвижений своих и чужих войск, со страхом ждали лишений, которыми всегда чреваты для них войны господ.
Твёрдая Рука и Велко не имели проходных листов. Как ни старались быть осторожными, как ни пытались избегать лишних столкновений, а всё же доводилось им прокладывать путь мечом и стрелами сквозь заставы на дорогах. Да и разное бывало. Там выручат обездоленного, там спасут, уж такие они сроду, Улеб и Велко, что не могли пройти мимо вопиющей несправедливости или чьей-то беды.
В народе появились были и небылицы о благородных скитальцах и похвальных их поступках, а в среде богачей и насильников поползла злобная молва о двух таинственных и неуловимых варварах-смутьянах, Твёрдой Руке и Метком Лучнике.
Пешком, известно, какая резвость. Да к тому же ещё с постоянной оглядкой и приключениями.
Тёплой византийской зимой они всё-таки добрались до Фессалоники, где приобрели лошадей в обмен на серебряные слитки из числа полученных в своё время от Святослава вместе с напутствиями. В седле больше приметен, зато верста чудится шагом. Верхом они отправились в имение Калокира.
— Увезу её в Расу, — мечтал булгарин.
— В Радогощ поедет моя сестрица, — перечил росич, — только там её дом и отрада.
— Ну уж нет! Мы с ней условились!
— Мало что вы уславливались. Я поклялся вернуть её уличам.
— А я поклялся вернуть ей волюшку! — кипятился чеканщик. — Ты-то кто ей?
— Братец родной.
— А я суженый! Ох, не погляжу, что ты…
— Договаривай! Договаривай! — Улеб взорвался. — Иль забыл, что я Твёрдая Рука!
— А я Меткий Лучник!
— Да я!.. — Улеб даже лошадь попридержал. Но вдруг подавил в себе негодование. — Слушай, Велко, довольно нам ссориться. Сестрица поедет куда пожелает.
— Мы с нею навеки, знаю.
— Вот и будешь вместе с нами на Днестре.
— Лучше ты вместе с нами в Расе.
— Сама порешит, как быть.
— Ну и посмотрим.
Обоих подстерегло ужасное разочарование в первый же день пребывания у злополучного кастрона. Улии в нём не оказалось. Кого из добрых людей спроси, все в один голос:
— Красивую невольницу хозяин забрал к себе. Давным-давно присылал слугу за Марией.
— Где, где Калокир? — переспрашивали.
— Бог его знает, где-то в армии, — отвечали, — сам сюда вовсе перестал наведываться. Лишь как-то нагрянули издалека воины с его приказом, перебили тут некоторых, а главного их, Блуда, связали и уволокли.
Друзья допытывались снова и снова, отказывались верить ушам своим. Улеб проник в укрепление, всё разузнал поподробнее, перепроверил — не обманули. Осунулся с горя, часами понуро сидел на поваленном дереве в каштановой роще, где Велко по старой памяти избрал постой для лошадей.
— Все толкуют… Мария, Мария… Почему Мария?
— Нашу Улию, — вздохнул Велко, — так объявил Калокир. Ладно, будем искать повсюду. Калокир — стратига, патрикий, человек видный.
Проезжая мимо обрамленного густым тростником круглого озерца посреди каменистой низменности, Велко воскресил в своём рассказе картину неудачного побега с Улией, поединка дината и Лиса. Напоминание о потерянном огненном жеребце усугубило и без того очень мрачное настроение Улеба.
Решили пробираться в столицу. Там есть дом Калокира, болтливые слуги. Опасно, конечно, да что поделаешь.
А однажды в скромной придорожной корчме довелось Твёрдой Руке и Меткому Лучнику услышать кой-какие новости.
Они сидели за ужином в полутёмном углу, как всегда избегая общения с посторонними без нужды. Время было вечернее. За плотно заколоченными окнами противно завывал мокрый холодный ветер. Изредка раздавался скрип проезжавших мимо повозок. Зябко покрикивали погонщики, тяжело хлюпали копыта буйволов в зимней распутице.
В корчме было тепло и шумно. Кто победней, находил здесь овсяную или тыквенную кашу и горячую подслащённую воду. Кто побогаче, удовлетворялся куском дымящейся говядины и молоком. Знаменитые ромейские виноградные напитки, столь обязательные в домах империи, здесь почему-то не подавались. Вероятно, настали самые чёрные дни заведения.
Некоторые гости, утолив голод и жажду, тут же, не вставая из-за столов, засыпали, уронив головы на руки. Улеб и Велко намеревались последовать их примеру. Им частенько приходилось коротать ненастные ночи в таких вот малоприметных заведениях на отшибе больших дорог.
Внезапно в корчму ввалился воин. Весь его усталый вид указывал на то, что прибыл он издалека. С порога окинув равнодушным взглядом притихшую при его появлении чернь, он заметил в укромном углу двух насторожившихся юношей своего ранга и не замедлил направиться к ним с воинским приветствием.
Велко, который временами проявлял горячность, приподнялся, чтобы испытать прочность его черепа увесистой амфорой, но Улеб мигом водворил друга на место. С изысканной вежливостью ответив на приветствие вошедшего, Твёрдая Рука подвинулся на скамье и жестом пригласил его к столу.
— Дьявольская погода, — весело ругнулся ромей и хлопнул ладонями, призывая хозяйку. — Тащи своё пойло, ведьма!
Женщина безропотно принесла мясо, кашу, воду, хлеб и молоко — всё сразу.
— Вина!
— Не прогневайся, защитник наш, — сказала она, — нет ни капли.
— Значит, все тут аквариане? Вот неудача!
Улеб этак по-свойски поинтересовался:
— В Константинополь держишь путь, приятель?
— Напротив, из Константинополя.
— Что слышно в благословенной твердыне нашей? Давненько не видывал я столицы. Мы с ним, — Улеб кивнул на Велко, — сражались с норманнами в Калабрии во имя непревзойдённого отца храбрых римлян Никифора Фоки, да воссияет он вечно, незыблемый светоч Священного Пала…
— Что?! — прервал его воин, вытаращив глаза.
— А что?
— Когда прибыли из Калабрии? — удивлённо спросил ромей.
— Прямо оттуда. В чём дело, приятель?
— Фоку вспомнил? — воскликнул тот, как видно, проникаясь сочувствием к несчастной братии, вынужденной служить в несусветной провинции, куда своевременно не долетают даже такие важные известия. — Хвала богоугодному повелителю христиан Иоанну Цимисхию!
— Слава Цимисхию! — гаркнул Улеб и толкнул под столом ногу Велко.
— Слава Цимисхию! — гаркнул и наш булгарин.
— Слава-а-а! — завопили присутствующие, обожжённые взглядом солдата. Спавшие очумело повскакивали на ноги, решив спросонья, что вспыхнул пожар.
— Значит, ты был свидетелем большого зрелища на ипподроме? — спросил Улеб.
— Величайший праздник! — последовал восторженный ответ.
— Завидую тебе, приятель, — сказал Улеб и вновь подтолкнул Велко.
— Завидую тебе, — сказал и тот, поглаживая амфору.
— Я слышал, почему-то уже не выходят на арену бойцы главной палестры, — продолжил Твёрдая Рука, — их именитый наставник куда-то запропастился, это правда?
— Верно. Анит Непобедимый долго был в изгнании, но вернулся с триумфом. — Солдату явно льстила собственная осведомлённость. — Сам он, Непобедимый, уже не тот. Зато заставил город восторгаться своим новым бойцом.
— Новым бойцом? — взволнованно спросил Улеб.
— О, Непобедимый всегда найдёт чем удивить! — воскликнул воин. — Вам, вероятно, неизвестно, я же помню ещё, как лет десять назад он потряс всех невиданным учеником. Был у него юный раб из тавроскифов. Совсем мальчишка. Этот… Тяжёлая Рука. Силе-е-ен, я вам скажу, невероятно. Теперь же Непобедимый раздобыл бойца похлеще. Колосс! Кулачищи — во! Плечищи — во! Голова — литой колокол! Всех подряд валит. Анит привёз его из Округа Хавороя и сразу выставил в честь нашего Цимисхия.
— Как звать? — произнёс Улеб.
— Бойца? Имя его Маманий Несокрушимый.
— И он… Анит пометил его клеймом палестиры?
— Нет. Тот печенег не раб. В завидной славе.
— Вот те на… — тихо молвил Улеб и откинулся спиной к стене, отвернулся и нахмурился, повергнув собеседника в полнейшее недоумение своей неожиданной нелюбезностью и откровенным нежеланием продолжать только-только завязавшийся разговор.
«Ай да Анит, — качая головою, думал Улеб, — обзывал Мамана чудовищем, а сам в конечном счёте заманил его на арену. Маманий Несокрушимый… Вот ведь что выкинул наставничек-то. Уж кто настоящее чудовище, так это сам он, Анит Непобедимый, будь он неладен».
Глава XXVI
После безрезультатного посещения столицы и скитаний по северу Византии Твёрдая Рука и Меткий Лучник напали наконец на след Калокира в конце лета.
Нужно оговориться, что предшествующие этому знаменательному факту путешествия можно назвать безрезультатными, подразумевая лишь поиски Улии. В остальном же передвижения наших героев по империи назвать бесплодными никак нельзя, поскольку благодаря им немало подневольных людей обрели свободу. Целый конный отряд составили эти спасённые.
В одиночку пробиться за пределы Византии в столь тревожное время было очень трудно, почти невозможно. Каждый, кого выручали Улеб и Велко, понимал это. Вместе — сила весомая и пробивная. И не только славянами пополнялся отряд, в него вливались выходцы из разных стран, а большей частью отважные угры. Уже к середине лета собралась дружина в пять десятков хорошо вооружённых всадников.
Они возникали внезапно, сея панику и страх в разбросанных вдоль границы заставах акритов, и исчезали стремительно. Имя Твёрдой Руки не сходило с уст ромеев.
Так, прославляемый одними и проклятый другими, появился летучий отряд в лесах под Адрианополем, в котором стоял, наращивая мощь, крупный гарнизон. Калокир подвизался в нём в качестве советника, знатока Руси.
О том, что динат в Адрианополе, Улеб узнал случайно. А произошло это так.
Однажды в лагерь, временно разбитый в глухой чащобе, прибежал один из дозорных. Обычно, если грозила опасность, дозорные оповещали о ней условным сигналом рожка. На этот раз такой сигнал не прозвучал, но воины Твёрдой Руки всё равно бросились к оружию и лошадям, встревоженные взволнованным видом прибежавшего товарища. А он, отмахнувшись от посыпавшихся на него расспросов, кинулся прямо к шалашу, где отдыхали Улеб и Велко.
— Ромеи на дороге! — крикнул он.
— Нас окружили? — Оба вскочили на ноги. — Много их?
— Нет, всего несколько седоков и повоз. О нас не подозревают.
— Обнаружил горстку путников, — рассердился Улеб, — важная ли причина, чтобы самовольно покинуть дозор!
— С ними пленники, вот и поспешил сообщить, — оправдывался дозорный.
— Пленники, говоришь… Это меняет дело. — Твёрдая Рука вышел на просеку, где сгрудились воины, ожидая его приказа. — Братья, мы с Метким Лучником отлучимся ненадолго, вы же будьте готовы к возможной перемене стоянки.
Велко уже отвязал коней. Вскочив в сёдла, оба скрылись в густых зарослях и через несколько минут выбрались из прохладной тени на большую дорогу.
Над неровной щетиной леса поднималось палящее византийское солнце. Оно било в глаза, слепило, и от яркого встречного его света лес по обе стороны дороги казался плоским и серым.
По дороге двигалась процессия.
Впереди, опустив поводья, изредка подбадривая коня похлопыванием по холке, ехал шагом уже пожилой, но ещё сохранивший горделивую осанку воина господин. Ехал он налегке, оружие лежало среди тюков и бочонков в скрипучей повозке, которую тащили два запряжённых мула.
Сзади господина ехали слуги. Четверо вооружённых копьями и саблями латинян-наёмников.
Когда под колеса повозки попадала ветка или камень, погонщик вздрагивал, косился по сторонам, шевелил палкой, которой, судя по всему, мулы не боялись, и, мельком оглянувшись на бредущих сзади невольников, снова погружался в дремоту.
Невольники представляли собой жалкое, гнетущее зрелище. Оба, видно, уже смирились с горькой своей участью, уныло ступали босыми окровавленными ногами по неровному грунту усеянной щепками и обломками ветвей лесной дороги. Грязные лохмотья едва прикрывали измождённые, истерзанные ранами и ссадинами тела. Вытянутые вперёд руки туго стягивали верёвки, кожа стёрлась под узлами, кисти кровоточили. Однако на их отрешённых лицах не отражалась физическая боль, они, казалось, уже не способны были ощущать собственные страдания.
Солнце припекало всё сильнее, поднимаясь выше и выше в безоблачном белёсом небе. Низко парили птицы у края леса, где витало зыбкое марево над болотцем, за которым начиналась равнина, а дальше, если взобраться на самый высокий из холмов, опоясывающих равнину, можно уже различить дымы и отблески куполов Адрианополя, раскинувшегося вокруг места слияния двух рек.
Когда кавалькада приблизилась к месту, откуда наблюдали за ней Улеб и Велко, на расстояние примерно в две стадии, они открыто выехали на средину дороги и застыли, как изваяния, внезапно выросшие на пути.
— Увидели нас, — молвил Улеб, — остановились.
— Снова двинулись, — немного погодя заметил Велко. — Похоже, что пленники-то из наших.
— Да, — произнёс Твёрдая Рука. Он извлёк из-за пояса платок, подарок Кифы, повязал им нижнюю часть лица. — Укройся в тени и держи их на острие стрелы.
— Хорошо, — кивнул Меткий Лучник и отъехал на обочину, под деревья. Вынул стрелу из заплечного колчана, положил её на тетиву.
— Кто эти люди и в чём их вина? — громко обратился Улеб к напыщенному старцу и указал на невольников, привязанных к повозке.
— Я вижу перед собой благородного рыцаря, — последовало в ответ. — Я угадал в нём благородство, хотя не вижу лица. И я не спрашиваю, зачем понадобилось благородному рыцарю скрывать лицо. А ведь имею право знать…
— Сейчас спрашиваю я! Отвечай!
Вдруг один из латинян-охранников визгливо вскричал:
— Мы под рукой досточтимого хилиарха Гекателия! И ты, дерзкий чужестранец, на его земле!
— Я спрашиваю: кто эти люди? — повторил Улеб.
Старик, названный хилиархом Гекателием, молча глянул на слуг. Пращник выхватил рог, намереваясь протрубить то ли для храбрости, то ли для того, чтобы призвать на помощь, но в это мгновение его руку поразила стрела, пущенная Метким Лучником, и рог шлёпнулся в пыль.
Один из латинян ринулся на Улеба, угрожая копьём. Юноша легко уклонился, даже не сдвинулся с места, и, едва нападавший проскочил мимо него, к изумлению остальных, метнул нож. Ох, стоять бы незадачливому латинянину, не лезть а рожон, а так… грохнулся оземь с коротким хрипом. Благо прочим, что опомнился Гекателий, уберёг их от верной гибели, понял умудрённый жизнью, что силою тут не возьмёшь, крикнул слугам:
— Торна! (Назад!) — Этак лучше, — сказал Улеб. Спешился, выдернул свой клинок из поверженного врага, сел опять на коня, приговаривая: — Мало учил вас Святослав, князь великий.
Гекателий зашипел зло:
— Если тебе нужны беглые твари, можешь спасти их от виселицы тридцатью златниками. Золото мне — и посторонись!
— Кто эти люди? Булгары?
— Да.
Улеб почувствовал, как хлынула кровь к лицу, взглянул на Велко, поодаль державшего лук наготове, обернулся к надменному халиарху и сказал, с трудом сдерживая себя:
— Ты добыл их в бою?
Внезапно сквозь стон связанных невольников просочилась славянская речь одного из них:
— Обманом! Убей их! Убей! Убей нелюдов! Убей их, юнак!
Он, этот несчастный, упал на колени в отчаянной мольбе. Второй пытался его поднять. Улеб обрубил их путы, затем приблизился к хилиарху вплотную.
— Я Улеб, росс по прозвищу Твёрдая Рука. Эти люди свободны, иначе, ромей, клянусь Перуном, ты падёшь! Вот мой меч — моё слово. Беги же прочь со своими холопами!
Известное повсюду имя юноши произвело на Гекателия сильное впечатление. Он растерянно озирался, соображая, как быть. Наконец собрался с духом и заговорил:
— Я не сержусь на тебя, юный странник, ты слишком храбр для своих лет. В молодости и мне случалось резвиться и шалить на дорогах. Однако ты достаточно умён и знаешь, что за иные развлечения платят. Возмести убыток и разойдёмся с миром. Двадцать солидов за убитого, десять за руку пращника и по двадцать номисм за этих полудохлых рабов. Конь и оружие побеждённого, по закону поединков твои!
— Убирайся, если жизнь дорога! Спасайся и молись, чтобы я тебе больше не встретился!
Делать нечего. Хилиарх потоптался немного, швырнул копьё на повозку, щит снова на спину, стегнул коня и отступил, бормоча бессильные проклятия. Вслед за ним удалились и наёмники его. Посрамлённые и взбешённые, ускакали в город.
Прервав благодарные излияния спасённых, которые всё ещё не могли прийти в себя, Улеб и Велко уступили им коней, помогли взобраться в сёдла, ибо самостоятельно они не в силах были проделать это.
В лагере их встретили радостными приветствиями. Шумной гурьбой посыпались из кустов на поляну, где торчал единственный стяг. Все в кольчужной чешуе, загорелые, крепкие, белозубые удальцы. А ведь в самих-то едва теплилась душа когда-то. До чего же, однако, преображается человек на волюшке!
— Братья, вот нам два новых товарища, — сказал Твёрдая Рука соратникам, обступившим прибывших, — позаботимся о них. Накормите досыта, обмойте раны этим снадобьем. — Он вынул из сумы деревянную флягу с горькой настойкой ирного корня. — Приоденьте их и пускай отдохнут в шалаше. А мы с Метким Лучником опять отлучимся. Нужно добыть им лошадей и ратное снаряжение.
— Где? — спросил Велко.
— Неужто думаешь, что гордец Гекателий не поспешит в погоню за обидчиками, прихватив из городища подмогу?
— Не в своём уме, братец! — воскликнул Велко. — Ты да я против стольких! Либо жизнь тебе надоела, либо вовсе позабыл про Улию.
— Не станем драться с тучей, — сказал Улеб, — я такого не говорил, чтобы выйти один на сто. То молва нас с тобой вознесла до небес, а по правде мы из костей и мяса, как всякий.
— Всё это шуточки.
— Экий ты бестолковый сегодня! Ишь нахохлился! — Улеб хлопнул дружка по плечу. — Сразу двух молодцов у ромеев отняли, а ты бухтишь!
— Да ну тебя, вечно баешь загадками.
— Что тут хитрого! Хилиарху на ум не взбредёт, что мы схоронились поблизости. Он, премудрый, решил, будто мы сломя голову удираем подальше от города. Понесутся они в погоню мимо нашего места, изловчимся сзади… Словом, там разберёмся.
— Едем, — оживился Велко. — Скорей, не то прозеваем!
Спустились к самому краю леса и спрятались в зарослях папоротника как раз против болотца, на заплесневелой воде которого плескались дикие утки. Отсюда хорошо просматривалась дорога, петлявшая от холмов в низине до лесной чащи.
Деревья, могучие, стройные, как колонны, высоко устремляли замшелые стволы, зарывались раскидистыми кронами в яркую голубизну неба. Молодые побеги подступали к самым папоротникам, оберегаемым влажной непроницаемой тенью вековых исполинов.
— Светлый день… — Улеб покусывал сорванную травинку. — Светлый и длинный, как день Белого бога. В долгий день и короткую ночь Купалы на Днестре жгут огни, жарко празднуют уличи. А мечи на гвоздях да в чуланах. Любо дома. Кифа с батюшкой тоже скучают, наверно… Затерялась сестрица…
Велко отвёл пристальный взгляд от дороги, повернулся к Улебу, подперев щёку ладонью. Было слышно, как щиплют листья кони, привязанные в чаще. Солнцу не под силу осушить землю, исходила она испариной. Душно. Улеб то и дело утирался своим огромным платком.
— Ты зачем повязал лицо перед греком? — спросил Велко. — Устыдился рубца?
— Борозды от клинка не стыдятся.
— Так чего же?
— Тому, кто не видел нас прежде, теперь и вовсе незачем знать наши лица. Мало ли что. Неопознанному вольготней.
— Тоже правильно, — согласился булгарин. — А признайся, каешься, что сразу не…
— Вот они, — вдруг прервал его Улеб.
От города катилось по дороге серое облако. Сплошной лавиной отблёскивали панцири. Мелькали ноги прикрытых броней лошадей. Эхом доносился и увязал в лесных стенах стремительно приближавшийся топот. Утки испуганно взмыли над болотом.
— Сотня копий, не меньше, — шепнул Велко, нащупывая свой лук. — Ну и честь нам! Катафрактов придали обиженному!
Всё произошло, как и предвидел Твёрдая Рука. Гекателий промчался впереди воинов, даже не взглянув на то место, где недавно посрамил его витязь в маске. Безусловно, грозный отряд рассчитывал настичь обидчиков хилиарха лишь в значительном отдалении.
— Пристроимся следом! — призвал Велко, когда тяжёлые воины прогрохотали мимо.
— Нет, — возразил Улеб, — дождёмся их возвращения.
— Снова ждать?
— Пусть поскачут в мыле. На обратном пути у них поубавится прыти после бессмысленной скачки. — Улеб опять задумчиво прикусил стебелёк. Потом сказал: — С ними один малый в мирском хитоне. Круг верёвки приторочен к его седлу. Приотстал от всех. Мне сдаётся, что я его где-то встречал. Ну а ты не признал его, заднего-то?
— Разве разглядишь кого толком в пыли? По мне, все они одинаковые.
— Ну уж нет, этот малый мне сразу приметился. Как увидел его, враз не стало покоя.
— Что в нём особенного?
— Вроде припоминаю, — не очень уверенно молвил Улеб, — если не померещилось… он слуга того пресвевта.
— Калокира?! — Глаза Велко округлились, он вскочил как безумный. — Не может быть! Мне его прислужники известны наперечёт! Ты готов поручиться?
— Не знаю… Вообще-то я памятливый на лица. Проверим. Они должны воротиться засветло.
— Ладно.
Солнце скрылось за лесом. На дорогу упала сплошная тяжёлая тень от гигантских деревьев. Стали явственней и острей запахи трав на опушке, воздух словно подёрнулся призрачной пеленой. Жужжали пчёлы, слетаясь в дикие борти с медовой данью.
— Этот малый, слуга дината, не охоч до седла: сидит как мешок. Да и кляча под ним. И зачем он за воями увязался? — обронил Велко.
— Сейчас не об этом забота. Главное, захватить этого прислужника половчее, — сказал Улеб.
Беспрестанно и возбуждённо переговариваясь, то вздыхая, то подбадривая друг друга, просидели они в папоротниках до сумерек. Но помаялись не зря.
Гекателий и кавалеристы возвращались тем же путём. Проницательность Улеба подтвердилась. Ромеи едва плелись, озлобленные, разочарованные, с лоснящимися от грязного пота лицами, на взмыленных лошадях. Не судилось хилиарху прославиться поимкой дерзких возмутителей спокойствия.
А к нашим героям судьба явно благоволила. Чуть ли не на версту позади всех тащился тот, с кем жаждали встретиться Улеб и Велко. Кобыла его хромала, сам он дремал от усталости.
Трудно было поверить, что всё получилось настолько удачно. Улеб и Велко вышли из укрытия, когда он поравнялся с ними, остановили кобылу, взяв её под уздцы.
— Ну здравствуй, Акакий Молчун, — сказал Велко.
Слуга дината вздрогнул, открыл глаза, затем выпучил их, потом распахнул рот, чтобы завопить на всю округу, но Улеб подпрыгнул и легонько стукнул его по лбу, и он без чувств упал на вовремя подставленные руки Велко, как падает счастливая обморочная барышня в объятия кавалера.
Улеб позволил кобыле ковылять дальше, предварительно сняв с её седла верёвку.
Акакий не приходил в себя. Пришлось взвалить его поперёк коня и везти в лагерь. А там уже заждались пропавших с полудня Твёрдую Руку и Меткого Лучника. Запрудили просеку, обступили — не протолкнёшься, загалдели все разом:
— Наконец-то!
— Не знали, что и думать!
— Собрались уж на поиски!
— Кого привезли?
— Ещё одного отбили?
— Живой?
Улеб рассмеялся, поднял ладонь, чтобы угомонились, сказал:
— Встретили старого знакомого, да он что-то не шибко обрадовался. Ну я его и удручил разок, пусть не воротит нос от давних друзей. Живой он, живой, уснул только малость, видно, слишком заморился, охотясь за нами с верёвкой.
В лесной глуши было темно и сыро. Неподалёку от шалаша торчал старый и гнилой пень. В центре утоптанной площадки тлели головешки очага, там устраивались на ночлег ратники. Тихо похрапывали лошади в стороне, перебирая копытами в мелком хрустящем валежнике, настораживались, заслышав пугающие стоны горлиц и утробное уханье сипух.
Улеб принёс из шалаша огарок свечи, зажёг и увидел вдруг, как блеснули глаза пленника.
— Эй, да ты притворяешься! Вот я тебе!
— Сначала нет, сначала не притворялся, — затараторил Акакий. — Где я? Кто вы? У меня ничего нет, так и знайте. Ведь ежели, к примеру, имел бы что-нибудь, сам бы отдал. Я никому ничего худого не сделал.
— Цыть! Будет полоумным прикидываться! — оборвал его Велко. — Узнал меня или нет?
— Как же, как же, не забыл, наипрекраснейший, ты чеканщик. Тебе Марию? Получишь, ей-богу. Сейчас к тебе приведу. Я пошёл. Где тут выход?
— Сядь! Экий быстрый. Значит, она в Адриановом граде?
— Ведь ежели, к примеру, хозяин мой в армии, так и хозяйка при нём.
— В темнице?! — Улеб тряхнул его что есть силы. — Куда её заточили?
— Ой, пусти! Её не обижают, а холят, вот те крест! А ты кто?
— Приглядись-ка, — уже мягче произнёс Улеб. Он настолько обрадовался сообщению о сестрице, что готов был расцеловать болтливого плута. — Приглядись, приглядись, не робей.
— Не помню, да воздастся тебе необъятное благо.
— А золотишко, что когда-то вымогал у меня на стольном дворе Калокира, помнишь?
— Нет. Монеты твои помню, а тебя нет. Смилуйся.
— Про бежавшего с ипподрома бойца Анита Непобедимого слыхал? Про Твёрдую Руку?
— Ещё бы! Чтоб ему…
— Я и есть Твёрдая Рука.
— Чтоб ему бесконечно сиять в вечной славе! Тебе! — не моргнув, воскликнул Акакий.
Велко между тем ломал голову: для чего понадобилось Улебу тратить время на разговоры? Он привык доверять побратиму и не раз убеждался прежде, что тот не любит бросать слов не ветер, а если и ведёт с виду пустую беседу, значит что-то за нею кроется, неспроста она затеяна.
Однако сейчас в перепалке с Акакием не было никакого скрытого смысла, просто Улеб невольно, как говорится, развязал язык на радостях, что нашёл на чужбине сестрицу, что настал долгожданный час, что близок конец мытарствам и горестям её и его. Велко всё-таки догадался об этом и немедленно вмешался:
— Хватит вам, пустомели. Если, Акакий, не скажешь точно, где Мария, пеняй на себя. Отвечай коротко, не то пожалеешь.
Тот мгновенно вскочил, вытянул руки по швам и ответил чётко, как на воинском смотре, громко и достоверно:
— Во дворце Калокира на окраине Адрианополя.
— Точнее!
— В Орлином гнезде, что на самой верхушке круглого холма.
— Где Калокир?
— Хозяин обходит казармы.
— Почему?
— Он советник, глаза и уши повелителя.
— Велика стража дворца?
— Десять оплитов и шестеро слуг, не считая поваров, виночерпиев, массажиста, музыкантов, садовника, нахлебников, прихлёба…
— Стой! Стой! — резко одёрнул его Улеб. — Где горница Улии?
— Какой Улии?
— Тебя спрашивают про Марию, — пояснил Велко.
— Мария наверху. Двери покоев выходят на стык лестниц.
— Кто её сторожит?
— Я… — Вздохнул Акакий и почесал подбородок.
Улеб молвил:
— Вот что, малый, спасибо за сведения. Нам пора к ней. А тебя, не обессудь, привяжем вот к этому дереву той самой верёвкой, которую ты предусмотрительно приберёг. Если в чём обманул, тут и схороним красиво. Если нет, отпустим на все четыре стороны, как вернёмся из города.
— Отпустили бы сразу, а? Здесь сыро и страшно, никто меня тут не любит.
— А за что же любить тебя, ненаглядный, — рассмеялся Улеб, — не за то ли, что вместе с хилиархом кинулся нас ловить?
— Я не хотел, — фальшиво захныкал Акакий, — Калокир приказал. О! Я вам, великодушные, поведаю такое о хозяине — подивитесь!
— Ну?
— Я с ним ездил в Константинополь. Что вы думаете? Он ликовал там, как подобает обласканному? Пел хвалу Иоанну, как все? Ничуть не бывало! — Акакий посмотрел по сторонам, словно опасался, что их подслушивают, и, понизив голос, доверительно продолжал: — Калокир лелеет недоброе. Да, да, поверьте, справедливейшие. В Студийском монастыре настоятелем стал Дроктон, бывший соглядатай Палатия. Только прибыл динат в столицу, сразу к иноку. Этот карлик исчадие ада. Говорят, что он якшается с Дьяволом — с красавицей Феофано. Так вот. Смертный заговор будет, ей-богу! Ведь ежели, к примеру, тайно шепчутся с Дроктоном и с бывшей торговкой Феофано — быть крови. Ох, погубят они василевса Цимисхия…
— Молодец, умница, — похвалил его Улеб и затянул потуже последний узел верёвки, приковавшей Акакия к дереву, — обязательно поделись этой сказкой со своим охранником, чтобы он не уснул. Но негромко рассказывай, не тревожь сон остальных дружинников. Будешь послушным, завтра поутру побежишь к своему Калокиру.
— Мне теперь к нему путь заказан, — сокрушался Акакий. — Уберусь куда глаза глядят.
— Дело твоё. Стой только смирно, покуда не развяжем.
— Давайте я проведу вас в Адрианополь, — льстиво просил Молчун, которому никак не хотелось ночевать в крепких объятиях с дуплистым, шершавым и сучковатым деревом. — Возьмите с собой, обожаемые, не пожалеете. Проведу. Меня там каждая собака знает.
— Будет тебе похваляться знакомствами, — буркнул Велко, унося свечу в шалаш, — помалкивай лучше, Молчун.
Прежде чем покинуть лагерь, Твёрдая Рука и Меткий Лучник коротко посовещались в своём тесном жилище, порешили пробираться в город пешком.
Глава XXVII
Те, что ещё в далёкой древности закладывали первые фундаменты сооружений огромной крепости среди плодородных полей и обширных пастбищ холмистой долины реки и её живописного притока, несомненно и с полным на то основанием уповали на превосходное будущее этих мест.
Неспроста, нарекая сей город жемчужиной благословенного края, обитатели Македонии и Фракии из поколения в поколение вели бесконечную тяжбу меж собой за право называть его своим. Он рос и высился на границе двух фем, становясь всё богаче и краше в чреде уходящих столетий.
Наибольшего расцвета он достиг при победоносном римском императоре Адриане, в честь которого и был наименован Адрианополем. Удачливый и тщеславный этот завоеватель воздвиг здесь искусные оборонительные укрепления, жилые здания, дворцы и храмы и даже, стремясь затмить своего предшественника Траяна, оставившего в память о себе знаменитую Траянову военную дорогу, что тянулась от Новы до Филипполя, начал строить собственную, намереваясь проложить её до самого моря. Добротная прямоезжая дорога считалась куда более ценным творением для государства, нежели все вместе взятые прочие сооружения правителей и их зодчих.
Правда, Адриановой военной дороге так и не суждено было двинуться дальше зачатия, ибо древние римские императоры менялись столь же быстро, сколь и василевсы Византии. Хорошо хоть успели расчистить, выровнять и устлать плитами подступы к городу на несколько стадий к югу.
Горожане похвалялись вечной незыблемостью своей твердыни. И действительно, ни они, ни их предки почти не знали существенных разрушений и поражений. Почти. В народных балладах всё-таки вспоминалось давнишнее нашествие вестготов, что в союзе с восставшими рабами взяли однажды хвалёную крепость, разгромив в пух и прах не менее хвалёную армию Валета.
Нынешний владыка Византии был уверен, что с ним не повторится то, что испытал Валент, давно канувший в Лету. Избрав Адрианополь для размещения лучших, отборных своих легионов, Иоанн Цимисхий вовсе не помышлял про оборону, он сам готовился напасть отсюда на россов и булгар. И уже заранее обещал патриарху Полиевкту, что отдаст церкви немало захваченных славянских земель.
Византийцы готовились к предстоящим битвам тщательно. Днём и ночью доставлялись на межу Македонии и Фракии обозы с оружием и продовольствием, табуны лошадей, верблюдов-дромадеров, тяглового и убойного скота. Катились, оглашая окрестности скрежетом колёс, чудовищные метательные машины. В разбухавшую армию прибывали всё новые и новые ополчения. Гордо шагали бывалые солдаты и уныло брели новобранцы.
Из Эносского залива Эгейского моря поднимались вверх по реке гружёные флотилии. (Заметим, кстати, что в пору средневековья Марица, эта чудесная речка, омывающая подножие города, была несколько шире, но менее глубокая, чем в наши дни. И судоходна была, как и сейчас, лишь до того места, где соединялась с уже упомянутым нами притоком, то есть только до пристани Адрианополя, который, опять же между прочим, ныне известен как Эдирне в современной Турции). Итак, византийцы сгоняли в единый гурт многие тысячи воев. Обречённые на кровопролития, покорно шли они по приказу кучки жестоких власть имущих аристократов.
Адрианополь уже не в состоянии был вместить всех. Солдаты, которым не досталось пристанище внутри крепости, обложили город, как муравьи кусок лакомства. Повсюду полыхали костры привалов, слышались перебранки, бряцало железо, стучали игорные костяшки, сновали в заторах колесниц и привозок продажные жрицы любви и всевозможный сброд, вечно слоняющийся вблизи сидящей армии.
На берегу реки сравнительно спокойно, не так людно, не слишком светло. Роскошные кварталы с безупречными зданиями, каждое из которых могло бы служить образцом изысканного зодчества тех времён, спускались к воде.
Именно со стороны реки проникли в расположение гарнизона Улеб и Велко. В тёмных накидках, предусмотрительно прихваченных в лесном лагере, они незаметно смешались с толпой торговцев и попрошаек. Пробирались на противоположную окраину, к возвышавшемуся над садами и цветниками холму с Орлиным гнездом на макушке.
Конюшни и казармы чередовались с огромными складами кандалов для будущих пленников, с хранилищами древесной смолы, из которой изготавливался фимиам, нефти, селитры, серы и прочих веществ, входивших в состав мидийского огня, который изготовлялся только в Константинополе. Прямо под открытым небом, сидя на корточках, женщины варили в чанах молодые ветки священного кустарника, готовили ароматный целительный меккский бальзам, шили мешки для добычи, палатки, покрывала на случай дождя и попоны для лошадей.
Акакий утверждал, что дворец стерегли десять оплитов. Скрываясь в густой тени сада, Улеб и Велко разглядели только двоих.
Один сидел на траве возле сигнального колокола неподалёку от входа, слегка раскачиваясь, обхватив поставленное торчком копьё. Он не дремал, как могло показаться на первый взгляд, поскольку явственно слышалось его монотонное пение и покашливание.
Другой разгуливал по склону холма, положив копьё на плечи наподобие коромысла и запрокинув за оба его конца руки так, что кисти расслабленно свисали и болтались при ходьбе.
Оба вели себя крайне беспечно, непозволительно для часовых. Подобное поведение можно было объяснить лишь долгим отсутствием не только самого хозяина, но вообще старших по чину. Эту догадку подтверждали абсолютно тёмные окна дворца и слишком обильное внешнее освещение, позволявшее вполне удовлетворительно просматривать всё пространство между Орлиным гнездом и верхними деревьями, за которыми притаились наши герои.
Что касается Улеба и Велко, то они, понятно, нисколько не осудили беспечность стражников.
Велко шепнул:
— Важно их не вспугнуть, а то затрезвонят.
— Давай так. Я подкрадусь к ближнему, а ты уложишь стрелой сидящего, предложил Улеб.
— Лучше предоставь мне обоих. Сначала стрела тому, что у входа, затем этому. Не убежит. Я и ночью не промахнусь.
— не убежит, так поднимет крик между стрелами.
— Хорошо. Придержи своего, когда рухнет, — сказал Велко, — на нём столько железа, что и звонницы не надо.
— Кабы пропустили подобру, и бить не обязательно…
— Не иначе, захворал ты, братец, — проворчал Велко и легонько стукнул Улебу согнутым пальцем по лбу. — Только свистни, они тебе вынесут Улию на руках.
Улеб сбросил накидку, отстегнул меч, снял даже огниво, чтобы не звякнуло предательски, и бесшумно пополз вверх по склону. Велко несколько мгновений следил за ним, потом собрал лук и глянул на дальнего стража, всё ещё тянувшего песню в обнимку с копьём.
Твёрдая Рука поднялся за спиной оплита, как воспрянувшая его тень, тихонько окликнул. Тот обернулся и тут же грохнулся оземь. Увы, Улеб забыл придержать всю эту груду металла, как просил Велко, и громкое падение поверженного подбросило на ноги второго стражника. Стрела Меткого Лучника была уже в полёте, когда он вскакивал, и поэтому лишь чиркнула по его бедру. Воин прыгнул к билу, и короткий тревожный звон огласил тишину. Улеб сокрушил его кулаком прежде, чем раздался повторный сигнал, однако и одного оказалось достаточно, чтобы откуда ни возьмись высыпали ромеи. Их было восемь. Акакий не обманул. Слепо озираясь, толкаясь впопыхах, они не сразу разобрались, в чём дело.
Замешательство оплитов позволило Велко подбежать к площадке перед дворцом. Он бросил Улебу меч, сам же натянул лук, с ходу поразил третьего, подхватил с земли чужое копьё и с силой метнул его в самую гущу оцепеневших врагов. Ай да Велко чеканщик! Даже Улеб оторопел при виде такой ловкости молодого булгарина. Всего несколько мгновений — четверых из десятка как не бывало.
Вот тут-то и очнулись оплиты. Как по команде, оставшиеся шестеро разомкнулись цепью, затем сдвоили ряд. Трое задних выставили копья над плечами передних, которые, в свою очередь, обнажили клинки и двинулись на нежданных противников чётким строем, оценив, вероятно, их по достоинству.
— Ах греки! — вырвался невольный возглас восхищения у Твёрдой Руки. — Это тебе не огузы! Держись, Велко, будет жарко! Худо нам без щитов.
Улеб ринулся им навстречу, единым махом обрубил наконечник крайнего копья, отпрыгнув в сторону, едва увернувшись от ответных ударов, снова сделал головокружительный скачек, рассёк в щепы ещё два древка. Между тем пятый воин упал от стрелы булгарина.
— Оставь и мне! — крикнул Улеб побратиму, распаляясь бойцовским азартом. — Этак я за тобой не поспею!
Обозлясь и ломая строй, ромеи накинулись на них со всех сторон. Велко с мечом только что сражённого стал спиной к спине Улеба, и оба «заплясали», размахивая оружием, в центре круга, разя и отбиваясь, отбиваясь и разя. Привлечённая шумом сражения прислуга дината зажгла огни на обоих этажах пробудившегося дворца.
Когда оплитов осталось лишь двое, самых упорных и отчаянных, росич крикнул булгарину:
— Скорей к двери! Не выпускай челядь! Я уже справлюсь сам!
Велко не заставил себя упрашивать. Захлопнул массивные створы входы, громыхнул задвижкой, обернулся на площадку, недоумевая, отчего прекратился звон мечей, и увидел такую картину: Улеб, тяжело дыша, в упор разглядывал единственного противника, который стоял перед ним обезоруженным, без шлема, со сложенными на затылке ладонями, сдавался, значит, на милость победителей.
— Что с тобой?! — Велко различил черневшую на щеке побратима кровь.
— Задели маленько старый рубец. Что нам с этим-то красавцем сотворить?
— Связать! Торопись!
— Подсоби!
Они собрали с оплита ремни, стянули ему руки и затолкали его в погребок. Крышку придавили колодой. Бросились в Орлиное гнездо.
— Сестрица! — призывно воскликнул Улеб, и гулкое эхо забилось под сводами. — Улия! Кровинушка-а-а!
— Где Мария? — Велко разметал оцепеневших слуг, взбегая по лестнице. — Голубка моя!
Озарённый беспокойным пламенем настенных факелов, Твёрдая Рука замер внизу с поднятым напряжённым лицом, заслонив собой выход. Дрожащая тень от него падала на площадку перед дворцом. За спиной его городская звонница времени отбила полночь.
Вот он, долгожданный час. Вот он каким оказался, этот час, вымученный в тяжких думах, чудившийся в мечтах солнечным, светлым, большим, как день Купалы, искрившийся в грёзах, что пронесены через моря и реки, города и веси, сражения и праздники, годы и расстояния.
В глазах у Улеба всё помутилось, торжествующий крик повис на его устах, едва он увидел бесчувственную сестру на руках счастливого Велко, который сбегал по мраморным ступеням, бережно и нежно прижимая к груди драгоценную свою ношу.
Улеб сразу узнал её милые черты, хотя и была она в чужеземной жёлтой, как золотистая паутина, длиннополой хламиде, уже не такой тонкостанной, как прежде, не с косой-красой, а с распущенными волосами, что колыхались льняным потоком, доставая едва ли не до самого пола и застилая её бледное лицо, ещё хранившее следы недавнего сна.
Быть может, происходящее воспринималось ею как продолжающееся сновидение, кто знает. Онемевшая, изумлённая, цепко обхватив шею Велко, вскинув ресницы и полуоткрыв алый рот, словно сдерживая дыхание, она глядела на Улеба, как на внезапно и ярко вспыхнувший свет, точно не могла поверить, что этот стоявший у подножия лестницы мужественный витязь и есть её младшенький братец, незабвенный, любимый, много раз уже ею оплаканный.
А он подхватил её из рук смеющегося булгарина, закружил, как былинку ветер, сам трепетал сорвавшимся с ветки листом, уговаривал дрожащим голосом:
— Слёзы утри, никогда не прольёшь их отныне, родная, никогда…
— Явь ли это? — шептала и плакала.
Велко крикнул:
— Скорее отсюда!
Калокирова челядь застонала, дескать, что с нею будет, когда воротится хозяин поутру и обнаружит такую пропажу. Но никто не осмелился заступить дорогу беглецам.
Беспрепятственно и поспешно оставили наши герои ненавистное логово Калокира, предварительно заперев хорошенько все большие и малые двери, чтобы ни один из его обитателей не выскользнул наружу и не поднял тревогу в городе.
— Улия, возможно ли освободить остальных наших? Где они, бедолажные? — спрашивал Улеб.
— Давно по миру рассеяны. И Улии больше нет, есть Мария…
В крытом каменном загоне для скаковых лошадей и рабочих буйволов отобрали и оседлали трёх жеребцов и, ведя их на поводу, спустились к саду по песчаной тропинке.
— Куда? Зачем? — ошеломлённо шептала она, но они не слышали её.
До чего всё-таки непостижим и забавен человеческий нрав! И в такую-то минуту Улеб с Велко умудрились затеять свару из-за того, что каждый настаивал, чтобы Улия укуталась именно в его накидку.
— Сама поскачешь или сядешь за спину кому-то из нас?
— Куда? Зачем? — всё шептала, как в забытьи.
— Ох, голубка, мы и в крепости Калокира побывали, да уже не застали тебя. Сколько воды утекло с тех пор! Где только не были. — Велко просто не мог оторвать от неё восхищенного взора, заикался от волнения и от избытка чувств, лихорадочно поглаживая гриву коня.
— А я с Кифой, жёнкой своей, хаживал за тобой к печенегам. Ты же вот где, сестрица. Будет услада Родогощу! — взахлёб вторил Улеб.
— Говорите, говорите, ангелы, век бы слушала вас… — шептала она, словно молитву. — И не снится мне… Как узнали, где я?
— То после, после, — сказал Велко.
— Верно. — Улеб нетерпеливо и осторожно подталкивал её к коню. — Тебя вызволить их дворца — полдела. Впереди ещё битком набитый Адрианов град.
За околицей, сколько хватал глаз, сплошным роем огней протянулись становища византийской армии. Да и улицы переполнены войском. Клокотал, кипел Адрианополь, не город, а судорожный и многоликий сомнамбул. Надо торопиться.
— Не медли, сестрица! Что же ты!
Скользя ладонями по запылённой грубой одежде на груди и руках Улеба, обратив лицо к Велко, она медленно опустилась на колени и, задыхаясь от слёз, заговорила, точно в мольбе и отчаянии. Оба воина отказывались верить ушам своим, не могли постичь чудовищный смысл её слов. А голос её, поначалу чуть слышный, становился всё твёрже и твёрже.
— Окрещена и повенчана, я жду дитя. Не оставлю мужа моего, не преступлю клятвы, не оскверню святого креста. Идите с богом, вечно буду молиться за вас.
— Улия! — закричал потрясённый Улеб.
— Мария! — Велко судорожно пытался поднять её с земли.
Сказала она:
— Волею господа нашего Иисуса Христа, я остаюсь. Я жду дитя…
Глава XXVIII
Лёгкий дырявый туман уползал медленно и лениво, нехотя очищал земную впадину с широким и плоским дном. Тихо было внизу, где змеился скудный ручей. Царило безмолвие на обращённых друг к другу склонах двух холмов, на которых застыли в готовности два пришедших на битву воинства.
— Совсем развиднелось, — сказал Святослав. Нетерпеливым жестом призвал паробка, повелел: — Скачи к грекам с толмачом, передайте, что хочу сойтись с главным воеводой их цесаря на поединок перед великой бранью.
В брызгах росы понеслись посыльные через низину, скинув оружие и подняв правые ладони с растопыренными пальцами, и от первого стука конских копыт, разорвавших гнетущую тишину, всколыхнулись, зашевелились, ожили обе внутренние щёки противостоящих холмов, прокатился гул по рядам воинов, тех и этих.
Ещё накануне уведомили Святослава, что Цимисхий внезапно отбыл на Босфор и прихватил с собой верноподданных Склира и Петра подавлять очередное восстание в Азии. В европейской же армии василевс оставил магистра Куркуаса, полководца прославленного.
В самом центре блистательной армии Византии возвышался шатёр, над которым реял гигантский прапор с латинской надписью: «Спаси, господи, люди твоя». Окоченевшие под панцирями от долгого пребывания на свежем воздухе «Люди господа» чертыхались украдкой и поглядывали на священный шатёр, откуда должен был вскоре показаться наместник Божественного, чтобы благословить их на битву.
Куркуас вышел из шатра. Солдаты восторженно заколотили оружием по щитам, попы осеняли их крестами. Ещё раз оглядел полководец ложбину, кивком головы поощрил мензураторов за удачно подобранное место для сражения.
Тут по цепочке и донесли Куркуасу о вызове росского князя. Насупился Куркуас и спросил у свиты:
— Кто из вас готов обнажить меч против первого варвара?
— О, славный! — вскричали в ответ. — В поединках нет искуснее патрикия Калокира!
— Пусть спускается к ручью.
Посыльные Святослава помчались обратно, сообщили ему:
— Княжич, их вождь не хочет с тобой мериться, отрядил просто воеводу.
— Куркуас не из робких, знаю. Стало быть, пренебрёг. Коли так, и от нас сойдёт кто проще.
Князь не успел решить, кого послать, как у его коня, отстранив прочих, оказались Улеб и Велко.
— Позволь мне! — требовал один.
— Нет, мне! — настаивал второй.
— Я не против, — сказал Святослав, — только нужно ли так горячиться?
Тот ромей у ручья лютый ворог мне! — вне себя кричал Улеб. — Я давно ищу с ним встречи! Дозволь, княжич, сделай милость!
— Мне он принёс не меньше лиха! — кипятился Велко. — Обращаюсь к твоей справедливости, господарь!
Но Улеб воскликнул:
— Не ты ли, князь, обещал ещё в Киеве, что исполнишь любое моё желание! Я сдержался тогда, а теперь прошу!
Святослав объявил войску:
— Отдаю своё седло и меч отважному уличу из Радогоща! Признаю его право!
Воля князя — закон. Велко сам заботливо поправил кольчугу на побратиме, сам пристегнул к его поясу новые ножны да помог подогнать ремни-петли щита по его руке, ибо мускулы Улеба были покруче княжеских.
Между тем польщённый динат уже гарцевал в котловине.
Улеб был уже рядом с Калокиром, молвил, обращаясь к нему:
— Приглядись-ка ко мне.
— Заклевали б всех вас вороны!..
— То успеется. Поначалу давай померяемся, вон ведь сколько народу замаялось, ожидаючи поединка. А чтобы придать тебе прыти, скажу: это я и чеканщик из Расы как-то ночью наведались в гнездовище на горе Адрианова града, чтобы отнять у тебя нашу Улию.
— Вы?! Это были вы? Боже милостивый, ты послал мне утешение сегодня!
И, к всеобщему недоумению, Калокир поскакал к своему обозу, чтобы тут же вернуться, саркастически хохоча и размахивая ветхим от времени скомканным женским платьем со славянскими узорами. Он кричал, ворочая головой во все стороны и тыча в Улеба пальцем:
— Знайте все! Это раб! Беглый раб! Червь ничтожный! Он скрывает клеймо на плечах под броней воина! Вот одеяние, подобающее его мечу! — Динат швырнул платье в Улеба. На холме Куркуаса загоготали. На холме Святослава застонали от неслыханного оскорбления. Калокир шипел: — Надень его, надень, антихрист. Берегла его Мария, да выбросила.
— Довольно. — Улеб хоть и потемнел лицом, но не уронил достоинства, молвил сдержанно: — Мы не в кругу арены, а на пороге великой сечи.
— Изрублю на куски! — исступлённо грозился динат. — На мельчайшие крохи! Чтобы вороны исклевали!
Голос Меткого Лучника покрыл общий шум:
— Что медлишь, брат мой! Начинай!
— Это можно, — сказал Твёрдая Рука и ударил коня каблуками.
Заражённые враждой седоков, сшиблись кони с громким ржанием, прижав уши, оскалив зубы, наровя укусить, разорвать, растоптать. Разметались украшенные лентами гривы и пышные хвосты. Обученные и резвые, они мгновенно подчинялись малейшим требованиям уздечек, то припадали, то взвивались на дыбы, быстро-быстро перебирая в воздухе передними копытами, то вмиг отскакивали в сторону.
Пеший бой был бы более приемлемым для Улеба. Никогда и никто не сбивал его с ног ни в поединках, ни в общей схватке. Велко чеканщик, бывало с гордостью похвалялся на ратных привалах: «Мой побратим, други, человек, как вы, Обычный во всём, кроме одного. Он в огне горит, в воде тонет, и голод его одолеет, и жажда. Зато не родился ещё на свете такой, чтобы изловчился свалить его с ног рукою!»
Калокиру в седле вольготней, он привычен к нему ещё с давних набегов на булгарские и армянские веси. Закусив губу, динат поигрывал острой сталью с завидной сноровкой, редко прибегал к щиту.
Улеб не сразу приспособился к оружию княжича. По этой причине Калокир сперва потеснил его. Но затем начал уступать всё заметнее и заметнее. Уже не так стремительны были движения дината, уже прятался он за щит и конь его пятился.
Вскоре выронил меч Калокир, сын стратига Херсона, палатийский пресвевт и советник Власти. Петрин сын с ходу ахнул щитом о щит, и динат полетел с вороного в ручей. Улеб спешился, поднял меч поверженного, за шиворот выволок его на сушу, протянул ему оружие снова.
— Продолжим!
Оглушённый и пристыженный Калокир отряхивался, отплёвывался и лепетал:
— Не могу. Ненавижу тебя, но прошу: пощади. Вспомни, я не отрезал тебе язык, а целёхоньким передал Непобедимому. Я сестру твою выкупил у нещадного Кури. Я лелеял и холил её. И Лиса я убил, и Блуда. Что тебе в моей гибели? После такого стыда жизнь моя хуже смерти.
На обоих холмах разворачивались войска. Ветер рвал и трепал стяги. Принимала свой строй византийская армия. Выравнивались славянские полки.
— Будь ты проклят, — сказал Улеб и поднял меч Калокира, сжал его на концах боевыми перчатками, что есть силы взмахнул и сломал о колено как щепку. — Будь ты проклят, мучитель невинных, убирайся! — Он презрительно отвернулся от Калокира, подошёл к своему коню и взялся за луку.
Протрубили сигнальные трубы. Час настал. Одни сотворили молитву Христу и завершили её целованием креста, другие помянули Перуна и поклялись мечом.
И сказал магистр Куркуас, обращаясь к армии с вершины своего холма:
— Нынешний день для вас, христиане, будет истоком многих благ! Вооружите души прежде, чем вооружите тела! Победа предрешена всевышним! Покажите ничтожной толпе варваров вашу бессмертную отвагу! Пусть свидетелем вашей незыблемой доблести будут павшие враги! Возьмите добычу священным оружием! Идите в бой, не забывая о достоинстве вашего звания. Будьте в бою похожи на спартанцев! Пусть каждый из вас уподобится Кинегиру! Взгляните на себя — это войско без малейшего изъяна, в этом честь и слава василевса Божественного! Вперёд! Во имя Предвечного и с десницей его!
И сказал князь Святослав Игоревич, обращаясь к дружине с вершины своего холма:
— Погибнет слава, спутница оружия россов, без труда побеждавшего целые страны, если мы нунь постыдно уступим ромеям. Итак, с храбростью предков и сознанием, что росская сила была до сего времени неодолимой, сразимся мужественно за жизнь нашу, за жизнь братьев. У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славой. Я же пред вами пойду. Если голова моя ляжет, то промыслите собой.
Зазвучали византийские флейты из ослиных костей, загремели медные тарелки кимвалов. Наши дунули в кленовые дудки и ударили бубны. С обеих сторон налетели лёгкие конные стрельцы, обменялись тучами стрел, откатились назад, уступая пространство тяжёлым копьям.
Святослав повёл свой клин, Полк на левом крыле возглавлял воевода Асмуд, а на правом Свенельд. Там двигались булгары и росичи. Гриди в сёдлах, сверкая мечами и алея щитами, составляли основу всей конницы, что сомкнулась единой лавой в самом центре общего построения.
Выждал Куркуас, пока противники спустятся пониже, и послал сверху свою армаду. Шли фалангами, плотно, уверенно. Лёгкие воины раскачивали в каждой руке по дротику. Пращники на ходу закладывали камни в ремни пращей. Над головами пехоты пролетали ядра фрондибол. Хрипели покрытые металлом кони катафрактов. Тяжёлую кавалерию замыкали дромадеры — быстроходные верблюды, на которых восседали лучники в панцирях. И снова шагали пешие: оплиты, меченосцы, стрелки, оруженосцы, санитары… Нет им конца.
Стена рубила стену. Люди, ослеплённые кровью, брызгавшей им в лицо, разили друг друга, кололи ноздри лошадей, и те опрокидывались, давя своих седоков. Стоны к ликование витали рядом. С треском ломалось оружие, в клочья рвалась матерчатая и кольчужная ткань одежды, вылетали клёпки у шлемов, и они раскалывались по клиньям.
Стал красным и полноводным ручей под тысячами ног и копыт, месивших его. Стал жарким, удушливым воздух истерзанной впадины меж взрыхлившимися холмами. Обида и боль захлестнули людскую землю, измученную жестоким, жестоким, жестоким средневековьем…
Что есть война? Взаимное убийство многих. Убийство — это смерть. Она ужасна. И не сыскать среди всего живого Хот что-нибудь чудовищней её. Страшна смерть и одна. А тысяча смертей страшнее в тыщу раз. Есть смерть постыдная. Её находят люди, Чьи помыслы и меч Покрыты скверной алчности, бесчестья, И нету гордости, одна гордыня. То смерть мошенников, Обманутых своими же лгунами. Всем им — проклятье и забвенье! Есть смерть бессмертных. Тех, павших на открытом поле, Кто отдал жизнь во имя чести Рода. За волю братьев и за справедливость. Такая смерть дороже жизни без прозренья. Таких людей оставшиеся жить Не выбросят из сердца поколений. Им — слава вечная! Что есть война? Великий ратный бой. И если с верой-правдой И с пониманием долга, Мужчина Родины, ты вдруг ступил в него, Смерть не страшна тебе. Нет, не страшна!Эпилог
После нескольких битв дружины Святослава с войсками василевса Цимисхия, в которых успех сопутствовал то одной, то другой стороне, оба владыки с готовностью пошли на установление мира, возобновив тем самым торговые отношения между Русью и Византией.
По пути в Киев Святослав с малой дружиной попал в засаду печенегов и погиб. Куря получил свою вожделенную чашу для питья из черепа, прославленного вождя россов.
Улеб пригласил Велко к себе на родину. Они ещё не знали о гибели великого киевского князя, поскольку отправились другой дорогой.
Уходящее лето услаждало взор путников мягким разноцветьем красок на лесистых горных отрогах. Потянулись с далёкого севера караваны ранних птичьих перелётов. Чуя близкую осень, смелее шуршал в буйных зарослях прыскучий зверь. Пахло созревшими плодами, а предчувствие скорых дождей заявляло о себе всё настойчивей и настойчивей.
С каждой очередной верстой, приближавшей к родине, возрастало волнение молодого улича. Велко тоже чуточку приумолк, нет-нет да и замыслится: «Каково будет в новых краях?»
— Заждалась, поди, Кифушка, жёнка моя… — невольно обронил Улеб, но, тут же взглянув на друга, осёкся.
— Ах, Мария, Мария… — Велко тяжко вздохнул.
— Что Улия, целые народы склоняют ромеи своим богом…
Чистое небо покоилось на бурых вершинах. Склоны гор бороздили молочно-пенистые речушки, по петляющим их стремнинам проносились узкие сосновые плоты. В голубых ущельях курился пар. Пахло хвоей, и лежали обильные росы, превращавшие траву в серебро.
Зачарованный непуганной первозданностью природы, Велко спросил:
— Далеко ещё до Рось-страны?
— Нет, теперь близко.
— А какая она? Столь же прекрасна, как эти горы?
— Много лучше, — сказал Улеб. — Немало я узнал диковинных стран, да не встретил желаннее нашей. Потому что родина.
— Хорошо тебе, Улеб, не одну-две страны повидал, а множество, будет что вспомнить. Что же, вовсе меч забросишь? А коли нападут недруги, как тогда?
— Родину всегда заслоним, не дрогнем.
Скачут день, скачут второй, торопятся.
Горы канули за спину. Запестрели луга. В кленовых перелесках соловьиные трели под перестук дятлов. Разомлели в медовой истоме свежие засеки. Поля точно гребешками расчёсаны, в бороздах суетятся жаворонки и воробьи, подбирают житные зёрнышки.
Нет-нет да и покажется где-нибудь побоку сизый дымок жилья. Только с дороги столбовой сворачивать недосуг. Надо мчаться вперёд и вперёд. Ветер дышит в лицо. Вьётся пыль из-под дробных копыт. Отдаётся в висках, трепещет, колотится сердце, предчувствуя близость отечества.
Вот однажды за старым курганом, опоясанным лохматым кустарником, развернулась нива. Мужичок за лошадкой бредёт, давит плуг. Босой пахарь, рубаха темна от солёного пота, чуб всклокочен. Бредёт и кряхтит мужичок-то, нелегко рыхлить кормилицу.
Осадили всадники взмыленных коней. Улеб поводья передал Велко, сам зашагал поспрошать, чья земля. Подошёл сзади, хлопнул рукой по мокрому плечу крестьянина. А тот и не слышал чужих шагов. Кряхтит ведь, и всё такое. Работой занят.
Вздрогнул мужичок от неожиданности, обернулся, глядь — рядом самый что ни на есть натуральный немец: длинные волосы ремешком перехвачены, одежонка из кожи заморского зверя крокодила, на бедре меч до пят, кривой рубец через всю щёку и бровь. Икнул мужичок от растерянности да на всякий случай ка-а-ак ахнет чужака пятерней. Рыцарь и отлетел шагов на пять, грохнулся на меже вверх ногами.
— Мы дома! — с трудом очнувшись, радостно закричал Улеб Твёрдая Рука. — Мы на Руси!
1970 — 1973
1976 — 1977
Владимир Иванович Буртовой Щит земли русской
Дивно ли, если муж пал на войне?
Умирали так лучшие из предков наших.
Поучение Владимира МономахаУ края земли русской
Уж я город-то Киев да во полон возьму,
Уж я божьи-ти церкви да всё под дым спущу,
Уж я русских богатырей повышиблю,
Да и князя Владимира в полон возьму.
Былина «Алёша и Тугарин в Киеве»Неожиданно, с криком, жёсткими крыльями разметав в стороны густые метёлки серебристого ковыля, из-под ног коня взлетел курганник и поднялся в знойное июльское небо. Высоко-высоко, под одиноким, словно застывшим на месте облаком, он закружил в потоке сухого воздуха, разглядывая сверху далёкую землю и людей в блестящих доспехах. Там, на могильном кургане, он только что уступил этим людям недоклёванное, в кровавых перьях горячее тело молодой куропатки.
А вдавленный в землю грузом прожитых веков могильный курган глухо стонал под копытами богатырского коня. Грузно переступая, поднялся серый широкогрудый конь на заросшую вершину кургана и устало тряхнул длинной гривой, роняя белую пену с железных удил.
Всадник привстал в стременах, поднёс к глазам широкую ладонь и повёл взглядом по дикой степи от края и до края. Степь холмилась впереди, широкие и бесшумные волны разнотравья текли по сторонам. Назад обернулся — и за спиной конной русской заставы, насколько хватало глаз, опять же степь, степь. А там, у южного края земли, широкой серебристой рекой марево размывало небосклон. И где-то далеко, за этим маревом, извечный враг Руси — печенежская орда.
Иоанн Торник, василик[46] византийского императора, осторожно подвёл легконогую соловую кобылу к правому стремени всадника и остановился чуть ниже Славича, сотенного русской заставы.
— Дале еду я один, о славный витязь. — Иоанн наклонился в сторону Славича всей своей высокой и худой фигурой в просторном дорожном халате серого цвета.
Славич повернул к Иоанну широкое бородатое лицо. Ни один мускул на нём не дрогнул, когда стал прощаться с византийцем.
— Повеление воеводы Радка я исполнил: проводил тебя за кон[47] земли Русской. — Славич говорил тихо, басом, играя пальцами на рукояти меча. — Долгом же своим почитаю сказать тебе, посол византийский, чтоб остерегался в пути: совсем рядом ходят печенеги. Днями шли гости[48] из южных земель, видели печенежские вежи[49] в четырёх днях хода от реки Рось. Могут повстречаться разбойные скопища.
Иоанн, делая вид, что ему нечего бояться, отмахнулся длиннопалой рукой:
— Печенегам нечем у меня поживиться, разве что малоценной пушной кладью, взятой в Киеве. В убыток нынешним летом торговля была. Кланяйся, витязь, князю Владимиру от меня за хлеб и кров в Киеве, жалею, что не видел князя, другому василику пришлось грамоты оставить. Дела важные позвали в Константинополь. Как улажу их, будущим летом снова поднимусь Днепром с богатыми дарами князю и княгине Анне.
Иоанн ткнул кобылу острым кулаком в потную шею и спустился с кургана на южную сторону.
Вспомнил Иоанн ране не предвиденные и потому спешные сборы в дорогу, и кольнуло под сердцем: столько товаров пришлось отдать киевлянам за полцены! Теребили бороды торговые мужи Киева, глядя, как покатили с Горы Кия груженные до верха возы императорского посла Торника. И гадали меж собой, что же стряслось в Константинополе, если так спешно отъехал, не вручив самолично грамоты князю Киевскому? Прошлым летом не отъехал даже тогда, когда получил весть о смерти старого отца. А ныне… Порешили единодушно, что зреют вновь смутные дела в столице Византии и хитрый василик надеется словить более крупную рыбу в мутной воде дворцовых интриг.
Откуда было им знать, что спешит посол не в Константинополь, а в земли печенежского кагана Тимаря…
Четыре раза выбирали место под ночлег у тихих степных речушек, в зарослях ивняка, и снова в путь, под нещадным солнцем по ковыльному морю, навстречу неизвестности. Иоанн ехал, предаваясь мыслям о том, как всё будет хорошо в его жизни, если замысел брата Харитона свершится. А за исход своего дела он не сомневался: печенежские нравы и отношения князей он изучил за многие годы до тонкости, знает, где и на чём выгоду получить.
— Господин, — раздался рядом хриплый, жаждой перехваченный голос. С Иоанном поравнялся на рыжем коне Алфен, взятый на лето присматривать за товарами. Боязливым оказался на чужой земле этот Алфен, с заячьей душой. А на руку не чист, это успел заметить Иоанн. Но молчал, делал вид, что не замечает воровства — ждал, когда Алфен попадётся на крупной краже. Тогда уж ему от клейма раба не уйти! Торник своего не упустит.
Иоанн скосил глаза влево: жирное и потное лицо Алфена — само страдание. Рыжие всклокоченные волосы прядями прилипли к гладкому лбу и впалым вискам, широкий нос и тугие щёки в испарине.
— Смотри вперёд, господин! — Алфен вскинул дрожащую руку на юго-запад. — Вон там, под солнцем, пыль!
И тут же из-за высокого увала посыпались конные печенеги. Посыпались густо, как сыплется пшено из дырявой торбы. Печенеги увидели караван, малую охрану при нём и полукругом потекли вниз по склону. Горячая степь задымилась позади всадников сизой пеленой. Иоанн услышал, как за спиной тревожно загалдела посольская стража у возов с подарками императора, вот-вот пустят коней вспять. Он тут же повернулся в седле и прокричал своим:
— Стойте спокойно!
Впереди печенегов, размахивая саблей, летел молодой всадник на белом коне. Длинные чёрные усы — будто крылья стрижа — вразлёт. Парчовый халат поверх тонкой кольчуги выдавал знатное происхождение. Иоанн тут же узнал его, по-детски радостно — судьбе угодно было покровительствовать ему! — вскинул над головой длинные руки и закричал:
— О храбрый князь Анбал! Привет тебе, сказочный витязь степи! Привет тебе, великий внук великого кагана Кури!
Тот, кого он так искренне приветствовал, сдержал коня, осторожно приблизился, опустив занесённую для удара саблю. Потом по его широкоскулому лицу разлилась улыбка, узкие глаза вспыхнули радостным блеском.
— Привет и тебе, греческий посол, — ответил Анбал. Он сделал знак рукой всадникам остановить бег коней, резко и, как показалось Иоанну, с досадой бросил саблю в красивые ножны: сорвалась добыча! Но посол был постоянным гостем кагана. И его, Анбала, одаривал щедро каждый раз, имея какие-то виды на будущее.
— Что за нужда в такую жару пылить одежду по нашим степям? Мы ждали тебя после лета.
— Добрые вести привёз я великому кагану, — торжественно, как и подобает послу могущественного императора, заговорил Иоанн. Теперь он будет жить, если конь донёс его до места так счастливо. Высокий и морщинистый лоб Иоанна разгладился, тревога из сердца ушла, и жёлтые лисьи глаза улыбались Анбалу, его резвым всадникам и всей печенежской степи. И не зря. Ведь повстречай он незнакомого князя или диких разбойников — скатиться бы посольской голове с плеч в ковыль, под конские копыта. И писанные императором грамоты не спасли бы. В лучшем случае, взяли бы в плен да продали бы в рабство.
— Здоров ли каган Тимарь? Все ли здоровы в его светлой и большой семье?
— Э-э-э, — Анбал сплюнул и небрежно махнул рукой, что означало: чем скорее умрёт старый Тимарь, тем ближе подступит к заветной цели он, Анбал. Разве не ему, внуку Кури, по праву принадлежит место на красной подушке в шатре каганов? Когда князь киевский Владимир убил Курю, мстя за отца своего, Святослава, он, Анбал, был ещё слишком мал, чтобы бороться, но теперь…
— Что за вести привёз ты, Иоанн? — снова и уже настойчиво спросил печенежский князь.
— Вести мои, славный витязь, таковы, что можно взять безмерную добычу и без великого труда, — ответил Иоанн. О-о, как заблестели чёрные глаза молодого хищника! И как нетерпеливы стали движения его сильных рук!
— Наверно, ты знаешь о чужом торговом караване, который идёт к каменным завалам на Днепре? — Анбал быстро скользнул языком по сухим губам. — Если хватит для набега моих нукеров, то добычу разделим по чести, — тут же предложил печенежский князь.
— Нет, славный витязь. Я хочу подарить вашему кагану не караван с товарами. Я хочу подарить кагану… всю Русь!
Анбал подпрыгнул в седле так, что белый конь присел на задние ноги и зло повёл глазами на всадника.
— Как? — вскрикнул князь, не опасаясь вызвать неудовольствие византийского василика своим недоверием. — Ты хочешь подарить Русь этому хромоногому Тарантулу и его зажиревшему брату — кагану, которым давно пора вспороть… — он вдруг замолк, словно на полном скаку задохнулся встречным ветром, оглянулся: нукеры ехали в полусотне шагов, занятые своими разговорами, а Иоанн отметил про себя: «Хоть и храбришься ты, князёк, а всё же кагана побаиваешься. Молодо ещё вино, кисло, со временем перебродит…»
Незаметно за разговорами поднялись на вершину увала. Внизу, в просторной долине на берегу реки, расположились печенежские вежи. В центре, на невысоком возвышении речного берега близ группы степных вётел красовался величественный, белого шёлка шатёр кагана Тимаря и стража видна вокруг. Набирал охрану родной брат кагана, хромоногий князь Уржа. Это о нём с опаской говорили печенежские князья, подвластные кагану, что не Тимарь правит ими, а беспощадный и длиннорукий калека — старик Тарантул.
Прозрачный сизо-синий дым, мешаясь с серой пылью, сплошным пологом накрывал долину, застилая очертания гористого на востоке среза земли: туда тянул над долиной слабый ветер. Иоанну никогда раньше не приходилось видеть такой силы степняков, собранной воедино. И мелькнула тревожная мысль: а не проведал ли уже Тимарь о том, что он только собирается сказать ему? Не уйдёт ли из рук верная и не малая прибыль, которую можно без лишних хлопот положить в свою кису[50]? Но ведь никто раньше его из Киева в степь ещё не выезжал, другие гости ещё держат торг на киевской Горе[51]. Иоанн успокаивал себя и смотрел на долину, на печенежское войско. Приметил, как у самой близкой и бедной кибитки — передний край её был изрядно потрёпан — пожилая седая женщина, присев на корточки, доила рыжую флегматичную кобылу.
— Не счесть мне, сколь велико войско кагана! — вырвалось невольно у Иоанна Торника.
— Хорошему стаду нужен резвоногий пастух, иначе волки и барсы растащат скот по суходолам, — откликнулся князь Анбал, а потом, пытливо заглянув в зелёно-жёлтые глаза Торника, сказал: — Хотел бы и я знать, о чём будет речь в Белом Шатре и на какое время назначит каган поход на Русь. Собрать бы родственников своих по такому поводу воедино. Вдруг да удобный случай представится… — Анбал не уточнил, о каком случае помышляет, но Иоанн и без того понял молодого князя.
— Обо всём поведаю тебе, славный витязь, не сомневайся в моей дружбе, — не задумываясь, пообещал Иоанн. Он щедро одарил Анбала шкурами куницы и горностая, спустился в долину, к Белому Шатру и чёрной страже возле него. Едва успел спрыгнуть с коня, размять затёкшие ноги и сделать по вытоптанной траве два-три шага, как из-за сумрачных нукеров с копьями, припадая на левую ногу, вышел низкорослый и сгорбленный старик. Седые усы его свисали до подбородка, смешиваясь с редкой и тоже седой бородой. Широкие скулы выдавались в стороны, словно старик постоянно втягивал в себя воздух сквозь стиснутые зубы. Конец кривого меча в ножнах волочился по траве.
Иоанн поймал на себе немигающий взгляд старика и, вдруг ощутив вялость в ногах, вторично в этот день испугался за свою жизнь. Подумал: «Что-то случилось в печенежском стане, если Тарантул так встречает, словно врага заведомого».
Не в силах стряхнуть с себя оцепенение от тяжёлого взгляда Уржи, Иоанн всё же переборол набежавшую к горлу мерзкую тошноту, склонил голову как можно почтительнее и приветливо сказал:
— Не узнаешь меня, о славный страж великого кагана Тимаря?
— Я узнал тебя, византиец. — Уржа сунул скрюченные годами и хворями пальцы за пояс тёмного шёлкового халата. — Узнал я и того, кто отъехал от тебя с подарками. О чём вели речь всю эту долгую дорогу до шатра кагана?
Иоанн содрогнулся от холодного голоса Уржи — старик не назвал посла даже по имени! — и торопливо заговорил, стараясь упредить новый, быть может, роковой для себя вопрос:
— О недремлющий страж божественного кагана! Я одарил молодого князя несколькими шкурами за то, что он указал мне кратчайший путь по степи к Белому Шатру. Подарок, который я привёз пресветлому кагану, не имеет себе цены и во много раз дороже подарков могущественного императора Византии. Проси, о светлый князь, дозволения встать перед повелителем степи, вручить грамоту и молвить слово приветствия.
Уржа внимательным взглядом окинул высокие возы, запылённую стражу около них, сделав Иоанну знак следовать за собой, без слов повернулся и захромал к шатру. Иоанн торопливо отстегнул от пояса меч и протянул его бледному Алфену. Перекрестился.
— Войди, византийский посол, — снова проскрипел горлом Уржа и сузил до предела злые, холодные глаза. — Великий каган примет тебя и щедрые дары твоего императора, — и сам вошёл в шатёр послушать, о чём будет говорить византиец.
Высокому Иоанну пришлось чуть ли не вдвое согнуться: всякий входящий уже на пороге склонял голову перед хозяином Белого Шатра. Не разгибаясь, Иоанн опустился на ковёр нежной и тёплой шерсти.
— О великий каган, — сказал он, — важное дело вынудило меня, не дождавшись встречи с князем Владимиром, оставить Киев и поспешить на встречу с тобой.
Тимарь сидел на высокой круглой подушке из красного бархата. Широкое расплывшееся лицо, длинные с проседью усы, короткая, вся в складках, шея. Одет каган в кафтан зелёного цвета и чёрные шёлковые шаровары, которые не могли скрыть полноту коротких ног. Тимарь сделал нетерпеливый жест рукой, подзывая Иоанна ближе. Рядом восседал будущий властелин Дикой Степи — сын Тимаря Араслан, шестнадцатилетний княжич. Араслан узнал византийского василика, сдержанно улыбнулся ему и посторонился, уступая место возле отца.
— Где же гуляет мой ворог, этот князь Киевский? — спросил Тимарь. — Садись сюда, рядом. Но говори тихо, и у этого шатра есть чужие уши. Как здоровье нашего большого друга императора Василия? И что нового на Руси?
Иоанн заговорил не торопясь, выигрывая время, чтобы успокоиться после неласковой встречи с Тарантулом и собраться с мыслями.
— Божественный император в полном здравии, — ответил Иоанн. — Он шлёт тебе, владыка степей, немалые дары.
— Я потом посмотрю те дары. Есть ли мне грамота, им писанная? Что просил передать на словах император Василий?
Что просил сказать кагану византийский император? Иоанн Торник, даже среди ночи поднятый с постели, мог бы слово в слово повторить разговор с императором, который состоялся накануне его отъезда из Константинополя на Русь.
Иоанн, временно отстранённый от поручений василика, собрался ехать с товарами в Киев. На прощальный ужин пригласил родных и друзей, зазвал их под своды старого, но крепкого ещё дома — наследственного гнезда Торников. Дом этот, постоянно обдуваемый то холодными ветрами с Русского моря, то жаркими — со Средиземного, стоял на крутом берегу Золотого Рога, на виду множества купеческих кораблей, прибывающих в «вечный город» для торгов. Достался дом Иоанну после нелепой и случайной смерти отца. Его убили в тёмном переулке возле монастыря Мамонта, где останавливались обычно киевские купцы — отец наводил у них справки о сыне Иоанне.
Убийцу, беглого одноухого раба-египтянина, умирающего голодной смертью в огромном чужом городе, слуги старого Торника всё же изловили. Младший брат Иоанна Харитон держит теперь его у себя, в тёмном подвале, и время от времени до полусмерти травит голодными псами. Вылечит лекарь раба, оживёт несчастный — Харитон снова напускает на него собак. Уже минула зима в таких муках для убийцы, но он, полусъеденный, всё ещё жив был на день отъезда Иоанна.
— Ты есть хотел и убил моего отца, — говорил египтянину Харитон. — Псы тоже есть хотят…
В разгар ужина совсем неожиданно в зал, в сопровождении услужливого Алфена, вошёл императорский этериот[52] с наказом срочно явиться в Большой дворец.
— Зачем? — удивился Иоанн и поставил на стол недопитую чашу вина. — Зачем и кому я понадобился так поздно?
Когда же угрюмый этериот пояснил, что зовёт бывшего василика сам император, язык отнялся от радости. Вспомнил! Вновь вспомнил о нём божественный василевс[53]! Прежде он, василик и тайный доглядчик Иоанн, не единожды оказывал разные услуги императору, но был на время полузабыт. Наступили новые времена. Русь приняла христианство, и не было выгоды для Византии, как в былые годы, ссориться с ней. Всё чаще и чаще обращался теперь Константинополь к северному соседу за военной помощью. И вот — снова нужда в нём, многоопытном василике Иоанне.
— Поспешим, брат, — поднялся первым из-за стола Харитон. — Я провожу тебя и дождусь у ворот дворца. Ночь темна и потому опасна.
Иоанн распорядился оседлать коня и в сопровождении слуги Алфена и вооружённого Харитона — императорского друнгария[54] — выехал тотчас же, вслед за молчаливым рыжеволосым этериотом, пожилым наёмником из варягов.
Улицы, укрытые тенью от каменных дворцов и церквей, в этот поздний час были мертвы, без пешеходов, с редкими тусклыми огнями в окнах да с настороженными бродячими собаками у стен. И только кресты над куполами xpaмa Святой Софии чётко просматривались в свете полной луны, вставшей там, за Босфором, на восточном небосклоне над далёким, холодным ещё по весне Русским морем.
Проехали торговое место между форумом Константина и площадью Тавра, потом по мощёной главной улице Константинополя — Месе, и вот — за высокими, холодными с зимы стенами — дворец императоров.
Недалеко от входных ворот Алфен остался стеречь коней под стройными и неподвижными, будто выточенными из чёрного мрамора кипарисами. Этериот провёл Иоанна гулким коридором с тусклыми огоньками светильников у потолка и, миновав Золотую палату, ввёл в палату Юстиниана, где только что семья императора принимала поздний ужин. Этериот так же молча развернулся и вышел.
Бледный, с лицом будто из мятого жёлтого пергамента, император Василий тяжёлым взглядом пригвоздил своего забытого василика к мягкому ковру. Не поднимая головы, Иоанн подполз к позолоченной туфле василевса, припал к ней в раболепном поклоне, вдыхая аромат благовоний, которыми была пропитана одежда императора.
— Слушай меня, мой верный василик, — размеренным суровым голосом заговорил император. — Узнал я, что собрался ты в земли русов торговать, позвал тебя и велю исполнить важное дело. Говорю тебе, Иоанн: Византия стоит перед трудной войной с арабами. А против арабов нужна большая сила! И её должны дать мне Русь и печенеги.
Император Василий легонько коснулся концом туфли плеча Иоанна Торника, и тот осмелился поднять голову, взглянуть снизу вверх на своего владыку.
— Поезжай на Русь, а после Руси непременно заедешь в печенежские степи. Обещай кагану Тимарю и печенежским князьям много золота за воинов. И ещё передай кагану, что за мир с Русью буду щедро платить я. Помни, Иоанн: если печенеги вновь пойдут на Киев, как и прошлым летом, — князь Владимир не даст мне ни одного меча! В посольство с тобой посылаю отважного василика Парфёна. Муж умом крепок, не один раз исполнял мои дела в Болгарии и в Армении, но на Руси ещё не бывал. За доброго помощника будет тебе в делах. Поутру получишь у проэдра[55] грамоты к князю Владимиру и печенежскому кагану. Василевс, горбясь под тёмным бархатным плащом, отошёл в сторону, взял с кроваво-красного мраморного стола тяжёлый кожаный мешочек, кинул его к коленям Торника. Глухо звякнуло золото в просторной палате, и звук этот отдался приятной истомой в сердце Иоанна.
— Это, василик, на случай убытков в побочных торговых делах, чтобы твоя голова не отвлекалась от моего поручения. Тебе не один раз удавалось прежде натравить печенегов на Киев, ещё во времена Кури и Святослава. Теперь же сумей примирить врагов во имя спасения Византии. Князю Владимиру скажи, что я прошу забыть старые обиды, которые случились между нами после битвы под Авидосом. За воинов готов я уплатить дань вперёд, до прибытия их в Византию, а не как прежде, по окончании службы императору. В середине лета жду тебя с добрыми вестями. И с сильным войском от князя Владимира и от печенегов.
Иоанн поклялся сделать, как повелел божественный василевс. Если бы знал владыка Византийской империи, в какие ненадёжные руки вложил он судьбу своего замысла!
Ликующий, окрылённый нежданным подарком в кожаном мешочке и вниманием императора, взобрался Иоанн в прохладное седло и выехал на тёмную улицу, где его нетерпеливо поджидал брат Харитон.
— Отпусти слугу, Иоанн, и едем ко мне. Дело неотложное есть.
Харитон провёл его в глубокий подвал под домом, усадил среди дубовых бочек с дорогими винами, зашептал, склоняясь к уху:
— Брат мой, доверюсь тебе, как себе самому, а ты послужи нам в великом деле и не будешь без прибыли и славы.
— Слушаю тебя, — отозвался Иоанн, с интересом глядя на Харитона.
Из-за стены донёсся тягучий стон. Иоанн насторожился, с беспокойством повернул туда голову.
— Это египтянин. Вчера вновь травил его собаками.
— Казнил бы ты его разом. Грех ведь человека так мучить, — сказал Иоанн, но Харитон резко возразил:
— Нет, брат! Убийца всю жизнь будет умирать! Но не о том хочу вести речь. Слушай, брат. Конная этерия стонет под жестокой рукой императора, казна скудеет день ото дня из-за бесконечных и бесплодных войн в Болгарии и на Востоке, недовольство в легионах становится всеобщим. И есть уже люди, которые готовы дать присягу другому императору, не жадному.
Иоанн съёжился, ладонями загородился от этих жутких, холодных, будто осколки льда, слов.
— Что ты! Что ты, брат?! Заговор? Помилуй бог знать даже об этом, не то чтобы…
— Да-да, — настаивал Харитон и приблизил сухие губы к самому лицу Иоанна. — Откроюсь ещё больше: есть сильные люди и у трона. Они не против помочь «божественному» подняться к Богу.
Пламя факела качнулось в глазах Иоанна, и он мокрыми холодными ладонями опёрся о скамью, чтобы не упасть.
— Несчастный брат мой… Мыслимо ли такое? И что можем сделать мы, и я тоже, слабый человечишко, против всесильного? — Иоанн простонал, сожалея, что послушался Харитона и заехал в его дом.
— Многое, брат мой, многое и важное. Нет, мы не вложим в твою руку кинжал, — по лицу Харитона скользнула недобрая усмешка, — на это ты не годишься. Но ты только что говорил о поручении императора. Он хочет просить помощи у Руси и печенегов. Так ведь?
— Да, повелел… — язык с трудом двигался во рту, а ухо чутко ловило стоны за перегородкой, — а вдруг это вездесущие доглядчики императора приникли к двери погреба, ловят каждое его слово?
— Русь не однажды спасала византийских императоров своим оружием. С её помощью недавно был разбит близ Авидоса мятежный Варда Фока. Теперь вот и Василий просит воинов у князя Киевского, чужими полками хочет укрепить свой трон. Что делать тебе? Ты должен натравить печенегов на Русь! Тогда князь Владимир будет думать о своей земле, а не о помощи этому ненавистному полумонаху-полуимператору Василию! После его… м-м… удаления я буду назначен куропалатом[56] с исполнением должности начальника дворцовой стражи. Тебе обещают должность логофета[57]. Вся казна империи будет под твоим оком! Согласен? Думай, брат. Да поскорее думай.
Иоанн, обессиленный внутренней борьбой, наконец молча кивнул в знак согласия на такое, косвенное, как ему хотелось думать, участие в заговоре…
Василики императора с подарками и стражей прибыли на Русь, но князя Владимира в Киеве не застали. За неделю до их приезда он выступил в Новгород с дружиной. Пока Алфен распродавал привезённые с собой товары и закупал меха, Иоанн побывал в гостях и щедро одарил княгиню Анну. Долго беседовал с византийцами, которые были в услужении княгини, от них выведал, велика ли дружина в Киеве после ухода князя. Когда собрал нужные сведения, оставил младшего василика Парфёна дожидаться князя Владимира, а сам, чтобы не терять времени, поспешил на переговоры с печенежским каганом Тимарем, повёз к нему грамоту императора Василия.
Вспомнил теперь о наказе василевса Иоанн и потуже запахнул халат на груди — почудилось, будто прохладным ветром, как тогда ночью над Константинополем, со стороны Русского моря потянуло под пологом Белого Шатра.
Иоанн придвинулся по ковру ближе к кагану, зашептал:
— Великий каган, император Византии в своей грамоте просит о помощи в войне с арабами.
Тимарь вскинул брови, поймал языком правый ус, задумчиво посмотрел на сына Араслана. Тот внимательно слушал византийского посла, словно ему, а не кагану предстояло принимать решение. Тимарь негромко сказал:
— До тех арабов идти через земли яссов и косогов. И через горы Кавказа… Добрая половина войска не дойдёт, в сечах поляжет. С кем же мне тогда против арабов воевать? Иное дело на Болгарию идти, туда дорога нашим войскам хорошо знакома.
— Идти через косогов и яссов — себя губить, — обронил глухим голосом Уржа.
Иоанн поспешил согласиться:
— О том и я знаю. Но посмел бы я возразить всесильному императору? Великий каган волен поступать так, как ему выгодно. А золото можно найти не за горами, гораздо ближе.
Араслан не усидел, опередил кагана и выкрикнул:
— Где же?
Тимарь улыбнулся, ласково погладил сына по черноволосой голове.
— Великий каган, такой удобный случай отомстить князю Владимиру за старые обиды вряд ли ещё когда явится. Русь теперь лежит как потерянный кошель при дороге, кто первым наклонится, тому и владеть золотом. Три недели назад князь Владимир выступил на север собирать воинов для похода на сынов степи. Киев же остался с малой дружиной.
Тимарь легко вскочил на ноги и бесшумно, барсом, заходил по ковру. «Так, Русь — как кошель при дороге», — повторил слова византийца. Много золота теперь нужно ему, кагану. Нужно для подарков князьям, нукерам. Каждый день брат Уржа говорит ему со слов доглядчиков, что князь Анбал созывает к себе в шатёр на пиры молодых князей, что речь там заводится о походах и добыче. И едва ли не прямо говорят, что старый Тимарь стал бояться вражеских стрел. Он прав, этот молодой барс: походы дают силу и славу. И золото, без которого не усидеть долго в Белом Шатре. Сомнение берёт — для набега ли на Русь собрал Анбал в долину всех своих родичей? Может, умыслил недоброе против него, кагана? Может, сговаривается с другими князьями? И что теперь сделать, чтобы остаться у власти и впредь? Надо думать без спешки.
— О премудрый каган, — наговаривал между тем Иоанн и даже привстал на коленях. — Не медли. Росские заставы числом малы, сгибнут скоро. Ты возьмёшь окрестные города и — на Киев! Русь велика, всюду надо успеть до зимы, пока князь Владимир не вернулся с северными ратями. — Иоанн чуть помедлил, будто натягивая тетиву тугого лука, и добавил: — Если сам не можешь выступить, пусти с войском кого-нибудь из подданных князей.
Тимарь вздрогнул, остановился около сына. Араслан вскинул голову, потом поднялся на ноги.
— Пошли меня, отец, на бородатых медведей!
Каган улыбнулся, одобряя горячность наследника, но другие мысли теснились в голове. С неприязнью покосился на византийца. «И этот про набег князей мне толкует. Будто сговорился с Анбалом, пока ехал по степи. А может, и сговорился? Император просит войска на арабов, а посол твердит о набеге на Русь! Хитрый византиец, тебе-то что за выгода в моём походе на Русь? О своей выгоде радеешь? О своей выгоде будем думать и мы… Не до забот Византии мне теперь. Что князь Владимир ушёл на север, я узнал бы и без тебя, от других торговых людей. Немало их на юг через наши степи путь держат. Не твоё известие толкает меня на Русь, а необходимость опередить Анбала. Можно ведь однажды и не проснуться от меча своего же телохранителя: и такое было среди князей печенежских. Но и на поход нелегко решиться, имея врага в собственном стане… Но если так, — остановил Тимарь себя, — то почему бы не пустить Анбала впереди? Анбалу будет первая добыча — и первая стрела бородатого русича. Русичи не попадут — люди Уржи не промахнутся. Никогда ещё старый орёл не уступал без драки место охоты молодому — таков закон степей! У меня свой наследник подрастает, ему поле охоты нужно», — подумал Тимарь. Потеплело в груди, когда глянул на Араслана: сын порывался что-то сказать, но ждал слова старших.
Тимарь вытолкнул языком мокрый ус изо рта. — Брат мой, — проговорил негромко Тимарь Урже, — призови князей-родичей, будем совет держать. — И к Иоанну: — А ты иди, отдыхай с дороги, византийский посол. Если порешим о походе на Русь и поход будет удачным, тогда и пошлю часть войска в Византию, но не через косогов, а через Болгарию. С ними и возвратишься. Пока же хочу иметь тебя при себе, как доброго и надёжного советника.
Иоанн откланялся и вышел из шатра, почти уверенный, что его замысел осуществится, свою долю в заговор против императора Василия он внёс успешно.
Высоко в небе прокатился глухой раскат далёкой надвигающейся грозы. Иоанн посмотрел на юг: чёрная и лохматая по бокам туча, гоня впереди себя клубы пыли, стремительно ползла на степь со стороны Боспорского моря[58]. Быть жестокому урагану над укрытой ковылью сухой степью!
Битва над Росью
Они съехались с раздольица чиста поля…
Приударили во палицы булатные.
Они друг друга-то били не жалухою.
Былина «Королевичи из Крякова»Всю ночь над Заросьем бушевала тёплая летняя гроза, пугая пернатых жителей леса нежданным блеском молнии и оглушительными раскатами грома. Растрёпанные ветром водяные шквалы выхлестали непролазные дебри и широкую пойму реки Рось, а здесь, у брода, рухнула с кручи вершиной в воду прожившая свой век одинокая осина: некому было прикрыть её старое тело от губительного и безжалостного ветра.
В лесу, пока не поднялся от земли туман, — береглись от зоркого глаза печенежских лазутчиков — русские дружинники сушили одежду у жарких, но бездымных костров и беззлобно поругивали убежавшую на север, насухо выжатую ветром тучу.
Больше полумесяца минуло с того дня, как Славич проводил византийского василика за кон земли Русской. Уходили за это время из Киева и другие купеческие караваны, и Славич провожал их в степи или до города Родни, где они садились в лодьи и плыли вниз по Днепру. И все эти дни тревога не покидала сотенного. Вот и теперь стоял он на коне у брода вместе с сотенным Туром и десятником Ярым — верными товарищами былых походов. Ждали вестей от дозорных: близко, совсем близко к краю русских владений подошли печенеги. Потому и отправил Славич в ночь Микулу с пятью дружинниками за Рось, навстречу степнякам. Микула обещал вернуться с первыми лучами солнца.
Всадники молчали, чутко слушали тишину раннего утра. Вот уже сквозь густую пелену тумана показался над правым берегом Роси сонный, будто бы невыспавшийся диск солнца. Но при первом же дуновении ветра со степи солнце как-то сразу вырвалось из объятий тумана и всплыло над зыбким горизонтом, а потом, лаская землю, протянуло к ней ещё не согретые с ночи длинные и невесомые руки. Лениво начал просыпаться над рекой тяжёлый и сырой туман, нехотя ворочаясь с боку на бок в розовом зареве рассвета, а рядом весело просыпался лес, оглашая воздух разноголосым пением. Вставал над Русью день.
— Слышу — едут. — Славич повернулся лицом к реке, приложил к уху широкую ладонь. — Близко уже, скоро появятся.
Русские конники выплыли из тумана следом за отдалёнными и глухими ударами копыт о влажную землю. Они выросли на степном берегу словно из воздуха и осторожно начали спускаться по крутому уклону к воде. Плеснулась сонная река, потом приняла в себя конские тела и покрыла их до седел тёплой, неостывающей и ночью водой.
Микула подъехал, смахнул капли росы и водяных брызг с длинных — едва не по грудь — усов и остановил тёмного от воды карего коня против Славича. Тихо сказал:
— Беда, Славич: степь идёт на Русь. Идёт всей силой, с кибитками и табунами. Это не прошлогодний набег под Василев.
— Так, — отозвался Славич. Русая, с сединой, борода легла на мокрую от тумана кольчугу, прилипла волнистыми прядями к чёрным кольцам железной рубахи. Славич думал. А думать было о чём: за спиной — Русь. И не могучая, какой привыкли видеть её враги, а не готовая к войне. Нет в Киеве князя Владимира — ушёл в Новгород.
— Видели вас печенеги? — спросил Славич, желая знать, много ли времени у него приготовиться к встрече.
— Не должно бы. Мы шли от них в трёх-четырёх перелётах стрелы, за туманом, их же ловили на конский топ. Печенегов было гораздо в передовом полку, они заглушали наш бег. Теперь они, поди, вёрстах в пяти от Роси, — пояснил Микула.
Славич спешно распорядился:
— Ярый, возьми воев, проверь засеки вдоль междулесья, сигнальные костры зажги. Засеки будем валить на печенегов, когда пойдут всей силой. А ты, Микула, со своими воями забей корягами брод. Да погуще валите, чтоб и коню не вдруг ступить — не то что кибитке проехать. Пусть степняки поплещутся в реке, охолонут маленько. Ты, Тур, встань со своей сотней справа от брода, вон в том орешнике. Ударишь по находникам, как только выйдут на берег. А повернутся к лесу спиной — тут и я в сечу пойду. Коли осилим передовой полк — будем уходить на Белгород. Без нас воевода Радко крепости не удержит, сил у него и вовсе мало.
Чуть погодя над туманным Заросьем высоко в небо поднялись столбы тёмного и густого дыма, клонясь верхами к северу. Далеко от края земли Русской до Белгорода, вёрст восемьдесят. Но долго ли степным коням покрыть это расстояние? Только сила задержит стремительный скок коня, вырвавшегося на простор проторённой дороги. А где её взять — эту силу?
Славич укрыл вторую часть заставы в густых зарослях бузины и ракитника и сам встал здесь. От леса под уклон шло займище — сотни четыре шагов, не боле. Слева — непролазные и крутобокие овраги. А справа густой орешник укрыл дружинников Тура. Между Славичем и Туром узкое междулесье вело от брода в поле — прямая дорога на Киев. По ней-то и ринутся находники, если перейдут Рось.
— Идут! Идут! — донеслись до Славича возбуждённые молодые голоса. Он посмотрел мимо зарослей на пойму, потом за реку, скользнул взглядом по крутому берегу вверх от воды и увидел, как сквозь поредевший и подернутый синевой туман на правом берегу реки возникли расплывчатые и оттого казавшиеся огромными фигуры всадников.
— Микула, — тихо, не оборачиваясь, обронил Славич, — скажи старым воям, пусть в сече берегут небывальцев.
Много их, небывальцев, у Славича в заставе, почти каждый пятый дружинник. А первый бой хмельным мёдом кружит голову. Не заметит юный русич, как печенег либо копьём собьёт, либо сбоку мечом подсечёт!
— Бродом уже идут, — услышал Славич приглушённый волнением голос Ярого: от реки неслись резкие гортанные крики, ржание коней и плеск воды. — Пожаловали! Не много у князя мёду осталось, да настоян он крепко. Попотчуем досыта незваных гостей!
Славич слушал Ярого и считал выбиравшихся из реки печенегов. Две сотни насчитал, но много ещё осталось в реке, прикрытой растрёпанным туманом.
— Печенегов больше нас числом, но за нами сила первого удара! — Славич сказал это громко. Знал, что ближние услышат и передадут дальним. Потом Славич вынул из ножен меч, к Ярому повернулся: у старого дружинника, спутника князя Святослава ещё по византийским походам, чётко обозначились на лице неровные шрамы — под левым глазом, на скуле.
— Побьют меня — доведёшь заставу под руку воеводы Радка, — сказал Славич. — Только зря воев по дороге не теряй.
— Так и сделаю, Славич. — Ярый знал, что в заставе он второй по ратному опыту после сотенного, потому и добавил просто, не рисуясь: — Береги себя, Славич, ты нужнее.
Но Славич больше не успел сказать ни слова: справа от реки раздался короткий, как выдох умирающего, стон. Это разом выпустили стрелы дружинники сотенного Тура.
Печенежский каган Тимарь послал передовой полк разведать брод через Рось. И полк прошёл брод. Тимарь повелел узнать — далеко ли застава русичей? Полк встретил её, приняв ранним утром в свои тела сотни белохвостых стрел. Упали на мокрую траву первые печенеги, предсмертные крики огласили займище.
Степные всадники увидели русичей у брода. Под тусклыми из-за тумана лучами солнца сверкнули обнажённые кривые мечи, склонились для удара длинные копья. Передовой полк печенегов стал разворачиваться на Тура.
Славич привстал в седле, вскинул вверх правую руку. Сверкнуло над шеломом широкое лезвие меча, а потом плавно склонилось в сторону врага. Повинуясь знаку сотенного, большая половина заставы двинулась из леса. Над головами дрогнули влажные ветки деревьев, на прохладное железо шеломов, на тёмные кольчуги посыпались тяжёлые капли росы. Ещё взмах меча — и метнулись стрелы в гущу печенежских тел.
Займище захлестнули многоголосые крики испуга, отчаяния и боли. С людскими криками смешалось ржание подбитых коней, и вот уже робкие пятятся к броду, помышляя о своём лишь спасении. А Славич обернулся к заставе и, не таясь, зычно позвал за собой на сечу:
— Ну, русичи! — кинул меч в ножны и ринулся по склону берега к реке, нацелив заставу в неприкрытую спину печенежского полка. Тяжёлое копьё слегка раскачивалось в полусогнутой руке, расписанный красными узорами щит прикрывал лицо от случайной стрелы. Встречный ветер трепал русые, с сединой, волосы и рассекал бороду надвое — к плечам. Черноусый молодой печенег не смог закрыться щитом, легко пропустил сквозь тело копьё, повис над седлом. Его конь присел на задние ноги и, захрипев, попятился.
Дружинники заставы Славича бились зло, крепко бились; знали: числом не возьмут, надобно умением и отвагой. Велика цена этой сече!
Поглощённый схваткой, Славич нет-нет да и поглядывал по сторонам. Коли на тебе застава, умей не только сам колоть да рубить — дружинников своих не упускай из виду. Горько ведь потом казниться, когда того да другого недосчитаешься.
Вот справа и уже не так далеко качается над людскими головами высокий Тур — ни дать ни взять Перун-громовержец!
Славич невольно усмехнулся. Сколько тому, поди… Да, девять зим минуло, как крестил князь Владимир дружину и народ русский. Приняли русичи новую веру и Бога нового, карающего и всепрощающего, а вот поди ты — старое отзывается. Да ведь и то: как ни чиста, по словам людей книжных, новая вера, а старая — своя. Привычная. Спокон веков от отца к сыну передавалась…
Рядом со Славичем со стоном повалился из седла дружинник — печенежская стрела прошла шею навылет, змеиным жалом высунулась с правой стороны.
— О боги! — выкрикнул Славич, вскинул щит, отбил тёмное хвостатое копьё и сам ударил, вложив в этот удар всю силу плеча. Привстал в стременах осмотреться.
— Зарвался, небывалец! — словно очнувшись, не удержался от упрёка Славич, когда увидел, как далеко вперёд вырвался Янко, сын кузнеца Михайлы из Белгорода. Он уже едва успевал отражать удары, сыпавшиеся с двух сторон: степняки обходили его, отрезая от своих. Товарищ Янка Згар схватился с дюжим всадником, и ему нелегко приходится, больше на щит надеется, закрываясь от опытного мечника. Отстал, увязнув в сече, и Микула — его теснили сразу трое.
Славич поспешил на выручку к Янку, которому хуже других.
«Один. Ещё один», — непроизвольно считал он степняков, которых доставало его страшное копьё, и досадливо крякал, ощущая сквозь кольчугу хлёсткие удары кривых мечей. Кольчуга хрустела, но пока держала. У виска что-то взвизгнуло. Понял — стрела рядом просвистела. Ага, вот это кто! Впереди спешившийся печенег — коня, что ль, свалили у него? — дёргаясь, накладывал новую стрелу на лук. Но не успел натянуть тетиву — копьё Славича вошло в смуглую короткую шею. Скорей, скорей! — Славич рвался к Янку. Прикрыть небывальца, собой заслонить. Не дай, Перун, Михайло лишиться сына — надежды своей и опоры в старости!..
— Слушай меня, Янко! — срывая голос, стараясь быть услышанным, кричал Славич. — Назад! Отходи назад. Янко-о!
Он чувствовал, что не успевает. Рядом падали с коней свои и печенежские всадники, падали часто, и казалось, не будет конца этому ненасытному разгулу смерти.
И тут Славич увидел, как впереди Янка, над печенегами, взлетела тяжёлая, в острых шипах, кованная из железа палица Тура. Хрустнула под ней, как большой орех, голова самого настырного из нападавших. Другой, оставив Янка, повернул коня встречь Туру, прикрылся щитом — щит под могучим ударом разлетелся в куски. Печенег успел откинуться назад — и третий удар палицы пришёлся по шее коня. Он дико заржал от боли, взметнулся на дыбы и опрокинулся, подминая всадника.
Янко опустил ставший непомерно тяжёлым меч. Безвольно расслабив плечи, он неподвижно застыл в седле, только грудь часто-часто поднималась под кольчугой. Славич прикрыл Янка собой и вновь кинулся на печенегов.
Сеча кончилась так же внезапно, как и началась. Копыта русских коней коснулись реки.
— Слава вам, русичи! — прокричал неподалёку Ярый. — Слава вам, храбрые! Побит враг и кинут в реку!
Остатки печенежского полка, спасаясь, метнулись к броду. Но по дну реки густо набросаны коряги. Когда шли на русский берег — не торопились, выбирая, куда ступить, теперь же всякий норовил уйти первым. Началась свалка под русскими стрелами. Лишь немногие сумели выбраться на свой берег и ускакать.
Ещё не остыв от сечи, победители торопливо шарили в прибитой траве, собирали бесценные стрелы. Мечи и копья, не растоптанные конями, щиты побитых врагов Славич тоже велел собрать — сгодятся в Белгороде. Молодые дружинники ловили по займищу перепуганных степных скакунов.
У самого леса, куда не достаёт весенняя вода, в скорбном молчании старые дружинники мечами рыли могилу для павших. Здесь же и раненые, присев на траву, поспешно прикладывали к побитым местам толчёные листья кровавника, чтобы остановить кровь. Славич поторапливал их:
— Езжайте без остановки. За первыми печенегами идут остальные, их нам не сдержать. — Он поискал глазами Янка, кликнул к себе.
Янко подъехал — молодой, синеглазый, с широкими, вразлёт, как и у Михайлы, русыми бровями. Несколько глубоких зарубок на щите и шеломе остались ему на память о первой в жизни сече да ещё какая-то неюношеская усталость в глазах. А может, это отпечаток недавно пережитого дыхания смерти?
— Скачи в Белгород, сынок. Передай воеводе, что видел. И скажи: печенег идёт великой силой, пусть готовится, а от себя пусть гонца в Киев непременно снарядит с вестью, что не лёгкий набег будет со степи. Я же остаюсь сдерживать находников, сколько смогу, — не силой, так хитростью. Ступай! — и широкой ладонью стёр со лба горячий пот.
На берегу Ирпень-реки
В год 991 Владимир заложил город Белгород,
и набрал для него людей из иных городов,
и свёл в него много людей, ибо любил город тот.
Повесть временных летТринадцатилетний Вольга, брат Янка и сын белгородского кузнеца Михайлы, высокий и нескладный, разбежался и с крутого обрыва ринулся вниз головой.
— Догоня-яа-ай! — едва успел прокричать он, как тёплая и спокойная вода Ирпень-реки с шумом сомкнулась над его ногами, вздыбилась, потом снова упала и широкими кругами пошла по речной глади. Вольга вынырнул и тут же зажмурил глаза от бледно-розового луча солнца, который мелькнул над кручей. Отфыркнулся и торопливо убрал с высокого лба выгоревшие волосы, а заодно смахнул ладонью с рыжих бровей и ресниц речную воду. Золотистая россыпь веснушек щедро украшала широкое переносье и щёки Вольги.
Бесконечная синь послегрозового неба и чистый, с запахами мокрой травы и цветов утренний воздух кружил голову. Вольга вспенил возле себя воду руками, а потом хлопнул ладонями по светло-зелёному пузырчатому гребню.
— Эге-ге-ей! — закричал он что было силы и вскинул вверх загорелые длинные руки, приветствуя младших товарищей, Бояна и Бразда. Они всё ещё раздевались под понурой узколистой ивой, которая в задумчивости стояла над обрывом. Тонкий Боян в ответ помахал рукой, а толстый и неповоротливый Бразд запутался в широких ноговицах[59] и прыгал вокруг ивы на одной ноге, рукой придерживаясь за шершавый ствол дерева.
На высоченной круче правого берега Ирпень-реки красовался новыми, рубленными из толстых брёвен стенами их родной город — крепость Белгород. Почти у самого обрыва, а высотой обрыв шагов в сто, хорошо видна башня над Ирпеньскими воротами. От этой башни с узкими бойницами для лучников под прямым углом поверх крутобокого вала в разные стороны уходили две высокие стены с остро затёсанными верхами брёвен. Одна стена шла вдоль речной кручи, вторая на юг. Других углов крепости не было видно из-за крутого берега, нависшего над рекой. За Ирпень-рекой ровным зелёным рядном раскинулся заливной луг, на две-три версты, не менее. За лугом, в сторону севера и северо-запада, земля поднималась лесистым увалом и, холмясь, уходила далеко за горизонт. И только на юг от крепости стелились ухоженные земли с хлебными нивами, с чернопашьем да выпасами, поросшими пахучим многотравьем.
Вольга сморщил широкий нос и рассмеялся, увидев, как толстый и большеголовый Бразд, боязливо спустившись к воде, осторожно коснулся её пяткой.
— Ох, страх какой! — Бразд съёжился, начал торопливо растирать гусиные пупырышки, покрывшие руки и ноги, приговаривая при этом, смешно выпятив губы — Ох-ох! Хлад какой несусветный.
Над головой у Бразда острокрылым стрижом — только руки вперёд, а не в стороны — скользнул по воздуху с обрыва ловкий Боян. Прохладные брызги густо окатили съёжившегося Бразда.
— Ух ты, леший! — Бразд взвизгнул, захохотал и присел в воду по плечи, оттолкнулся от берега и быстро поплыл на середину реки, к Вольге. Словно селезень неповоротливый на суше, Бразд был ловок и увёртлив в воде.
Купались недолго. Утро было свежим, а солнце ещё не согрело воздух и не высушило росу на траве. Вылезли на берег и присели на мягкий душистый клевер. Боян тут же взял в губы свирель из тонкого камыша, долго прислушивался к птичьему переклику в густых зарослях ивняка над рекой, а потом повторил, как мог.
— Отец мой Сайга по осени обещал из нового камыша другую свирель сделать, большую. А как вырасту, то уйду в Киев, буду при князе Владимире гудошником. На богатырских пирах песни о старине играть стану. — Боян заботливо осмотрел свирель и снова поднёс её к губам, но заиграть не успел. Послышались тяжёлые шаркающие шаги. Кусты зелёной бузины раздвинулись, и ребята увидели седовласого, сгорбленного старика с длинной бородой и с посохом в руке.
— Дедко Воик! — Вольга мигом вскочил и помог деду перешагнуть через давно упавшее и уже трухлявое дерево. Вместе прошли на полянку к серебристой иве.
Дед Воик устало прислонился к шершавому, в глубоких трещинах стволу. Справа от себя он поставил плетённую из гибких прутьев корзину, полную серо-белых пучков кровавника, пахучего твёрдолистого чабреца, нежно-зелёной мяты. Подолом длинной белой рубахи вытер сначала продолговатое лицо, прямой нос, морщинистую загорелую шею.
— Устал я, пока бродил окрестными местами. А в лес далеко идти и вовсе боюсь. Не упасть бы где ненароком. Как гнилая колода лежать буду, пока лесные твари не съедят.
Вольга улыбнулся. Знал он, что дед Воик неспешным шагом за день может обойти вокруг крепости не один раз, выискивая нужную лечебную траву. Просто решил посидеть с ними возле прохладной реки, вот и делает вид, что силы оставили старое тело совсем.
— Что притих, птицеголосый? — спросил дед у Бояна. — Или старого лешака испугался?
Боян смутился и, кашлянув в кулак, посмотрел на Вольгу. Тот понял друга, сказал деду Воику:
— Ты обещал нам, старейшина, рассказать о городе нашем. И о далёких предках. Расскажи теперь.
— О предках? И о городе? Рассказать об этом надо, потому как жизнь моя идёт к вечернему закату. — Дед Воик неспешно погладил правой рукой жиденькую бороду, задумался на время, а потом, глядя в тихую глубину спокойной реки, повёл речь о своей далёкой молодости и о том, чего он сам не видел, но знал по рассказам предков. Замерли листья старой ивы, тихо катилась под невысоким здесь обрывом Ирпень, будто и ветер и река слушали повесть деда Воика о старине да о славных делах предков.
— Давно то было. Так давно, что и дед мой Вукол не помнил, когда оно случилось. Род наш, уходя от жестоких чужеземцев, оставил свою землю. Много дней шли родичи по горам, шли лесами, через поля и вдоль рек на восход солнца, каждое утро принося требу[60] огненноликому Сварогу, упрашивая Бога дать им спасение и новую обильную землю. Пробовали жить в горах и охотились на вепря[61], жили в предгории — охотились на могучих туров[62]. Лето жаркое сменялось голодной зимой, а люди нашего рода всё шли и шли. Оставляли старейшин позади себя в могильных курганах, а новорождённых младенцев омывали водами чужих рек.
Когда род наш вышел на берега Днепра, к горам Вукол уже сидел на коне вместе со старшими братьями. Места пустынные здесь были, обильные, рыбные, а в лесу зверя всякого — не счесть! Расселились просторно, с соседними народами породнились. И понимали друг друга хорошо. Долго жили так в мире и безбоязненно, растили детей и взращивали нивы, меняли зерно на железо у торговых мужей, которые приходили по Днепру. Да нахлынули со степи нежданно жестокие хазары. Пришли не торг вести с нами, а дань брать!
Началась война, в долгих сечах сгибли многие наши предки, но живые отбились от находников и ушли в дремучие леса Приирпенья. Дед мой Вукол собрал их воедино, привёл на эту кручу, устроил небольшой город. Не здесь, где теперь Белгород, а по ту сторону Перунова оврага. Прикрылись рвом глубоким да кручами реки и оврага. Там и просили Перуна и Сварога, Даждьбога и Белёса о помощи супротив ворога…
Дед Воик замолчал, должно, ещё что-то вспомнил, да раздумывал, говорить ли о том детям. Плеснулась голодная щука в камышах у противоположного низкого берега, ветер снова зашевелил ветви ивняка и понёс собранные запахи степной полыни дальше на север.
— С той поры, — вновь заговорил старейшина Воик, — много времени минуло. Состарился и не ходил я более ратником в походы на византийцев и в степи вместе с княжескими дружинами, старейшиной рода стал. Да род наш совсем распался, разошлись люди по земле, теперь семьями живут, без старейшин. А князь Владимир отстроил новый город, крепкими стенами обставил, а более того укрепил дружиной. И воеводу дал славного — Радка. Его заставы вот уже седьмое лето берегут нас, как мы в своё время берегли Русь. То и вам предстоит, как пробьются у вас усы и закурчавятся бороды. Много ворогов у нас, жадных к добыче, кружат они над Русью да часа удобного ждут.
— Отец мой Славич ныне в дозоре, — надулся от важности Бразд.
— Верно. Славич в дозоре, и мы спим спокойно, — согласился дед Воик. — Добрый муж, таких мало теперь на Руси, бескорыстных.
Дед тяжело вздохнул, прикрыл глаза веками: солнце верхним краем поднялось над крепостными стенами, и лучи его пробивались на поляну сквозь верхушки ближних деревьев. Старейшина с трудом поднялся. Вольга помог ему, подал посох.
— Сварог уже росу полизал, парко скоро будет, — вспомнил дед Воик старого бога. — Пойду-ка я ко двору, — опираясь на звонкий, руками отполированный посох, он побрёл вдоль берега реки: высокий, сухонький, весь белый.
— Дедко Воик! — прокричал вдогонку Вольга. — Мы в лес пойдём, за излучину. Ягоды-земляники наберу тебе к ужину.
— Добро, Вольга, иди, я ждать буду, — откликнулся дед Воик и пропал за густыми кустами.
Боян опрокинулся на яркую зелень клевера, закинул руки под голову. Глаза его мечтательно следили за плавными движениями курганника над разбуженной солнцем степью. Курганник кружил между тремя белыми, почти круглыми облаками, то приближаясь к городу, то удаляясь на юг, к тревожащей русичей Дикой Степи.
— Были бы у меня крылья, — мечтал Боян, — поднялся бы я высоко-высоко в небо, как тот курганник! И Киев бы увидел. Там, сказывал мне отец Сайга, много красивых теремов и церквей новых с золотыми крестами. А в золотой палате сидит князь Владимир, и корзно[63] на нём голубого бархата…
— Ест пряники медовые да ждёт, чтобы ты сыграл ему жалобную песню отлетающего журавля, — договорил Вольга и дёрнул Бояна за русые кудри. Боян ткнул Вольгу кулаком в спину, оскалился и на четвереньках полез на друга. Ему стал помогать толстяк Бразд. Вдвоём навалились на старшего товарища и с визгом покатились по клеверу.
— Пощадите, изверги! — прокричал Вольга сквозь смех и оханье. Он не выдерживал тяжести Бразда, который уселся на поверженного верхом и стал изображать из себя лихого всадника. — Ох, слезь, кадь с тестом! Все кишки мне перемял!
Вольга вырвался из цепких рук друзей и, высоко вскидывая длинные ноги, дурашливым жеребёнком помчался через поляну, вдоль берега, но не в сторону города, а от него, к излучине реки. Боян и Бразд, хохоча, погнались за ним. Плотное зелёное одеяние леса закрыло от ребячьих глаз небо и солнце. И далёкий, у горизонта, дым сигнального костра.
Степь колышется
Как не пыль-то в чистом поле запылилася,
Не туманушки со синя моря подымалися,
Появлялися со дикой степи таки звери.
Былина «Устиман-зверь»Дивно, поди, звонкому жаворонку сверху смотреть: пашня — чёрная и конь чёрный, а на пашне в белом платно[64] — человек. Не иначе — видится птахе, что человек этот, налегая всем телом, сам толкает тяжёлое рало и так пашет! И чернокрылых грачей не видно, но слышно зато, как хлопают тугие крылья, когда перелетают с борозды на борозду, да изредка два молодых грача дерутся из-за червя.
Крикнул ратай[65] Антип, понукая вороного коня, скрипнуло рало, железным наральником врезаясь в землю. Непаханое поле поддавалось нехотя, сплелось накрепко кореньями трав, кустов, выкорчеванных деревьев. Чудно пахла не рожавшая ещё молодая пашня!
Думал Антип, в рало упираясь, о жизни и о себе, о себе и о земле. Солнце ласкало ратая по лицу нежаркими по началу дня лучами, а со степи изредка набегал бодрый, пахнущий многотравьем ветерок. Набежит, стряхнёт на босые ноги холодную росу с непаханной ещё стороны поля, поиграет чёрными волосами ратая, пошепчет озорно в уши — и был таков, лови его, коли что не успел расслышать!
Легко думалось в такое чудное утро, да думы были нелёгкими. И конь есть у ратая, и рало есть, растут два сына — помощники в старости и опора. Да две дочери в доме — кто теперь за них вено[66] готовит. Есть ласковая и заботливая жена. Живи и радуйся, ратай Антип. Но волнуется сердце ратая с каждым днём всё больше и больше. И не только за себя и брата Могуту, который сидит на особине[67], взятой у богатых мужей для прожитья. Из года в год всё крепче и крепче притесняют свободных ратаев князь и княжьи мужи: волостелины, посадники, сборщики дани — вирники. За всё теперь надо платить князю: от дыма — живёшь на княжьей земле, от рала — пашешь землю, князем пожалованную, от всякого злака — ты есть хочешь, но и у князя на Горе в Киеве ртов много, пить-есть тоже хотят!
А прежде, много лет назад, и лес, и поле над Ирпень-рекой принадлежали всему роду. Сообща предки обрабатывали поле и делили потом на всех выращенное. Одна была забота у ратаев — от степи уберечься. Принял на себя эту заботу князь Киевский и загородил ратаев дружиной. Да отнял у них право на свободную землю. А богатые мужи сами и не пашут обильные земли, на Горе возле князя сидят, ему в руки смотрят, на пашни свои сажают рядовичей[68] да закупов[69]. Куда ни глянь теперь — всюду чужие знаки-знамёна стоят!
Стонут ратаи от княжеских вирников, да терпят: за ними князь — за ними и сила. Но от этих хоть данью откупиться можно. Хуже, когда пришлые собаки со степи набегут. Эти не только скарб отнимут, а и самого возьмут на продажу в рабство. Оттого и тревожно ратаю в поле. Чуткое ухо постоянно прислушивается: не колышется ли степь под копытами печенежских коней?
Ратай Антип дошёл до края недлинного загона и остановился. Сняв с рукоятей рала руки, подул на покрасневшие, набитые до жёстких мозолей ладони, потом наклонился к густому ковылю и остудил натруженные пальцы прохладной росой. Тихо и просяще заржал конь. Антип подошёл к нему, ласково потрепал гриву и заботливо вытер травой бока, приговаривая:
— Устал? Как дойдём до реки, поить тебя стану. Там и роздых нам будет.
Берёг Антип коня: без коня как поле возделаешь? И чем детей растить станешь? Одна будет дорога — тернистая и по самому краю трясины: писаться в рядовичи. Тяжкая дорога! По ней ушло уже много из бывших однообщинников Антипа. И канули в той трясине. Никто не выбрался назад. Так рыба попадает на стол: сунулась в сеть одной головой, а сгибло всё тело. Так и заяц попадает в когти совы: вышел покормиться, да сам пищей стал!
Близ берега Ирпень-реки ратай Антип остановился на роздых, вывернул рало из земли, подошёл к обрыву. Туман уже поднялся от воды и отступил, гонимый лучами солнца, в глухомань зарослей левобережья, забился там в подкоренья — теперь будет терпеливо ждать новых сумерек. Антип склонился над обрывом. В лозняке, у самой воды, мелькнули два загорелых тела. Послышался смех, а потом шум падения в воду, и волны, догоняя друг друга, пошли по сонной реке от ближнего берега к дальнему.
— Помощники, — добродушно проворчал Антип в короткую бороду, испытывая большое желание скинуть платно и тоже ухнуть головой вниз, в прохладу утренней реки. Да поле пахать надо. Вот поднимет его, а по осени посеет здесь жито. Урожай будет знатный, и труд его — Антип верил в это — окупится с лихвой.
— Василько! Милята!
На крик из густой дебри высунулась мокрая голова, сверкнула большими карими глазами. Вслед за первой показалась и вторая, тоже черноволосая и мокрая. То были сыновья ратая Антипа. Старшему, Васильку, уже исполнилось четырнадцать лет, был он приземист и крепок, словно родился для сечи и для пашни. Младший же, двенадцатилетний Милята, тонкий и душой нежен, словно девица. Из него какой воин? Крови страшится. Обрезал днями ногу речной осокой — дурно ему стало, инда на траву упал. Антип в душе был разочарован слабосердием Миляты, но была надежда, что жизнь изменит характер сына. Кто знает наперёд, как чьею судьбой распорядится бог? Вон, на круче реки, вчера ещё росла берёзка рядом с тополем. Грянуло минувшей ночью лихое ненастье, и что же? Гибкая берёзка и веточки не потеряла на ветру, а вековой тополь чем-то, видать, прогневил Перуна. Быть может, нравом гордым — не хотел голову склонить, не уступил напору ветра? И ударил его молнией грозный бог, на корню сжёг, прервал жизнь до срока. И теперь ещё, поутру, дымится чёрный ствол старого тополя, а трескучие сороки облетают его стороной.
— Василько, коня поить время.
Конь пил прохладную, пахнущую сырым камышом и влажными кувшинками воду жадными глотками. Василько ласково почёсывал его за ухом. Конь обернулся и ткнул отрока в голое плечо мокрыми губами.
И вдруг…
— Отче, гляди, что это? Дым?
Антип вздрогнул от крика Миляты и, напрягая зрение, стал всматриваться в слабый дымок, который вставал над отдалённым, к югу от них, лесистым холмом. К сердцу подкатилась глухая, ещё не осознанная тревога. Что за дым это? Может, от костра путника, что сушит одежду после ночной грозы? Или от огня, у которого дружинник сторожевого поста жарит взятую стрелой куропатку?
Дымок на холме разрастался всё выше и выше, темнел и клубился. Ему отозвался другой, ближе к Антипу. Недалеко от них, в трёх или четырёх поприщах[70], взвился, вырвавшись из-под влажных листьев, тёмно-синий дым, заклубился к небу, склоняясь в сторону севера: туда дул ветер над степью.
Тревога, люди земли Русской! Тревога! Печенежская орда идёт!
— Василько, прячем рало! — закричал Антип. Когда рало пристроили под ракитовый куст, Антип подхватил Миляту и почти вскинул на коня.
— Василько, держись за узду, — Антип не успел и ладонью ударить коня, как старший сын уже пустился в бег рядом.
— Ходу! Ходу! — кричал Антип, держась рукой за гриву вороного. И взмолился к богам, к старым и новому, христианскому:
«О могучий бог неба! И ты, громовержец Перун! И ты, покровитель скота бог Велес! Вдохните свежие силы в уставшего коня, донесите его на своих могучих крыльях к родному подворью! Дайте спасти род мой для продолжения жизни, для прославления богов земли Русской».
Бежал ратай Антип, а сердце тяжелело и круглым камнем билось о рёбра, норовя вырваться из груди. Солёный пот катился со лба на ресницы, ел уголки глаз у переносья, скатывался по глубоким складкам на пересохшие и горькие губы. Пожалел теперь ратай Антип, что поставил избу не в Белгороде, как брат Могута, а в поле, ближе к ниве. Не хотелось соседствовать с посадником да волостелином, мелькать ночной бабочкой у их жаркого огня: не опалить бы крылья. И не хотелось ещё ему, чтобы дети росли сорной травой под стенами крепости: солнца мало там и не сияет оно во всю ширь небосклона, а косой дождь летом не смывает густой пыли с травы на подворье.
Захотелось жить на приволье. Да рано, знать, выпал птенец из родного гнезда: кинулся в лет, а крылья-то не держат! Не время и свободному ратаю отрываться от людей далеко. Защитить себя один кто сможет? А сообща отбиться можно.
Между тем конь сбежал уже с пологого увала, они обогнули небольшую рощицу из молодых берёз и увидели двор. Через открытый дымник[71] земляной крыши избы-четырехстенки густо шёл дым: жена Павлина топила очаг, готовила обед.
— Павлина! — закричал Антип, задохнувшись от бега. На крик выбежала темноволосая жена, взятая Антипом за большой выкуп у торка-кочевника. Приучена была жизнью с детства к постоянным тревогам, род их кочевал с разрешения князя Владимира по реке Рось, совсем рядом с печенежской степью.
— Кличь детей, Павлина! Печенеги идут со степи! — заторопил Антип Павлину.
В избе громко охнула старшая дочь Ждана, что-то упало на пол, крошась на куски. Антип торопливо выкатил из-за избы телегу, вдвоём со старшим сыном впрягли коня.
— Хлеба возьмите побольше! Хлеба! — крикнул Антип жене и дочерям, вновь поторопил: — Да живее! Бросайте корчаги! Куда их? Сами садитесь!
От натуги покраснело лицо Василька: тащил перед собой на вытянутых руках куль с житом, кинул в телегу и за вторым побежал. С трудом удерживая концы передника, спешила с выпеченным хлебом Ждана, волокла почти по траве торбу с мукой младшая дочь Арина. Антип принял от Павлины куль с ржаными сухарями — словно знал о будущей беде и наготовил заранее — наконец-то гикнул и ударил коня вожжами. Телега покатила по выбитой конскими копытами дороге вдоль Ирпень-реки к Белгороду. Ёкало что-то внутри у коня, и ёкало сердце у ратая Антипа, ходила по груди волна замораживающего душу страха. Гнал коня и без конца озирался, приглядывался к зарослям на берегу реки, куда лучше нырнуть, если печенеги станут настигать. Но спасут ли кусты?
По широкой степи с юга к Белгороду вместе с ними скакали верхом и тряслись в телегах или просто, спотыкаясь уже от усталости, бежали люди. Бежали под густой звон сторожевого колокола, как к муравейнику муравьи, которых вот-вот настигнет надвигающаяся гроза. На лужайке близ реки седая старуха, хватая беззубым ртом воздух, из последних сил тащила к городу бурую корову. Та упиралась, мычала и красным языком тянулась к сочной траве: не напаслась ещё досыта, не хотелось ей снова в тесное стойло.
— Яку-уня-я! — вскрикивала то и дело старуха. Наконец на её крик из-под речного обрыва выбежал мокрый отрок, увидел Белгород с раскрытыми воротами и всё, что творилось во круг, взмахнул длинной хворостиной, и корова метнулась вдоль реки к городу. За нею бежали отрок и его старенькая бабка.
Антип торопил коня, торопил и не видел, как далеко позади, у горизонта, широко растянувшись по степи, уходила к крепости от печенегов дозорная застава Славича.
Последний бой Славича
Тут кровавого вина недостало;
Тут пир закончили храбрые русичи,
Сватов напоили, а сами полегли
За землю Русскую.
Слово о полку Игореве«Приходящему последним достаются лишь кости!» Князь Анбал не раз слышал эти слова от старых князей, он знал основной закон набега, походов на чужие земли, поэтому и ярил коня плетью, стараясь со своим полком первым выйти к Роси, следом за сторожевым полком, посланным каганом для разведывания брода и русских застав.
И вышел первым, увидел разгром сторожевого полка: несколько десятков всадников гнали замученных коней им навстречу. Но князь положился на бога и удачливую судьбу. Если впереди враг — значит, будет сеча, а в сече побеждает тот, кто отважнее. В отваге своих всадников молодой князь не сомневался. Его путь — через русскую заставу, на Белгород. Будет победа, тогда и другие князья склонятся к дружбе с ним, а это так важно в предстоящей драке с каганом за место в Белом Шатре.
Вот и Рось, но русичей не видно на том берегу. Может, ушли, убоявшись большого войска? Тогда в погоню!
Скользили кони, съезжая по мокрому спуску к реке, потом печенеги продирались через коряги, а наиболее нетерпеливые, разгорячив скакунов, оказывались в воде: разъярённые кони сбрасывали всадников под копыта. Гомон повис над рекой, кричали люди, ржали кони, перепуганные вороны стаей кружили над бродом.
— Вперёд! Вперёд! — призывал князь Анбал, высясь на красивом белом коне над кручей Роси, над тысячью конников, сошедших уже к броду. — Кто первым вступит на тот берег, получит лишнюю долю добычи!
Кому же не хочется быть первым? Свистят над головами плети, пенится Рось под копытами нетерпеливого полчища, выходит из берегов — заступили конские тела дорогу воде, великое их множество идёт на Русь топтать поля, жечь селения и ловить в полон для продажи за море.
А левый берег всё молчит. Молчит и тёмный лес, настороженный и затаённый. Не шелохнётся густой ракитник, не треснет под ногой прошлогодняя хрупкая ветка осины. И птицы умолкли, оглушённые ржанием и криками, а голодное воронье отлетело прочь, так и не успев насытиться телами мёртвых, брошенных течением реки на песок.
Но вот и берег русичей!
Анбал успел увидеть, как молодой всадник радостно вскинул вверх правую руку с кривым мечом, а потом обернулся к князю, чтобы прокричать своё имя, но вместо этого из горла вырвался испуганный вопль:
— Русичи! Русичи здесь!
Ломая кусты, из леса стеной вдруг выдвинулась русская застава, сверкая на солнце сотнями щитов. Анбал увидел спокойно выходящих для сечи русичей и почувствовал, как холодная испарина взмочила волосы на висках. «Откуда эти огромные богатыри на огромных конях? — ужаснулся он. — Не князь ли Владимир со старшей дружиной встал на пути? Не обманул ли он Тимаря через коварного грека? Ударят теперь по войску, которое сгрудилось у брода, и сгибнет он, Анбал, не дожив до вечерних сумерек, если не от чужого меча, то от жилистых рук беспощадного Тарантула».
— Проклятье! — князь Анбал увидел, как в замешательстве стали его всадники, и зло хлестнул невинного коня, вздыбил его. Но тут же успокоил, похлопав по шее. Что могут сделать русичи одной заставой против его войска? И если они всё же решились погибнуть все здесь, в прибрежных кустах, то чем думают защищать свою крепость? Так пусть и ложатся в лесу, а ему нет времени долго стоять и думать!
— Вперёд, дети степи! Вперёд! — кричал Анбал с кручи, надрывая грудь. — Их совсем мало! Рубите бородатых медведей! Вперёд, за лесом вас ждёт просторная дорога! Там ждёт нас богатая добыча!
И всадники услышали его. Закрывшись щитами, густо пошл ина берег, бросая на попечение бога упавших в реку. Но русичи снялись с места и пустили коней прочь от брода, в междулесье, не решаясь на сечу. Как мало их оказалось!
Вид убегающего придаёт храбрости даже робкому. А кто назовёт робким печенежского нукера? Кинулись всадники степей следом, криками себя же подбадривая.
— Славно пошли! Славно! — князь Анбал воспрянул духом и снова поверил в свою счастливую судьбу, а от недавнего переживания не осталось и следа. Теперь пора и ему перебираться на тот берег, чтобы успеть вместе со всеми вырваться на простор Заросья. Пусть нукеры видят своего князя не только за спиной, сидящим на белом коне, но и с мечом в руках, впереди всех.
Вот и край поймы. Передовые печенежские всадники, теснясь, начали заполнять узкое междулесье. Кони набирают бег, кроша влажную от дождя землю сильными ударами копыт. И у каждого печенега теперь одна цель: только вперёд. Там, за этим лесом, вежи русских ратаев, там и долгожданная добыча. А чья рука окажется длиннее, тот и обогатится первым. Не опоздать бы только перед другими!
Но никому не дано наперёд знать свою судьбу: только что соколом летел человек на разгорячённом коне — и вот нет его, неистового, а лежит на земле неподвижно, успокоенный навеки.
До князя Анбала донёсся сначала приглушённый лесом и конским храпом стук топоров, а потом громкие крики: «Разом! Вали!» — и огромные вековые дубы, треща и цепляясь ветками друг за друга, с двух сторон рухнули на головы печенегов. Дикий, раздирающий уши вопль хлестнул Анбала по сердцу. Конь под князем взвился на дыбы, а потом, спасая себя и всадника, огромным скачком прыгнул в сторону, влево от дороги, в гущу леса. За спиной кричали нукеры, раздавленные могучими стволами, пронзённые острыми сучьями. Хрипели и бились о землю покалеченные кони.
Кинулись, спасаясь, ближние печенеги следом за князем, прочь от междулесья — в лес. Но укрытая травой земля вдруг раскрыла под ними страшный зев, кони падали в тёмные и сырые ямы, ломая ноги, распарывая животы об острые колья. Волчьи ямы перекрыли путь печенегам, принудили слезать с коней и продираться сквозь заросли неспешным шагом, прощупывая землю перед собой.
А там, в междулесье, всё падали и падали деревья, превращая недавно ещё призывно открытую дорогу в непролазные завалы. И где-то совсем рядом кричали русичи, одним ударом топора валили заранее подрубленные деревья.
— Так! Так! Так! — выкрикивал князь Анбал, словно не лес, а русскую дружину рубил в неистовой ярости. Летели под ноги встававшие на пути ветки. Яростью князя заразились и его нукеры. И князь и нукеры слышали за стеной завала, совсем неподалёку, крики тех, кто успел проскочить вперёд.
Жажда мести захлестнула молодого князя, чужой крови, огня и дыма чужих изб. Забыл в этот час князь Анбал, что это он пришёл незвано на чужую землю, а не в его вежи вошли бородатые русичи. Это он пришёл за синеоким и русоволосым полоном, за чужими шелками и дивными камнями-самоцветами, а не в его шатёр вошли русичи и посягнули на честь и жизнь его жён да на немалый княжий достаток.
Князь Анбал разъярён хитростью русичей. Только головами врагов может он теперь утвердить своё положение среди остальных князей и нукеров. А потому — меч рассудит его и этих коварных жителей северных лесов.
Пробился князь Анбал, исцарапанный в кровь ветками, на простор Заросья и увидел в траве своих нукеров, осиротевших коней и множество следов на мокрой земле.
А далеко впереди, ближе к горизонту, темнела уходившая на север к Белгороду конная застава русичей. Анбал молча указал на неё обнажённым мечом и пустил коня следом.
* * *
Как ладонью не укрыться от дождя, так и малой силой не остановить большого войска. Знал это сотенный Славич и спешно уводил заставу от Роси, спасая от неминуемой гибели. Летела комьями сырая земля из-под копыт сильных коней, а Славич всё торопил дружинников. Разъярёнными вырвутся теперь печенеги из губительных завалов. Будь у Славича под рукой хотя бы до тысячи мечей, сумел бы он ударить по войску кагана у междулесья, сбить в реку замешкавшихся у брода находников. Но такого войска у него не было. Потому и спешил Славич уйти как можно скорее в Белгород, чтобы вместе с воеводой Радком вновь встать на пути Тимаря. Побоится каган, минуя Белгород, подступиться к Киеву, не зная силы русичей у себя за спиной.
Вот и Ирпень-река. Славич остановил заставу на высоком берегу, откуда далеко видна степь, незамеченному не подойти. Дружинники сняли сёдла с уставших коней и перенесли на поводных. Рядом со Славичем Тур смотрит против солнца, глаза прикрыл ладонью.
— Идут, Славич! Тучей идут по следу.
Славич поднялся в седло и глянул на юг — там, извиваясь чёрной змеёй, скользила между увалами печенежская конница.
— Недалеко мы от них ушли, — забеспокоился Славич, крикнул своим дружинникам: — Нá конь! — а потом повернулся к Ярому: — Успеем ли? Ходко идут печенеги.
Ярый скакал со Славичем стремя в стремя, а впереди сверкали шеломы дружинников — старшие были там, откуда враг лучше виден.
— Самых быстрых пустили в угон! Числом до десяти сот, не мене, — ответил Ярый. Славич снова обернулся: скачут, быстро скачут степняки! Их кони в нить вытягиваются над ковылём, всадники к гривам легли, секут воздух перед глазами коней острыми наконечниками чёрных хвостатых копий.
— Уйдём! — подал голос сбоку Тур. — Смотри, Белгород уже открылся.
В дни праздника Купалы на игрищах у костров столько людей не собиралось, сколько собралось теперь перед крепостью. Заныло сердце Славича. Сколько их, гонимых страхом, бежит из последних сил, озираясь и взывая к богу о спасении! И сколько их падёт сейчас под печенежскими мечами, не успеет вбежать в крепость, если не задержать врага.
Но даже ради спасения этих ратаев Славич не мог жертвовать заставой. Славич подозвал старшего товарища.
— Ярый! Возьми заставу, охвати бегущих и торопи их в крепость резво! Пусть дружинники сажают к себе на коней самых немощных!
— А ты? — спросил Ярый.
Славич махнул рукой в сторону печенежской конницы: сверкая чешуёй щитов, она огибала уже дубовую рощу близ Ирпень-реки, нацеливаясь остриём отсечь русичей от ворот, отогнать в степь. Здесь, в узком месте, есть ещё возможность если не остановить, то хотя бы задержать находников на малое время.
— Славич, возможно ли такое? Их тысяча!
— Спеши, Ярый! Заставу на твои плечи кладу!
Ярый сморщил и без того изуродованное шрамами лицо, хлестнул коня плетью и пошёл быстро вперёд, увлекая заставу за собой. Славич, оставив при себе полусотню дружинников, повернулся против печенегов. Вот теперь, когда находники приблизятся на полёт стрелы… Он смотрел на печенегов, а мысли витали над родным Двором. Своей службой в дружине он не скопил для себя и малого числа гривен[72]: не там злато-серебро лежало, где конь Славича землю топтал. Да и не искал он его, озаботясь защитой родной земли от жестоких степных разбойников. Как отец его и дед служили князьям киевским, так и он, Славич, сколько помнит себя — всё время перед глазами покачивается голова верного коня, широкий наконечник копья да бескрайняя степь.
А рядом уже земля стонала от конского топота. Стрелой, словно перегоняя ветер, впереди тёмного войска мчалась сотня отборных конников, оторвавшись от остального отряда на два-три перестрела[73]. Впереди печенегов скакал огромный меднолицый богатырь на рослом коне. Длинная грива коня развевалась от бешеной скачки, поводной конь рядом, притомлённый, едва успевал, вскидывая голову и роняя пену с губ.
— Ежели сломать наконечник, — сказал Славич, — тогда стрела потеряет свой лет, — и потянулся к колчану. — Ну, други, готовьтесь испить смертную чашу! — голос Славича не дрогнул, когда он произносил эти слова, лишь лёгкий холодок прошёл по спине да конь тревожно заржал, чуя близкую сечу. Подумалось Славичу: «Люди не оставят Бразда, ежели теперь смерть приму, других спасая…»
— Мы готовы, Славич, — почти разом отозвались Тур и Микула. Тур на земле одинок, ему и в мыслях проститься не с кем, у Микулы оба сына женаты давно, отрастили орлы крепкие крылья, своих орлят учат уже летать. Не осиротеют, коли старый отец падёт в сече. Справят тризну[74] по нему, как велит древний обычай, да на стены встанут, род от гибели оберегая. А о нём сохранят добрую память для внуков.
— Если так, то будем биться! — Славич повернулся к дружинникам. — Бейте стрелами передних. А там — да поможет нам бог! Мы же не посрамим чести своей.
Замерла тетива у правого уха, набрав силу для броска. Щелчки слились в сплошной треск, и стрелы взвились в воздух. Смялось остриё печенежского передового отряда: тот упал замертво, этого подмял под себя на всём скаку тяжёлый конь. А иной, оказавшись перед страшными русичами, убоялся, придержал коня — пусть кто-то другой примет стрелу в себя. Но как ни метки были стрелы, печенеги неудержимо накатывались на русичей. Спешат находники, влекут их к себе призывно распахнутые ворота крепости. Ещё рывок разгорячённого коня — и они в Белгороде! А там добыча. Там богатый полон, который так ценится у византийцев!
Славич надвинул шелом пониже на глаза, выкрикнул:
— Други, прикройте! И бейте тех, кто проскочит мимо!
Зимним, холодным блеском сверкнул на солнце тяжёлый меч Славича. Звякнула о щит сталь вражеского копья, кони ударились друг о друга и встали на дыбы, сплетя передние ноги. Печенег удержался в седле и, отбросив сломавшееся копьё, потянул из ножен кривой меч. Да не успел. Славич привстал в седле, крякнул, как дровосек над кручёным поленом вяза. Печенежский щит разлетелся надвое, и беспощадная сталь тяжело вошла в тело.
Упал печенег, да налетело ещё несколько. Чей-то меч, скользнув со щита, ударил Славича по плечу, и слетело прочь медное оплечье. Но кольчуга выдержала удар. Тупая боль разлилась по телу, да разве до боли было теперь? Уцелели бы жилы в руках. Всадник пронёсся мимо, но там его перехватил Микула и принял на копьё. Большинство печенегов из передовой сотни не решились на сечу, сдерживали коней. А помощь им совсем уже рядом, чуть больше полёта стрелы…
— Отходи! Отходи! — кричал Славич дружине, видя, как печенеги снова готовятся ударить гораздо большим числом.
Русичи стрелами отбивались, пятили коней к Белгороду, но спины находникам не показывали. Славич отходил последним, да Тур с Микулой бок о бок с ним пятятся, стрелами сбивая ближних печенегов. И видели, как от вражеских стрел гибли рядом товарищи, кто сразу насмерть сражённый, кто ранен, а всё пытается натянуть тетиву…
— Славич, гляди! — вдруг закричал Тур и тяжёлой палицей указал на крепость. Сотни ратаев сгрудились у моста через ров, где и о двуконь едва пройти. Страх за Белгород подступил к сердцу Славича: «Уцепятся печенеги за хвост убегающих и войдут в крепость… Или воевода закроет ворота, а люди сгибнут под стенами!»
Славич снова повернул коня навстречу печенегам, за ним последовали уцелевшие дружинники. Услышал, как подскакали и встали обок Тур и Микула, впереди остальных. Встали молча, слов они не говорили друг другу. Много их уже было сказано за долгую жизнь в трудных походах и за бражным столом, когда случалось собраться у князя Владимира в просторной гриднице[75].
Рванулись было печенеги вверх от излучины реки, по дороге к воротам, да русичи заступили им узкую дорогу. Злобный визг повис и закрутился на месте схватки. Но Славич и его товарищи бились молча: берегли дыхание. Падали обок Славича верные товарищи, но каждый, уходя из жизни, уносил с собой две, а то и три печенежские жизни. Вот их уже и десять человек всего за спиной… Звенит сталь, вздрагивает голова от тяжёлых ударов мечей о шелом, лёгкий туман застилает глаза, мешает разглядеть очередного печенега, летящего с выставленным длинным копьём.
Горько Славичу терять друзей, о них теперь его забота, не о себе. Задыхаясь от натуги, машет тяжёлым мечом и кричит:
— Тур! Микула! Уходите… Уходите за Ирпень, я прикрою вас!
Ближние печенеги отхлынули разом, как обессиленная волна от гранитного утёса. Но вторая волна оказалась сильнее первой. Выставили находники копья и кинулись вперёд. Славич снова сумел отбить копьё, нацеленное в грудь, и ударом снизу, под щит, свалил печенега. Но слева протяжно охнул Микула и тяжело упал с коня: испил чашу жизни до последнего глотка! Острой болью отозвалась смерть товарища, который не один раз прежде прикрывал его в сечах своим щитом, а то и грудью. Снова крикнул Туру, чтоб уходил, а сам отбивает находников уже с трёх сторон. Звенит вражья сталь о щит, о шелом, тело совсем не чувствует боли. Но держится Славич, пока кольчуга держит удары. На три взмаха врагов отвечает одним, зато страшным. Сквозь крики, сквозь звон стали услышал за спиной голос Тура:
— Не уйти нам, Славич! Крепость закрывает ворота. Печенегов со стены стрелами отбили.
— Ну и славно! — Славич снова взмахнул мечом.
Но тяжёлый удар в спину поразил Славича: не выдержала кольчуга — разошлась и пропустила жало вражьего копья. Взвился серый конь на дыбы, пронзённый сразу несколькими копьями, рухнул на землю, телом закрыв мёртвого хозяина. А рядом, выронив длинную палицу, под ударами мечей — без стона — опустился на вспаханную копытами землю Тур.
Хищными воронами покружились печенеги над павшими русичами, потом, словно вспомнив, зачем явились под стены Белгорода, ударили коней и пустились намётом вверх от места сечи, к городским воротам.
Но копьём стену не порушить. Город ощетинился, изготовился к смертной схватке, встретил находников меткими стрелами, и потекла печенежская конница вдоль вала, как обтекает речная вода, выйдя из берегов, встретившийся на пути крутобокий холм. А впереди пыльного войска на белом коне красовался князь Анбал, гордый тем, что его полк загнал русичей за городские стены.
Дым вражеских костров
Нагнано-то силы много множество,
Как от покрику от человечьего,
Как от ржанья лошадиного,
Унывает сердце человеческо.
Былина «Илья и Калин-царь»Михайло остановил деревянную ложку у самого рта — не дообедал! Сначала конский топот, а потом и зычный крик бирича[76] ударил в слюдяное оконце из-за городьбы вокруг подворья.
— На стены спешите, люди! На стены! Печенеги идут!
Михайло смахнул жёсткой ладонью крошки хлеба с русой бороды, а усы утереть и времени нет. Разом поднялись из-за стола.
Оружие у русича всегда под рукой — тревожная жизнь к тому приучила. Легла на крутые плечи кованная из колец тяжёлая кольчуга — сам для себя ковал. Виста, жена, подошла и быстро расправила железные пластинки-нагрудники, чтоб защитили мужа от стрелы.
— Янко, готов? — Михайло подпоясал меч, принял щит из рук Висты и повернулся к сыну. Только что прискакал со степи Янко с известием о первой сече над Росью. И ещё теплилась у белгородцев до этой минуты надежда, что не осмелится Тимарь, встретив заставу, перейти Рось. Но вот ударил на сторожевой башне колокол, позвал на стены — ворог стучится уже в двери.
Виста ткнулась лицом в укрытую железом грудь Михайлы, залилась слезами. По-девичьи узкие плечи её затряслись.
— Будет тебе, Виста, — Михайло успокаивал жену, неумело ласкал русые волосы Висты рукой, шершавой, иссечённой бесчисленными чёрными трещинками. — Береги детей от случайной стрелы. Вольга с реки прибежит, во дворе пусть сидит. На стену не пускай, мал ещё.
Старейшина Воик ждал сына и внука посреди горницы, перед очагом. Он держал два тёмных мешочка на белых тонких жилах, надел сначала Янку, а затем и Михайло на шею и засунул под кольчугу. По спине у Михайлы пробежал мороз, когда прикоснулись, будто неживые, такие холодные руки старейшины Воика.
— Да хранит вас могучий бог неба и обереги[77] эти — земля с могильного кургана старейшины рода нашего Вукола. Трудное время подступает к Белгороду, и кто знает, чем оно кончится. Ступайте! И бейтесь крепко, а мы будем богов молить за победу вашу.
Михайло и Янко поспешили к стене. Навстречу им, будто осенние листья, гонимые безжалостным ураганом, вливались в ворота шумные и напуганные людские толпы. Бежали пешие, кто с чем. Скакали конные — и один, и двое на коне. Ехали ратаи в телегах со скарбом — эти жили поближе к крепости, — ехали и впусте, только с детьми да жёнами. У коих к телегам привязана верёвкой говяда[78] или овца, редко у кого второй конь, таких совсем мало.
Навстречу Михайло метнулась убогая Агафья: глаза безумные, между людей кого-то высматривают.
— Люди! Могуту кто видел? Не встречался ли вам где Могута?
Ответить ей не успели, сама поняла, что кузнец не видел её мужа. Ящерицей юркнула в людскую гущу, к воротам, навстречу бегущим со степи. И донёсся до Михайлы её детски-радостный крик:
— Могу-ута! Ты жив!
Поднялись на вал, потом взошли вверх по ступенькам деревянной лестницы на помост стены и вдоль частокола прошли к угловой башне, откуда видны были южная степь и подход к Белгороду вдоль пологого склона к Ирпень-реке. Мимо прошёл воевода Радко: волнистая борода расчёсана аккуратно, только полные щёки белы от волнения. Мало сил теперь в Киеве, чтобы выступить навстречу Тимарю, а в Белгороде у него и того меньше. Самим не отбиться будет, если Славич, минуя крепость, уйдёт в Киев. С чем тогда встретит находников он, белгородский воевода?
Обрадовался, когда увидел заставу Славича на подходе, и в мёртвом безмолвии смотрел на короткий, как удар молнии, бой русичей близ берега Ирпень-реки.
— О Славич! — только и выдохнул сквозь стиснутые зубы воевода, вцепившись закаменевшими руками в заострённые верхи брёвен. Михайло, понимая воеводу и сочувствуя ему, осторожно перевёл дыхание, шевельнул плечами: под кольчугой к потному телу прилипло платно. И в сече не был, а так взмок!
Подошёл бондарь Сайга: поверх рабочего платна, испачканного светло-жёлтой смолой, надета просторная, видно c чужого плеча, кольчуга. Длинные рыжие волосы перехвачены белой неширокой тесьмой, а в руках, покрытых следами старых ссадин, большой лук. Иного оружия бондарь не знал, но из лука стрелы в цель слал отменно.
От Киевских ворот крепости нежданно, а потому и радостно пронеслась по белгородским стенам добрая весть:
— Идёт! Дружина из Киева к нам в помощь идёт!
— Велика ли? — кричали те, кому не было видно Киевских ворот и входящих дружинников. И тянулись люди, пытаясь посмотреть с западной стороны на другой край Белгорода. Но дорогу на Киев за восточным частоколом не увидеть, а ворота заслонены теремами и церковью. В просветах между высокими постройками мелькали поднятые вверх копья.
— Где воевода Радко? — пополз по стене спрос. По помосту поспешно шёл дружинник. Михайло до сего дня его не видел, а когда киевлянин приблизился, разглядел чистое лицо, густые русые усы, которые дотянулись уже до короткой курчавой бороды. Широкая грудь дружинника укрыта поверх кольчуги железными нагрудниками, и они легко позвякивали при каждом его шаге.
Подошёл киевлянин и поклонился воеводе, тихо сказал:
— Здоров будь, воевода Радко, — а на лице и в голосе — скорбь.
— Здоров будь и ты, Вешняк, — ответил воевода.
Тепло засветились его суровые глаза.
— Послал меня воевода Волчий Хвост, едва в Киеве увидели дым сигнальных костров. Убоялся Волчий Хвост, что застава Славича может сгибнуть у брода, пустил меня и полтораста дружинников в помощь тебе дал. А больше послать не мог — за Киев страшится. Вошла застава в город?
— Вошла… да без Славича и многих дружинников, — раздался за спиной Михайлы знакомый, хрипловатый голос. Обернулся Михайло — Ярый идёт, тяжело дышит: сказалась долгая скачка, утомила старого воина. Ярый поклонился воеводе.
— Прими и нас, воевода Радко, под свою руку. Так Славич повелел сказать, меня с заставой отсылая… — Ярый не договорил, слова застряли за плотно сжатыми, бескровными губами.
А печенеги уже под стенами. Впереди всех на гнедом коне Михайло приметил статного всадника. Высокая меховая шапка украшена пучком длинных белых волос. Над круглым щитом видна чёрная, орущая, дыра рта. Но вдруг со стены ему в грудь ударила белохвостая стрела, даже щитом не успел прикрыться. Всадник выронил щит и, хватнув воздух, завалился назад. Норовистый конь взбрыкнул, сбрасывая мёртвое тело, и поскакал один вдоль глубокого рва, мотая над травой пустыми стременами. Сайга торопливо тянул из колчана вторую стрелу, но печенеги, будто опомнясь, пошли вдоль белгородских стен, огибая крепость.
— Неужто на Киев уйдут? — спросил сам себя Михайло, провожая взглядом голову печенежского войска до левой башни. Но клубы пыли пересекли дорогу, что идёт в сторону Киева, и двинулись вокруг крепости к Перунову оврагу.
— Обступить нас хотят, — проговорил с хрипотцой в горле бондарь Сайга.
— Сколь их нечистая сила нагнала на Русь, — сокрушался Михайло. Он опустил к ноге ненужную пока сулицу[79] — не приблизились находники, устрашились глубокого рва да высокого вала. И ещё, наверно, густой ряд копий на стене смутил их. Встали на расстоянии, чуть поболе перелёта стрелы, табунятся на месте.
Рядом с Михайлой оказался ратай Антип. Не один пришёл. Вон их сколь перемешалось с дружинниками. Кто с чем в руках, иной и с простыми вилами-тройчатками. У Антипа — топор на длинной рукояти.
Михайло знал ратая, ковал ему прошлым летом железный наральник. Да и кто из ратаев при нужде не стучался в дом кузнеца? Янко, завидев ратая Антипа, покрылся лёгким румянцем, отвернулся лицом к степи, радуясь, что спаслась от печенегов семья Антипа. Михайло знал, что сыну приглянулась старшая дочь ратая, черноглазая и насмешливая Ждана. Видел тот её на игрищах купальских в Белгороде — с той поры и начал Михайло вено готовить, Янку о том не говоря ни слова.
— Спас тебя бог, ратай Антип. Утёк ты от печенегов.
— Бог спас, то так, кузнец Михайло, — отозвался негромко Антип. — Кабы не Славичева застава, быть бы нам в рабстве.
Михайло посторонился, уступая место Антипу у частокола, сказал:
— Великий подвиг совершили дружинники, собой крепость прикрыли. Видел, как закуп Могута жену Славича Любаву едва успел со стены снять? К мёртвому живая хотела уйти. Не повредилась бы разумом с горя, о том боюсь. Сына малого сиротой вовсе оставит.
— Горя нам теперь на всех хватит.
— Да, друже Антип, — согласился Михайло, — чем-то кончится для нас набег печенежский? Туга[80] немалая ждёт и горожан, и пришлых с поля. Есть-пить всем надо. Из Киева помочи не ждать нам скоро. А люду в крепости укрылось тьма, смотри, места свободного совсем мало на улицах.
С помоста им были видны узкие улицы с густыми подзаборными зарослями зелёной лебеды. Терем князя с блестящими на солнце слюдяными окнами стоял близ Ирпеньской стены, вокруг терема — крепкий дубовый частокол. «Крепость в крепости», — подумал Антип. Правее, к Киевским воротам, виден терем посадника Самсона со многими пристроями и клетями во дворе. С другого боку княжьи хоромы подпирались теремом волостелина Сигурда. Чуть поодаль стояли пятистенные срубовые избы торговых мужей — добрые избы, с крытыми навесами и со многими переходами. Вокруг торга шли избы ремесленного люда — кузнецов, тульников[81], бортников и прочих, — посаженного князем Владимиром на жительство да для защиты крепости многолюдством. У крепостных стен и в их постоянной тени, словно огромные муравейники, выпирали из-под земли покатые, поросшие бурьяном крыши землянок вольных ратаев, закупов, рядовичей да подневольных холопов, если холопу не находилось места в хозяйских просторных дворах. И по всем улицам — телеги и кони, скот, кричащие от страха жены и чада[82].
— Чем люди кормиться станут? — со вздохом проговорил Антип. — Ведь не на день-два пришли печенеги!
— О том и я думаю — чем? Торговые мужи за корм золотники, куны да резаны[83] спрашивать будут. Много ли их у ратаев — про то и мне ведомо.
— Твоя правда, Михайло. На бояр да на торговых мужей нам не опереться. У них свой прищур глаза на огонь, у нас свой. Голод скорее печенегов ударит в ворота. Не все, конечно, но есть и такие, среди знатных мужей, которые болотной кочке подобны. Думаешь опору найти, наступая на неё, а под ней бездна тёмная, погибель страшная…
Михайло, жалея ратая, предложил:
— Иди ко мне в кузницу, вдвоём мы на корм себе отработаем: воевода Радко заказ дал — оружие чинить, в сечах попорченное. И жить на моём подворье будешь.
Ратай Антип согласился с радостью: тревожился только что — ночь скоро наступит, где детям голову приклонить?
Снова смотрели, как ввечеру подходили к Белгороду отставшие отряды войска, как на холме, близ которого пали смелые дружинники со Славичем, поднялся белый шатёр Тимаря, а вокруг разбили свои шатры многочисленные князья. Пала ночь, и принесла она белгородцам тревогу осады. Только один перелёт стрелы разделял теперь русичей и передовые печенежские дозоры. Тьма окутала землю и небо. Лишь жёлтые огни сторожевых костров высвечивали неясные фигуры всадников. Да крупные звезды Большой Медведицы стояли, не мигая, над долго не засыпавшим городом.
До света не смыкали глаз сторожевые дружинники, меряя шагами помост на стене. И всю ночь налетавший со степи ветер нёс горький дым вражеских костров.
Перунов овраг
А по тых мест молодому славы поют,
А по тых мест слава не минуется.
Былина «Кастрюк и царица Крымская»Не открывая глаз, в полусне ещё, Вольга зашевелил ноздрями и втянул в себя свежий утренний воздух, а вместе с ним запахи мокрой травы, душистого чабреца, прелых листьев и близкого берега реки.
«Мать Виста, поди, дверь открытой оставила, а со двора свежий воздух в горницу идёт», — подумал Вольга, но потом сообразил, что во дворе у них чабрец не растёт. «А может, старейшина Воик рано поутру принёс с поля свежего чабреца да разложил на полавочках сушить в зиму от хвори?»
Рядом раздался яростный сорочий крик. Вольга вскочил, головой ткнулся в жёсткие ветки бузины и присел. Какое-то время не мог понять, где он и что с ним? Почему спал не на широком ложе за очагом, а на траве? Почему над ним шумят листьями деревья вместо привычного с малых лет звона наковальни за стеной избы?
Вольга повернул голову влево: в утренней прохладе Боян и Бразд тесно жались друг к другу. И вспомнил всё — печенеги! Это из-за них друзья не смогли вернуться в город! Поздно расслышали сквозь гомон леса удары сторожевого колокола, а когда выбежали к опушке и упали в траву, всё поле перед Белгородом было уже под печенегами…
Вольга поднял с травы нож с широким лезвием, прислушался: вдруг рядом находники рыщут? Но всё было тихо, даже сорока куда-то снялась с ближних веток. Осторожно вылез из-под куста, осмотрелся. Густой туман уже поднялся от реки вверх, открылась степь перед городом, вся в дыму бессчётных костров. И на этой стороне реки, на луговой, тоже стояли печенеги — обложили крепость со всех сторон.
Глядя из кустов, Вольга прикидывал, откуда легче незаметным дойти до вала. Перед Ирпеньскими воротами место открытое, сразу же приметят и схватят. Не лучше ли обойти луг дальним краем, лесом, который растёт по западным холмам? А потом перейти реку и укрыться в Перуновом овраге? В том овраге заросли непролазные, от него до оврагов Трёх Богов, которые сходятся воедино у рва возле Киевских ворот, не более версты, можно пройти по краю речного обрыва, дождавшись ненастной ночи… А из трёхпалого оврага на вал взобраться — какой труд? Там каждый куст ведом, не один раз играли в междуовражье.
Был Вольга и на старом требище[84], у холма над дальним оврагом. Ему старший брат Янко рассказывал, что плакал старейшина Воик, да и не он один, когда дружинники, исполняя повеление князя Владимира, срубив, бросили Перуна в овраг. С той поры и прозывается тот овраг Перуновым. И по сей день ещё тайно ходят на старое требище те, кто в душе не отрёкся от старой веры. Но мало уже таких: суров к ним князь Владимир, держит во врагах своих.
— Вольга! Ты куда делся? — раздался за спиной испуганный шёпот младшего Бразда.
— Здесь я, — так же тихо отозвался Вольга. — Идите ко мне, да стерегитесь, печенежские конники близко.
К Перунову оврагу шли сквозь густой лес, имея ирпеньский луг по правую руку. Продирались по зарослям мелколесья, перелезали через буреломы. Местами по склонам холмов заросли были столь густы, что надо было выходить из леса и ползти в траве, по самому краю луга, опасаясь внезапного наезда конных печенегов. Пополудни, изрядно устав и изодравшись, вышли к реке, спустились от Белгорода вниз по течению. Остановились в камышах, на отмели. Вольга осторожно выглянул — крут и высок противоположный берег! И пуст, врагов на нём не видно, а совсем рядом темнеет буйной зеленью Перунов овраг.
— Я пойду первым, дно разведаю, нет ли корневищ под водой, — сказал Вольга. — Как выйду на берег, тогда и вы следом ступайте.
Вольга торопливо скинул ноговицы и платно, смотал одежду в тугой ком, ступил в воду. Со дна пошли чёрные круги мутного ила, ноги увязли по щиколотку. Над головой камыш зашумел, качал длинными тупоносыми наконечниками, жёсткими листьями цеплялся за коричневые от загара, голые плечи, словно не хотел пускать в холодную глубь воды: даже он, камыш, не отваживается входить туда, а жмётся ближе к берегу!
Но Вольга пошёл дале. Дно стало твёрдым, глинистым и круто ушло вниз. Вольга поплыл на спине, левой рукой держа одежду, чтобы не намочить. Он видел, как друзья шли сквозь камыш по его следам. С тревогой поглядывал через плечо влево, на кручу берега, за Перунов овраг. Но тихо там, над рекой: солнце слепит глаза и греет лицо, серебряными бликами играя по волнам.
Угадав близость берега, Вольга перевернулся со спины на грудь, потом нащупал песчаное дно. Вышел на берег, ближе к кустам, торопливо натянул ноговицы.
— Быстрее! — махнул рукой друзьям, а они уже на середине реки, между собой перекликаются.
Страшнее грома с ясного неба упало вдруг на воду конское ржание. Чужие крики раздались следом за ним, с обрыва покатились комья земли — их приняла, звучно плеснув, река.
— Печенеги! — Вольга не успел даже испугаться. Тело само вжалось в крутой берег. Обдирая спину, он сделал несколько шагов вправо, птицей юркнул в заросли Перунова оврага — только шелест кустов над мокрой головой. Махнул было в самую чащобу, да опомнился: ведь он не один! Ведь там, в реке, Боян и Бразд! Что сталось с ними?
Вернулся, пересилив страх, укрылся за ближними вывороченными корневищами деревьев и увидел всё, как было.
Два старых коренастых печенега спустились к реке, а третий остался на коне, держа наготове лук со стрелой на тетиве. Но Бояну и Бразду бежать было некуда: они стояли в воде по грудь. Ни слова не произнесли они, когда печенеги, что-то весело выкрикивая, вошли к ним в воду и потащили к берегу. Перед Вольгой промелькнуло жёлто-зелёное лицо Бояна — не петь ему больше песен на ирпеньских берегах, а тем паче в хоромах князя Владимира! Боян шёл обречённо, богу вверив свою судьбу. Бразд извивался, босыми ногами бил своего мучителя. И вдруг резкий крик заставил Вольгу вздрогнуть.
— Отче-е Слави-ич! Спаси-и! — кричал Бразд, призывая сильного отца на помощь.
Печенег зло ударил малого плетью по голой спине.
Бразд захлебнулся собственным криком, упал на камни. Находник тут же подхватил его, перекинул через плечо и, скользя ногами по камням, понёс наверх, к коню.
Оцепенение спало с Вольги, как спадает с глаз утренний сон от первой же пригоршни родниковой воды. Он заплакал, уткнув лицо в исцарапанные колени. В полон попали младшие товарищи, и виновен в этом он! Почему не дождался сумерек, почему не прикрылся густым туманом — повёл через реку днём? Что ждёт их, таких маленьких, у жестоких чужеземцев?
Вольга в ярости на самого себя полез вверх, цепляясь за камни, за вымытые дождями коренья. Вот и край обрыва, весь в зарослях багульника и высокой, начавшей уже цвести полыни, среди которой там и тут зеленеют кусты шиповника со светло-розовыми ягодами. Выглянул из-за куста, слегка прижал к земле траву рукой: печенеги остановились у ближней к оврагу кибитки. Вокруг собралась толпа любопытных. Отроков вертели и дёргали, о чём-то пытали, грозили плетьми. А низкорослый и широченный в плечах печенег, который тащил Бразда из воды, указывал плетью в сторону реки. Наверно, объяснял, как и где дело было. Печенеги погалдели, скоро разошлись: невелика радость — глазеть на чужую добычу!
Бояна и Бразда связали одной верёвкой и пинками загнали под кибитку на высоких деревянных колёсах. Квадратный печенег долго стоял рядом, довольно потирая руки. Потом ещё раз заглянул под кибитку на нежданно приобретённый полон и ушёл вглубь стана.
Вольга облизнул пересохшие губы и, пятясь с обрыва, спустился в прохладную глубину оврага. В густой поросли высокого разнотравья отыскал маленький ручеёк. Пил, пока от студёной воды не заломило зубы, потом поднялся с земли, осмотрелся. Свежая вода взбодрила, прибавила сил и на время отвлекла от желания поесть: взятые из дома куски хлеба съели вчера вечером с собранными ягодами.
«Вечер близится, надо сладить жильё к ночи. Не спать же зайцем пугливым под кустом! Как знать, когда выйдет случай помочь друзьям. А одному мне, без Бояна и Бразда, ход в Белгород заказан!» — рассуждал Вольга, пробираясь вверх по ручейку: там заросли кустов под кронами деревьев гораздо гуще. Неожиданно открылась маленькая полянка, в четыре-пять шагов, густо заросшая осокой, а в самом центре зеркальце воды поблескивает, величиной не более щита отца Михайлы. Щит этот висит у них на правой стороне от двери в горницу.
— Славное место, — не удержался от восклицания Вольга. — Близ родника и сооружу себе жильё. Вот здесь, чуть повыше, на склоне, безопасно под корневищем и не так сыро от воды будет.
Под раскидистым кустом волчьей ягоды Вольга расчистил место и застелил травой потолще, а потом долго плёл ограду из гибкой лозы между веток куста: не подкралась бы ночью какая-нито хищная тварь. В овраге потемнело быстро. Вольга ещё раз поднялся наверх. Вокруг Белгорода горели сторожевые костры, их пламя наискось плескалось в порывах южного ветра. Вольга посмотрел вверх — не ждать ли нынче желанного дождя? Луна на небе соперничала в яркости со звёздами. И ни единого облачка, лишь у самого северного горизонта серо-тёмной полосой, будто цепь холмов, бугрились далёкие тучи.
— Светло как! Не подойти будет к кибитке, дозорные увидят. Надо ждать беззвёздного неба, — твёрдо решил Вольга и вернулся в своё жилище. Уже на ощупь запутывал за собой лаз под куст, потом проверил, не нарушил ли кто плетёной изгороди вокруг ложа. Успокоился — всё цело. Спиной прижался к застланным травой корневищам, согревая траву и сколько мог — себя, а нож прижал к груди: с оружием и во тьме не так страшно. В глубине оврага, ближе к реке, торопливо, будто запыхавшись, проухал филин. Ему в ответ боязливо застрекотала сорока, но тут же умолкла, опасаясь глазастого соседа. Потом зашумел, в листве запутавшись, запоздалый ветерок. И всё стихло надолго, только чуть слышно позванивала вода родника, стекая струйкой с какой-то неровности. Вольга поёжился, вдавливаясь в травяное ложе.
— Рядно бы теперь подостлать — славно было бы, — беззвучно, одними губами, проговорил Вольга. — А дома, поди, отец Михайла теперь на лавке сидит, печалится. Или посечь плетью грозит, чтоб в другой раз не уходил так далеко от города… Старейшина Воик меньшому братцу Вавиле в ночь сказы сказывает о русалках, чудных девах. Живут они по берегам Ирпень-реки. У русалок вместо ног — лапы гусиные. Зимой они в земляных норах прячутся от стужи, а по весне из нор выходят и в воде резвятся. В середине лета, как раз об эту пору, русалки начинают из воды выходить и на деревьях ночевать, да песни зазывные петь. Иной добрый молодец, сказывал старейшина, заслушается и набредёт на них. Они его очаруют, закружат, в прятки играть принудят, а потом защекочут до смерти и уволокут с собой в воду… Не их ли это пение еле слышно? — Вольга затаился всем телом.
Долго прислушивался Вольга к ночным звукам: не идёт ли кто, не крадётся ли зверь какой? Но скоро усталость и пережитый днём страх взяли своё, тело размякло, согрелось в траве. Веки сомкнулись, но в уши ещё долго шептал о чём-то сонный лес. Отцовский нож выкатился из раскрытой ладони и упал на смятую траву…
И пошли дни, похожие, как звёзды на небе, только и разницы, что одна чуть ярче другой. Для Вольги же дни были ярче, если удавалось добыть какой-либо корм. Два раза пытался Вольга проникнуть к печенежской кибитке, под которой ночевали его друзья, но луна в эти ночи светила на всё небо, и сторожевые воины у костров не дремали — опасались, должно, вылазки русичей из крепости.
На четвёртый день Вольге удалось раздобыть толику дикого мёда из старого дупла, разогнав пчёл дымом от зажжённого пучка травы, и теперь страшная жажда мучила его неотступно. Проснувшись поутру, Вольга разгрыз несколько прошлогодних орехов: белка на зиму приготовила в старом дупле осокоря, да обошлась, не потратила. А может, попала в петлю охотника или стрелой её взяли. Однако орехи только усилили жажду, пришлось спешно выбраться из жилища к роднику. Но воды испить Вольга не успел — на краю Перунова оврага со стороны печенежского стана послышались чужие голоса, и кто-то начал спускаться по откосу.
— Опять находники! — чуть не вскрикнул Вольга и ужом шмыгнул в кусты. Потом вполз в своё укрытие, затаился там и сквозь узкую щель между прутьями стал смотреть в сторону поляны. — Неужто заметили меня и решили изловить? — торопливо рассуждал он, чувствуя, как от подступающей тревоги перехватывает дыхание. — Если приблизится кто — ударю ножом прямо из куста! А потом буду уходить вниз, к реке. В дебрях им меня так легко не взять, не степь это.
Но спустился всего лишь один печенег, молодой и плохо одетый. Вместо меча у него при поясе висел большой нож с деревянной рукоятью. Вольга понял, что это слуга. Хозяин остался наверху: его конь бьёт копытами о сухую землю. Молодой печенег продрался к роднику сверху по оврагу, где Вольга ещё не был ни разу, и увидел примятую у родника траву. И свежие следы увидел на песочке, тут же вскинул голову и что-то прокричал вверх. Но с кручи ответили резко, и печенег снова посмотрел на родник, затем глазами стал ощупывать заросли. И показалось Вольге, что взгляд находника на какой-то миг встретился с его взглядом. Вольга даже веки смежил до боли.
— О-а-ай! — раздался вдруг совсем рядом истошный крик. Вольга открыл глаза и увидел, как печенег замер неподалёку над чем-то, потом отпустил ветки куста и быстрее степного скакуна кинулся прочь от родника, не разбирая дороги. Потом застучали копыта над Перуновым оврагом, и всё стихло. Вольга сидел долго, затаясь, ждал — вот-вот печенеги вернутся в большем числе и обшарят овраг. Но степняки не шли, и Вольга постепенно успокоился, вылез из своего укрытия, осторожно пошёл в кусты.
— Чего это так испугался печенег? — тихо сказал он сам себе, прошёл чуть в сторону от родника, шагнул к кустам, раздвинул их, и… крик ужаса вырвался у него, а ноги стали каменными, и не было сил оторвать их от земли.
Прямо перед ним на крутом склоне полулежал огромный человек — чудище! Немигающие глаза-чаши придавили Вольгу тяжёлым взглядом. Над плоским лицом, изувеченным глубокими морщинами и шрамами от ударов топора, остро торчал грубый широкий нос. Но страшнее всего был оскал бездонного рта. Ещё миг, казалось Вольге, и из этого огромного рта вырвется звериный рык, взметнутся из травы огромные длиннопалые ручища, охватят его, сомнут и втиснут головой вниз в голодную и тёмную утробу!
И в тот момент, когда Вольга собрал остатки сил и готов был уже отпрянуть назад, по этому страшному лицу пробежала гибкая зелёная ящерица. У чудища не дрогнула ни одна морщина.
— Ух ты-ы, — выдохнул наконец-то Вольга. Горячая кровь волной прошла по телу. — Да ведь это же дедушкин бог — Перун! Вот кто напугал печенега! — и Вольга тихо рассмеялся, вспомнив, что и сам был близок к тому, чтобы метнуться из Перунова оврага прочь, куда глаза глядят. Он отпустил ветку и смахнул со лба холодные капли пота.
— Расскажу старейшине Воику, как напугал и спас меня его старинный бог Перун. — Вольга осмелел, пролез в кусты и встал над идолом. Могучее когда-то дерево почернело, а вода и жуки во многих местах источили его за минувшие годы. Нет больше мудрых волхвов[85], мазавших лик Перуна жиром и кровью жертв. Отвергнутый теми, кого не так давно ещё вдохновлял на ратные подвиги, Перун теперь гнил в сыром полумраке, а пройдёт время, и люди совсем забудут его, только и останется одно название оврага…
Вольга вернулся к роднику утолить невыносимую уже жажду. После воды в желудке на время пропала голодная резь. Он вытянул усталые ноги и расслабился. И тут над головой нежданно грохнуло! Вольга вскочил, прислушался. Не почудилось ли? По правде ли гроза собирается? Последние дни так нещадно палило над степью солнце! Но нет, не обманул его гром! Вот упали на листья первые редкие капли — словно дозорные близкого дождевого войска, которых выслали впереди себя тучи сообщить людям о своём скором приходе!
Вольга вскинул голову к небу, а полнеба там, за ирпеньским лугом, уже за тучей не видно. Темень какая! Обрадовался несказанно: ко времени гроза! В дождь ни один печенежский костёр гореть не будет, и дозорные укроются в кибитках! Вольга полез на кручу. Успеть бы приметить, куда находники денут его друзей? Не взяли бы в кибитки. Но зачем им чужаки в кибитках? Не жалели их прежде, плетьми секли, коней чистить заставляли по всем дням!
У края оврага Вольга присел под кустом шиповника, огляделся. Небо над Белгородом тоже потемнело, но туда, дальше над Днепром, оно всё ещё голубое и тёплое. Вольга тихо засмеялся:
— Ага! Засуетились, находники! Не любо вам мокнуть!
Печенеги ловили коней, привязывали их к кибиткам, путали им ноги, чтобы не ушли далеко, напуганные громом и сверканием молнии. Вольга видел, как подошёл низкорослый печенег к полонённым отрокам, как проверил верёвку, надёжно ли завязано, а потом вдруг замахнулся на них плетью. Отроки, связанные по ногам и рукам, спасаясь от побоев, закатились под кибитку и там замерли, прижавшись друг к другу.
А по заирпеньскому лугу уже быстро шла косая и плотная стена дождя. Гнулась к земле трава. Печенежские кони приседали под громовыми раскатами и ударами упругой водяной струи, а затем их и вовсе не стало видно. Ливень хлестнул по камышам на том берегу, взбаламутил, выхлестал речную поверхность, а потом лихо взбежал на правобережный откос и в дебрях Перунова оврага зашумел листвой.
Вольга стиснул веки, ладонями укрыл голову, а тело напряглось в ожидании холодного и мокрого удара в спину. И ливень окатил его тысячью крупных и тёплых капель.
Вражий стан утонул во мраке неистового дождя. Вольга вскочил и бросился вперёд, через поляну с редкими кустами багульника. Он не думал, что и сам может попасть в полон, что и его могут изловить и связать накрепко. Он спешил вызволить друзей. У тонкой берёзки Вольга упал на мокрую траву — до кибитки было рукой подать! Пополз, а в душе хлестали волны счастливого ожидания — удастся ли? А вдруг и сам разделит с ними нелёгкую участь рабов, проданных за море на рынках Корсуни или далёкого Царьграда?
В темноте — да и глаза заливало дождём! — едва не ударился головой о большое деревянное колесо, потом нащупал верёвку и легонько потянул её на себя.
— Вольга-а, — прошептал Боян, не веря увиденному, а глаза — во всё лицо, и губы растянулись от удивления и радости.
— Тс-с-с! — чуть слышно предупредил Вольга и сделал предостерегающий жест рукой: над ними в кибитке бубнили и возились печенеги. Вдруг чья-то нога в грубом кожаном сапоге свесилась через край — у Вольги сердце едва не оборвалось — попала под струю дождя и так же неожиданно метнулась вверх и исчезла, а в кибитке послышался смех и хлопки ладонью о что-то мягкое.
Вольга ножом разрезал верёвки на друзьях, осторожно попятился из-под кибитки и поманил отроков. Жирная земля раскисла, жадно впитывала влагу. Неслышно проползли по неглубокой канаве в сторону ирпеньской кручи, потом по склону берега, скользя на мокрой траве, ползли к оврагам Трёх Богов. Сквозь шум ливня совсем рядом, над берегом, слышен был приглушённый говор дозорных печенегов и фырканье мокрых коней.
И вдруг — резкий уклон вниз. Первый из трёх оврагов!
— Вот и табунов печенежских не слышно. Утекли! — прошептал Вольга и мокрыми, выпачканными землёй руками обнял Бояна и Бразда за трясущиеся плечи, потом начал поочерёдно подталкивать отроков вверх.
Дождь хлестал нещадно, ноги скользили по размокшей земле, и приходилось ползти, цепляясь за любой выступ, за старые корневища, за ненадёжные кустики полыни. Вольга тянул Бразда, а себе помогал ножом, вгоняя его по рукоять в склон оврага. Боян карабкался рядом сам, закусив от натуги побелевшие губы. Но вот и ров остался позади, влезли на вал, а затем коснулись руками мокрых брёвен стены. Не верилось, что дома, что это Белгород!
— Теперь влево, к воротам, — торопил Вольга товарищей, чувствуя, как силы оставляют его. — Стража стук наш услышит и впустит в крепость. Ноги еле держат от голода…
Вдруг Бразд поскользнулся, вскрикнул и, чтобы не упасть, ухватился за платно Вольги. Сверху раздался крик:
— Кто там? Эй, берегись — печенеги под стенами! Камнями их!
Над частоколом взметнулись копья, чей-то меч ударился о щит: дружинники поспешно занимали свои места, чтобы встретить находников, исполчившись для сечи.
— Это мы, русичи! — что было сил закричал Вольга, опасаясь, как бы сулицу не метнули сверху, а то и камнем прибьют до смерти! Дождь продолжал лить так, что глаза приходилось прикрывать ладонью. — Это я, Вольга, сын кузнеца Михайлы! Впустите нас! Иззябли от мокроты!
Чья-то голова свесилась над частоколом, но из-за ливня не разобрать было — чья. Засуетились на стене: не обман ли? Не затаились бы печенеги во рву, малых пустив вперёд!
Сверху со струями дождя упал голос Янка:
— Вольга, ты ли это? Крикни громче!
— Я это, братец, я! Спусти нам лестницу, мочи нет под дождём стоять, да и есть страх как хочется!
Янко узнал брата, тут же лестница опустилась со стены на вал, а на помосте их по одному принимали сильные руки воеводы Радка.
Вольга поднялся последним, встал босыми ногами на мокрые доски помоста и припал лицом к холодной кольчуге Янка. Тело тряслось от озноба, а потом Вольга вдруг медленно повалился на мокрые брёвна: усталость и пережитое минувших дней выходили из него мелкой дрожью с остатками последних сил.
Янко торопливо подхватил брата на руки, но Вольга уже не чуял этого: в голове стоял лёгкий и будто далёкий звон колокола.
Коварство врага
А злое несчастьице, братцы, состоялося,
Безвременье велико повстречалося.
Былина «Васька-пьяница и Кудреванко-царь»
Ласковое солнце шагнуло в город через частокол со стороны Киевских ворот. Понежилось малость на мокрых деревянных крышах высоких теремов, скользнуло вниз и продвинулось к затенённым стеною землянкам. Здесь надолго прилегло на крышах холопских жилищ, дожидаясь, когда проскрипит покосившаяся от времени дверь и можно будет по смотреть, а чем же питаются поутру убогие, сытно ли им?
Прозрачная дымка встала над просыхающим Белгородом. Притих в последние дни город, почти не осталось скота на его тесных улицах, не слышно уже детского смеха, зато голодные псы всё чаще схватываются у стен из-за обглоданных до белизны костей. Заметно поубавилось и коней на подворье княжьего терема: корма коням взять было негде, вот и резали поводных коней, сберегая запас в клетях для других времён.
Вольга уловил запахи мокрой полыни, дыма от углей из кузницы за домом, с трудом привстал с ложа, сел. Голова кружилась, слабость была непомерной, а тело какое-то далёкое, не своё вроде. Рядом, широко раскрыв рот, стоял полуголый — без ноговиц — Вавила, палец в рот засунул и на него смотрел с любопытством, не решаясь о чём-то спросить. Вольга улыбнулся малому братику. Повёл лопатками, сгоняя остатки сна. Утро вошло в горницу уже давно. За стеной слышен звон из кузницы: дзинь-дзинь-бум! — так перекликался большой молот и маленький молоток, ударяясь поочерёдно о крепкую наковальню.
В избу вошла мать Виста с пустой корчагой в руках — пить носила мужу в кузницу.
— Мати, — простонал Вольга и руками схватился за пустое чрево. — Поесть бы чего сытного. Окромя слюны густой давно уже ничего не ем.
— Испей поначалу мясного отвара, сыне. Так повелел старейшина Воик. А есть будем только ближе к полудню, — сказала она. — Печенеги выбрали для находа голодное время: старый хлеб почти весь съели, а новый на поле ещё стоит. Да и соберём ли его? Не пожгут ли печенеги?
Вольга трясущимися руками поднёс миску с мясным отваром, выпил с жадностью, отдышался.
— Пойду я, мати, погреюсь на солнце.
Вольга порадовался свежему утреннему небу — будто и не было минувшим днём лютого ливня! Удивился, увидев чью-то телегу во дворе. Над телегой сооружён навес, покрытый серым пологом. Вчера в дождь и не разглядел этого. Край полога откинулся, выглянули две всклокоченные девичьи головы, и белые зубы сверкнули на загорелых лицах: так иней сверкает, когда на него падает чистый луч утреннего солнца. Перед Вольгой появились две стройные девушки в длинных платнах из белого домотканого полотна. Старшая была обута в мягкие сапоги, а меньшая, босая, стояла чуть позади и смущалась. Вольга переступил босыми, мокрыми от росы ногами — зябко вдруг стало, подумал, не вернуться ли в дом да обуть постолы[86], которые совсем недавно сплёл ему старейшина Воик.
— Ты — Вольга? — спросила или уверенно назвала его та, что постарше. Вольга не разобрал по тону, занятый своими мыслями. — Меня зовут Ждана, а это моя сестра Арина. Мы у вас живём с начала осады.
Ждана улыбнулась. У Вольги вдруг уши стали горячими, но тут во двор с улицы вошла незнакомая женщина. Вольга сразу догадался, что это их мать — так схожи.
— Вот и хорошо, что ты встал, — сказала женщина так просто, будто всю жизнь знала его. — А то Василько и Милята, сыновья мои, всё утро порывались к тебе, да отец Антип не пускал их, чтобы не будили тебя. Они сейчас коня пасут где-то возле вала.
«Это славно, что и ребята у них есть, веселее будет», — обрадовался Вольга. Потом он сидел рядом со старейшиной Воиком на тёплой колоде у стены и торопливо, перескакивая с одного на второе, рассказывал ему, как и что с ним было в Перуновом овраге. И про печенега напуганного сказал.
Старейшина Воик поднял лицо к небу и к тёплым лучам:
— Это я просил великого Перуна хранить тебя и помогать тебе! Он был рядом с тобой и отвёл беду.
А затем они долго сидели, думали каждый о своём: Вольга о том, что будет с ним через годы, когда вырастет и станет княжьим дружинником, а старейшина о том, что уже было когда-то.
Вошли во двор Боян и Бразд. Вольга к Бразду кинулся и увидел тёмные тени под глазами. «Наверно, плакал всю ночь по отцу Славичу», — догадался он, спросил ласково:
— Как матушка твоя Любава, здорова ли?
— По горнице всё ходит, — ответил Бразд охрипшим голосом и не сдержал тяжёлого вздоха: — Ох и рада была, когда дружинники привели меня домой! А теперь от себя отпускать не хочет, страшится: один я с нею остался.
Старейшина Воик подал голос от стены:
— Дерево сильно корнями, а род человеческий — детьми. Потому и тревожится Любава. Все согласно промолчали.
— Вольга, смотри, на стене суета какая-то, — прервал вдруг недолгое молчание старейшина. — Сведайте, что там, потом мне скажете.
На южной стене, близ правой башни, Вольга отыскал старшего брата. Рядом с ним были и его друзья: коротконогий и сильный, с румянцем во всю щёку Згар и Борич — тонкий, с неулыбчивым, строгим лицом. Дружинники смотрели через частокол в степь.
— Что тут, Янко? — спросил Вольга, тяжело отдыхиваясь после крутого подъёма на стену по лестнице. — Меня старейшина послал узнать для пересказа.
— Печенежский посланник стоит у стен, а рядом с ним переводчик. Посадника кличут, сказать что-то хотят.
Вольга выглянул за частокол — первый раз он смотрел на печенегов сверху — и подивился: какое несметное войско у кагана! До края поля на юг, казалось, всё уставлено печенежскими кибитками, вытоптано конями, задымлено тысячью костров! И какой же силой надобно подступиться князю Владимиру, чтобы освободить Белгород из осады!
Опустил взгляд под стену — на печенежском посланнике красивый, алого цвета халат, исшит серебром — так и сверкает на солнце.
За спиной послышались голоса.
— Посадчик Самсон идёт. Пропустите посадника.
Друзья прижались спинами к дубовой стене, прохладной и влажной с минувшей ночи, пропустили тучного посадника Самсона. А он шёл важно, руки заткнув за широкий пояс, надёжно поддерживавший дородное чрево. Длинный меч постукивал о левое бедро при каждом тяжёлом шаге. Посадник шевелил толстыми губами, глаза из-под век буравили каждого, кто стоял, потеснившись на помосте.
— Дюж наш посадник, — послышался приглушённый голос Борича. — Отчего бы ему и не выйти супротив печенежского кагана на поединок? Сколько холопов потом бы восхваляли Тимаря за избавление от купы!
Янко и Згар тихо рассмеялись. Следом за посадником на помост поднялся воевода Радко, встал рядом, в степь внимательно поглядел, стараясь по поведению печенегов догадаться, что же надумали вороги.
— Кто говорить со мной хочет? — спросил посадник Самсон, вскинул на частокол руки, на пальцах — каменья в золотой оправе. Ежко, торговый муж, повторил слова посадника на печенежском говоре.
Печенег на белом коне кричал в ответ долго, то утихая голосом, то поднимая его с угрозами, так что Ежко едва успевал повторять его слова:
— Говорит с тобой, посадник, знатный князь Анбал из рода славного Кури — что по-нашему значит «Вол», — добавил от себя Ежко. — Великий каган Тимарь с немалым войском пришёл на Русь отомстить князю Владимиру за старые обиды. Но великий каган не станет проливать кровь русичей, если посадник соберёт всё золото и серебро да каменья драгоценные, какие имеются в городе, и отдаст это великому кагану. А чтобы не было утайки и обмана, дань с каждого двора соберут верные люди кагана. Тогда каган Тимарь даст мир русичам и уйдёт в степь. Если же день пройдёт, а великий каган не получит выкупа, его войско возьмёт Белгород на щит и пепел развеет на месте вашей крепости!
Ежко умолк, потому что кончил кричать князь Анбал. Переглянулись воевода Радко с Ярым, почесали бороды в недолгом раздумии и разом улыбнулись: коль заговорил каган о выкупе, знать, что-то тревожит его, не надеется взять город приступом или измором. Лёгкой кровью думает поиметь из Руси доходного данника!
А посадник Самсон тем временем ответил печенегу, и Ежко перевёл на язык степняков:
— Пока каган и его войско будет стоять под Белгородом, подойдёт с дружиной князь Владимир и укажет Тимарю путь из земли Русской!
Печенег в ответ обидно рассмеялся:
— Великий каган знает, что князь русичей с дружиной ушёл к Студёному морю воев собирать. Вернётся не скоро, когда Белгороду уже не быть городом! А жителям не быть живыми!
Посадник Самсон повернулся к воеводе, на лице растерянность, и голос дрогнул, когда он произнёс:
— Как мог Тимарь узнать об уходе князя из Киева? Не с того ль так смело и скоро подошёл под наши стены? Что отвечать будем, воевода Радко?
Воевода Радко расправил плечи, поджал крепкие губы, молча оглянулся на город, словно оттуда знак ему кто-то должен был подать.
— Отвечай им, посадник Самсон, что таково, я уверен, и мнение всего городского люда: Русь не была и не будет в данниках у печенегов! Возьмут нас силой — тогда возьмут и наше злато-серебро. Получит с нас выкуп Тимарь — зачем тогда ему здесь стоять? На другие города кинется. Нам надо их под собой удержать, чтобы Русь на великую сечу смогла исполчиться!
— Ну, стало, так тому и быть, — посадник перекрестился и ответил печенегу как мог громче: — Злата и серебра немало в Белгороде! Но велико и войско печенежское, на всех не хватит. Пусть каган шлёт на стены своих храбрых воинов. Кто первым поднимется, того и одарит наш ласковый воевода!
Печенежский князь Анбал вздыбил коня и повернул прочь, его провожал дружный смех белгородцев. И вдруг, глуша этот смех и ширясь, со степи к Белгороду покатился гул криков тысяч взъярённых людей. Вольга выглянул за частокол — печенежское войско волновалось, всадники садились на коней, пешие метались с места на место, будто все что-то искали и никак не могли найти.
— Что с ними деется? — удивился Вольга. — Будто смолой горячей на них кто из ковша плеснул!
— Ждали даров немалых, а дождались зова на сечу, — пояснил Янко, а Вольга с беспокойством подумал: «Ну как и в самом деле кинутся вороги на Белгород! А у нас даже сулиц лёгких нет в руках!»
Вольга осмотрелся, глазами поискал себе какое-нито оружие, но кроме куч камней под стенами, у ног ничего не было.
— Изготовьтесь! — крикнул воевода Радко ближним дружинникам, а те передали слова воеводы дальше, и Белгород ощетинился многими сотнями копий. Снизу по тесным улочкам бежали горожане кто с чем.
Сверкали на солнце тысячи кривых печенежских мечей над головами, острыми колючками вздыбилось копьями печенежское войско, криком исходило, готовое в один миг покрыть собой малое пространство от стана до крепостного рва.
Но выехал к крепости только один, на вороном коне, и сам как степной буйвол — широкий в плечах, большеголовый, длинным копьём играл, как ребёнок невесомым гусиным пером. Печенег остановился против места, где стояли воевода Радко и посадник, и что-то кричал, то и дело вскидывая копьё над головой в широченной меховой шапке.
— Чего вещает? — спросил воевода Радко. Ежко скривил худое и длинное лицо, подёргал тонкими пальцами рыжую бороду. Когда отвечал, глаза, прищуренные, повлажнели, словно боль нестерпимая подступила к сердцу торгового мужа:
— Бранит нас скверными словами. Русичей называет трусливыми и жирными баранами. На бой в поле зовёт. — Ежко продолжал говорить размеренным голосом, будто и не речь ворога пересказывал, а укачивал в колыбели малого ребёнка, и только красные пятна на щеках выдавали ярость, которая кипела в его душе. — Зовёт он себя непобедимым богатырём по имени Куркач да похваляется при этом, будто нашего Славича, брата моего, жизни лишил! Его, дескать, копьём сбит на землю и его конём стоптан!
— Что-о? — закричал Янко так громко, что Вольга в испуге отпрянул от брата. — Так это он Славича жизни лишил? Пусти меня в поле, воевода Радко! Дай сойтись с ворогом! Хочу за Славича кровь печенежскую пролить!
Но воевода Радко посмотрел на Янка грустными глазами — о Славиче ворог напомнил похваляясь — и не разрешил:
— Нет, Янко. В поединке с таким сильным богатырём нужна сила крепкого мужа и опыт зрелого ратоборца. Рано тебе, Янко.
Янко огорчился отказом воеводы, он даже пальцы закусил от досады, а потом в степь глянул, примеряясь: не взять ли печенега стрелой? Но опасается находник, близко к стене не подступает.
Подошёл киевлянин Вешняк и голову преклонил перед воеводой в просьбе:
— Дозволь мне выйти на поединок, воевода Радко. Надо проучить печенега. Негоже позволять поганым дурными словами чернить доброе имя русских дружинников.
— Иди, Вешняк, — и воевода Радко перекрестил Вешняка, будто он был епископ Никита, ныне сидящий в Киеве из-за осады. — Помни: у тебя за спиной будут открытые ворота — не кинулись бы туда коварные степняки. С богом, Вешняк, за землю Русскую, за честь её!
Вешняк выехал из ворот, обогнул угол крепости по ирпеньскому пологому склону, направляясь к правой башне, чтобы потом выехать перед крепостью на ровное место.
Едва Вешняк появился перед южной стеной, как Куркач что-то выкрикнул, склонил копьё к шее коня и ринулся с места. Вешняк же спокойно взял круглый щит из-за спины, копьё с широким наконечником изготовил и только тогда тронул коня в тяжёлый бег.
Полегла трава под жёсткими копытами. Сошлись ратоборцы, и услышал Белгород, как глухо стукнулись копья о крепкие щиты, но тут же разминулись конники, разъехались, развернулись и вновь пустили коней навстречу друг другу. И снова опытные ратоборцы приняли острые копья в центр щита — так, чтобы чужое копьё не поранило всадника или коня. Чёрная земля летела из-под копыт, когда сходились они в третий раз.
— Бей же его! — не выдержал Вольга и кулаками до боли ударил по бревну частокола.
— Круши поганого! — неслось со стен Белгорода.
Между всадниками оставалось не более пятидесяти шагов, когда случилось невероятное для поединков: конь под Вешняком вдруг заржал и поднялся на дыбы, а Вольга — да и весь Белгород! — увидел длинную стрелу, торчавшую в шее коня. Кто-то из печенегов умышленно нарушил неписаный закон единоборства и сразил коня под русским всадником.
— О-ох! — тяжко и разом выдохнула крепость, а Вольга в ужасе схватился за голову.
— Убит! — прокатился чей-то крик отчаяния, и все увидели, как упал Вешняк в мокрую траву на ничейном поле.
— Жив! Жив! — кричали разом, забывшись, воевода Радко и Янко.
Вешняк был уже на ногах: он сам оставил седло, опасаясь, что конь, падая, придавит и его к земле. И тем спас себе жизнь — Куркач изготовился было ударить его копьём, но скользнуло вражье копьё над пустым седлом падающего коня. И тут показал Вешняк силу! С невероятной быстротой обернулся он вслед проскакавшему мимо печенегу и метнул в спину тяжёлое копьё. Куркач взмахнул руками и рухнул на землю сразу: копьё потянуло вниз. В тот же миг Вешняк был возле остановившегося коня и вскочил в седло, усмиряя чужого жеребца натянутым поводом.
— Берегись, Вешняк! — закричал воевода Радко, но вряд ли его услышал ратоборец. Весенним Днепром на порогах вскипело печенежское войско. Сотни конных устремились вдоль пологого берега Ирпень-реки, снизу вверх, к распахнутым воротам: земля загудела под ударами копыт.
— Поднять мост! Закрыть ворота! — по лицу воеводы Радка прошла судорога, и он метнулся на западную стену, но дружинники успели передать его повеление стражникам. Мост над рвом поднялся, когда до передних печенегов оставалось едва ли полста шагов. Сверху ударили стрелами русские лучники и вынудили степняков спешно отхлынуть назад: не удалась Тимарю задуманная хитрость — изгоном войти в крепость.
Но в поле остался Вешняк, и ярость врагов выплеснулась на него. До трёх десятков всадников ринулись к нему, копья выставив. Нет, не показал спины находникам русич! Копьём встретил и свалил ближнего, но тут же упал вороной конь, недолго послужил новому хозяину. Пеший Вешняк принял удары на себя один. Его широкий меч, как лозу гибкую, срезал неосторожного всадника, едва он приблизился к Вешняку, — а кому не хочется отличиться на виду всего войска!
Но вот пронеслись мимо печенежские наездники. Вешняк щитом прикрылся и неторопливо стал отходить к крепости, под защиту русских лучников. Недалеко уже осталось…
— Что делают, а? Что делают? — в ярости кричал Янко, хватаясь за рукоять меча, будто мог чем-то помочь отважному ратоборцу. — На одного — кучей!
У Вольги вдруг ослабели ноги — едва удержался за частокол: печенеги разом натянули луки, и десятки стрел ударили по Вешняку. Несколько стрел впились в щит — били почти в упор! Вешняк качнулся, пытался устоять, но не смог, упал сначала на колени, потом опрокинулся на спину, открытой грудью под тяжёлые копья. Янко вскрикнул и руками закрыл лицо, а Вольга плачущего Бразда оторвал от частокола, чтобы не видел младший товарищ, как дёрнулось под чужими копьями тело Вешняка. Не мог смотреть на это и Боян — спрыгнул с камня, который подложил себе под ноги, и опустился на холодный деревянный помост, уткнув лицо в колени. Крепкой бранью разразился Ярый и обнажённым мечом застучал о дубовый частокол:
— Дорого вы заплатите за Вешняка, за коварство своё! Попомните день этот!
— Ты прав, Ярый, — сквозь звон в ушах донёсся до Вольги голос воеводы. — Такое коварство на Руси не забывается! Нынче же ночью накажем печенегов. Пусть знает Тимарь, что в Белгороде нас достаточно, чтобы проучить находников!
Чьи-то сильные руки взяли Вольгу за плечи и подняли с помоста. Он открыл глаза — перед ним отец Михайло: лицо как из серого камня выточено, только глаза блестят, будто к ним сквозь плотные веки пробивается трудная мужская слеза. И Вольга не сдержался — ткнулся лицом в кольчугу отца и горько заплакал, сотрясаясь всем телом.
— Не плачь, Вольга, — утешал его отец Михайло. — Много смертей ещё придётся увидеть, пока будут стоять вороги под нашими стенами. Крепи своё сердце. Так надо.
Сеча во тьме
Они билися, рубились день до вечера,
А со вечера рубились до полуночи,
Со полуночи рубились до белóй зари.
Былина «Бой Алёши со Змеем»Воевода Радко призвал белгородцев на сечу, и они откликнулись дружным согласием, как откликаются послушные сыновья на тревожный зов любимого родителя, если они с ним заедино душой и телом.
— Теперь сил набирайтесь, а ночью ударим на печенегов, — сказал воевода Радко.
Михайло, возвращаясь с торга, куда собирали их на недолгое вече[87] воевода и посадник, думал вслух:
— Сил набираться — так надо бы поесть досыта. А на столешнице у нас ныне не много брашны уготовлено.
— Не пора ли и нам… — заговорил было Антип, едва поспевая за широко шагавшим Михайлой. Кузнец, будто ударившись о дерево, резко остановился. Понял, что ратай говорит о своём коне. Не ответил. Так молча и вошли на своё подворье.
— Отче, позри, сколь мы ныне травы нарвали! То-то Воронку сытно будет!
Василько, сияя голубыми глазами, поспешил навстречу Антипу и Михайло. Вольга, Милята, обе дочери ратая и малый Вавила толклись у телеги, в которой заметно бугрилась высыпанная из торбы слегка примятая трава.
— Где брали? — Антип сурово сдвинул брови: в крепости такой травы давно уже нет. Сберегая коней до крайней возможности, люди выщипали всю зелень на крышах землянок и на внутреннем склоне вала.
Василько опустил голову. Вольга замялся было, переступил босыми ногами. Но не врать же родителям! Повинился:
— За частокол ходили мы. Нам Янко лестницу спустил. Они вместе со Згаром перешли за стену. — Помолчал малость Вольга, с надеждой посмотрел на взрослых, добавил смелее: — Да и не одни мы спустились в ров, и другие были поблизости, кто посмелее. Для нашего бережения Янко упросил дружинников с луками встать на помосте.
Антип сдержал беспокойный вздох: уже трёх белгородцев побили насмерть печенеги, подкравшись в дебрях трёховражья! Да несколько таких же неуёмных отроков стрелами тяжко поранили. Долго ли до беды? А и запретить как? Для ратая конь равноценен жизни. Самого себя как жизни лишить?
Михайло тяжело повернулся к Антипу, уронил без излишнего разъяснения:
— А ты говоришь… Идём в кузню, посмотрим готовое рукоделие. Снесём торговому мужу Вершку, поменяем на резаны. Резаны снесём на подворье посадника и возьмём брашны, чтоб сила была для ночной сечи. — И прошёл мимо отроков, не сказав слова укора.
Долго перебирал в кладовой воинскую снасть: щиты, наплечники, шеломы и кольчуги, сготовленные ещё до печенежского прихода под Белгород и пока ещё не потребовавшиеся для нужд белгородцев. Всё это он, как и прежде так было, хотел передать торговому мужу Вершку, а тот в Киеве продал бы, взяв себе за посредничество десятую часть вырученных кун и резан. Михайло умел и любил рукодельничать, но не умел продавать, спрашивать достойную цену за свой труд.
Снесли тяжкую поклажу на подворье Вершка и долго стучали в толстые ворота, пока старый холоп не отворил им. На высокое резное крыльцо вышел чем-то растревоженный хозяин, строго глянул на Михайлу, на обвешанного оружием Антипа, недовольно молвил, раздувая толстые щёки:
— Надумал же! Будто назавтра у меня обоз в Киев намечен.
— Нужда торопит, Вершко, — пояснил неурочный приход Михайло.
— Несите, не гнать же с подворья вас теперь, — уронил в усы Вершко и, не обернувшись к пришедшим, медленно прошёл к просторной клети в глубине подворья. Снял запоры, открыл дверь. Словно опасаясь, что Михайло и Антип подглядят его богатство, сказал сурово:
— Здесь, у входа оставьте. Дале снесут холопы. — Отвернувшись, долго перебирал серебро на широкой ладони, потом протянул кузнецу. Михайло прикинул плату, и румянец гнева выступил на смуглых щеках. Голос дрогнул, когда с трудом разжал стиснутые губы:
— Почто же так? Али товар негож?
— Время негоже, кузнец Михайло, время-то вон какое лютое. А вдруг возьмут нас печенеги? Тогда и эти резаны мне в убыток пойдут, вороги весь товар поберут, — сказал Вершко, а сам глаза прячет от Михайлы, взгляд переводит то на венец дома своего, то на кресты близкой, сияющей на солнце церкви.
— Долго ли придумывал такое пояснение? — обиделся Михайло до лёгкого озноба в сильных руках. Теперь его волновало не малое число полученных резан, а слова торгового мужа. — Если возьмут город, то возьмут и головы наши. О резанах ли теперь тужить? Живым для жизни надо корм купить. — Михайло круто отвернулся от Вершка, дёрнул за рукав изумлённого ратая Антипа и пошагал прочь. На полдороге к воротам остановился и возвернул обиду торговому мужу:
— Ты, Вершко, печенегу уподобился в этот час, неправдою жить надумал. Живи, но помни, что бог неба воздаст тебе по делам твоим. Своё же рукоделие отныне сам в Киев возить буду. Нет к тебе доверия, исчезло, подобно дыму над дымником в ненастную погоду, верховым ветром разметало!
Когда возвратились домой и Виста приготовила ужин, Михайло призвал к столу Антипа и Луку с Могутой. Трапезничали ратники, потом отдыхали, а как опустилось солнце за лесистые увалы запада, встали на молитву за спиной старейшины Воика: кто знает, всем ли суждено вернуться с поля брани. Знали твёрдо лишь, что сеча будет лютая, не на живот, но на смерть!
Уже затемно все вышли во двор: Янко и отец Михайло в полном воинском снаряжении, а ратай Антип в шеломе со щитом, но кольчугу надеть отказался, тяжко в ней и непривычно ратаю. И меч Антип не взял, в руке у него топор на длинной рукояти. Это оружие ратай любил более другого, привычнее оно было ему. Вольга и Василько последовали за старшими, оба выбрали в кузнице короткие, по силам, сулицы. Женщин старейшина Воик дальше ворот из под ворья не пустил:
— Слёзы свои оставьте дома. Да молите богов, чтобы живы все вернулись. Не на охоту собрались мужи — ратоборствовать!
Обернулся Янко в последний раз, увидел мать Висту — руки на груди сложила, должно, молитву шепчут губы. Рядом в белом платне и с белой бородой старейшина Воик.
«А где Ждана? Заробела выйти вперёд матери своей Павлины, за спиной старших осталась…»
Мокрый торг — и за день не просох после вчерашнего дождя — заполнен белгородцами. Рядами стояли две сотни воев из пешей заставы воеводы Радка, а чуть поодаль, у Киевских ворот, возле коновязи, готовились к сече три сотни конных дружинников под началом Ярого.
Воевода Радко принимал белгородцев по одному и спрашивал:
— Чем владеешь? — и тут же с возов выдавал ратнику кольчугу, щит, а к ним меч или лук со стрелами, копьё или боевую палицу с острыми шипами. Одних посылал в сторону Киевских ворот, других собирал в десятки и направлял на стены — Белгород стеречь на время сечи.
— Михайло, — позвал воевода Радко, как только отец Михайло и Янко с ратниками приблизились к нему, — возьми под свою руку пеших белгородцев и пришлых. Мужи крепкие, к сече приучены. Будь им за младшего воеводу. Ты же, Янко, иди к заставе, там ждут тебя.
Янко простился с отцом глубоким поклоном, прошёл через торг и по улице к воротам, встал рядом с Ярым. Сотник, свесив на грудь седую голову, о чём-то сосредоточенно думал, изредка ковырял влажную землю склонённым копьём. Стояли так в молчании не долго — подошёл воевода Радко и руку на стремя коня Ярого положил.
— Сечу поведём, как условились, — сказал воевода. — Береги воев, Ярый. Сгибнет застава, коли печенеги замкнут строй за вашими спинами и путь на Белгород закроют. Держитесь кучно, когда назад станете пробиваться — отставших посекут находники без всякой для города пользы. Ночь вон какая тёмная, не растеряйте друг друга.
Ночная тьма, ветреная и неспокойная, с каждым часом набирала буйную силу. Луна то и дело ныряла в мелкие летучие облака, верховой ветер гнал их с севера, в сторону Дикого Поля. Между облаками возникали на миг и снова гасли настороженные звёзды, то в одиночку, то кучками — созвездиями.
— Как зажгутся у ворот два костра, отходите спешно — стало, дружина не в силах более сдерживать находников, — всё напутствовал Ярого воевода Радко. Ярый ответил:
— Сделаем всё, как задумали. Будут помнить степняки эту ночь! Устроим печенегам кровавую тризну! — Голос старого сотника налился гневом. Знал Янко, что у старого дружинника было в далёком прошлом другое имя, но за нрав свой, за неукротимую страсть в сечах с ромеями сам князь Святослав прозвал его Ярым. Носит он своё новое имя, как и многие шрамы на теле, уже не один десяток лет.
Ночь пошла на вторую половину и уже готова была уступить место ранней заре, когда бесшумно раскрылись ворота, осторожно опустился мост через ров.
— Ну, братья, послужим земле Русской, — глухо проговорил Ярый. Янко ударил коня, пригнул копьё в низких воротах.
Птицей-ласточкой из-под стрехи старого сарая на волю вырвались конные русичи на поле перед Белгородом. Остались позади ворота, ров и неширокое пространство между рвом и сторожевыми кострами. Упали печенежские стражи, так и не поняв со сна — то ли грянула на них дружина князя Владимира, то ли бог русичей послал этих крылатых батыров с тёмного неба. Не хотелось верить им, что малые числом белгородцы найдут в себе силы для такого удара.
Падали находники возле костров, падали на жаркие угли, и тогда на них загоралась одежда, чадя над полем. Конная дружина прошла сквозь полусонный, внезапным ударом растрёпанный стан, как проходит змеиноголовое копьё сквозь стог сухого сена. Не стал Ярый ввязываться в сечу с войском, которое строилось пока что в не связанные между собой сотни. Знал — как одной ладонью не собрать всего днепровского песка, так и дружиной в три сотни не перебить печенегов. Об ином мыслил воевода Радко, посылая Ярого. Нацелил он своих воев на поводных коней печенегов. В руках у русичей уже горели заранее приготовленные смоляные факелы на длинных древках, зажжённые от огня сторожевых костров. Вой голодной волчьей стаи, которому так умело подражали русичи, взбудоражил коней. Дикое ржание покрыло чёрную ночную степь и покатилось за Ирпень-реку, потом по просторному займищу к далёким тёмным лесам.
А русичи огненным полукружьем рассыпались, копьями колют и факелами жгут перепуганных коней, гонят их в угол между кручами реки и Перунова оврага.
— Янко, не забывай! — то и дело покрикивал сотенный Ярый. Но Янко и сам помнил: больше смотреть назад, не даёт ли тревожного сигнала воевода Радко, не пора ли идти городу на помощь?
— Нет костров! — отвечал каждый раз Янко, а сам продолжал скакать стремя в стремя с Ярым. Напуганный огнём и волчьим воем, ломая ноги, хребты, разбивая во тьме головы страшными по силе ударами копыт, рухнул с кручи табун. Лишить степняков поводных коней — значит лишить их силы и подвижности. Знал это опытный воевода Радко, давно приметил он, что печенеги значительную часть коней прячут на ночь позади войска, у Перунова оврага, потому и решил воспользоваться тёмной ночью и беспечностью врага, уверовавшего в превосходство своего бессчётного войска.
Не сразу разобрались печенежские князья, куда делась конная дружина урусов, и только когда разглядели у себя за спиной мелькание факелов, услышали жуткий волчий вой и дикое ржание гибнущих коней, поняли, какую беду принесла им эта ветреная облачная ночь. Вскочили в сёдла те, кто коней держал у кибиток. Скорее! Скорее туда, где носятся эти ночные духи с огненными факелами! Быть может, удастся ещё отбить хоть часть поводных коней, наказать урусов за дерзость. Урусы погнались за табуном и сами попали в капкан: из угла между крутоярьем и рекой им уже не вырваться к городу!
Взметнулись ввысь огнём тревожные костры у открытых ворот.
— Ярый! — закричал Янко. Но Ярый его не услышал.
— Ярый! — снова закричал Янко и коня ударил, настиг сотенного у самого обрыва. — Воевода зовёт нас. Печенеги пошли приступом.
— Идём, идём! — отозвался Ярый и повернул коня от кручи. — Все ко мне! Факелы в овраг! — и Ярый, надрываясь, по-волчьи трижды прокричал во тьму, созывая воев сомкнуться в тесный строй. И вот уже факелы брошены в овраг на тёмные кусты и на груды конских трупов. Затаилась русская дружина, вдруг растворившись во мгле предутреннего часа.
Янко до боли в глазах вглядывался во тьму — не подошли бы нежданно находники, не встали бы рядом, готовые к сече. Для бережения потянул из-за спины лук, а потом на тетиву положил стрелу, чтобы тут же пустить её при нужде.
* * *
— Теперь и нам пора! — проговорил воевода Радко и повернулся к Михайло. Они стояли рядом, у моста через ров, а ров влево переходил постепенно в трёховражье, разрезая кручу правобережья до самой реки и тем надёжно прикрывая тыльную, ирпеньскую часть крепости.
Михайло пристально глянул в сторону печенегов, но русских конников уже не было видно за отсветами сторожевых костров. Было жарко — то ли от волнения, то ли от этих вражеских костров, которые вздымались в небо всё выше и выше, поглощая брошенный в огонь сухостой. Доносились крики печенежских военачальников, созывавших свои сотни, скакали посыльные, щетинились густые ряды копий с конскими хвостами у сверкающих наконечников.
— Как повернутся на нас печенеги, — напутствовал воевода, — ты, Михайло, выводи ратников и становись по левую руку, от ворот и до оврагов, чтобы не обошли со спины. Стоять надо, пока Ярый не вернётся к Белгороду.
Воевода дал знак рукой, и дружина вышла из крепости, встала перед раскрытыми воротами. Огнём отсвечивали продолговатые красные щиты, и лица воев каменели в ожидании нелёгкой сечи. Вперёд поспешно выбежали проворные лучники и первыми ударили по находникам.
Стрелы русичей упали на спину печенежского войска нежданно — степняки готовились кинуться на конную дружину, полагая, что в городе нет больше воев. Вновь смешались печенежские князья, не зная, что предпринять: то ли искать во тьме невесть куда пропавших всадников, то ли ринуться на крепость и ворваться в неё, благо дружинников у ворот совсем мало. Пересилило второе желание. Полки повернули на Белгород.
Колючей смертной вьюгой хлестнули им в грудь безжалостные стрелы. Лучники пятились, опустошая колчаны, теряя товарищей, гибнущих от печенежских стрел, потом отошли под стены крепости.
— Настал и наш черёд, други! — громко прокричал Михайло, тряхнул копьём над головой и первым шагнул на мост.
Ратники, сгоняя холодное оцепенение в мышцах рук и ног, взбадривая себя криками, тронулись следом.
— За Русь!
— Смерть находникам! Смерть ворогу!
За Михайлой вышел первым Антип, а потом и Могута, подняв над собой тяжёлый, шириной более ладони, меч — Михайло специально для него ковал. Густо пошли на сечу белгородские ратники, широко загородили путь печенегам от ворот и влево до крутоярого, тёмного ночью оврага. Ударилась сталь о щиты и шеломы, а кто не успел закрыться, тот уловил в последний миг жизни, как сверкнул булат над головой.
— За Русь! За кров предков наших! — кричал Михайло, сокрушая наскакивавших печенежских нукеров. Рядом с ним бился воевода Радко.
— Железная рука у тебя, Михайло! — похвалил воевода, но Михайло не обернулся на голос: новый ворог встал перед ним. И всё же отметил, что воевода перешёл в центр дружины, имея теперь по правую руку дружинных воев, а по левую — белгородских ратников. И ещё подивился Михайло, на время отбившись от двух печенегов, великому мастерству воеводы. Отменный мечник, Радко легко, словно обучая небывальцев, вращал тяжёлым щитом, сберегая силу правой руки только для одного, рокового удара.
Против каждого русича было и два, и три печенега. И больше было бы, но подступиться не могли: глубокий ров и овраг не давали возможности обойти белгородцев. В грудь не пробиться — стеной сомкнулись щиты, а из-за щитов тяжёлые копья бьют, на место павших из задних рядов становятся свежие дружинники и ратники. А вскоре и лучники вновь подоспели к сече, сменили пустые колчаны на полные и встали на валу под стеной. Сверху, почти в упор, секут стрелы русичей в ответ на сотни ядовито жалистых стрел печенегов.
Пешие находники не выдержали сечи, отхлынули прочь — роздых взять, сменить уставших и раненых. А русичи тем временем новые копья взяли, взамен изрубленных мечами и секирами.
— Слышу топот конных, с правой руки, — громко оповестил Михайло, отыскивая взглядом воеводу Радка. Воевода откликнулся:
— Слышу и я. Тимарь со своими полками идёт сюда!
Михайло подёргал плечами под кольчугой, чтобы мокрое платно отстало от тела. Торопливо осмотрелся, отыскивая глазами своих товарищей. Ратай Антип неподалёку рукавом лицо вытирал, влажные чёрные волосы выбились из-под шелома. Чуть впереди Антипа брат его Могута на обнажённый меч облокотился и смотрит в сторону Перунова оврага — то ли Ярого высматривает, то ли печенегов поджидает, чтобы закончить прерванную сечу.
«Не надолго нас хватит стоять при такой убыли!» — с горечью подумал Михайло и посторонился — мимо поспешно уносили в крепость побитых белгородцев, уводили под руки тяжелораненых.
Освещённая двумя кострами у ворот, русская дружина казалась печенегам столь малой против их несметного числа, что, едва передохнув, они кинулись продолжать сечу, теперь уже до полного истребления упрямых русов. К высвеченным кострами воротам крепости хлынули стеной чёрные всадники.
— Сомкнись! — закричал воевода Радко. — Копья — в землю!
Михайло опустился на правое колено, устраиваясь поудобнее. Русичи укрылись щитами, а копья склонили впереди и чуть вверх, на уровень конских шей. Концы копий упёрли в землю, чтобы не соскользнули, когда конь ударится грудью.
— Спеши! Гони за смертью! — со злостью выкрикнул Михайло, видя, как на него неудержимо накатывается печенежский всадник, пригнувшись к гриве коня: опасается встречной стрелы.
Тонко хрустнуло, сломалось сухое древко, а над головой Михайлы замелькали копыта вздыбившегося коня. Рухнул замертво скакун, едва не сбил под себя вместе с хозяином и Михайлу.
— Берегись, Михайло! — закричал рядом ратай Антип. Кузнец отпрянул на шаг, щитом едва успел прикрыть голову. Щит дёрнулся от сильного удара: это уже другой всадник занял освободившееся место перед русичами, да воевода Радко и его сбил копьём, достал через плечо Михайлы. Рядом вскрикнул и повалился на землю под копыта степного коня незнакомый Михайло ратай, а из вспоротой копьём груди на белое платно густо пошла кровь.
Перед строем русичей бились в предсмертных муках израненные кони, выбирались из-под них перемятые и покалеченные всадники, спасаясь теперь не от меча или копья русича, а от тяжёлых копыт своих коней, гибнущих в свалке. Печенеги ярились в криках, топтали своих же павших, в неудержимой злобе рубили русичей и рвались к открытым воротам города.
— Мужайтесь, братья! — кричал воевода Радко, подбадривая дружину. — Не ломайте строя! Нам уходить нельзя! Наши братья там, за спинами печенегов! Их дождёмся либо костьми ляжем!
* * *
Вольга не мог устоять на месте. Сжав в руках сулицу, он суетился на помосте от страха за исход сечи там, под стенами, совсем близко от раскрытых ворот Белгорода. Что будет, если падёт дружина? Кто тогда прикроет крепость? Не много дружинников осталось с посадником на стенах, только те, кто были легко ранены у Роси. Лучшие ратники вышли в поле с воеводой. Вольга страшился до гадкого озноба на спине, а глаза, помимо воли, следили за скопищем дерущихся за рвом. Вдруг качнулась людская стена немного от рва, а потом ближняя часть осталась на месте, а дальняя оторвалась и попятилась назад, к сторожевым кострам в степи.
— Василько, смотри! — закричал Вольга и схватил друга за платно. — Смотри, бегут печенеги! Бегу-ут!
Василько же словно умер: стоял, похожий на каменного бога древних обров[88], могилы которых нередко встречаются в степях Приросья. Он грудью припал к брёвнам частокола, отца ли своего Антипа хотел увидеть в такой массе людей, а может, жалел, что не пустили его в поле, рядом встать. Боян, Бразд и Милята не находили себе места, жались к старшим товарищам, то кричали, радуясь, то с ужасом всхлипывали, видя, как много побитых и раненых русичей вносят в ворота и передают на руки жёнкам и престарелым мужам.
Торопливо прошёл мимо посадник Самсон, взволнованный, сильные пальцы стиснуты в кулаки и заткнуты за широкую перевязь, на которой висит меч. Посадник смотрел то за частокол, где на время прервалась сеча, то на старых белгородцев, которые вносили павших и крепко пораненных в крепость и отдавали родичам, хмурился — во многие избы и землянки этой ночью войдёт чёрная печаль утраты…
— Ох ты! Ох ты! — не сдержался и вскрикнул Вольга: пешее войско Тимаря посторонилось, а конное, быстро сокращая ничейное пространство, навалилось на дружину русичей. А потом всё смешалось в кучу человеческих и конских тел. Из этой массы у рва выкатывались и отлетали прочь то по одному, то группами печенежские всадники и зачем-то уносились назад, к своим кибиткам и кострам. Оттуда, из-за стены, из-за глубокого рва, доносились наверх то глухие, то звонкие удары мечей, ржание перепуганных скакунов. А над всеми этими звуками господствовал несмолкаемый крик тысячи людей, умирающих и живых.
И кто знает, долго ли продлилась бы эта страшная сеча, на сколько времени хватило бы стоящих на ногах русичей, не подоспей на выручку застава Ярого. Словно ястреб в утиную стаю — и пух в стороны! — ударила конная дружина русичей, железным клином рассекла отпрянувших в стороны пеших находников, а потом в спины конным степнякам вонзила длинные копья.
Только на малое время отвлеклись печенеги от дружинников Ярого, потеряли их во тьме, а может, решили, что дружина ушла совсем в Киев, как Ярый сумел собрать заставу и ринуться к Белгороду.
Вольга увидел прочь бегущих пеших находников, запрыгал в восторге, хлопая босыми ногами о прохладный в ночи помост.
— Ярый! Ярый! Други, то наши вон! То наш Янко возвращается!
— Уходят печенеги! Уходят! — это Василько вдруг скакнул на помосте, замахал руками над головой, едва сулицей не задев за голову откачнувшегося посадника. — Сбита их поганая сила! Сбита!
Печенеги убоялись, что русичи, набрав конями большую скорость, опрокинут их конской массой в крутоярые овраги. Они вывернулись из-под удара, отхлынули в обе стороны назад, разворачиваясь на ходу, чтобы теперь самим ударить по конной заставе, прижать её ко рву и к оврагам. Но ратники Белгорода начали спешно уходить через ворота, уступая своё место конной дружине: когда дело сделано, что за смысл и дальше испытывать горькую судьбу неравной сечи? За спиной Вольги раздался топот многих людей и чей-то крик:
— Место! Место дайте лучникам!
Вольга отпрянул от частокола к краю помоста, пропустил торопливо поднявшихся лучников. Промелькнул мимо них и бондарь Сайга, но на детей не помыслил даже взглянуть, лишь пахнуло от него привычным запахом свежих смоляных стружек. Вольга не видел, как падали печенеги под русскими стрелами, зато ему было хорошо видно, как входила в крепость дружина и конная застава.
— Что же мы стоим здесь? — спохватился Вольга. — Бежим к воротам. Своих встречать надо. Все ли живы?
Но в возбуждённой и разом говорящей толпе у ворот Вольга потерял друзей и сам разыскивал своего отца Михайлу. Нашёл его под чужой изгородью, близ ворот крепости, у вала. Кузнец сидел у придорожной канавы, вытянув ноги. Щит и шелом лежали рядом. Левой рукой отец Михайло то и дело прикладывал ко лбу белую тряпочку, испачканную кровью, а сам всё осматривался, своих поджидая. Вольга упал рядом, коленями на влажную землю.
— Отче, ты ранен? Сильно?
— Пустое, сыне, — отшутился отец Михайло. — Когда отходили, уже в воротах настиг меня печенежский подарок. Стрела ударила наискось. Только и беды, что сорвала кусочек кожи со лба, знать, лишняя была.
Прибежала мать Виста, подала мужу холодную воду в глубокой глиняной миске и, пока тот пил, осторожно вытирала кровь на щеках и на бороде, смачивая тряпочку в тёплой воде кувшина. И на кольчуге у отца Михайлы видел Вольга пятна крови. Своя ли, чужая — как теперь узнаешь. Хотел про брата молвить, но мать Виста опередила его.
— Янко наш где? — тихо спросила она, боясь услышать страшное. Отец Михайло успокоил её:
— Жив Янко. Сын торгового мужа Вершка в сече был поранен, так Янко сумел подхватить его из седла и привёз в город. На двор Вершка поехал теперь, а Вершко солёный пот сечи со слезами радости на щеках размазывал, следом бежал за конём.
Постепенно люди стали расходиться по своим подворьям, и гомон поутих, только жёны плакали над павшими, да ревели со страху малые дети. Сурово, в молчании стояли над погибшими сородичи, а оружие держали в руках, будто сеча всё ещё не кончилась для них и после малого роздыха предстояло выйти на судное поле мстить за убитых.
Ратай Антип и закуп Могута проводили отца Михайлу до ворот родного подворья, где встретил их старейшина Воик, прямой и вытянутый, с посохом в руке. Вольге показалось, что старейшина, увидев рану на голове сына, не опечалился, а даже лицом просветлел. Отец Михайло ему на это сказал:
— Не было, отче Воик, у наших дружинников, да и ратников тоже, крови на спине. Кто и пал, так только приняв удар в грудь.
Старейшина Воик молча посторонился, пропуская их во двор, откуда доносился вкусный запах варёного мяса. И только прикрывая дверь за собой, Вольга мельком взглянул на небо и подивился: на востоке уже полыхала кроваво-красная зарница наступившего рассвета.
* * *
— Сотника ко мне! — взъярился Тимарь, когда узнал, что на северной стороне лагеря погибли почти все поводные кони.
Бородой по траве — так взбирался на холм насмерть перепуганный сотник Осташ. Это его нукеры в минувшую ночь охраняли табун возле проклятого оврага. Не зря говорил на днях один из его нукеров, что видели в том овраге страшное чудовище. Не его ли это проделки? Осташ взбирался на холм, задыхался запахом истоптанной полыни и нащупывал под епанчой кису с дирхемами: если каган будет сильно гневаться, то придётся пожертвовать арабским серебром и тем спасти голову!
Сотник едва поднял глаза от светло-сизой полыни, как увидел рядом с Тимарем Тарантула со скрюченными пальцами на рукояти меча. Поймал взгляд Уржи, и ему стало дурно. Торопливо простёр руки к ногам кагана и заголосил:
— О великий каган! Мы всю ночь не смыкали глаз, — соврал Осташ. — Но откуда упали эти злые духи, никто не знает!
Тимарь даже подпрыгнул на месте, будто из-под бархатной подушки нежданно взвилась гремучая змея.
— Как! Ты даже не знаешь, откуда на тебя урусы свалились? — Тимарь выкрикнул эти слова с хрипом и плетью изо всех сил ударил лежащего у ног сотника. Осташ завыл от боли и передёрнулся всем телом. Из старой епанчи — знал, что будут бить! — клубом поднялась серая, пропахшая потом пыль. Тимарь отступил на шаг, озлился ещё больше. Седые усы дёргались, как у разъярённой рыси.
— Беспородная свинья! — и снова ударил по широкой спине, согнутой в рабской покорности. — Ты нарочно извалялся в пыли!
— Пощади, о великий каган! — молил сотник. — Пощади! — К ногам молча стоявшего Тарантула упала тяжёлая киса. Звон серебра был услышан. Поднятая для нового удара плеть опустилась уже почти безболезненно. Тимарь пнул сотника сапогом в бок.
— Ступай прочь, сонная старуха! Отныне тебе не нукеров водить в набеги, а быть конюхом при уцелевшем табуне! Ступай, или я срублю твою глупую голову! — Тимарь бросил плеть и вошёл в шатёр, по привычке закусил правый ус и задумался, уставясь в красный рисунок ковра. Он забыл на время о присутствующем в шатре сыне, об избитом сотнике и о брате Урже, который молча поднял кису с серебром. Вот уже сколько дней стоит он, Тимарь, со своими полками перед Белгородом! Стоит, как резвый конь, привязанный к дереву, а добычи всё нет. Ни ему, ни войску! Каждый день прибывают к Белому Шатру дозорные заставы и говорят, что окрестные пахари сходятся к Киеву, да и сам Киев не без защиты оказался, как уверял его в этом посланник византийского императора Торник. Туда, на Киев, звал идти сразу же от Роси и князь Анбал. Он кричал, что урусы из Белгорода не будут страшны печенегам, побоятся сойти со стен в поле.
— Вот теперь и видно, страшны ли урусы из Белгорода, — со злорадством пробормотал Тимарь, вспоминая, как трясся от злости Анбал, когда увидел своих нукеров, бегущих среди ночи на зов князя пешими. — Жаль, что и сам Анбал не подвернулся спросонок под меч бородатого уруса! Куда как спокойнее было бы ему, кагану… Вот если бы Анбалу удалось посечь урусских конников у брода, не дать им укрыться за стенами! Но что за польза теперь об этом горевать? Анбалу такой промах тоже зачтётся, при первом же случае.
Торопливый стук копыт нарушил мысли Тимаря. Донёсся снаружи чей-то встревоженный голос — человек просил встречи с каганом, потом о чём-то шептался с Уржей у края Белого Шатра. Тимарь, поглядывая на насторожившегося сына Араслана, услышал приглушённый приказ брата:
— Об этом молчать, иначе на себе прознаете, что не зря зовут меня среди нукеров Тарантулом! Головы поснимаю! — И смутное беспокойство подкралось, подобно безмолвной змее, к самому сердцу. Не успел Тимарь даже прикинуть, что за тревога может нагрянуть к нему, как в шатёр осторожно вошёл Уржа, прикрыл за собой тяжёлый бархатный полог, чтобы заглушить слова, сказанные здесь не для чужих ушей. Лицо у брата сумрачное, обеспокоенное, губы жуёт, задумавшись.
— Гонец из Саркела прибыл, — чуть слышно проговорил Уржа. — Урусы из Тмутаракани собирают дружину. Куда выступят? На косогов ли, а может, и на наши южные вежи ударят? Повелел я спешно слать нам вести о движении тмутараканцев.
Тимарь тяжело опустился на бархатную подушку, застонал:
— Удача покидает нас, брат, что делать будем? Прознают князья об угрозе своим вежам, начнут требовать, чтобы мы обезопасили свои земли на случай нападения тмутараканцев. А это значит — надо оставить Русь, уйти без чести, побитыми!
Уржа нервно сжал пальцы в огромный кулак, потом разжал его и ударил ребром ладони по своему колену, что-то решив про себя. Покосился на молчаливого Араслана, усмехнулся: «Каков княжич! И слова не вымолвит, молча слушает да на ум берёт в будущую жизнь. Этот будет настоящий князь степи! Дожить бы до тех лет». Тимарь же сказал, успокаивая:
— Созови князей, брат, и объяви, что пришла пора брать Белый город мечом. Если возьмём — будет добыча. А не возьмём, так станем повод искать с честью уйти домой. Тогда сошлёмся на угрозы тмутараканцев или ещё что придумаем. Я же тем временем подумаю, как вырвать когти из лап Анбала. Горяч молодой князь, на чём-нибудь да оступится. А мои нукеры подстерегут.
Молодой княжич Араслан цокнул языком, пальцами провёл по верхней губе, где чуть приметно пробивался первый мужской пушок. Уронил затаённую мысль:
— Урусы стрелой могут князя взять из кустов…
К полудню, когда у шатра собрались князья, Тимарь не сдержался, накричал на военачальников: не смотрят за своими полками, дозорные проспали момент выхода урусов из крепости, не подняли войско по тревоге, не уберегли поводных коней. Теперь надо посылать нукеров и пастухов в степь за конями, а когда-то из степи они придут на Русь…
— А теперь скажите всем нукерам, что через три дня мы идём на эти проклятые стены. Там ждёт нас полон и богатая добыча! Урусы теперь ослабли от голода. Пусть нукеры запасутся верёвками вязать непокорных пахарей! Первыми на стены пойдут твои люди, князь Анбал! Твоим батырам только и карабкаться по лестницам, спешенным!
Сказал и увидел, как зло глянул на него молодой внук Кури, но смолчал, чувствовал за собой вину перед войском.
«Прав Уржа, — подумал про себя Тимарь, когда князья безропотно разъехались к своим полкам. — Впереди пойдут самые смелые. И они принесут победу и добычу своему кагану. А мёртвого врага всегда можно оплакать…» — и Тимарь не без удовольствия представил в эту минуту у своих ног окровавленное тело красивого молодого князя.
Потом он приказал позвать грека Торника и, когда тот, встревоженный таким нежданным вызовом, явился и согнулся в поклоне, сказал спокойным, вкрадчивым голосом:
— Прошу тебя, мой многоопытный советник, проследи, чтобы князья изготовили для штурма Белого города всё, как в войске пресветлого властелина могущественной Византии.
Иоанн Торник облегчённо вздохнул: зря тревожился, идя к кагану, просьба несущественная. Склонился в глубоком по клоне, подумал с невольным беспокойством:
«Вот и я уже взят в услужение этим жестоким печенегом, стал его подручным. И пожалуй, первым ответчиком, если что выйдет не так, как задумано нами вместе. Увы, император не простит мне, если уведомится как-то, что это я навёл печенегов на Русь. А посему свидетелей и доглядчиков за спиной мне держать никак нельзя. Придётся избавиться от них руками кагана. Пока же надо довершить начатое. Если падёт теперь Тимарь, обвинённый в неспособности водить войско, кто знает, как поступят со мной другие князья? Лишить могут не только приобретённого в Киеве скарба, но и живота».
Потому и ответил на просьбу кагана с видимой охотой и готовностью услужить по мере сил:
— С великой радостью посодействую князьям в приготовлении к штурму крепости, о пресветлый каган. Надеюсь, что и князья приложат старание, исполняя волю пресветлого повелителя.
Каган молча кивнул головой, поймал языком правый ус и уставился тяжёлым взором в красный ковёр. Молодой княжич Араслан насупленно взирал из-под тонких чёрных бровей на Торника, который замешкался выйти из шатра.
«Волчонком смотрит княжич, недоверие в глазах, — растерянно подумал Иоанн, а мысли вновь вернулись к своим заботам. — Если что-то сорвётся там, в Константинополе, и жестокий Василий достанет меня, скажу так: «Опоздал я к Тимарю с твоим словом, божественный император, уже в походе застал печенежское войско. Не принял Тимарь слов о мире с Русью: трудно двум барсам делить место охоты в одном суходоле — таковы были слова печенежского кагана!» Ишь как зыркает глазищами молодой наследник! Мне с ним, видимо, общего помысла не сыскать… Анбал куда как приветливее» — так думал Торник, когда неспешно — не будет ли от кагана ещё каких слов? — с многочисленными поклонами покидал Белый Шатёр.
— Только бы удалось там, у Харитона, — шептал Иоанн, взбираясь в тёплое, прогретое солнцем седло. — Я же своё исполнил: печенеги на земле русов.
«Мёртвые сраму не имут»
Уже нам некуда себя деть, волею и неволею станем против; да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми тут…
Повесть временных летНежданным гостем ударил ранним утром звон сторожевого колокола. Кричащей воробьиной стаей с тучной нивы поднялись белгородцы из землянок, изб, теремов, хлынули к стенам, копьями ощетинились.
— И я с вами, — только и успел прокричать старейшина Воик вслед сыну и внуку. Вольга прихватил сулицу и выбежал во двор — Василька звать.
— Василько, куда ты? — Павлина метнулась к старшему сыну и ухватилась за помятое платно, удерживая. — Убить ведь могут!
— Что из того, мати! — ответил Василько, краснея от нетерпения. — Мне ли прятаться теперь от стрел, а назавтра от осрамы[89]!
— Идите, — сказала мать Виста Вольге и Васильку, а потом к Павлине повернулась: — Не держи отроков, не малые уже. Сегодня всем, видимо, дело будет, и нам тоже.
В степи вокруг Белгорода нарастал и ширился шум поднимавшегося на сечу войска. Без роздыху взбежали Вольга и Василько на помост, отыскали среди воев и ратников кузнеца Михайлу и ратая Антипа. Рядом же был Янко, чуть поодаль бондарь Сайга поигрывал тетивой, проверял: хорошо ли натянута? С правой руки отца Михайлы в шеломе безмерной величины возвышался хромоногий Могута. В руках у него не меч — меч висел у пояса, — Могута держал огромную дубину, да рядом ещё одна лежала, про запас. Лицо у закупа спокойное, будто и не на сечу вышел, а в поле — зерно из колосьев выколачивать.
Над затаившимся в тревожном ожидании Белгородом в безветрии вставало солнце. Оно вышло из-за приднепровских гор, тёплыми лучами старалось разгладить на суровых лицах людей глубокие морщины. Но хмурились и прикрывались ладонями русичи — слепило солнце и мешало высмотреть цель для приготовленной стрелы.
Вольга приподнялся над частоколом: чёрный и широкий — на всю степь — накатывался на Белгород печенежский вал. Поодаль стояли конные, своего часа дожидаясь. А у подножия холма, на котором возвышался белый шатёр кагана, гарцевали на сытых конях печенежские князья.
— Встреча-ай! — разнеслась над помостом команда воеводы Радка, а следом ударили со стены косым секущим дождём русские стрелы. Белгородцы радостно кричали, когда чья-то стрела заставляла врага спотыкаться на бегу и исчезать в сухом и пыльном разнотравии. Но вот следом за пешими выехали перед стены сотни печенежских лучников и луки натянули…
— Укройсь! — успел крикнуть воевода Радко. Русичи присели, а над головами прошуршали оперением вражьи стрелы и унеслись за спины, на крыши изб и в бурьян на землянках. Там жёны да малые дети соберут их и принесут на стены, дружинникам в колчаны вложат — в том и будет их помощь в сече с находниками.
На стрелы печенегов русичи ответили стрелами же. Да не все. Кто-то вскрикнул и навзничь упал, а кто за лицо схватился: не успел вовремя присесть за стену. Рядом с Могутой старый дружинник, скривив от нестерпимой боли лицо, осторожно вытаскивал из левого плеча стрелу с чёрным пером на конце. Вольга от непривычки передёрнулся и глаза отвёл — древко стрелы красное, дымящееся кровью русича!
Снова белгородцы вскинули луки над частоколом. Вольга следом успел выглянуть и в общей массе конных перед стеной успел приметить усатого печенега: зажал тот ладонями глаз, стрелой выбитый, и понукал коня ногами, хотел выбраться из свалки. Да не выбрался — вторая стрела ударила его меж лопаток и избавила от горькой кривоглазой старости.
Мутным потоком весеннего половодья хлынули печенеги в глубокий ров, тут же заполнили его и потащили длинные лестницы вверх по круто срезанному от стены валу.
— Готовь смолу! — пронеслось над стеной, многократно повторяясь, приказание воеводы Радка. У больших котлов со смолой давно уже суетились жёнки. В огонь брошены охапки сухой травы, стружек, принесены вязанки сухого хвороста и положены рядом с котлами.
— Мати! Ты зачем здесь? — Вольга удивился, увидев совсем рядом мать Висту и Павлину. Длинными шестами они с трудом мешали разогреваемую смолу, обливаясь потом у жаркого огня костров. Чёрная тягучая масса дымилась, обволакивая стены и город едким дымом. Всегда такая ласковая, мать Виста ответила будто чужому:
— Смотри вперёд, сыне, враг там. А за спиной врага пока нет.
Вдоль частокола, постукивая посохом, неспешно шёл старейшина Воик, взывал к дружинникам и ратникам:
— Бейте находников, дети! Бейтесь насмерть, как завещал биться за землю нашу князь Святослав, говоря так: мёртвые сраму не имут!
А печенеги уже по откосому валу взбираются, подсаживают друг друга, копьями да мечами помогают себе, лестницы впереди себя толкают. Слышны крики военачальников, которые поторапливали нукеров быстрее взбираться вверх.
— Кидайте на них брёвна! — прокричал неподалёку воевода Радко.
Вольга даже присел от удивления и воскликнул, обращаясь к Васильку, который неотрывно наблюдал за штурмующими врагами, мало оберегаясь от свистящих над головой стрел:
— А я думал, что эти брёвна нужны стены подправлять, а не для битвы! То-то лихо будет сейчас печенегам!
Русичи подхватывали брёвна, раскачивали на руках и с силой бросали их через частокол, на головы взбиравшимся на вал печенегам.
Снизу тут же послышались отчаянные вопли покалеченных.
— Не любо, поганые! — что было сил кричал Могута. Его глаза едва не вылезали из глазниц, когда он с натугой, один, поднимал над головой тяжёлое бревно и кидал его с помоста в ров.
— Берись ещё, сыне, — доносилось с другого края. Это уже отец Михайло звал Янка. Вдвоём они приподнимали бревно с помоста, затем под счёт:
— Ра-аз! Два-а! Три-и! — дружный взмах, и бревно мелькало над частоколом, бухалось вниз, увлекая за собой прибитых и покалеченных.
— Камни! Камни-и на печенегов! — уже катился по стене крик.
Вольга с Васильком первыми подскочили к куче камней, сложенной на краю помоста, хватали какие под силу.
— Так их! Так их! — выкрикивал старейшина Воик и сам пытался кинуть камень, да крупные поднять не мог, которые же помельче, те отроки выхватывали из-под рук.
— Глуши находников! — вопил Вольга, неистовствуя от близко подступившей к сердцу опасности, дрожа всем телом. Кричал рядом и Василько, да и другие отроки тоже: им страшнее было, чем взрослым. Вольга в кровь изодрал пальцы об острые углы камней, но кидал без устали. Слышно было, как дробно стучали камни о печенежские щиты, а которые по крупнее, те глухо падали на что-то мягкое, должно быть, сбивая находников на землю.
— Воевода Радко! — позвал отец Михайло, на время оставив бросать тяжёлые камни. — Не пора ли хворост кинуть? Печенеги уже лестницы примеряют к стенам!
Вольга мельком глянул на котлы, подумал: «К чему хворост кидать? Смола и так уже бурлит пузырями от жаркого огня?»
— Рано, Михайло, рано! — отозвался воевода Радко. — Только отпугнём прежде срока. Пусть на стены поднимутся да во рву увязнут скопом, тогда и кинем!
Воевода снова, выглянув, метнул короткую сулицу.
— Ох ты! — тут же выкрикнул он и отпрянул от частокола — печенежская стрела звякнула наконечником о шелом и отлетела в сторону. — Едва не подстерегли, поганые, — пробормотал воевода, переступил на три бревна вправо, снова метнул сулицу; в левой руке он держал ещё три коротких, с толстыми древками копья для метания со стены.
В это время на край частокола склонились сотни длинных лестниц, по всей стене, от Киевских ворот, где бился Ярый, и до Ирпеньских, близ которых стоял воевода Радко. Дружинники и ратники по два и по три встали у лестниц, изготовились к сече. Печенеги густо, с воплями лезли на стены с трёх сторон. Лишь со стороны Ирпень-реки сечи не было: не отважились там находники взбираться на кручу, чтобы потом ещё и на стены лезть под стрелами. И всё же воевода Радко не давал знака ратникам во главе с посадником Самсоном оставить ирпеньскую стену, опасаясь, как бы печенеги не перешли треховражье да не кинулись бы на Белгород со спины.
Зазывно прогудел кузнец Михайло:
— Ползи за смертью, изверг проклятый! Ползи! — и занёс для удара тяжёлое копьё.
По телу Вольги прошёл трепет, руки сковало от напряжения, когда над частоколом, будто голова змеи из травы, нежданно, вдруг выросла высокая меховая шапка печенега, потом показался круглый щит и плечи. Успел Вольга, как ему показалось, поймать взгляд врага, до боли в пальцах сжал сулицу, напрягся всем телом, готовый кинуться на печенега, забыв о том, что рядом старшие есть. Лишь бы скинуть находника со стены, лишь бы после сечи отец Михайло не упрекнул, что страх сковал ему ноги от одного вида печенежского.
— Первый! — громко выкрикнул отец Михайло и ударил копьём в круглый щит. Печенег не устоял на лестнице и опрокинулся вниз. Звук падения одного человека в общем гомоне боя не был слышен. Кричали печенеги и русичи, кричали здоровые, подбадривая друг друга, кричали раненые, прося о помощи или о малом снисхождении: не топтать жёсткими сапогами окровавленную грудь.
— Второй! — отозвался от соседней лестницы Янко. Он заменил там раненного стрелой дружинника: старейшина Воик торопливо делал ему тугую повязку над глазом.
— Вот леший! — выругался отец Михайло, когда копьё вместе с телом печенега упало в ров. Он рывком кинул из-за спины на левую руку овальный щит, торопливо вытащил меч, изготовился встретить нового врага.
— Вольга, — сказал отец Михайло, — прижмись к частоколу. И бей находника сулицей, если я вдруг на горе замешкаюсь!
Вольга вжался в паз между белёсыми, дождями вымытыми брёвнами, потом опустился на правое колено. «Так удобнее будет вскочить и прыгнуть», — сообразил он.
Над частоколом вновь появился молодой и ловкий печенег. С помощью щита он легко удержал равновесие на конце лестницы и смело прыгнул вниз с частокола, норовя своим телом сбить русича с ног и тем открыть дорогу остальным на помост. Да отец Михайло успел перехватить врага мечом.
— Ишь, поганый, лезет обниматься, словно брат кровный мне! — донёсся до Вольги насмешливый голос отца Михайлы, который ногой скинул с помоста мёртвого печенега вовнутрь крепости, чтобы не мешал.
— У нас много кровных братьев будет сегодня, отче Михайло, — отозвался Янко. Он швырнул в ров перерубленное печенегом древко копья. Старейшина Воик тут же протянул ему запасное.
Вольга вздрогнул и обернулся на крик справа. Это Могута длинной дубиной сбивал, будто ядовитые грибы, наседающих на него с двух лестниц печенегов. Дружинник, сосед Могуты, упал: ему в шею ударила стрела, неподалёку лежал ещё один убитый ратник из пришлых с поля, его сразил копьём поднявшийся на частокол дюжий и ловкий печенег. Могута оттого и вскрикнул, что смерть увидел рядом. И не только чужую, но и свою — одному не сдержать долго печенегов на двух лестницах. Он едва успевал перекидывать дубинку с руки на руку да класть на печенежские головы.
— Я вас! — кричал Могута, ярясь от собственного крика ещё больше. — А ну, ещё кому безбедный отдарок!
И вдруг — треск! Это Могута, не рассчитав силу, задел частокол так, что в руках остался лишь маленький обломок дубины. Он швырнул его в печенега, но попал в щит, и находник устоял на лестнице. Растерялся на миг ратник, оказавшись без оружия перед врагом, — тот уже ногу поставил на частокол. Правая рука Могуты метнулась к левому боку, где висел меч, но меч в пылу боя слишком далеко съехал за спину, не достать сразу.
— А-я-ай! — завопил вдруг Вольга, сам не зная почему. Неведомая сила будто толкнула Вольгу в спину. Диким барсом прыгнул он из-под частокола, нацелив сулицу в правый, щитом не прикрытый бок печенега. Удар получился столь сильным, что сулица прошла тело находника насквозь, а Вольга упал, зацепившись ногами за мёртвого дружинника — Могутова соседа. Вольга стукнулся головой о бревно частокола, охнул, но тут же вскочил на ноги, моргая, чтобы прогнать золотистые искры в глазах. На счастье, в руках Могуты уже новое оружие — то его жена Агафья торопливо подала другую дубину.
— Молодец, Вольга! — услышал он похвалу отца Михайлы. — Бей степняков камнями.
Вольга поспешил к груде камней, ощутив в себе вдруг небывалую силу, и стал кидать через частокол наугад: знал, что редкий камень упадёт мимо скопившихся под стеной печенегов.
Неподалёку вновь послышался голос воеводы Радка:
— Лейте смолу на поганых ворогов!
В дымящие чадом котлы окунулись десятки больших деревянных ковшей на длинных шестах, а потом, описав дугу над частоколом, опрокинулись над печенегами, изливая вниз дымящуюся жидкость. Снизу раздались жуткие вопли. Вольга не выдержал и зажал ладонями уши, но не надолго.
— Хворост в ров! Быстрее! — выкрикнул воевода Радко, перебегая мимо Вольги на помощь к Могуте, возле которого вновь показались печенеги с двух лестниц. Поторапливая дружинников, воевода ещё раз крикнул: — Быстрее хворост кидайте, печенеги на стенах у Киевских ворот, Ярого могут потеснить! Да не под стены роняйте! Самим себя не поджечь! Кидайте дальше, до рва!
Дружинники длинными рогатинами начали поддевать сухие вязанки хвороста, окунали их в кипящую смолу, а потом поджигали и торопливо перебрасывали эти снопы бушующего огня через частокол: не дай бог горящая смола прольётся на стену, может загореться. Для того и кади с водой поблизости стоят.
Биться мечом против меча печенеги ещё могли, но как биться с липким огнём, падающим на головы? Дико кричали те, на ком загоралась одежда, на чью грудь или голову в такой невероятной тесноте во рву упал и горел смоляной сноп. Огненные потоки смолы растекались по земле и продолжали гореть под ногами.
— Бегут! Бегут! — прокатился радостной волной над Белгородом крик, извещая, что враг отбит и что на сегодняшний день вероятность печенежской резни для города отпала.
— Бейте находников! — это бондарь Сайга встал над частоколом во весь рост и сквозь дым пускал стрелу за стрелой вслед степнякам. Но и печенеги не жадничали на стрелы для русичей: вдруг охнул бондарь Сайга, чужая стрела ударила его в грудь, и кровь выступила на белом платне. Боян с криком бросился к отцу, но Сайгу тут же подхватил подоспевший первым Янко. Старейшина Воик склонился над раненым.
— Несите его в моё подворье, лечить буду. Стрела выше сердца прошла. Быстрее несите. Виста, поспеши со мной.
Подошёл воевода Радко, чёрный от копоти и мокрый от пота. Молча проводил взглядом старейшину Воика и ратников с бондарем на руках, потом выглянул за частокол — не затлелся ли где дубовый сруб крепостной стены? Успокоился и поднял глаза к небу — есть ли у печенегов время для нового приступа сегодня или дадут русичам роздых? Солнце прошло уже большую половину дневного пути, и вряд ли у Тимаря наготовлены ещё лестницы. К воеводе подошёл кузнец Михайло, глаза радостные — устояли, отбились. Воевода увидел кровь на лбу Михайлы, забеспокоился:
— Поранен, Михайло?
— Да нет, воевода Радко. Свежую рану от ночной сечи, забывшись, потревожил, когда пот рукавом вытирал. Пустое, засохнет скоро. Прав был ты, воевода, что дал печенегам подняться на стены. Много их побито, но ещё больше — напугано.
— В том и суть, — ответил воевода Радко, удаляясь по стене в сторону Киевских ворот. И ещё что-то говорил воевода, бережно обходя убитых дружинников и ратников на помосте, но этих слов Вольга уже не слышал, оставшись стоять возле старшего брата.
Бросив догорать смолою облитые лестницы, похватав тела побитых и тяжело раненных, отхлынули от города печенежские тысячи, скрылись за клубами чёрного дыма. Степнякам казалось, что горит не только хворост во рву, но горит и крепость, будто русичи сами себя обрекли на страшную смерть по старому обычаю, сжигая тела умерших сородичей на жарких берёзовых кострах.
С помоста вниз бережно сносили тела побитых и раненых белгородцев: не малой кровью далась русичам эта победа, новые десятки могильных холмов появятся на внутренней стороне вала. Уставшие, закопчённые и потные дружинники поспешно, разбрасывали недогоревшие головешки из-под котлов с остатками дымящей смолы.
Гонец
А и едет ко граду Киеву…
Говорил ему ласковый Владимир-князь:
«Гой еси, удача добрый молодец!
Откуль приехал, откуль тебя бог принёс?»
Былина «Михайла Казаренин»Из тёплой полуголодной дрёмы под телегой Вольгу вывел резкий толчок в спину.
— Что такое? — вскричал он и сел, силясь раскрыть глаза, а рядом Василько в ухо ему уже шепчет:
— Гляди, кто к нам во двор идёт.
Шли воевода Радко и посадник Самсон, усталые, а черевьи пыльные, знать, долго перед этим бродили по улочкам Белгорода, вслушиваясь и всматриваясь в голодные глаза пришлых со степи ратаев и бортников. Вольга вскочил и по звал отца Михайлу. Михайло вышел встретить гостей, голову склонил, в избу приглашая. Но воевода сказал:
— Вели, Михайло, отроку скамью вынести. Здесь, в тени, я и присяду. Есть к тебе важный разговор.
Вольга поймал взгляд отца Михайлы, метнулся живо за скамьёй и успел деду Вояку шепнуть:
— Воевода да посадник с отцом Михайлой говорить пришли, во дворе теперь оба.
Воевода Радко принял скамью, сели рядом, широкими спинами привалились к срубовой стене избы. Вольга отошёл к телеге и опустился на тёплую землю рядом с Васильком. Подивился при этом: «Допрежь такого не было, чтоб посадник Самсон в наш двор по делу кузни заходил. Коли в чём нужда, так через бирича звал в терем. Отчего так хмур воевода Радко? И отчего глаза его недвижно уставлены на рукоять меча?» Меч воевода поставил между колен.
— Как заказ мой по исправлению побитого оружия дружинников? — спросил негромко воевода Радко.
— Ещё три дня, и мы с ратаем Антипом исправим оружие, — ответил отец Михайло.
— То славно, — кивнул головой воевода и умолк, словно забыл, о чём только что спрашивал, — иные мысли тяготили воеводу, кузнец видел это, но ждал терпеливо. Посадник рядом сидел так же молча, склонив вперёд тяжёлую голову с высокими залысинами, а сам копался в бороде толстыми пальцами, на которых блестели золотые перстни с дорогими алыми каменьями.
— Старейшина Воик во здравии ли? — вновь спросил воевода Радко. Едва успел спросить, как сам Воик появился во дворе и к ним подошёл, опустился на скамью с края.
— На бога гнев не держу, пока ещё сила есть в ногах, — ответил старейшина и пытливо присмотрелся к знатным гостям: с чем пришли?
Малое время ещё посидели молча, потом отец Михайло широкой ладонью хлопнул о твёрдое колено и спросил:
— Случилось что важное? По иному делу ведь пришли ко мне? Так не томите душу, скажите. Готов я вас выслушать, — сказал так и твёрдые губы поджал, затаился.
Воевода Радко поднял рыжеволосую голову и, глядя в лицо хозяину двора, заговорил торопливо, будто боялся, что кто-то прервёт и не даст высказать надуманного:
— Долго ждал я от князя Владимира гонца с известием. Голодное время так тихо идёт, а к нам нет ни гонца, ни дружины русской для выручки. Что в Киеве деется, о том мы не ведаем. И от того падает на сердце чёрная туга, сна и сил лишает. Прознать бы как, долго ли нам осаду ещё держать? — Воевода Радко посмотрел на Михайлу, а тот перестал землю ногами ковырять, подтянул их под скамью. — Вот и порешили мы с посадником Самсоном, что надо слать нам своего гонца, помощи просить у князя Владимира. Наш выбор пал на Янка.
От слов этих отец Михайло качнулся, будто кто внезапно из-за плеча голову змеи к глазам подсунул.
— Сквозь печенежский стан? — испугался отец Михайло. — То же верная гибель! — и он ладонями провёл по лицу, словно сон тяжкий сгоняя с себя. Воевода Радко на его сомнения с горечью развёл руками в стороны, плечи у него сгорбились.
— И мне жаль Янка отсылать, да боле некого. Он вырос здесь, всякий куст и овражек окрест ему ведомы. Пришлый хуже собьётся в пути, пока по лесам бродить будет.
Отец Михайло вскинул поникшую было голову.
— Ну, коли так, то пусть идёт Янко. А я за честь почитать буду ваше доверие сыну. Но чует моё сердце, ох как чует недобрый исход задуманного.
Старейшина Воик не утерпел, посохом ткнул в сухую землю.
— Всё ли обдумали, мужи? Не сгинет ли внук мой попусту?
Воевода ответил торопливо, ответил то, что загодя уже обдумал до мелочей:
— Старались мы предусмотреть всё, старейшина Воик. Без риска, по тайному лазу покинет Янко Белгород. А в пути пусть хранит его бог, — воевода Радко встал со скамьи, а следом тяжело поднялся и посадник. Он покопался недолго за тугим поясом, потом широкую ладонь протянул к отцу Михайло.
— Что это? — спросил кузнец, а Вольга и без того увидел, что это серебро. И не малое по цене!
— Возьми, Михайло, это резаны. От меня за верную службу сына. Вернётся Янко, избу ему поставишь из доброго дерева. И за невесту вено надо будет платить скоро, прослышал я про это.
Отец Михайло резко отстранил руку посадника.
— Не надо мне денег, посадник Самсон. Да не подумают люди, что сына на смерть послал ради серебра. Вернётся Янко во здравии, тогда и наградишь его, как совесть подскажет. Не вернётся если — так и жильё новое не потребуется, и вено платить не надо будет.
Старейшина Воик кашлянул в кулак, с укором глянул на посадника, тихо, будто для себя только, проговорил:
— Славно ответил, Михайло, славно.
Посадник Самсон понял свою оплошность и повинился, пряча резаны в чёрную шёлковую кису и засовывая её за пояс:
— Прости, Михайло, от души хотел дать, не ради корысти какой. Вернётся Янко, обещаю исхлопотать у князя достойную ему награду.
— В награде ли суть? Была бы польза от риска, — ответил отец Михайло и резко обернулся.
За спиной у Вольги скрипнула калитка. Обернулся, а это Янко торопливо вошёл во двор, к старшим мужам подошёл.
— Звал меня, воевода Радко? Бирич велел мне со стены сойти и спешить сюда. Зачем надобен?
Воевода шагнул навстречу Янку.
— Звал. Порешили мы так: надо тебе идти в Киев. Гонцом ко князю Владимиру, не мешкая.
Русые брови у Янка дугой изогнулись. Глянул на отца Михайлу — тот кивнул, подтверждая слова воеводы.
— Да, Янко, в Киев, — повторил воевода Радко. — Не страшишься ли?
Янко сдвинул к высокому переносью брови — две глубокие складки легли поперёк — ответил:
— Кто чужого меча страшится, тот в жизни себе не удел дружинника должен выбирать, не так ли? Свежа ещё в памяти смерть Славича со товарищами. Нет, воевода Радко, пойду без робости. Что велишь князю сказать?
— Наказ дам вечером, как уходить будешь. Теперь же отдыхай перед дорогой. Я бирича за тобой пришлю, как пора будет.
Воевода и посадник ушли. Ушли в избу и отец Михайло с Янком, а Вольга не посмел беспокоить старшего брата разговорами — ему воевода наказал отдыхать перед ночью.
Рядом с Вольгой дед Воик почмокал губами в раздумье. Вдруг Вольга ойкнул — дед Воик нежданно ткнул его посохом в правый бок, но не больно, а чтобы привлечь к себе внимание.
— Что сник, Вольга? Ты похож теперь на мышь степную в острых когтях курганника. Нет, не съедят нас печенеги. Подавятся, барсы суходольные! Приведёт Янко дружину под Белгород, печенегам на погибель, а русичам на избавление. О том пойду теперь Перуна всесильного просить — Перун не откажет мне!
* * *
Вот и пришла пора оставить родное подворье. День близился к вечеру, солнце спускалось уже на западные холмы, словно высматривая укромное место для ночлега, а длинная тень от частокола прикрыла добрую половину Белгорода. Поклонился Янко очагу, родным, со Жданой взглядом простился — у девушки слёзы в глазах блеснули — и вышел навстречу воеводе Радку, который ждал его у калитки. Здесь же был и посадник Самсон, по привычке придерживая руками за пояс просторное чрево. У воеводы лицо озабоченное, но взгляд бодр, на щеках румянец от внутреннего возбуждения. Приободрился и Янко, стыдясь выказать робость при старших.
— Идите за мной, — только и сказал воевода Радко, и все молча, думая каждый об одном и том же, дошли до вала у Киевских ворот, потом спустились в неглубокий овраг, который пересекал угол города и уходил вдоль дороги на Киев, поделив печенежский стан надвое.
— Что мы здесь, в овраге, делать станем? — удивился Михайло и поднял взгляд на старейшину Воика. И Янко пока не мог понять, зачем они пришли сюда, в заросли оврага, где пахло дохлыми собаками да зелёные мухи густо облепили листья бузины, росшей у подножия невысокого крутого склона.
— Отсюда потайной ход идёт на ту сторону крепости и выходит в конце оврага. Выход зарос густыми, уже старыми кустами. То тебе и надобно, Янко, — пояснил воевода Радко, прикинул опытным глазом и добавил: — Меч и воинское снаряжение оставь здесь, с собой возьми только нож на случай непредвиденный от зверя.
И опять подивился Янко такому снаряжению в дорогу, но воевода терпеливо пояснил:
— Со щитом и в доспехах тебе не пролезть через нору — там тесно и душно будет, а ножом и подрыть землю сможешь, ежели какой обвал небольшой там случился. Давно ходом этим не пользовались, всякое может быть… До Киева, верю, дойдёшь быстро.
Видит Янко, что отец Михайло и старейшина Воик в толк не возьмут, как может он пройти до Киева быстро? Разве что ночи дождаться в том овраге да у печенегов коня взять? Но одному без щита и оружия не уйти, стрелой достанут в неприкрытую спину. Печенеги теперь и ночью у сторожевых костров сидят с опаской, и у конных табунов немалую стражу выставляют. Воевода Радко пояснил, что и как должен Янко делать, потом руку положил на плечо, сказал доверительно, глядя в глаза дружелюбно и скорбно:
— Другого пути из Белгорода, совсем безопасного, нет. Через стену ночью идти — а вдруг печенеги везде ставят заставы? Со стены спустишься да и угодишь на их копья. Либо петлёй возьмут за шею. А так ты ночи дождёшься в кустах, а там бог тебе в защиту.
Опустил голову воевода Радко, словно в мыслях хотел увидеть, как всё будет с Янком, когда выползет он тайно из кустов и по печенежскому стану поползёт овражком до Перунова оврага. И Янко думал, опасаясь, что воевода прочтёт возникший в глубине души невольный страх перед неизвестностью. Но тут же подумал Янко, что и другому разве всё равно будет, пройдёт ли он через печенежский стан или станет товаром на невольничьем рынке в далёком морском городе Корсуне?
— Ждать тебя будем всякую ночь у выхода из этой норы. Как подходить к оврагу станешь, крикни филином два раза по трижды, и мы изготовимся. А ещё ждать будем у реки, где треховражье, если к норе подойти ночью не будет возможности, — пояснил воевода, потихоньку повернул Янка за плечи к норе и сказал — Иди, и пусть будет с тобой удача, наше терпеливое стояние в крепости не безвременно.
Последний раз оглянулся Янко на тех, кто пришёл проводить его в рискованный путь. Увидел полные тревоги глаза отца Михайлы и розовый, не подсохший ещё шрам на лбу от печенежской стрелы, увидел ободряющую улыбку старейшины Воика, плотно сжатые губы воеводы Радка и отвислые щёки посадника Самсона.
Махнул им на прощанье рукой Янко, шагнул в кусты и к земле склонился. В лицо пахнуло тёплой сыростью и прелыми старыми листьями. Жёлтые корни, извиваясь, свисали сквозь чернозём в тёмном зеве норы и потому показались Янку длинными и липкими щупальцами подземных духов, стерегущих вход в своё смрадное жилище. Потом увидел, как по норе ползёт червь, сжимая и выбрасывая вперёд гибкое тело.
«И мне вот так, червю подобно, ползти сквозь землю», — подумал он, глубоко вдохнул и сунул голову во тьму и смрад гнили.
За ворот платна посыпалась земля, корявые корни стали цепляться за волосы. Но Янко полз, сжав зубы и прочь отгоняя страх. Руки выбрасывал вперёд, пальцы вонзал в сырую землю, подтягивая тело. И ногами себе помогал. Потайной ход низок, ни привстать на четвереньки, ни сесть на корточки и оглядеться. Кто вырыл его? Должно, сработали его предки, чтобы покидать крепость тайно, как это делает теперь он. Да не всё ли равно, откуда появилась эта нора? Может, и собаки вырыли, — утащенные на подворьях кости прятать! Полз по ней Янко, а в голове, будто муха в паутине, билась жуткая мысль: а что, как земля обвалится, плечами задетая! Верная смерть! Не выпустят подземные духи чужака из своих корявых лап, крови его тёплой напьются, холодными губами к груди раздавленной припадут! Боже, жуть какая. Да скоро ли конец ходу этому?
Глянул Янко вперёд, надеясь свет там увидеть, но перед глазами всё те же бледно-жёлтые коренья, а дальше, за кореньями, непроглядная тьма становилась всё гуще и гуще. Потом и из-за спины свет перестал проникать в потайной ход — собственных рук не видно. Нора делалась всё ýже и ýже. А вдруг там, впереди, обвал? Как тогда назад ползти? Не развернуться ведь в тесноте!
— О могучий бог неба! — в отчаянии зашептал Янко, обливаясь липким потом. — Неужто на погибель толкнул ты меня в обитель навов[90]? Чем прогневал я тебя? Не корысти же ради иду сквозь землю, но ради жизни многих русичей, тебе поклоняющихся. Освети, могучий бог, мрак подземный, прогони от меня злых навов! Пусти навстречу свои добрые лучи, солнце, пусть укажут они мне верный путь!
Вдруг ударил ему в нос тёплый воздух, напитанный запахами уже не гнили, а степного разнотравья. Слаще этого воздуха он в жизни ещё не вдыхал. С великой надеждой в сердце глянул Янко вперёд, а потом вскрикнул радостно, будто от тяжкого сна очнулся — невдалеке увидел маленькое светлое пятно. То был конец подземного хода. Уж теперь-то доберётся он до вольного воздуха и ласкового тёплого солнца, а там пусть будет, что бог пошлёт: удача или смерть.
Прополз немного Янко и остановился, упиваясь запахами полыни. Это её светло-синие стебли густым частоколом закрыли выход из-под земли. Янко лежал затаясь. А вдруг там, у выхода, его поджидает находник? И бога в помощь крикнуть не успеешь, как без головы останешься. Либо тугой петлёй перехватят шею, уведут в неволю. Долго лежал, слушал ветром размытый гомон вражьего стана, всматривался сквозь полынь, остерегаясь раздвинуть её рукой. Видел густые ветки шиповника за толстыми, перекрученными у земли кустами боярышника. А что там, за этими кустами?
Вдруг качнулась дальняя ветка шиповника — маленькая серо-синяя пичуга с ветки на ветку прыгнула, нырнула вглубь куста. Там её встретил многоголосый и жадный писк.
— Гнездо! — обрадовался Янко. — Знать, рядом никого нет, если птица с кормом прилетела безбоязненно.
Янко не стал пугать птицу, притаился у выхода из норы и терпеливо ждал, когда вечерние сумерки надёжно прикроют землю тёмным пологом и густым туманом по низинам. По этому вот овражку, минуя печенежские костры и стражу при них, проползёт он немым и неслышным ужом, как учил когда-то ползать небывальцев опытный дружинник Ярый…
Занемело у Янка тело от однообразного лежания, и, когда потемнел западный небосклон, край которого просматривался поверх кустов, осторожно выбрался он из норы, поспешно отряхнул землю с локтей и колен, лицо утёр подолом платна. Выглянул из оврага и увидел: не далее одного перелёта стрелы стояли чудные островерхие кибитки на больших колёсах, а пешие и конные находники покрывали степь вокруг Белгорода, как в ясную погоду муравьи покрывают муравейник, снуя беспрестанно друг за другом из одной норки в другую. И не стал ждать, пока угомонится вражий стан, пока печенеги влезут в кибитки и улягутся спать. Пополз оврагом, вжимаясь в полынь и высокую лебеду, норовя поднырнуть под разлапистый высокий лопух.
— Теперь только бы добраться мне счастливо до трёх оврагов, только бы коснуться руками непролазных зарослей: воевода Радко велел идти левобережьем Ирпень-реки, там меньше будет печенежских дозоров перед Киевом.
И вот Янко остановился у крайних высоких кустов шиповника на краю обрыва, постоял недолго, высматривая в зарослях, нет ли там врага, а потом без оглядки на крепость прыгнул с кручи. Следом покатились комья сухой глины, обломки мелких, отшлифованных дождями кореньев. Янко едва успевал уворачиваться от встречных пней и вывороченных стволов, быстро-быстро перебирал ногами, чтобы не ухнуть вниз головой. Наконец ухватился рукой за гибкую иву и остановился неподалёку от ручейка, задохнувшись от радости.
— Неужто прошёл? Неужто не кинутся по следу? — потом залёг в густой траве, чувствуя прохладу влажной земли разгорячённым телом, и настороженно вслушался в звуки, которые доносились в овраг сверху.
Но звуки были размеренные, спокойные.
В стольном Киеве
А у нас нонь во граде-то Киеве,
А богатырей у нас в доме не случилося,
А разъехались они все во чисто поле.
Былина «Васька-пьяница и Кудреванко-царь»— Князь! Князь Владимир с дружиной Днепром плыве! — этот радостный крик мигом облетел Гору Кия и впереди босоногой толпы отроков по Боричеву увозу скатился в Подол и там всполошил киевский люд. Побросав дела, киевляне, кроме дружинников на городских стенах, прибежали к устью Почайны — десять лодий под парусами спешили с верховья Днепра. Лёгкий попутный ветер гнал слабую волну, надувал паруса, трепал нечёсаные вихры отроков и седые бороды старцев.
Лодии плавно вошли в тихую Почайну, ткнулись носами в берег и замерли, словно притомившиеся кони у коновязи после долгой и нелёгкой дороги.
— Слава! Слава князю Владимиру и дружине! — крики ликующих киевлян вихрились под крутым берегом. Вокруг радостные лица, слёзы надежды на скорое избавление от печенежского напастья, протянутые к небу руки — теперь-то не гулять боле находникам под Киевом! Укажет князь Владимир Тимарю путь из земли Русской!
Князь Владимир, высокий, борода и усы тронуты ранней сединой, осторожно сошёл по сходне на берег, прикрыл от ветра и лёгкой пыли воспалённые глаза, перекрестился на дальние купола каменной церкви Святой Богородицы, отстроенной минувшим летом 996 года. У сходни старая киевлянка в чёрном платне преклонила колени и поймала усталую руку князя Владимира.
— Полно тебе, жёнка, — князь приподнял её за локти. Поразился, увидев застывшее, будто из камня высеченное лицо и скорбью наполненные голубые глаза. Участливо спросил — Печаль у тебя какая?
— Сын мой Вешняк отпущен был в Белгород с воями, княже… — и не досказала, задохнулась накатившимися слезами горя.
— Белгород — не слабая крепость, — успокаивая женщину, сказал князь Владимир, а сам с трудом на ногах держится — утомило неподвижное и долгое сидение в лодии.
— Печенеги голову Вешняка кинули в Киевский ров, — тихо сказал кто-то из киевлян. Князь качнулся, прошептал:
— Бог неба, сколь можно терпеть и страдать от Дикой Степи? — закрыл глаза. Сотенный Власич прокричал рядом:
— Коня князю Владимиру!
Придерживаясь рукой за луку седла, князь оглянулся сказать женщине, что за Вешняка, за старые и новые обиды возвратился он в Киев мстить печенегам. Но каменноликой женщины в толпе уже не разглядеть.
За князем из лодии вышли дружинники, построились в ряды и медленно потянулись крутым увозом на Гору Кия, к княжьему терему.
Рано поутру, выслушав утомлённого годами и заботами киевского воеводу Волчьего Хвоста, князь Владимир спросил, было ли какое известие от белгородского воеводы Радка?
— Нет, княже, — воевода Волчий Хвост медленно раздвинул ладонью длинные седые усы, кашлянул в кулак, зябко передёрнул сутулыми плечами — свежо дует в палаты от Днепра через открытое окно. — Посол византийского императора Василия просит встречи. Давно уже сидит в Киеве, тебя, княже, дожидается.
Князь Владимир медленно встал с лавки. Просторное голубое корзно облекло плечи, приятно грело спину. От долгого пребывания на воде ломило поясницу, и князь, засунув руку под тёплое корзно, помял спину жёсткими пальцами. Встал у окна, и взор нечаянно упал на бронзовых коней, взятых в памятном походе на Корсунь.
— Что ему? — спросил князь Владимир.
Воевода не понял, о ком речь — о посланце или об императоре византийском. Сказал глухо:
— Грамоту привёз. А о чём — тебе только поведает.
— Вели покликать, — и медленным движением руки огладил длинные, почти до груди русые усы. Мягкие сафьяновые сапоги неслышно ступали по коврам. Князь подошёл к стене с оружием, потом возвратился к окну — из церкви Святой Богородицы выходили красно одетые киевляне. Толпа раздалась, и у выхода показалась княгиня Анна с прихрамывающим княжичем Ярославом и с прислужницами-гречанками. Десятилетний Ярослав не по годам сумрачен, должно нелегко идти ему около чужой женщины-княгини, когда своя мать Рогнеда выслана отцом из Киева[91]. Буднично одета княгиня, лишь золотой обруч украшал голову: в беде земля Русская, не до праздности теперь. Княгиня подняла взор на терем, увидела в окне князя Владимира, заторопилась.
За спиной послышались тяжёлые шаги. Князь Владимир оборотился. В сопровождении медленно ступающего воеводы Волчьего Хвоста легко шёл смуглолицый и чернобровый византиец, среднего роста, подвижен и нетерпелив. В правой руке запечатанный свиток.
— Василик византийского императора Парфён Стрифна из Капподакии родом, — представил василика воевода Волчий Хвост.
На бритом лице василика удивление. Удивлялся Парфён простоте приёма у князя Киевского: ни многолюдства боярского, ни показной роскоши палат по случаю иноземных посланцев. Буднично и просто принимал василика князь Киевский, словно бы между дел. Иное в Константинополе! Император первым делом старается поразить посланцев величием и роскошью трона, палат и многочисленной свиты…
Князь Владимир, ответив на глубокий поклон василика приветливым кивком, понимая недоумение Парфёна, сказал кратко:
— Мужи мои при войске да по делам разосланы. Созывать их на Гору время не терпит. Слушаю тебя, василик Парфён. Во здравии ли император Василий и его родичи? И добро ли тебе было в пути и в Киеве, меня дожидаючи? — и жестом пригласил василика к столу, убранному голубой столешницею.
Парфён с поклоном вручил князю свиток-грамоту и только после этого сел на лавку за стол напротив князя. Сказал, что император Василий в полном здравии, и в свою очередь осведомился о здоровье князя Киевского, княгини Анны и сыновей.
— О чём хлопочет император Василий? — князь Владимир хрупнул сургучной печатью, развернул свиток, но читать не стал.
— О помощи просит василевс. Арабы неодолимой силой идут с востока. Большое разорение несут Византии. — Парфён сказал главное и выжидательно умолк — что скажет князь Владимир? Знал — не удалось, видимо, старшему василику Иоанну Торнику убедить кагана Тимаря направить своё войско против арабов, вновь печенеги на земле росов. И что теперь сталось с Иоанном Торником? Быть может, и в живых уже нет его…
— Сам видишь, василик Парфён, каковы мои заботы. — Князь Владимир отложил грамоту на край стола. Светло-жёлтый свиток, волоча коричневую печать по голубому покрывалу, тут же свернулся в тугую трубочку. — Лишь придёт новое лето, как печенежские полки незвано лезут в гости, с мечом и пожарами. Приучила Византия степные орды к набегам на Русь, золотом и посулами дорогими приучила. От византийского коварства погиб и отец мой Святослав, смерть принял от кагана Кури, купленного на византийское золото… Не легко теперь отучать печенегов от злого навыка, сила для этого нужна. И время. Так и ответствуй от меня своему василевсу: пока печенеги с разбойным умыслом ходят на Русь, помощи от меня Византии не будет!
Василик встал, отвесил князю глубокий поклон. Однажды утром, увидев дым сигнальных костров от Роси и до Киева, понял он, что степь вновь напала на Русь. Потому иного ответа и не ждал.
Какое-то время византиец стоял молча, потом внимательно и с сочувствием посмотрел на князя Владимира.
— Русь с печенегами в войне. Вашему посольству не говорить с каганом, пока горят вежи россов. Дозволь, князь Владимир, мне первому сказать кагану Тимарю слово о мире? Думаю я, что не дошёл до кагана старший василик Иоанн Торник, не успел вручить грамоту от божественного василевса с просьбой не ходить на Русь, дать ей мир и покой. С ответом Тимаря поспешу в Киев пред твои очи, князь.
Князь Владимир с интересом глянул на Парфёна. Услышал, как воевода Волчий Хвост, почтительно стоявший рядом у открытого окна, в ответ на слова Стрифны поощрительно крякнул в кулак.
— Доброе дело сделаешь, василик Парфён, если станешь посредником между Русью и печенегами. Слово даю императору Василию: учинится прочный мир с Тимарем — пошлю сильное войско Византии в помощь. Князья Киевские не один раз уже помогали вашему отечеству, данное слово своё держали крепко. Поезжай к Тимарю. И если он примет мир — ждём тебя в Киеве. Тогда снарядим доброе посольство к печенегам. Послужишь Руси — тем послужишь и Византии. Возьмёшь ли с собой достойную охрану, василик Парфён?
От охраны Парфён Стрифна отказался: случится вдруг неудача, так зачем зря губить дружинников? Явится он к Тимарю от имени византийского василевса, — от имени василевса и говорить будет о мире с Русью.
Князь Владимир пожелал ему удачи. Воевода Волчий Хвост самолично обещал завтра поутру проводить василика из города до печенежских дозоров.
* * *
Иоанн Торник обрадовался несказанно — каган Тимарь вновь зовёт его в Белый Шатёр! После памятного приступа под Белгород, когда печенежское войско с изрядным уроном и с позором отошло в свой стан, каган будто забыл о василике, к себе не призывал, а случалось увидеть издали, отводил глаза в сторону. Будто это его вина, Торника, что россы устояли на стенах!
Мимо сумрачных нукеров прошёл Иоанн торопливо, размышляя — зачем понадобился? Что новое надумал этот степной хищник? Может, о Киеве спрашивать будет, под Киев решил войско повести?
Вошёл, с порога поочерёдно отвесил поклоны кагану, княжичу Араслану и князю Урже, который стоял справа от кагана, сцепив на рукояти меча длинные пальцы с дряблой жёлтой кожей. А когда поднял голову — оторопь взяла — перед каганом на коленях стоял младший василик Парфён Стрифна!
И на лице Парфёна, избитом до кровоподтёков, удивление не меньшее — как, Иоанн жив и при кагане? Неужто пленником?
Уржа недобро усмехнулся, увидев столь нежданную обоим василикам встречу. Прервал краткую паузу:
— Близ Кыюва наши батыры его изловили. Ехал с конными урусами. Говорит, что шёл к кагану. Ещё утверждает, будто из твоего посольства от императора Василия. Верно ли? А может, доглядчик от князя Владимира? Знаешь ты его, Иоанн?
— Да… Вместе посланы были, — с трудом приходя в себя, выдавил Иоанн. Со стороны грек походил на человека, которого только что вытащили из речной глубины, откуда сам он уже никогда не поднялся бы.
— С миром к нам приехал от князя Владимира, — Тимарь, который сидел на бархатной подушке молча, зажав губами правый ус, сказал это для Торника. — Как думаешь, мой многоопытный советник, даст ли выкуп за Белый город князь урусов? Или хитрость какую затевает, ждёт, пока дружина прибудет в Кыюв?
Торник так и не придумал ещё, что делать, как повести себя — спасать ли Парфёна или убрать руками кагана? Что лучше? Как поступить без промашки? А у Парфёна брови поднялись дугой, едва умолк каган, гневом сверкнули чёрные глаза, покривилось избитое лицо — вон как вышло! Торник — в советчиках у печенежского кагана! Что же он ему советует, если божественный василевс повелел не выкупа с Руси добывать печенегам, а помощи искать Византии?!
Иоанн с трудом приходил в себя от оцепенения, едва нашёлся, что ответить кагану:
— Если о выкупе хотел вести речь князь Киевский, то почему не послал своих знатных мужей с подарками кагану? Почему поручил это чужому человеку, жизнь которого ему не дороже червя под ногами?
Парфён качнулся от таких слов, сделал попытку вскочить на ноги, но два рослых нукера тут же навалились ему на плечи, посадили на ковёр. Сумел лишь руку протянуть к Торнику, словно предостеречь хотел от необдуманных слов и поступков.
— Иоанн, о чём твоя речь? К чему склоняешь ты печенежского кагана? Князь Киевский о равном мире хлопочет, а не о выкупе за свои земли! Разве не об этом же помыслы божественного василевса? Опомнись!
Иоанн Торник знал теперь только одно — он разоблачён, а потому надо спасать себя. Парфён Стрифна домой возвратиться не должен! Заговорил так, будто и не слышал слов младшего василика:
— Думается мне, о повелитель степи, прислан сей человек от князя Владимира доглядывать за твоим войском. Вчера только князь Киевский в свой город вошёл с малой дружиной, потому и хочет знать, велико ли твоё войско? А речь о мире нужна, чтобы со всех городов ратников собрать под Киевом и на тебя исполчиться.
Парфён Стрифна сумел вырваться из цепких рук нукеров, в гневе вскочил на ноги, резко обернулся к Торнику. На смуглом в кровоподтёках лице выступили капельки пота, стиснутые губы побелели. Не верил уже, что живым выйдет из каганова шатра — свой же предал, подвёл под смерть!
— Ты изменил своему василевсу, Иоанн Торник! Подлый Иуда, тебя ждёт лютая смерть… Попомни мои слова, лютая смерть ждёт тебя в этой земле!
Уржа хлопнул ладонями. В шатёр вошли ещё двое нукеров.
— Уведите и глаз с него не спускайте, — распорядился он.
Разгневанного Парфёна силой уволокли из Белого Шатра.
Не зная, что он ещё предпримет, Иоанн Торник с поклоном обратился к Тимарю, любезно попросил:
— Дозволь, о справедливейший повелитель, мне допросить Парфёна с глазу на глаз о силе киевской дружины? Обильное вино развяжет ему язык, среди своих посольских стражников он будет не таким настороженным и враждебно настроенным.
Каган медленно, в раздумии уставил тяжёлый взор в византийского василика, чуть приметно усмехнулся, словно заранее знал о помыслах Торника, потом повернулся к сыну. Требовательно, будто у взрослого мужа, спросил:
— Как присоветуешь, сын мой? Что будем делать с византийским посланцем? Сами стеречь будем, выкупа дожидаясь, или соплеменникам выдадим?
Араслан тряхнул перед собой стиснутой плетью с красиво украшенной камнями рукоятью, выпалил разом, словно заранее всё обдумал:
— Пытать его надо — скоро ли вся дружина урусов соберётся к Кыюву? Иной пользы от него не видать нам в силу его упрямства. Думаю, от нашего друга Торника Парфёну не убежать.
Тимарь одобрительно цокнул языком, покосился на Иоанна.
— Возьми своего соотечественника. Младший посланец императора мне не нужен. Если князь Владимир речь хочет вести только о мире, а не о выкупе, время тратить не будем зря. А сам допытай его. И мне скажешь о делах Кыюва, — и Тимарь рукой махнул византийцу, чтобы тот удалился.
«Будто стеклянного насквозь просмотрели… Даже помыслы мои для них не тайна», — откланялся Торник печенегам. Мелко подрагивали колени, когда вышел из просторного шатра. Постоял недолго, успокаиваясь, потом взял Парфёна за руку и повёл к своему становищу, возле которого виднелись посольские возы и византийская стража.
Парфён Стрифна тяжело дышал и выдёргивал руку из цепких пальцев Торника — идти рядом с изменником было выше его сил.
— Ты предал василевса, Торник! Ты уподобился Иуде! Подлый перебежчик! Жалкий трус. У тебя даже не хватило сил поступить так, как поступил Иуда, который наложил сам на себя руки! Справедливый василевс достойно покарает тебя, а род твой продадут в презренное рабство!
Иоанн скорбно улыбнулся, покосился на гневом искажённое горбоносое лицо Стрифны, сделал слабую попытку оправдаться:
— Поживёшь с нами — многое увидишь, узнаешь. Моей вины нет в том, что печенеги вновь напали на Русь. Я встретил кагана уже на киевской земле, он удерживает меня около себя силой. Принуждён служить ему в надежде, что после похода на Русь уговорю Тимаря повести войска против арабов. В таком помысле мне окажут содействие многие печенежские князья, среди которых и известный тебе внук Кури князь Анбал, опасный претендент на место в Белом Шатре каганов. А ты кричишь не разобравшись изменник!
Парфён вытер лицо платком — кровь из разбитого носа продолжала течь, судорожно выдохнул, делая попытку успокоить сердце, — в груди покалывало, мешало дышать и думать. Повернул измученное лицо к Торнику, высокому, сутулому, с проступившей желтизной на щеках. Сказал примирительно, словно поверил словам старшего василика:
— Отпусти меня в Киев. Надобно известить князя Владимира, что каган мира не ищет.
— Ныне это невозможно, брат Парфён, потому как печенеги будут доглядывать за нами. Пусть успокоятся твоим якобы известием, что в Киев пришла совсем малая дружина, а прочие войска ещё весьма далеки от стольного города. Дня через два-три уйдёшь ночью. И скажи князю Владимиру, пусть не скупится и даст печенегам откупного. За это божественный император втройне выдаст ему золотом и товарами, лишь бы дружину прислал в Константинополь. Иначе Тимарь до зимы осядет под Киевом. Слух был, что и соседние торки собирают силы Тимарю в поддержку.
Парфён долго смотрел на белые стены осаждённого Белгорода — над городом в розовых лучах подступающего вечера поднималась лёгкая серая дымка. Малыми карликами казались отсюда дружинники на помосте, и, словно степные былинки на слабом ветру, чуть приметно качались их длинные копья. Чем-то напуганные чёрные вороны медленно кружились над куполами церкви.
— Скажу, как ты просишь, — ответил Парфён, опуская жадный взор на вытоптанную землю под ногами.
Иоанн сердцем уловил нотку неискренности вырвавшихся слов младшего василика. Худые лопатки покрыли колючие мурашки озноба.
«Стрифна не поверил мне, а стало быть, выдаст безжалостному Василию. И быть мне брошенным в сырую яму к голодным тиграм! Ох, великий бог, спаси и помилуй от лютости человеческой!»
Пошёл рядом, спотыкаясь на ровном месте — отчего-то вдруг в глазах потемнело.
После ужина Иоанн отозвал в сторону Алфена, высыпал ему в широкую и потную ладонь горсть монет и прошептал:
— Сядешь у изголовья Стрифны. Пусть спит спокойно… Но рассвет для него больше не наступит… Ты понял меня? Сделаешь так — прощу всё твоё воровство из моих возов, против уворованного втрое награжу, как возвратимся в Константинополь.
Алфен испуганно глянул на сумрачного Иоанна, по толстым щекам забегала нервная судорога. Подумал было отказаться, но увидел тонкие поджатые губы хозяина, смешался: в жёлтых глазах василика стояла холодная решимость, и Алфен понял, что с подобным повелением Торник подойдёт к другому слуге, но тогда рассвета не видать и ему, Алфену. Соглашаясь, Алфен чуть слышно прошептал:
— Понял вас, господин мой. Сяду у изголовья и всё сделаю…
Рано поутру в маленьком становище византийцев возник переполох с криками и руганью. Посланные от Тимаря нукеры, вернувшись, доложили кагану, что пойманный вчера Парфён Стрифна, должно быть опасаясь возмездия за свой умысел против всесильного кагана, выхватил нож у задремавшего стражника и своей же рукой пробил себе сердце.
Тимарь в понимающей улыбке покривил толстые губы и громко позвал брадобрея Самчугу к себе в шатёр привести лицо в порядок.
* * *
В полдень этого же дня голова василика Парфёна Стрифны была брошена печенежскими всадниками в киевский ров — таков был ответ кагана Тимаря на предложение русичей о мире. Русичи в ответ на это выбросили из города сломанную пополам стрелу: печенеги знали, что таков у многих народов знак непримиримой вражды.
Когда князю Владимиру сказали о горькой участи посланца Стрифны, он переменился в лице и долго сидел, придавив сердце широкой ладонью. Киевский воевода Волчий Хвост терпеливо ждал, сумрачно сдвинув седые и торчком стоящие брови. Задумался, отыскивая возможность для достойной мести коварным печенегам. Как ни прикидывай, а надобно ждать сбора всей силы земли Русской. Опомнился от нерадостных дум, когда услышал голос князя:
— Самим теперь надобно позаботиться, как получить весть от белгородского воеводы Радка.
Волчий Хвост с поклоном ответил, что пошлёт в осаждённый город самых лучших гонцов.
— Пошли. А несчастного Стрифну… его голову, повелеваю похоронить по христианскому обычаю, — распорядился князь Владимир. — Да надобно переслать приличное денежное вознаграждение в Константинополь жёнке и детям василика. Как знать, не терпят ли они там нужду горькую. — Подошёл к раскрытому окну терема, долго смотрел, как за лесистыми холмами, на юго-запад от Киева, стлалось над Белгородом размытое ветрами светло-розовое облако пыли, смешанной с дымом печенежских костров.
* * *
Сквозь непроглядные заросли трёховражья Янко прошёл ночной кошкой — всё слыша и видя во тьме. Но печенегов поблизости в дебрях не было. Они держались ближе к кострам, чужой ночи страшась, наверно. Да и верховой ветер так тревожно шумел над головой, словно бы отговаривал людей покидать освещённое кострами место.
Янко вошёл в воду и почувствовал, что кожа на спине стала подобна коже старой лягушки: сплошь в пупырышках. Пересилил противный озноб и, лёгши на спину — лишь нос над водой чуть виден, — бесшумно, словно опытный барс, уходящий от погони, поплыл вдоль крутого правого берега реки. Плыл, поглядывая то влево, на отблески печенежских костров над кустами, на самом верху обрыва, то вправо — на займище, отгороженное от реки цепью огней: оттуда огненные языки костров сновали по воде длинными отсветами.
Плыл Янко, о печенегах старался думать, а жутко было и от иной тревоги: «Не надумал бы шалить Водяной Дед да русалок на меня напускать! Вцепятся речные девы в платно, опутают ноги зелёными травами, и живым от них не уйти будет». Насторожился: шум какой-то послышался впереди, у самого берега. Не печенег ли коня поить привёл? Приметит — стрелой на дно опустит! Янко перевернулся в воде со спины на грудь и увидел, как Ирпень выталкивал из себя с кручи упавшее дерево, но корявая ветла упиралась в землю ветками и не уходила из воды, потому и серчал всегда спокойный Ирпень, преграду на пути встретив.
Перунов овраг с тёмным и мрачным чревом остался позади.
«Теперь на тот берег можно плыть, займище заирпеньское кончается», — решил Янко, когда костры скрылись за поворотом, и тихо приблизился к затаившемуся тёмному лесу. По илистому дну вышел к плохо различимому берегу. Черевья хлюпали, озноб сковал тело, едва ночной ветер коснулся его через мокрую одежду. Янко стащил через голову платно, а затем и ноговицы скинул, отжал их накрепко, а когда снова надел, стало немного теплее. Сделал несколько резких взмахов руками, согреваясь на ветру.
«Ладно и то, что по спине вода не бежит ручьём», — решил Янко и пошёл вдоль реки, чтобы затемно уйти как можно дальше от города.
Страшно без огня одинокому человеку в ночном лесу, но Янко страшился не зверя, а духов недобрых, нежити лютой и жадной на человеческую кровь. Кто знает: коренья из-под земли то и дело хватают за ноговицы или то цепляются своими костлявыми пальцами навы? Может, норовят живого к мёртвым уволочь? И кто это, пугая, вдруг лица коснулся? Отмахнулся Янко рукой, а оказалось — дерево разлапилось на пути. Потом споткнулся о что-то и упал бы, да руками успел за ствол схватиться. Пальцы тут же слиплись.
«И не разглядеть, что это, — Янко поднёс руку к носу, осторожно понюхал. — Пахучие слёзы старой сосны!» — попытался вытереть смолу о мокрые ноговицы, да только напрасно старался.
Вдруг чья-то злая и беспокойная душа, не погребённая по обычаям предков, над Янком заухала-запричитала, а потом пролетела так близко — едва не задела по лицу огромными крыльями. Отпрянул Янко влево и крест святой наложил на себя да в непроглядную чащобу головой нырнул, заклиная древних чуров[92] вступиться за родную кровь перед лесной нежитью.
— Чуры, спасите меня! Чуры, спасите меня от страшного! — шептал Янко, едва успевая оберегать голову от встречных веток и сучьев. Тут и шум по лесу прошёл: чуры ли прилетели биться с нечистой силой, родича спасая, сама ли чужая душа хищная прочь унеслась, но тихо стало вокруг, лишь шелест невидимых над головой листьев говорил успокоенному Янку, что лес жив и сам он жив, не тронули его чужеродные навы.
Шёл Янко, а дебри становились всё гуще и гуще, и уже пальца, казалось, некуда было просунуть, не то чтобы телу человеческому продраться. Тогда Янко вынул нож и стал рубить тонкие ветки, дорогу прокладывать себе. А уходить от реки не решался: как бы не заблудиться ночью в диком лесу заирпенья, не скоро потом выберешься.
Долго шёл так, радуясь, когда лес редел, огорчаясь, когда он становился бараньей шерсти подобен. И устал до дрожи в коленях, когда вышел на небольшую поляну близ берега реки. Осмотрелся.
Ночь уже належалась на лесистых холмах и собралась уползать на запад, почуяв, как солнце заворочалось на своём горячем ложе. По тому, что небо стало из чёрного тёмно-синим, а звёзды из белых перекрасились в голубые и замерцали, будто пламя лучины, перед тем как погаснуть, — понял Янко, что рассвет близок. Вот и вершины деревьев чётче обозначились, а потом кучевые облака тёмное платно сменили на серое, будто кто из них воду мутную отжал, просушивая.
Опустился Янко на трухлявую, упавшую от старости берёзу и ноги вытянул. Отдыхал и думал: как дальше путь держать? Идти ли левым берегом Ирпень-реки и так до Днепра, а дале через Вышгород пробираться в Киев? Это много безопаснее, но на четыре дня дольше. А Белгород ждёт, за частокол в сторону холмов над Днепром смотрит — голодному ведь и час за день станет!
— А если прямо через холмистую степь пуститься? — размышлял вслух Янко. Поднял голову посмотреть, какова облачность над Днепром, не ждать ли дождя себе в подмогу? Хороший дождь надёжно укрыл бы его от печенежских дозоров. Но туч не было, а из мягких и белых облаков какой теперь дождь?
За спиной застучал дятел, сначала несмело, словно опасаясь вызвать неудовольствие спящей пернатой братии, но потом, извещая, что день близок и пора птицам просыпаться, застучал громко и радостно. В ответ справа стрекотнула сорока, пробежал ветерок над заречным лесом, разогреваясь после сна.
— Буду ждать ночи да по балкам и кустистым ярам пойду, — решил Янко. — Там никакой дозор не приметит. Теперь же надо на тот берег перебраться, пока совсем не разогнало ветром туман над водой: какое-нито, да прикрытие беззащитному. На том берегу где-нибудь в зарослях и затаиться до вечера.
Не мешкая, переплыл реку, в прибрежных кустах бузины наскоро устроил ложе и прилёг, истомлённый ночной ходьбой.
Проснулся от громкого ржания коня. Вскинулся, сразу со сна не поняв, что с ним, а потом упал на примятую траву: вдоль берега, не торопясь, ехали конные печенеги, полста человек, не меньше. Крайний к кусту проехал так близко, что Янко, встав на ноги, мог бы прыгнуть и ножом ударить его в грудь. Молодая бузина спасла Янка, укрыла густыми листьями. Он с облегчением перекрестил себя, когда находники, миновав его, объехали дальнюю балку и скрылись за широкими кронами осокорей, выросших там, слева, на обильной воде Ирпень-реки.
День близился к вечеру, и Янко, поторапливая солнце, уже готов был рискнуть и перейти в ближний суходол, а по нему двинуться с опаской к Киеву, ночи не дожидаясь, как вдруг снова послышался стук копыт, теперь уже слева. Чуть раздвинул ветки куста. К нему приближался одинокий всадник на добром вороном коне, а следом что-то волочилось на аркане, в густой траве издали пока невидимое, но, должно, тяжёлое. Будто лёгкий ветерок пробежал по спине, когда Янко подумал: «Не взять ли печенега?» — и тут же резво и нежданно метнулся из куста, как голодный зверь на подкарауленную говяду, отбившуюся от стада.
Конь шарахнулся было прочь, но Янко мёртвой хваткой успел вцепиться в седло. Печенег вскрикнул и тщетно пытался нащупать рукоять меча. Янко сорвал его на землю, твёрдым коленом придавил грудь. Печенег ощерил зубы в беззвучном крике, глаза округлились в ожидании удара ножом под сердце, но Янко опустил занесённый нож.
— Что, страшна смерть, поганый ворог? — зло выговорил он. — Стал бы ты сейчас пищей для курганника, да в Киеве живым нужен, — и связал находника его же поясом. Встал посмотреть, что же волок печенег за седлом, и отшатнулся, увидев кровью залитое лицо. Руки и ноги у полонянника были стянуты сыромятным ремнём. Янко разрезал его, осторожно вынул изо рта человека кляп. Освобождённый открыл синие глаза, шевельнул в кровь разбитыми губами. У Янка душа наполнилась светлой радостью: не благо ли — русича из неволи страшной спасти! С превеликим трудом разобрал слова:
— Испить бы…
Янко подхватил меховую шапку печенега, сбегал к реке, принёс воду и напоил русича.
— Кто ты и откуда? — спросил Янко, разглядывая совсем ещё молодого, нежданного товарища.
— Мироней я, из города Здвижена, — откашлянул Мироней густую пыль, забившую горло, пока волок его печенег по земле. — Был в Киеве, в Здвижен не успел выехать, как печенеги вокруг города дозоры наслали. Поднялся с места, понадеялся на удачу, да вот на поганых вышел. А ты чей и откуда будешь?
— Из Белгорода, зовусь Янком. Иду к князю Владимиру гонцом.
Мироней с усилием привстал на колени, склонился Янку в ноги головой.
— Про Белгород вся Русь знает… Прими поклон земной от ратаев за ратный ваш труд.
Янко от такой чести смутился, торопливо поднял Миронея за плечи, участливо спросил:
— Сам пойдёшь али коня возьмёшь?
— Тебе поспешать по делу важному надо, а я в Здвижен и шагом добреду. Езжай краем этого суходола к тому вон лесу. А оттуда, с холмов, Киев хорошо виден. Да берегись печенегов, которые меня брали. Рядом где-то рыщут, псы бешеные.
Янко поднял печенега на коня, сам сел в седло. За суходолом въехал на небольшой облысевший холм и вскрикнул, радуясь увиденному: там, впереди, за немногими теперь холмами, на крутой возвышенности виден был Киев. Первый среди городов Руси! На горах лежит. Стены высокие поверх вала, церковь Святой Богородицы сверкает куполами, позлащённые кресты сияют на солнце…
Стрела угрожающе взвизгнула над ухом и нырнула в ближние кусты, пропала там так же незаметно, как и прилетела.
Янко оглянулся, и жар прилил к голове: его настигали печенеги, широкой дугой раскинувшись по полю. Ударил коня плетью и пошёл вдоль неглубокой речки Лыбеди, выбирая место перемахнуть бродом на её левый берег. А к сердцу жалость, будто кусок холодного льда, подступила: совсем ведь близок Киев! Хорошо различимы уже дубовые ворота и чёрная лента дороги на склонах Горы Кия. Дружинники показались над частоколом, заметили, наверно, одинокого всадника и погоню за ним. Ещё раз оглянулся Янко и понял: не уйти, имея полонённого с собою на коне. Достал нож, занёс над печенегом… и не смог поразить согнутую спину. Какое-то время ещё колебался, сам себя убеждал, словно на суде совести, перед тем как выйти на суд людской:
— Если бы роковой случай поменял нас местами, то находник не стал бы раздумывать долго! Но слабых на Руси не бьют, тем более в спину…
Рывком левой руки перекинул связанного врага через круп коня. Находник гулко ударился о землю, перевернулся с боку на бок и пропал в пыльной траве. Конь прибавил шагу. Перемахнув через Лыбедь, Янко намётом поднялся на левый берег и только тогда обернулся посмотреть на погоню. И не сдержал возгласа радости: наперехват печенегам из небольшой белоствольной рощицы правого берега Лыбеди вырвалась застава русичей. Печенеги с визгом повернули прочь. Застава погналась за степняками, а один дружинник подобрал сброшенного с коня печенега и через Лыбедь делал Янку знаки остановиться. Подъехал, спросил:
— Твой полон, витязь? — улыбка осветила доброе лицо со шрамом над правой бровью.
Узнав, откуда прибыл Янко, киевлянин легко перекинул печенега на коня к нему, поторопил ехать:
— Спеши, гонец. Мы же скоро возвратимся. Нам далеко уходить не велено, не завлекли бы в засаду, — и, чуть завалясь на правый бок, поскакал догонять товарищей.
Янко неспешно погнал притомившегося до испарины коня от речки Лыбеди мимо памятного киевлянам холма с могилой вещего князя Олега — склоны могильного кургана за минувшие восемьдесят лет уже покрыл густой дубравник. Вспугивая чутких трясогузок на мокрых камнях, проехал вдоль речушки Киянки между крутыми склонами Щековицы и Горы Кия. От Киянки повернул вправо и въехал на Подол — предградье Киева на просторном берегу Днепра. Ехал Подолом и дивился обилию ремесленного люда. Там звон железа слышен из кузницы, там в глубоком дворе усмарь[93] руками мнёт кислые кожи, и запах нестерпимый бьёт в ноздри даже здесь, в стороне. Чуть проехал мимо усмаря, как в другом дворе увидел кучу свежих стружек — тут липой пахнет, а в тени от солнца под навесом сложены желтобокие кади — знать, бондарь живёт на этом подворье. А там, за бондарем, кравец[94] вывесил свои изделия: белого льна ноговицы, да длиннополые платна, да расшитые красной ниткой шёлковые халаты в немалую цену. Разминулся Янко, едучи по Подолу, и с телегой гончара. Понуро опущена голова у мастера — знать, плохо торг шёл, с товаром назад возвращается. Причина понятна — торговые мужи из других земель не едут купить изделия киевлян, печенеги дорогу перекрыли. А товар отменный, вон как тонко звенят корчаги. И горшки один краше другого, славно высушены и красно[95] расписаны.
Крутым Боричевым увозом поднялся Янко на Гору Кия, первооснову Киева. Давным-давно здесь, по рассказам старейшины Воика, славянский князь Кий поставил город вместе с братьями Щеком и Хоривом, да славная сестра Лыбедь жила с ними. Теперь древний князь Кий и не признал бы этих мест! Средь многих стран возвеличился город, названный его именем. И отстроился Киев новыми теремами со многими светлыми горницами, с боковыми и висячими переходами да с богатыми клетями во дворах за крепкими заборами — частоколами. Ставятся уже и каменные терема, тому пример показал князь Владимир: старый терем княгини Ольги и князя Святослава за ветхостью разобрал, каменный отстроил, с мраморными колоннами у входа.
Рядом с княжьим теремом высится церковь Святой Богородицы. А возле неё — чёрные из меди кони. Привёз этих четырёх коней князь Владимир после удачного похода на Корсунь. Почувствовали тогда гордые византийцы силу русского войска! На равных заговорила с ними Русь, принудила уважать себя. Взял тогда князь Владимир в жёны сестру императора Василия — прекрасную гречанку Анну, а Корсунь вернул Византии как вено за невесту. Отец Янка, кузнец Михайло, был в том походе ратником, а потом помогал князю тех коней ставить на Горе — память грекам о Корсуни, чтоб вспоминали, приезжая в Киев по делам и с торгом.
Проехал Янко мимо церкви и мимо груды ещё не убранных разновеликих камней, лежащих близ входа в церковь, приблизился к каменному крыльцу, где стояла стража, прячась в тени толстых колонн.
Янко соскочил с коня и отогнал прочь шумную ватагу детей — увязались от самого Подола, норовя связанного печенега дёрнуть за чёрные волосы обнажённой головы. Притянул вороного к коновязи, привязал повод за кованое кольцо. Тут же два рослых дружинника встали рядом, смотрят на Янка и на печенега.
— Кто ты и откуда? — спросил старший.
— Из Белгорода гонцом, — ответил Янко и назвал себя.
— Так, — старший пощипал себя за курчавую русую бороду, словно сомневаясь в истинности его слов. Ещё раз посмотрел на печенега, который повис руками и ногами ниже конского живота. Вновь спросил:
— А этот ворог откуда у тебя?
— В пути силой взял. Пусть воевода Волчий Хвост спрос ему учинит о силе Тимаря.
— То дело. Эй, гридни! — крикнул страж в прохладное нутро терема. Оттуда мигом выбежали четыре дружинника, сверкая начищенной воинской снастью.
— Имайте печенега да волоките в темницкую, где прочие тати[96] сидят. Там его и спросят, — старший стражник снова повернулся к Янку: — Не гневись, воин, но меч и нож оставь здесь. Без того в терем князя не могу впустить.
«Своих опасаются, — подумал Янко, вздохнул с огорчением. — Эх, княже, княже, бояре ли тебя так путают, сам ли страшишься кровной мести с той поры, как ввёл на Руси новый закон и татей, в устрашение иным, стал карать смертию?»
Безоружный, Янко молча проследовал за стражем по сумрачному прохладному переходу на верхнее жило[97]. Поднялись по крутой деревянной лестнице. У входа в палату Янко увидел иную стражу: в дорогом, узорами украшенном снаряжении, в шёлковых ноговицах да в добротных черевьях. Не простолюдины охраняют палаты князя Владимира, а дети бояр, старшей дружины.
— Из Белгорода к князю Владимиру гонец! — возвестил страж и ушёл вниз, на своё место. Янка ввели в палату, и два гридня встали за спиной. Ещё один ушёл позвать киевского воеводу Волчьего Хвоста.
Воевода появился скоро. Тяжело ступая немощными от старости ногами по выстланным в покоях коврам, он вошёл через дальнюю широкую дверь. Стараясь не гнуть спину, подошёл к Янку, светлыми зоркими глазами вгляделся в лицо Янка из-под всклокоченных седых бровей. Нахмурился.
— Худая весть? — только и спросил воевода. Янко в двух словах сказал о тяжком времени, наступившем для осаждённого печенегами Белгорода. Просил допустить до князя Владимира.
— Иди за мной. Князь Владимир уже оповещён о гонце воеводы Радка.
Прошли через этот зал и очутились в боковой просторной горнице. Князь был один, — высок, с непокрытой головой, волосы выбелены ранней не по годам сединой густо. На плечах накинуто тёплое недорогое корзно — в каменных палатах и летом прохладно. Князь перед их приходом читал книгу в тяжёлом кожаном переплёте.
Янко склонился перед князем, рукой коснулся ковра.
— Подойди ближе, гонец, — велел князь, и его глухой голос отразился от стен, увешанных старинным и новым оружием русичей. Тяжело ступая по ковру зелёными сафьяновыми сапогами, князь прошёл к столу у дальней стены, сел на лавку у раскрытого слюдяного оконца. Янко сделал несколько шагов к князю.
— Сказали мне, откуда ты. Говори, что наказал передать воевода Радко? И каково у вас в Белгороде? Все ли живы? Давно жду вестей от белгородцев.
Князь Владимир спрашивал тихо, словно беспрестанно мучался неведомой болью.
Янко ответил, что близок день, когда ратники Белгорода от голода не в силах будут поднять мечи и натянуть тетивы луков. Грудные дети скоро начнут умирать, лишившись материнского молока от бескормицы.
Князь Владимир вскинулся, телом вперёд подался:
— Но в клетях моих довольно запасов было!
— Из тех клетей кормили дружинников своих и тех, которые прибыли в Белгород с Вешняком. Дружинникам корм ещё есть на некоторое время. Но в Белгороде много разного люда, пришлых со степи и иных. Они бежали от печенегов, не взяв с собой ничего, окромя голодных ртов. Ратаи порезали коней и говяду, покормились какое-то время конями заставы, тех коней осталось мало. Воевода просит помощи, княже.
Князь медленно отвернулся к окну, но Янко успел заметить, как набухли желваки на обветренных скулах князя. Тяжёлая книга, которую он держал на коленях, соскользнула на ковёр и раскрылась в том месте, где заложено перо белого гуся.
— Дважды я посылал гонцов в Белгород, и оба раза их брали печенеги да мёртвыми бросали к стенам Киева. То чудо, что ты прошёл. Да в последнее время заметно поубавилось в окрестностях печенежских отрядов. Не думают ли находники на стены Белгорода подняться, чтобы взять город на щит?
Янко рассказал князю о сече над Росью и о Славиче, о битвах под стенами города.
— В Киеве я видел совсем малую дружину, — тихо, не зная, говорить ли дальше, сказал Янко: боялся услышать страшное для себя, для белгородцев. Но всё же не утерпел, спросил — Один ты пришёл из северных земель, княже, али с войском?
Князь Владимир не ответил, посмотрел в окно на синеву предвечернего неба и на редкие облака там, за широким Днепром. Спросил:
— Скажи мне, гонец, кто ты?
— Я сын кузнеца Михайлы, дружинник заставы Славича, зовусь Янком.
Князь Владимир встал и подошёл совсем близко. Янко поднял голову, глянул в глаза князю, и жалость холодными пальцами стиснула ему сердце. «Сколь морщин у князя!» — отметил про себя Янко.
Князь тихо произнёс:
— Знаю Михайлу и старейшину Воика помню, о том ему скажи, как вернёшься в дом родителя своего. Воеводе Радку передай моё княжее слово: надеюсь на ваше мужество, белгородцы. Велю воеводе стоять, пока северные рати не подойдут под Киев! Тогда и гряну всей силой земли Русской на печенегов!
Последние слова князь произнёс резко, и Янко увидел, как трудно дались они князю.
Воевода Волчий Хвост сообщил князю:
— Гонец полон привёз с собой, печенежского конника.
— Выкуп надобно дать за того печенега, — князь вернулся к столу, открыл расписной ларец, подозвал Янка к себе.
— Возьми. По теперешней нужде великой сгодятся, — и протянул ладонь с десятком серебряных монет. Янко принял дар с поклоном — на монетах выбит княжий лик и по кругу написано: «Владимир на Столе».
— А теперь иди, Янко. Ночь отдохни с гриднями да подкормись перед дорогой. По рани тебя проводят заставой, сколь возможно будет, в сторону Белгорода. Остерегись в пути, чтобы и твою голову печенеги не кинули в киевский ров.
Когда Янко был уже у порога, князь Владимир повторил:
— Стойте крепко, белгородцы! Вы — щит земли Русской!
Опомнился Янко, только выйдя на свежий воздух, когда почувствовал на левой щеке ласковое солнце. Вот и свиделся он с князем Владимиром!..
Подошёл старший дружинник из наружной стражи, участливо спросил обескураженного Янка:
— Ну, обещал князь помочь Белгороду?
Янко с трудом сдерживал накатившиеся на глаза слёзы: если ему суждено будет вернуться, что скажет он людям Белгорода?
Дружинник понял всё, сокрушённо выдохнул и повёл Янка в гридницкую — кормить и в обратный путь снаряжать.
* * *
Рыбе ли прятаться от дождя? Князю ли Владимиру страшиться ещё одной сечи? Сколько их было с той поры, как сел он на столе отца своего Святослава, и столько лет отдал собиранию земли Русской вокруг Киева!
Старый воевода Волчий Хвост и в мыслях не допускал, что князь Владимир выказывает робость, сидя в Киеве за высокими стенами в час, когда лютые вороги жгут окрестные селения. Против несметного печенежского войска нужна крепкая дружина. Сила ратная собирается, но она ещё далеко… А вновь кинуться, вооружась одной лишь яростью, — повторить осраму прошлого лета. Вот подоспеет рать новгородская…
— Сдержи лютость, княже Владимир. Сам ведь знаешь — дикого тура кулаком в бок не бьют: один раз меж рог молотом, и насмерть!
Воевода, заметно поднимая ноги, чтобы не шаркать черевьями, вышел из палаты проводить белгородского гонца и озаботиться о нём. Князь Владимир остался наедине со своими думами и гневом к степным хищникам.
«Кабы со всей дружиной пришёл — под Белгород поспешил бы тотчас, — подумал князь Владимир, вспомнив вопрос белгородского гонца. — И не един вбежал в Киев, да без рати… Почти без рати, с несколькими сотнями дружинников только, — поправил князь сам себя. — Дружину немалую собрал Новгород в помощь своему бывшему князю, а ныне князю всей земли Русской, но рать эта, пешая большей своей частью, на лодиях идёт от далёкого Новгорода. Только и сумел взять пеших воев в Любече да в Чернигове. Вручий да Искоростень дали малое число ратников, других под Здвижен послали оберегать от печенежских набегов из-под Белгорода. Тяжко Руси, ворог везде: и на закате солнца — там византийские легионы рвутся в Болгарию, тянет император Василий длинные руки и к угорским землям. Ляхи воюют червенские города. В полуночных краях только что чудь усмирил, да в Новгороде сына своего Вышеслава оставил оберегать единство земли Русской. На восходе же солнца, по Волге, немирно сидят булгары — им наши ростовские да муромские края приглянулись. О печенегах и говорить нечего — всякое лето на Русь идут. Минувшим годом подступили к Василеву, теперь вот под Белгородом встали».
Князь просунул палец в книгу там, где было заложено пером, пытался читать писание императора Константина сыну своему Роману. Привёз список с этой книги болгарин Михайл, приехав митрополитом на Русь от болгарского царя Симеона по просьбе Владимира.
Глаза остановились на строках: «Пацинаки[98] многократно, паче же примирения не содержа, разоряют Руссию и скоты весьма отгоняют… могут, когда руссы из своих границ выдут, нападение учинить и русские поля вытравить и выпустошить».
«Давно сие писано, половину столетия минуло, а будто о дне нынешнем», — подумал князь Владимир. Встал из-за стола, прошёл в дальний край зала, где на ковре развешено оружие предков: вот дедовы кованые мечи и копья со следами многих зазубрин от памятных сечь с ромеями и хазарами. Вот мечи, с которыми князь Игорь ходил в полюдье собирать дань с окрестных племён. Теперь племён нет и в помине, есть единая Русская земля. И собрал её он, князь Владимир. Вот, в центре ковра, тяжёлый меч убитого печенегами князя Святослава покоится безмятежно, словно старый дружинник, отдых взяв бессрочный от ратных походов.
«Меч воеводы спасли, а князя своего спасти не сумели», — с горечью подумал князь Владимир. Вспомнил, как принимал меч этот от старшей дружины, как давал клятву на нём беречь землю отцов и дедов. Семнадцать лет минуло с той поры. И редкие дни были, когда покоился меч князя Владимира в широких ножнах… Вновь вспомнилось недавнее сражение под Василевом.
— Не успокоюсь, пока не будет отомщена Русь за постоянные печенежские обиды! На горе себе отверг слово о мире Тимарь и так поступил с василиком Парфёном! — прошептал князь и, словно давая роту[99] погибшему от степняков отцу своему Святославу, прикоснулся пальцами к холодной рукояти его меча. — И за осраму под Василевом поквитаюсь!
…Минувшим летом, в день святого преображения, шестого августа, был князь Владимир в Белгороде, в своём тереме отдыхал. Здесь и настигла его страшная весть — печенеги миновали дальние заставы и великой хитростью между верховьями рек Ирпень и Стугны крадутся к Василеву, где о беде и не ведали.
Что говорил ему в спину белгородский епископ Никита, князь не расслышал: по крутой всходнице сбежал торопливо из терема в гридницу, крикнул отроку:
— Кличь Славича! — А сам на подворье, где конь стоял у резного столба.
Малая стража в полусотню гридней при нём да застава Славича, к ним сотня дружинников воеводы Радка и немногие числом белгородские конные ратники — вот и вся сила, которая оказалась под рукой князя Владимира на тот час. Гнали коней во весь мах, и князь успокаивал опытного Славича, а может, и не Славича, а себя:
— Успеем к Василеву прежде печенегов, укрепим город от нежданного находа. А там и воевода Волчий Хвост дружину исполчит к сече!
Быстро сказал князь Владимир, да ещё быстрее спешила к нему нечаянная беда. Не успели пересечь и половины просторного Перепетова поля, начинавшегося от берегов реки Рось, как разом с трёх сторон налетели орущие печенеги, отсекли ход на Белгород и к Василеву.
— Исполчить дружину! — распорядился князь Владимир и шелом на брови надвинул, глянул на несущихся к ним ворогов, выискивая слабое место для удара. А времени-то изготовиться к сече и нет! Успели дружинники выпустить по одной-две стреле в печенежскую тьму да схватились за копья.
— Уводите князя! — только и крикнул Славич княжьим гридням и к заставе обернулся: — Ну, братия, изломаем копья о щиты печенежские! — и ударил коня стременами.
Тысячи орущих глоток, скрежет и звон стальных мечей, ржание вспоротых копьями коней наполнили просторный дол от края и до края. Взлетели птицы с окрестных деревьев, ввысь поднялись степные курганники, наутёк метнулись перепуганные звери — люди сошлись в смертной сече!
Князь Владимир сломил воткнувшуюся в щит печенежскую стрелу, швырнул её в сторону и выкрикнул:
— За Русь!
Кровь горячила голову, умножала силу правой руки при каждом выпаде тяжёлого длинного копья. Визжали черноусые печенеги, налетая на князя и по одному и по два сразу. Ярились молодые гридни, встречая печенегов копьями, стрелами, мечами, не допуская близко к князю. Но находников тьма. Вот уже и застава Славича отжата к реке Стугне, уполовинились числом около князя Владимира гридни, бьются у моста белгородские ратники. Вот уже при князе и десяти гридней не насчитать…
Ратный пот застилает глаза князю, гудит голова от ударов кривыми мечами по шелому. Долго ли ещё сидеть ему на коне? Вспененная тысячами копыт, плескалась за спиной Стугна, тревожно затих неподалёку темно-розовый лес, облитый лучами предвечернего солнца. Над потемневшим долом и лесом нависла тёмная туча. Спасение — в лесу, но до него не добраться уже.
Пятит коня князь Владимир к Стугне, оглядывается на заставу Славича, а её за печенежскими спинами не разглядеть. Над меховыми шапками печенегов лишь то и дело взлетали вверх сверкающие широкие наконечники русских копий.
Эти двое — будто степные курганники на перепела — упали сбоку. Князь Владимир успел укрыть себя щитом, из последних сил ударил мечом проносившегося мимо находника. И в тот же миг конь под ним взвился на дыбы. Перед глазами промелькнуло тёмное древко стрелы, впившейся в конскую шею около уха. Конь тяжело рухнул на землю. Боли в придавленной конём ноге князь не почувствовал — перед глазами вспыхнули розовые искры от удара спиной о твёрдую землю. Ему даже показалось, что сознание на время покинуло его. Открыл глаза и сквозь чудом уцелевший пучок ковыля глянул вверх — исполинским по величине витязем вырос над поверженным князем второй печенежский всадник. В правой руке занесённое для удара хвостатое копьё.
Смерть дохнула в лицо князя, но он не закрыл глаза. Ещё миг…
Князь Владимир дёрнулся всем телом, как тогда, пытаясь высвободить из-под коня ногу, чтобы вскочить и встретить ворога исполчившись, а не лежачим…
— Фу-у, наваждение неотвязное, — тяжело пробормотал князь, провёл пальцами по воспалённым глазам, потёр их легонько. Взмокла спина — тёплое корзно придавило плечи словно ратная кольчуга. Позади послышались тяжёлые шаги — так ходил по княжеским палатам только воевода Волчий Хвост.
Вошёл воевода, глянул на князя из-под отвислых седых бровей — коль у отцовского меча встал, знать, о рати думал!
— Надобно, воевода, гонцов спешных слать к Любечу, ускорить всевозможно приход новгородской дружины. Страшусь я за Белгород, опечалил меня белгородский гонец вестью о полной бескормице. Умирающий меча не поднимет… Да сказать воеводе Яну Усмовичу, чтоб из Любеча, не мешкая, посадил на большие лодии престарелых воев и малогодных ратников окрестных селений и слал бы спешно мимо Киева до Родни[100]. За старшего пусть отправит сотенного Сбыслава. Его знают торки, не однажды у князя Сурбая в гостях бывал.
Воевода молча поднял правую бровь. Князь пояснил:
— Надобно, чтобы печенеги узрели, что по Днепру многолюдная дружина пошла к Родне. Тогда каган Тимарь опасаться станет за свою спину, начнёт оглядываться.
Воевода Волчий Хвост чуть заметно улыбнулся:
— Сделаем так, княже. И каждому дружиннику по два копья дадим, чтоб удвоить то многолюдство.
Князь Владимир отошёл от ковра с оружием, прясел у стола, левую руку положил на закрытую книгу. Волчий Хвост на месте повернулся, готовый слушать князя.
— Понял я, воевода, что только дальними заставами нам не сдержать печенегов, не отучить от дурного навыка ходить на Русь за полоном. Надобно крепить южный кон городами по реке Рось, а по городам людей сажать на постоянное житьё. Родни да Переяславля мало.
— Надобно, княже, — понимающе поклонился воевода. — Будем набирать людей в те города, смердами да вольными пахарями заселять.
— Пахари в поле перестанут выезжать, коли от своего князя не будет им надёжной защиты. Надобно кон земли нашей сделать для печенегов впредь непреодолимым.
Сказал и вновь опечалился — столько сил уходит у земли Русской на борьбу с этими нескончаемыми степными находниками. От предков из уст в уста передавались предания о древних завоевателях — обрах и гуннах. Потом были чёрные хазары, теперь вот печенеги нескончаемо идут на Русь. Пройдут печенеги, а за ними ещё кто нагрянет?
— От кочевых торков, княже, в твоё отсутствие были в Киеве князья и знатные мужи, — сообщил воевода. — Просятся под твою руку. Иные и веру христианскую хотят перенять, креститься. Сказывали — печенеги притесняют их вежи, скот угоняют, людей крадут на продажу в Корсунь. Много обид высказали.
Князь Владимир приободрился.
— Посадим тех торков по новым городам на Роси. Землю дадим, чтобы было где табуны пасти. Добрые конники из торков, и нам в помощь будут в заставах стоять. Хорошую ты, воевода, весть сказал!
Воевода подождал некоторое время, посетовал:
— Тмутараканцы дали бы о себе как знать печенегам. То-то бы Тимарю расхотелось сидеть под Белгородом!
Князь Владимир неспешно проговорил:
— Не близок край тмутараканский, потому и не знаем мы, что делается теперь в печенежских вежах и под Саркелом, стольным городом Тимаря. Всё же надобно послать туда людей и позвать на помощь нам.
Воевода понял, что иных распоряжений от князя не будет.
— Иду гонцов снаряжать к Яну Усмовичу, — сказал он. Князь вновь вспомнил о Янке, сыне кузнеца Михайлы.
— Пошли поутру Власича с заставой. Пусть проводит белгородского гонца до Ирпень-реки. Словят печенеги — и не узнает Радко о моём повелении стоять до смертного часа. И в Тмутаракань нынче же пошли надёжных гонцов с моим повелением напасть на Саркел не мешкая!
— Непременно пошлю, княже, — воевода поклонился и оставил князя с его думами о земле Русской. Князь долго смотрел в окно. Кучевые облака над заднепровской равниной порозовели, уставшие курганники покинули поднебесье. Земля готовилась ко сну. Князю Владимиру сон не шёл, болело сердце от забот и прожитых лихолетий.
В западне
А ведь и живи, Илья, да будешь воином!
А на земле тебе ведь смерть будет не писана,
А во боях тебе ли смерть будет не писана.
Былина «Исцеление Ильи Муромца»Рассвет уже занялся над левобережной днепровской равниной, но тучи на востоке ещё продолжали закрывать солнце, и туман висел над речной гладью при полном безветрии, когда Янко тронулся в обратный путь. Ехал по городу под ленивый собачий лай, поглядывая по сторонам и поёживаясь от утренней свежести. Но ещё холоднее было от того, что каталось в душе ледяным куском безысходное горе. Чем утешит он людей, его пославших? Ни войска при нём, ни надежды на скорое избавление от осады.
Стража выпустила Янка из ворот молча, будто обречённого. За спиной послышался конский топ: от ворот Киева, под уклон горы, к нему скакали дружинники, десятка два. Вёл их тот самый дружинник, что вчера подобрал сброшенного Янком печенега. Он улыбался Янку как доброму знакомому.
— Скор ты на подъём, витязь, — сказал княжий дружинник и повёл своего коня стремя в стремя. — К тебе заехали, да князева ключница сказала, что оседлал ты коня. Повелел воевода проводить тебя, сколь возможно будет.
— Поклон от меня воеводе, — ответил Янко, в душе радуясь, что теперь не так страшно ехать степью. Позавидовал про себя: «Воеводе Радку с тысячу бы таких воев! Не дремали бы тогда находники по ночам у костров». А вслух добавил:
— Князь Владимир упреждал меня, что даст стражу, да я в печали о Белгороде забыл вас дождаться, поторопил себя. Как зовут тебя, старшой?
— Прозвали меня Власичем, — охотно ответил дружинник, и снова добрая улыбка скользнула по его лицу. — Матушка сказывала, что кудряв да волосат народился, оттого и имя такое. О тебе же я прознал в княжьем тереме. Как ехать думаешь, Янко?
— Поеду той же дорогой, что и в Киев ехал. У Ирпень-реки простимся. Я перейду на тот берег, а вы воротитесь назад.
Власич годами ровня отцу Михайло, но Янко отметил, что ростом он выше, зато отец в плечах пошире будет. Власич заговорил, стараясь забавными историями отвлечь Янка от печальных дум о Белгороде.
— А три дни назад едва не сгиб я, — улыбаясь, будто о бражном пире, рассказывал Власич, чуть завалясь в седле в Янкову сторону. — Вышел я с заставой вдоль Днепра, вниз по течению. И надумал сам осмотреть поле окрест, чтоб не нагрянули поганые со спины. Въехал на крутую лесистую гриву — да вон она, — обернулся Власич и указал в сторону холмистого берега Днепра. — На коне сижу, по сторонам посматриваю, птиц наслушаться поутру не могу — стосковался по птицам, в Киеве сидя. Казалось мне тогда, что вышел бы мне навстречу из дебрей вепрь, я и его поцеловал бы в грязное рыло. И дождался, только не вепря, а лешего. Давануло что-то шею, да так, что я товарищам даже крикнуть «Прощайте!» не успел! Легче ласточки из седла выпорхнул, а на землю шлёпнулся, будто колода дубовая. И решил я, что это леший балует. Стал молитву шептать от нечистого, а сам всё же нож на поясе шарю: пока-то бог неба увидит меня под лохматым лешим, да ещё в лесу! А леший знай меня мнёт, руки перехватывает да за спину крутит. Упёрся я, не поддаюсь. Вижу, что моей силы не меньше, чем у него. И не поддался бы, да к нему на помощь другие лешаки сбежались, визжат по-своему, топочут рядом. Сорвали шелом и чем-то, должно дубьём, по голове ахнули. Тут из меня и дух вылетел вместе с огненными искрами из глаз! Будто на звёздное небо средь тёмной ночи взглянул.
Власич весело хохотнул, а потом руку вскинул к шелому, словно через железо хотел проверить, цела ли всё-таки голова? И досказал свою быль:
— Когда очнулся, с того света возвратясь, вижу: стоят надо мною мои витязи и в лицо мне из шеломов воду плещут, да так ретиво, что едва не утопили. А на траве побитые находники лежат, головами в одну кучу.
Рядом дружинники улыбались, вспоминая, как это было, шутками про своего младшего воеводу перекликались.
И вдруг Власич сказал, видя сумрачное лицо своего спутника:
— Да, брат Янко, только чудо может спасти Белгород. Северные рати скорее чем за два десятка дней под Киев не подступятся.
— К тому времени Белгорода уже не станет. Корма вряд ли на седмицу дней осталось. Страшно думать даже, что с нами станется потом! Дружинники с воеводой на печенежские копья кинутся, а дети?
Янко невольно поторопил вороного. Захотелось быстрее встать рядом с воеводой Радком, отцом Михайлой да с товарищами заедино. За Янком и Власич прибавил ходу своему коню. Ехали так долго в молчании, вдруг крик раздался за спиной:
— Власич! Дозорный знак подаёт слева!
Янко встрепенулся, глянул на юг, а там дружинник коня гнал галопом. Сказал, приблизившись:
— Печенеги видны, Власич. Там, возле мёртвого дуба, у Сухой балки. Десятков до шести. Могут выйти нам в спину.
Власич повернулся к Янку. Тот огляделся — до Ирпень-реки было уже недалеко, суходол рядом.
— Мы почти у места, Власич. Дале я пойду пеши. Сбереги коня, друже. Если счастливо кончится осада, разыщу тебя в Киеве. А будет, ты придёшь в Белгород с дружиной, тогда спроси двор кузнеца Михайлы.
Власич принял повод вороного.
— Сделаю, как просишь, Янко. Кланяйся белгородцам земно. Упаси бог вас от лиха, а боле того от полона. То хуже смерти для русича.
Янко спрыгнул с крутого склона суходола и побежал по высокой и пыльной заросли лебеды и чертополоха. Бежал, а сам чутко слушал: не застучат ли над головой копыта чужих коней, не раздастся ли там, слева, гортанный крик степняка, увидевшего добычу?
— Ирпень, — устало проговорил он, наконец-то увидев, как край неширокого суходола раздвинулся в стороны, блеснула поверхность реки. Только тут Янко поверил в удачу: не приметили его печенеги! — и грудью упал на прохладную траву, чтобы отдышаться и дать телу остыть после долгого бега.
Лежал недолго. День уже близился к обеду, а идти до Белгорода, хоронясь от находников, ох как далеко! Осторожно встал и вслушался в сотканную из птичьего гомона жизнь леса по берегам реки, потом пошёл в воду. Закинув печенежский щит за спину, Янко вошёл в реку и поплыл. Течение почти не чувствовалось, но меч и щит тянули вниз, и Янку пришлось грести в полную силу. Хотелось скорее выйти на берег, страшно быть замеченным вот так, посреди реки. Но вот ноги коснулись земли и погрузились в илистое дно, откуда поднялась тёмно-серыми клубами муть и шла в воде следом за человеком шаг в шаг.
С радостью ступил на твёрдый грунт. Вот и густая осока осталась за спиной, впереди чуть шевелили листьями кусты волчьей ягоды, шиповника, а там, за молодняком, стоял тёмный, полный шумной и радостной жизни лес, спасение одинокого русича перед лицом степи.
— А-а-ах! — ударил вдруг в уши резкий крик за спиной. Воинская выучка спасла Янка! В доли секунды успел он упасть на колени и руку со щитом вскинуть. И тут же почувствовал резкий толчок в щит.
— Поторопился, степняк! — закричал зачем-то Янко. — Поторопился вместо меня издать крик смерти!
Чёрное оперение ещё дрожало перед глазами, а Янко уже бежал со всех ног к высокому осокорю, чтобы укрыться за его толстым стволом. И скорее угадал, чем увидел, когда печенеги, теперь уже несколько человек сразу, с кручи правобережья пустили стрелы ему вдогон. Резко упал в траву, головой под щит. Стрелы глубоко врезались в землю рядом, а одна будто раскалённым углём упала и вожглась в ногу, выше правого колена. Янко вскрикнул от боли: готовился к новому прыжку в сторону густых кустов, а тело вдруг стало непослушным. Не поднимая головы, глянул назад: с десяток печенегов торопливо спускались на конях к воде, другие снова тянули стрелы из колчанов, надеясь не упустить русича. Потом увидел Янко, как печенеги, понукая коней, стали выбираться из реки, но не тут, где он за деревом затаился, а чуть ниже по течению — там берег был твёрже и чище.
Янко пересилил боль, надломил древко стрелы у самой ноги, но вынимать наконечник не стал — чтоб кровь не хлынула. Рывком вскочил и, припадая на раненую ногу, кинулся в кусты. Рядом хлестнули по веткам печенежские стрелы.
— Наугад бьют, — понял Янко и запрыгал между кустов, уходя всё глубже и дальше в лес. Печенеги кричали за спиной у реки, но не приближались. Янко ковылял, пригибаясь к самой земле и постанывая от растущей боли.
— Углядели поводного коня у Власича. Догадались, что кто-то за Ирпень ушёл. Надумали изловить и дознаться, с чем послал меня князь Владимир в Белгород!
Янко бежал всё дальше и дальше, между стволами берёз и клёнов, карагача и светло-зелёных осин: так раненый зверь, петляя, уходит от охотника, который встал уже на кровавый след. Бежал до тех пор, пока не стало вдруг темно — от сумерек ли вечерних, а может, и от крайней усталости. Остановился, взмокшей грудью припал к могучему и спокойному в своём величии дубу. Потом, тяжело дыша, почти упал под деревом, а под руками сплошным ковром устлано желудями.
Прислушался — тихо в лесу, погони не слышно. Луч солнца пронзил крону дерева, упал Янку на ноговицы, и он, следуя взглядом за лучом, словно впервые увидел свои ноги. Они лежали бесчувственные и неподвижные, будто чужие.
Было уже пополудни. Янко достал нож, торопливо отрезал подол платна. Потом скинул мокрые ноговицы, морщась от боли, осторожно потянул из тела остаток печенежской стрелы. Следом за тёмным наконечником сильно пошла тёплая кровь, от слабости зашумело в голове, но Янко пересилил себя, туго стянул ногу повыше раны, а на рану наложил ещё одну повязку. Теперь платно стало ему едва до пояса. Покончив с повязками, выжал мокрую одежду, встряхнул её и надел снова. Улыбнулся скорбно:
— Сколь раз уже купель в реке принимал. И ещё раз придётся. Белгород на той стороне.
Решил трапезничать под этим же дубом. Достал из котомки ржаные лепёшки и мясо, что дала ему в дорогу сердобольная ключница в княжьем тереме. Немного подмокло всё, но голодному Янку и подмоклое в радость. Отощал и силы на исходе. Янко отрезал кусок мяса побольше — ночью где поешь? — отломил часть округлой лепёшки. После недолгой трапезы засобирался в путь.
— Кровавника надо где-то сыскать да нажевать на рану. Не пристала бы хворь какая от грязи, — забеспокоился Янко и тихо застонал, поднимаясь. Потом оттолкнулся от дуба и захромал, налегая на печенежский меч, который легко уходил остриём в толстый слой лесного перегноя.
В сумерках — а они в лесу сгущаются быстро — Янко вышел на большую поляну на вершине пологого холма. Вышел и остановился, поражённый увиденным. Где он? И не сон ли то преждевременный наполнил странным видением уставшие глаза?
В центре поляны, словно скорбная память минувших дней, сиротливо высился разрушенный и полусгнивший бревенчатый частокол. В проёме между поваленными брёвнами виднелись тёмные развалившиеся землянки, дворища густо поросли бурьяном и крапивой…
— Чьё городище? — забеспокоился Янко. — Кто и когда жил здесь? И чьи это кости белеют среди полыни по склону невысокого вала?
Осторожно краем поляны Янко стал обходить мёртвое городище, не решаясь приблизиться к нему и заглянуть за частокол, где одиноко стоял старый тополь, на самой вершине которого сидел, взмахивая на лёгком ветру крыльями, уставший ястреб.
— Не древние ли боги, — шептал Янко, озираясь по сторонам, — наказали этих людей за отступничество от старого закона и напустили на них чёрную болезнь — мор? А может, это следы нашествия древних хазар, пришедших за данью… Дань взяли, да костьми своими и чужими устлали ров и городище. Теперь души павших плачут в холодных землянках, не имея живительного тепла очага, от живых родичей не получая ежедневную требу.
Янко вслушался в лесные звуки, долетавшие на поляну из чащи. Почудилось, будто среди птичьего переклика различил протяжное и горестное эхо-стон: «О-о-ох!» Так, верно, стонут души непогребённых, сбившись в кучу под застывшим очагом!
Холодом сковало ноги. Потом холод этот подступил к сердцу, мышцы спины скрутил в узел. Захотелось как можно скорее уйти прочь от мёртвого неприбранного городища. Янко осторожно попятился и ткнулся пятками в бревно, не замеченное в густой траве.
И в тот же миг опрокинулся навзничь, но не ударился о землю, а полетел в тёмную бездну, будто в огромную пасть страшного чудовища! Успел лишь издать короткий крик отчаяния и тут же умолк, больно ударившись спиной. И лёг, разом обессилев: ушла из него сила, как вода уходит из разбитой корчаги.
«Всё, конец!» — эта холодная мысль заполнила голову Янка, подобно тому как чёрная грозовая туча закрывает небо: во круг темно, и нет никакой возможности даже малому лучу солнца пробиться. Слишком много удачи было на пути до Киева и обратно. Сколько раз уходил от гибели, а теперь вот заживо погребён!
Он попал в одну из ловушек исчезнувших обитателей городища, которые они для защиты поселения вырыли вокруг. Ныне мёртвые, они поймали живого и теперь ждут его в другом мире… Янко всё же отважился посмотреть вверх. Сквозь небольшое отверстие, пробитое при падении, увидел высоко вверху над ямой уже затухающее вечернее небо. И два белогрудых облака над поляной — неторопливо, при слабом ветре, они передвигались к краю этого малого куска синевы. Янко с трудом подтянул под себя ноги, встал, потом начал ощупывать стены.
«Земля сухая, — заметил про себя, — должно, над городищем мёртвых давно грозы не было. — То, что в его могиле было сухо, чуть-чуть порадовало. — Стало быть, ночь перебуду, не заколею от холода до утренней зари…»
Но тут же горечь безысходности вновь подкатилась к горлу. Что толку землю щупать, когда глубина ямы в два его роста, а то и боле! Бог, знать, отвернулся от него, и помочь ему некому. Люди здешние умерли, живые далеко и сюда дороги не знают. Пройдёт сколь-нито дней, и его душа покинет остывшее тело, будет ночьми метаться над поляной в образе ночной птицы-филина, криком исходить будет, потому как некому похоронить его по новому закону. А сам себя в землю разве закопаешь?
Ощупав стены, Янко ощупал и себя. Пояс от меча был здесь, но меча на нём не оказалось — обронил, падая. И щит с руки слетел, где-то там, наверху остался. Только нож оказался при нём да котомка за плечами. Но что в той котомке — крохи! И что ему теперь нож? Разве что голодной, слабеющей рукой пронзить собственное сердце, когда желтозубая Смерть заглянет в яму и обнаружит его?
Янко снова опустился на землю, потёр раненую ногу и закрыл глаза, хотя и без того плотная, мёдом пахнущая темнота заполнила яму до краёв. Даже звёзды, засветившиеся высоко в небе, не разогнали её. Какое-то время стояла тишина, потом прошуршала крыльями запоздавшая на гнездо какая-то большая птица, а уж потом только ухнул раз, другой, будто пугая лес, филин.
«Вот он, голос мне подаёт», — подумал Янко, но тут же попытался отогнать от себя навязчивую мысль о ночной птице-душе. Начал думать об отце Михайло, о матери Висте, о братьях и о Ждане.
«Только и успел сказать ей, что, буде выстоим осаду да живы останемся, упрошу отца Михайлу вено дать за неё. Кто скажет им, как и где сгинул их Янко? И кто придёт к праху моему бросить горсть земли, прощаясь? Страшна смерть голодная, страшна!»
В темноте Янко нащупал нож и поднял его. Потом неторопливо кончиками пальцев потрогал тускло блеснувшее в звёздном свете кривое лезвие — остро ли?
Нужда великая
Ещё как-то молодцу мне не кручиниться,
Ещё как-то молодцу мне не печалиться?
Как вечер-то лёг я — не поужинал.
Я утрось-то встал — да не позавтракал,
Пообедати схватился — там и хлеба нет.
Былина «Молодец и худая жена»Было пополудни четвёртого дня, как Янко ушёл гонцом в Киев. Вольга сидел на старой колоде во дворе и грел пустое чрево под сонными лучами солнца. Босые ноги в обтрёпанных ноговицах широко раскинуты по высохшей от зноя траве, руки бессильно вытянуты до тёплой земли.
Дремлет Вольга, согретый солнцем, и гонит прочь голодные мысли о еде: только к ночи покличет мать Виста к столу. Давно уже так берегут белгородцы корм, взятый из княжьих клетей. И то славно, что два раза мать даёт малость хлеба и похлёбки из сушёной рыбы либо чечевицы, а в иной раз и кусочек конского мяса бывает у них на столе. Мясо то получает отец Михайло за кузнь от воеводы Радка: чинит отец вместе с ратаем Антипом оружие для дружинников. Ратаи же да холопы и вовсе один раз в день трапезничают, да и то на лёгкую руку, впроголодь. Взяли корм у богатых мужей в долг, а его ведь потом отработать надо будет!
«Досыта в городе едят, верно, только посадник Самсон да его не менее толстая жена, посадница Марфа», — подумал Вольга сквозь неспокойную дрёму.
— Вольга, — тихо проговорила над ним мать Виста, и он почувствовал на голове ласковую и чуть шершавую руку её. — Возьми горшок, сыне. Я похлёбку чечевичную сварила с малой долей конины. Снеси в землянку ратая Луки, пусть Рута детишек накормит. Который день из их дымника дыма не видно… Бог ты наш, что есть будем, когда приберём запас муки и гороха да последних коней порежут на корм? Помыслить и то невмоготу становится…
Лицо матери приняло столь скорбное выражение, что защемило у Вольги под сердцем от жалости к ней и к себе тоже. Он шумно втянул ноздрями дразнящий запах варёного мяса, почувствовал вдруг холодную пустоту внутри тощего чрева и заспешил со двора.
Землянка Луки была рядом, за кузницей отца Михайлы, но ближе к валу, а не к торгу. Вольга ни разу ещё не был у Луки — в их дворе играли только девочки. Крыша землянки за многие годы поросла пахучей серебристой полынью и оттого стала походить на маленький могильный курган.
Когда Вольга торопливо подошёл к землянке, рубленная из толстых досок дверь была ещё закрыта и ни звука не доносилось из-за неё. Вольге вдруг показалось, что от земли пахнуло неживым холодом, он плечом надавил на дверь. Медленно, с тягучим скрипом, она отворилась, показывая тёмное нутро землянки. Вниз вела короткая лестница — толстое бревно с насечёнными на нём узкими ступеньками.
День в землянку вошёл следом за Вольгой. И ещё тоненький столбик света проникал в жилище через дымник, белым пятном растекаясь у очага. Было прохладно — знать, давно уже на этом очаге не готовили пищу.
Слева от входа вдоль стены было устроено широкое ложе. На рядне, тесно прижавшись, лежали светловолосые девочки — пять головок и пять разбросанных по рядну толстых косичек. Спали девочки, голод ли свалил их — Вольга того не знал. Навстречу ему из-за очага поднялась невысокая и худая жена ратая Луки — Рута. На руках её лежала спелёнатая белой холстиной шестая дочь — младшая, грудная. Голодные глаза были невероятно большими на сером лице девочки. Рута тихо покачивала дочь, хотя она и не кричала. Вчера же, перед самой ночью, через открытый дымник землянки долетал её тоненький голосок. Должно, есть просила, несмышлёная, а есть было нечего.
«Досыта накормить бы их, обогреть, — горько подумал Вольга и молча протянул Руте горшок с похлёбкой. — Да чем? Самим, поди, скоро так-то бедовать…»
Рута бережно пронесла горшок к очагу и поставила там, потом повернулась к Вольге.
— Спаси бог вашу семью, — проговорила она и плавно поклонилась в пояс. — Сколь щедра Виста, от вас с Вавилой отрывая корм моим девочкам. Земно кланяюсь ей, скажи.
— Приходи в гости к нам, — услышал он голос Руты уже за дверью, прикрывая её за собой. И опрометью пустился к своему двору.
— Проклятые печенеги! — выкрикивал Вольга и размахивал на бегу кулаками, будто сам каган стоял перед ним. — Да пошлёт на вас бог неба всепожирающую чуму!
Едва обогнул своё подворье и проулком выскочил на улицу, остановился. Навстречу, с превеликим трудом переступая ногами по пыли, шёл бондарь Сайга. На продолговатом, оспой изъеденном лице накрепко залегла нездоровая желтизна, даже летнее солнце не могло загаром скрасить ту желтизну — знак укоренившейся болезни.
Из подворья вышел отец Михайло, увидел товарища, подошёл, поддержал под другую руку — бондаря вёл куда-то слабый телом сын Боян.
— Зачем встал с одрины, друже Сайга? Лежал бы, сил набирался после раны-то, — укорил отец Михайло.
Бондарь остановился, покашлял в кулак, скорбно опустил голову на грудь.
— Сколь дней уже лежу, Михайло, а сил не прибывает. Текут из меня силы по капле, как из весенней сосульки под стрехой… неведомо куда. Видел ты засыхающее дерево? Сперва одна ветка усохла и отвалилась, потом другая листьев по весне не выкинула. Тако же и я теперь. Нет должного корма, друже Михайло, сохну…
— Куда же теперь бредёшь?
Бондарь Сайга указал взглядом в сторону торга, за которым виден по обок с княжьим теремом терем посадника Самсона.
— Продам себя посаднику, пусть впишет меня в холопы, но даст семье возможность жить.
Отец Михайло, а с ним почти разом и Вольга охнули: мыслимое ли задумал бондарь Сайга? Боян уткнул лицо в руку бондаря, затряслись худые костлявые плечи. Вольга не стерпел — и у него заломило в горле, словно подавился крупной костью и не дохнуть. Хлипнул носом, положил руку на плечо друга.
— Воли надумал себя лишить? — почти прохрипел отец Михайло, а сам в унынии поник бородой на платно, сокрушаясь — помочь бондарю он бессилен.
Сайга вытянул перед собой обе руки.
— Вот, две руки у меня, друже. Левая волю держит, а в правой — жизнь Мавры и сына Бояна, да и своя заедино. Какую ни терять, всё одно больно. А правая всё же нужнее… Живут как-то и в холопах. Идём, за свидетеля будешь перед посадником.
Отец Михайло пошёл рядом с бондарем. Шёл медленно, будто и самому предстояло продавать себя посаднику в извечные холопы, а теперь отсчитывал последние шаги вольной жизни, оттягивал роковой миг самопродажи…
Достучались. Посадник вышел на крыльцо, изобразил на лице скорбь. Должно, решил, что кузнец и бондарь пришли просить корм, не имея ни одного резана.
— А ведь отказывался ты, Михайло, когда давал я тебе серебро, провожая Янка в Киев, — уронил недовольно посадник, вспомнив гордость кузнеца перед воеводой. Отец Михайло не ответил на то ни словом.
Бондарь Сайга с трудом поклонился посаднику, покашлял в кулак, сказал:
— Надумал я, посадник Самсон, продать себя в холопы. Возьмёшь ли на свой прокорм меня и моих домочадцев?
Посадник дёрнул бровью, склонил крупную голову набок: знал, какой отменный товар готовит бондарь Сайга! На его кади, бадейки, ковши и корытца в Киеве всегда великий спрос, а стало быть, выгода от этого будет не малая. Не мешкая, послал дворового отрока за княжьим ябедьником[101] Чудином. Тот явился тут же, со свитком и гусиным пером. Не заходя в дом, на крылечке, жмуря глаза от яркого солнца, тощий и скрипучий при ходьбе Чудин старательно писал под диктовку посадника Самсона самопродажную грамоту.
«А быть тебе, бондарь Сайга, отныне холопом у посадника Самсона даром, без платы, едино за прокорм с домочадцами до скончания живота твоего. А будет так, что по немощи своей не заработаешь прокорма боле, а захочешь отойти в вольные люди, то платил бы ты ради такого выкупа три гривны».
Чудин писал, а Вольге казалось, будто скрипят тяжёлые затворные ворота в клетях посадника, и нет теперь другу Бояну воли бегать с ними на Ирпень-реку: у посадника и Бояну сыщется работа на подворье или в поле стадо пасти.
— Жить будешь, как и ранее, в своём дворе, — неожиданно сказал посадник Самсон, и Вольга услышал, как облегчённо вздохнул Боян. — Но всё рукоделие отныне станешь приносить сюда. Я сам и буду сбывать в Киеве. А теперь тебе выдадут кормовые. Ступай в повалушу.
Вольга оставил Бояна дожидаться своего отца Сайгу, медленно побрёл прочь от посадникова терема. И вновь вспомнил землянку Луки, голодных девочек и серое лицо Руты. Не было сил идти спокойно, и он побежал со всех ног.
Во дворе Василько скучал у телеги, бесцельно ковыряя землю острой палочкой. Рядом Воронок на привязи, тянется мокрыми губами к пожухлой и вытоптанной траве подворья: уже несколько дней стоит жара и ни одного дождя над Белгородом. Три дня тому назад вышли они за вал травы нарвать вместе с княжьими дружинниками, да оказалось, что в трёховражье печенегов едва ли не больше поналезло, чем кустов выросло. Схватились дружинники за мечи, сеча вышла краткой, но кровавой — отбились, благо лучники со стены помогли, как отбежали на свой вал под стены. Василько с Вольгой успели нарвать травы котомку, но надолго ли это голодному коню? А чем кормить коня назавтра?
— Василько, почто нам так сидеть и ждать смерти, уподобившись говяде, привязанной к столбу! Надумал я выйти в печенежский стан, корм поискать.
Василько поднял на него грустные карие глаза. В них промелькнуло удивление, но тут же погасло, и он обречённо отмахнулся от слов товарища:
— Мыслимо ли такое? Из ворот не дадут выйти — стрелами побьют.
Вольга, озираясь по сторонам — нет ли взрослых рядом? — заговорил шёпотом. Василько слушал. И вот его глаза засверкали надеждой, щёки от возбуждения побледнели.
— Не сробеешь ли идти со мной? — спросил Вольга, кончив шептать в ухо товарищу.
— Нет! — твёрдо ответил Василько. — Негоже оставлять тебя в таком деле одного. Разве не други мы?
Вечером после скудного ужина — мать Виста поставила на стол горшок с жидкой кашей из гороха — Вольга подошёл к отцу Михайло.
— Дозволь, отче, нам вновь с Васильком сходить на стену. Вдруг ныне Янко прибежит домой.
Отец Михайло отпустил с наказом беречься, не словить печенежскую стрелу через частокол.
Згар, друг Янка, не удивился, завидев Вольгу с товарищами на стене: что ни вечер — поднимались они на помост, спускались со стены к трёховражью нарвать коню свежего корма, а потом долго слушали тишину ночи — не подаст ли Янко сигнала. Но вечера проходили, а его всё не было.
Вольга дождался, когда дружинники вновь спустились за стену, и позвал Василька и Бояна:
— Идёмте спешно, как бы в сумерках не отстать нам.
Котомку нарвали быстро, увязали. Поблизости тихо переговаривались дружинники, иные с луками наготове засели по кустам, высматривая, не подкрадывается ли змееподобный печенег по зарослям?
Стемнело как-то сразу, наверно, оттого, что с запада наползли серые облака. Вольга оглянулся. На ирпеньской стене дружинники стояли густо, копья, будто высокие камыши, торчали над частоколом.
— Пора, дружинники возвращаются, — прошептал Боян. Ему страшно, он впервые вышел с Вольгой и Васильком за стену.
Вольга отдал ему котомку, сказал чуть слышно:
— Поднимешься на стену: скажи Згару, что мы идём в печенежский стан за кормом. Сыщем ли — то в руках божьих. Пусть Згар воеводу про наш уход оповестит, да на страже пусть у Киевских ворот встанут. Мы там с Васильком обратно придём. Ну, Василько… — Вольга повернулся к реке — светло-серой пеленой стлался дым по заирпеньскому лугу. Боян, оглядываясь, поспешил к стене.
Отползли по рву, а потом с опаской спустились к реке: загодя высмотрел Вольга места, где хоронились над кручей сторожевые русские лучники. Их стороной обошли. Вот и Ирпень-река, тёплая, задремавшая уже под тёмным рядном ночи. Так захотелось окунуться в ласковую прохладу реки! Да нельзя — ворог рядом. Вольга только вздохнул сокрушённо да спину почесал, вывернув руку назад до предела. Осмотрелись, и Вольга пригнулся к Васильку.
— Поползём к трёховражью, да тихо, не ткнуться бы в печенежскую стражу, себе на погибель…
Василько в ответ поднял руку и сделал знак — понял! Поползли ужами, прижимаясь к земле и осторожно волоча за собой сулицы: не звякнули бы стальными наконечниками о камень, невидимый в высоком бурьяне.
Уже яркие звёзды высветились на чёрном небе, а половинка луны поднялась высоко над Заднепровьем, когда влезли отроки по склону оврага и выглянули из-под куста. До ближнего вражеского костра было шагов полста. Возле него сидели два печенега. Третий лежал в кибитке — его ноги торчали наружу, — что стояла ближе к обрыву, под берёзами. Высокий огонь почти не давал дыма, но время от времени искрил густо.
— Сухостой жгут, — догадался Вольга. Отблески света тонули в объятиях бескрайней ночи, не дотягиваясь ни до оврага, где сидели они с Васильком, ни до реки под кручей правого берега. Отроки хорошо различали отдельные слова и гортанный смех печенегов: тот, что постарше, о чём-то рассказывал, а молодой, отворачивая лицо от огня, в костёр хворост подбрасывал и прибивал палкой, чтобы плотнее ложился на угли.
— Не одолеть нам троих, — зашептал Василько. — Кабы спали они, тогда… Что делать станем? В иное место переберёмся?
— Будем ждать, — ответил Вольга, — глядишь, к утру прилягут, притомятся…
Расположились бок о бок, чутко слушая тишину и вздрагивая каждый раз, когда вскрикивала в зарослях оврага пугливая птица или кусок подмытой земли падал в воду. Не забывали и по сторонам поглядывать — ну как выползет печенег из кустов да со спины навалится! Голоса не успеешь подать, не то чтобы с крутого берега во тьму сигануть, от полона спасаясь.
Глаза от беспрерывного мигания костров уставать начали. Вольга уже не единожды ловил себя на том, что лежит с сомкнутыми веками, подбородок уткнув в скрещённые руки. Забеспокоился.
— Не уснуть бы…
— Не усну, — ответил Василько и добавил — Пугливы стали печенеги, не сидят у костров по одному.
— Недавним выходом дружинников в поле напуганы, — согласился Вольга и доверительно сообщил — Удастся нам задуманное — упрошу отца Михайлу меня воеводе Радку в обучение отдать. Хочу вместе с Янком в заставе дозорной быть!
— А мне землю пахать любо, — ответил Василько. — Надежду имел отец Антип — как освободим Могуту от Сигурда, так купим второго коня и в два рала пахать станем. Да все печенеги порушили… Сбережём ли Воронка?
И вновь умолкли надолго. Повеяло от реки утренней прохладой, а за холмами киевскими начала разгораться утренняя заря. Потом туман поднялся от реки и заискрился, будто инеем морозным присыпанный нескупо.
Василько вдруг толкнул Вольгу в бок, шепнул настороженно:
— Гляди, ещё один сюда идёт.
К ближней от обрыва кибитке, помахивая плетью, шёл высокий, при кривом мече печенег. Он грубо растолкал спавшего в кибитке, прокричал что-то, махнул рукой в сторону лагеря и ушёл.
— Та-ак, — протянул Вольга, покусывая редкими зубами былинку. — Знать бы, что он сказал?
— Думаю я, — подал мысль Василько, — то старший приходил, к котлу звал трапезничать. Смотри, и от других кибиток поднялись!
— Пришёл наш час, Василько! Ползём к кибитке, всё меньше страха, чем опять ночи ждать да на то, что уснут эти сидни, уповать!
Продрались сквозь колючий шиповник и поползли, вжимаясь в сырую от росы траву. Вот и кибитка, обтянутая шкурами… Никого! Гулко стучало у Вольги сердце от радости: неужто удастся замысел?!
— Помоги нам, бог русский! Не дай сгибнуть попусту, — шептал он, приподнимая голову над травой, чтобы осмотреться. Удача! Все шесть поводных коней, с ночи привязанные, стоят спокойно, изредка мух хвостом отгоняя. Вольга с трудом пересилил внутреннюю дрожь, поманил Василька.
— Бери ближнего к реке. Рядом стоит поводной — и его бери. Я сяду на чалого и остальных за поводья прихвачу. Поводного коня держи у левого бока, пусть прикроет, коли печенеги начнут стрелы в нас пускать.
— Сделаю так, Вольга, — отозвался Василько. Вольга уловил лёгкую дрожь в голосе друга, подумал: «Робеет Василько. И у меня руки трясутся». Затылку было холодно, будто кто туда положил горсть снега… Из травы поднялись разом. Вольга несуетно привязал поводных коней к седлу, шепнул:
— Я готов.
— И я… — отозвался Василько. — Плеть захватить надо.
Вольга потянулся из-под шеи вороного коня и с потёртой кожи, на которой спал печенег, подобрал длинную плеть.
— Пошёл! — почти закричал Вольга, не в силах более сдерживать себя. Метнулся в седло — Василько уже сидел на своём, — поочерёдно ожёг плетью коней на обе стороны и… Замелькали, сгибаясь под копытами, кусты чертополоха, пыльные змейки полетели следом за конскими хвостами!
— Встречают нас! — закричал, ликуя, Вольга, а внутри у него что-то хлопало и ёкало от быстрой скачки в непривычном печенежском седле. Он увидел, как быстро распахнулись ворота, как неширокий мост через ров опустился, и дружинники с луками вышли им навстречу — печенегов отогнать, что пустились было вдогон.
И — вот он, город! И родные лица вокруг! Бежит Згар, придерживая меч у бедра. Чуть поотстал отец Михайло. И почему-то при доспехах он, будто на сечу собрался. Рядом с ним ратай Антип… Пылят босыми ногами друзья.
Не видел Вольга, но слышал, как, стукнув дубовыми створками, закрылись за спиной тяжёлые ворота крепости. Он осадил коня, торопливо спрыгнул на землю ногами в прохладную по рани пыль. Отец Михайло обхватил сына сильными руками — и припал Вольга, прижался щекой к гладкой, ознобно-холодной кольчуге. И вдруг — знать, от избытка чувств — отец дал ему крепкий подзатыльник.
— Мать Виста поплакалась по тебе!
У Вольги едва глаза не вылетели из глазниц от такого проявления радости, но он не обиделся, только охнул и снова прижался к широкой груди отца. Рядом Василько молча винился перед ратаем Антипом в самовольстве, но видно было, что и Антип не в очень большом гневе на сына.
— Посадник Самсон с воеводой идут! — раздался чей-то выкрик рядом с Вольгой. Через торг степенно шагал посадник, а справа от него, весь в ярких бликах — солнце из-за частокола било прямо в грудь воеводе, — шёл Радко. За ним, едва поспевая, спешил сотенный Ярый. Шёл Ярый и от слабосилия, должно, опирался на короткую сулицу: прежде он с нею не ходил.
Вольга поднял голову. Отец Михайло улыбнулся в ответ на тревожный взгляд сына, сказал:
— Держитесь, неслухи. Сейчас спрос за самовольство будет.
— Ох! — только и успел прошептать Вольга, и Василько в растерянности переступил босыми ногами, взбивая пыль, словно только что пригнанные ими печенежские кони, которые косились глазами на тесно обступивших их белгородцев — всяк норовил погладить сытые бока степных скакунов.
— Та-ак, — заговорил нараспев посадник, затискивая руки за широкий пояс. — Что живы вернулись, то счастье ваше, знать, бог молитвы матерей услышал. Ладно и то, что печенеги не взяли — они бы учинили жестокий спрос, пытая про крепость. Но коли вы теперь здесь, то я спрашивать буду. Как запрет мой и воеводы нарушить посмели, город оставили?
Василько совсем заробел под грозным взглядом посадника Самсона, но Вольга краем глаза уловил за спиной воеводы Радка ласковый взгляд старого сотника, и взгляд этот приободрил его.
«Не убьёт же нас посадник до смерти! А и повелит высечь, так свои же сечь будут, не печенеги безжалостные!» — подумал Вольга и ответил, смело глядя в суровое лицо посадника Самсона:
— Повинны мы, посадник Самсон! Вели наказать нас по нашей провинности. Однако думали мы, город оставляя, не о себе, а про то, чтобы ныне в ночь люди города сытыми спать легли. Все — от мала до велика! Легко ли слушать, как дотемна в землянке ратая Луки плачет его дочь малая от голоду?
Посадник смутился отчего-то, опустил глаза в землю, а воевода Радко вдруг закашлял в кулак, потом сгрёб пальцами рыжие усы и стиснул их в молчании. И вновь заговорил посадник Самсон, оправившись от недолгого замешательства:
— Великая нужда толкнула вас на такое деяние. Но пуще того — ваше сердце о ближних порадело. А что славно, то ненаказуемо!
— Славно и то, что на Руси дети так с отцами схожи, — добавил воевода Радко. — Во всём — как мы!.. Этими конями накормим ныне в ночь ратаев и убогих. А вам что в награду за риск?
Вольга молча пожал плечами: не за тем ходили. Василько осмелился попросить:
— Пусть наш Воронок по жребию будет последним… Может, подоспеет княжья дружина, продержим как…
Воевода через силу улыбнулся:
— Пусть будет так, храбрый отрок.
Повеселев, расходились от ворот люди: ещё на один день голодная смерть отодвинулась от них. Лишь отец Михайло привлёк Вольгу к себе и сказал негромко, дрогнувшим голосом:
— Опоздала твоя помощь Луке. Ныне в ночь у него старшая, Злата, померла… Отмучилась.
Разбойник Могута
Ты постой, удача, добрый молодец,
Тебе от горя не уйтить будет,
Горя горького вечно не смыкати.
Былина «Молодец и Горе»Могута тяжело поднялся с лавки — не было больше душевных сил смотреть на молчаливую скорбь ратая Луки, на слёзы, которые катились по впалым щекам в редкую рыжую бороду. Низко поклонился праху Златы, а потом под причитания Руты и плач сероликих девочек сделал шаг к двери. «Этим тоже недолго жить осталось», — кровь ударила в голову, едва Могута кинул взор на дочерей ратая Луки.
День клонился к вечеру, солнце светило ещё над западной стеной Белгорода, но в глазах Могуты была тьма, будто город вдруг окутало непроглядным туманом. Не видя дороги, брёл Могута по улицам вдоль чужих изгородей, вдоль пустых телег, под которыми копошились чужие дети с большими голодными глазами. Чужие ли? Не общее ли горе и нужда сроднили их всех? И его с ними!
Брёл, страдал Могута от беспокойных дум, казнился бессилием помочь людям. Нежданно наткнулся на бондаря Сайгу, совсем немощного от раны: лицо бондаря будто тонким слоем пчелиного воска покрыто.
— Ты почему не спешишь, Могута? — удивился бондарь Сайга. — Все белгородцы уже там собрались.
Могута осмысленно глянул на бондаря, увидел в руках у него кусочек конского мяса, прижатый к груди, чуть ниже того места, куда недавно ударила печенежская стрела. На помятом платне видна была незаштопанная дырочка и заметна плохо отстиранная кровь.
— Больших трудов стоило мне подняться с ложа и идти за кормом. Не балует холопов своих посадник Самсон обильной брашной, ох не балует. Жена Мавра и вовсе плоха стала. Разве что от мясного отвара малость полегчает ей, — с надеждой высказал бондарь Сайга.
Могута по-прежнему молча смотрел на него.
— Торопись, на княжьем подворье делят мясо печенежских коней. Там и твоя доля. Ты не слышишь меня, Могута? — спросил бондарь с удивлением.
— Всё едино — погибель нам неминуемая. Не нынче, так завтра, — обречённо выговорил в ответ Могута. — А вот посадник Самсон обходится и без такой доли, — и он указал на кусочек конского мяса. — Ты видел его на княжьем подворье, где корм делят?
Бондарь Сайга хмыкнул, закашлялся, отдышавшись, покачал головой:
— У посадника клети наших побогаче, ему ли с холопами…
— Вот оттого мне туга голову и давит, — перебил Могута и, не простясь, побрёл дальше, а бондарь Сайга долго смотрел в его широченную согнутую спину, потом вспомнил про больную Мавру и голодного Бояна, заспешил через торг к своему подворью.
Могута остановился у посадникова забора, против ворот. Что привело его сюда? Из смотрового окошка вдруг высунулась лобастая голова пса, вставшего на задние лапы, ощерясь, пёс показал огромные жёлтые клыки. Могута впился в зелёные собачьи глаза тяжёлым взглядом. «Экая тварь обжорливая! Людям есть нечего, а и он с пастью…» — с ненавистью подумал Могута и сделал ещё шаг к воротам, сжимая пальцы в каменно-крепкий кулак. Пёс не осмелился зарычать, зевнул, клацнув зубами, и исчез из виду. Могута изрядно пригнулся, заглянул на посадниково подворье, где у резного крыльца с дубовой дверью, а не у клетей, как то прежде было, медленно бродил ещё пёс.
— Ишь ты, — вновь подивился Могута. — Расстался-таки Самсон со своей пёсьей стаей! Прежде на подворье шесть псов держал, вычищенных да откормленных, а ныне и у этих животы вон как подвело! — вздохнул, отказался от какой-то ещё не оформившейся в сознании мысли. — Не подойти к клетям, псы не пустят. На их лай дворовые с мечами набегут… Что делать мне теперь? Подскажите, Перун и ты, бог неба, где чадам ратая Луки и иным корм добыть?
Обходя в раздумии посадникову изгородь, Могута повстречал Сигурдова холопа Бажана. Он тоже, как и бондарь Сайга, спешил с малой долей конского мяса, едва ли с Могутов кулак величиной. У Бажана хворая мать и два сына — птенцы желторотые. Прошлым летом бывший свободный ратай Бажан после печенежского набега коня и рала лишился, урожай погиб в поле — чужие коня стоптали — а жену настигла певучая стрела находника, когда бежали в лес, спасаясь от погибели. Бажан, чтобы не умереть голодной смертью, явился на подворье волостелина Сигурда и при свидетелях совершил самопродажу. Надеялся быстро возвратить долг варяжичу Сигурду, да где взять лишние куны и резаны? Те, что даёт Сигурдов доможирич[102] Гордей за работу, возвращаются волостелину же за прокорм. Вот и бьётся более года Бажан в холопской нужде, с каждым днём теряя надежду сызнова стать свободным ратаем.
И этот холоп теперь закупу Могуте словно брат родной, единой бедой — боярскими путами стреножены.
Могута, завидев Бажана, обрадовался. Знал он, что холоп не имел своего крова — в тесном пристрое Сигурдова терема жил. А кто живёт на чужом дворе, знает его, как свой. Могута остановил Бажана, опустил большую ладонь на его костлявое плечо.
— Мы с тобой, Бажан, у Сигурда как два мерина. Пока работаем, нас как-то кормят. Придёт смертный час, обоих сволокут в овражьи откосы, воронью на прокорм.
— Что ты, Могута? — Бажан вскинул серые испуганные глаза, часто заморгал покрасневшими слезящимися веками.
— Дело есть к тебе. Снеси мясо да приходи сюда. Этой ночью либо умереть нам, либо вместе с детьми выжить…
Когда над Белгородом погасла вечерняя заря и неспокойный сон сморил нуждою измученных людей, Могута крадучись поднялся со своего ложа: упаси бог, Агафья проснётся, увяжется, на руках повиснет и не даст задуманного совершить.
— Сморилась, горемычная, не проснулась, — с облегчением выдохнул он, глядя на спящую жену, — лицо жены показалось Могуте неживым, и он боязливо притронулся ко лбу твёрдыми пальцами. Облегчённо выпустил из груди задержанный в тревоге воздух — от чела Агафьи шло тепло. И не подкралась в ту пору к сердцу иная тревога: а доведётся ли ещё увидеть, обнять ласковую Агафью, доведётся ли побаюкать дитя, которого недавно под сердцем почуяла она? О том не думал, иные мысли заполонили его голову.
Дверь землянки с умыслом оставил в ночь открытой — теперь можно протиснуться боком, и она не скрипнет. Вышел на свежий воздух, посмотрел на небо. Быстрые полуночные облака очистили небо, но продолжали ещё клубиться на западном небосклоне. Там лишь изредка мелькали в просветах далёкие звёзды.
«Будто вещий бог неба, моргая, подсматривает за мной, — думал Могута, с беспокойством поднимая взор к яркой луне и звёздам. — Дождь бы сгодился в самый раз, псов бы в укрытие загнал». Он стоял уже перед воротами Сигурдова подворья, комкая в руках большой мешок. Забилось сердце. Что принесёт ему этот роковой шаг на чужое подворье? Знал: если изловят, будет худо! А и так жить разве лучше? Лучше ли казниться ежечасно, видя вокруг горе людское? Да и от собственного горя одним глотком не избавиться. Сам-то ещё держится кое-как, а у Агафьи от голода ноги начали пухнуть. А ей надо кормиться за двоих, за себя и за будущего сына, которому загодя уже найдено славное имя — Крутояр.
— Ради сына, — прошептал Могута, пересилил сомнения и толкнул открытые Бажаном в ночь ворота.
Только шаг сделал Могута — но этим единым шагом нарушил закон: без дозволения ночью вступил в чужое жилище. Ещё миг назад он был просто закуп, каких на Руси много, пусть и в неволе, но под защитой закона. Теперь же он — тать, преступивший этот закон, данный людям от бога и князя. Долго не решался, а вот — свершилось. Едва Могута осознал это, как к нему вернулись силы и уверенность в правоте задуманного. Не у голодных пришёл корм взять — у Сигурдовых сытых псов. Да взять же не себе — детям, у которых голод высосал последние силы, отнял смех и желание бегать под солнцем по родному подворью.
Из-за тёмного угла терема показался полусогнутый Бажан. Мягко ступая по траве босыми ногами, он словно подкрался к Могуте.
— Спят все в тереме. Псов я накормил и запер в глухом пристрое. Вот тоже захватил две торбы, — но не сказал, для себя или для Могуты приготовил их. — Третьего дня назад Гордей вывозил зерно на княжье подворье для дружинников из тех двух клетей…
— Где зерно хранится? — поторопил Могута. — Не всё же вывез?
— Вон в той клети, в дальнем углу, должно быть. Не открывали ту клеть для вывоза. Волостелин стережёт её пуще глаза.
— Со мной пойдёшь?
Бажан думал недолго.
— Закупу убегать от господина закон не велит. Если ты, Могута, убежишь и тебя потом словят — сделают полным холопом. А полный холоп, сам знаешь, у господина в одном ряду со скотом.
— Холопства мне и так не миновать, друже Бажан. Сколько корма взяли под купу, разве отработать у Сигурда? От варяжича нас только смерть избавит. Нам бы теперь детей хоть раз накормить досыта…
— Твоя правда. А я… Моя участь и теперь уже разве лучше той, что ждёт тебя? Идём.
Таясь, обогнули терем. Через закрытую дверь низенького пристроя послышалось рычание псов — чуяли чужого. Отошли от пристроя подале, постояли, вслушиваясь, не стукнет ли дверь в тереме, не послышатся ли торопливые шаги — вдруг потревожило кого собачье чуткое бдение? Но нет, в тереме всё так же тихо и сонно, а над головой гудит унылый верховой ветер, да всё гуще становятся сумрачные, будто осенние тучи: нагнало-таки их с восточного небосклона. Луна скрылась надолго, теперь даже изредка не выглядывала, не освещала тёмные клети.
— Здесь зерно, — чуть слышно проговорил Бажан и ладонью похлопал по добротным сосновым брёвнам, добавил не столь уверенно — Думается мне, что здесь, иначе зачем же волостелину стеречь так?
Могута подошёл к низкому срубу на камнях, снял наружный запор, открыл сколоченную из досок дверь. Ожидал, что в ноздри ударит душистый запах хорошо просушенного зерна. Рука потянулась набрать горсть, кинуть в рот и жевать, жевать зёрна до полной сытости.
И тут за спиной громко хлопнула наружная дверь терема, ударил в темноту ночи заполошный крик:
— Тати! Спускай псов! Живо! Бей татя до смерти!
— Доможирич Гордей! — с испугом прошептал Бажан, присел на корточки, словно намеревался нырнуть под клеть и там найти спасение, но под клеть и кошка едва пролезет. Могута кинул быстрый взгляд к частоколу — не успеть, слишком высок, да и далеко, псы прежде в спину вцепятся. «Схватят у чужой клети — побьют до смерти», — мелькнуло в голове. И он решился на отчаянный шаг.
— Живо влезай! — Могута почти силой втолкнул Бажана в узкую дверь, прихватил наружный запор — дубовый засов и сам впрыгнул в клеть. Только захлопнул дверь, как о доски ударились тяжёлые лапы разъярённых псов. Их неистовый лай заглушил крики людей, звон оружия, топот ног. Но скоро гомон утих, псов оттащили в сторону, и послышался резкий голос доможирича Гордея:
— Кто в клети? Выходи!
— Могу-у-та, — простонал Бажан, сотрясаясь до мелкого зубовного стука, — поги-ибель нам пришла. Пощады просить надо, может, не лишат живота… Русичи ведь.
Могута не видел во тьме лица товарища, но мог представить, как он страшится умереть, оставив детей сиротами.
— Случится до суда дожить — вся вина на мне, — отозвался чуть слышно Могута. — Скажу, что силой принудил тебя показать дорогу к клети с зерном. На том и ты стой.
— А псы как? Кто их увёл со двора?
— Кто псов запер, ты не знаешь, спал. Ночью вышел по нужде, а псов на месте нет. Стал обходить подворье, а я уж тут.
— Выходи, тать! — снова закричал Гордей. — Не выйдешь, повелю холопам копьями прибить! Своей волей выходи, тогда жить будешь, а поутру на суд сведут в княжий терем к ябедьнику Чудину.
— Я выйду, — прошептал Бажан и сделал шаг к двери. Могута остерёг друга:
— Повремени. Теперь ночь ведь. Убьют, и закон будет на их стороне. А на свету закон не велит без суда убивать даже у чужой клети. Здесь же отобьёмся вдвоём, коли холопы в дверь полезут.
— Не выйду — скажут, что и я тать.
Могута не имел права удерживать товарища: всякий человек сам распоряжается своей участью, выслушав совет другого. Он приоткрыл дверь, выпустил Бажана. Едва тот спрыгнул с высокого порога на землю, как набежали услужливые стражники, взяли его в кулаки, свалили под ноги.
— Подлый холоп! Как посмел ты поднять руку на добро господина твоего? Убейте татя! — закричал Гордей.
Могута в ужасе содрогнулся, когда услышал предсмертный вопль Бажана, потом хлёсткий удар — и всё стихло у клети, только ветер по-прежнему шумел над высокими куполами ближних теремов и церкви.
— Погляди, нет ли там ещё кого? — распорядился доможирич. Кто-то осторожно просунул голову во тьму клети. Могута надёжно скрывался за полуоткрытой дверью.
— Никого не видать, — поспешил заверить робкий стражник.
— Что застрял на пороге? — прикрикнул Гордей. — Боишься, что мыши нос отгрызут? Ну-ка, лезь дальше!
Стражник встал коленом на порог, просунулся в клеть. Тускло блеснул в дверном проёме обнажённый меч. В тот же миг Могута ударил по руке запором, выбил меч и толчком кулака опрокинул стражника за порог. Падая, стражник успел отчаянно вскрикнуть.
«Вот так. Теперь и я при оружии, до утра меня не возьмут Сигурдовы псы двуногие», — порадовался временной удаче Могута, сжимая тесную для его ладони рукоять меча.
— Тать! Там ещё один тать! — выкрикивал на земле побитый страж.
— Вижу теперь, — равнодушно, даже с усмешкой в голосе отозвался доможирич Гордей. — Назовись, кто в клети!
«Как же, я назовусь, а ты за Агафьей пошлёшь среди ночи своих людей, её пытать прикажешь, чтобы я вышел», — подумал Могута. Он плотно прикрыл дверь и подпёр её запорным бруском.
— Этот умнее холопа Бажана, — послышался снаружи чей-то глухой голос. — До солнца не выйдет.
— Пошлите за посадником Самсоном и за воеводой, — распорядился доможирич. — Да княжьего ябедьника покличьте. Теперь за ними главное слово, как с татем поступить.
В дверь постучали тупым концом копья.
— Слышь, тать! Назови себя и выходи, — не унимался Гордей. — Не выйдешь — велю огонь развести под клетью. Сгоришь, заживо в угли превратишься, как язычник поганый!
«Не разведёшь», — мысленно ответил Могута. Он отошёл от порога, на ощупь, выставив руки перед собой, обошёл всю клеть — зерна здесь не было и в помине: пахло старым воском, выделанными кожами, на полках в связках лежали меховые шкуры белок, куниц и длинные шкуры волков, приготовленные на продажу, да оставленные по причине печенежской осады.
«Эх, Бажан, Бажан! Погиб зазря — нет здесь зерна, и нечем даже мне насытиться перед судом посадника и волостелина завтра поутру! Полезли в клеть, не зная, что в ней, а теперь один убит, а второму поутру быть объявленным татем! Волостелин превратит меня в пожизненного холопа, к скоту приравненного. А то и в чужие земли может продать, будто говяду, выращенную на вывоз!» Сел у порога, спиной привалился к срубовой стене и запечалился крепко.
Прошло некоторое время. За дверью послышались голоса, различил посадника Самсона, воеводу Радка. Позже других распознал визгливые крики княжьего ябедьника Чудина, который ругал волостелиновых дворовых: почему ночью не смотрят за клетями хозяина?
«Явился по мою душу, — Могута с ненавистью подумал о Чудине. — Тебе-то моё горе нечаянное в радость вышло. Давно ты силе моей завидуешь». Вспомнил, как недавно, по весне этого года, Чудин уговаривал его оставить Сигурда, вернуть ему купу — деньги давал он, Чудин, — и перейти закупом к нему. Неласково ответил тогда Могута: «Что у Сигурда, что у тебя — всё одно неволя. У волостелина я хоть на земле сижу, а у тебя при доме жене твоей угождать — не честь для ратая». Крепко обиделся таким отказом княжий ябедьник.
Сквозь щель в двери и через узкие продухи под крышей в клеть забрезжил утренний рассвет, потом Могута, приникнув к доскам, увидел, как зарозовели верхние строения волостелинова терема. Наступило последнее полувольное утро для Могуты… Перед клетью вновь загомонили, послышался голос посадника Самсона, который объявил:
— Взошло солнце. Выходи, человек, и предстань перед судом божьим и людским.
Могута рывком распахнул дверь и, настороженный — не кинулись бы стражники в драку! — с мечом в руке выпрыгнул из клети. Два ближних дружинника отпрянули в стороны, не посмев даже для острастки поднять на него копья.
— Могу-у-ута! — пронеслось над собравшимися. Удивление было всеобщим: кротость Могуты для белгородцев была примером христианского терпения, и вдруг…
Воевода Радко, опасаясь наступить на тёмно-бурое пятно крови холопа Бажана, обошёл то место, где его забили, и, приблизившись к Могуте, протянул руку. Тот без всякого сопротивления отдал меч. В глазах воеводы — скорбь, сожаление. Осуждения в них Могута не увидел и сам вздохнул скорбно, вверяя себя воеводе.
— Уведите его, — только и сказал воевода Радко, и дружинники с копьями тут же встали по бокам и за спиной.
Слух о ночном разбое на Сигурдовом подворье поднял весь Белгород. Ещё бы! Был враг там, за стенами крепости, и вот — свой же, русич, поднял руку на достаток господина. Случалось такое на Руси, но в осаждённой крепости это тем более страшное преступление, знак близкой усобицы…
Могуту остановили перед высоким крыльцом княжьего терема. На ступеньки взошёл и завеличался в шёлковом алом корзне худой, преклонного возраста Чудин. Узколобое лицо перекошено гримасой боли — у Чудина давно поселился какой-то недуг во чреве, от этого и худоба привязалась к нему, да и спина гнётся — погляди сбоку на ябедьника, так схож он с месяцем.
Рядом с Чудином встал большеухий Гордей, доможирич Сигурдов. Жестокие, запавшие под лоб серые глаза щурились в злорадной усмешке: больно уж заносчив был прежде этот закуп, не искал дружбы с сильными мужами, всё льнул к худородным, как ратай Лука да кузнец Михайло. Помогут ли теперь татю его бывшие друзья? Сильно ли их слово? Не им решать судьбу Могуты, а ему, да ябедьнику Чудину, да посаднику Самсону. Гордей то и дело поворачивался к встревоженному, бледному посаднику, что-то шептал ему в ухо, глазами указывая на Могуту. Посадник слушал, но думы его были о другом, потому как ответил он доможиричу невпопад.
Воевода Радко стоял сбоку крыльца в окружении нескольких старых дружинников, стоял в раздумии. Случившееся с Могутой его озадачило очень сильно. Стало быть, простолюдинам уже нет сил терпеть голод! Что будет с Белгородом завтра, ежели сегодня русич на русича меч готов поднять?
По ту сторону княжьего забора-частокола толпились белгородцы и пришлые со степи ратаи и бортники. Всем хотелось доподлинно узнать, что же случилось ночью на подворье Сигурда? Могута, когда на миг оглянулся, приметил испуганное лицо Агафьи, но тут же её загородили рослые дружинники: не всюду возможен доступ простолюдинам, тем более туда, где имущество князя Киевского.
— Подойди, тать, — распорядился Чудин, распрямляя спину, чтобы казаться выше и важнее. — Ведомо ли тебе, что князь Владимир ввёл новый закон? Теперь разбой карается не денежной пеней, как прежде то было, а изъятием имущества и продажей татя с семьёй в чужеземное рабство. Отвечай людям.
— Знаю, — выговорил Могута без колебания и добавил — Знаю и то, что закон этот родился не на Руси. Его привезли византийские епископы. Нам же был мил закон наших предков!
— Не тебе князя судить, тать! — строго одёрнул Чудин. — Скажи, как уговаривались с холопом Бажаном войти в чужую клеть? Куда и кому намерены были снести добро волостелина?
— Как сговаривались, не в том суть, княжий ябедьник, — ответил Могута, глядя не на Чудина, а в глаза воеводе Радку, потому что знал: только воевода может помочь в эту роковую пору гибнущему закупу. — Я зерно хотел найти детям голодным! Детям вон тех, кто теперь у ворот стоит! — Могута повернулся к белгородцам и нежданно — даже для самого себя — громко выкрикнул:
— Знайте, братья! Не за добром из пушнины лезли мы с Бажаном в клеть волостелина! Искали мы зерно, которого в изобилии было у волостелина. Сказывал Бажан, что вывез доможирич Гордей зерно на княжье подворье дружинникам, но думалось нам, что припрятал доможирич часть зерна не на один лишь чёрный день, от людей Белгорода утаив! Для богатых мужей, конечно, крайний день ещё не настал, а к нам голод уже в дверь просунулся. Спросите ратая Луку, легко ли ему было дочь Злату хоронить? Надо корм искать!
Вот этих слов и боялся услышать посадник Самсон. Не успел Могута передохнуть от крика надрывного, как выступил он вперёд, отстранил Чудина и сказал:
— Не в праве мы, люди, теперь судить Могуту. Дело необычное, надо решать его судьбу перед князем Владимиром.
— Отпусти Могуту, посадник Самсон! — вдруг выкрикнул кто-то из белгородцев. — Не со злым умыслом пошёл он в чужую клеть — с голоду!
— Не о себе радел! — Могута узнал голос ратая Луки. — Отпусти его, посадник! Не бери грех на душу в такое время!
— Хватит варяжичу и Бажановой крови, — подхватил ещё чей-то голос. Посадник Самсон, сцепив руки поверх широкого пояса, слушал, склонив голову, потом зычно проговорил:
— Знаю, люди, что Могута не о себе радел, когда шёл на разбой! Потому и говорю вам — надо ждать княжьего слова. Что князь решит, то и будет. Пока же сведите Могуту в терем, держите под стражей.
Сморщил лицо недовольный Чудин и что-то ворчал за спиной, пока дружинники вели Могуту нижним ходом в тёмный чулан княжьего терема. Там спустились по крутым ступенькам в сырой погреб. На покрытой плесенью стене горел смоляной факел. Пахло гнилью и копотью. Под факелом стояла длинная узкая лавка — на такой не поспишь свободно.
— Вот здесь и пытай татя, Чудин, с кем и для кого он шёл в Сигурдову клеть, — сказал посадник Самсон. — И есть ли ещё кто в городе с разбойным умыслом проникнуть в чужие клети? Пытай крепко, здесь никто не услышит его смутных слов.
«Вон как оно дело обернулось, — ужаснулся Могута. — При людях побоялись спрос снимать, в глухой погреб укрыли! Запытает теперь Чудин меня, зарабатывая у волостелина помочные деньги за содействие в суде… — Могута в изнеможении привалился к сырым, скользким брёвнам, повалившись на низкую лавку. — Зря ночью не вышел из клети с мечом! Лучше уж в сече было сгибнуть, чем быть проданным в неволю после телесных пыток от русичей же! — Но тут же укорил себя — С кем сечу-то хочешь вести? Разве Чудин выйдет сам против меня на судный поединок? Ему ли биться по древнему «закону поля»? Стражников пришлось бы убивать. Крепись, Могута, теперь самое страшное начнётся…»
— Сегодня пытать не стану, — зло покривил бескровные губы княжий ябедьник. — В нём пока довольно силы боль снести. Пусть тать побудет без воды и корма, сговорчивее станет. Калёным железом дознаюсь, кто котомки должен был со двора принять. Убери свет отсюда, — распорядился Чудин, и молодой дружинник, покусывая губы, покорно выполнил его волю, снял со стены факел. Когда уходили, дружинник неприметно для Чудина и посадника Самсона выронил из-под платна изрядный кус печёного хлеба.
Закрылась дверь, погреб погрузился в затхлую тьму. Могута поднял хлеб и, бережно обдув невидимый мусор, спрятал кус на груди, потом нащупал лавку и сел, не решаясь прилечь на влажные доски.
— Худо вышло, — сокрушался он, раскачиваясь могучим телом. — Бажан погиб, Агафья сама не прокормится, неоткуда ей корма себе достать! А с нею и Крутояр помрёт, света солнечного так и не увидит. Меня калёным железом до смерти запытают… Не поверит Чудин, что никого из белгородцев больше в сговоре не было, не поверит… И за отказ стать его закупом отомстит, как за оскорбление. Зря, выходит, шёл в волостелинову клеть, совсем зря…
Он вдруг поднял голову, расправил поникшие плечи, будто сам на свой поступок посмотрел глазами тех белгородцев, которые, поди, и теперь всё ещё не ушли от княжьего подворья, ждут обнадёживающего слова от посадника.
— Поверят ли мне белгородцы, что не за мехами дорогими лез я в Сигурдову клеть, чтоб, продав их потом в Киеве, от посадника Самсона откупиться и вновь стать вольным ратаем? Должны поверить, потому как знают меня бескорыстного и не жадного на чужое! Ну и славно, что смерть приму не как тать лихой…
Могута вскочил, возбуждённо заходил по земляному полу, отгоняя прочь мысли о том, что пройдёт сколько-то времени — и погреб наполнится запахом калёного железа и горелого мяса. Его, Могуты, горелого тела…
В мёртвом городище
А ныне уж молодцу
Кручина великая
И печаль немалая.
Былина «Молодец и река Смородина»Чарующе, чистым и тёплым золотом блестело лунное отражение в ночном омуте, и это отражение сливалось с мягким светом луны на звёздном небе.
Красив ночной омут — светлое и зовущее окно глянцевой воды среди кромешного мрака спящего леса. Ничто не закрывает от взора дивной его прелести. Только слева над омутом, будто голова гигантского лебедя на тонкой шее, повисла бурей надломленная ветка серебристой ивы, едва не касаясь недвижного зеркала воды. Звал человека омут, сверкая обманчивой чистотой и свежестью, звал к себе насладиться тишиной леса, игрой лунного света на прибрежных деревьях, на тёмных стеблях камыша и глади озера, затянутого уже по краям изумрудной тиной.
Но человек, едва лишь сквозь постолы почувствовал в траве прохладную воду, тут же поспешил отвернуть в сторону. Зачавкали, распугивая лягушек, тяжёлые шаги, удаляясь прочь от озера, под непроницаемую темь ночных деревьев.
Двое не спали в этот поздний час в лесу близ озера: человек и филин. Человек уходил в лес, спасаясь и унося в сердце обиду на тех, с кем ещё недавно жил бок о бок. Филин не спал потому, что был час охоты. Но человек вошёл в его владения, треща валежником и распугивая юрких мышей. И теперь филин ухал сердито, тараща глаза в ожидании минуты, когда пришелец покинет обжитой им и отвоёванный у других филинов кусок леса. И крыльями в досаде взмахивал, будто подтолкнуть хотел человека в широкую спину.
Человек шёл, припадая на левую ногу, длинными руками поминутно отводил в сторону встречные ветки невидимых во тьме деревьев. Не обращая внимания на беспокойного ночного разбойника, отныне зачисленный в разбойники сам, человек опирался о тяжёлую сучковатую палку. Другого оружия при нём не было. Но вряд ли даже медведь — хозяин леса — отважился бы встать на пути огромного широкоплечего мужика с большой головой и длинными руками: не руки, а ветви могучего дуба.
Шёл человек среди кромешной тьмы уснувшего леса, и думы у него были такие же бездонные и жуткие, как омут, оставшийся за спиной, и как беспросветно-тёмный лес впереди на склоне холма, у подножия которого он находился. И не было в этой темени просвета — даже отливающий теплом, живым золотом диск луны не разгонял, а словно бы сгущал её.
Человек незряче обходил что-то на чёрном своём пути, через что-то, наткнувшись, перешагивал, продирался сквозь сплетения веток и коряг, хватавших его за одежду. Звёзды стали меркнуть на сером предутреннем небе, и не одно междухолмье прошёл человек, пока перед ним, как-то вдруг разом, не открылась лесная поляна.
Человек озадаченно остановился на краю её, у подножия пологого холма. Но не сама нежданно явившаяся просторная поляна, не этот, голый среди леса, холм удивил человека. Его заставил остановиться вставший на холме полуразрушенный частокол какого-то неведомого городища. Человек, насторожившись, укрылся за толстый ствол дуба. «Что за поселение? — подумал он. — Какие тут люди? Чьи они? Может, бежавшие от крещения русичи, которые держатся и поныне старого закона и молятся деревянным истуканам?» За частоколом не видно было ни теремов, ни крыш изб, и это ещё более встревожило человека.
Чутко слушал тишину сонной и по краям затенённой деревьями поляны и странного города. «Люди спят — пусть так, — думал человек, — но почему не лают собаки? Почему по рани не поднимается дым из дымников? Ведь должны же люди зажечь с солнцем очаг в жилище?»
И вдруг почудилось: огоньки мелькнули в проёме разрушенного частокола. Мигнут — и исчезнут, вновь мигнут, будто перебегая, и опять канут во тьму. Твёрже шершавой дубовой коры стала кожа на спине, и голову вдруг сковало, а ведь шёл и согрелся ходьбой изрядно! Что за огни мелькают в странном городе? Может, глаза светятся звериные? Или то злые навы в тёмном лесу жертву себе ищут?
Могута — а это был он — хотел было назад податься, снова в лес, да покалеченная нога подкосилась от усталости. И ещё устыдился своего страха перед навами.
— Крест на себя наложу да богу молитву прочту, так навы меня и не тронут, — успокоил себя Могута. И так и сделал. От молитвы ли, а может, и от далёкого луча восходящего солнца, но посветлело над поляной. И рыскающие тревожные огоньки погасли за полуистлевшим частоколом на невысоком валу странного города.
Когда тени деревьев у восточного края поляны сползли с вершины холма, а яркие лучи солнца высветили двурукий от одного корня тополь над пустым городищем и пригрели брошенные землянки, словно выросшие из отступившего мрака, только тогда осмелился Могута выйти из своего укрытия и, опираясь на палку, взобрался на заросший чертополохом вал городища.
За спиной птицы пересвистывались, радуясь утру и солнцу, а здесь, внутри городища, безмятежно синел сплошной ковёр васильков. И на этот лесной рай бесстрастно смотрели пустыми глазницами там и сям разбросанные по голубому ковру черепа, выбеленные дождями и солнцем.
— Повымерли все, должно, — проговорил Могута, склонился к траве, палкой осторожно шевельнул звонкий череп и тут же отпрянул испуганно. — Не вымерли — побиты! — Лоб черепа пересекал глубокий продолговатый след меча. Потом Могута пошарил взглядом по бурьяну внимательнее и увидел ржавое, совсем истлевшее копьё, рядом пустой шелом, тоже ржавый.
— Может, и мне какое-то оружие сыщется, — Могута распрямил спину, осмотрел городище с вала. Невелико было селение древних русичей, десятка два землянок, и всё по кругу, тыльной стороной к валу, а дверями к общему дворищу, где высился от корня раздвоенный великан тополь — каждый ствол едва ли руками охватить!
У южного края городища Могута приметил землянку с полуоторванной дверью, крыша без дымника, но цела, не обрушилась.
— Знать, добрую матицу положил когда-то русич, возводя себе жилище. Если до вечера поработать, жильё и мне служить станет славно! И никто здесь не сыщет меня, бежавшего от суда, — так говорил Могута, обходя землянку со всех сторон, приминая цветы и бурьян. — Да и праведным ли судом хотел судить меня ненавистник Чудин? Меня ли прозывать разбойником теперь? А может, тех, кто сам поступает как тать? И нутром своим стократ хуже печенегов? — Могута говорил резко, словно всё ещё стоял перед Чудином и посадником и защищал себя перед людьми Белгорода.
— Простите меня, чуры потухшего очага, — Могута руками и коленями опустился в цветущий перед землянкой клевер, против раскрытой двери, не смея ещё ступить через порог. — Чужой я вам, и вы мне чужие, не родной крови мы. Но русич я, и нет мне на земле иного пристанища, как это людьми забытое старое городище. А вам кто другой зажжёт огонь в потухшем очаге? Погиб род ваш в сече на стенах, и здесь вот, у самого порога, лежат средь полыни кости того, кто должен был дать вашему роду новое поколение. А может, и дал, да не сберёг его… — Могута на миг замер, с силами собираясь, а потом продолжил — Роту даю вам: прибрать кости погибших ваших родичей и требу вам приносить по старому обычаю перед каждой трапезой, как то было до гибели города.
Могута умолк, теперь надолго, склонившись перед чужими чурами головой до самой земли.
Зашелестели мокрые от росы листья — то чуткий тополь уловил западный ветерок и затрепетал. А Могуте почудилось — то чужие чуры, откликаясь на его приветливые слова, просят войти в жилище и принести с собой дух живого тела.
Могута размашисто перекрестился и встал с колен.
— Холод-то какой! Будто в могиле стою, — тихо проговорил он, осматривая от низкого порога своё новое жилище. Матица и вправду оказалась ещё крепкой — знать, не протекала крыша в дождь. И стропы целы. Очаг был разрушен ворогом — следы топора ещё видны на запёкшейся глине. Ну, починить его будет несложно: камни валяются рядом, только и заботы, что глину снова кучей собрать да водой смочить. А родник вроде бы на краю поляны имеется — слышал, в укрытии стоя, как журчал он где-то близко. Могута, не мешкая, принялся за дело.
Весело затрещал сухостой, едва лишь гибкие языки огня, съедая сухие листья, потекли по куче хвороста. Очаг вмиг наполнился сизо-голубым дымом, который сначала ударился в верх свода, а потом и в крышу землянки, обволакивая и обогревая покрытые белым налётом плесени матицу и поперечные стропы. Потом дым бесшумно потёк через дверной проем во дворище, оттуда через частокол вырвался на поляну, к восточной опушке леса, куда дул ветер.
Могута бережно положил огниво на земляной пол у очага — его посчастливилось найти в куче мусора около порога — и торопливо, прикрывая глаза от дыма, вышел из землянки. Размазав кулаками слёзы по широким скулам, он жадно вдохнул цветами настоянный воздух — впервые улыбнулся. Впервые с тех пор, как ночью вырвался из сырого погреба на княжьем подворье, вынеся на себе непрочную дверь и тою же дверью едва не до смерти прибив Сигурдова стражника, который вознамерился было остановить его.
Сделал шаг в сторону, уходя из дымного потока, и вдруг охнул — ткнулся побитым бедром левой ноги о торчавший у двери кол.
— Проклятый печенежина! — ругнулся Могута и, сморщив лицо от боли, погладил ушибленное место. — Памятно мне сие знамение о сече под Василевом. — И горестно улыбнулся, скомкал густую бороду в кулаке. — Мне памятна та сеча, а вот памятна ли та встреча князю Владимиру? И как бы он распорядился мною, жизнью моею, если бы поволок меня доможирич на суд княжий? Узнал бы? Помиловал бы, памятуя прошлое, или не устоял бы перед волею закона? — Могута поднялся от двери повыше, присел на траву покатой крыши своего нового и уже окуренного дымом жилья…
— …Князь Владимир отстал! — этот гортанный крик кузнеца Михайлы услышали ближние белгородцы, бывшие ратниками в малом княжьем отряде. Прижатые к Стугне возле деревянного моста, они с великим трудом сдерживали напор печенежских всадников.
— Круши-и! — взбеленился от ярости Могута и огромным мечом врубился в печенежские ряды, распугивая коней и всадников. Щиты, обтянутые бычьей кожей, разлетались, словно грибы-поганки от злобного пинка ногой. Рубил Могута печенегов, их коней, и его хлестали кривые печенежские сабли, кованный из меди щит тяжело вздрагивал под их ударами.
— Так вас! — Могута увернулся от сверкнувшего перед глазами хвостатого копья, нырнул под щит и неистовым ударом повалил всадника вместе с конём, вырвался за печенежские спины. Один! Даже кузнец Михайло не пробился — его и ратников вновь отжали к мосту. Вот уже и на мосту сеча нещадная кипит.
Брошенное печенегом копьё догнало Могуту и ударило в бедро. Охнул Могута и не устоял, повалился боком. Всадник вполуоборот глянул себе за спину, не увидел огромного уруса и, ликуя, поскакал дальше к лесу, где бились ещё уцелевшие в немногом числе княжьи дружинники.
Могута выдернул копьё из раны, оторвал рукав от платна и одним движением наложил тугую повязку. Приподнялся на правое колено — совсем рядом на князя Владимира насели двое в лохматых шапках. Один тут же унёсся прочь, приникнув головой к конской гриве и истекая кровью, зато другой коршуном закружил над поверженным князем, выбирая миг для смертного удара.
— Берегись! — вскрикнул Могута.
Печенег не понял русского слова, но та ярость, которую вложил в крик Могута, заставила печенега на какое-то мгновение замереть. И тут же с неимоверной силой брошенное копьё пробило печенега насквозь — даже вскинутый щит не спас всадника! Он выронил занесённое над головой оружие, хватил ртом воздух, захрипел и повалился вниз, повиснув на стременах. Конь поволок мертвеца, но через полусотню шагов вытряхнул из седла совсем и побежал к реке, вслед за печенежским войском.
Могута, сам истекая кровью через слабую повязку, помог князю высвободиться из-под коня, но когда князь Владимир попытался было встать, придавил его рукой к земле.
— Лежи, княже Владимир, лежи! Сеча кончилась, застава Славича и белгородские ратники убежали за Стугну к Василеву. Мы одни здесь… вместе с павшими русичами.
— Что же нам лежать среди побитых? — запротестовал князь, не поднимая головы выше конского трупа, чтобы не заметили находники, которые поотстали от своих и теперь оббирали воинскую снасть и добротную одежду с мёртвых и подбирали раненых для продажи потом в неволю. — Не разумнее ли будет укрыться под мостом, а то и до нас доберутся эти степные хищники. Видишь же, бродят средь наших…
— Нога вот у меня кровит, — простонал Могута, сделав попытку шевельнуть ею.
Князь Владимир мечом отсёк подол своего платна, туго стянул рану избавителя. Истоптанным копытами бурьяном проползли к мосту и проворно нырнули в густые заросли ивняка, высокой полыни и жгучей крапивы. Из этого укрытия следили, как после сечи объезжали широкий дол печенеги, подбирая и своих побитых, как грузили на возы оружие и воинское снаряжение, снятое с мёртвых.
Ночью печенеги ушли, появились всадники Славича — ехали искать тело князя, а он живой ступил им с моста навстречу…
— Имени своего даже не успел сказать князю, — усмехнулся теперь Могута, привстал с крыши землянки. — Да и к чему? Главное — его жизнь для Руси спасена. И ещё то, что город Василев уберегли от внезапного находа степняков. А что пали ратники да дружинники — дивно ли теперь? При нужде и ещё сыщутся храбрые за Русь постоять.
Могута отвлёкся от воспоминаний, вновь глубоко вдохнул свежего воздуха.
— Любо как! Тишина окрест и птицы со мною. К зиме у меня ещё есть время изготовиться, лесу натаскать для очага, лучинушек насушить, жильё утеплить. Да и корма какого-нито заготовить про запас надо. А там и Агафью известить, где я…
Он повернул широкое лицо к востоку, глаза ладонью прикрыл — яркое солнце поднялось уже высоко над лесом, навстречу ему — будто гусиный пух по просторному двору — неслись лёгкие, растрёпанные ветром облака.
— Тепло ныне будет, — прошептал Могута. — Такие облака даже тени на землю не дают.
— Лю-ю-ди-и! Помо-о-ги-ите! — стон-крик вдруг, будто из-под земли, раздался где-то рядом.
Могута вздрогнул, чувствуя, как по спине волной прокатился отвратительный озноб. Вот тебе и тишь, вот тебе и неведомое людям место для потайного житья! Он замер, вслушиваясь, не повторится ли?
— Почудилось либо и вправду кто кричал? — заволновался он. — Но кто здесь кричать станет? Живой ли, а может, то злой дух выманивает меня из мёртвого городища, где сам обитает теперь? Не по нраву, вишь, пришлось ему, что я жить здесь надумал!
Могута прикинул так, поспешил успокоить себя:
— Должно, почудилось. Откуда здесь живому человеку взяться? А злые духи днём, при ярком свете, не балуют, тёмной ночи ждут. Так ночью-то я двери закрою, а углы жилья святым крестом помечу, да и молитву прочту от нечистой силы.
Но крик повторился — и опять о помощи!
Подхватив свою сучковатую палку, Могута взбежал на вал и сквозь пролом в частоколе оглядел восточную часть поляны — крик шёл оттуда. Клочья дыма от очага, проложив дорогу через поляну, тихо втекали в густой лес и там таяли среди кустарника.
Неподалёку от вала из травы торчали несуразно в стороны гнилые обломки жердей, сизых от грибков и плесени. Могута пригляделся и понял, что жерди когда-то прикрывали яму. Изломы же были свежими, стало быть…
«Вон оно как, — догадался он, осторожно подходя к яме. — Угодил кто-то в западню, а выбраться не может…» Словно в ответ на эту догадку из ямы донёсся протяжный и скорбный стон обессиленного человека. На краю ямы Могута увидел круглый печенежский щит, чуть в стороне — меч. Тоже печенежский!
— Да ведь крик-то был русский! — опомнясь, чуть не вскрикнул Могута.
Смятение охватило его. Как быть? Вызволить его — себя выдать! И на погибель человека не можно оставлять! «Ин будь что будет! То в руках бога, а мне, гляди, отыщется друг-сотоварищ. Не тать же я, не кат[103] в самом деле — живого в яме оставлять».
Могута прокашлялся, прежде чем произнести слово, но не успел — из ямы радостный крик вылетел:
— Кто рядом стоит? Спаси от смерти голодной, заклинаю именем бога и матери твоей!
«А давно сидит! Голос хриплый, жаждой перехвачен», — отметил невольно Могута и крикнул в тёмный зев ямы:
— Роту дай мне самую страшную, что, коли вызволю, ты и под пыточным спросом не скажешь, что меня здесь видел! Потому как я отныне — вне закона княжеского, а здесь моё пристанище!
Яма молчала. И вдруг, будто перепел из-под копыт коня, из неё вылетело:
— Роту дам тебе, какую хочешь, Могута…
Тискал Могута огромными руками исхудавшие плечи Янка, а тот, уткнув заросшее лицо в потом пахнущее платно своего спасителя, плакал от радости. И то — всякому ли дано вторично на свет родиться? С Янком же это произошло только что.
— Водицы бы испить, — проговорил Янко. — Слышу я, Могута, как сухие рёбра, будто камыш в пустой торбе, в груди шелестят…
Могута сбегал к дубу, где перед рассветом слышал родник, из черепка разбитой корчаги напоил Янка студёной водой.
— Травой как вода пахнет! — Янко утёр влажной ладонью лицо и, расслабив тело, раскинулся на крыше низкой землянки, радуясь солнцу и жизни.
— Шесть дён видел лишь край ямы на синем небе да десяток звёзд ночью над головой. А солнце так и вовсе не заглядывало ко мне. Руки измозолил до крови, землю ножом резал, думал ступеньки сделать. Да земля осыпалась, чуть попытаюсь подтянуть тело повыше. И нога пораненная изрядно мешала… Это тебя бог неба направил моею же тропой. Вдруг дым в яму залетел! Сначала думал — лес горит, а потом решился крикнуть. И ты пришёл!
Янко улыбнулся, счастливый, даже не догадываясь спросить, что же привело Могуту в это мёртвое городище?
Могута сидел рядом, подтянув широкие колени к подбородку, и на двух пчёл смотрел, которые, теснясь, в один цветок василька пытались влезть поглубже. Глаза Могуты смотрели на пчёл, а мысли вокруг собственной беды, будто пчёлы в цветке, вертелись.
— Горе великое загнало меня сюда, друже Янко, а не бог неба.
Встрепенулся Янко с примятого бурьяна и на Могуту голубые глаза поднял в смятении.
— Прости меня, опьянел от радости. Скажи, как Белгород? Стоит ли? Все ли живы в нём? И почему ты здесь? Неужели, меня не дождавшись, воевода Радко и тебя послал в Киев? Тогда какую роту ты с меня требовал, к чему?
Дунул лёгкий ветер, качнулся василёк возле левой руки Могуты.
— Ушёл я из Белгорода, Янко, — ответил Могута и глаза поднял к небу, будто там хотел отыскать бога и ему пожаловаться на людскую неправду. — Ушёл от суда посадникова. За что судим был? О том тебе в городе расскажут, говорить сейчас сил нет… И не все живы в Белгороде теперь. Умер бондарь Сайга, от голода хворь какая-то взялась в груди, где печенежская стрела ударила. Не долго страдал, в одну ночь отошёл к предкам… Разуверился я в единстве русского люда, ибо богатый муж и в беде норовит слабого под себя подмять. Ежели от печенега спасутся ратаи, не спастись им от Сигурда и Самсона да и от иных знатных мужей, как Вершко с торговыми людьми. Черниговец Глеб и тот поимел в Белгороде до десятка закупов! А коли так, то чем они лучше печенега? Отныне я и Сигурд с посадником — враги! — последние слова Могута почти выкрикнул: столько злости накопилось в нём от горя за неправду на земле. — Нашу нужду они себе в прибыль обернули!
Янко на колени привстал, всем телом повернулся к Могуте. Тревожные мысли отражались на его сером, нездоровом лице, но глаза загорелись понятным беспокойством.
— На русичей руку хочешь поднять? Мыслимо ли такое? В час, когда находники землю нашу воюют?
Но Могуту не смутил такой вопрос, и он сказал то, что давно уже обдумано было:
— Что с того, что ворог мой — русич? Князь Владимир поднял руку на Ярополка, себя защищая, и не убоялся богов. А ведь Ярополк был с ним одной крови, братья по Святославу. А посадник Самсон мне кто? Сигурд и вовсе варяжич пришлый, княжий наёмник! Доможирич Сигурдов Гордей при всех белгородцах объявил меня разбойником за то, что я корм чужим детям хотел найти в Сигурдовых многих клетях, — сказал-таки Могута причину своих злоключений. — Так ли русич должен поступать, как посадник? Как доможирич варяга — от русичей псами и стражниками отгородились! Бондарь Сайга умер, а Самсон поутру поспешил к жене его Мавре объявить, что купа мужа перешла на неё! И причислил Мавру и её сына Бояна себе в холопы. Тогда и не стерпел я, решился не ждать княжьего суда, уйти из-под стражи. Чудин же, этот тощий и хворый волк, а не ябедьник княжий, не по правде судить меня стал, а в угоду посаднику. Сущий змей, он силе моей всегда завидовал, смерти моей рад был бы…
Могута прервал свой сказ горестным стоном и не стал продолжать его. Да и что мог он ещё сказать Янку? Янко встал, шатаясь от слабости, сделал несколько разминающих шагов.
— Верю тебе, Могута. Коли что и содеял ты против закона, так не по злому умыслу и не ради корысти для себя. Не страшись, друже, никто не узнает, где нашёл ты себе пристанище. Бог даст, ещё свидимся с тобой. Я же теперь пойду в Белгород. Там меня с княжьим словом ждут, а утешить их мне нечем: нету дружины теперь при князе Владимире… И долго ещё не придёт она в Киев.
— Тяжко придётся белгородцам, ох как тяжко, — отозвался Могута, тоже поднимаясь. — И рад бы я стать с тобой и иными сотоварищами в последней сече, да смысла в том немного. Не спасёт она вас.
Полуденное солнце припекало щедро, пахло тёплыми листьями тополей и нагретой травы, а пчёлы с васильков, которые начали уже закрываться, на клевер перелетали.
— Коли от князя придёт спасение вам, извещу я Агафью и брата Антипа, — сказал Могута. — Им же скажи тайно, что жив я, а где — не объявляй до времени: не кинулась бы Агафья искать меня, а стражники Сигурда выследят её и придут на это место. Пусть до времени забудется все…
Янко согласился и засобирался в путь. Пустую котомку оставил Могуте, а нож прикрепил к поясу.
— Будь в добром здравии, Могута. Может, ещё и уладится всё, и вернёшься ты на пашню вольным ратаем, вместе с Антипом жить будешь.
Могута безнадёжно развёл руками.
— Веры на то не имею теперь, Янко. Вот кабы князь Владимир отпустил купу белгородцам да то же повелел бы сделать и посаднику с иными, тогда поверил бы я в добро на земле. Но станет ли князь с сильными мужами ради простолюдинов тяжбу вести в такое тяжкое для него время? До той же поры… — и Могута отмахнулся он ненадёжной мысли на лучшее.
— Когда так, — решился Янко после малого колебания, — бери меч этот и щит. Боле нечем мне одарить за твоё доброе дело.
Могута лицом просиял и принял оружие.
— Вот славно как, Янко! Знатный меч, и для меня он — полжизни! Обещаю без нужды не доставать его из ножен и на русича вольного и убогого не поднимать, даже если смерть от того принять мне пришлось бы. Печенегам от встречи со мной добра не ждать, от сечи с ними и один не уклонюсь. А встретиться ещё доведётся: коня себе буду добывать у них.
Могута помог Янку наложить на больную ногу свежую повязку с травой-кровавником, которая сыскалась на опушке леса, потом сказал:
— Провожу тебя до омута, а там и до займища белгородского рукой подать. И я к ночи успею в своё жилище вернуться. Идём.
Тёплый лес расступился перед ними, и скрылись за спиной прогретая солнцем поляна, заброшенное и вновь обживаемое городище с двуруким тополем на вершине пологого холма, а где-то слева от путников тихо журчал по склону холма в траве невидимый ручеёк, скатываясь с камешка на камешек, и так до Ирпень-реки, а потом и в могучий Днепр.
Княжий посланец
Ай Владимир князь-от стольнокиевский
Наложил-то мне-ка служебку великую,
Ай великую мне служебку немалую.
Былина «Добрыня и Змей»Проводив Янка почти до Белгорода, устав и проголодавшись, Могута всю ночь осторожно брёл к своему жилью на потаённой поляне. Шёл под тихий шелест листвы, обдуваемой свежим предутренним ветром. Он слушал говор старого леса, а казалось, что потревоженные души предков ворчат у него за спиной — зачем топчет тяжёлыми стопами прах людей, чьи тела так и не были погребены по обычаям, завещанным от пращуров?
«Нынешней зимой мне и в рот положить будет нечего, ежели не изловлю брашны, размером поболе куропатки», — подумал Могута, по привычке чутко вслушиваясь в гомон просыпающегося леса. Впереди, словно поводырь, указывающий верную тропу, бодро стучал по дереву также за ночь проголодавшийся дятел. По левую руку весело щебетала лёгкая на крыло синица, на неё, неведомо за что прогневавшись, трижды прокаркала тучная от обильной под Белгородом конской падали ворона.
«Кабы на вепря выйти — тогда и мяса можно было бы насушить», — размышлял Могута, крепко сжимая в левой руке лук со стрелой, которую придерживал большим пальцем: ежели враг рядом, не гоже лук держать за спиной, можно припоздать, выхватывая стрелу из колчана! Подумал о вепре, и в голову негаданно пришла мысль об огромном стаде, которое печенеги собрали по окрестным вежам русичей и пригнали к Белгороду ради собственного прокормления. Усмехнулся не без тревоги в душе, когда принял весьма рискованное решение: «Не велик убыток будет у кагана Тимаря, ежели я отгоню от печенежского стада одну, а лучше две говяды. Зато мне в лихую голодную пору будет что снимать с дерева, куда я развешаю туши, разрезанные на куски!».
Он знал, что печенеги пасут свои стада неподалёку от Днепра, а с наступлением сумерек перегоняют на займище Ирпеня, доят коров, режут быков и готовят для войска ужин.
Могута уверенно пошёл навстречу солнцу. Оно поднялось уже за Днепром, его лучи окрасили в розоватый цвет редкие кучевые облака. В лесу посветлело, стало возможным различать тёмно-зелёные кусты, которые теснились у ног вековых дубов, клёнов, берёз и редких в этих местах сосен.
Пройдя около двух поприщ, вышел к Ирпеню недолго стоял в зарослях краснотала, осматривая другой берег, потом медленно ступил в тёплую воду и, подняв лук и колчан над головой, переплыл реку. Укрывшись в густых зарослях орешника, переплетённого колючими побегами ежевики, снял и, поёживаясь от ветра, крепко отжал воду из ноговиц и рубахи, встряхнул бережно, опасаясь порвать, оделся. Несколько минут было довольно неприятно, однако вскоре платье прогрелось, Могута привстал, привесил к поясу меч, закинул за спину печенежский щит, подарок Янка, взял лук со стрелой и уверенно вскарабкался по крутому берегу Ирпеня, где также тесно, будто ратники перед сечей, стояли могучие тёмные стволы деревьев. На краю обрыва оглянулся — тёмный в тени леса Ирпень покрыт мелкой рябью от ветра, который порывами налетал с юга, со стороны осаждённого печенегами Белгорода. Оттуда, смешиваясь с ароматом леса, еле уловимо долетал запах дыма догорающих сторожевых костров, о которых с наступлением дня никто уже не заботился.
«Теперь усядутся к кострам мясо есть», — вздыхал Могута, бережно, чтобы не ударили по глазам, правой рукой отводил встречные ветки и уверенно шагал по сухой земле, густо устланной прелой прошлогодней листвой, поверх которой добавилось уже и убранство этого года с могучих лесных великанов. И первым начал раздевать покрасневшую свою крону клён.
Когда до берега Днепра осталось не более двух перестрелов, Могута пошёл бережнее, иногда останавливаясь и вслушиваясь в птичий гомон — вдруг осторожная сорока откуда-нибудь подаст тревожный знак? А может, и вспугнутый зверь метнётся прочь от опасных гостей в им обжитом месте? Знал Могута, что печенеги довольно часто уходят небольшими отрядами в лес ловить укрывающихся там русичей из ближних разорённых поселений, чтобы потом выгодно продать свой полон византийским или иным скупщикам крепких невольников. Но бывало и так, что русичи, исполчившись, заманивали находников в уготовленные заранее места с глубокими ловушками. Напрасно всматривались тогда печенежские князья в страшные для них леса, ожидая своих воинов с богатой добычей… Вот и Днепр!
«Надобно испить воды да съесть хотя бы одну сушёную рыбу», — решил Могута. Осмотрелся, увидел справа укромный суходол, поросший высокими кустами орешника, спустился в него и осторожно двинулся к реке, и когда был уже в полусотне шагов от песка, с полуночной стороны донеслись возбуждённые крики, стук многих копыт о сухую землю.
«Дозор печенежский!» — смекнул Могута, упал под куст и тут же боковым зрением — голова его была повёрнута в сторону Киева — заметил неподалёку под крутым берегом лёгкий чёлн и ратников под вёслами. Они увидели печенегов, которые вынеслись к берегу Днепра из леса и спешили теперь к этому суходолу, норовя на вёслах уйти подальше от опасности. Но на их беду перед челном негаданно оказалась длинная песчаная отмель, и лёгкое судёнышко, налетев на преграду, замерло на месте. Печенеги возликовали. Не менее десяти стрел сорвалось с тетив и со свистом умчались к челну. Русичи успели укрыться за невысоким бортом и щитами. Тут же один из ратников вскинул лук и из-за спины товарища, который теперь держал перед собой оба щита, пустил к берегу встречную стрелу. До печенежских всадников было не более сотни шагов от челна, и Могута безошибочно уловил в конском топоте ржание раненого коня. Крик радости с челна и отчаянный вопль придавленного наездника достигли ушей Могуты одновременно. Вспарывая копытами дёрн откоса и землю склона, в суходол спустились восемь печенегов и, не останавливаясь на месте, принялись осыпать стрелами ратников в челне, не давая им возможности из-за щитов отвечать своими стрелами.
«Эх, Могута! К добру ли бог неба и Перун пригнали тебя к этому роковому месту?» — мысленно воскликнул Могута, натянул тетиву и пустил стрелу в спину ближнего к нему печенега — с такого расстояния он мог бы сбить стрелой если не воробья, то горлицу наверняка! Стрела вошла в серую спину всадника и красным наконечником вышла из груди — находник без стона медленно свалился с коня, который, почуяв неладное, взвился на дыбы, сбросил мёртвого хозяина и метнулся вверх по суходолу. Не успел вороной поравняться с Могутой, как он вторично спустил натянутую тетиву от правого уха к левому кулаку. И второй всадник, насквозь пронзённый стрелой, ткнулся головой в гриву, некоторое время удержавшись в седле, вместе с другими печенегами продолжал кружиться в страшном танце между Могутой и ратниками в челне. В чёрном борту челна, в щитах торчало уже не менее двух десятков стрел, вот упали под копыта ещё два степняка, а находники в пылу боя так и не могли догадаться, что гибнут их соплеменники не только от метких стрел, летящих со стороны Днепра…
Вскинулся Могута с колен, вышел из-за куста, чтобы лучше было видно всех гарцующих находников, и выпустил очередную стрелу, — Лови, вражий сын! Детям закажете ходить на Русь! — не сдержался и выкрикнул Могута, охваченный азартом отчаянной скоротечной драки с печенежским дозором. — И ещё одну в догон!
И только тут разобрались оставшиеся вдвоём конники, что у них за спиной опасность куда страшнее, чем та, которая грозила им с неподвижного челна. Разом обернулись и с удивлением, перешедшим в нескрываемый страх, увидели рядом с кустом орешника огромного русича, который натягивал большой, вполовину человеческого роста лук. Что-то выкрикнув по-своему, вскинули луки и выстрелили, но в спешке, желая опередить русича, не смогли прицелиться понадёжнее — одна стрела пролетела сквозь куст и посшибала мелкую листву, а потом вонзилась в склон суходола. Другая просвистела в вершке над головой Могуты и обдала влажное разгорячённое лицо смертоносным дуновением, будто из сырой могилы вдруг пахнуло в очи…
Выстрел Могуты был удачнее: левый печенег успел прикрыть щитом грудь и голову, но стрела ударила в живот, всадник опрокинулся навзничь, конь взбрыкнул ногами, и труп гулко упал на потрескавшееся от зноя жёлто-серое дно суходола. Оставшийся в живых печенег ударил коня пятками, поднял его на дыбы и рванулся было прочь с места боя, надеясь спастись, но Могута привычным движением руки выдернул стрелу из колчана, кинул её на лук, оттянул тетиву и с выдохом:
— Не уйти тебе, поганый! — сшиб последнего всадника уже почти на краю суходола. Печенег мягким кулём скатился по склону туда, где в разных позах, скрючившись или вытянув руки и ноги, лежали его соплеменники.
— Ну вот… — как бы подытоживая результат скоротечной схватки, которая длилась, быть может, не более двух минут, проговорил Могута, перевёл взгляд с мечущихся по суходолу коней и неподвижных их бывших хозяев на чёрный, стрелами утыканный чёлн — не чёлн, а ощетинившийся рассерженный ёж! И охнул от неожиданности — оба ратника лежали в челне недвижно. Над телами, наклонно, торчали несколько стрел с чёрными оперениями.
— О бог неба! Неужто побиты, и я не сумел им помочь!
Не выпуская лука из руки — как знать, вдруг да ещё откуда наедут другие печенеги? — побежал склоном суходола к Днепру. Утопая в песке, а потом и по колена в воде, добрался до челна и, стиснув от горя зубы, помутнёнными от отчаяния глазами посмотрел на ратников. У младшего возрастом — ещё и борода не отросла приличная — всё лицо залито кровью: ему стрела ударила в правый висок, и он лежал на спине, прикрывшись от мёртвых, как и он, врагов двумя щитами. Старший полусидел, привалившись спиной к борту челна, словно прибитый стрелой к доскам сквозь правое плечо. По епанче, одетой поверх кольчуги, сочилась кровь, из-под бармицы, сдвинутой при падении со лба на затылок, ниспадая на лицо, выбились длинные русые волосы.
— Брате! — негромко позвал Могута, боясь тронуть ратника за локоть, выставленный поверх борта челна. — Брате, ты жив?
Ратник медленно открыл глаза, голубые и мутные от боли. Постепенно взор его просветлел, он сделал попытку выпрямиться на скамье, но лицо сморщилось так, что он сам вряд ли бы узнал в этот миг себя, доведись посмотреться в медное зеркало…
— Как сын мой, Ляшко, в крещении Глеб… Жив ли? — и застонал, едва сдержавшись, чтобы не вскрикнуть, а по щекам вторично прошла гримаса нестерпимой боли. — Боже, словно тупым топором все кости в плече мне переломали! Так что же с Глебом?
— Ему печенеги голову стрелой пробили, — тихо ответил Могута, страшась, что от этой вести ратник и вовсе лишится сознания, потому торопливо добавил: — Надобно укрыться в кустах и перевязать тебе рану. В челне и на виду опасно оставаться, как бы другой дозор не наехал сюда. Мне одному от десятерых не отстреляться из лука.
Ратник прикрыл глаза, из которых потекли горькие слёзы утраты сына, видно было, хотел перекреститься по новой вере, и не смог поднять руку выше пояса, она тут же упала, словно кто перерезал ратнику сухожилие в локте.
— Помоги, брате, Глеба из челна поднять… В земле бы укрыть от хищных птиц, — попросил старший ратник, а сам едва смог подняться на ноги, стиснув зубы до белизны в скулах. Могута поднатужился, обеими руками взял ратника за торс, почти вынул из челна и помог пройти по песку к суходолу, из которого, напуганные чужими людьми, вынеслись печенежские кони.
— Худо выйдет, когда кони к табуну прибегут, — заметил ратник, проводив сожалеющим взглядом тёмно-рыжего, с чёрным хвостом коня, который последним мелькнул над гранью зелёного суходола и светло-голубого, в редких облаках, неба, а Могута тем временем бережно перевязывав его рану. — Нам бы теперь в седло, да и ходу далее отсюда.
— Знамо дело, догадаются печенеги, что побиты дозорные… Ну вот, теперь кровь уймётся, тебе легче будет. Минет три-четыре дня, и о печенежской стреле вспоминать забудешь… Сиди, я сам Глеба вынесу, — решил Могута, смахнул ладонью пот со лба и возвратился к челну. Сам рыл неглубокую могилу для Глеба, благо земля под кустом была не такой уж твёрдой, а когда засыпали ратника и положили сверху три отыскавшихся поблизости камня, Могута решительно охватил стонущего нового товарища за пояс, повёл к челну.
— Садись на скамью, я толкну чёлн… По времени пора бы находникам поблизости объявиться.
Столкнуть лёгкое судёнышко было нетрудно, Могута упёрся руками в борт и, едва не перевернув чёлн, счастливо взобрался на него, ухватил мокрыми руками оба весла и начал грести, огибая злосчастную отмель. «Кабы не это препятствие, глядишь, ратники ушли бы от печенегов, а теперь вон как дело перевернулось…»
Полуприкрыв веками глаза, ратник некоторое время молчал, словно собирался с мыслями, потом сказал, что прозывается он Первушей, по той причине, что среди многих детей у родителя он был первым. При крещении дали новое имя Иоанн, но это второе имя, будто платно с чужого плеча, никак не прилегало к душе.
— Боже, как мне жарко становится, будто под солнцем червень-месяца[104] сижу… — прошептал Первуша и левой рукой провёл по лицу, на котором выступили капли пота. — Над нами месяц ревун[105] начался, а жарко…
Могута, не переставая грести изо всех сил, мельком глянул на ратника, спросил, лишь бы не молчать:
— Что же ты так-то бездумно сунулся к берегу, под печенежские стрелы? Эге-ге, позри, брат Первуша, а вон и наши недруги объявились! Во-она, от леса широко едут! Спас бог неба, да и Перун не выдал на погибель!
Первуша, а он сидел спиной к корме челна, с усилием повернул голову, боясь потревожить рану: по высокому берегу Днепра намётом скакали до сотни всадников. Вот они приметили чёлн, вынеслись на кручу, пытались стрелами догнать русичей.
— Лови сокола в небе, а рыбу в Днепре! — пошутил Могута, направляя чёлн по течению. — А я и не спросил, в какую сторону тебе плыть надобно? К Родне, должно?
Первуша кивнул головой, тихо пояснил, что они с Глебом плыли вдоль берега, укрывшись густым туманом, а потом туман так нежданно разметало ветром, что они не успели выйти на стремнину… А тут ещё эта издали неприметная отмель!
— К вечеру пристанем на луговую сторону Днепра, заново перевяжем тебе рану, да об ужине подумаем, — пообещал Могута. И не стал повторять вопрос, куда и с какой целью плыл Первуша. Коль не сказывает, знать есть тому причина. Он грёб, стараясь гнать чёлн по течению как можно быстрее, поглядывал на правый берег реки — печенеги шли за ними угоном, но то и дело вынуждены были оставлять речную, оврагами изрытую кручу, уклоняться в сторону, где стеной высились могучие деревья, над кронами которых кружились птицы, издали казавшиеся пчелиным роем, не более размером.
— Скоро утомятся, — негромко сказал Первуша, искоса посмотрел на жёлтый обрыв Днепра, сверху окаймлённый зеленью трав и кустарника. — Счастливы мы с тобой, Могута, что не сыскалось у находников своих челнов.
«Да, прав ты, Первуша, — согласился мысленно Могута, равномерно поднимая и опуская вёсла на пологие днепровские волны. — Однако плыву я прочь и от моего потаённого жилища на поляне, и от печенежского стада, возле которого мыслил удачливо поохотиться… Но не бросать же человека в беде! Так думаю, что неспроста он пустился по Днепру в сторону Родни, не своей волей. Придёт время — объявит об этом сам… Но волнует меня его рана, вон как лицом покраснел Первуша, и пот постоянно течёт. Жар в теле у него, не иначе. Довезти бы до Родни, а там сыщется знаемый человек, вылечит ратника».
К вечеру приткнулись к небольшому песчаному островку, который от левого берега Днепра отделялся протокой. В нескольких местах она была перегорожена почерневшими в весеннее половодье занесёнными сюда могучими деревьями — голые ветки и часть корневищ, словно скрюченные руки речной нежити, пугающе торчали из воды, а на дальнем дереве невесть из-за чего дрались две крикливые вороны.
— Огня не зажигай, — попросил Первуша, опасаясь вражеских доглядчиков, которые могли объявиться и на этой стороне Днепра. — Коль можно, освежи повязку… жжёт внутри всё тело, будто на костёр меня положили. Не возьму в разум, отчего это… За ратную службу не первая это стрела в моём теле, а так больно ещё никогда не было… А вон в той котомке, у твоих ног, Могута, брашна… Взяли мы её с сыном, собираясь в дорогу к Родне…
— Добро, — тут же откликнулся Могута, не оставляя чёлн, который, прижатый течением, приткнулся боком к берегу островка. — Сиди, Первуша, я сам всё сделаю.
Как у всякого русича, которому приходится иметь дело с оружием, у Могуты на поясе была небольшая киса с толчёной высушенной травой кровавика — лучшего усмирителя кровотечения и воспаления от порезов и рваных ран. Внимательно осмотрев битое у Первуши плечо, он бережно обмыл кожу вокруг опасно покрасневшей раны, присыпал свежей толикой кровавика, отхватил ножом часть подола своей рубахи и туго перевязал.
— Дотянуть бы мне… — простонал Первуша, наблюдая за крупными сноровистыми руками Могуты.
— До Родни дотянем, до Царьграда — не обещаю, — невесело пошутил Могута, развязал котомку, вынул хлеб, холодную говядину, нарезал удобными долями, положил на скамью челна так, чтобы Первуша мог брать левой рукой. Кольчуга, снятая с ратника Могутой, и бармица лежали на дне челна, у ног Первуши.
— В Царьград мне без надобности, — горько улыбнулся ратник. — Мне за Родню, к торкскому князю Сурбару, — наконец-то решился объявить Первуша о цели своей поездки. Сказал, и неожиданно гримаса нестерпимой боли снова исказила приятные черты его лица.
«Должно, боится умереть», — подумал Могута, и в душе невольно похолодело — увидел, что щёки и лоб Первуши, до этого красные от внутреннего жара, теперь с каждой минутой становятся всё более и более серыми, как будто кровь уходила из него не только через тугую повязку на плече, но и ещё через невидимую им открытую рану… И тут страшная догадка ожгла сердце Могуты — яд! Не иначе, печенежская стрела заранее была омыта каким-то ядовитым раствором. Яд попал глубоко в кровь ратника и теперь разносится ею по всему телу, а когда достигнет головы в достаточном количестве…
— От князя Владимира? — домыслил Могута, и не удивился, видя, что Первуша так и не притронулся к брашне. Сам он, за день не сделав ни одного глотка, не удержался, набил рот мясом и хлебом, усиленно работал челюстью.
— Да… Случится что со мной, вот, у пояса кожаная киса, в ней укрыта грамота князя Владимира, князю Мстиславу писана, в Тмутаракань… Надо дойти непременно… — Первуша силился удержать сознание, но Могута видел, как злой рок занёс уже над ратником свой тяжкий меч для неотвратимого удара. — «Кабы простая рана была — остался бы жить Первуша, а коль ядом прошло всё тело — кончина близка, и я не в силах ему помочь… Чтоб тебя и после смерти звери по степи таскали, проклятый печенег!» — Могута проглотил брашну, толком не прожевав, утешая, положил руку на левую руку ратника.
— Всё обойдётся, Первуша! Вот дойдём до Родни, тамошние лекари сделают тебе новую повязку, обмоют рану кипячёной водой…
— Не обойдётся, Могута… Я уже ног своих не чувствую, будто отпали они обе… Случись потерять кису, — Первуша умолк, прикрыл глаза, будто потерял нить беседы, а может, сознание куда-то провалилось в тёмную бездну небытия.
— Так что мне делать, если случится потерять княжью грамоту? — переспросил Могута. Он отложил брашну, со всей силы стиснул левую руку Первуши, словно этим можно было продлить считанные минуты жизни несчастного ратника — вот уже какая-то пугающая зелень стала проступать у Первуши под глазами, полуприкрытыми серо-жёлтыми припухшими веками.
«Лицо начало опухать», — с нестерпимой горечью заметил Могута, и горькие слёзы подступили к глазам. Много смертей видел Могута на своём веку, но вот так, чтобы человек умирал у него на руках от неотвратимой болезни, вызванной ядом — такое случилось впервые…
— Днями следом за мной… к Родне из Любеча с ратниками… сойдёт княжий сотник… — Первуша говорил уже с трудом, судорожные спазмы начали перехватывать дыхание, глаза вдруг широко распахнулись, и взор ратника застыл на лице Могуты. Первуша последними усилиями воли пытался удержать сознание, чтобы не впасть в предсмертное забытье…
— Так что же? — Могута тормошил Первушу, смотрел ему в глаза, умолял. — Говори, брат, я всё сотворю по воле князя Владимира, говори!
— Чтоб князь Сурбар… в помощь сотнику Сбыславу встал… у Родни. — Резкая нервная судорога прошла по всему телу Первуши, ноги поджались коленями к животу, словно так можно было унять нестерпимую боль, которая, похоже было, рвала несчастного человека на тысячи кусочков.
— Говори, брат, говори! Что ещё повелел князь Владимир? Зачем надо ехать к князю Мстиславу в Тмутаракань? Не оставляй в себе ни единого княжеского слова!
— Чтоб князь Сурбар погнал… теперь вместе с тобой… вестника к князю Мстиславу… Возьми княжий перстень, по нему словам твоим… будет полная вера. — Первуша сделал было попытку снять с безымянного пальца левой руки золотой перстень, на котором был выбит ястреб с расправленными крыльями, но не смог этого сделать, слабо кивнул головой, как бы говоря Могуте: «сними сам!» Потом ратник сделал глубокий вдох, опёрся руками о скамью, пытаясь привстать на ноги. — Надо грянуть на печенежские вежи из Тмутаракани, чтоб Тимарь… — руки подогнулись, и Первуша обмяк, уронил голову на грудь смяв о платно русую бороду.
Могута до скрежета стиснул зубы, чтобы не разрыдаться горькими слезами утраты, бережно положил пока ещё послушное тёплое тело ратника на дно челна, перекрестил Первушу по новой вере и осторожно закрыл ему глаза, которые уже не видели сумрачного неба над чёрной водой вечернего Днепра.
* * *
К Родне Могута пристал ближе к вечеру следующего дня, измотав тело в беспрерывной гребле вёслами. У берега его тут же встретили дозорные ратники. Как только Горислав, старший в дозоре, узнал, что Могута едет посланцем от князя Владимира к торкам, он тут же объявил:
— Здешний воевода Нетий с конной заставой в отъезде из города. Он самолично следит за печенегами на подступах к Родне, опасаясь их нечаянного набега большой ратной силой. Мы хорошо сведущи, как долго и без пользы для войска своего Тимарь топчет землю под Белгородом. Со злобы может и на Родню всем скопом навалиться! Как там отважные белгородцы, должно, крепкую нужду терпят, — Горислав глянул на чёлн, но лежащего на дне Первушу не приметил издали. — Ждать будешь воеводу?
— Нет, надобно срочно мчаться к торкам, — решительно объявил Могута Гориславу, добавил: — В челне мой сотоварищ, Первуша. Похороните его по чести он — смерть принял на княжьей службе. А мне коня дайте доброго, поеду далее. Надобно волю князя Владимира передать князю Сурбару. От этой скорости и судьба белгородцев будет решаться, а теперь они в тяжкой бескормице пребывают. Про Белгород мне хорошо ведомо, я сам оттуда. — Могута посмотрел на закатную сторону неба, прикинул — светлому времени быть уже не так долго. Но и мешкать излишне не дело для княжеского посланца, каковым мысленно определил себя Могута. Подумал: «Моим друзьям в Белгороде каждая голодная ночь в большую мýку оборачивается. Каково теперь там брату Антипу с детишками, кузнецу Михаиле, иным друзьям?»
— Добро, — согласился немногословный Горислав, и суровое его лицо на время подобрело — знать скоро конец придёт печенежскому нашествию, коль князь Владимир в Киев возвратился! Побегут теперь печенеги с земли Русской! — Горислав осмотрелся, зычно покликал молодого ратника, взял у него отменного, бурнастой[106] масти жеребца, потом, удерживая коня за повод, внимательно наблюдал за Могутой, когда тот вынул из челна кольчугу и бармицу Первуши и с трудом одел бронь на себя.
— Сгодится, — немногословно одобрил Горислав. — По слухам от дозорных застав, торки от реки Роси кочуют не так далеко, а по нынешнему тревожному времени тем паче жмутся к Родне, опасаясь печенежского набега. Слух был, что Тимарь присылал своих гонцов к торкам, звал с собой в набег на Киев, да те отговорились разными причинами, чем сильно обидели печенежского кагана… Удачи тебе, княжий посланец! Мои ратники проводят тебя поприщ десять, далее им уходить опасно — не сильна пока Родня воинской силой, каждое копьё на счету у воеводы нашего.
Могута печальным взглядом проводил четверых молодых ратников, которые, прикрыв почерневшее лицо Первуши белым ручником, по сухому истоптанному песку понесли покойника от Днепра вверх к бревенчатым стенам города.
— Ждите днями воев из Киева. Сказывал Первуша, приведёт их княжий сотник Сбыслав.
— Знаю его, — только и ответил Горислав, взял Могуту за локоть и повёл вверх по извилистой тропе. Когда поднялись к городским стенам, Горислав приказал пятерым воям проводить Могуту ради бережения до Большого могильного кургана гуннов, а далее не ходить.
— Береги себя в поле, — напутствовал Горислав Могуту. — Коль на тебе княжье повеление, так донеси его до места, думая о тех, кто теперь в твоей руке, а потому и не рискуй излишне!
— И мне моя голова пока не лишняя, — отшутился Могута и легко вскочил в седло. Бурнастый всхрапнул, почувствовав на себе нового хозяина, но Могута ласково похлопал его по тёплой шее, успокоил.
— Да хранит вас бог неба Христос, коль ему всё видно с этого неба, — и Горислав в спину перекрестил отъезжающих всадников.
Курган гуннов оказался почти на краю леса, который широко раскинулся по берегам Днепра и его притока — Роси. Далее простиралась бескрайняя, серебристо-серая ковыльная степь с редкими по речушкам и оврагам зелёными островками невысоких деревьев и кустов. Отпустив родненских воев, Могута въехал на курган осмотреться. Далеко справа стоял настороженный предвечерний лес с возможной погоней из засады, впереди — степь, где в любом суходоле или за зелёным островком его так же могла поджидать роковая чёрная стрела.
— Пошёл, пошё-ёл! — прикрикнул Могута, ткнул бурнастого пятками в бока, пригнулся к его пышной гриве, и конь резво сорвался в стремительный бег.
«Застоялся конь в Родне без ратного дела! — с радостью отметил Могута, подставляя лицо ветру, который от конской головы наискось бил ему навстречу. — Держись, друже-конь, не споткнись, а мне надобно остерегаться этих встречных зарослей, подальше от них, подальше», — сам себе советовал Могута, зорко поглядывая в подозрительные места, где мог затаиться враг.
Метёлки серебристого ковыля бились о колени всадника, конь вскидывал голову и мчался, не сбавляя бега, словно и его сердце ликовало от ощущения воли, от свежего встречного ветра, от этого беспредельного, волнами ходящего ковыля, который приятно хлестал о могучую грудь рыже-бурого скакуна…
Печенеги вынеслись из золотисто-зелёной под закатным солнцем рощи в двух поприщах правее Могуты, и он ещё раз похвалил себя за то, что гнал коня не прямо, а обходил подобные места на расстоянии не менее двух-трёх перестрелов.
— Ах вы, тати степные! — выругался Могута, мельком оглянувшись на преследователей. Постепенно разгоняя коней, они кучно мчались за ним, видимые над ковылём только конскими головами и спинами наездников, которые, как и Могута, приникли к гривам своих лошадей.
«Долго ли они будут гнать меня, словно затравленного волка? — сам себя спросил Могута, зорко поглядывая вперёд. — Ежели вскоре не покажутся вежи торков, могут настичь, у них кони свежее моего, мы с ним уже не менее пяти поприщ проскакали!»
Вторая застава печенегов выехала слева, из гущи кустов по склону оврага, когда до задних конников оставалось ещё приличное расстояние. Самый резвый из них опередил троих товарищей шагов на двести, выставил хвостатое копьё и мчался на Могуту, стараясь успеть загородить ему дорогу.
«Глупец безусый! — без злости ругнул печенега бывалый Могута. — Нешто можно щенку гнаться за матерым волком!» — Не разгибаясь, он достал из-за спины лук — подарок Янка перед самым расставанием в ирпеньской пойме, а тому этот лук подарил Власич, провожая белгородского посланца из Киева к себе в родной город. «Ты в лесу без лука пропадёшь, — сказал тогда Янко, — потому как никакой дичи тебе голыми руками не взять, а стрелой и вепря можно свалить. Мне же теперь только через Ирпень переплыть, да на стену Белгорода подняться. А для этого лук мне не нужен!»
— Спаси бог неба тебя, мой верный друже Янко! — вслух проговорил Могута, словно белгородский ратник мог услышать теперь его. — Не только для дичи сгодился твой подарок, отменный лук киевлянина Власича! — Он крепко стиснул пальцами кибить[107] лука, положил на неё стрелу с древком красного цвета от крови печенега, сбитого прошлым днём у Днепра, и когда до чужака оставалось не более сотни шагов, резко выпрямился в седле, натянул тетиву с такой силой, что, казалось, подзоры[108] вот-вот треснут, и пустил стрелу. Метил в коня, чтобы убрать находника с пути. Гнедой в яблоках конь со всего маху рухнул на землю. Над ковылями головой вперёд полетел всадник, потом два раза мелькнули конские копыта — и всё пропало в густой траве, словно в воду кануло.
Ответом на удачу русича были три стрелы, пущенные печенегами с довольно большого расстояния, а потому на ветру и не столь удачно.
«Гонитесь, гонитесь! Кто первым приблизится, тому будет вторая стрела, кровью пропитанная! Пять штук выдернул я из ваших соплеменников, а вас идёт мне наперерез всего трое!» — о тех, которые нагоняли его сзади, Могута как бы забыл — до них оставалось ещё больше полутора поприщ.
«Настигнут, — оглянувшись, понял Могута, и в душу впервые вкралось недоброе предчувствие. — Задние настигнут до наступления полной темноты над степью, да и эти с каждым конским скоком наперерез близятся! Ну коли так, биться будем!»
Могута ещё раз выпрямился в седле, поднял длинный лук и с яростными проклятиями находникам, выпустил стрелу в ближнего печенега. Всадник каким-то чудом успел наклониться к гриве коня, конь от этого резкого движения метнулся влево и сбросил седока в гущу ковыля. Двое оставшихся чуть-чуть попридержали гривастых скакунов. Они поняли, что лук русича бьёт гораздо дальше их луков, не менее, чем на сотню шагов, и подставлять себя под его стрелы у них пропало всякое желание: решили ждать своих соплеменников, которые гнались следом за дерзким гонцом князя Владимира к торкам. А в том, что это именно гонец, у них, по-видимому, не было никакого сомнения. И хотелось всадникам отличиться перед каганом Тимарем, изловив этого русича, да видели, что он их к себе ближе чем на полёт его стрелы, не подпустит…
Впереди, перекрывая путь Могуте, близился густой лес. Крайние к полю дубы в лучах заходящего солнца, которое нижним краем уже прилегло на западный небосклон, отливали медным сиянием, над кронами кружили вороны, высматривая место для близкого ночлега.
«Либо спасение моё, если лес этот довольно просторен, либо погибель, если он недостаточно широким окажется! Но иного пути не вижу! Ежели начну огибать лес краем, задние печенеги скоро вцепятся в хвост моего коня. В лес, Могута, и да поможет нам бог неба Христос! Он теперь видит меня, ещё довольно светло, неужто не спасёт русича, который принял его как нового бога своей земли? — И Могута размышлял, словно возносил молитву к новому богу, а сам ударил пятками взмыленного коня.
— Держись, ретивый, не упади, иначе настигнут меня клятые находники! Живым не дамся — на копья поднимут. Либо, как дружинника Вешняка под Белгородом, стрелами издали побьют!
Могута влетел в лес на такой бешеной скорости, что едва сам себя не погубил, когда успел пригнуть голову, промчавшись под толстым отростком столетнего, не менее, зелёного великана. И тут же повернул коня вправо, подальше от днепровского берега.
«Печенеги подумают, что я вглубь леса ринусь, туда и кинутся следом за мной, чтоб до темноты успеть изловить», — принял весьма рискованное решение Могута, направляя уставшего коня так, чтобы деревья и мелколесье надёжно закрывали его от преследователей. Печенеги достигли леса в тот момент, когда Могута отъехал в сторону не менее, чем на полёт стрелы. Он ласково похлопал коня по горячей влажной шее, успокаивая и благодаря одновременно, потом склонился к конской голове, прошептал, будто разумному существу:
— Рысцой иди, дружок, рысцой. Здесь листва под деревьями лежит толстым слоем, твоих копыт печенеги не услышат, даже если ухом к земле приложатся! — Могута то и дело наклонялся, чтобы не задеть низкие ветки, а ещё через две сотни шагов вовсе остановился, слез и повёл бурнастого дружка за повод, давая коню возможность отдышаться и вернуть силы.
«Как знать, не придётся ли нам ещё раз намётом уходить от врагов, — думал Могута, чутко прислушиваясь к затихающему гомону вечернего леса; здесь, под зелёным непроницаемым пологом листвы, было уже так темно, что стволы деревьев в полусотне шагов сливались как бы в сплошной частокол. Позади было тихо, не слышно ни конского ржания, ни перекликающихся голосов, как обычно бывает при погоне, тем более, если ищут всего-то одного человека. — Выходит, правильно уклонился я в сторону от Днепра, находники углубились в самые дебри, думая, что я там ищу себе спасение», — отметил про себя Могута, радуясь, что, возможно, удастся счастливо уйти от преследователей.
— О бог неба! Знал бы ты, как хочется есть! — Могута вдруг почувствовал сильный голод — вспомнил, что последний раз трапезничал поутру, отыскав брашно в походной котомке Первуши. — Какая досада! Надо было спросить у Горислава хлеба на дорогу. Ох, — неожиданно простонал Могута. — Будто ёж в животе вертится! — Могута едва не застонал от голодного приступа — весь день на вёслах, а потом эта отчаянная скачка верхом отняли все силы, высушили, казалось, его тело, под стать осеннему почерневшему листу, который падает с родимой веточки даже от слабого дуновения ветра…
Почти в полной темноте набрёл Могута на крошечный ручей, который, невидимый в разнотравье, чуть слышно журчал, перекатываясь в сплетении тёмных корней деревьев. Конь тут же потянулся к воде, пил бережно, долго, да и Могута не отказался от нескольких пригоршней чистой воды, настоянной на запахах травы и старых листьев. Ненароком во тьме опёрся левой ладонью о приседельную сумку бывшего владельца коня и едва не взвопил от радости — не пустая!
«О могучий Христос! И ты, людьми отвергнутый Перун! Знать, не час мне умереть в тёмном лесу с холодной водой в животе!» — Могута проворно развязал ремённый узел, вынул полковриги хлеба, следом изрядный кус солёного варёного мяса. Под стать голодному волку вонзил зубы в мясо, задвигал челюстью. Обильная слюна смочила суховатые волокна говядины, но Могута не стерпел и проглотил почти не прожёванное мясо»
«Не торопись, — усмехнулся Могута и укорил сам себя за столь явно выказанную жадность к брашне. — Ночь тебе дана на трапезу и на отдых, а по ранней поре, едва проклюнется утренний свет, ехать далее, искать торков… или вновь от печенегов спасаться, неужто не покинут леса находники, будут и далее стеречь меня, в надежде перехватить княжьего посланца? И далеко ли до южного края леса? Как тихо здесь, даже ночные вещие птицы не перекликаются, пугая мышей и зайцев». — Могута прислушался, не заголосит ли где филин, пугая мелкую пернатую братию, или сам кого-то испугавшись? Сытый желудок и тишина принесли успокоение, Могута привязал коня к тонкому стволу плохо различимого во тьме деревца, снял походную котомку, положил её у подножья соседнего дуба, руками на ощупь приготовил себе ложе поровнее… Не успел положить голову, как физическая усталость мигом свалила его на бездонную зыбкую постель сна.
Чужой отдалённый говор Могута воспринял, как отголосок сновидения — привиделось ему, что они с братом Антипом на киевском торге, а вокруг тьма люда всякого, в том числе и заезжие гости иноземные, которые смешно лопочут на своих непонятных языках. Но за этим говором раздалось конское ржание, попервой издали, а потом совсем над головой. — «Мой конь это» — дошло до сознания Могуты, он резко повернулся с левого бока на спину, потом сел и с неимоверным усилием открыл заспанные глаза — в двух десятках шагов, среди предутренней дымки тумана, выставив копья, к нему стеной шли чужие воины в высоких меховых шапках.
— Печенеги! — Могута то ли вскрикнул это страшное слово, то ли подумал, в миг был на ногах, подхватил щит, выдернул меч из ножен и спиной прижался к шершавому дубу, под которым ещё миг назад так безмятежно спал, не чуя роковой опасности… Но чужаки враз остановились, опустили копья к земле, заговорили между собой на странном наречии, в котором Могута то и дело улавливал знакомые, но сильно искажённые слова. Кого-то громко позвали, и из чащи леса верхом на белом жеребце выехал крупный всадник, живо соскочил на землю, не доставая меча, смело приблизился к Могуте. Улыбаясь, выставил перед собой руки ладонями вперёд, в больших голубых глазах искрилась неподдельная радость. Когда заговорил, Могута с облегчением понял — перед ним кочевые русичи из бродников, в крови которых за сотни лет странно перемашалась кровь славянских и степных народов.
— Не бойся нас, брат, — с трудом подбирая слова, заговорил старший из бродников, пригладил ладонью роскошную бороду поверх кольчуги, назвался: — Я — Стар, старейшина, знать, своего рода, а живём мы под рукой торкского князя Сурбара. Мои воины видели тебя вчера, когда за тобой гнались печенеги. Моих воинов было столько, — и Стар показал шесть пальцев. — Они сказали мне, я привёл моих воинов тебя спасать. Печенегов мы прогнали, как только стало чуть светло, тебя в лесу искали. Сначала там, — и он кивнул головой вглубь леса. — Печенеги тоже тебя искали там, а ты хитрый, как лиса… — и засмеялся, довольный своей шуткой.
— Добро, брат Стар, добро! — с неимоверным облегчением выдохнул Могута, минуту назад готовый было биться до последнего издыхания. — Мне надо видеть князя Сурбара, я послан гонцом к нему от князя Владимира с важными словами.
— Мы так и думали, — согласно качнул полуседой головой смуглолицый степной богатырь. — Садись на коня, мы проводим тебя к нашему князю. Хорошо получается, сегодня у князя Сурбара и другие торкские князья в шатре сидят, о чём-то сговариваются.
Становище князя Сурбара было неподалёку от кручи Днепра, прикрытое со стороны степи двумя глубокими оврагами, а ровная часть степи между вершинами оврагов перерезана рвом в три человеческих роста, за рвом вал и острозубый частокол из новых стволов высоких хвойных деревьев.
— Чтобы печенеги не напали изгоном, — пояснил Стар, когда по его просьбе с той стороны рва опустили шаткий мост — проехать по нему мог только один всадник.
В центре становища красовался пёстрый шатёр, возле шатра усатые воины с копьями — личная стража Сурбара, рядом несколько десятков лоснящихся выхоленных коней под сёдлами, внутри шатра слышен громкий говор, порой переходящий в смех.
— Я говорил уже — у князя Сурбара гости, теперь время обеда, вот они и говорят так громко, даже сомы под берегом Днепра слышат, — пошутил Стар. Они слезли с коней за два десятка шагов до шатра. — Пойдём, Могута, князь Сурбар примет тебя даже во время обеда, когда узнает, кем ты послан к нему.
Старейшина бродников не долго говорил со стражами, их пропустили, и Могута увидел на просторной синего бархата подушке сидящего князя торков. С первого же взгляда он понял, что перед ним истинный сын степи, прирождённый воин: высок ростом, под накинутым на плечи шёлковым светло-розовым халатом легко угадывалось сильное и ловкое тело, движения рук резки, но не суетливы. От прямого носа вниз свисали чёрные, слегка тронутые сединой усы, чёрные глаза остановились на Могуте, взгляд князя пробежал по русичу с головы до ног, задержался на пыльных черевьях. Когда заговорил, то голос у Сурбара оказался резковатым, привыкшим подавать ратные команды. Стар тут же переводил слова торкского князя:
— Кто ты, русич, и зачем пришёл к нам?
Прежде слов Могута поклонился князю поясным поклоном, снял с пальца и протянул перстень киевского князя. Сурбар согнал с худощавого лица печать суровости, взгляд его смягчился.
— Что хотел сказать мне киевский князь Владимир? — почти ласково поинтересовался Сурбар, возвращая Могуте перстень.
— Князь Владимир днями возвратился в свой город Киев — При этих словах, переведённых Старом, торкские князья оживились, негромко переговорили между собой. «Должно, натерпелись страха от близости печенежского войска, в радость им добрая весть из Киева», — отметил про себя Могута и сказал о том, что хотел передать князь Владимир через своего посланца Первушу. Правду о том, что истинный гонец погиб, говорить не решился — а вдруг засомневается торкский князь в искренности его слов, заподозрит в умышленном побитии того посланца и в его, Могуты, сговоре с печенежским каганом Тимарем? Ведь и поныне в печенежском стане обитают недруги князя Владимира, бывшие некогда в слугах убитого князя Ярополка. И сидел тот Ярополк недалече отсюда, всё в той же Родне, осаждённый войском князя Владимира.
Узнав о просьбе князя Владимира перейти становищем к Родне и там соединиться с ратниками воеводы Нетия, чтобы вместе ждать скорого теперь прихода сотника Сбыслава с войском, торкские князья совещались недолго, а когда умолкли, князь Сурбар объявил Могуте:
— Возвращайся в Кыюв и скажи князю Владимиру, что завтра же все мы, торкские князья, со своими людьми выступаем к Родне. Наши воины, числом до четырёх тысяч, встанут рядом с воинами князя Владимира. Да будет вечно мир между нами!
«Как славно вышло!» — порадовался Могута, чувствуя огромное в душе облегчение: не зря погиб Первуша, не зря остался лежать в том суходоле под кустом орешника его молодой сын, не зря и он рисковал жизнью — с приходом под Родню торкского войска, присмиреют находники, начнут за спину себе поглядывать!
Могута сколь мог вежливо поклонился Сурбару, сказал и о втором поручении киевского князя.
— Просил тебя, о достойный князь Сурбар, князь Владимир послать со мной до князя Мстислава добрую конную заставу, чтоб исполчился тмутараканский князь и ударил бы на печенежские вежи всей своей ратной силой. Узнав об этом, Тимарь не посмеет более сидеть под Белгородом, поспешит к себе свои дома спасать!
Князь Сурбар сдвинул густые брови, опустил глаза на ковёр, где по зелёному полю словно небрежной рукой были разбросаны яркие красные цветы, помолчал. Могута замер, ожидая решения торкского властелина. В шатре стало так тихо, что было слышно, как негромко переговариваются стражи в десяти шагах от жилища князя Сурбара. Но вот князь вскинул голову, улыбнулся сдержанно, хлопнул себя по коленям.
— Хорошо, гонец! Завтра поутру вы вместе с полусотней храбрых воинов Стара, — и князь Сурбар взглядом указал на старейшину бродников, — отправитесь в далёкую дорогу… И да хранит вас бог неба, которому вы теперь поклоняетесь! Идите в стан, кормитесь и собирайтесь добротно — дорога не близкая, всякое может случиться, потому, Стар, возьми обязательно поводных коней.
Могута и Стар поклонились князю Сурбару, прочим князьям и вышли из шатра. Когда отошли шагов на пятьдесят, Стар обнял белгородца за плечи, сказал весело, но и как-то сурово:
— Вот и выпал нам случай, брат Могута, послужить не только своим князьям, но и всей земле Русской! Не каждому удаётся такое свершить! Только бы счастливо миновать нам печенежские заставы в степи… Но мои воины не раз ходили этими тропами, должны пройти и на этот раз!
— Должны пройти, брат Стар! — отозвался Могута, а сам повернул голову в полуночную сторону, подумал — «Успеет ли помощь прийти моим друзьям и брату Антипу в Белгород? Не будет ли уже поздно? Только бы успеть домчаться до князя Мстислава. Сказывают, он воин смелый, не устрашится печенежской силы. О бог неба, помоги измученным белгородцам…» — Могута неожиданно для себя перекрестился, как велит новая вера, и с мольбой в глазах поднял взор к голубому неохватному небосводу…
Повелел князь держаться
Ты уймись, уймись, моя же кровь горячая,
Не ходи-ка ся боле, не пустись у меня,
Не в баловстве эти раночки получил я,
Получил раны — за всю страну свою стоял,
За страну же свою стоял, за Россиюшку.
Былина «Про богатыря Сохматия Сохматьевича»На костлявых ногах шатаясь, хмурый и голодный, вставал над Белгородом новый день. Солнце от обиды глаза закрыло серыми тучами и землю освещало нехотя, без теней. Не рады были люди новому дню: просыпалось солнце, и дети рты открывали, просили есть.
Воевода Радко поднял глаза к хмурому небу — к дождю такое небо! — ладонью прикрыл лицо: пыль снова влетела из-за южной стены города, горькая, дымом пропахшая пыль. Ископытили печенежские кони степь вокруг Белгорода, оттого и дышать трудно при южном ветре. Воевода шёл к кузнецу Михайло с нерадостной вестью, а когда проходил мимо крепкого двора Самсона, вспомнил растерянное, испуганное лицо посадника. Нынче чуть свет прибежал Самсон и рассказал, что минувшей ночью кто-то дубьём побил его сторожевых псов на подворье. Видел посадник, на шум выскочив, как чьи-то лихие тени метнулись через высокий забор, а чьи — не разглядел.
— Могутова братия в Белгороде осталась, воевода, — в страхе шептал посадник Самсон. — Не сыщем татей — быть большой беде.
«Разбой супротив торговых и больших мужей может начаться со дня на день, — думал воевода, и оттого так ноет сердце, будто ядовитая стрела вошла под ребро и нещадно покалывает. — А от разбоя далеко ли до усобицы? Тогда крепости не стоять против печенегов».
Воевода Радко шёл тесным и чуть влажным от росы торгом — полно пустых телег на торге. И ни единого коня: с началом осады воевода распорядился взять коней под строгий надзор и убивать их только для общей нужды пришлых со степи людей. А про скот и говорить давно перестали — съеден в первые дни осады. Воевода отвернул лицо от пыльного порыва ветра, а больше того, от голодных глаз ратаев. Отвернулся, но и через тяжёлую кольчугу спиной чувствует немые укоры: глаза кололи и спрашивали, скоро ли помощь придёт от князя? Не забыла ли Русь про Белгород?
Он-то верил, что не забыла, говорил о том людям, увещал терпеть, а при случае — как с черниговским торговым мужем Глебом было — вознамерился крепость оставить и самолично откупиться у печенегов — и силу суровую применял, сберегая худые вести о городе своём от чужого уха. С великой надеждой ожидал возвращения Янка. Девять раз уже вечерние сумерки, догоняя утреннюю зарю, прошли над притихшим Белгородом, а его всё нет! И будто вымерло всё вокруг воеводы. Собак и то не видно который день — наверно, от голода разбежались. А может, и ратаи съели их. Тихо и в кузнице Михайлы. К чему ковать новые мечи, когда и теми, что есть уже, скоро некому будет биться. Капля по капле, как дождь редкий из ветром истрёпанной тучи, покидала сила богатырские руки! С тяжкими думами вошёл воевода Радко в дом кузнеца Михайлы. На чисто выскобленный стол сквозь слюдяное оконце падал сноп утреннего размытого света. Михайло тяжело приподнялся над столом, чтобы встретить гостя у порога и к столу пригласить, но воевода сказал, не желая беспокоить хозяина:
— Трапезничай, Михайло, — и опустился на лавку близ кади с прохладной водой, у порога. — Разговор наш не спешен, — он усталой спиной привалился к тёплому срубу.
За длинным столом обе семьи — Михайлы и Антипа. В переднем углу место старейшины Воика. Совсем тощ стал старейшина, нос заострился, под глазами залегла тёмная синь. Рядом со старейшиной сидят Михайло и Антип, молчаливые, глаза опущены в пустые миски. Блики огня от очага, рассеиваясь от стен, лёгким румянцем освещают их впалые щёки, бороды. Возле Михайлы слева свободное место. «Это, наверно, место Янка», — догадался воевода Радко. Вздохнул, уловив запахи кислого щавеля и горького дыма, уходящего от очага под крышу, в дымник: Виста вынула из очага горшок, поклонилась старейшине.
— Поспело варево, отче Воик, — и протянула деревянную ложку с длинной ручкой навстречу старейшине.
Ни одна половица не скрипнула под лёгкими шагами Воика, когда, с трудом передвигая длинные ноги, шёл он к очагу. Лицо старейшины осветилось огнём жарких дров и стало бело-розовым. Седая борода чуть приметно колыхалась в горячих потоках воздуха.
— Примите, чуры, малую требу нашу, — тихо, полушёпотом, сказал старейшина. — И гнев на меня, на род свой, не держите. В добрые времена и треба была щедрой, теперь живым для жизни не хватает корма. Не от лености, чуры, не от забытья о вас, прачуры, а от бедствия великого, упавшего на нас со степи печенежским набегом.
Закашлялся вдруг старейшина Воик и лицо отстранил от очага, свежего воздуха хватил пересохшим горлом.
— Помогите нам, души предков. Укажите выход из тяжкой беды, не то погаснет огонь в доме и пропадёт род наш. Не оставляйте нас без своей помощи, чуры и прачуры, вступитесь перед силами зла.
Старейшина черпнул из горшка ложкой раз, второй и третий — всем трём поколениям далёких предков, которые жили уже под очагом, — и выплеснул постное варево на угли очага. Три тёмные круга зашипели по-змеиному и легли на остатки дров, расплылись по бело-розовым углям. Огонь быстро пересилил влагу и съел эти пятна.
Старейшина расправил спину и повернулся к домочадцам.
— Приняли чуры требу и гнев на нас не держат. Корми нас, Виста, чем боги даруют пока стол, — старейшина при воеводе не посмел помянуть поверженных богов старой Руси, не смог назвать и единого теперь бога неба, не уверовав в него душой. Воевода Радко отсидел недолгую трапезу, молча проводил взглядом ребят — они покинули двор и ушли к валу, — и заговорил:
— Тяжко говорить мне, с чем пришёл. Стоит Белгород перед печенегами, будто беспомощная говяда со связанными ногами, и ждёт смертного часа. Сегодня в ночь белгородцы будут есть последние запасы брашны из клетей волостелина и посадника Самсона, которые повелел я прежде свезти на княжье подворье для бережения.
Старейшина Воик даже качнулся, руками обхватил седую трясущуюся от немощи голову.
— Вон что, — только и выговорил кузнец Михайло, а старейшина безмолвно посмотрел на маленькую фигуру Перуна, стоящую за дальним углом очага, другим невидимую, — смотрел, словно теперь настал черёд говорить и ему, отвергнутому деревянному богу.
Но деревянный идол молчал. Заговорил Антип:
— Пришёл, знать, и мой черёд жертвовать ради всех, — хрипло выдавил из себя ратай. — Не довелось сберечь Воронка для пашни…
Воевода Радко, словно винясь, тихо сказал:
— Питал и я надежду на это, Антип. Думал, хватит воям своих коней да запасов в княжьих клетях. Без крайней нужды не пришёл бы, памятуя о печенежских конях, добытых отроками… В ночь воям на стены почти нечего подать мясного.
Антип шумно втянул в себя воздух, согретый огнём очага.
— Когда коня свести… воевода Радко?
— Сведи хоть сейчас, пока отроки на помост ушли. Которую ночь вместе со Згаром стерегут частокол, Янка ждут. — Воевода поднялся. — Пойду и я к воям.
Ближе к вечеру, неспешно обходя город по стене, Радко отыскал отроков на южной части крепости. Они сгрудились около коренастого, почти квадратного Згара, без опаски высовывались непокрытыми головами за острые верхи частокола.
— Смотри, Вольга, сколь коней там! — выкрикнул с завистью в голосе младший сын Антипа Милята, а сам в тростиночку превратился, тянется, чтобы удобнее было смотреть в степь. — Кабы нам изловить и в котёл их кинуть!
В двух перелётах стрелы ржали сытые кони, стоял гул над печенежским станом, и сплошной завесой поднимался серо-сизый дым сотен костров.
— Скачут! — выкрикнул кто-то из дружинников.
Воевода невольно за меч ухватился, но увидел, что от вражеского стана отделилась группа конных и, размахивая копьями, приблизилась ко рву. На копьях — куски красного свежего мяса: печенеги дразнили голодных русичей. Да не в сыром мясе беда — на город постоянно вместе с ветром налетал и кружил головы запах жареной конины.
Дружинники, не стерпев, схватились за луки и стрелами ответили насмешникам. Скаля зубы, резвые всадники горячили коней, вертелись, перед всем войском выказывая бесстрашие, пока кого-то из них меткая стрела не опрокинула на конскую гриву.
Воевода Радко подошёл к дружинникам, укорил их:
— Не кажите ворогам глаза голодного барса. Пусть думают находники, что и у нас корма в достатке. — А широкие ноздри, помимо воли, ловили запахи со стороны степи. Запахи шли густо, ароматные, наполненные дымом, подгоревшим на углях мясом, слабой горечью полыни и сухого чабреца.
Позже других вечером поднялся на помост старший сын Антипа Василько, грустный, с натёртыми до красноты глазами.
«Прознал уже о своём коне», — догадался воевода Радко и, унимая вновь колючую боль сердца, принялся давить тугой ладонью на грудь.
Василько сел на помост, прислонился плечом к частоколу. Сказал Вольге:
— Не могу боле во дворе сидеть. Всё кажется мне, что Воронок за спиной фыркает или тычется в затылок мягкими ноздрями… Буду ночевать здесь, с воями.
Вольга тут же отозвался на печаль друга:
— Коль так, то и я с тобой останусь.
Вдруг один из отроков, бросив строгать ножом камышинку, тихо позвал Михайлова сына:
— Вольга, зри, кто к нам идёт.
На помост еле взобралась Виста, поставила у ног тяжёлый горнец. Увидела воеводу, Згара, окликнула дружинника:
— Згар, поди сюда, нож твой надобен.
Виста сняла с горнеца крышку, и вокруг разошёлся запах мясного отвара, приправленного луком.
— Мати-и, — простонал от восторга её средний сын. — Отколь такое богатство?
— Сотник Ярый распорядился. Увидел меня и говорит: снеси, Виста, мясо отрокам на стену. Они там вместе с воями дозор несут, пусть, как все дружинники, в ночь поедят сытно!
— Знатно придумал наш сотенный! — бодрясь перед отроками, воскликнул Згар. Принимая горнец, он тайком глянул на Василько. — Ух, как славно сварен. И кус мяса отменный!
Згар широким ножом вынул мясо и на плоской крыше горнца поделил на доли. Отроки тут же, давясь, принялись есть тёплое, хорошо упревшее мясо, по очереди отхлёбывая отвар через край горнца. И радовались — не дивно ли, что сам сотенный Ярый повелел накормить их, как настоящих дружинников!
Згар не дождался Василька и прокричал:
— Василько! Что же ты в стороне? Иди за своей долей!
Никто из отроков за радостью еды не заметил, когда Василько отошёл шагов на десять, ближе к воеводе Радку, и лицо выставил поверх частокола, под ветер степи.
Вольга поспешил к другу:
— Василько, иди же… — и вдруг заметил, что у Василька мелко подрагивают плечи.
Глянул Вольга на свою влажную руку с горячим мясом и всё понял: они ели коня ратая Антипа!
Воевода Радко отошёл ближе к башне над Ирпеньскими воротами.
Минула и эта ночь, а гонец Янко из Киева вновь не возвратился. На душе воеводы было тоскливо и пасмурно, как и это утреннее холодное небо над Белгородом.
— Чего ждать нам далее? — вздохнул воевода Радко, направляясь на своё подворье перекусить и хоть на время забыться в коротком и тревожном сне.
Пополудни тёплый западный ветер разогнал серые тучи. Воевода Радко в ночь снова поднялся на стену. Стоял уже почти без надежды, стоял и смотрел, как переливался лунный свет на вершинах деревьев трёховражья, на лунный мостик через Ирпень-реку и видел, как время от времени этот мостик рассыпался на множество мелких золотистых осколков — то набегал ветер и рябь покрывала воду. Смотрел на залитый лунным светом заирпеньский луг и на тёмное, верхом сомкнувшееся с горизонтом далёкое нагорье.
Воевода Радко вздрогнул, боясь поверить собственным ушам: внизу, в непроглядных дебрях, трижды прокричал филин. Затихло всё, только сердце неимоверно застучало в груди. Ослышался? Обсчитался? Или то роковой случай совпадения всего-навсего?.. Но вот повторно трижды ухнул филин в трёховражье — и снова всё стихло, будто ничего и не было. Воевода едва сдержался, чтобы не закричать от радости: Янко подаёт знак! Пробрался-таки к городу, просит принять!
— Лестницу спустите! — распорядился воевода Радко. — Да за кузнецом кто-нибудь сбегайте!
Неподалёку Згар крикнул:
— Эй, Вольга! Воевода велит сбегать за вашим отцом — Янко возвращается в крепость!
Воевода Радко снова с тревогой стал вслушиваться в тишину леса под стеной — не обнаружили бы печенеги гонца! За тёмными деревьями оврагов и за рекой тоже — густой ряд костров: не дремлют находники, стерегут крепость. А Янко всё же прошёл сквозь всё это! Туча бы теперь помогла Янку, да разогнал ветер эту тучу не вовремя — луна светит во всё небо, и звёзды одна ярче другой.
Вдруг качнулась опущенная за частокол гибкая лестница под чьими-то медленными шагами, ритмично поскрипывая. Кто-то поднимался, будто опасался обломить ненадёжный мосток. Бережения ради воевода Радко потянул из ножен тяжёлый меч, а выглянуть опасался — если печенеги идут, то снизу стрелой враз могут отправить к предкам — пусть лучше ворог свою голову поставить отважится под удар.
Рядом дружинники ждали настороженно, боясь обмана. Ждал вместе с ними и кузнец Михайло, дышал тяжело: узнав от сына Вольги про сигнал, запалился от бега.
Над частоколом всплыла огненно-рыжая голова Янка. Лунный свет пал утомлённому гонцу на лицо и отразился в сияющих радостью глазах двумя искристыми звёздами. В трудной улыбке раздвинулись губы: прямо перед собой Янко различил отца Михайлу. Сказал:
— Вот я и дома, отче Михайло.
— Давай помогу тебе, сыне! — не таясь уже, громко ответил кузнец Михайло и протянул руки поддержать Янка, когда тот будет спрыгивать с частокола на помост.
— Нога у меня, отче, поранена, — устало выговорил Янко и тоже протянул руку, чтобы опереться о плечо отца. Воевода Радко поспешил помочь ему спуститься на помост и…
Чёрная стрела ударила внезапно, в тот последний миг, когда Янко уже ногу над частоколом занёс.
— Больно мне, — только и успел выговорить и начал валиться вперёд, на частокол. И упал бы грудью на острые торцы брёвен, да воевода и кузнец Михайло успели подхватить его под руки и опустили на доски помоста. Кто-то из отроков закричал с испугом, кто-то побежал вниз — должно, упредить старейшину Воика, — а воевода торопливо скинул с плеч корзно. На этом шёлковом корзне дружинники спустили Янка со стены, отнесли в родное подворье. Там в избе осторожно положили на лавку, ближе к очагу.
— Воду готовь, Виста, — поторопил старейшина Воик плачущую Висту. — Михайло, разрежь платно.
Кузнец Михайло ножом разрезал платно, снизу доверху, и отбросил края в стороны. Стрела торчала в спине, чёрная, будто сухая ветка у белоствольной берёзы. Старейшина Воик осторожно тронул её у самого тела. Янко застонал, шевельнулись обнажённые лопатки, мокрые от пота или от воды.
— Терпи, внуче, терпи, родная кровь моя, — негромко приговаривал тощий и сгорбленный старейшина. — Сейчас тащить стрелу буду, крепись… Готова ли вода, Виста? Подай мне, да травы-кровавника истолки в ступке, поболе. Видишь, и на ноге распухла рана, краснота уже во круг пошла…
Было видно: старейшина взволнован и пытается разговорами успокоить не только других, но и себя. Вот он осторожно, боясь сломать, потянул стрелу. Вышло красное, кровью пропитанное древко и раздвоенный, словно змеиный язык, плоский наконечник. Следом хлынула кровь и потекла по спине.
— Тряпицу дай, Виста, — попросил старейшина. Он ловко вытер кровь вокруг раны, зажал её, снова повернулся к Висте: — Кровавник нужен, — и целую горсть истолчённой травы насыпал под тряпицу, потом снова прижал. — Холстина длинная нужна, перевязать.
Старейшина Воик стал пеленать спину Янка. Воевода Радко подошёл к лавке и вместе с кузнецом Михайло бережно поддерживал тело Янка, когда старейшина просовывал холстину под грудь раненого.
Было душно. Даже прохлада тёмной ночи не спасала от духоты. Янко метался в бреду, тяжело дышал открытым ртом.
— Вольга, спишь, что ли? — услышал воевода Радко голос кузнеца Михайлы. — Дымник открой.
Отрок подошёл к очагу и приподнял длинный шест, который верхним концом был прикреплён к тяжёлому квадратному дымнику, а нижним — с помощью петли из сыромятной кожи — крепился на столбике с засечками. Вольга приподнял эту петлю на четыре засечки вверх — теперь дымник не закроется. Дым густо повалил в квадратное отверстие.
— Вот и славно, спеленали накрепко, — разогнул спину старейшина Воик. — Печенег в степь ещё уйти не успеет, как ты, внуче, на коня вновь сядешь!
Старейшина повернулся к кузнецу Михайло, успокоил:
— Дышит Янко чисто — знать, кровь в грудь не пролилась. То наше и его счастье. Стрела на излёте уж ударила, — и пошёл к порогу ополоснуть руки над корытцем.
Янко пришёл в себя только на рассвете. Воевода Радко так и не сомкнул глаз, сидел у его изголовья вместе с кузнецом Михайлой да Вистой, уставшей до изнеможения.
— Отче… — прошептал Янко, разжав спёкшиеся губы.
Шёпот Янка услышал первым воевода Радко — он первым и склонился над мокрым лицом раненого, а Виста торопливо стала вытирать пот с шеи и со щёк сына, радуясь, что сын пришёл наконец-то в сознание.
— Это ты, воевода Радко, — узнал Янко. — Вот и вернулся я… Здоров будь, воевода. Позови отца… Горячо как внутри у меня, жажда печёт. Испить бы воды холодной вдоволь, как там, в мёртвом городище, когда я ловил мокрые от росы листья в яме и облизывал их…
— Бредит, должно быть, — вздохнул старейшина Воик.
Михайло приподнял голову сына, Виста с ложки напоила Янка отваром шиповника.
— Положите меня, отче. Устал я… — и Янко снова лёг на живот, повернувшись лицом к очагу. Воевода Радко склонился к изголовью, пытался поймать ускользающий взгляд его, спросил:
— Янко, что сказал тебе князь Владимир при встрече? Видел ты его? Вернулась ли старшая дружина в Киев?
Янко открыл затуманенные болью глаза: голубые и печальные, они напомнили воеводе осеннее небо, которое готовится к нещадным зимним холодам.
— Ты слышишь, Янко? Что сказал князь о помощи Белгороду?
— Я слышу тебя, воевода Радко… — и Янко разжал чёрные, потрескавшиеся от внутреннего жара губы. Он лежал, набираясь сил, а воевода и кузнец Михайло терпеливо ждали у ложа — вдруг Янко что скажет хоть шёпотом? Долго так ждали, а во дворе — воевода Радко слышал это через раскрытую дверь — стали собираться белгородцы, прознав о возвращении ночью гонца от князя Владимира. Всем хотелось узнать: что же принёс с собой Янко?
Янко заговорил, словно очнувшись от сна:
— Повелел князь Владимир держаться в Белгороде до последнего живого дружинника. Нет у князя дружины в Киеве, один он возвратился, с малой силой прибежал, прознав о находе печенегов. Ждать надо, когда возвратится дружина, как ждал я, когда в мёртвом городище ловил мокрые листья и жевал, жевал…
Янко тяжело выдохнул и умолк, вздрагивая телом и делая попытки поднести руки к лицу, чтобы согнать с глаз кошмарное видение. Видно было, как трудно приподнимается при вдохе и опускается при выдохе спина, перевязанная белым холстом с бурым пятном крови посредине.
— Вновь сознание покинуло… — всхлипнула Виста и потянулась к изголовию сына утереть пот.
В оконце уже заглядывала зарница. Уйдя в тёмный угол за очаг, тихо плакала там старшая дочь ратая Антипа Ждана.
Со двора в приоткрытую дверь влетел отчаянный крик. Воевода Радко узнал голос черниговского торгового мужа Глеба:
— На торг, люди! Созовём вече и порешим, как нам судьбой распорядиться. На торг!
Слабые решили сдаться
И застонал, братья, Киев от горя,
А Чернигов от напастей.
Тоска разлилась по Русской земле;
Печаль обильная потекла посреди земли Русской.
Слово о полку ИгоревеНет, Вольга увидел не белгородский, всегда спокойный и говорливый торг. Он увидел развороченный лесной муравейник, в который запустил лапу медведь-лакомка. Мечутся по разрушенному жилищу чернобрюхие муравьи, спасают по возможности своё потомство, а на врага боем пойти — сил не хватает…
Вольга втиснулся в людское скопище и уцепился за рукав отца Михайлы — не потеряться бы да не отстать, иначе затолкут. А над торгом качались головы: рыжие, черноволосые, русые, голые, как птичьи яйца, качались, будто бестолковые волны в толчее — туда-сюда, туда-сюда. Дальние, кто не протиснулся к помосту, на телеги влезли, чтобы видеть и слышать всё. Стоят, друг друга за плечи придерживают.
Среди этого шумящего схода под недобрыми взглядами голодных глаз, на помосте, как на острове, возвышался посадник Самсон: голова на грудь склонена — ни дать ни взять дикий тур перед боем с соперником. Знал посадник: дойдёт дело до драки — ему первому не жить. Многих успел за время осады закупами сделать, прибрать под себя! А купу у посадника мало кому удалось отработать.
Ярились от голодного крика люди. Чьи-то исхудалые, дрожащие руки уже тянулись к полам посадникова шёлкового корзна, да коснуться пока не смели — посадник-то при мече!
Вольге стало страшно от вида людей, впавших в отчаяние, от их крика, от рук, что тянулись к посаднику. Вот уже неподалёку промеж собою затеяли свару белгородец и ратай, вот уже и кулаки взметнулись над головами!..
— Отче, что они делают! — закричал Вольга и прижался в страхе к тёплому боку кузнеца Михайлы. В спину его толкали острыми локтями, жёсткими черевьями наступали на босые ноги, а кто-то пытался протиснуться мимо них к помосту, выкрикивая угрозу:
— Дайте мне сказать Самсону! Он худо кормит холопов! Голод нас с ног валит! Пустите к посаднику!
А на помосте рядом с посадником появился вертлявый черниговец Глеб, торговый муж, прихваченный в Белгороде печенежской осадой. Закричал во всю мощь горла, перекрывая гвалт и свару просторного торга:
— Люди! Чего ждём мы, изнывая от голода? Князь Владимир дитю малому уподобился в немощи! Дружина его до сей поры неведомо где бродит! А Киев за нами укрылся, туги не ведает и на помощь нам не идёт! Так порадеем о себе сами! Впустим печенежских мужей, пусть возьмут наши подношения, но сохранят жизни!
Как пламя костра с шипением гаснет под струями проливного дождя, так и гомон над торгом затих, придавленный страшными словами черниговского гостя.
Белгородцы недоумённо переглянулись: таких слов за свою бытность они ещё не слыхали.
Кузнец Михайло опомнился первым. Отстранив Вольгу, он ринулся к помосту, взбежал по ступенькам и со стиснутыми кулаками подступил к черниговцу.
— Во здравом ли ты уме, торговый муж? И как посмел ты при нас хулить срамными словами князя Владимира? Устроителя земли Русской? Как набрался чёрной неблагодарности почитать его за дитя неразумное? — И к торгу: — Братья, в словах черниговца — измена! Нет ему отныне крова под крышами нашего Белгорода! Супостат он, печенегу подобен!
— А долго ли вам видеть небо под крышами этого города? — ярился за спиной Михайлы черниговец. — Подохнете с голоду, а кто жив останется — печенег дорежет! И детей не помилуют, за неразумное упрямство ваше наказывая.
— Нам ли слушать этого пса, разум потерявшего? — выкрикнул кузнец Михайло, но в тот миг, когда он хотел повернуться к торговому гостю лицом, тот ударил его в спину.
Вольга вскрикнул испуганно — не видел, чем ударил черниговец, вдруг ножом! Михайло рухнул с помоста на людские головы, но тут же вскочил на ноги, взлетел вновь на помост и мимо отпрянувшего в сторону посадника Самсона медведем навалился на черниговца. Глеб изловчился и ударил кузнеца Михайлу в грудь, но более сделать ничего не успел. Торг замер, увидев вскинутого над головой кузнеца горластого иногородца. Ближние попятились, и Михайло швырнул торгового мужа на землю.
— Смерть псу печенежскому! — гремел кузнец Михайло. — Он тяжкую осраму нанёс не только мне, ударив в спину, подобно гадкому трусу. Он осквернил всех нас, русичи, посчитав за побитых собак, прихваченных на чужом подворье! Вставай, ворог, и готовься к судному полю! Чёрную осраму смою твоей кровью, как велит старый закон!
Вольга замер от услышанного: судное поле — это бой при всём вече, когда обида смывается кровью обидчика. Если падёт в сече отец Михайло, то кому выйти против черниговца? Янко печенежской стрелой поранен. «Мне же меча не поднять! — Вольга почувствовал истому в ослабших ногах. — Изведут наш род черниговец и его родичи, которыми не раз похвалялся всенародно Глеб».
Торговый гость вскочил на ноги. По испачканному пылью лицу прошла бледность, застыла в уголках рта недоброй складкой затаённая усмешка. Судорожно сжатые тонкие губы покривились.
— Хорошо, простолюдин, быть судному полю! Но не здесь, а перед лицом князя Владимира, когда встанут за моей спиной родные братья, отважные витязи черниговской земли. И если уцелеешь ты, не сдохнув от голода, либо не уведут тебя печенеги на аркане, как безмозглую говяду водят на торг.
Белгородцы вновь взъярились. Вновь послышались крики, угрозы посаднику, торговым мужам и волостелину с его доможиричем, не забывали помянуть недобрым словом и обступивших крепость печенегов.
Под эти разноголосые крики на помост поднялся воевода Радко. Кузнец Михайло спрыгнул на землю, и Вольга протиснулся к нему, уцепился за руку.
Следом за воеводой с превеликим трудом осилил несколько ступенек крутого всхода сотенный Ярый — из последних сил шёл, видели это белгородцы: скуластое лицо сотенного за дни осады словно совсем высохло, нос заострился и пошёл желтизной.
Вольга и отец Михайло вздрогнули разом: над торгом сверкнул обнажённый меч воеводы. Лезвие заискрилось в солнечном луче, окатило людей холодным, до души доставшим светом. Торг замер, словно заворожённый этим блеском железа, готового пролить кровь.
«На чью голову падёт удар?» — подумал Вольга и посунулся за отца Михайлу. Ему показалось, что воевода сделал шаг на край помоста и глазами кого-то отыскивает. Ближние подались назад, вжимаясь в толпу сгорбленными спинами, — всяк в эту минуту почувствовал вину перед воеводой и перед крепостью: зачем собрались, старшими мужами не званные на вече? Озноб в теле Вольги сменился жаром, когда воевода, не опуская меча, закричал, не в силах скрыть горечь:
— Кто здесь? Храбрые ли русичи собрались или стая голодных псов сгрудилась над трупом сдохшего коня? Иль разум ваш совсем замутился от страха? Так страх выбивают из тела железом, о том хочу напомнить слабым! — воевода резко опустил руку, и меч глубоко вошёл в бревно помоста. Помост гудел ещё от этого удара, а воевода Радко вновь кричал в гневе: — Коли надумали судьбу свою решать, так решайте её с твёрдым сердцем и ясным умом, а не с заячьим страхом в ногах! За стыд почитаю даже говорить с вами после того, что увидел и услышал здесь непотребного делам и помыслам русичей! Вас спасая, погибли Славич, Тур и Микула и многие дружинники. О чём же кричите вы теперь? И вы ли это совсем ещё недавно так крепко поучали печенегов под стенами города? А теперь такие есть среди вас, кто готов открыть ворота и подставить горло под нож печенега, вымаливая глазами лёгкую смерть или позорное рабство! Осрамы такой не ждал я от вас!
Гнев воеводы Радка остудил многих.
— И то верно, — смягчая резкость воеводы, заговорил Ярый, в кулак негромко покашливая. — Почто кричать так? Ещё всполошатся печенеги. Видели находники, как Янко возвращался в город, вот и догадаются, что принёс он недобрую весть, если мы, пуще грачей весенних, крик подняли. — Ярый сказал негромко, но услышали все. На помост тут же вновь поднялся неугомонный в своём упрямстве черниговец. Заговорил, к вече одним боком и к воеводе другим встав:
— Мне так думается: помощи ждать нам нет расчёта! Князь укрылся за Белгородом, как за надёжным щитом, нас же бросил на волю бога и печенегов. Стало быть, и думать о себе надо нам! Пошлём к Тимарю посланцев и скажем, что впустим в крепость его немногим числом мужей. Пусть возьмут пожитки, но даруют жизнь нам и детям. Взяв пожитки, пусть уходят в свои степи. Не этого ли и просил каган с первого дня прихода?
За спиной Вольги кто-то подхватил с радостью:
— Славно молвил!
И ещё голоса послышались:
— Слать к Тимарю мужей добрых с посадником в главе! Пусть печенеги возьмут всё, но пусть уходят прочь из Руси!
Отец Михайло вытянул шею, будто выше всех быть захотел, и громко крикнул черниговцу в ответ:
— Откройте черниговскому псу ворота! Пусть идёт! И пусть несёт Тимарю кошель с золотом. Ему есть чем откупиться от неволи. А чем откупятся ратаи да холопы? Что их ждёт? Непотребное молвил Глеб!
Вокруг закричали, поддерживая кузнеца Михайлу:
— Секи мечом черниговца, воевода! Секи, пока не сбежал к печенегам и не выдал нашей горькой нужды ворогам!
— На корм его псам голодным! Не сородич он нам теперь!
Но были и другие крики:
— Верно молвил Глеб! Помрём вместе с псами от голода!
— Забыл нас князь Владимир! Одним не устоять против находников. Их тьма, у нас же корма нет совсем!
Крики вихрились над торгом, как вихрится под крышей дым, сбившись у открытого дымника.
— Верно молвил кузнец Михайло! — громко, понемногу успокаиваясь, заговорил воевода Радко. — У черниговского гостя и в Чернигове клети не только мышами полнятся. Нам же надо радеть не только за очаг свой, за детей своих, хотя они нам и дороги. Русь за нами, этого нельзя забывать!
— Мы — для Руси! Почему же Русь не для нас? — кричал всё тот же черниговец. — Почему вся Русь не встанет и не придёт к Белгороду?
Но воевода отстранил его и заговорил с вече:
— Русь поднять — не Ирпень переплыть, нужно время. А это время князю даём мы, белгородцы… А теперь слушайте моё слово: никто из вас пусть и в помыслах не имеет покинуть крепости! Ворог не узнает о том, что нам тяжко от бескормицы. Всякого, кто попытается оставить Белгород, велю дружинникам бить стрелами!
— А чем кормить будем людей, воевода Радко? — это уже посадник Самсон подал голос.
На помост взбежал ратай Лука и заторопился сказать, волнуясь от собственной смелости:
— В твоих клетях поищем, посадник Самсон! Там и найдём корм воям и белгородскому люду!
— Искал уже Могута у волостелина Сигурда, а пыль одну нашёл! Всё вывезено! — ответил, а скрыть не мог тревоги, которая отразилась на злом лице, — вон как осмелело Могутово племя! При всём вече грозят клети пограбить! Ну и времена пришли на Русь! — Гордей и я весь припас отдали дружинникам на прокорм.
— Неправду говоришь, посадник, — возразил Лука и повернулся к толпе: — Смотрите, люди, каков я и каков посадник! Он быку подобен, я же — бычий хвост? — голодом съеденное лицо ратая Луки перекосилось от гнева. — Ему да иным мужам торговым осада туги не принесла. Наши последние золотники да резаны в их кису пересыпались за прокорм. Дети мои — как ковыльные стебельки на ветру высохли, сил нет смотреть на них. А старшей, Златы, и вовсе не стало… Что скажешь на это, посадник Самсон?
Посадник в гневе стукнул ногой о помост.
— Не равняйся с княжьим посадником, простолюдин!
Но Лука не дрогнул от грозного покрика.
— Прежде не равнялся и впредь, как уйдут печенеги, равняться не посмею. Знаю, что ратай не друг посаднику. Но в этот день мы перед князем и перед богом все равны! Одной бедой, как лыком, опоясаны! И страдать должны в равной мере! Что лицом переменился? Али речь моя не по нраву пришлась? Стало быть, что-то да утаил себе!
У Вольги от напряжения мурашки колючие побежали по спине, снизу вверх, будто его нагого поставили на растревоженный муравейник. Показалось вдруг, что сейчас разъярённым барсом прыгнет посадник Самсон на худого Луку, сгребёт и сломает его, как сгнившее внутри дерево ломает могучий лесной хозяин. И вряд ли кто мог бы сказать, что будет дальше, как нежданно стих над торгом многоголосый гомон и на людей пахнуло холодом тишины, как из свежевырытой могилы…
Лука обернулся к толпе, удивлённый. Вольга вытянул шею, привстав на цыпочки, — и вскрикнул. Смерть была совсем рядом. Словно слепая, держа на вытянутых руках грудную девочку, горемычная, шла сквозь расступающуюся толпу белая, как холст Рута. Безжизненно висели прозрачно-синие, весенним сосулькам подобные, детские ручонки с худенькими пальчиками. Глаза девочки, глубоко запавшие под гладкий восковой лобик, были закрыты.
— Рута… зачем ты здесь? — наконец проговорил Лука тихо. В его голосе слышалось такое напряжение, что казалось — чьи-то руки сдавили горло. — Что с Младой?
Рута подняла к мужу белое лицо, и Лука увидел глаза жены — пустые, без слёз глаза. А тихий голос её услышало всё вече:
— Млада с ночи не проснулась… нечем стало мне кормить её… Вот она и уснула крепко… Навсегда уснула наша Млада.
Лука молча принял ребёнка на руки, согнулся, словно под непосильной тяжестью, и тихо побрёл прочь, в полном безмолвии белгородцев: вот и ещё одна жертва печенежского находа… Но только ли печенежской осады эта жертва?
Отойдя несколько шагов от толпы, Лука вдруг распрямился, повернулся к посаднику и громко выкрикнул:
— У меня ещё четыре дочери осталось, посадник! И не становись на моём пути, когда я пойду к твоим или Сигурдовым клетям за кормом! Могута ради них на татьбу пошёл, да ты неправдой засудил его. Мне ли после Могуты сдержаться?
Посадник Самсон содрогнулся — столько решимости прозвучало в словах ратая Луки, — шагнул вперёд, чтобы удержать и тут же наказать непокорного простолюдина. Да не успел и слова в спину уходящему произнести.
На помост неспешно, словно давая всем время успокоиться, взошёл торговый муж Вершко, голову обнажил и степенным поклоном приветствовал белгородцев. Торг приготовился слушать.
— Зрим мы крайний час свой, люди белгородские и вы, ратаи, и иные со степи. Вот и смерть заглянула на иные подворья, выбирая пока самых слабых… Стало быть, пришло время всеобщего дележа кормом. — Вершко степенно повернулся к воеводе Радку. — Пришли дружинников ко мне. Пусть возьмут всё, что есть из брашны, и снесут на княжье подворье. Кому нужнее, тому и подели, воевода. — И вновь к изумлённому вече повернулся: — А кто купу у меня брал в эти тяжкие дни печенежского стояния, тому ту купу я отпускаю безвозвратно. — Снова поклонился и под одобрительные выкрики благодарных людей сошёл с помоста степенно и бережно, пропал в толпе.
— Растворяй и ты свои клети, посадник Самсон! — прокричал кто-то из ратаев. — Пришёл и твой час делиться кормом! О детях наших подумай. Или ты извергом русичам стал?
Посадник Самсон побледнел, сунулся от отчаявшихся людей и руку к мечу протянул, чтобы устрашить неистовых, но воевода не дал ему меча вынуть, сам заговорил, обратясь к Ярому:
— Бери воев и иди по Белгороду. Где что из корма сыщется, взять тот корм и снести на княжий двор. А начнёшь с моего же двора. Никого не обходить стороной. Возьми всё в клетях и у волостелина Сигурда! Верно говорил Лука, по-христиански поступил и Вершко: пришёл тот час, когда всё должно служить не кому-то, но Руси единой. Из того, что сыщется — накормить всех в ночь! И так поступать, на сколько дней хватит собранного.
— Славно молвил, воевода Радко! — прокричал кузнец Михайло. Его шумно поддержали ратаи и белгородцы. Но не всем такое решение воеводы пришлось по сердцу.
— Это татьба, воевода Радко! — вспыхнул от гнева посадник Самсон. — Новый закон не велит входить в чужую клеть!
— Стыдись молвить такое, посадник Самсон, — негромко, с укоризной сказал воевода, и лицо его покрылось румянцем не остывшего ещё гнева. — Бог неба велит помогать ближнему, а не о корысти думать. А теперь нам самые близкие они все, — и воевода Радко широкой ладонью сделал круг, словно охватывая всё вече. — Если же князь Владимир решит, что я — тать, пусть сам и судит меня за это. И двор мой тогда будет тебе за убыток. Мне теперь важно Белгород сохранить и печенегов удержать перед собой, не пустить к другим городам. Не о себе, как видишь, радею — о людях!
— Знать, справим сегодня сытую тризну по себе же! — выкрикнул чей-то недовольный голос за спиной воеводы.
— Тризну надо готовить ворогу, а не о своей смерти помышлять! — снова озлясь, не обернувшись даже, ответил воевода Радко. — Если сил нет больше с мечом выйти в поле — знать, нужна хитрость! Об этом думать надо, а не умирать раньше своего часа! — вновь повторил Радко.
Белгородцы заговорили, расходясь с веча, но теперь уже спокойно и рассудительно, без криков и кулаков над головами. Недовольный посадник смирился — за воеводой была сила — и пошёл вместе с Ярым открывать клети.
После веча воевода Радко пришёл навестить Янка, а заодно со старейшиной Воиком поделиться тревогой. Старейшина сидел на колоде во дворе, грелся на солнце, закрыв веками воспалённые от постоянной пыли глаза — какое ещё дело могло быть в такие годы? Закряхтел было, поднимаясь, но воевода положил на плечо ему тяжёлую ладонь, сказал негромко:
— Сиди, старейшина Воик, не утруждай себя лишний раз, — и сам присел рядом на тёплую колоду, вытянув ноги по высохшей траве, рассказал, что и как было на торге.
— Что же ты хотел, воевода? — ответил старейшина. — Сыздавна ведётся так: муж, видя смерть рядом, прежде всего о детях думает, о продолжении своего рода… Выходит, что пришёл крайний день, коли заговорили люди о том, чтоб своею гибелью детей спасти. Только главное забыли в печали — эти дети уже не продлят рода свободных русичей, но станут рабами в чужих краях.
Старейшина умолк, опустил глаза под ноги, потом внимательно посмотрел на Вольгу, будто тот мог что-то подсказать в такую минуту. «Должно, страшится старейшина, чтобы и мы с Вавилой не попали в печенежский полон», — догадался Вольга. Он сидел рядом с Васильком на пустой телеге, не спуская глаз со старейшины и воеводы. Сидели и слушали, как же порешат быть дальше главные мужи Белгорода?
— Что же нам делать? Ты старший среди нас, присоветуй! — воевода склонился вперёд, заглянул старейшине Воику в лицо.
— Что я могу присоветовать сразу? Ты ступай, а я похожу по городу, подумаю — может, что-нито да высветится в старой голове, людям пригодное.
Воевода Радко, с сомнением покачав головой, ушёл в избу с Янком повидаться, а старейшина подозвал к себе Вольгу.
— Подойди ко мне, внуче. Дай опереться о плечо твоё. Ноги ослабли, не держат, ох-ох… Помнишь, по весне у восточной стены колодец начали рыть, а воду так и не нашли?
— Помню, дедушка Воик, — ответил Вольга, удивлённо глядя на старейшину: зачем тот о пустом колодце теперь вспомнил? — В том колодце теперь мусор да темень страшная.
— Веди меня к тому колодцу. Самому не дойти.
Они неспешно ступали по высохшей и выбитой конскими копытами травной ветоши. Старейшина покряхтывал, а Вольга жалостливым голосом спрашивал:
— Тяжко тебе, дедко Воик? Страшно тебе, да?
— Мне, внуче, страшиться уже нечего по древности лет моих… Тяжко дереву умирать, когда ещё при жизни у него корни пропали. Тогда другое дерево на его месте не взойдёт к небесам. У меня же длинные корни остаются на земле, крепкие.
— О чём ты, старейшина? — Вольга не понял стариковских слов.
— О людях, Вольга. Люди на земле как деревья в лесу. Тысячи их, и каждому падать придётся. Но мудрость жизни в том, что каждому дереву — свой час и свой порыв ветра… Мой час близок, тебе же ещё расти да мужать. Вот этому я радуюсь и грущу в один час сразу.
Говоря так, они вышли к восточной стене и остановились у недорытого колодца, прикрытого жердями, чтобы не попадала туда несмышлёная детвора и скотина. Старейшина постучал посохом по комьям белёсой глины, подтолкнул Вольгу к краю ямы.
— Посмотри, внуче, глубоко ли?
Вольга растащил сухостой в стороны, заглянул.
— Глубоко, старейшина. Дна не видно от тьмы в земле.
Старейшина и сам опустился на колени, заглянул в тёмную глубь колодца.
— Пожалуй, впору будет нам, — проговорил он, вставая и отряхиваясь. Но зачем он понадобился, безводный колодец, Вольга так и не узнал: на все его расспросы старейшина отмалчивался.
— Проводи меня в избу, Вольга. Прилягу. Уходился за день, и в голове будто кузнечики степные в знойный полдень стрекочут.
Вольга, поддерживая под руку, вёл старейшину к дому и косился на закат солнца. «Скоро Сварожий лик опустится ниже частокола и тень покроет наше дворище. Что надумал дедко Воик? Прознать бы как?»
Над зубчатой стеной города показалась краем тёмная туча и замерла, словно хвостом зацепилась за лесистые холмы у края левобережного займища Ирпень-реки.
Вольга, озираясь на тучу — не грянет ли в ночь ливень? — провёл старейшину в избу, уложил за очагом на ложе, близ слюдяного оконца — из него видна закопчённая дверь их кузницы и поросшая бурьяном земляная крыша — и присел у Янова изголовья. Рядом на стульчике сидела Ждана. Мать Виста и Павлина хлопотали по дому, детей меньших спать уже укладывали.
— Ты не спишь, Янко? Молчи, молчи, — зашептал Вольга в тёплое ухо старшего брата. — Я ходил только что со старейшиной Воиком по городу. Он да воевода Радко какую-то хитрость замышляют. А мне так думается, что старейшина хочет печенежского кагана в Белгород заманить да и кинуть в колодец. Тако же и княгиня Ольга с древлянскими мужами поступила. Помнишь, нам старейшина рассказывал? Не веришь? Зачем же он тогда в колодец безводный заглядывал и спрашивал меня — глубоко ли? Только старейшина в тайне держит свой умысел, не сказывает. Спать не буду, непременно высмотрю. И тебе скажу потом.
Янко улыбнулся и подмигнул младшему брату. Перед лицом Вольги промелькнула загорелая рука Жданы. Ждана осторожно коснулась щеки Янка, провела пальцами по затылку снизу вверх, взъерошила волосы, а потом сверху вниз, приглаживая их.
Вольга заглянул брату в лицо — Янко улыбался, похож был на разомлевшего на солнце кота, довольного теплом и сытой жизнью. В избе сумрачно от слабого света лучин на светильнике, но Вольга видел, как лукаво сбежались морщинки у левого глаза — Янко вновь озорно подмигнул брату.
«Что это он? — удивился Вольга. — И она не видит разве, что шея у Янка не мокрая, а она вытирает её без тряпицы? А может…»
Вольга всё понял, смутился.
— Спать пойду я, — сказал он негромко. И подумал: «Ну да, потом они уйдут от нас, себе новую избу срубят! Так всегда взрослые поступают», — в нём вдруг проснулась мужская ревность: так рано остаться в доме без старшего брата!
«Не проспать бы мне, — думал Вольга, укладываясь на полу за очагом, рядом с меньшим братом Вавилой. — Вавила спит, ему нет дела до тайны старейшины Воика. Мал ещё. — Потом, когда подложил ладонь под щёку, вспомнил: — Не забыть бы и Василька поднять. Ему тоже интересно будет про всё узнать первым…»
Долго ворочался на жёстком рядне, шептал:
— Мне спать нельзя. Глаза, конечно, можно прикрыть, пусть отдохнут малость. Днём пыли было много по улицам. Только спать мне нельзя никак…
Поздно вечером старейшина Воик призвал к себе воеводу Радка и долго о чём-то шептался с ним. Вольга не слышал, о чём. Только какие-то непонятные обрывки доносились:
— И чтоб сруб был, как у настоящего колодца. И ещё колодец прикажи изготовить, какой уже есть из глубоких. Опустите по кади в каждый колодец да землю вокруг притопчите… Дружинников отбери самых верных, чтоб не проговорились о тех колодцах ненароком…
Уже засыпая тревожным и полуголодным сном, слышал Вольга, как говорил старейшина что-то про мёд и сыту[109] медовую, про болтушку из муки. И ещё про то, что мы, белгородцы, силу из земли черпаем, а потому, сколько б ни стояли находники под стенами города, русичам не умереть…
Старейшина Воик говорил ещё что-то отцу Михайло, будто напутствовал его куда-то, но Вольга больше ничего не разбирал. Он спал у тёплой стены за очагом, ему снилась медовая сыта и мучной кисель. Вольга пил и ел, до полной сытости хотелось наесться ему, но сытость всё не приходила.
Посланцы в стане врага
Они думают-то думушку заединую,
Заедину ту думу промежду собой.
Былина «Глеб Володьевич»Дубовые ворота крепости, издавая сухой и протяжный скрип, начали медленно раскрываться.
Раскрывались ворота, и медленно раздавался вширь вид на излучину реки, наполненную туманом, белым и рыхлым, как пена парного молока. А за излучиной, на западе, в дымке раннего утра и печенежских костров, виднелись бледно-зелёные, с голубизной, лесистые холмы.
Кузнец Михайло — в шёлковом корзне голубого цвета, подаренном некогда князем Владимиром за славно сделанную кольчугу, — шагнул в ворота, чтобы выйти из Белгорода, но сердцем он был всё ещё там, в родной избе, среди семьи, которую оставил.
— Семьи оставили по доброй воле, а назад вернуться — это уже будет в воле печенежского кагана, — тихо проговорил Михайло. И снова от этой мысли заломило в висках. В висках ломило у него и рано поутру, когда, так и не уснув за ночь, он, едва только обозначился рассвет за слюдяным оконцем, поднялся на ноги. У стены, на широкой лавке, с закрытыми глазами, словно неживая, лежала Виста. Михайло выпил холодной воды, потом чёрными от копоти и шершавыми от железа пальцами прикоснулся к худой, словно детской руке жены.
— Мне пора, Виста.
Она повисла у него на шее и ткнулась лицом в грудь: сквозь рубаху Михайло почувствовал её слёзы. Он неловко обнял жену за плечи и попросил:
— Ты не плачь, Виста, не плачь. Бог не допустит гибели нашей.
Старейшина Воик поднялся со своего ложа, недвижно стоял у очага, будто белый призрак. Михайло сказал ему:
— Ты бы лежал, отче. Тебе покой теперь нужен, столько ведь сил отдал людям…
— Нет мне покоя, Михайло. Схоронил я его на дне колодцев моих. Страшусь одного: вдруг печенеги не поверят нашей хитрости? И Белгород не спасу, и тебя подведу под меч ворогов!
— О том не казнись, отче, — успокоил Михайло старейшину. — Иного пути нет, последний пытаем. Что принесёт — тому и быть.
Михайло прошёл к лавке, где лежал Янко. Прикоснулся ладонью к горячему и потному лбу, спросил:
— Спишь ли, сыне?
— Нет, отче, бодрствую, — ответил Янко и повернул голову влево, чтобы видеть уходящего отца.
Во дворе Михайлу уже ждал ратай Антип. Он спал с женой под телегой, а дети на телеге, с головой укрывшись серым рядном. По краю рядна, где выходило тёплое дыхание, серебрились полосы измороси — свидетель прохладных уже ночей.
Старейшина Воик проводил Михайлу до калитки, шёл рядом и наказ последний давал:
— Будешь стоять перед каганом, держись так, будто за тобой вся сила земли Русской. Эта сила пусть и питает тебя, а не надежда на хитрость. Любую хитрость разгадать можно. Важно — что за ней!
Простился Михайло со двором своим, а когда раскрылись ворота, мысленно простился и с Белгородом и под гул сторожевого колокола с иными заложниками-посланцами пошёл к печенегам.
Услышали находники удары колокола и, бросив утреннюю трапезу, кинулись седлать коней да за луки с колчанами браться. Не зря гудит колокол и не зря настежь ворота растворились — видно, обезумевшие от голода русичи решились на смертную сечу.
Но что это?
Не в бронь одетые дружинники вышли из ворот, а толпа бородатых горожан, и впереди в голубом корзне шёл статный широкоплечий муж.
«Не сам ли князь Руси идёт из Белгорода к нам?» — подумали те, кто видел русичей, спокойно сходящих по крутому уклону.
Сойдя, посланцы повернули влево и чуть холмистым полем направились к печенежскому стану.
По правую руку от Михайлы шёл Ярый — не память, а свидетель походов смелого князя Святослава, того, кто крепкой рукой изрядно тряхнул коварного грека, и Русь при нём возвеличилась. Рядом с Ярым шёл торговый муж Вершко, по земле ступал важно и степенно, как и подобает ходить мужам торговым. А дальше шли Згар с дружинниками.
Шли русичи сильные, уверенные. Згар тяжело ступал за спиной Михайлы короткими ногами, размахивал веткой отцветающего уже чертополоха. Сорвал его возле белгородского вала; колюч, да не из-под печенежских ног.
Вершко обошёл Ярого, тронул Михайлу за рукав корзна. Глаза же его смотрели мимо кузнеца, туда, где густой сосновой порослью поперёк поля вздыбились печенежские копья.
Михайло не отозвался на жест Вершка, ждал. И Вершко заговорил первым:
— Повинен я перед тобой, Михайло, прости, — а сам бороду крутит, будто переломить хочет её. — А коли живыми возвратимся, долг принесу сам. Не возьмёшь долг резанами — железом возьми. Железом возьми, но сними тяжкий грех с души моей и прости, — сказал и дыхание придержал: как поступит теперь кузнец Михайло? Не оттолкнёт ли протянутую для мира руку?
Михайло порадовался про себя. «Переломило-таки в нём доброе. На минувшем вече умно поступил, умно и теперь речь повёл».
— До последнего часа ждал я от тебя, Вершко, этих слов. И старейшина Воик меня в этом убеждал, потому как помнили тебя прежнего, к чужому нежадного.
Вершко облегчённо выдохнул, бороду из кулака выпустил: борода так и осталась чуть согнутой, будто телега её посередине переехала и перегнула. Покосил глаза на Ярого — не слышит ли тот его полушёпот? — продолжил:
— Думал гривны накопить для сына. И накопил. Да сына-то мне твой Янко сберёг, из сечи вынес! Думал корм в клетях сохранить да продать потом дорого, да прав воевода Радко: возьмут печенеги Белгород, и сам я в торг пойду в железных цепях. А то посекут из-за никчёмной седой старости. Каков из меня по ветхости раб-работник? Ремесла никакого не знаю, а торг вести и без меня есть кому за морем. Ночь минувшую не спал, всё думал… Вот и иду кривую душу выправлять да за Белгород постоять сообща с тобой.
— О Белгороде и будем теперь думать, друже Вершко, — сказал Михайло и назад обернулся — за спиной тысячью голодных глаз, затаившись в последней надежде на избавление от долгой осады, следил за ними родной город.
Расступились темноликие и усатые нукеры, копья подняли — не биться же войску с безоружными! Русичи идут малым числом к шатру великого кагана, так пусть он с ними и говорит, мечом ли, языком ли — то его власть.
Не горбясь, взошёл Михайло на вершину невысокого холма — старого могильного кургана. Каган сидел на ярко-красном ковре перед белым шатром. «Будто в луже крови», — подумал Михайло, и на душе стало скверно от неожиданно возникшего сравнения. Каган смотрел на русичей узкими глазами холодно, не мигая, потом нехотя шевельнул губами и кого-то позвал:
— Самчуга!
Будто ворон осенний каркнул. Тут же появился невысокий в простеньком потёртом халате печенег лет сорока с густыми и чёрными усами и тонкой бородкой. Упал на траву коленями, не смея ступить на край тёплого ковра. Каган заговорил, а Самчуга переводил его слова на язык русичей, только излишне растягивая:
— Вы хорошо сделали, что пришли. Давно пора вам открыть ворота и не морить себя голодом. И милость несравненного по доброте своей нашего кагана к вам была бы беспредельной. А теперь нукеры кагана полны обиды за долгое стояние у стен крепости, и пресветлый каган не может поручиться, что чья-то кровь не будет пролита, когда войско войдёт в ваш Белый город…
Тимарь что-то прокричал, и Самчуга, низко кланяясь, перевёл его слова:
— Великий каган сказал, слово его нерушимо — кровь прольётся, если кто из урусов обнажит меч против нукеров прехраброго кагана. Если же вы сдадитесь по доброй воле, то дома ваши будут целы и вашим жёнам и детям будет сохранена жизнь, потому что великий каган пришёл только за данью. А ещё великий каган хочет знать, далеко ли теперь князь Киевский Владимир и почему он не шлёт выкуп за Белый город?
Михайло выслушал толмача, заговорил неспешно, так, чтобы Самчуга мог перевести его слова Тимарю:
— Не с тем пришли мы сюда, о том ты скажи ему, — Михайло смотрел не на толстого кагана, который сидел на бархатной подушке, поджав под себя ноги в просторных шароварах, а на робкого толмача. — Мы пришли сказать, чтобы уходили вы в свои земли, не приняв большой осрамы перед другими народами.
Сказал так Михайло, и волнение пропало в душе, потому и глянул смело в лицо кагана. У Тимаря дрогнули нависшие веки, едва Самчуга перевёл ответ. «Про князя нашего спрашиваешь, где он? Боишься его, барс суходольный!» — так подумал Михайло, а вслух сказал:
— Вот уже много дней стоишь ты, печенежский каган, под крепостью, и всё без пользы. Гибнут твои люди, гибнут и кони, а степь за спиною уже к осени готовится. Потому и прислал меня воевода сказать: уходи в свои края, не губи людей понапрасну, потому что хоть и десять лет простоишь здесь, крепости тебе не взять всё одно!
Едва Самчуга умолк, как Тимарь взвился на ноги, отшвырнул прочь бархатную подушку, но её ловко поймал красивый печенежский князь.
— Как? Упрямые русичи не хотят открыть ворота? На что же они надеются? И что собираются есть десять лет? В крепости не осталось ни одного коня, это великий каган давно уже знает! Если так, то никто из вас не останется в живых! — кричал Самчуга, подражая тону Тимаря, повторяя угрожающие жесты худой и коричневой рукой.
Михайло спокойно шевельнул плечами, сдержался, чтобы улыбкой не обидеть заносчивого кагана.
— Не надо зваться великим, чтобы сказать такое про коней. Их пасти — поле нужно. Да, мы съели коней, но силу свою мы берём от земли, и она есть у нас под ногами! Наша сила — в земле!
У Тимаря задёргалось веко, но тут к нему приблизился длиннорукий старик и что-то зашептал из-за спины. Тимарь успокоился, мягкая улыбка промелькнула на широком лице. Он снова опустился на бархатную подушку, которую подсунул ему молодой князь Анбал.
— А если великий каган велит срубить ваши головы, вы и тогда будете утверждать, что зря стоит печенежское войско под стенами города? — так перевёл Самчуга мягкий полушёпот кагана.
Михайло теперь не скрыл усмешки, но не обидной, а полушутливой:
— Если срубите нам головы, кто же с каганом говорить будет? Головы срубить вы успеете и потом, если увидите, что в наших словах нет правды. А чтобы увидеть, пусть пошлёт каган своих доверенных мужей в Белгород и пусть они, возвратясь, сами скажут, страшна ли нам ваша осада? С тем и пришли мы в ваш стан.
Тимарь что-то сказал прочим князьям и ушёл с хромым стариком в шатёр, а нукеры толпой со всех сторон кинулись к посланцам, чтобы вязать их. Команды подавал молодой князь.
Михайло даже не шевельнулся, когда двое, пропахшие конским потом, повисли на его руках. Но увидел, как дюжий Вершко играючи скинул с плеч печенегов и, озлясь, кулаки изготовил, чтобы встретить встающих с травы ворогов по русскому обычаю — добрым ударом в висок. Крутогрудый Згар с товарищами мигом встали спина к спине: ну, степь, налетай! Испробуй силу русского кулачного боя!
Но Михайло зычно крикнул своим:
— Будьте спокойны, други! Каган хочет испытать силу нашего духа и твёрдость слова! Стойте на своём до последнего вздоха!
Вдруг сорвался с места высокий и черноусый печенежский князь, тот, что командовал нападавшими. Размахивая обнажённым мечом, он запальчиво что-то кричал Ярому, который спокойно вытирал ладонью морщинистое лицо — кто-то из печенегов в короткой схватке всё же задел его, разбил губу. Ярый посмотрел на ладонь с кровью, усмехнулся и сказал толмачу Самчуге:
— Переведи, добрый человек, молодому князю, что на Руси издавна считают так: кто кричит — тот боится, а кто грозится — тот, значит, слаб! Нам же что за смысл грозить, мы своей волей пришли в ваш стан. Видели мы князя у брода через Рось, видели и у стен Белгорода. Что же не хватал он нас в полон?
Самчуга торопливо перевёл князю Анбалу слова Ярого, князь зло плюнул под ноги, вскинул было плеть над головой, но грозный окрик старого хромоногого Уржи остановил его. Нукеры окружили русичей и, что-то говоря по-своему, отвели их вниз с холма, жестом дали знать — ждите решения великого кагана здесь.
* * *
— Никого не подпускать близко, — распорядился Уржа. На искажённом шрамами лице старшего нукера кагановой охраны не отразилось ничего: молчаливым поклоном он дал понять князю, что его повеление будет исполнено и что никто не услышит ни единого слова, которое произнесёт великий каган в своём шатре.
Уржа подошёл к Белому Шатру. «Тимарь теперь, наверное, места себе не находит от упрямства русичей, — усмехнулся Уржа. — Ждал слов покорности от прибывших переговорщиков, а они советуют кагану убираться в свои вежи». И неожиданно с завистью к брату подумал, что править Тимарь любит, а грязную работу за него делает он, Уржа, которого во всех печенежских стойбищах — он знал это — зовут Тарантулом. Этим прозвищем пугают младенцев. Вот если бы у него в собственном шатре подрастал молодой орёл, как Араслан у Тимаря, тогда ещё неизвестно, кто сидел бы сейчас на красной подушке каганов — он или его брат Тимарь! Потому и озабочен Уржа — сберечь власть для рода, для Араслана. Вот теперь, кажется, у него созрел замысел убрать самого опасного врага — Анбала, внука бывшего великого кагана Кури… А родичи Анбала потом покричат да и успокоятся, когда-то ещё такой отваги князь среди них появится?
Уржа оглянулся — русичи, окружённые нукерами, усаживались у подножия холма на траве, о чём-то переговариваются между собой, на свою крепость оглядываются. И князь пристально посмотрел на Белгород: самому бы сходить туда и всё выведать, но другое надумал он — пошлёт недруга…
У входа в Белый Шатёр князь Уржа резко остановился — чуткое ухо привычно уловило отдалённый топот скачущих коней.
— Кто скачет? — спросил он у старшего нукера, который стоял по ту сторону шатра.
Некоторое время было тихо — нукер всматривался во всадников — потом хриплым голосом ответил князю:
— Гонец спешит, князь. Кони, вижу, сбиваются в беге, притомлены дальней дорогой.
Князь Уржа по примятой траве обошёл шатёр, встал, прикрыл глаза от полуденного яркого солнца: скакали двое. На лёгком ветру трепетали длинные конские хвосты, привязанные под наконечниками копий.
— Пусть старший из них войдёт в шатёр! — от нетерпения Уржа напрягся всем телом, по запылённым лицам гонцов пытаясь заранее предугадать, с доброй ли вестью прискакали издалека. Одно понял сразу — не из Саркела гонцы!
Худощавый, обветренный всадник ловко отстегнул пояс с оружием, бережно положил на траву копьё и щит и только после этого в сопровождении настороженно следящего за ним телохранителя приблизился к Урже и пал ниц перед ним.
— Выследили, князь.
— Говори! — поторопил Уржа, с трудом сдерживая нетерпение. Позавчера на рассвете дозорные известили кагана, что по Днепру мимо Киева спустилась на больших лодиях сильная дружина урусов. Тимарь повелел узнать — куда идут урусы, что замышляют? Может, надумали вместе с тмутараканцами ударить и разорить каганову столицу?
— Под вечер урусы пришли в город Родню, — прошептал гонец, приученный передавать плохие известия едва ли не в большое волосатое ухо князя Уржи. — Опасались урусы наших доглядчиков, потому и сидели до тьмы в лодиях. Когда стемнело, вошли в город. Сколько — сосчитать не удалось, но не малая дружина, тысяч до пяти.
Уржа молчаливым взмахом руки отпустил гонца, постоял минуту, осмысливая услышанное, поторопился в шатёр.
В окружении пятерых самых надёжных телохранителей, закусив губы, стоял насупленный Тимарь. За спиной брата, обнажив меч, сверкал чёрными глазами Араслан — этот готов хоть сейчас кинуться в драку с родственниками Анбала, ему мало заботы, что, по всей видимости, князь урусов Владимир уже подошёл с дружиной под Киев или где-то совсем близко. А стало быть, в любой день может ударить по войску. До свары ли между собой?
— Всех! Всех надо с корнем выдрать, как занозу из ладони! Останется под кожей колючка — меча в руке не удержать! — такими словами встретил вошедшего Уржу молодой княжич. — Самовольничает Анбал! Перед своими родственниками себя возвеличивает, без дозволения великого кагана на переговорщиков набросился. Не ждать нам добра от родичей Кури!
— Всему свой черёд. Когда выдёргиваешь большую колючку, из-под кожи идёт кровь. Маленькую колючку тело само выжимает прочь, безболезненно. Гонцы прискакали от Родни, брат, — негромко сказал Уржа.
Настороженным взглядом встретил Тимарь слова о гонцах: добрых вестей он не ждал. Чтобы скрыть противную дрожь в пальцах, накрепко сцепил их на груди. Подрос Анбал — и конец его спокойного правления. Теперь каждую минуту жди в спину отравленную стрелу, любой час может вспыхнуть, подобно степному пожару от молнии, княжеский мятеж. И где? Если бы в родном становище, а то на земле урусов. И почему мешкает брат? Можно нанять кого-нибудь и сразить ночью стрелой из приречных зарослей — сказали бы, что урусы подстерегли. А теперь и своего сына беречь надо пуще глаза — родичи Анбала тоже умеют стрелы по ночам пускать!
— Со дня на день подойдёт к Кыюву, если не подошла уже, дружина кагана Владимира, — негромко сказал Уржа. Тимарь поджал губы — досиделись под Белым городом! Дождались выкупа!
— Точно ли каган урусов пришёл?
— Дружину в Родню выслал, пешую, — сообщил Уржа. Сел на ковёр около красной подушки, сцепил длинные жилистые руки на коленях. — Почему каган урусов не послал дружину под Белый город на нас?
— Не вся ещё собралась из полуночных земель, — догадался Тимарь. — А эта мала против нашего войска. Со спины зайти хочет, броды перекрыть.
Уржа молчаливым кивком головы согласился с братом — должно быть, так.
— Торки сошлись единым становищем. И тоже под Родней. Они и дадут урусам коней. Их отряды уже перехватывают наши заставы, ловят гонцов и вяжут их.
— С каганом урусов снюхались, безродные шакалы! — Тимарь не выдержал и, размахивая кулаками, заметался по шатру. — Найду я на них силу! С собой звал в поход — не пошли, слабосильными сказались. Придёт срок — рабами будут! — и погрозил в сторону далёкого Заросья, где кочевали торки.
— Своих бы в узду взять крепче, — охладил Уржа раскричавшегося Тимаря. Подумал с осуждением: «От настоящего кагана должно пахнуть конём, а не розами! Тогда и нукеры трепетать перед повелителем будут. Перед его грозным мечом, а не перед старым… Тарантулом!»
— Нам ещё продержаться надо лет пять-шесть, — вслух подумал Уржа. Тимарь понял брата, опустил поднятые в бессильных угрозах кулаки, вспомнил о посланцах.
— Из головы не идут вон слова уруса, старшего среди пришедших посланцев. Чем живут они в своём городе? Почему не дают выкуп?
Уржа пожал плечами — кто поймёт этих коварных бородатых людей?
— Надо идти в Белый город, — решил Тимарь. — Там и смотреть их тайну. А потом крепко думать, как уйти из урусской земли, не потеряв чести, а то и голов своих. Кого послать?
Тимарь вполоборота встал к Урже, поймал языком жёсткий ус, пожевал его влажными губами. Уржа, не вдаваясь в подробности, сказал:
— Князь Анбал пойдёт в крепость урусов. Пусть он всё увидит, переговорит с урусским воеводой… с глазу на глаз, придёт и расскажет всё кагану, правда ли, что урусов земля кормит?
Уржа поднял глаза на Тимаря — брат умолял: спасай кагана, спасай род! Озлится войско на безуспешный поход — обоим не жить, а роду не править союзными князьями!
— А мы войску объявим, что князь врал нам, что его купили за золото.
Тимарь облегчённо выдохнул — хитро задумал брат! Не убить Анбала, а казнить за измену! Хлопнул ладонями. Нукер у входа кашлянул — он слушает великого повелителя.
— Пошли Самчугу к посланцам урусов, пусть зовёт их к Белому Шатру выслушать волю кагана. И князей вели позвать на совет!
Затопали быстро удаляющиеся шаги — нукер побежал звать к Белому Шатру каганова толмача Самчугу.
* * *
Через некоторое время толмач Самчуга спустился к русичам и сказал, не убирая насмешливой улыбки с худого хитрого лица:
— Великий каган повелел ждать его решения, как поступить с вами, урусы. Он теперь совет держит с братом своим князем Уржой. Когда выйдут оба из Белого Шатра к прочим приглашённым князьям — надо вам подняться к нему, — и, словно приглашая к дальнейшему разговору, лукаво подмигнул Михайло правым глазом.
Михайло понял толмача, привстал с травы, подошёл к печенегу и неприметно для охраняющих русичей нукеров вложил в сухую ладонь толмача несколько монет. Самчуга тут же упрятал арабское серебро в карман ношенного не один уже год серого халата, улыбнулся знатному урусу со свежим ещё шрамом на лбу, давая снова знать, что готов выслушать его, если тот спросит о чём-то. Михайло спросил:
— Скажи, добрый человек, что за новость принёс кагану спешный вестник, только что бывший у Белого Шатра?
Самчуга на всякий случай оглянулся — близко ли стоят кагановы нукеры? — потом, почти шёпотом, ответил:
— Сильная дружина вашего князя по реке на лодиях спустилась к городу Родне и вошла в тот город. Туда же и кочевые по реке Роси торки сошлись всей силой. Каган страшится, как бы то войско да не начало нападать на его стан со спины. А ещё он страшится, что каган урусов скоро со всей дружиной подступит к вашему городу, тогда быть крепкой сече…
«Вона как! — обрадовался Михайло. — Стало быть, князь Владимир уже принял меры к изгнанию печенегов с земли Русской! Это воеводе Радку будет в радость узнать».
— Скажи мне, не думает ли каган уходить в степи? — И ещё несколько монет исчезли в ладони Самчуги.
Самчуга искоса глянул в сторону каганова шатра, ответил:
— О том и спорят теперь князья. Отсылая меня к вам, каган созвал в шатёр князей узнать их совет, а поступить, как сам порешит. Мне же известно, что иные князья хотят уйти, другие хотят стоять здесь до конца вашей жизни. Чей верх возьмёт? — Самчуга тут же торопливо отошёл: к русичам приближались три нукера, делая знаки следовать на зов повелителя степей.
Крики у холма оборвались разом: появился Тимарь и хромоногий старик — князь Уржа, как понял Михайло из рассказа толмача. Когда русичи остановились неподалёку, Самчуга перевёл слова кагана:
— Я проверю, правду ли вы говорили здесь. Я пошлю своих мудрых людей в вашу богом проклятую крепость. Их поведёт князь Анбал, внук великого Кури! — последнее пояснение Самчуга явно добавил от себя, чтобы урусы знали, кто к ним отправится разгадывать великую тайну Белгорода.
Старик Уржа прохромал по ковру и остановился перед Михайлой в двух шагах.
— Мы пойдём в вашу крепость, — шептал, не вставая с колен, из-за спины Уржи толмач. — И горе будет вам, упрямые урусы, если ноги зря покроются пылью вашего города. Запомни это, знатный урус. И подумай ещё раз, зря ли стоит войско великого кагана перед стенами? Не пожалеть бы потом, с жизнью прощаясь.
Чёрные глаза старика за густой сеткой морщин светились злобой.
Михайло пересилил взгляд старика своим непреклонным взглядом, степенно поклонился кагану и отступил к своим сотоварищам. За спиной тяжело вздохнул сотенный Ярый.
* * *
Постоянное, не осознанное ещё до конца беспокойство владело Иоанном Торником все последние дни стояния под Белгородом. После неудачного приступа каган Тимарь редко появлялся среди князей да и Торника больше к себе не приглашал. Если же доводилось встретиться, то смотрел задумчиво, скользя взглядом мимо лица грека, будто напряжённо пытался что-то припомнить, давно забытое и теперь такое нужное. Торник понимал, что теряет покровительство Тимаря, а без этого покровительства ему не выбраться из печенежской степи.
Душевное волнение рождало беспокойные сны. Были ночи, когда к нему являлся истерзанный до неузнаваемости брат Харитон, брошенный якобы в тёмный погреб. То сам себя со стороны видел вздёрнутым на дыбу, а под босыми ногами полыхала страшными огнями углей жаровня, которую палач поднимает всё выше и выше… Иоанн вскакивал среди ночи мокрый от пота, выбегал из шатра и торопился остудить горячие ступни в холодной росе. И дышал глубоко, словно хотел вытравить из груди прогорклый копотный смрад только что привидевшегося подземелья.
И вот сегодня он впервые, вновь проснувшись с головной болью, с горечью подумал, что зря дал согласие Харитону навести печенегов на Русь, зря нарушил повеление всесильного императора, погубил младшего василика Парфёна…
— Брат Харитон, да жив ли ты в этот час? И что ждёт меня, когда сойду я на берег милой отчизны? Почёт ли? А может, скользкая намыленная петля? Или страшная темница-яма с голодными хищниками?
Нежданная, странная отправка князя Анбала окончательно расстроила Иоанна Торника. Та лёгкость, с какой Уржа расправлялся с сильными противниками Тимаря, заставила его призадуматься о собственной судьбе, и не на далёкой родине, а здесь, среди чужих людей. Что замыслил он, того и достиг — печенеги вновь принудили князя Владимира заняться бережением своих городов. Но не достиг задуманного печенежский каган! Что получили от этого набега печенежские князья? Крохи, собранные по окрестным селениям, откуда разбежались русские ратаи. Но в землянках ли ратаев собирать золото и драгоценные паволоки? Золото и дорогие камни есть у торговых мужей в Белгороде и в Киеве, да не войти туда никак!
Приход белгородских посланцев поначалу вселил в Торника угасшую было надежду на счастливый исход собственной судьбы. Если пришли к кагану, значит, будут мира просить, дадут выкуп — откроют русичи ворота крепости, и поимеют печенеги немалый прибыток.
Издалека, не решаясь вмешиваться, смотрел Иоанн на русичей, гордо стоящих перед Тимарем. С каждой минутой сомнение всё больше и больше вкрадывалось в его сердце: так ли просят о сохранении жизни, отдавая имущество?
Когда Анбал с иными отъехал к Белгороду, а русские посланцы отошли от каганова шатра к подножью холма, Иоанн не выдержал, решился сам о всём проведать, оставил свой шатёр. Алфен с прочими посольскими стражниками отлёживались под возами, беспрестанно пили прохладный кумыс и азартно, до ругани и крика с зуботычинами, играли в кости. Наказав Алфену смотреть за возами, Торник через пожухлое поле направился к Белому Шатру. Шёл и сам ещё не знал, расспрашивать ли будет Тимаря или совет какой дать решится. Но какой?
Прежде чем нукеры позволили войти к кагану, Иоанн вдоволь насмотрелся на высокие стены Белгорода, на закрывшиеся за Анбалом ворота крепости, словно от этого пристального взгляда ворота могут распахнуться и взору предстанут события, которые теперь начались, в городе, а он о них ничего не знал.
Тимарь выпроводил из шатра брадобрея и толмача Самчугу, молча кивнул греку в ответ на его пышное приветствие и пожелание долгого счастливого царствования.
— Я слушаю тебя, мой многоопытный советник, — проговорил Тимарь, а в его словах слышалась горькая ирония, будто каган выпил перекисшее на жаре вино. И глаза Тимаря не приветливы, как то раньше бывало, а прикрыты толстыми веками, словно печенег прячет под ними злые огоньки.
— Страшусь я, о великий каган, не сотворили бы русичи князю какой беды, — издалека начал речь Торник.
Тимарь тут же прервал его:
— О том тебе какая печаль? Или породниться с Анбалом хочешь?
Торник растерялся от такого неласкового выкрика, не нашёлся что ответить, спросил только:
— Что русичи замышляют? Зачем пришли сами и позвали князя в свой город?
Тимарь улыбнулся, глянул на Торника, как на несмышлёного дитя, языком втянул правый ус в рот, но тут же вытолкнул. С издёвкой произнёс:
— Говорят, будто новый бог сделал так, что земля их кормит. Ты бывал прежде в их городе?
— Нет, — поспешил соврать Иоанн, не зная, о чём может последовать очередной вопрос.
— А может земля кормить людей десять лет?
Иоанн мучительно ломал голову: «Что имели в виду хитрые русичи, сказав такое печенегам?»
— Вижу — сомневаешься, мой многоопытный советник, — недобро, с полуугрозой в голосе произнёс Тимарь. — И мы с братом сомневались, слушая бородатых урусов. Потому и пошёл Анбал посмотреть на такое чудо вашего небесного бога. Надо было бы и тебя послать с ним.
Тимарь резко поднялся с бархатной подушки, мягкой ладонью огладил только что выбритое лицо, словно проверяя, старался ли Самчуга своей бритвой?
Торник торопливо привстал на колени, не смея распрямить ноги, чтобы не возвыситься над каганом.
— Иди к урусам, узнай, что замыслили лесные медведи. И что ждёт посланцев в крепости. Если не вернётся Анбал, то я с них шкуры поснимаю живьём!
Каган стиснул пальцы в кулаки, резко отвернулся от Торника, обдав его запахами благовоний от дорогого парчового халата.
Иоанн Торник тут же поспешил покинуть шатёр — чего доброго, ещё и нукеров крикнет вытолкать взашей! Постоял у входа, чтобы опомниться от неласковой встречи с каганом.
«Будто презренного холопа выгнал, — с горечью подумал Иоанн, и от обиды закипала злость в душе гордого грека. — Много позволяет себе грязный печенег! Забыл, верно, что я посол императора», — но при воспоминании о божественном василевсе сырым холодом потянуло вдруг от чужой земли, неласковой и враждебной.
Торопливо скинул с плеч дорожный халат, бросил его под ноги, помял. Когда надел, то стал похож на конюха, а не на важного василика великой державы. Снял с пальцев перстни с фальшивыми камнями, притрусил руки тёплой пылью из-под чужих ног и таким явился перед русскими посланцами. Русичи сидели под деревом в ожидании своей участи, сидели спокойно, без волнения и страха поглядывали на печенежское войско, на суровых стражников вокруг них, которые шагах в двадцати маялись под солнцем, опираясь на чёрные хвостатые копья.
— От кагана я к ним, — чуть слышно проговорил Торник ближнему нукеру. Удивление на лице печенега тут же сменилось унылым равнодушием.
Русичи встрепенулись, когда за их спинами раздалось приветливое пожелание:
— Да поможет вам великий бог в отважном промысле ради спасения города своего, смелые василики.
— И тебе бог в помощь, добрый человек, — откликнулся русич в голубом корзне, а старый дружинник с длинным, каким-то ежиным носом и со шрамом под левым глазом скорбно улыбнулся и глухо сказал:
— И тебя не минула лихая беда, греческий посланник. Не дошёл до своего Корсуня. Упреждал ведь тебя Славич, чтоб остерегался ты степняков в долгом пути. Надо было Днепром плыть.
— Все под богом ходим. То в его власти — освободить меня и вас, — смиренно отозвался Торник. — Подстерегли посольский караван печенеги, побрали возы с мехами, слуг повязали в полон. Только одного и отпустили за море с письмом к брату: требуют выкуп немалый, не верят, что послан я на Русь как василик императора, — врал Торник, видя, что его слова вызывают сочувственную печаль в глазах доверчивых посланцев Белгорода.
— Прискорбно всё это, — отозвался русич в голубом корзне. Загорелое лицо его было Торнику незнакомо, а старый дружинник, выходит, из той заставы, что провожала его за кон земли Русской. — Положись на силу своего разума и уходи от печенегов, пока они по Руси бродят, а не у себя в степи. Там не уйдёшь от них.
— Они и здесь стерегут меня крепко. На золото теперь у меня вся надежда. Только оно может сохранить жизнь, — продолжал сетовать Торник и, будто сокрушаясь, развёл руками в стороны. — До слёз жаль мне храбрых белгородцев. Вас отсюда в полон могут увести, тем жизни сохраните. А тех, кто затворился в городе, что спасёт? Ведь их ждёт лютая смерть. Разве не так?
Сказал и спохватился: поспешность и лёгкость, с которой он проговорил страшный по своей сути вопрос: «Разве не так?» — могли насторожить русичей. Но они если и уловили неискренность в его словах, виду, однако, не подали ни взглядом, ни жестом. И никто из них не сделал попытки успокоить его, утешить, чем же именно будут питаться жители Белгорода десять лет, о которых они известили печенегов.
— Сам же сказал, что все мы под богом пребываем, — с лёгкой усмешкой отозвался пожилой дружинник, тут же повёл светлыми глазами в сторону Белого Шатра. — Нет ли какой усобицы среди степняков? И почему послали юного князя? Не прослышал ли об этом, бродя среди ворогов беспрепятственно? Знать бы, какие вести привёз гонец?
При слове «беспрепятственно» бородатый русич в голубом корзне чуть заметно улыбнулся в усы, с любопытством поднял глаза на Торника, будто спросил: «Что скажешь на это, грек?»
Если бы Торник знал, о чём успел шепнуть русичу толмач Самчуга за несколько серебряных монет!
— Гонец прискакал из Саркела, от жён кагана. И усобиц давно нет между князьями и великим каганом, — врал Иоанн, лишь бы напугать упрямых русичей. — Правда, прознал я об одном случае, когда сотник обесчестил дочь одного князя и сам за это лишился головы…
— Что же, случается такое и у нас на Руси, — отозвался старый дружинник с ежиным носом, добавил: — Стражники беспокоятся, добрый василик. Не велено к нам никого пускать для разговора. Как бы худа тебе не сделали, если каган прознает.
Нукеры стояли, как замершие истуканы. Торник понял, что он для русичей стал неинтересен. И ему тут больше делать нечего, не доверились они ему. Что скажет он теперь кагану? Опять неудача!
Вновь и вновь озирался Торник на закрытые ворота крепости — не идёт ли назад князь Анбал?
Тимарь, кривя толстые губы, выслушал слова Торника о беседе с посланцами, с напускной лаской утешил его:
— Иди, мой добрый гость, к своим людям и не страшись ничего. Наши дела вас не коснутся. Чтобы другие князья случайно не обидели, велю нынче же крепкую стражу у возов поставить.
Торник молча сглотнул ещё одну обиду, но изобразил на лице вымученную улыбку и, кланяясь, покинул ненавистный Белый Шатёр.
С такой же ненавистью оглядывался, направляясь к своим возам, Иоанн Торник и на упорный Белгород с его нераскрытой тайной.
«Сидеть бы мне теперь вместе с Парфёном Стрифной в Киеве, за высокими стенами да под защитой дружины княжеской, ждать светлого часа послужить божественному василевсу… Эх, брат Харитон, что надумал ты!»
Печенежские посланцы с князем Анбалом всё не возвращались.
* * *
Черниговского торгового мужа Глеба первым заметил Вершко — тот спешным шагом шёл от зарослей Ирпень-реки, а пообок с ним два верховых печенега. Шёл в добротном корзне алого цвета, в куньей шапке, под распахнутым корзном на дорогом поясе покачивался меч в чёрных ножнах.
— Смотрите, други, ещё один посланец к печенежскому кагану, — прошептал изумлённо Вершко и тронул Михайлу за плечо. — Должно, воевода послал к нам нечто важное сказать…
До черниговца было уже полсотни шагов, он видел посланцев, но шёл мимо, не делая попытки свернуть в их сторону. Михайло вскочил с примятой травы.
— Зачем он здесь?
— При оружии и не бьётся с находниками! — подал голос Ярый и тоже встал на ноги. — Не похоже, что к нам послан…
И тут Михайло вспомнил недавнее вече, крики черниговского мужа открыть ворота перед печенегами, за пожитки спасти свою жизнь.
— Неужто измену затеял черниговец? Неужто хитростью из крепости ушёл, теперь спешит тайну нашего города ворогам выдать?
— Изловить надо! — Згар сделал попытку кинуться наперехват черниговцу, с ним же и остальные пять дружинников, но Михайло остановил их.
— Того делать нельзя, Згар. Печенеги догадаются, что пришёл черниговец с важной вестью, не дадут подступить к Глебу. — Михайло повернулся к Ярому — сотенный нервно теребил руками пояс, но ни меча при нём, ни тугого лука нет сразить продавшего своих единоверцев.
— Стойте здесь, как и подобает стоять посланцам, будто вам до черниговца нет никакого дела. Он — мой кровник!
Михайло перекрестился и решительно направился к Глебу.
Глеб чуть замедлил шаг, на продолговатом загорелом лице только на миг легла печать озабоченности, которая тут же сменилась вызывающей дерзостью — что же предпримет доверенный воеводы Радка? Не на вече они теперь, а в поле. Да и без меча идёт к нему кузнец! Сопровождавшие его печенеги остановились, не осмеливаясь копьём в спину подтолкнуть, чтобы шёл далее: видели, не простой урус вышел из города и торопится к кагану.
— Зачем ты здесь, черниговский гость? И что задумал, оставя город и направляясь к Тимарю? — Михайло заступил дорогу, встал крепко, не обойти, силу не применив.
Глеб вызывающе усмехнулся, помедлил, раздумывая, говорить ли с кузнецом, но не совладел с нервами и вспылил:
— Не твоё дело мои поступки судить, простолюдин! Иду к кагану выкупить свободный путь до своего Чернигова. До вашего города мне дела боле нет!
— Отсчитай нужное число гривен, и я сам войду в шатёр кагана с твоей просьбой. Воевода Радко только мне дал слово говорить с печенежским князем.
— Как задумал — так и сотворю! — выкрикнул черниговец, уперев руки в пояс. — Сойди прочь с дороги, или я вспомню твой вызов на судное поле! Смерть себе ищешь раньше срока!
— Русь вознамерился предать? Мнишь, взяв Киев, печенеги до Чернигова не дойдут? И не гривнами намерен, вижу я, откупить себе волю, а тайну Белгорода выдать находникам…
Глеб ступил навстречу, угрожающе крикнул, прервав Михайлу:
— Поди прочь с дороги, не то порешу!
Михайло не отступил, начал развязывать пояс поверх корзна.
— До кагана тебе надо ещё дойти! Биться будем на кулаках до смерти! — Михайло сердито глянул на остановившегося в недолгом раздумий черниговца, скинул голубое корзно. Глеб снял кунью шапку, свернул и положил на траву корзно, отстегнул пояс. Делал всё это медленно, словно всё ещё надеялся, что кузнец Михайло устрашится судного поля и уйдёт прочь с дороги: голыми ли руками сдержать сильного мужа, на поясе которого висит острый меч? Усмехнулся зловеще, наблюдая, как Михайло проворно закатывает рукава длинного платна.
— Готов ли? — спросил Михайло, становясь боком к супротивнику.
— Ну так смерть тебе, простолюдин! — с презрением выдохнул черниговец, выхватил меч из широких ножен и ступил на шаг вперёд.
Михайло с пустыми руками оказался против меча. Услышал, как за спиной выкрикнул что-то угрожающе Згар, возмущённо зароптали дружинники, но Ярый тут же их начал успокаивать властным голосом.
— Вот ты каков, гость черниговский! Вместо судного поля умыслил подлое убийство! Так не ходить тебе боле по Русской земле!
— На помосте ты и без меча куда как смел был! — издевался Глеб, надвигаясь на Михайлу, который всё так же стоял недвижно, загораживая дорогу к Белому Шатру.
«Порешит насмерть и не моргнёт подлыми глазами», — подумал Михайло в растерянности, не зная, что же теперь предпринять ему. Сделал последнюю попытку образумить черниговского гостя:
— Коль осталась в тебе хоть малая доля совести, садись среди нас! Вместе в Белгород возвратимся, и никто тебя бранным словом не упрекнёт. Одумайся, Глеб, ведь не варяжич ты и не булгарин с далёкого Итиля[110]! Одной земли мы дети!
— Смерть тебе! — выкрикнул черниговец на слова Михайлы и резко взмахнул мечом. Михайло отпрянул в сторону, успел скрутить корзно в тугой узел и свернуть его вдвое — отбить меч предателя было нечем. Он мог положиться только на силу ног и ловкость тела. Надо выбрать короткий миг, когда меч черниговца после взмаха окажется у ног, чтобы тут же сойтись грудь в грудь и задушить ворога руками, как душат змею, перехватив её за головой.
Единоборцы, словно два настороженных барса, ходили по траве кругом, и Михайло видел за спиной черниговца то посланцев с Ярым впереди — стоят, закаменев от напряжения, — то нукеров кагана и Белый Шатёр на холме, то далёкий Белгород с крепкими воротами, за которыми скрылись посланцы кагана. А теперь вот за спиной черниговца видны вновь густые и разноцветные уже заросли по берегу Ирпень-реки: крикливая сорока металась с ветки на ветку низкорослого карагача…
Нукеры кагана — нежданный поединок урусов был им в забаву — криками подбадривали единоборцев. Впереди рослых печенегов толмач Самчуга с удивлением взирает на знакомого ему важного русича, нежадного на арабское серебро. Михайло, заглушая крики черниговца — не проболтал бы чего о Белгороде! — кричал:
— Смерть тебе, кровник! Смерть на этом судном поле!
Несколько раз он скрученным корзном удачно отбивал меч черниговца в сторону, но всё же тот сумел достать левое плечо: сквозь разрезанное платно потекла кровь. Михайло понял, что безоружным долго не устоять. Ему ведь надо не себя спасти, а, напротив, врага удержать! Но чем? Как?
«Самая малая оплошность и…» — Михайло подобрался, напружинил сильные ноги. «Свалит меня ворог, кто тогда остановит Глеба? Кинется Згар безоружный и сам ляжет… Либо печенеги вмешаются, погибнут посланцы, все помыслы воеводы Радка порушат, и крепости не стоять долго!» И вновь отпрянул на шаг — меч со свистом сверкнул на вершок от лица перед самыми глазами. «Бог неба, не выдай ворогу на погибель», — прошептал про себя Михайло.
Острая боль обожгла взмокшую от напряжения грудь — меч взрезал платно, кровь смешалась с солёным потом… Михайло прикрыл пораненное мокрое место левой ладонью — благо, рана неглубокая, устоял на ногах.
— Подлый душегуб! Преступник древнего закона! Да расступится под тобой земля! — выкрикнул Михайло, чувствуя, как липкий туман усталости — не физической, но душевной — начал обволакивать голову, застилая глаза лёгким и невесомым пологом.
И вдруг за спиной гортанный выкрик:
— Возьми, урус!
Глухой удар у правой ноги, и Михайло едва не споткнулся о длинное печенежское копьё, которое вонзилось в землю рядом с ним.
— Самчуга! — выкрикнул благодарный Михайло. — Да спасут тебя боги земли и неба!
Он выдернул из чернозёма плоский и широкий наконечник, сжал пальцами тёплое толстое древко копья с отвисшим вниз пучком тёмных конских волос.
Черниговец застыл на широко расставленных ногах. Глаза забегали с широкого наконечника копья на лицо Михайлы, словно отыскивая в напряжённых его чертах след жалости к нему, Глебу. Недолгая растерянность сменилась испугом — мечом копья не пересилить, тем более у такого опытного ратника, каким был кузнец Михайло.
— Вот теперь и будет решать нашу судьбу судное поле, — выдохнул Михайло с видимым облегчением. — Одумался, изверг?
— Нет! — от ярости черниговец уже не владел собой. — Нет! Всё едино, всех вас ждёт смерть от неминуемого…
Это были последние слова человека, надумавшего изменой добыть милость у находников, — Михайло не дал ему времени докончить.
Кузнец, забывшись, утёр пот со лба левой рукой, которой перед этим прикрывал рану на груди, — лицо испачкалось собственной кровью, пришлось подолом платна вновь утираться. Когда поднял глаза, увидел кагана. Потревоженный криками, он вышел из Белого Шатра. Рослый нукер, размахивая в опущенной руке копьём, бежал узнать для повелителя степей причину шума и кто лежит поверженным на земле.
Михайло, не глядя в искажённое смертью лицо черниговца, выдернул из сильных, стиснутых пальцев меч, подобрал алое корзно, кунью шапку, пояс с ножнами. С пояса Глеба снял тяжёлую объёмистую кису с золотом и серебром, подошёл к Самчуге, рядом с которым остановился и посланный каганом нукер.
— Убит мой кровник, черниговец Глеб, — пояснил Михайло: знал, что его слова непременно дойдут до Тимаря. — Много раз люди моего и его родов сходились на судное поле решать спор единоборством. Но у этого человека сердце не барса, а змеи. Он выследил меня, безоружного посланца, и пришёл убить. Спаси бог тебя, добрый печенег, и прими в награду пожитки врага моего — таков старый обычай: пожитки убитого достаются победителю. Без твоей помощи через коварство черниговца лежал бы на земле я. — Михайло протянул Самчуге шёлковое корзно, кунью шапку, пояс с мечом.
— Золото передай твоему повелителю! Проси от меня принять этот дар за то, что дал свершиться русскому обычаю и не помешал нам довести единоборство.
Самчуга, не скрывая радости, принял от важного уруса такое щедрое подношение и поспешил на холм. Упал перед каганом ниц и что-то долго говорил, указывая рукой себе за спину. Михайло терпеливо стоял над поверженным предателем, выказывая тем самым кагану, что ждёт его воли отойти к своим посланцам. Саднили побитые места на груди и плече, вновь к ногам подступила неприятная слабость, тяжестью и туманом заволакивало голову — хотелось скорее присесть на прохладную траву, унять кровь и лежать недвижно, сил набираясь.
Самчуга оставил кису черниговца у ног кагана и бегом спустился с холма. Заговорил торопливо, не опасаясь, что кто-то из нукеров поймёт их разговор:
— Великий каган дозволил мне снять с твоего врага прочие пожитки и похоронить его. Он сказал: «Пусть урусы перебьют друг друга, наши стрелы целее будут! Нет многотысячного полона — и один купец не полон!»
Михайло ещё раз поклонился толмачу Самчуге за выручку.
— Копьё это возьму себе на добрую память. Когда будет мир между нашими городами, Самчуга, с великой радостью приму тебя в своём доме, — и пошёл неспешно к посланцам. Ярый не выдержал, ступил ему навстречу.
Зажимая ладонью раненое плечо, Михайло посмотрел на Белгород — ворота по-прежнему закрыты. Что делалось в родном городе в этот час, он не знал, и тревога, будто холодным льдом, наполнила его душу.
Хитрость старейшины Воика
Разве диво это, братья, старому помолодети?
Когда сокол в линьке бывает, высоко птиц побивает,
не даст гнезда своего в обиду.
Слово о полку ИгоревеВольга проснулся от чьего-то прикосновения, а ему казалось, что он вовсе и не засыпал, что всё так же слышал негромкий шёпот старейшины Воика. Он открыл глаза и увидел над собой лицо матери Висты с заплаканными глазами.
— Что случилось, мати? — Вольга будто и не спал, взметнулся с ложа. — Отчего лицо твоё серо так? С Янком плохо? — Вольга тут же оказался у лавки, на которой лежал Янко, но старший брат растревожил ещё больше. Не поднимая головы от ложа, он сказал тихо:
— Отец Михайло ушёл к печенегам старшим среди посланцев.
Там, в непролазных дебрях Перунова оврага перед ликом страшного истукана, Вольга испугался не так, как теперь, в собственной избе! Какое-то время он молча, раскрыв рот, смотрел в глаза Янку, потом пересилил оцепенение и резко поднялся с колен.
— Мати-и-и! — простонал он и обернулся к ней. — Почему не разбудила меня проводить? — и выскочил в раскрытую дверь. По привычке глянул за угол — не сидит ли там старейшина Воик у стены, греясь на солнце? Но его там не было. Вольга упал на колени перед телегой — ноговицы тут же промокли от росы — и потянул Василька за босые ступни.
— Ох, спать мы горазды! Вставай. Наши посланцы у печенежского кагана!
Василько проснулся сразу же, едва услышал про печенегов. Следом за ним показался чернявый Милята, осмотрелся, но матери Павлины во дворе тоже не было. Сёстры на телеге притихли, слушали разговор ребят.
Только из калитки вышли, а навстречу спешит Боян — худощавое лицо после смерти его отца бондаря Сайги и вовсе стало узким и зелено-белым, только русые волосы всё так же кудрявились.
— Что вы тут мешкаете? — торопил Боян. — Ваш отец Антип и старейшина Воик у ворот, а посланцы уже стоят перед шатром кагана!
Вольга с удивлением посмотрел на расчищенный против их подворья пустырь. Вчера ещё здесь были груды белёсой глины, мусора, пепла от очагов, а теперь вокруг чисто. Посредине стоял невысокий сруб из старых посеревших брёвен, а над срубом колодезный журавель поднял высокую шею. От края шеи вниз свисала тонкая жердь. У сруба стояли молча четыре дружинника с копьями.
«Проспал-таки, — укорил себя Вольга. — Проспал, пока в ночь старейшина прятал в колодцы свою тайну!»
— Спешим к воротам! — повернулся он к товарищам. Пыльной улицей они побежали к торгу, мимо пустых дворов, мимо пустых телег у плетней и придорожных канав с зарослями полыни и лебеды — отросла трава, как не стало в крепости коней. Осторожно — не заругал бы воевода Радко — Вольга с товарищами протиснулись к воротам и устроились кто где мог. Вольга взобрался на откос вала и через головы дружинников увидел в раскрытые ворота излучину реки за крутым уклоном и дальше, за ничейной поймой, — серое печенежское войско. Над войском, словно речной туман над камышом, клубилась лёгкая пыль. «Должно, кони землю рыхлят копытами», — подумал Вольга. Вдруг над головой раздался крик дозорного из рубленой башни:
— Иду-у-т! — а потом чуть тише: — Печенежские посланцы идут!
Дружинники у выхода из крепости заволновались, особенно те, кто стоял дальше от ворот. Им тоже хотелось получше разглядеть едущих через пойму, по дороге на кручу, печенегов.
— Спокойно, други, — проговорил воевода Радко, оглаживая бороду и приосаниваясь. — Если каган послал своих людей, половину дела мы уже сделали.
Вольга, упираясь пятками в неровности, чтобы не съехать с вала, вжался спиной в крутой откос. В спину что-то больно давило: или сухой ком земли, или старое корневище, но до того ли было? Он неотрывно смотрел, как печенеги проехали через пойму, как стали пропадать, скрываясь под кручей: сначала ноги коней, потом конские животы и колени всадников, потом конские головы, а туловища людей едва заметно качались над срезом земли. Потом словно неведомая сила, чуть-чуть раскачивая с бока на бок, стала вдавливать эти обрубки печенегов в твёрдую землю. Вот уже над травой видны лишь несуразно длинные головы в высоких меховых шапках, но скоро и они пропали, а над урезом кручи лишь копья раскачивались. Где-то далеко, возле торга, вскрикнуло грудное дитя, а из-за крутого спуска к реке доносился слабый стук копыт вражеских коней.
Но вот печенеги появились снова. Молча въехали в крепость — дружинники тут же закрыли за ними ворота, — сошли с коней. Двое приняли на руки богато одетого князя, сняли с седла. Выпячивая молодецкую грудь, князь шагнул навстречу воеводе, резко спросил на своём языке:
— Зачем позвал нас в Белый город и что показать хочешь, воевода урусов? Может, дань приготовил кагану?
Печенежский князь говорил, а сам зорко осматривал крепость — крепки ли дружинники, много ли их, есть ли запас брёвен и каменьев на помосте для метания, готов ли Белгород и дальше держать осаду? Взгляд его задержался на подворье князя Владимира, где в раскрытые ворота видны были дружинники, пришедшие после стояния на стене. Одни сидели за длинным столом и принимали пищу, другие стояли пообок, о чём-то переговаривались, и смех доносился оттуда.
Воевода Радко, будто и не слышал вопроса о дани, сказал учтиво, но и с достоинством:
— Зима уже близка, знатный князь печенегов. А зима и вам и нам будет в тягость, если к ней не приготовиться.
— Великий каган зиму встретит в Кыюве, но прежде дань возьмёт с вашего города, — гнул своё молодой князь Анбал.
— Но Русь не данник у печенежского кагана, говорили ведь уже вам о том! И Белгород не откроет вам своих ворот.
— На меч возьмём! — выкрикнул князь и руку на оружие положил, будто теперь же вознамерился привести угрозу в исполнение. Но воевода Радко улыбнулся в ответ, напомнил о первом приступе:
— Пробовали ведь, князь. Или вновь есть желание гореть в смоле?
— Голодом изморим! — снова стал грозить князь, в досаде покусывая яркие губы: ему ли, князю Анбалу, препираться с этими упрямыми урусами? Мечам бы свистеть здесь по пыльным улицам… Но как ворваться через эти ворота?
— Сказали же вам наши посланцы — голод нам не страшен: земля нас кормит, из земли мы черпаем свою силу и корм. Из колодцев дивных. И избыва силе нашей не будет, хоть стойте под Белгородом десять лет!
Молодой князь надменно улыбнулся, дёрнул длинными усами. Злобным огнём засветились узкие чёрные глаза.
— Покажите тогда ваши колодцы. Видеть хочу, чем питают они вас. В колодцах этих та же вода, что и по всей земле!
Воевода ответил не спеша, будто в раздумии: а показывать ли ворогу волшебные колодцы?
— Не говори так, князь, сути не ведая. Бог неба принял нас под свою суровую руку и даровал нам эти колодцы, чтобы наша крепость стала щитом для всей Руси. Идёмте! Решился я показать вам диво. Да ведает степь о силе нашего бога и земли нашей!
Вольга спрыгнул с откоса на дорогу. Следом за ним, морщась от боли, съехал на спине Боян. Побежали, обгоняя строй дружинников. А вот и старейшина Воик с ратаем Антипом. Вольга хотел упрекнуть деда: зачем сам ушёл, а его не взял с собой проводить отца Михайлу за ворота? Но старейшина упредил его, обрадовался, увидев, и тут же перенёс руку с плеча Антипа на плечо Вольги.
— А ты, Антип, иди за посадником да воеводой. Мы теперь с Вольгой неспешно пойдём следом за вами.
Вольга с досады чуть не застонал. «Куда теперь успеешь? Всё интересное и важное пройдёт, пока мы до торга посохом достучим!»
Но старейшина, видя его нетерпение, и сам не мешкал.
— Ты не рвись, Вольга, а посмотри направо, — сказал он. — Печенежский князь всё глазами по сторонам зыркает! А без него да без воеводы ничего не будет делаться, — сказал старейшина и чувствительно налёг на плечо Вольги.
Когда печенеги перешли торг и приблизились к восточной стене, увидели дружинников у колодца. Молодой князь на какой-то миг задержал свой шаг, словно раздумывая, не повернуть ли назад. Воевода Радко заметил нерешительность посланца и сказал:
— Не страшись, достойный князь, это и есть один из наших дивных колодцев с земной пищей. Пропустите нас, люди, — обратился он к сгрудившимся вокруг белгородцам. Дружинники копьями отгородили проход печенежскому князю и его стражникам.
Князь недовольно передёрнул сильными плечами и подступил ближе к срубу — нукеры плотно встали за его спиной. Возле колодца распоряжался посадник Самсон, важный и с чуть потным лицом. Рядом же была и посадница Марфа — телом полная, под стать самому посаднику. Она разводила огонь в пяти шагах от сруба, неподалёку от изгороди бондаря Сайги, погибшего-таки, не выправившись после раны.
Посадник Самсон медленно и осторожно прикрепил бадью к длинному шесту и, перебирая по нему руками, начал опускать его в колодец.
Старейшину Воика белгородцы пропустили вперёд, и он встал рядом с воеводой Радком, не выпуская плеча Вольги. Вольга радовался, что теперь всё увидит. «Ох, какое лицо суровое у печенега! — ужаснулся он. — А глаза какие злые, — продолжал разглядывать князя Вольга. — Не смотрит ими печенежина, а кусает…»
Из-под земли раздался далёкий плеск. Вольга перевёл взгляд на посадника Самсона, приподнялся на цыпочки, как будто это поможет ему раньше других заглянуть в колодец и узнать: что же там?
Посадник Самсон медленно и осторожно начал поднимать бадью из колодца. Вокруг уже дым шёл от костра, тёплый и горьковатый. Марфа повесила над огнём кованный из меди, закопчённый снизу горшок, широкий, с высокой ручкой. Посадник ловко снял с шеста чем-то наполненную бадью и понёс к уготовленному походному очагу. Молодой князь встал рядом и с интересом смотрел, как лилась из бадьи в горшок мучная болтушка. Нукеры за спиной князя тихо и недоверчиво перешёптывались, толкая друг друга локтями и щитами.
— Подайте чаши! — раздался ровный голос Марфы.
Дружинники передали ей деревянные чаши с высокими краями. Марфа большой ложкой черпала из горшка кисель, наливала в чаши и передавала воеводе.
«Хлебнуть бы теперь, — подумал голодный Вольга. — Хоть бы один большой глоток киселя!» Он даже телом подался вперёд, но старейшина слегка надавил на плечо сухопалой рукой — дескать, не мешай!
Воевода Радко подошёл к печенежскому князю, но князь не принял чаши, пальцем указал на кисель и что-то негромко произнёс по-своему, обращаясь к толмачу Ежку.
— Просит испить из чаши, боится, не отравлено ли, — проговорил мрачный Ежко. Воевода оправил усы, улыбнулся.
— Добрó же, — сказал он и поднёс чашу к губам. Пил, обжигаясь. Вольга, глядя на воеводу, на чашу в его сильных руках, облизывал истрескавшиеся до крови губы, будто и ему кисель жёг рот. Потом Марфа в ту же чашу налила кисель и князю. Он осторожно — не обжечься бы! — поднёс чашу к чёрным усам и отхлебнул, потом ещё раз…
— Угостите и воев печенежских, — сказал воевода Радко.
Печенежские нукеры пили русский кисель охотно, а один, совсем ещё молодой — у него было надорвано стрелой правое ухо, — даже языком прицокнул в знак одобрения и протянул миску к Марфе, а сам пальцем внутрь указал: налейте, дескать, ещё. Но князь Анбал так зло глянул в его сторону, что миска выскользнула из рук, стукнулась о землю, охнула и покатилась, обрастая пылью, к ногам Марфы.
— Прошу печенежского князя к другому колодцу, — позвал воевода Радко. Печенег безмолвно последовал за ним, волоча по пыли длинный меч в чёрных ножнах. Теперь остановились на пустыре против двора кузнеца Михайлы. Вольга снова протиснулся вместе со старейшиной Воиком в первый ряд белгородцев, а протиснувшись, стал смотреть на князя. Теперь печенег сам прикрепил деревянную бадью и опустил шест колодезного журавля вниз. Опять что-то плеснулось глубоко под землёй, и Вольга чуть слышно спросил старейшину:
— Дедко, а здесь что?
Старейшина сердито сдавил пальцами его плечо, промолчал.
«Неужто снова мучная болтушка? — спросил сам себя Вольга и тут же усомнился: — Тогда почему посадник Самсон костёр не велит разжечь рядом? Так что же?».
Над краем сруба показалась мокрая бадья. Князь, перегнувшись, долго смотрел во тьму земли, будто приметил что-то. Вольга так близко стоял к колодцу, что уловил запах душистого свежего мёда и увидел, как напряглась синяя вена на шее печенежского князя, который склонился над срубом из толстых брёвен. Печенег распрямил наконец-то спину и повелительно указал на бадью — дескать, наливайте, отведаем.
Первую чашу снова принял воевода Радко. Сладко выпил воевода, рукой бережно вытер густые усы и вернул чашу Марфе. Выпил и печенежский князь, а потом снова молча смотрел на край сруба и длиннопалой рукой теребил кожаный ремень, на котором висел меч в кривых ножнах.
Неожиданно князь резко обернулся, будто услышал за спиной чьи-то опасно крадущиеся шаги. Цепкими глазами ещё раз осмотрел воеводу в новых доспехах, посадника с дородным чревом, столпившихся чуть поодаль дружинников и степенных белгородских мужей (пришлых ратаев воевода к колодцам не допустил). Взгляд печенега недвижно замер на старейшине Воике, словно князь догадался, чья голова подсказала обречённым русичам выкопать эти колодцы и призвать степных находников.
Вольга едва не покривил рот, так больно сдавил ему плечо старейшина своими жёсткими пальцами.
Князь поставил мокрую чашу на край сруба, с запозданием вытер отвислые усы тыльной стороной ладони. Недоверчивая усмешка вдруг покривила поджатые губы. Князь заговорил, а Ежко торопливо пересказывал его речь воеводе Радку:
— Толстых щёк не наешь с такой пищи, конникам мясо нужно… — после этих слов печенег согнал с лица улыбку, оглянулся на свою стражу и теперь заговорил для своих нукеров: — Но на стенах урусы стоять могут ещё долго. Велик их новый бог неба, если наградил город этот таким чудом. Возвратимся и расскажем об увиденном всему войску. Так скажем: кому по силам мериться с богами? Потому и нет нам здесь удачи. — И снова повернулся к воеводе и посаднику: — Налейте нам в сосуды того и другого. Пусть и остальные князья отведают. На слово ведь в таком деле мало веры.
Когда остановились у вновь открытых ворот, воевода Радко, придержав повод печенежского коня, сказал князю:
— Не гневись, достойный князь, но те посланцы, что у шатра сидят, нам очень дороги. Сделаем по чести — пошли одного своего нукера передать кагану, чтобы отпустил людей с миром. На середине поля и сойдёмся, а потом каждый пойдёт в свою сторону. Если у кагана доброе желание уйти с миром, пусть сделает так, как мы просим.
Только на миг приподнял князь веки и тут же снова опустил их, скрыв злой взгляд, но сказал тихо, сквозь стиснутые зубы:
— Пусть будет так.
Видел Вольга, как словно с кручи упал в Ирпень-реку и там пропал на время всадник, только лёгкая пыль повисла над срезом земли, а потом печенег показался уже на ничейном поле и погнал коня к высокому шатру кагана. Возле холма он соскочил на землю, взбежал наверх и упал на колени перед Тимарем, а руки зачем-то вскинул над головой к жаркому всё ещё, пополуденному небу.
Через некоторое время русских посланцев подвели к шатру, они постояли там недолго и неторопливо пошли прочь с холма в сторону Белгорода. За ними в десяти шагах шли до полусотни печенежских нукеров встречать своих посланцев.
— Теперь и мы пеши двинемся, — сказал воевода Радко. Едва печенеги и русские пропали под кручей, как войско кагана расступилось и русские посланцы выступили из него, будто из тёмного леса. Мелькнуло голубого шёлка корзно кузнеца Михайлы.
Вольга даже руку поднёс к груди, ещё не веря до конца такому счастью — отец Михайло живой возвращается из печенежского стана! Не сдержался и громко закричал:
— Дедко, гляди! Это же отец мой идёт! Живо-ой!
Белгородцы, которые густо заполнили проем крепостных ворот и помост стены в сторону юга, на его крик отозвались радостными голосами: так откликается чуткий камыш на нежданный порыв ветра в ночи — сначала тихо, потом, словно проснувшись, всё громче и громче. Взлетели вверх подкинутые шапки. Белгородцы радовались временной удаче, словно посланцы несли с собой обещание кагана немедленно оставить в покое Русскую землю и уйти к вечеру в степь.
Старейшина Воик вдруг тяжело налёг на плечо Вольги и, обессиленный, опустился на тёплую землю у правой створки ворот, спиной прислонился к дубовым брёвнам. Вольга тут же упал перед ним на колени в мягкую пыль.
— Тебе худо, дедко? — забеспокоился он и горячими руками схватил как-то сразу похолодевшие пальцы старейшины. Ближние белгородцы поспешили к нему, но старейшина успокоил людей:
— Не тревожьтесь, мне не худо… Никогда в жизни мне не было так славно, как теперь. Поверили печенеги! Эти поверили нам, а те поверят им. Теперь всем скоро будет хорошо.
А тут и посланцы поднялись вверх по склону, к воротам. Кузнец Михайло отставил в сторону печенежское копьё и в посеченном в нескольких местах дорогом корзне опустился перед старейшиной Воиком на правое колено, бегло глянув, не проступает ли где кровь с плеча и с груди наружу: не испугать бы немощного отца Воика.
— Поклон тебе, старейшина Воик, за мудрое слово о силе земли нашей! Это слово укрепило наше сердце перед каганом. Обопрись теперь о мою руку, отче Воик, идём во двор, там и отдыхать будешь.
Краем глаза видел старейшина: воевода Радко позвал с собой Ярого расспросить о том, как шёл разговор с каганом и что прознали русичи в печенежском стане?
Ослабел сильно старейшина Воик, всё в нём будто надорвалось сразу. Как слёг за очагом, так уж и не поднялся больше, всё только стонал и спрашивал у Михайлы:
— Как печенеги, не ушли?
— Всё станом держатся, отче, а в ночь снова костры разложили.
— Неужто не поверил каган своему князю? Ведь князь говорил о колодцах с верой в словах! Может, готовятся к новому приступу на нас? Не устоять тогда, совсем ведь отощали.
И снова затихал старейшина Воик — вздыхал только да укрывал зябнувшие ноги толстым рядном, согретым Вистой у огня.
Но утром второго дня, когда мать Виста пригласила Вольгу и Василька со двора к скудному завтраку, в избу вбежал Антип и радостно, ещё от порога, известил домочадцев:
— Дружинники со стены знак подают — печенеги уходят!
Вольга будто и не сидел за столом. Мать Виста выронила из рук ложку, опустилась на лавку, потом закрыла лицо ладонями и тихо заплакала от счастья. За очагом завозился старейшина Воик, позвал:
— Михайло, ты здесь?
Кузнец Михайло расправил плечи, весело огладил короткую бороду, проворно поднялся из-за стола.
— Здесь, отче, здесь!
— Сведи меня на стену. Хочу видеть, как находники покидают нашу землю… Последний раз в моей жизни то будет.
Отец Михайло поморщился от боли в плече и груди, но всё же помог выйти старейшине из избы во двор.
Город ликовал! Люди обнимались, кувыркались в пыли придорожных канав дети ратаев и бортников, будто и не было страшного голода, будто и не опечалены все десятками свежих могильных холмов у крепостного вала, в тени высоких стен.
Навстречу ликующим белгородцам, к торгу, пыля немощными ногами и опираясь на посох, шёл старейшина Воик. Старее самой старости казался он в эту минуту Вольге, но радостная улыбка высветила почти угасшие глаза старого Воика. Потом Вольга увидел вокруг дружинников, и нежданно старейшина поднялся над ликующими белгородцами и медленно поплыл к южной стене, изредка взмахивая высохшими руками для равновесия. Это дружинники соорудили из копий носилки и на вытянутых вверх руках понесли его: так прежде, после удачной сечи, дружина Руси носила князей над полем брани.
Прихлынули белгородцы к городским стенам и замолчали на виду у врага, будто опасались хмелем радости привлечь внимание печенегов. Молча смотрели, как снимался каган с обжитого места и уходил в степь. Дымились не затушенные с ночи костры, скрипели телеги, поднимая пыль, а слабый ветер гнал её следом за конным войском. Стояли белгородцы долго, всё ещё не веря, что осада окончилась и что ворог уходит, уходит совсем, поверив в чудодейную силу земли Русской. Вот уже и солнце упало за холмы, и зарница погасла на западных краях высоких облаков, и первые звёзды зажглись, а белгородцы всё ещё глядели в затихающую степь.
Весь оставшийся день простоял Вольга рядом со старейшиной Воиком и отцом Михайлой неподалёку от сторожевой башни, а когда затихли скрипы печенежских кибиток и находники скрылись в чреве потемневшей к ночи степи, старейшина сказал, смахнув с ресниц слёзы радости:
— Пришёл конец нашему горю, люди! Отошли печенеги, и мы живы!
Над спасённым Белгородом золотой россыпью звёзд горел Млечный Путь, и Вольга, вдруг озябнув, прижался к старейшине Воику в надежде согреться у его старого тела.
Могила на кургане богов
Никнет трава от жалости,
дерево в горе к земле преклонилось.
Слово о полку ИгоревеВ дождливую ночь этого же дня старейшине Воику стало совсем плохо. Он лежал на лавке, вытянув худые руки вдоль тела, и тяжело, с хрипом дышал. Грудь его то высоко поднималась, и тогда поднималось рядно, то опускалась так низко, что казалось, будто и вовсе тела нет у старейшины под рядном.
Отец Михайло подошёл к ложу с деревянной ложкой и чашкой в руках. От чашки поднимался лёгкий пар, пахло душистой мятой.
— Прими, отче, отвар целебной травы, — сказал отец Михайло и левой рукой слегка приподнял тяжёлую голову старейшины. Но старейшина не принял отвара.
— Не помочь мне, Михайло, уже никакими травами. Слышу я зов предков, ждут они меня. Зажился я на этом свете, на погребальный костёр пора… Прах мой, сыне, предашь огню по старому закону, нет желания мне в земле истлеть, подобно павшему в болото дереву. Душа огнём пусть очистится, и стану я жить под твоим очагом вместе с далёкими пращурами… Ты же помни про души предков и не скупись на требу нам, а мы будем помогать тебе в трудный час и беречь род твой от силы нечистой — за старшего теперь ты остаёшься!
Старейшина Воик притих, передохнул немного и снова заговорил с отцом Михайлой:
— Кланяюсь тебе земно, мой сын, что дал дожить до глубокой старости без нужды и горя и что почитал меня, как подобает почитать старейшину, — сказал и откинулся на изголовье. Его заострившийся нос чётко обозначился на стене избы, против серого бревна с глубокой трещиной.
Вольга сидел против старейшины и с трудом сдерживал слёзы, а они нет-нет да и подступали к глазам, увлажняли веки, щемило до боли сдавленное спазмой горло.
«Неужто дедко не встанет? — изводился в печали Вольга. — И не слышать нам больше его сказов о далёкой старине, о походах на хазар и на греков отважного князя Святослава!.. Так много знал дедко — и так мало успел нам рассказать. Бог неба, помоги старейшине! Дай ему силы одолеть хворь и встать на ноги!»
Вольга не слышал, как без скрипа открылась намокшая от дождя входная дверь и в избу вошёл Згар — потянуло вдруг ему в правый бок мокрым воздухом, и он обернулся. За спиной Згара успел заметить, пока закрывалась дверь, что во дворе и над Белгородом поднималось утреннее солнце, и край голубого неба на западе успел заметить Вольга. Згар осторожно, не отходя от порога, переступил мокрыми черевьями — следы остались на досках пола — и сказал:
— Княжий обоз подходит. Только что дружинники подали знак со стены. Воевода Радко вышел им навстречу.
Мать Виста из переднего угла вышла к очагу, прошептала:
— Славно, если так. Значит, сегодня мы уже будем сыты, — и, усталая от пережитых забот и волнений, опустилась у кади с водой, руки на колени положила.
— А князя при обозе не приметили дружинники? — спросил Янко. Ему было тяжело лежать на животе, да ещё и полуголодному. Всякий раз, когда Вольга или отец Михайло просили рассказать, как он ходил в Киев и почему у него была ранена нога, Янко отмалчивался или загадочно говорил:
— О том буду говорить, как встану. Поведать есть о чём, да не получилось бы, будто похваляюсь прежде срока.
В избу торопливо возвратился со двора ратай Антип.
— Михайло, там тебя спрашивает какой-то дружинник из киевской заставы, что вошла с обозом.
— Пришёл-таки, — чуть слышно прошептал Янко и засветился доброй улыбкой. Вольга тут же взгляд с брата на отца Михайлу перевёл, а тот посмотрел на старейшину Воика: дедко лежал спокойно, и спокойно покачивалась седая борода поверх платна, в такт дыхания.
— Виста, присмотри за отцом, я во двор выйду встретить нового человека. Странно, что за дело у него ко мне из Киева?
Во дворе было свежо и солнечно, мокрая трава вмиг намочила босые ноги Вольги, а холодный воздух проник под просторные ноговицы и под платно, даже икры ног покрылись твёрдыми пупырышками.
Посреди двора, прищурив глаза от солнца — а солнце светило ему прямо в лицо из-за среза крыши, — стоял дружинник средних лет, светлоглазый и улыбчивый. На лбу дружинника Вольга приметил глубокий шрам — от удара мечом, наверно. Лицо доброе, приветливое. Вольга лишь мельком взглянул на дружинника: «Я его раньше не видел в нашем городе», — и замер от восхищения, глядя на стройного и сытого вороного коня под низким печенежским седлом. Конь тянулся мокрыми губами к мокрой траве, и его длинная грива спускалась до самой земли. Дружинник то и дело дёргал за уздечку.
— Ты спрашивал дом кузнеца Михайлы? — обратился к незнакомцу отец. — Я слушаю тебя, княжий дружинник.
Тот шагнул навстречу и уздечку зачем-то протянул ему.
— Моё имя Власич. Я провожал твоего сына, кузнец Михайло, когда он уходил из Киева. Сказали мне, что ранен он, но живой. Кланяйся ему от Власича и передай, что привёл я коня, которого он оставил на сохранность. Тороплюсь дозором в степь — узнать, далеко ли ушли печенеги, а на обратном пути непременно навещу его.
Удивлению Вольги не было конца — даже про утренний холод на подворье забыл! «Каков Янко! Коня как-то добыл, а не сказывал о том ни слова». Отец Михайло принял уздечку из рук дружинника, поблагодарил и пожелал в напутствие:
— Удачи тебе и твоим витязям, Власич. Отныне ты всегда найдёшь под этим кровом тепло, пищу и доброе слово.
Власич в ответ склонил голову в поклоне:
— Спаси бог тебя, кузнец Михайло, за ласковую встречу. Непременно навещу Янка. Славный у тебя сын, кузнец, говорю без лести.
На мокрой траве остались тёмные следы — это Власич вышел со двора, сбив на землю серебристые капельки росы.
— Что там, отче? — спросил Янко, когда Вольга вслед за отцом Михайлой и ратаем Антипом переступил порог избы и остановился у кади с водой, где сидела мать Виста. Захотелось пить — пустое чрево просило хоть чего-нибудь.
— Дружинник Власич коня привёл и сказывал, что твой.
— Я ждал его, отче, — ответил Янко, и Вольга увидел, торопливо глотая прохладную воду из тяжёлого деревянного ковша, как по лицу брата пробежала светлая, словно луч солнца после долгого ненастья, улыбка. — Славно. Того коня я под печенегом взял, когда шёл в Киев. Отдай, отче, коня ратаю Антипу, взамен потерянного в Белгороде, как дар от нас.
Ратай Антип вскочил с лавки, раскрыл глаза от удивления, и радость нежданная запрыгала в них искрами счастья. Отец Михайло хлопнул себя возбуждённо по широким коленям прокопчёнными ладонями.
— И я о том же хотел просить тебя, сыне, да упредил ты меня! — Он подошёл и обнял Антипа за вздрагивающие плечи. — Вот, друже, и конь у тебя есть. И живы мы после осады.
Но ратай Антип уже пришёл в себя и сказал в великом сомнении:
— Возможно ли, Михайло, принять такой дар? Чем расплачусь я с тобой? Ведь и двор мой над Ирпень-рекой, наверно, печенегами весь порушен и пожжён.
Отец Михайло, не скрывая доброй усмешки, отмахнулся от напрасных волнений ратая, поспешил успокоить его:
— Плати мне и моим детям дружбой, Антип. Боле нам ничего не надо. Корыстью я никогда не промышлял, в закупы брать тебя не намерен. Возвратит Вершко резаны за сработанный вместе товар из железа, на них и поправишь двор свой. И не будем боле говорить об этом.
Антип молча глянул на свою жену — Павлина, смущённо улыбаясь, смотрела на старшую дочь — Ждану не трогал разговор взрослых, она сидела у изголовья Янка и, забыв, что они не одни в избе, счастливая, молча водила пальцами по руке Янка, которая лежала поверх рядна. Мать Виста подошла к Павлине и так же молча обняла её за плечи, потом прошептала:
— Быть счастью нашим детям, Павлина…
И не заметили за разговорами, как отошёл к мёртвым старейшина Воик. Хватился отец Михайло, а он уже и не дышит: застыло недвижно тёплое рядно, а на нём покоилась белая борода старейшины.
Обмыла его мать Виста, а ей помогали Павлина и Рута, снарядили в чистое платно и уложили на лавку в переднем углу. Вольга почти всю ночь тайком от взрослых плакал беззвучными слезами, свернувшись в тёмном и тёплом углу за очагом, рядом с малым и несмышлёным ещё Вавилой.
Рано поутру Вольга вышел во двор освежить уставшую от горя голову и через некоторое время, в общем гомоне проснувшегося города, различил сперва отдалённые, а потом и совсем близко призывные крики:
— Посторонитесь, белгородцы! Дайте дорогу князю Владимиру!
От торга в их сторону ехала конная дружина, а впереди, на белом коне, восседал высокий и величественный всадник. Седые усы свисали на грудь, покрытую корзном небесного цвета.
Проворно метнулся Вольга в избу и крикнул через порог, забыв на время о мёртвом деде Воике:
— Отче, князь Владимир мимо нашего подворья едет!
Отец Михайло привстал со скамьи — он сидел за столом, уронив голову на твёрдые и шершавые ладони, и скорбел о смерти старейшины, — вышел приветствовать князя Владимира. Поклонился, сказал учтиво, а грусть в голосе не мог пересилить:
— Будь здоров, княже Владимир. Почту за честь большую, если войдёшь в мой дом — печаль у меня: скончался отец Воик. И сын Янко печенежской стрелой тяжко ранен, на постели мечется…
Князь Владимир ответил так же негромко:
— Будь здоров и ты, Михайло. Скорблю вместе с тобой о смерти старейшины Воика. Кабы знал, что при смерти он, в ночь приехал бы. Хочу посмотреть на него да мёртвому по клониться за спасение Белгорода.
— Идём, княже Владимир, — пригласил отец Михайло и ступил в сторону, давая дорогу. — Приклони голову, княже, входная дверь в избу для твоего роста низковата.
Князь нагнул голову и ступил в натопленную избу, остановился, чтобы глаза свыклись с полумраком после солнечного света. Потом отошёл от двери, и стало светлее. Старейшину он увидел на широком ложе, под белым покрывалом, поверх которого лежали загорелые и потому особенно заметные сухие длинные руки. Князь снял тяжёлый шелом, обнажил седую голову и долго смотрел на белую бороду, на впалые щёки и длинные волосы, которые рассыпались по белому изголовью. Потом князь провёл правой рукой по уставшим глазам, слегка придавив их, чтобы унять нудную боль под веками, и шагнул ближе к старейшине Воику. И удивился. Показалось, что старый Воик просто спит, что вот сейчас он сделает глубокий вздох и откроет глаза. Но старейшина молчал, плотно сдвинутые веки не дрогнули, когда из открытого дымника в избу влетел поток свежего ветра, принеся с собой запах мокрой полыни с близких землянок. Покой, вечный покой отражало теперь его худое и чуть посиневшее лицо, храня печать удовлетворения прожитой жизнью — умирая в тихом безмолвии, старейшина не мучился угрызениями совести.
Князь Владимир пересилил желание подойти и рукой дотронуться до морщинистого лба старейшины… Не знали люди, что в эту печальную минуту ныло тяжкой болью сердце киевского князя, что казалось ему, будто стоит он не у праха Воика, а отца своего Святослава, дожившего рядом с ним до глубокой и счастливой старости…
Князь поднял голову и обернулся к белгородцам, которые пришли в избу проститься с покойником.
— Други мои, ушёл от нас на вечный покой старейшина Воик. Многое в жизни вашей было связано с ним, да не о том хочу сказать теперь. Крепил я Белгород, помышляя иметь его щитом Киева, земли Русской супротив печенежских находников. Но не стены крепости остановили войско безжалостного и кровожадного печенега Тимаря! Влезть на частокол не велик труд для ворога. Печенегов остановили вы, белгородцы, дружинники и ратаи, а потому слава победы равна между вами перед всей Русью! Вам и поклон за мужество и готовность умереть, закрывая землю нашу отважными сынами!
Князь умолк, и отец Михайло тихо, будто себе сказал:
— Просил отец Воик предать его тело огню на Кургане Богов на старом требище и по старому закону… Последнее слово его о том было, княже Владимир. Как нам теперь быть, присоветуй.
Князь задумался, снова голову к груди склонил, а потом ответил тоже чуть слышно, одному Михайло:
— Хотел я на похороны звать епископа Никиту, да теперь не пойдёт он: негоже христианину душу осквернять зрелищем языческого обряда… Но и посмертную просьбу старейшины Воика нам не уважить никак нельзя. Случай этот не обычен, смерть принял он за всю Русь. Бог неба простит его прегрешение, посмертное… Повели, Михайло, изготовить раку[111] и домовину[112] для твоего отца на том кургане, где надумал остаться старейшина. — Князь вздохнул прерывисто, подумал о чём-то своём, тревожном и нерадостном, но не стал говорить людям, молча постоял ещё недолго возле стола напротив очага, совсем неподалёку от Вольги. Вольга же стоял за углом тёплого протопленного очага и мог, если бы захотел да не страшился такого поступка, протянуть руку и коснуться переливчатого корзна Киевского князя Владимира.
«Упросить бы теперь князя Владимира, чтоб взял в отроки к себе, при княжьих дружинниках воинскому мастерству обучаться, — подумал Вольга, но тут же устрашился своего помысла — до него ли князю Владимиру? Решил малое время переждать. — Вот братец Янко выправится после ранения, тогда уж и начну просить его отвести на княжий двор. Или к воеводе Радку поначалу…»
Когда сани[113] с телом старейшины Воика миновали стороной Перунов овраг, а впереди встал непролазный подцвеченный осенними красками густой лес, раку подняли на плечи и понесли, с трудом отыскивая в могучей поросли леса давно забытую тропу на старое требище. Прошли лес, и показался невысокий, с плоской вершиной Курган Богов, весь в зелени кустов и разнотравья там, где когда-то русичи приносили своим богам щедрую жертву и орошали землю и лики деревянных богов кровью животных и птиц.
Теперь старейшину несли самые близкие, а за ними, шурша ногами по кустам и по высокой, до пояса, траве, шёл почти весь Белгород. Только хворые да часть дружины остались в крепости ради её бережения от недоброго случая. Люди шли отдать дань памяти и проститься с тем, кто избавил их от горькой участи.
Поднялись на вершину кургана, опустили раку на траву у маленькой домовины, только что сложенной из сухих сосновых брёвен. Постоял князь Владимир над умершим недолго, а потом тихо пошёл вниз с кургана: не честь и ему, князю-христианину, быть там, где будут свершать обряд сожжения, не миновать и так упрёков от митрополита — оба ведь немало кладут трудов для утверждения на Руси нового закона жизни.
Наступила тишина, наполненная людскими думами о былом и о будущем каждого и всех вместе. Вольга жмурил глаза от ярких лучей солнца, которые время от времени прорывались сквозь густые кроны могучих дубов вокруг кургана. Он слышал, как за спиной дышали люди, а впереди и по бокам гулял ветер в зарослях заовражья да изредка плескалась река где-то рядом, невидимая под обрывистым берегом и за нетронутым лесом: старое требище почиталось заветным местом, и бортники да углежоги здесь не промышляли.
— Други мои, — заговорил воевода Радко и повернулся к людям заметно постаревшим и осунувшимся лицом: и ему осада печенегов не легко далась, если не труднее даже, чем иным голодным ратаям, — да будет огонь жаркий родным братом старейшине Воику. Как просил он перед смертью, так мы и сотворим, памятуя о его свершении не на поле брани по немощи лет своих, а подвиг разума, победившего жестокую силу. Дети и внуки в веках об этом помнить будут.
Воевода вдруг замолчал и отвернулся к северу: резкий порыв южного ветра пронёсся над деревьями и швырнул в открытую раку и на тело старейшины Воика добрую горсть оранжево-жёлтых листьев. Один из них, ярко-красный, резной лист со стоящего неподалёку дуба, упал на белый лоб старейшины, тонкой ножкой между бровей.
Михайло осторожно собрал листья, но не бросил их на землю, а положил в ногах покойника на парчовое белое покрывало — как знать, не древний ли это бог Перун с ветром послал последний свой дар тому, кто в душе не отрёкся от него до последнего дня жизни.
— Почнём, Михайло, — сказал воевода Радко. Отец Михайло и ратай Антип бережно подняли старейшину Воика, пригнув головы, внесли в тесную домовину и поставили раку на широкую лавку, а чтобы старейшина сидел, под спину и под бока подложили подушки с душистой осенней травой. Тело старейшины укрыли парчовым покрывалом. Потом дружинники внесли корчаги со злаками, поставили у ног старейшины, на пол домовины. Принесли и подали в домовину круг хлеба, пучок зелёного лука положили рядом с хлебом.
Воевода Радко снял с пояса меч и подал отцу Михайло.
— Убей меч, Михайло, как того требует старый обычай, а от нас это дар бывалому ратнику старого князя Святослава.
Отец Михайло наступил на меч левой ногой, и хрустнула упругая сталь. Обе половины меча он положил у левого бока старейшины, а справа разместились полукруглый щит, колчан со стрелами и тугой лук: если и в ином мире встретятся старейшине Воику недруги земли Русской, так не будет он перед ними безоружным.
Рядом с домовиной дружинники разожгли костёр, приготовили кучу берёзовых дров. Отец Михайло вышел из домовины, поклонился неспешно белгородцам и сказал:
— Собрался отец мой Воик в дорогу к мёртвым пращурам и ждёт теперь погребального костра.
Люди молча и разом, словно колосистая нива под напором тугого ветра, склонились рукой до земли, отвесили поклон праху старейшины.
— Твори, Михайло, первую искру, ты самый близкий ему по роду и крови. А мы за тобой последуем, — отозвался воевода Радко на слова отца Михайлы и ещё раз склонил непокрытую голову перед умершим, который виден был через дверь сидящим в парчовом одеянии с опущенной к груди белой головой.
— Прости меня, отче Воик, ты сам ушёл, никто не неволил тебя оставить землю, а нас сиротами, — сказал отец Михайло, взял сухую лучину, зажёг её от костра и пошёл спиной вперёд к домовине, пока пятками не упёрся в груду дров, сложенных под стеной. Не оборачиваясь, чтобы не показать уходящему в иной мир своего лица, поджёг сухие щепки, постоял так, пока не послышался лёгкий треск воспламенившихся дров, и только тогда, оставив лучину в огне, отошёл от домовины, уступая место людям.
Весёлые огоньки светло-розового пламени, раздуваемого южным ветром, побежали по острым углам сухих поленьев снизу вверх.
— Простимся теперь и мы со старейшиной Воиком по старому закону, — сказал воевода Радко, взял несколько поленьев и положил их в костёр у домовины, а следом ратай Антип понёс свою часть дров в огонь погребального костра.
Так прощались русичи со старейшиной Воиком. Вот уже за высоким пламенем не видно горящей домовины, а люди всё кидают и кидают дрова, заслоняя лицо от жара берёзовых дров, бросают и с поклонами отходят в сторону, уступая место очередным… Вольга тоже бросил два полена, потом отошёл к отцу Михайло, встал рядом. К горлу снова подступили непрошеные слёзы, и влажная пелена затмила глаза. Пламя весёлого трескучего костра стало от этого плохо видимым, зато хорошо было слышно, как в огне умирало сухое дерево, обдавая людей жаром высоких неистовых сполохов.
Люди стояли в безмолвии долго, пока костёр не затих, пока светло-золотистые угли не превратились в сизый невесомый пепел и ветер начал уже разносить его по ближним кустам. Вольга отошёл чуть в сторону и смотрел, как белгородцы насыпали поверх пепелища высокий могильный холм.
«Нет больше деда Воика, — печалился Вольга, украдкой от взрослых вытирая ладонью мокрые скулы, — а есть только память о нём да эта могила на вершине кургана. Дедко, зачем так рано ты уготовил себе погребальный костёр и ушёл от нас?»
Тяжело стало на душе, когда белгородцы один за другим неспешно стали покидать холм и возвращаться в город, чтобы помянуть тех, кто пал под Белгородом. Вольга последовал за ними, держась вместе с Васильком и Бояном последними среди уходящих, примиряясь с неизбежным: так велось спокон веков — старое умирает, а молодому жить в заботах завтрашнего дня.
«Люди, они как деревья в лесу, — вдруг вспомнились слова старейшины, сказанные ещё совсем недавно. — И каждому дереву — свой час и свой порыв ветра…» И Вольга пытался утешить себя тем, что его час не скоро придёт и что он успеет ещё сделать немало добрых дел для земли Русской, как это сделал старейшина Воик за свой срок жизни.
У подножия Кургана Богов Вольга оглянулся в последний раз: качались кроны деревьев над могилой старейшины Воика, и длинные тени легли на свежую землю кургана. Вольга прошептал чуть слышно:
— Прощай, дедко Воик. Я всегда буду помнить тебя. Буду беречь в памяти твоё имя, твои сказы о наших предках, от древнего Вукола и до тебя, старейшина. И стану навещать твой курган в этот день из года в год, пока жив буду…
Снова набежал южный ветер, снова закружил осенние листья и вместе со словами Вольги понёс их вверх, к могильному холму на вершине Кургана Богов, а Вольга пустился бегом догонять ушедших уже далеко в лес белгородцев.
Стрела Ярого
Я иду служить за веру христианскую,
И за землю русскую,
Да за стольный Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедных людей.
Былина «Илья Муромец и Калин-царь»Утром с запада надвинулись невесёлые и прохладные тучи, закрыли солнце, обложили небо от края и до края и повисли над ковыльной степью. Дул свежий ветер, ковыль ровно клонился широкими волнами через всё неоглядное поле. Ковыльные волны, потемневшие под сумрачным небом, бесшумно обтекали лесистые суходолы и балки, мягко дыбились, когда перекатывались через могильные курганы давно исчезнувших из степи и из памяти народов, и там, далеко на востоке, умирали, словно срываясь и падая в Днепр с высокого правобережья.
После тризны воевода Радко получил коней для дозорной заставы и отправил сотенного Ярого в помощь Власичу. Ярый настиг Власича на второй день уже на подходе к Роси и похвалил киевлянина, что шёл он следом за печенежским войском бережливо, выслал далеко вперёд и по сторонам сильные дозоры.
— Вместе теперь спроводим находников. Ведь и нас теперь сила немалая.
Обернулся в седле Власич — за спиной будто густой и ровно подрезанный молодой сосновый лес, так ровно и густо торчали над всадниками копья, не менее пяти сотен их было. И червлёные щиты широко растянулись по полю: пусть видит ворог, что дружина идёт следом немалая!
Власич через время спросил:
— Князь Владимир остался в Белгороде?
— Уехал. После тризны по старейшине Воику и иным павшим белгородцам, ночью же, сел на коня и уехал в Киев. Немалые заботы гнетут князя. Тяжко ему было на Кургане Богов, видел я. Старейшина Воик был одним из последних ратников, кто ходил под знамёнами князя Святослава.
— Но ведь и ты был рядом со Святославом в походах на Царьград! — отозвался Власич, оглядывая степь впереди заставы — слева постепенно надвигались густые заросли Приросья, в тех зарослях мог укрыться скорый на конский скок ворог. — И сказывают, был в немалой чести у князя Святослава. Неужто князь Владимир не вспомнил о тебе и не отметил?
Ярый улыбнулся светлыми голубыми глазами, а потом тронул пальцами шрам на правой щеке.
— Что я и что моё прошлое? Таких воев, как я, преданных до скончания живота своего, у князя Святослава много было! — Ярый погрустнел вдруг, вспомнив прожитое многолетие — да было ли всё это? Было ли радостное отрочество и первый поход на греков ещё безусым небывальцем, первый удар мечом о щит ворога и первый змеиный посвист стрелы над ухом, первый хмель сечи и первая похвала князя Святослава. Было, о том часто теперь напоминают раны, извещая о всякой перемене погоды. А вспомнив, что жизнь была незряшней, с пользой земле родной, снова улыбнулся, потеребил серого коня по чуть влажной шее, ласково понукая идти резвее по высохшему за лето и высокому, почти до колен, степному разнотравью.
— Князь Владимир вспомнил обо мне на тризне, хвалил за сечу под городом, из своих рук хмельным мёдом угощал. Звал в Киев доживать последние дни в тихом тереме, обещал присмотр и уход… Но я заставу не хочу оставлять! В ней и смерть приму, — сказал так Ярый, а сердце заныло от щемящей тоски. И не один ведь он — вои-други рядом, а такого, как Славич, где ещё сыщешь? Думалось совсем недавно, что доживёт он свои годы в горнице Славича, при детях и внуках его, да бог неба по-иному распорядился…
Впереди с облысевшего холма тяжело поднялся сытый курганник и полетел над степью, а его сжатые в кулачки мохнатые лапы низко висели над белыми метёлками ковыля.
— Зри, Ярый! — привстал над седлом Власич.
Навстречу им, поднятым над головой копьём делая знаки остановиться, торопил коня молодой дружинник. Подъехал и известил:
— У междулесья, где мы завалы делали, перед бродом, печенеги сторожевой полк выставили. Костры разводят, должно, останутся здесь и на ночь грядущую.
Ярый забеспокоился, торопливо сказал:
— Странно это, — помолчал в раздумии, спросил: — Кибитки находников через Рось переправлены или ещё на нашей стороне Роси?
Дружинник пояснил, что кибитки печенегов уже за рекой, добавил с нескрываемой радостью:
— Ещё усмотрели мы, сотенный, как часть печенежского войска, не менее трети полков, спешно и без кибиток умчалась в степь, будто за кем угоном пошли, при поводных конях каждый всадник. Большой шатёр кагана на нашем берегу поставлен, и стража вокруг шатра.
Ярый распорядился:
— Возвращайся к дозору, да следите исправно — не ударили бы печенеги по нам нежданно, — и повернулся к Власичу — Не понимаю кагана — уйти от Белгорода и вдруг встать у самого кона земли нашей! Зачем? Что задумали находники? И куда треть войска послал Каган? Может, опять хитрость какую умыслил Тимарь?
И тут же, словно по этому тревожному зову сотенного, из леса, который густо покрыл Поросье, выступила конная застава силою не менее тысячи копий. Глянул Ярый — на воях не шеломы русичей, а высокие меховые шапки. Да и откуда здесь русичам быть в такой силе?
— Исполчить дружину! — распорядился Ярый. По знаку Власича дружинники сомкнули строй, ощетинились длинными копьями.
— Ударим? — повернулся Власич к старшему в заставе и шелом надвинул по самые брови. По румяным щекам легли глубокие морщины — Власич сжал челюсти пальцами, перебирал тяжёлое древко копья, словно отыскивал самое удобное место, где сжать древко намертво.
— Почему коням должного хода не дают? — отозвался в раздумии Ярый, пристально вглядываясь в конную заставу — она медленным шагом надвигалась на полк русичей. До неизвестного войска оставалось менее поприща, а всадники ехали всё тем же неспешным шагом, будто не видели супротив них стоящих русичей. И копья по-прежнему торчат над меховыми шапками, не склонены к конским головам.
— Хитрость печенежская, — горячился Власич. — Их числом вдвое против нас. Не охватили бы со спины. Придавят к полкам у брода — костьми ляжем!
— Похоже, что так, — согласился осторожный сотенный. Пора было отходить к Белгороду. И в это время из строя чужих всадников отделился небольшой отряд. Когда конники стали хорошо различимы, Ярый удивлённо крякнул — одеты в бронь русичей!
— Что за наваждение? — проворчал Власич обескураженно. — Не печенеги ли переодетые?
Ярый дал знак изготовить луки. Если эти приблизятся вплотную, а весь полк тронется в галоп, он даст знак побить этих и уходить спешно к городу.
И тут Власич разразился радостным криком:
— Сбыслав! Да ты ли это? — И Ярому — Наш это, княжий сотник!
Сбыслав, пожилой, сухощавый в лице, непомерно длинный, так что ноги свисали пообок коня едва ли не к земле, не снимая боевой рукавицы, огладил бороду, с усмешкой спросил Власича и Ярого:
— Никак сечу со мной задумали начать? Ишь ощетинились, словно вепри при виде стаи волков!
Власич указал на всадников, с которыми его старый знакомый только что ехал.
Сбыслав понял жест Ярого и пояснил:
— Это торки князя Сурбара. Повелел князь Владимир выступить нам из Родни к Белгороду и при случае оказать вам помощь. Увидели мы печенегов у брода, затаились, стали доглядывать, себя не показывая, пока не приметили вашу заставу.
Через время торки соединились с заставой Ярого, приветствуя русичей радостными криками и взмахами кривых мечей. Тут же Сбыслав разослал из торков сильные дозоры перекрыть выход от брода, а русичи спешились приготовить ужин.
— Тимарь снарядил треть войска куда-то. Не к Родне ли? — выказал беспокойство Ярый. Сбыслав сказал, что с приходом из Киева пусть и престарелых дружинников вместе с отроками — небывальцами опасности городу от печенегов нет.
— Да и союзные нам торки близ Родни большим становищем держатся, — добавил Сбыслав, утирая рыжую короткую бороду после трапезы. — А тех печенегов, что в степь ушли, мы издали проводили. Половину дня обок с ними наши торки скакали. Те печенеги нам уже не страшны, в свои земли ушли.
— Отчего же Тимарь сам задержался у Роси? — не мог успокоиться Ярый.
А вечером, когда по степи растеклись первые сумерки, Ярый сказал Власичу и Сбыславу:
— Пойду лазутчиком к печенежскому стану. Ночь мне в помощь.
Сколько Власич ни отговаривал, Ярый стоял на своём:
— Пойду. Знать надо, что надумал коварный печенег? Надолго ли остановил войско у Роси?
— Возьми тогда хоть воев для бережения, — присоветовал Сбыслав, дивясь упорству старого сотенного.
— Не князь я, — отшутился Ярый. — Сто воев взять — много для лазутчиков, а десять не спасут, если на печенежские копья наткнёмся. К чему лишние жертвы?
Згар попросил:
— Возьми меня, Ярый. Обузой не стану, а за кровь Янка при случае долг вернуть печенегам хочется.
Ярый согласился:
— Тебя возьму, коли так просишь.
Пошли суходолом на восток, к Роси. В спину дул всё тот же ровный ветер с заката. Когда суходол сошёл на нет, поползли полем к кустам Приросья. Потом густо запахло прошлогодними листьями, и ветер перестал дуть в спину, но продолжал всё так же шуметь над головой, раскачивая деревья. Лишь теперь Ярый обернулся и поманил Згара поближе к себе, сказал, шёпотом:
— Кажется, прошли незамеченными. Дальше легче будет, лесом пойдём. Не отстань в дебрях, держись рядом.
Згар молча последовал за сотенным.
— Река совсем близко, — пояснил через время Ярый, но Згар и сам легко различил прохладную свежесть воды. — Теперь повернём вправо, вдоль берега, и выйдем к займищу у брода, где со Славичем стояли в последний раз…
Дальше шли уже почти на ощупь: тьма сгустилась быстро. Тьма была и там, над головой. Сквозь вершины деревьев совсем не просматривалось серое небо. И ни одной звезды за тучами не видать!
Звезды вдруг заблестели сквозь заросли прямо перед ними, густо и крупно, и тут же потянуло горьким дымом — так пахнет дым от горящих сухих листьев, кинутых в костёр. Ярый осторожно раздвинул ветки кустов — вот он, вражий стан!
Оба берега ещё не спали: и ближний, где хорошо было видно при свете костров всё займище, и правый, высокий, где костры освещали кибитки на высоких колёсах. У ближних костров группами сидели степняки, иные ходили, что-то меняли или делили — издали не разобрать. Ближе к реке, у орешника, где когда-то укрывался Тур со своими дружинниками, стоял шатёр кагана. Чуть левее, у самой реки, видны были три крытых возка на колёсах со спицами и железными ободами.
«Где же я видел такие вот возы? — силился вспомнить Ярый, а потом вдруг будто высветило в голове. — Да это же возы греческого посланца Торника! Да и сам Торник при своих возах, и стража его цела, не побита… Приходил к нам, выпытывал, лгал. Мы с Михайлой тогда решили, что для себя любопытствует грек, а он заодно с Тимарем!» Ярый увидел, как высокая фигура Торника изогнулась у костра, как он прошёл к ближнему возу и что-то там проверил, потом повернулся спиной к реке и о чём-то заговорил со слугой Алфеном, которого Ярый тоже помнил. В это время к греку спешно приблизился печенег, поклонился и указал рукой на шатёр кагана. Торник не торопясь пошёл следом за посыльным печенегом — и его признал Ярый: это был толмач Самчуга, — то и дело оглядываясь на своё добро во вместительных возах. Стража расступилась, и грек проворно скрылся в шатре.
Ярый понял всё — вот кто навёл печенегов на Русь! Вот на ком кровь названого сына Славича и тех, кто погиб под Белгородом! Коварный грек! Ел хлеб наш, пил нашу воду и такую подлость содеял! Ярый стиснул зубы, потянул из колчана длинную стрелу, прошептал Згару:
— Врал, что под стражей у кагана, а ему земно поклоны бьют, приглашая в шатёр! Врал, что пограблены товары и посылал своего человека за выкупом в Константинополь к брату, а его возы целы и под крепким охранением! Теперь бы только дождаться, когда выйдет из шатра. Змею со двора мало выгнать… Не вырвешь ей жало, жди нового укуса!
* * *
Тимарь сидел на бархатной подушке и смотрел на неспокойный язычок светильника. Фитиль потрескивал в жидком масле, и запах копоти стлался вокруг, пересиливая запахи трав и мокрых приречных зарослей.
Тяжёлые мысли теснились в голове кагана, а перед глазами то и дело вставал молодой князь, пронзённый копьём со спины так, что конец сверкающего жала, вспоров дорогой халат, вышел через грудь…
— Идут наши посланцы, идут, великий каган! — сотник Осташ первым оповестил Тимаря и Уржу о том, что печенежские посланцы разминулись с урусами на ничейном поле и приближаются к Белому Шатру.
— Вижу, — резко ответил Уржа, поманил сотника к себе и тихо напомнил о том, что было ведено сделать накануне отхода князя Анбала в город урусов. — Не забыл, сотник? Сотворишь кагану угодное дело, наутро тысячу воинов примешь под свою руку!
Осташ головой ткнулся в красный ковёр, постеленный перед кагановым шатром.
Князь Анбал в сопровождении бывших при нём верных нукеров поднялся на холм, приветствовал кагана.
— Были мы в городе урусов… — начал рассказывать молодой князь, но Тимарь резким движением руки остановил его, громко спросил, указывая рукой на сосуды, которые держали за спиной князя два нукера:
— Что это?
— Это и есть та пища, которой бог урусов наградил их город! Мы всё пробовали, великий каган — дивная пища в их колодцах, и…
— Внесите в шатёр! — распорядился каган, встал с подушки и в сопровождении брата, телохранителей и князя Анбала вошёл в шатёр, велел поставить корчаги урусов у двери. Сотник Осташ, выпроводив нукеров князя Анбала, сам остался у этих корчаг.
— Так ты говоришь, князь, это и есть пища, богами дарованная урусам Белого Города? — насмешливо спросил Уржа.
Анбал гордо вскинул голову, обидевшись на недоверие, которое сквозило в каждом слове старого князя Уржи.
— Да! В городе два колодца, и в них неизбывно черпается медовый раствор и молочный кисель…
— Теперь и мне понятно, почему урусы так долго стоят на стенах, — тихо проговорил Тимарь. — Идём, князь, перед всем войском о виденном расскажешь. Иди! Сотник, вынеси эти сосуды следом, войску напоказ.
Анбал вышел из шатра первым, за ним Тимарь, Уржа, а следом сотник Осташ с трудом вынес объёмистые корчаги, наполненные дарами белгородских колодцев.
— Слушайте, князья мои верные и вы, нукеры отважные! Посылали мы в город урусов своего подданного князя высмотреть всё и нам о том рассказать. Вернулся князь Анбал и говорит, что бог урусов даёт им пищу из волшебных колодцев! Князь и нам отпробовать той пищи принёс. Так ли, князь Анбал? — Тимарь резко повернулся к молодому князю.
— Так, великий каган и вы, князья печенежские! Налили урусы этой пищи и нам, чтоб отведали мы и не стояли зря под стенами…
— Хорошо! — прервал Анбала Тимарь. — Посмотрим мы, чем даровали урусы нашего посланца, чтобы мы ушли от стен их города! Сотник, покажи нам, что в этих сосудах?
Сотник Осташ рывком приподнял корчагу, опрокинул её, и на красный ковёр плеснулась пахучая медовая сыта, а потом тяжёлой струёй полились золотые монеты…
Ближние князья и старшие нукеры едва не кинулись к ковру, всяк по-своему — с удивлением, негодующе, зло — выказав рванувшееся из души негодование.
— Измена! — страшное слово первым выкрикнул сотник Осташ. — Князя подкупили урусы!
— Так вот какая пища богов в тех колодцах, князь Анбал! — Уржа, словно неотвратимый рок, вплотную подступил к Анбалу, а тот, не мигая, смотрел на горку золотых монет.
— Смерть предателю! — этот крик словно плетью хлестнул молодого князя по лицу. Он вскрикнул, взмахнул перед собой руками…
Осташ со всей силы ударил копьём князя в спину.
— Ты на князя поднял руку! Князя только каган может приговорить к смерти! — Уржа выхватил саблю и, не дав сотнику опомниться, свалил его на красный ковёр, рядом с поверженным князем Анбалом. Войско откликнулось гулким ропотом, и трудно было разобрать, князя ли осудили воины, или поступок сотника…
К Тимарю приблизился Уржа и чуть слышно прошептал:
— Ещё плохие вести, брат мой. Змеёныши — сородичи мёртвого Анбала — слух успели пустить среди войска, будто мы утаили золото, много золота, которым урусы якобы откупились перед всем войском! А мы, ты и я, убили князя и то золото себе оставили, чтоб с нукерами не делиться. И теперь все хотят справедливого дележа. Многие нукеры, не таясь от моих доглядчиков, грозятся не уйти от Роси, пока мы не совершим такого дележа.
Тимарь тяжело повернулся к брату, пытливо глянул в его узкие, настороженные глаза: брат думал, как спасти себя, кагана, как удержать власть в руках от завистливых и беспощадных сородичей, каждый из которых только и ждёт удобного случая.
«Обманули князей, нукеров… Анбала убили, а покоя душе так и не сыскали, — размышлял Тимарь, ворочаясь на подушке. — Расспрашивал я нукеров, ходивших в Белый Город урусов. С теми колодцами урусы через неделю повалились бы на траву, как валятся осенние мухи при первом морозе! Не от страха перед колодцами увёл я войско от проклятого города!»
— Коварные тмутараканцы! — выкрикнул Тимарь, не сдержавшись от прихлынувшей злости. — Должно, их лазутчики уследили-таки, когда кинулись мы на Кыюв! Теперь по нашим вежам гуляют безнаказанно!
Гонцы принесли весть о нападении тмутараканских урусов на печенежские вежи в тот час, когда Анбал только что возвратился из голодного Белого Города. Ещё неделю продержать город в осаде, и он упал бы к ногам кагана, как падает в траву откормленный осенний гусь, перенятый в воздухе меткой стрелой степного охотника!
Известие о тмутараканском нападении утаить не удалось, и родичи Анбала кинулись теперь со своими полками в угон за южными соседями-урусами. С оставшимися у Тимаря полками против дружины князя Владимира не устоять. Да вот сказывает брат Уржа, что и свои нукеры недобро шепчутся за спиной, чьей-то крови ищут. Чьей?
— Где же нам взять столько золота? — вздохнул Тимарь и поднял глаза на брата, а в них — тоска от ожидания близкой и неотвратимой расплаты за неудавшийся поход, за многие жертвы, не оплаченные добычей и большим полоном.
— Не о золоте, брат, речь теперь, — снова прошептал Уржа. — Если выставим золото, нукеры подумают, что скрыть хотели от них, нашим ворогам это будет на пользу. Надо найти виновного в неудаче похода. Не найдём — нас обвинят и потребуют крови. Тут уж родичи Анбала не станут дремать! Молодому Араслану власть князья не отдадут, в другом роду поищут достойного сидеть на подушке каганов!
— Чью кровь думаешь пролить? — спросил Тимарь, а сам в душе принял уже решение: потребуют нукеры его смерти — на колени встанет перед ними, повинится за свою старую глупость, но просить станет сберечь для будущей походной славы его сына Араслана. Пройдут годы, и сын сумеет взять своё, как сделал это он, оттеснив родичей старого Кури. — Я готов предстать перед войском, но ты живи и расти сына моего, брат…
— Это успеется, — ответил Уржа, удивлённо посмотрев на Тимаря. — Думаю, греков отдать. Больше пока среди нас некого выдать.
— Торник — посланец императора, — возразил было Тимарь. — Не сотворили бы греки зла нашим вежам.
Но Уржа настаивал на своём:
— Не до нас теперь императору. Помнишь, сказывал Торник, что арабы большой силой идут на Византию. Вновь появится нужда в наших богатырях, десятки посланцев пришлёт император и с богатыми дарами. А про Торника и не вспомнит даже. Что стоит жизнь одного? Тысячи таких гибнут в далёкой нам Византии.
Тимарь опустил голову, думал, однако, недолго — прав брат, другого пути нет, а своя кровь дороже чужой, — согласился:
— Пусть будет так. Князьям раздай меха из возов грека, а войско пусть насытится кровью чужеземцев. А ещё надо пустить слух среди нукеров, что привёл грека к нам князь Анбал, что задумали они зло против своего кагана. Если кто и не поверит — не велика беда, зато недруги прижмут лисьи хвосты.
Морщинистое лицо Уржи наконец-то осветилось улыбкой надежды.
— Мудро решил ты, брат, — сказал он и, выйдя из шатра, послал Самчугу за Торником.
Едва Иоанн вошёл в шатёр, как сзади у него тут же появились два рослых телохранителя, недобро сверкнули обнажённые мечи. Торник хотел было приветствовать кагана, но Тимарь прервал его нетерпеливым жестом:
— Ты убеждал меня, коварный грек, что Русь как спелый плод у дороги, а сорвать его некому! — Тимарь говорил тихо, но Торнику стало жутко от его голоса. — Ты убеждал меня, подлый грек, что Русь — кошель при дороге, и нужно только наклониться поднять его! — продолжал Тимарь, а Торник опускался перед каганом всё ниже и ниже: сперва голову склонил, затем надломился в коленях и влажными от пота ладонями коснулся мягкого ковра, но ковёр не согрел Иоанна, наоборот, почудилось ему, будто всё ещё пахнет плохо вымытая кровь князя Анбала, пересиливая запахи копоти светильника и восточных натираний.
— Ты убеждал меня, что в Белгороде нет дружины, а конная застава числом мала! — возвысил голос Тимарь, наливаясь злобой против грека. — Теперь я знаю — тебя послал в степь русский князь. Ты обманул меня и будешь за это казнён!
Нукеры за стенами Белого Шатра притихли, перестали переговариваться вполголоса, слушая грозного кагана.
— О великий повелитель степи, — голос Торника задрожал, а сам он на коленях посунулся по красному ковру к Тимарю, — выслушай меня, и тогда…
Но Тимарь прервал его хрип несдерживаемым криком.
— Наслушался уже! Взять и бросить у шатра связанным! А утром будет казнь обманщикам. При всём войске. Вон ехидну с глаз долой!
— Пощади, о великий каган! — умолял Торник. — Рабом твоим буду бессловесным! Пощади-и-и!.. — хрипел грек и извивался в руках телохранителей. Но печенеги скрутили ему руки за спину, связали сыромятным ремнём и потащили к выходу. За шатром слышно было, как бросили на землю связанное тело, а когда грек застонал, кто-то из нукеров ударил его ногой и крикнул:
— Заткнись, ты! Мигом вырежу язык собакам!
И до утра всё затихло, только ухал неподалёку в зарослях над Росью потревоженный многолюдством филин да изредка покашливал один из телохранителей, не в силах совладать с хворью. Тихо было, но Тимарь спал плохо. Слушал ровное дыхание сына пообок — Араслан спал, положив рядом готовый к действию меч и не сняв железной рубахи, скрытой под халатом. Ворочался с боку на бок, в размеренных шагах нукеров страшился распознать крадущиеся шаги наёмных убийц, несколько раз поднимал голову с подушки, чтобы лучше слышать, и вновь забывался ненадёжным, чутким сном.
Проснулся с головной болью и зло крикнул Самчугу — брить лицо.
Тимарь вышел из шатра, сощурил воспалённые от бессонницы веки, не выдержав встречного яркого солнца. На правом берегу реки, будто напуганные волчьим воем овцы, теснились друг к другу кибитки, а над ними сизой пеленой стлался вечный спутник кочевников — дым костров.
Перед войском со связанными руками стояли греки, и первым из них был Иоанн Торник, как чертополох осенний, длинный и чёрный. Прыщеватый Алфен то и дело валился на траву. Нукеры поднимали его копьями. Тимарь сплюнул и подал знак Урже:
— Начинай.
Уржа ловко поднялся на красивые носилки между двумя конями, встал над войском и начал громко выкрикивать:
— Храбрые богатыри! Верные нукеры повелителя степей! Много и удачно водил вас в походы великий и славный каган Тимарь! И везде вас тяготили после походов обильная добыча и полон. А теперь идём мы в свои вежи почти пустыми. И повинны в этом коварные греки. Они хитростью через скрытых врагов проникли в наш стан и были приняты нами за посланцев дружественного нам императора. Это они обманули великого кагана, сказав, будто русская дружина ушла из Кыюва. А она сидела за крепкими стенами Белого Города! Это их вина, что нечем порадовать вам старых родителей, нечем одарить жён и невест. Великий каган приговорил казнить их!
Войско, обманутое в своих надеждах поживиться чужим добром, содрогнулось от ярости.
— Сме-ерть им! Сме-ерть! — кричала степь, потрясая мечами и копьями, порываясь тут же произвести страшную расправу.
Ещё кричало войско, ещё крик этот метался между правым берегом и лесом, а к ногам палача уже упало первое тело — человек нанялся к Торнику в посольскую стражу денег заработать, а нашёл смерть на берегу далёкой славянской реки Роси. Второй грек пытался было уклониться от удара, но широкий меч настиг его.
Тимарь вздрогнул, когда греки, бывшие стражники при посольстве Иоанна Торника, вдруг с безумными воплями, будто слепые, кинулись бежать в разные стороны. Один упал сразу, трое были настигнуты печенегами и убиты в спину копьями, а двое, несуразно раскачиваясь — руки у них были связаны за спинами и бежать было неудобно, — всё же достигли плотной стены войска. Но от волка спасения в когтях у барса ищет только обезумевший.
Добежали и грудью ударились о густой ряд склонённых копий и так стояли, пронзённые, некоторое время, хватая широко раскрытыми ртами свежий утренний воздух: потом повалились навзничь, разбросав по траве ноги.
Тимарь и сам уже разъярился от вида пролитой крови, а Уржа, стоя перед Торником и Алфеном, по-заячьи быстро-быстро дёргал ноздрями.
— Этих — на берёзы! — закричал вдруг Уржа и холодным клинком меча ткнул в грудь сомлевшего до бесчувствия Алфена. Пот и слёзы смешались на толстых щеках Алфена. Ноги уже не служили ему. Подскочили нукеры, разрезали ремни на руках, подняли. Грек рванулся вдруг из крепких рук печенегов и кинулся на колени перед Тимарем, торопливо — не опоздать бы спасти жизнь! — засунул руку за отворот затёртого халата и выхватил заветный кошель с золотом, протянул кагану.
— Великий повелитель, жизни молю, жизни! — и с воплем тут же отпрянул. Это Тимарь, в злобе перекосив рот, взмахнул мечом, и Алфен уронил к ногам кагана золото и кисть правой руки. Нукеры с криками и руганью поволокли Алфена и Торника к залитому солнцем лесу. Печенеги арканами наклонили к земле две молодые берёзы, привязали к ним ноги Алфена и уже с трудом сдерживали, ожидая сигнала отпустить. Берёзки рвались из грубых рук…
— Аа-а-ай! — Алфен закричал так, словно тугое небо лопнуло от края и до края, а Торник упал лицом в траву, не в силах смотреть на то, что ожидало и его. Миг крика, а потом страшная тишина задавила займище, только шелест листьев, безучастных к человеческому горю и боли, да тяжёлый выдох многотысячного войска.
— Теперь твой черёд отправиться к мёртвым, — прошипел Уржа, подступаясь к Иоанну Торнику. Торник вскинул над собой руки, длинные и трясущиеся, замахал ими, словно отталкивая от себя всплывшее во сне страшное привидение.
— Великий бог, спаси!.. — кричал Торник, вдруг вспомнив холодный погреб брата Харитона и его тихий шёпот, который сулил ему несметные богатства и почести царедворцев. — Харитон, проклина-а-аю тебя! Будь проклят, Иуда, погибель от тебя! Алмазы мои, золото… Всё отдам! Одарю нукеров! Выкуп дам, большой выкуп! — кричал Торник, извиваясь на спине, словно гадюка, над которой занесены острые вилы. Потом перевернулся лицом к земле, руками начал хвататься за слабую траву.
Слово о выкупе было услышано.
— Пусть даст выкуп войску! — закричали ближние нукеры, и дальние не замедлили поддержать:
— Хватит крови! Какая в том польза? Взять выкуп для войска!
Уржа поспешил дать знак, и нукеры подняли шатающегося Торника, повели к Тимарю. На полдороге поверивший в своё спасение грек освободился от рук печенегов, отряхнул мусор с халата. Не удержался и повернулся к берёзам, чтобы ещё раз увидеть то, чего только что счастливо избежал, — спасло золото.
Вдруг тонко свистнула прилетевшая из леса стрела и ударила в грудь Иоанна Торника. Грек без единого звука опрокинулся на спину. Печенежское войско колыхнулось, сомкнуло ряды и ощетинилось копьями, ожидая из леса неведомого и страшного, теперь уже для себя, а телохранители сомкнули перед Тимарем стену щитов, оберегая своего повелителя.
Но там, в безветренном лесу, пели птицы и ласково трепетала облитая утренним солнцем листва высоких тополей, ловя еле различимый верховой ветер. Ближе к жаркому всё ещё полудню подул лёгкий северный ветер, и туман ушёл в степь, а вслед за туманом на юг, в море сухого ковыля, пошло войско.
Когда копыта последнего печенежского коня ступили за край земли Русской, на грудь Иоанна Торника упал с неба проголодавшийся за ночь курганник, сложил жёсткие крылья, осмотрелся, обошёл торчащую из сердца стрелу и когтистой лапой ступил на застывшее лицо богато одетого византийского василика.
Печенежские войны глазами современников
Из сочинения Константина Багрянородного «ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМПЕРИЕЙ»[114]
Император Константин VII, прозванный Багрянородным (Порфирогенитом), родился в 905 году. Формально он занимал трон в течение более чем полувека — с 908 года и до самой своей смерти в 959 году, — однако на долгие годы был отстранён от власти своим тестем Романом I Лакапином и реально правил Империей лишь с 945 года. Лишённый реальной власти, Константин получил возможность заняться науками, литературой. Его перу принадлежат «Жизнеописание» его деда императора Василия I Македонянина, трактаты «О фемах>» и «О церемониях византийского двора», а также «Об управлении империей». Последнее сочинение (составленное в 948-952 годах) представляет собой свод практических рекомендаций, адресованных сыну Константина Роману II. Значительное место в сочинении занимают советы о том, как строить отношения с соседними «варварскими» народами. Показательно, что трактат начинается с анализа византийско-печенежских отношений и рекомендаций об использовании печенегов против других,
враждебных Империи народов, в том числе росов. Преемники Константина па деле осуществили многие из его рекомендаций.
1. О пачинакитах[115]: насколько полезны они, находясь в мире с василевсом ромеев[116]
...Я полагаю всегда весьма полезным для василевса ромеев желать мира с народом пачинакитов, заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиария[117] с подобающими и подходящими дарами для народа и забирать оттуда омиров, т. е. заложников[118], и апокрисиария, которые прибудут в Богохранимый этот град[119] вместе с исполнителем сего дела и воспользуются царскими благодеяниями и милостями, во всём достойными правящего василевса.
Поскольку этот народ пачинакитов соседствует с областью Херсона, то они, не будучи дружески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять и самый Херсон, и гак называемые Климаты[120].
2. О пачинакитах и росах
[Знай], что пачинакиты стали соседними и сопредельными также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб.
[Знай], что и росы озабочены тем, чтобы иметь мир с пачинакитами. Ведь они покупают у них коров, коней, овец и от этого живут легче и сытнее, поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Росии не водилось[121]. Но и против удалённых от их пределов врагов росы вообще отправляться не могут, если не находятся в мире с пачинакитами, так как пачинакиты имеют возможность — в то время, когда росы удалятся от своих [семей], — напав, всё у них уничтожить и разорить. Поэтому росы всегда питают особую заботу, чтобы не понести от них вреда, ибо силён этот народ, привлекать их к союзу и получать от них помощь, так чтобы от их вражды избавляться и помощью пользоваться.
[Знай], что и у царственного сего града ромеев, если росы не находятся в мире с пачинакитами, они появиться не могут, ни ради войны, ни ради торговли, ибо, когда росы с ладьями приходят к речным порогам[122] и не могут миновать их иначе, чем вытащив свои ладьи из реки и переправив, неся на плечах, нападают тогда на них люди этого народа пачинакитов и легко — не могут же росы двум трудам противостоять — побеждают и устраивают резню.
3. О пачинакитах и турках[123]
[Знай], что и турок род весьма страшится и боится упомянутых пачинакитов потому, что был неоднократно побеждаем ими и предан почти полному уничтожению, оттого турки всегда страшными считают пачинакитов и трепещут перед ними.
4. О пачинакитах, росах и турках
[Знай], что пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки не могут нападать на державу ромеев по закону войны, а также не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев. Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко нападать па землю росов и турок, уводить в рабство их жён и детей и разорять их землю.
5. О пачинакитах и булгарах[124]
[Знай], что и булгарам более страшным казался бы василевс ромеев и мог бы понуждать их к спокойствию, находясь в мире с пачинакитами, поскольку и с этими булгарами соседят названные пачинакиты и, когда пожелают, либо ради собственной корысти, либо в угоду василевсу ромеев, могут легко выступать против Булгарин и, благодаря своему подавляющему большинству и силе, одолевать тех и побеждать. Поэтому и булгары проявляют постоянное старание и заботу о мире и согласии с пачинакитами. Так как [булгары] многократно были побеждены и ограблены ими, то по опыту узнали, что хорошо и выгодно находиться всегда в мире с пачинакитами.
6. О пачинакитах и херсонитах
[Знай], что и другой народ из тех же самых пачинакитов находится рядом с областью Херсона. Они и торгуют с херсонитами, и исполняют поручения как их, так и василевса и в Росии, и в Хазарии, и в Зихии[125], и во всех тамошних краях, получая, разумеется, от херсонитов заранее согласованную плату за эту самую услугу, соответственно важности поручения и своим трудам, как-то: влаттии, прандип, харерии[126], пояса, перец, алые кожи парфянские и другие предметы, требуемые ими, как о том каждый херсонит сумеет договориться с любым из пачинакитов при соглашении или уступит его настояниям. Ведь, будучи свободными и как бы самостоятельными, эти самые пачинакиты никогда и никакой услуги не совершают без платы.
7. О василиках[127], посылаемых из Херсона в Пачинакию
Всякий раз, когда василик переправится в Херсон ради подобного поручения, он должен тотчас послать [вестника] в Пачинакию и потребовать от них заложников и охранников. Когда они прибудут, то заложников оставить под стражей в крепости Херсона, а самому с охранниками отправиться в Пачинакию и исполнить порученное. Эти самые пачинакиты, будучи ненасытными и крайне жадными до редких у них вещей, бесстыдно требуют больших подарков: заложники домогаются одного для себя, а другого для своих жён, охранники — одного за свои труды, а другого за утомление их лошадей. Затем, когда василик вступит в их страну, они требуют прежде всего даров василевса и снова, когда ублажат своих людей, просят подарков для своих жён и своих родителей. Мало того, те, которые ради охраны возвращающегося к Херсону василика приходят с ним, просят у него, чтобы он вознаградил труд их самих и их лошадей.
8. О василиках, посылаемых из Богохранимого града в Пачинакию с хеландиями[128] по рекам Дунай, Днепр и Днестр
[Знай], что и в стороне Булгарии расположился народ пачинакитов по направлению к области Днепра, Днестра и других там имеющихся рек. Когда послан отсюда василик с хеландиями, то он может, не отправляясь в Херсон, кратчайшим путём и быстрее найти здесь тех же пачинакитов, обнаружив которых, он оповещает их через своего человека, пребывая сам на хеландиях, имея с собою и охраняя на судах царские вещи. Пачинакиты сходятся к нему, и, когда они сойдутся, василик даёт им своих людей в качестве заложников, но и сам получает от пачинакитов их заложников и держит их в хеландиях. А затем он договаривается с пачинакитами. И, когда пачинакиты принесут василику клятвы по своим «законам»[129], он вручает им царские дары и принимает «друзей»[130] из их числа, сколько хочет, а затем возвращается. Так-то нужно договариваться с ними, чтобы, когда у василевса явится потребность в них, они бы исполнили службу будь то против росов либо против булгар, либо же против турок, ибо они в состоянии воевать со всеми ими и, многократно нападая на них, стали ныне [им] страшными...
[Знай], что пачинакиты с наступлением весны переправляются с той стороны реки Днепра и всегда здесь проводят лето.
9. О росах, отправляющихся с моноксилами[131] из Росии в Константинополь
[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда[132], в котором сидел Сфендослав[133], сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски[134], из Телиуцы[135], Чернигоги[136] и из Вусеграда[137]. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киова[138], называемой Самватас[139]. Славяне же, их пактиоты[140], а именно: кривитеипы[141], лендзанины[142] и прочие славинии — рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лёд, вводят в находящиеся по соседству водоёмы. Так как эти [водоёмы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долблёнки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти вёсла, уключины и прочее убранство... снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву[143], которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трёх дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр. Прежде всего они приходят к первому порогу, нарекаемому Эссуии, что означает по-росски и по-славянски «Не спи». Порог [этот] столь же рок, как пространство Циканистирия[144], а посередине его имеются обрывистые высокие скалы, торчащие наподобие островков. Поэтому набегающая и приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, издаёт громкий страшный гул. Ввиду этого росы не осмеливаются проходить между скалами, но, причалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив в моноксилах, затем нагие, ощупывая своими ногами [дно, волокут их], чтобы не натолкнуться на какой-либо камень. Так они делают одни у носа, другие посередине, а третьи у кормы, толкая [её] шестами, и с крайней осторожностью они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Когда они пройдут этот первый порог, то снова, забрав с суши прочих, отплывают и приходят к другому порогу, называемому по-росски Улворси, а по-славянски Островунипрах, что значит «Остров порога». Он подобен первому, тяжек и трудно проходим. И вновь, высадив людей, они проводят моноксилы, как и прежде. Подобным же образом минуют они и третий порог, называемый Геландри, что по-славянски означает «Шум порога», а затем так же — четвёртый порог, огромный, нарекаемый по-росски Аифор, по-славянски же Неасит[145], так как в камнях порога гнездятся пеликаны. Итак, у этого порога все причаливают к земле носами вперёд, с ними выходят назначенные для несения стражи мужи и удаляются. Они неусыпно несут стражу из-за пачинакитов. А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят рабов[146] в цепях по суше на протяжении шести миль, пока не минуют порог. Затем также одни волоком, другие на плечах, переправив свои моноксилы по сю сторону порога, столкнув их в реку и внеся груз, входят сами и снова отплывают. Подступив же к пятому порогу, называемому по-росски Варуфорос, а по-славянски Вулнинрах, ибо он образует большую заводь, и переправить опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-росски Леанди, а по-славянски Веручи, что означает «Кипение воды», и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-росски Струкун, а по-славянски Напрези, что переводится как «Малый порог». Затем достигают так называемой переправы Крария, через которую переправляются херсониты, [идя] из Росии, и пачинакиты на пути к Херсону. Эта переправа имеет ширину ипподрома, а длину, с низа до того [места], где высовываются подводные скалы, — насколько пролетит стрела пустившего её отсюда дотуда. Ввиду чего к этому месту спускаются пачинакиты и воюют против росов. После того как пройдено это место, они достигают острова, называемого Св. Григорий. На этом островке они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они и жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми. От этого острова росы не боятся пачинакита, пока не окажутся в реке Селина. Затем, продвигаясь таким образом от [этого острова] до четырёх дней, они плывут, пока не достигают залива реки, являющегося устьем, в котором лежит остров Св. Эферий. Когда они достигают этого острова, то дают там себе отдых до двух-трёх дней. И снова они переоснащают свои моноксилы всем тем нужным, чего им недостаёт: парусами, мачтами, кормилами, которые они доставили [с собой]. Так как устье этой реки является, как сказано, заливом и простирается вплоть до моря, а в море лежит остров Св. Эферий, оттуда они отправляются к реке Днестр и, найдя там убежище, вновь там отдыхают. Когда же наступит благоприятная погода, отчалив, они приходят в реку, называемую Аспрос, и, подобным же образом отдохнувший и там, снова отправляются в путь и приходят в Селину, в так называемый рукав реки Дунай. Пока они не минуют реку Селина, рядом с ними следуют пачинакиты. И если море, как это часто бывает, выбросит моноксил на сушу, то все [прочие] причаливают, чтобы вместе противостоять пачинакитам. От Селины же они не боятся никого, но, вступив в землю Булгарин, входят в устье Дуная. От Дуная они прибывают в Конопу, а от Конопы — в Констанцию... к реке Варна; от Варны же приходят к реке Дичина. Всё это относится к земле Булгарии. От Дичины они достигают области Месемврии — тех мест, где завершается их мучительное и страшное, невыносимое и тяжкое плавание. Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киова и отправляются в полюдия, что именуется «кружением»[147], а именно — в Славинии вервианов, другувитов, кривичей, севериев и прочих славян[148], которые являются пактиотами росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лёд на реке Днепр, возвращаются в Киов. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы, они оснащают [их] и отправляются в Романию[149]...
10. О народе пачинакитов
Да будет известно, что пачинакиты сначала имели место своего обитания на реке Атил[150], а также на реке Геих[151], будучи соседями и хазар, и так называемых узов[152]. Однако пятьдесят лет назад упомянутые узы, вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной их страны, и владеют ею вплоть до нынешних времён так называемые узы. Пачинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения. Достигнув земли, которой они обладают и ныне, обнаружив на ней турок[153], победив их в войне и вытеснив, они изгнали их, поселились здесь и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего дня уже в течение пятидесяти пяти лет.
Да будет ведомо, что вся Пачинакия делится на восемь фем, имея столько же великих архонтов. А фемы таковы: название первой фемы Иртим, второй — Цур, третьей — Гила, четвертой — Кулпеи, пятой — Харавои, шестой — Талмат, седьмой — Хопон, восьмой — Цопон. Во времена же, в какие пачинакиты были изгнаны из своей страны, они имели архонтами в феме Иртим Ваицу, в Цуре — Куела, в Гиле — Куркутэ, в Кулпеи — Ипаоса, в Харавои — Кандума, в феме Талмат — Косту, в Хопоне — Гиаци, а в феме Цопон — Батана. После смерти этих власть унаследовали их двоюродные братья, ибо у них утвердились законы и древний обычай, согласно которым они не имели права передавать достоинство детям или своим братьям; довольно было для владеющих им и того, что они правили в течение жизни. После же их смерти должно было избирать или их двоюродного брата, или сыновей двоюродных братьев, чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также и родичи по боковой линии. Из постороннего же рода никто не вторгается и не становится архонтом. Восемь фем разделяются на сорок частей, и они имеют архонтов более низкого разряда.
Должно знать, что четыре рода пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукалпеи, фема Вороталмат и фема Вулацопон, — расположены по ту сторону реки Днепра по направлению к краям [соответственно] более восточным и северным, напротив Узин, Хазарин, Алании, Херсона и прочих климатов. Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гназихопон соседит с Булгарией, фема Нижней Гилы соседит с Туркией, фема Харавон соседит с Росией, а фема Иавдиертим соседит с подплатёжными стране Росии местностями, с ультинами[154], дервленинами, лензанинамн и прочими славянами. Начинания отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от Алании — на шесть дней, от Мордии[155] — на десять дней, от Росии — на один день, от Туркии — на четыре дня, от Булгарин — на полдня, к Херсону она очень близка, а к Боспору ещё ближе.
Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так называемыми узами и поныне находятся среди них, имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать, кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих): ведь одеяние своё они укоротили до колен, а рукава обрезали от самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они отрезаны от своих и от соплеменников...
Должно знать, что пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трёх фем: Иавдиирти, Куарщщур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар.
Из «Повести временных лет»[156]
В год 6476 (968)[157]. Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце[158], и запёрлась Ольга со своими внуками — Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я проберусь», и ответили ему: «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня?» Ибо знал он по-печенежски[159], и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: «Если не подойдёте завтра к городу, то люди сдадутся печенегам». Воевода же их, по имени Претич, сказал: «Пойдём завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав». И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, и люди в городе закричали. Печенеги же решили, что пришёл князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это возвратился один к воеводе Претичу и спросил: «Кто это пришёл?» А тот ответил ему: «Люди той стороны (Днепра)». Печенежский князь спросил: «А ты не князь ли?» Претич же ответил: «Я муж его, пришёл с передовым отрядом, а за мною идёт войско с самим князем: бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и нельзя было коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придёшь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жать тебе своей отчины, старой матери, детей своих?» Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушатся о перенесённом от печенегов. И собрат воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир...
В год 6479 (971) ...Заключив мире греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его, и пошёл в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идёт мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришёл Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стаю у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.
В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Свенельд же пришёл в Киев к Ярополку. А всех лет княжения Святослава было 28.
В год 6496 (988). ...И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева». И стаз ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суде, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города, так как была война с печенегами. И воевал с ними, и побеждал их.
В год 6499 (991) Владимир заложил город Белгород, и набрал для него людей из иных городов, и свёл в него много людей, ибо любил город тот.
В год 6500 (992) Пошёл Владимир на хорватов. Когда же возвратился он с хорватской войны, пришли печенеги по той стороне Днепра от Суды; Владимир же выступил против них и встретил их на Трубеже у брода, где ныне Переяславль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались наши перейти на ту сторону, ни те на эту. И подъехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего — пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать три года; если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года». И разошлись. Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?» И не сыскался нигде. На следующее утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску своему, и пришёл к князю один старый муж, и сказал ему: «Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он дома остался. С самого детства никто его не бросил ещё оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разодрал кожу руками». Услышав об этом, князь обрадовался, и послали за ним, и привели его к князю, и поведал ему князь всё. Тот отвечал: «Князь! Не знаю, могу ли я с ним схватиться, но испытайте меня: нет ли большого и сильного быка?» И нашли быка, большого и сильного, и приказал он разъярить быка; возложили на него раскалённое железо и пустили быка. И побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться». На следующее утро пришли печенеги и стали вызывать: «Где же муж? Вот наш готов!» Владимир повелел в ту же ночь облечься в доспехи, и сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа: был же он очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга, и удавил муж печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. И кликнули наши, и побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у брода того и назвал его Переяславлем, ибо перенял славу отрок тот[160]. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою великою.
В год 6504 (996). ...После этого пришли печенеги к Василеву, и вышел против них Владимир с небольшою дружиною. И сошлись, и не смог устоять против них Владимир, побежал и стал под мостом, едва укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание поставить церковь в Василеве во имя святого Преображения, ибо было в тот день, когда произошла та сеча, Преображение Господне[161]. Избегнув опасности, Владимир построил церковь и устроил великое празднование, наварив мёду 300 мер. И созвал бояр своих, посадников и старейшин из всех городов и всяких людей много, и роздал бедным 300 гривен. Праздновал князь восемь дней, и возвратился в Киев в день Успенья святой Богородицы[162], и здесь вновь устроил великое празднование, сзывая бесчисленное множество народа.
В год 6505 (997). Пошёл Владимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная великая война. Узнали печенеги, что нет князя, пришли и стали под Белгородом. И не давали выйти из города, и был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов, а печенегов было многое множество. И затянулась осада города, и был сильный голод. И собрали вече в городе, и сказали: «Вот уже скоро умрём от голода, а помощи нет от князя. Разве лучше нам так умереть? Сдадимся печенегам — кого оставят в живых, а кого умертвят; всё равно помираем от голода». И так порешили на вече. Был же один старец, который не был на том вече, и спросил он: «О чём было вече?» И поведали ему люди, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышат, что хотите сдаться печенегам». Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им: «Послушайте меня, не сдавайтесь ещё три дня и сделайте то, что я вам велю». Они же с радостью обещали послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей». Они же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на чём кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в него кадь, и налить её болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кадь, и повелел поискать мёду. Они же пошли и взяли лукошко мёду, которое было спрятано в княжеской медуше. И приказа! сделать из него пресладкую сыту и вылить в кадь в другом колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сам войдите человек с десять в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем». Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах и послали в город, чтобы проведали, что делается в городе. И пришли они в город, и сказали им люди: «Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, посмотрите своими глазами». И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром, и вылили в латки. И когда сварили кисель, взяли его, и пришли с ними к другому колодцу, и почерпнули сыты из колодца, и стали есть сперва сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князи наши, если не отведают сами». Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты из колодца и дали печенегам. Они ж, вернувшись, поведали всё, что было. И, сварив, ели князья печенежские и подивились. И взяв своих заложников, а белгородских пустив, поднялись и пошли от города восвояси.
Из письма епископа Бруно Кверфуртского германскому королю Генриху II[163]
Немец Бруно, епископ Кверфуртский, посетил Киев зимой 1007 или 1008 года, направляясь к печенегам, среди которых он намеревался проповедовать христианство. Князь Владимир на некоторое время задержал его, а затем лично проводил до границы своего государства. Бруно провёл среди печенегов пять месяцев, но не добился ощутимых результатов и вынужден был возвратиться обратно на Русь. Из Киева немецкий епископ направился в Польшу, к князю Болеславу I Храброму. Находясь там, он обратился с письмом к тогдашнему противнику Болеслава германскому королю Генриху II с письмом, в котором призывал двух враждующих правителей к миру. В этом письме содержатся подробности о его пребывании на Руси и о его печенежской миссии.
Бруно окончил свою жизнь в земле пруссов, которых он также пытался обратить в христианскую веру. Но опять неудачно: в феврале или марте 1009 года язычники-пруссы убили его.
Благочестивому покровителю церкви, Императору Генриху[164], пишет достойный жалости Брунон, — пишет государю благочестивому, вполне сознающему и то, что ему прилично, и то, что всевидящему Господу Богу угодно...
Вот уже целый год прошёл, как мы, после долгого, но бесплодного пребывания в Венгрии[165], оставили эту страну и на правились к печенегам — самым злым язычникам.
Русский государь[166], известный могуществом и богатствами, удерживал меня у себя целый месяц (как будто бы я по своей воле шёл на гибель!) и противился моему предприятию, стараясь убедить меня не ходить к этому дикому народу, среди которого невозможно отыскать ищущих спасения, а найти себе бесполезную смерть — всего легче. Но он не мог отклонить меня от моего намерения, и так как его страшило какое-то видение о мне недостойном, то он сам, с войском своим, два дня провожал меня до последних пределов своего государства, которые у него, для безопасности от неприятеля, на очень большом пространстве, обведены, со всех сторон, самыми прочными завалами. На границе он слез с коня; я шёл впереди со спутниками моими, а он следовал за нами со своими старейшинами; таким образом мы и вышли за ворота (укрепления)[167]. Владимир расположился на одном холме, а мы — на другом. Я держал в руках крест Христов, распевая знаменитую песнь: «Любишь ли меня, Пётр?.. ...Паси агнцы моя»! По окончании пения государь прислал к нам одного из старейшин сказать: «Я довёл тебя до того места, где оканчивается моя земля и начинается неприятельская. Именем Бога умоляю тебя, не губи, к моему бесславию, своей молодой жизни! Я убеждён, что завтра, раньше трёх часов, ты, без цели и пользы, встретишь горькую смерть». Мой ответ был такой: «Пусть Господь откроет тебе рай, так, как ты открыл нам путь к язычникам».
Два дня шли мы без всякого препятствия; на третий день — это была суббота — нас рано схватили печенеги. В тот же самый день нас всех, с наклонёнными головами и обнажёнными шеями, три раза, т.е. утром, в полдень и ввечеру, подводили под топор палача. Но чудесной помощью Божиего и св. Петра, нашего покровителя, мы избавились от неизбежной смерти. Было воскресенье, когда нас препроводили в главный стан печенегов. Нам назначена была особая ставка, и мы должны были там жить до тех пор, пока весь народ, оповещённый через нарочитых гонцов, не соберётся на совет. В следующее воскресенье, при наступлении вечера, нас ввели в середину этого собрания, погоняя бичами нас и коней наших. Несметная толпа народа, с сверкавшими от злости глазами и пронзительным криком, бросилась на нас; тысячи топоров, тысячи мечей, простёртых над нашими головами, грозили рассечь нас на части. Так нас мучили и непрестанно терзали до тёмной ночи, пока наконец печенежские старейшины не поняли речей наших, и, убедившись по свойственной им прозорливости, что мы для их же пользы прибыли в их страну, не исторгли нас властию своею из рук народа. После этого, соизволением Господа Бога и святейшего апостола Петра, мы пять месяцев оставались среди печенежского народа; объехали три части их страны; до четвёртой же не могли дойти; но и из неё некоторые важнейшие обитатели прислали к нам своих поверенных. Обратившись к христианской вере, по указанию Божию, около 30 душ, мы, от лица Русского князя заключили с печенегами мир, которого, как они меня уверяли, другой никто, кроме нас, заключить не мог бы. «Мир этот, — говорили они, — есть твоё дело. Если он будет прочен, как ты нам обещаешь, мы все охотно сделаемся христианами. Но если повелитель Руси поколеблется в исполнении своих обещаний, в то время нам не до христианства будет: мы тогда только о войне помышлять будем». С таким ответом мы прибыли к Русскому князю, и он, снисходя к моей просьбе и имея в виду прославление имени Божия, дал печенегам, в заложники мира, сына своего. Посвятивши во епископы одного из монахов наших, мы отправили его, вместе с сыном князя, в глубь печенежской земли, так, к наибольшей чести и славе Господа Бога, избавителя нашего, было тогда посеяно христианство между самым грубым и самым свирепым, какой только есть на земле, языческим народом.
Теперь я иду к пруссам, куда да предшествует мне и где да совершит всё, что совершил и для других, тот, кто постоянно предшествовал мне до сих пор, т. е. милосердный Господь, а также и повелитель мой — святейший Пётр...
...Что ещё вам сказать? — Узнайте, что — свидетель этому Христос — везде, где только могу, стараюсь быть вернейшим поборником выгод вашего государства, и я, хотя и не умею молиться пред лицом Господа, но не перестаю просить Его, чтобы вас осенила спасительная благодать Божия и чтобы во всяком деле содействовала вам всесильная помощь нашего Петра. Вы же, для обращения пруссов и лютичей, не оставляйте нас своею помощью и подавайте нам, сколько можете, советы и пособия, как прилично государю благочестному и надежде вселенной; ибо теперь вся наша забота, вся деятельность и всё старание должны быть, при помощи апостола Петра и благодати Св. Духа, направлены к обращению этих жестокосердных язычников.
Прощай, государь. Живи честно для Бога, помни о добрых делах, чтобы умереть созревшим в добродетелях и обогащённым летами.
Биографические сведения об исторических лицах — участниках печенежских войн
Асмуд (годы жизни неизвестны), варяг, воевода князя Игоря, а затем княгини Ольги; воспитатель («кормилец») малолетнего Святослава. В 944—945 годах, вместе со Свенельдом, обеспечил переход власти в Киеве к Ольге, вдове Игоря, и возглавлял киевское войско в походе против древлян. Дальнейшая судьба неизвестна.
Владимир Святославич (ок. 962—1015), князь Новгородский (с 969), Киевский (с 978). Сын князя Святослава Игоревича и ключницы Малуши, «робы» Ольги. Занял киевский престол в результате братоубийственной войны с князем Ярополком Святославичем. В 988—989 годах принял крещение (с именем Василий) и сделал христианство государственной религией на Руси. Много и в целом успешно воевал, в том числе и с печенегами — почти непрерывно с 988 года до своей смерти. Организовал оборону южных границ Руси от печенегов; построил несколько городов по рекам, притокам Днепра, в том числе Белгород (в 991 году). Провёл реформы государственного управления, права. По общепринятому мнению, именно в его время завершается процесс оформления Древнерусского государства.
Волчий Хвост (годы жизни неизвестны), воевода князя Владимира Святославича. Известен тем, что возглавлял войско в походе против радимичей в 984 году. Об участии в других войнах Владимира сведений нет. Согласно известию ряда летописей, был воеводой князя Святополка Окаянного и возглавлял его войско в неудачной для Святополка битве с Ярославом Мудрым у города Любеч.
Игорь (ум. 945), киевский князь. Согласно летописи, сын Рюрика, что, однако, вызывает определённые сомнения. Во время правления Олега (ум. 912) номинально считался киевским князем, но во всём был «послушен» своему старшему родственнику. При Игоре печенеги впервые появились в пределах Руси: в 915 году Игорь заключил с ними мир, в 920 — воевал, в 944 году привлёк печенегов к походу на Константинополь. Дважды воевал с Византией: в 941 году русский флот потерпел сокрушительное поражение, в 944 году византийцы откупились и заключили с Игорем мирный договор. Игорь погиб в 945 году во время сбора «полюдья» (ежегодной дани) в земле древлян. По свидетельству византийского историка Льва Диакона, древляне (византиец ошибочно назвал их «германцами») привязали Игоря к стволам двух склонённых к земле деревьев и разорвали его тело надвое.
Калокир, византиец, патрикий, сын протевона (видного представителя городской верхушки) Херсона. В 967 году был отправлен императором Никифором Фокой к русскому князю Святославу Игоревичу с предложением отправиться в поход против Дунайской Болгарии. Впоследствии был приближен Святославом к себе. В событиях русско-византийской войны принимал участие на стороне русских, весной 971 года бежал из захваченного византийцами Преслава. Дальнейшая судьба неизвестна.
Куря, хан печенежский, убийца князя Святослава Игоревича. Каких-либо других сведений о Куре (помимо его участия в битве с русскими у днепровских порогов весной 972 года) в источниках нет.
Ольга (ум. 969), киевская княгиня, жена князя Игоря, мать Святослава. В 945 году, после гибели Игоря, сумела удержать в своих руках власть в Киеве и во всём Киевском государстве. В 945 году лично участвовала в походе киевского войска против древлян. Упорядочила сбор дани с подвластных Киеву племён. В 957(?) году в Константинополе приняла крещение (с именем Елена). В 959 году направила посольство к германскому королю Отгону I с просьбой прислать епископа для утверждения христианства на Руси. Епископ действительно был послан, однако успеха не добился и бежал из Киева. Во время постоянных отлучек Святослава на попечении Ольги оставались внуки — Ярополк, Олег и Владимир. Весной 969 года Ольга находилась в Киеве во время осады города печенегами. Вероятно, эта осада окончательно подорвала её здоровье: Ольга умерла в том же году летом.
Претич (годы жизни неизвестны), воевода князя Святослава. В летописи упоминается лишь в связи с попыткой освобождения Киева от печенегов весной 969 года.
Свенельд (умер после 977 года), варяг, воевода Игоря, Ольги, Святослава, Ярополка. Один из наиболее выдающихся военных и государственных деятелей Киевской Руси; согласно летописи, на протяжении более чем пятидесяти лет (с 922 но 977 год) занимал главенствующее положение в княжеской дружине. Участвовал во многих военных походах — покорил власти Киева уличей, древлян (за что получил уличскую и древлянскую дани), воевал с византийцами, печенегами, возглавлял войска Ярополка Святославича в его войне с братом Олегом. Историки, однако, называют Свенельда «чёрным гением» начальной русской истории: с его именем, косвенно или прямо, связывается гибель трёх русских князей — Игоря, Святослава и его сына Олега, а также, опосредованно, и Ярополка.
Святослав (ок. 942—972), князь Киевский (с 945), один из наиболее выдающихся полководцев средневековой Руси. Воевал с Хазарией (965; победы Святослава привели к полной ликвидации Хазарского каганата), Дунайской Болгарией (968—969), Византией (969—971). Предпринял попытку перенести столицу своего государства на Дунай. Весной 969 года отразил печенежское нашествие на Киев, заключил мир с печенегами. Убит в битве с печенегами у днепровских порогов весной 972 года.
Сфенкел (ум. 971), воевода князя Святослава, участник его дунайского похода и войны с Византией. Известен только из византийских источников, которые называют его третьим по значению в русском войске. Погиб в битве у Доростола.
Ярополк Святославич (ум. 978), князь Киевский (с 969; фактически с 972). По свидетельству позднейших источников, незадолго до смерти одержал победу над печенегами и «возложил на них дань». Воевал со своим братом Олегом, а затем и с Владимиром. Последняя война стала для Ярополка роковой: после поражения от брата Ярополк был убит по приказу Владимира.
Хроника печенежских войн
915 — Первое появление печенегов в пределах Руси. Киевский князь Игорь заключает мир с ними.
920 — Война Игоря с печенегами.
944 — Военный союз печенегов и Руси. Совместный поход против Византии.
965 — Возможный союз князя Святослава Игоревича с печенегами, направленный против Хазарин.
969, весна — Нашествие печенегов на Русь, осада Киева. Возвращение Святослава в Киев и заключение мира с печенегами.
970 — Участие печенегов на стороне Святослава в войне с Византией.
971, осень — Расторжение русско-византийского союза.
972, весна — Сражение русских с печенегами у днепровских порогов. Гибель Святослава.
976(?) — Война князя Ярополка Святославича с печенегами, закончившаяся победой русских и возложением на печенегов дани(?)[168].
977(?) — Ярополк принимает на службу печенежского князя Илдею(?).
978, конец лета — осень — Бегство в Печенегию после гибели Ярополка его боярина Варяжко; русско-печенежские войны, завершившиеся заключением мира.
988(?) — Крещение печенежского князя Метигая, перешедшего на службу к князю Владимиру Святославичу(?).
989 — Начато непрерывных русско-печенежских войн. Строительство городов по пограничным рекам; строительство и обустройство южной границы.
992 Нашествие печенегов на Русь, сражение на реке Трубеж у Переяславля. Подвиг русского отрока-кожемяки. Заключение трёхлетнего перемирия с печенегами.
996, около 6 августа — Набег печенегов на город Василев (близ Киева). Поражение Владимира у Василева.
997 Летопись сообщает о «беспрестанных войнах с печенегами». Поход Владимира к Новгороду, за «верховными воинами». Осада печенегами Белгорода.
1001(?) Сражение с печенегами. Взяты в плен печенежский хан Родман и трое его сыновей(?).
1004(?) — Набег печенегов на Белгород, отражённый богатырями Александром (Алёшей) Поповичем и Яном Усмошвецом (Кожемякой) (?).
1007 или 1008, начало зимы — Миссия в Печенегию епископа Бруно Кверфуртского. Установление русско-печенежского мира. Один из сыновей князя Владимира остаётся в заложниках у печенегов.
1013 — Заключение польско-печенежского союза, направленного против Руси. Вторжение на Русь польско-печенежской коалиции во главе с польским князем Болеславом I. Заключение мира с Болеславом.
1015, весна — Известие о появлении печенегов на границах Руси. Русское войско во главе с князем Борисом Владимировичем выступает в поход против печенегов, но до сражения дело не доходит.
1015/16 — Заключение союза с печенегами князя Святополка Окаянного, пасынка Владимира. Ярослав Владимирович во главе новгородско-варяжской дружины разбивает Святополка и печенегов у города Любеч на Днепре.
1019 — Святополк вновь приводит печенегов на Русь. Битва на реке Альта. Решительная победа Ярослава Владимировича.
1036 — Последнее нашествие печенегов на Русь. Битва у Киева. Русское войско во главе с князем Ярославом Владимировичем наносит печенегам окончательное поражение.
1169 — Последнее упоминание о печенегах в русской летописях.
Библиография
Повесть временных лет. Ч. 1—2. М., Л., 1950 (2-с изд.: СПб., 1996).
Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 9. М., 1965.
Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
Лев Диакон. История. М., 1988.
Васильевский В. Г. Византия и печенеги // Васильевский В. Г. Труды. Т. 1. СПб., 1908.
Голубовский П. В. Печенеги, горки и половцы до нашествия татар // Университетские известия, год 23. № 1. Киев, 1883.
Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997.
Плетнёва С. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях // Материалы и исследования по археологии СССР. 1958, № 62.
Плетнёва С. А. Половцы. М., 1990.
Расовский Д. А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. VI. Praha, 1933.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982.
Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1991.
Примечания
1
Знаменитая Никоновская летопись, составленная в XVI веке, называет имя этого отрока-кожемяки — Ян Усмошвец. Согласно поздним преданиям, записанным в этой летописи, он много воевал с печенегами и совершил великие подвиги вместе с былинным богатырём Александром (Алёшей) Поповичем. Впрочем, согласно другим летописям, былинный Алёша Попович жил гораздо позднее — в XIII веке и сложил свою буйную голову в битве на Калке в 1223 году.
(обратно)2
Палатий — крепость, обитель императора.
(обратно)3
Охрану столицы Византии (и дворцов) несли воины-наёмники особого огромного отряда, состоявшего из большой (Великой) этерии, средней этерии и малой).
(обратно)4
Логофет дрома — высокий придворный чин.
(обратно)5
Патрикий — представитель верхушки византийского чиновничества, чин первого класса.
(обратно)6
Хитон — длиннополая одежда.
(обратно)7
Динат — землевладелец, вообще человек, выдающийся властью и богатством.
(обратно)8
Кастрон — крепость; строили их в своих имениях и византийские феодалы.
(обратно)9
Фемы — военные округа.
(обратно)10
Паволока — драгоценная ткань.
(обратно)11
Василевс — император.
(обратно)12
Пресвевт — византийский посланник.
(обратно)13
Доместик — военачальник, главнокомандующий армии.
(обратно)14
Хеландия — военное судно.
(обратно)15
Оплиты — тяжеловооружённые воины-копьеносцы.
(обратно)16
Каюк — лёгкая лодка.
(обратно)17
Суд — название гавани у Константинополя.
(обратно)18
Мандракия — акватория, огороженная искусственными молами.
(обратно)19
Галера — гребное военное судно для действий у берегов и в шхерах.
(обратно)20
То есть победа дорогой ценой.
(обратно)21
Епитимья — очищение от грехов.
(обратно)22
Леги — буквы, то есть подпись. Обычно императоры утверждали документы: «Я прочёл».
(обратно)23
Эдикт — указ, документ.
(обратно)24
Обнять богиню Нию — умереть.
(обратно)25
Вира — штраф.
(обратно)26
Василисса — императрица.
(обратно)27
Кафизма — башня с площадкой и внутренним ходом, возвышавшаяся над трибунами, с неё императоры и их приближённые созерцали состязания на ипподроме.
(обратно)28
Нередко называя Константинополь, свою столицу, Вторым Римом, византийцы любили торжественно величать себя римлянами.
(обратно)29
Номисма — золотая монета.
(обратно)30
Претор — придворный чин, возглавлявший византийских сыщиков, вербовавших платных доносчиков из числа горожан.
(обратно)31
Катафракта — тяжёлая бронированная кавалерия.
(обратно)32
Мистий (или мистот) — наёмный работник феодала.
(обратно)33
Акриты — солдаты пограничных византийских войск.
(обратно)34
Крарийская переправа — узкое, опасное место на днепровских порогах, удобное для нападения на проплывающие суда.
(обратно)35
Югра — старинное название Западной Сибири.
(обратно)36
Богомилы — еретики, отрицавшие обряды, почитание икон, креста, призывавшие не работать на своих господ и на царя.
(обратно)37
Перпер — мелкая монета.
(обратно)38
То есть германцев.
(обратно)39
Комит — вельможный титул.
(обратно)40
Паракимомен — начальник царской опочивальни.
(обратно)41
Аксамит — бархат.
(обратно)42
Парики — бесправные крестьяне, часто из бывших мелких землевладельцев, у которых динаты отбирали наделы и принуждали работать на себя, закрепощая их.
(обратно)43
Хилиарх, таксиарх — воинские чины, командиры армейских отрядов.
(обратно)44
Епитрахилья (или епитрахиль) — особая часть обрядового облачения священника, представлявшая собой длинную ленту, надеваемую на шею.
(обратно)45
Тагма являла собою четыре кавалерийских полка (схола, эскувита, арифма, иканата), один пехотный полк (нумера) и отряд императорских телохранителей (этерия).
(обратно)46
Василик — посол, вестник. (Здесь и далее примечания автора).
(обратно)47
Кон — конец, край, граница.
(обратно)48
Гость — купец.
(обратно)49
Вежи — стойбища.
(обратно)50
Киса — кожаный мешочек для денег, который носили на поясе.
(обратно)51
Гора — центр древнего Киева на горе Кия.
(обратно)52
Этерия — конная гвардия Византии.
(обратно)53
Василевс — император Византии.
(обратно)54
Друнгарий — в Византии начальник друнга, отряда пехоты в 1–3 тысячи человек.
(обратно)55
Проэдр — буквально: председатель, первое лицо в государстве после императора Византии.
(обратно)56
Куропалат — высокий придворный титул — мажордом.
(обратно)57
Логофет — канцлер, заведующий финансами Византии.
(обратно)58
Чёрное море.
(обратно)59
Ноговицы — штаны.
(обратно)60
Треба — жертва.
(обратно)61
Вепрь — дикий кабан.
(обратно)62
Тур — дикий бык.
(обратно)63
Корзно — накидка, плащ.
(обратно)64
Платно — длинная рубаха.
(обратно)65
Ратай — пахарь.
(обратно)66
Вено — выкуп за невесту.
(обратно)67
Особина — участок земли, взятый в аренду.
(обратно)68
Рядович — человек, заключивший договор (ряд).
(обратно)69
Закуп — человек, взявший в долг (купу).
(обратно)70
Поприще — расстояние в 2/3 версты.
(обратно)71
Дымник — отверстие в крыше для выхода дыма из очага.
(обратно)72
Гривна — фунт серебра.
(обратно)73
Перестрел — расстояние, равное дальности полёта стрелы.
(обратно)74
Тризна — поминки по усопшему.
(обратно)75
Гридница — комната для воинов — гридней.
(обратно)76
Бирич — глашатай, посыльный.
(обратно)77
Оберег — талисман.
(обратно)78
Говяда — бык или корова.
(обратно)79
Сулица — короткое копьё для метания со стен.
(обратно)80
Туга — печаль (отсюда — тужить).
(обратно)81
Тульники — мастера по изготовлению луков.
(обратно)82
Чада — дети.
(обратно)83
Золотники, куны, резаны — денежные единицы Древней Руси.
(обратно)84
Требище — место принесения жертв языческим богам.
(обратно)85
Волхвы — служители культов у языческих славянских племён.
(обратно)86
Постолы — лапти.
(обратно)87
Вече — общее собрание горожан для решения важных дел.
(обратно)88
Обры — племена, некогда жившие в Приднепровье.
(обратно)89
Осрама — стыд, позор (отсюда — осрамиться).
(обратно)90
Навы — мертвецы.
(обратно)91
После принятия христианства князь Владимир женился на сестре византийского императора Василия Анне.
(обратно)92
Чуры — души предков.
(обратно)93
Усмарь — кожевник.
(обратно)94
Кравец — портной.
(обратно)95
Красно — красиво.
(обратно)96
Тать — вор, разбойник.
(обратно)97
Жило — ярус, этаж.
(обратно)98
Пацинаки — печенеги.
(обратно)99
Рота — клятва, обещание.
(обратно)100
Родня — город в Древней Руси на Днепре при устье реки Рось.
(обратно)101
Ябедьник — княжеский чиновник, судебное должностное лицо.
(обратно)102
Доможирич — управляющий имением, хозяйством.
(обратно)103
Кат — палач.
(обратно)104
Червень — июль
(обратно)105
Ревун — сентябрь
(обратно)106
Рыже-бурой.
(обратно)107
Кибить — дуга лука.
(обратно)108
Подзоры — концы лука.
(обратно)109
Сыта — мёд, разбавленный водой.
(обратно)110
Итиль — древнее название реки Волги.
(обратно)111
Рака — старинное название гроба.
(обратно)112
Домовина — маленький рубленый домик для сожжения покойника: языческий обряд захоронения на Руси.
(обратно)113
На Руси был обычай вывозить покойника на санях даже летом.
(обратно)114
Фрагмент и» сочинения публикуется по изданию: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С.37-51, 155-159. Перевод Г.Г. Литаврина.
(обратно)115
Пачинакиты — печенеги.
(обратно)116
Василевс ромеев — официальный титул византийских императоров. Сами византийцы (этнические греки) именовали себя «ромеями» (буквально «римлянами»), подчёркивая тем самым, что именно они являются прямыми наследниками и продолжателями Древнего Рима, а их василевсы — непосредственные преемники римских императоров.
(обратно)117
Апокрисиарий — посланник.
(обратно)118
Практика обмена заложниками широко использовалась в средние века в международных отношениях, в частности гарантируя неприкосновенность посланников, направлявшихся во враждебную страну.
(обратно)119
Богохранимый град — Константинополь.
(обратно)120
Херсон (или Херсонес Таврический) — город в Крыму, бывшая античная колония, владение Византии (находился на территории современного Севастополя). Климаты — официальное название фемы (округа) Херсона; фема занимала южную часть Крымского полуострова.
(обратно)121
Явное преувеличение. Археологические исследования показывают, что скотоводство было важной отраслью сельского хозяйства в древней Руси.
(обратно)122
Речь идёт о знаменитых днепровских порогах; подробнее Константин рассказывает о них в главе 9.
(обратно)123
Константин именует турками венгров.
(обратно)124
Речь идёт о дунайских булгарах (болгарах) — славянском народе, получившем имя от булгар-тюрок, захвативших их страну в VII веке и впоследствии смешавшихся со славянами.
(обратно)125
Хазария — государство, занимавшее в X веке обширные территории на среднем и нижнем Дону, нижней Волге, на Северном Кавказе, в Тамани и восточном Крыму. Зихия — политическое объединение группы адыгских племён.
(обратно)126
Влаттии — драгоценные ткани, главным образом шёлковые; прандии — ленты, тесьма, покрывала, головные уборы; харерии — вид шёлковой (персидской) ткани.
(обратно)127
Василики — исполнители особых поручений императора.
(обратно)128
Хеландии — византийские тяжёлые военные судна.
(обратно)129
Константин использует славянское слово «закон», очевидно известное и печенегам.
(обратно)130
Понятие «друзья» использовалось византийцами для обозначения своих союзников.
(обратно)131
Моноксилы — буквально, однодерёвки, русские ладьи, основания (кили) которых состояли из цельного бревна. Такая ладья вмещала приблизительно 40 человек.
(обратно)132
Немоград — Новгород.
(обратно)133
Святослав, сын Игоря. Архонт — византийское название князя.
(обратно)134
Смоленск.
(обратно)135
Какой город имеется в виду, неясно. Предполагают (но без достаточных оснований), что это Любеч на Днепре.
(обратно)136
Чернигов.
(обратно)137
Вышгород (город на Днепре в 15 км выше Киева).
(обратно)138
Киев.
(обратно)139
Название загадочное и не объяснённое до сих пор.
(обратно)140
Пактиоты — данники; иногда союзники.
(обратно)141
Кривичи.
(обратно)142
Название неясно.
(обратно)143
Витичев — город на Днепре, близ Киева.
(обратно)144
Цикаиистирий — императорский манеж для конноспортивных игр на территории Большого дворца в Константинополе.
(обратно)145
Неясыть (старославянское название пеликана). Но, скорее, название порога (позднейшее «Ненасытен,», «Ненасытенский») связано с опасностью, которую он таил.
(обратно)146
Рабы составляли один из главных предметов русского экспорта.
(обратно)147
Речь идёт о полюдье — обряде сбора дани киевским князьям; Константин использовал в своём сочинении древнерусское слово.
(обратно)148
Перечислены древляне, дреговичи, кривичи, северяне — славянские племена, платившие дань киевскому князю.
(обратно)149
Романия — Византийская империя.
(обратно)150
Атил — Волга (тюркское название — Итиль).
(обратно)151
Геих — Яик, река Урал.
(обратно)152
Узы (или гузы; русские называли их торками) — тюркский племенной союз, живший в X веке в заволжских степях.
(обратно)153
Турки — венгры.
(обратно)154
Ультины — уличи.
(обратно)155
Мордия — область расселения финно-угорского племени мордвы.
(обратно)156
Отрывки из «Повести временных лет», посвящённые русско-печенежским войнам эпохи Святослава и Владимира, печатаются по изданию: Повесть временных лет. 2-е изд. СПб., 1996. С. 168-172, 191-195. Перевод Д.С. Лихачёва.
(обратно)157
В древней Руси вели счёт от «сотворения мира». Чтобы перевести такую дату в привычную нам (от Рождества Христова), в обыкновенных случаях, надо вычесть из неё 5508 лет. В данном случае речь идёт о весне 969 года.
(обратно)158
Святослав находился в Переяславце на Дунае, в Болгарии.
(обратно)159
Скорее всего, отрок, знавший печенежский язык, провёл длительное время среди печенегов или в качестве пленника, или (что более вероятно) в качестве заложника.
(обратно)160
Город Переяславль существовал задолго до Владимира. Вероятно, речь идёт о закладке Владимиром нового города (новых крепостных укреплений) на реке Трубеж. В некоторых списках «Повести временных лет» название города ошибочно объяснено так: «...ибо Переяслав — имя отроку тому».
(обратно)161
Преображение Господне празднуется 6 августа (19-го по новому стилю).
(обратно)162
Успение Богородицы празднуется 15 (28) августа.
(обратно)163
Фрагмент письма Бруно Кверфуртского Генриху II печатается по изданию: Оглоблин Н. Письмо архиепископа Брунона к германскому императору Генриху II // Университетские известия. Киев, 1873. № 8. С. 5-13. Перевод Н. Оглоблина.
(обратно)164
Генрих принял императорский титул только в 1014 году.
(обратно)165
До своего путешествия на Русь и к печенегам Бруно находился в Венгрии (в 1005—1006 годах); вероятно, именно там он повстречался с печенегами и загорелся желанием обратить их в христианство.
(обратно)166
Киевский князь Владимир Святославич.
(обратно)167
Речь идёт об укреплениях, которые князь Владимир Святославич поставил вдоль своих южных границ.
(обратно)168
Знаком вопроса обозначены события, достоверность которых вызывает сомнения.
(обратно)



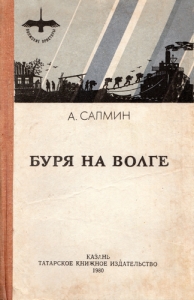
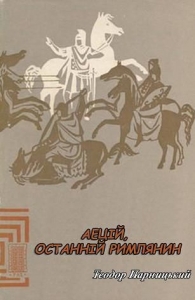
Комментарии к книге «Печенежские войны», Игорь Васильевич Коваленко
Всего 0 комментариев