НИК. ШПАНОВ
КРАЙ ЗЕМЛИ
(Продолжнние)
X О Л Г О Л
1. ПЕСОК
Остров Холгол или Колгуев лежит в Баренцовом море между 68°44' и 69°32' с. ш. и 48°26' и 50°3' в. д. от Гринвича. Протяжение острова 73 км с севера на юг и 57 км с востока на запад.
Большую часть года Колгуев бывает отрезан от материка, так как сообщение с ним возможно лишь в тот период, когда льды не преграждают пути судам. При этом, вследствие особенностей движения льдов в Северном Ледовитом океане, доступ к Колгуеву бывает закрыт значительно больший промежуток времени, нежели доступ к значительно севернее расположенным островам, как например, к Новой Земле. В то время, как к Новой Земле в большинстве случаев можно свободно пройти уже в мае, Колгуев в июне зачастую бывает еще со всех сторон окружен льдом. В этом году даже еще в начале июля суда, шедшие мимо Колгуева к устью Печоры, не могли достичь цели.
Природа Колгуева резко отличается от природы остальных островов полярных морей. В то время как поверхность этих островов в большинстве случаев покрыта возвышенностями и зачастую скалистые берега их мало доступны со стороны моря, поверхность Колгуева представляет собой типичную тундру - низкую болотистую равнину, прорезанную немногочисленными невысокими холмами с очень отлогими склонами - как бы кусок Малоземельской тундры, отрезанной от материка рукавом Баренцова моря.
Население Колгуева очень невелико и состоит из 29 самоедских семейств численностью в 230 человек, живущих в 42 чумах.
Единственное становище на Колгуеве - Бугрино, по существу просто фактория Госторга, расположено на южном берегу.
Подход к острову с этой стороны исключителен по неудобству. Но, по какой-то злой традиции делать многое рассудку вопреки наперекор стихиям, старорежимные пионеры - купцы, забравшиеся сюда в погоне за дешевым песцом, основали становище Бугрино именно на этом неудобном берегу. А у наших советских колонизаторов не хватило смелости махнуть рукой на две гнилые избушки купца Попова, и они стали пристраиваться тут же, пренебрегая тем, что здесь берег настолько обмелел, что даже такое судно, как наш бот, принуждено бросать якорь, примерно, в трех милях от берега. Ближе к берегу против становища сереют большие кошки. Даже на шлюпке приходится сделать крюк в несколько миль, чтобы подойти к становищу, и то не ближе чем на километр в сторону.
Хотя мы и шли во время большой воды, но подойти к черте прилива шлюпкой нельзя было и несколько сажень приходится шлепать по воде пешком. Если располагать хорошими сапогами, то не беда. Но когда мне пришлось лезть со шлюпки в воду в сапогах, изготовленных московским магазином "Турист", я испытывал не большое удовольствие. Прежде чем я сделал пять шагов, в сапогах уже чмокала вода. А вода здесь студеная. Особенно в добавление к совершенно промокшей от брызгов на шлюпке спине.
Но все неприятности были тут же искуплены, стоило нам выбраться на берег. Нога утопает в тонком морском песке, на высокий откос берега невозможно выбраться по жирной, как масло, и скользкой глине. На откосе заманчиво голубеет кустик ярких незабудок.
Песок и глина.
Навстречу нам, по выстланному плотно слежавшейся мелкой галькой краю берега не спеша идет агент Госторга. С ним какие-то женщины в меховых шапках и непривычно теплых для июля пальто. Впереди, вперегонку с целой сворой собак, бегут ребятишки. Бледные личики выглядывают из-под капюшонов малиц.
Агент на острове - первое лицо. Это чувствуется во всей его неторопливой повадке. Однако такая повадка сохранилась недолго. Скоро агент - Дмитрий Ефимович Жданов -сбросил с себя губернаторскую личину и превратился в обыкновенного матроса, с крепким словом, размашистым жестом и верным, не обманывающим глазом. Трюмный машинист военного флота в прошлом, Жданов теперь вместе с обязанностями агента Госторга выполняет на острове и некоторые другие; он - бухгалтер, заведующий складом, продавец, браковщик мехов, ученый оленевод, ветеринар, плотник, печник, водонос, дроворуб и моторист катера.
Первым из нас, кто заинтересовал Жданова, был радист. Жданов особенно тепло пожал ему руку, покрутил за пуговицу бушлата. Такое радушие агента вполне понятно, если принять во внимание, что на Колгуеве нет радиостанций, и наше судно является первой возможностью послать во внешний мир известие о себе. После того внимание Жданова сосредоточивается на нашем капитане.
- Андрей Васильевич, грузa для меня есть?
- Такое впечатление, что полон трюм.
- А что именно?
- Да главным образом песок - около ста бочек.
- Ну вот, опять та же история. Ведь сколько раз я сообщал о том, что у нас песок не идет. Самоед - он требует рафинаду, а что мне теперь...
- Постойте-ка, вы про какой песок-то?
- Один песок-то ведь - сахарный.
- Нет, бывает еще золотой. А только у меня для вас ни сахарный ни золотой, а самый нормальный - речной.
- И в бочках?
- В бочках... вот эффект.
Красная луна Андрея Васильевича расплылась в улыбку.
Приняв все это за шутку, Жданов тоже засмеялся больше, по-видимому, из вежливости, так как ему было сейчас не до шуток. Легко ли, действительно, год прождать привоза новых товаров, сидеть последние месяцы без сахару, без чаю, курить одну махорку, а тут вдруг не добьешься у шутливо настроенного капитана толку, какие товары прибыли на пополнение запасов. Поневоле улыбка у Жданова вышла довольно кислой. Но капитан разочаровал его еще больше.
- И глина, Дмитрий Ефимович, тоже в бочках.
- Да нет, Андрей Василич, вы шутки-то бросьте, давайте всерьез об деле поговорим.
У Андрея Васильевича начала еще пуще обыкновенного краснеть и без того красная луна лица.
- Никакого впечатления шуток, товарищ Жданов, не должно получаться. Сказано ясно: песок и глина в таре. Потрудитесь принять.
Выражение плохо воспринятой шутки сменилось на лице Жданова неподдельным недоумением. Коротким броском руки он даже сдвинул на затылок свой малахай.
- Куда мне к чортовой матери этот песок, позвольте спросить? Для чего вы собственно его везли невесть откедова?
- А это уж, позвольте, не мое дело. Предписано Госторгом груз принять и доставить Колгуевской фактории, а зачем и почему - не интересуюсь... Так, частным образом, как будто бы для строительных надобностей. Говорят, тут у вас ни песку ни глины нет... Для Новой Земли тоже не малое количество в Архангельске заготовлено, кажется, что на "Ломоносова" грузить будут.
Жданов порывисто нахлобучил малахай на лоб и решительно заявил:
- Я песку примать не стану. Мне чего одна выгрузка его станет.
Выгрузка товаров на Колгуев, действительно, представляет большие трудности. Из-за мелководья грузы доставляются к берегу на карбасах, причем карбас может пройти к берегу только один-два раза в сутки в большую воду. Доставить груз до черты прилива обязана судовая команда за плату в 5 коп. с пуда. На самом бережку груз сваливается и предоставляется попечениям агента. Отсюда груз предстоит поднимать на высокий обрывистый откос, где стоит амбар фактории. Это проделывают самоеды за поденную плату в 5 рублей человеку. А так как производительность труда самоедов совершенно ничтожна, то понятно, что разгрузка ложится невероятным накладным расходом на товар.
Жданов подумал и подтвердил:
- Нет, не стану примать.
Однако капитан, по-видимому, тоже решил не сдаваться.
- Ну, этот эффект вы, батенька, бросьте. Песок теперь ваш, вы его и принимайте.
- Сыпьте в море прямо с борта.
- Не могу. Я груз принял и должен вам сдать.
- Но ведь вы же оконфузите меня на всю жизнь перед самоедами: "какой дурак русак песок из Архангельска возит". Я уже не говорю о том, что будет стоить выгрузка. Очень прошу вас смайнать за борт.
- Как я могу бросать за борт груз, за который в Архангельске по 45 рублей за куб плачено, да упаковка, да фрахт! Что вы шутите, что ли? Какой эффект получится в Архангельске, если за борт сто бочек смайнать?
- Ну, а мне-то с ним что делать? - и агент недоуменно развел руками.
- Я выгружу, заплачу за выгрузку, а там уже ваше дело, - невозмутимо хрипит Андрей Васильевич.
Потом я видел злополучные бочки с песком аккуратно сложенными на берегу. Для того, чтобы самоеды не интересовались этими бочками, агент широко оповестил о том, что в них прибыла селедка (самоеды селедки не едят).
Утопая по щиколотку в прибрежном песке и гальке, мы добрались до становища Бугрина. Здесь всего четыре жилых дома, если можно присвоить это название той конуре, в которой живет помощник агента Госторга, известный здесь под кличкой "Наркиз" (личность примечательная, но о нем ниже).
Размеры дома Наркиза таковы, что до середины ската крыши я свободно достаю рукой. Чтобы войти в дверь, нужно согнуться в поясе под углом 90°.
Остальные постройки немногим лучше. Обшитый толем дом агента состоит из четырех клетушек общей площадью 15 квадратных метров. Здесь он живет с семьей из трех человек; тут и контора, сюда же набиваются приезжающие по делам самоеды. Когда в "столовой" стоит самовар и сидят человек пять, то не только негде уже стать, но некуда даже выдохнуть из себя воздух.
Рядом с домом агента стоит покосившаяся избушка метеорологического наблюдателя Убеко Баранкеева. Потолки этой избушки оставили много шишек на моей голове.
В центре поселения стоит сооружение, замечательное исключительностью совмещаемых им функций: это - склад мехов Госторга и церковь. Не какая-нибудь ликвидированная, заштатная церковь, а самая настоящая, действующая.
Через никогда не закрывающиеся двери мы попадаем в просторное помещение, доверху заваленное тюками связанных постелей. Из-за тюков виден иконостас с расставленными перед ним аналоями. На аналоях священные книги. Дверь алтаря тоже не заперта.
Вхожу.
На престоле разложены орудия производства: два креста, дароносица, кадило и т. п. В середине - большое евангелие. Сбоку в шкапчике висят облачения.
В общем вся эта часть оставлена совершенно нетронутой и, хотя здесь нет священника, она содержится в порядке.
Самоед, которому приходит в голову справить молебен или панихиду, приезжает в Бугрино. Сам открывает церковь, зажигает свечи, разводит кадило и начинает службу. Обычно это делает старший в семье, все же семейство молится в церкви. Если у приехавшего есть родные, похороненные на близлежащем христианском кладбище, то он ходит с кадилом и вокруг могил. Трудно сказать, в чем заключаются, моления этих импровизированных священнослужителей и их прихожан, ведь большинство из них даже не имеют представления о русском языке.
Содержится церковь на доброхотные пожертвования самоедов. Пожертвования или, как их здесь называют, "жертвы" приносятся натурой и притом тайно. Когда приношениями заполняется шкап, происходит распродажа пожертвованного. Ее широко используют живущие здесь русаки, так как это является единственным легальным способом купить заветных песцов и лисиц.
После покосившихся, закопченных домиков становища совершенно ошеломляющее впечатление производит стоящее от него на расстоянии километра здание больницы. Большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Помещения необычно обширные, от которых уже отвык глаз москвича. У фельдшерицы комната в 30 с чем-то квадратных аршин, у санитарки - аршин 50, приемная такая же, если не больше, аптека, ванная и т. д.
Недоумение вызывает только одно - больница... на одного больного.
Но, как оказывается, для Колгуева этого вполне достаточно. Самоеды, по словам фельдшерицы, не только не любят лечиться, но и ничем не болеют.
- Позвольте, а пресловутый сифилис, от которого вымирают туземцы? А трахома, поражающая целые семьи и роды, экзема, чесотка?
Тучная фельдшерица только плечами пожимает.
- Ну, а знаменитая чахотка, порождаемая убийственными колгуевскими туманами?
Фельдшерица даже рассердилась.
- Я же говорю вам, что самоеды тут совершенно здоровы. Здесь нет никаких типичных болезней, свойственных туземцам. У меня за год было всего 60 больных с различными пустяками.
- В чем же дело?
- В стерильности колгуевского воздуха и всего острова.
По-видимому, колгуевский воздух действительно обладает необычайными целительными свойствами. Фельдшерица и санитарка отличаются исключительной комплекцией, завидным цветом лица и прекрасным аппетитом.
Не отстают от них и больничные клопы. Так как жить мне довелось в больнице, то я имел возможность еженощно и многократно убеждаться в отменных размерах и непомерном аппетите этих клопов, выползающих из всех мельчайших щелок и трещин бревенчатых стен.
Когда борьба с клопами доводила меня почти до тошноты, я одевался и выходил на крыльцо.
Для того, чтобы выйти на крыльцо, нужно преодолеть сопротивление ветра, давящего на входную дверь с силой, буквально валящей с ног. Борьба эта тем труднее, что крыльцо, ступеньки, перила - все скользко и блестит как лакированное.
Густой, промозглый туман обволакивает все кругом непроглядной мутью.
Пронзительные, почти никогда не прекращающиеся ветры и постоянные туманы - это свойства климата, делающие жизнь на Колгуеве и особенно в Бугрине очень тяжелой. Местоположение Бугрина выбрано весьма неудачно; становище стоит на совершенно открытом угоре, ничем не защищенном от ветров всех румбов.
Хотя в свою очередь эти ветры и обеззараживают Колгуев, избавляя его даже от мух, оводов и т. п.
Овод - это бич оленевода. На Колгуеве овод появляется не каждый год, но все же иногда бывает. Вред, причиняемый оводом, сводится к двум явлениям. Первое - это то, что, раз заведшись в шкуре оленя, овод оставляет там свои яички. Выходящие из яичек личинки под кожей животного образуют волдыри - свищи. Свищи причиняют оленю большие страдания, постоянно беспокоят его и изнуряют. Кроме того, в местах свищей на шкуре образуются дыры, обесценивая постели, идущие на замшу.
Из болезней наиболее частыми и распространенными среди оленей являются - головная болезнь и копытка, выводящие из строя огромные количества зверя.
На Колгуеве овод если и появляется, то не в таком подавляющем количестве как на материке. С острова самоедам уже некуда кочевать со стадами, чтобы уйти от овода, как уходит от него и от гнуса материковый самоед, поэтому колгуевец и не пренебрегает борьбой с оводом. Овода приманивают на разостланные белой замшевой стороной наверх постели или на парусину и уничтожают.
Подкожные свищи самоеды также выдавливают. Мне не привелось видеть, но рассказывают, что, выдавливая свищей, самоеды их тут же и съедают. Так как выдавливание свищей возлагается на ребятишек, то свищи и считаются детским лакомством.
Что касается Колгуева, то на нем наиболее серьезной угрозой целости оленьих стад является гололедица. Из-за того, что сквозь покрытый гололедом снежный покров олень не может добыть себе ягель, стада гибнут. Иногда, в неудачные годы, падеж доходит до 60% наличного состава стад. В случае появления гололедицы судьба стада целиком зависит от знания местности пастухом и от его уменья отыскать площади ягеля, доступного оленю. Однако, судя по рассказам, здесь самоед-пастух далеко не всегда оказывается на высоте.
Стерильность колгуевского воздуха делает остров почти совершенно безопасным в отношении эпизоотий, губящих на материке десятки и сотни тысяч оленей за год. Поэтому Госторг и сосредоточил внимание на Колгуеве как на природном оленном заказнике, способном дать значительное количество экспортного сырья (оленьи окорока, замша, шерсть).
Теперь оленное хозяйство на острове находится в совершенно зачаточном состоянии, используются только шкура и часть мяса оленя; убой не превышает 3 000 голов ежегодно (в стаде Госторга).
В значительной мере недостаточная эффективность напряженной работы Госторга происходит вследствие отсутствия необходимой согласованности в действиях Госторга и Комитета севера и, по-видимому, непрекращающихся между этими организациями скрытых трений на почве их советизаторской, колонизационной и торговой деятельности.
Основная и, пожалуй, единственная в настоящее время база, на которой Госторг и Комитет севера могли и должны были бы объединить свои усилия, туземное оленное хозяйство, остается неиспользованной.
Колгуев - совершенно исключительное место для оленевода.
Холодные, колючие ветры Баренцова моря насквозь, из конца в конец, продувают остров. Жесткая трава лежмя-лежит под напором шипящих порывов. Но эти порывы, бич русаков, живущих на острове, спасение для оленей. И эти порывы, играющие роль единственного озонатора колгуевского воздуха, рано или поздно будут использованы.
Но мне не легче от живительного свойства холодного ветра, резкими короткими ударами бьющего со стороны бушующего за кошками моря. Суконная куртка - плохая защита от суровых вздохов старого Борея. Надо спасаться в избу.
В больничной горнице жарко до духоты. Видимо, калории, затраченные мной на рубку дров, дали обильные всходы в печи, истопленной руками самого Блувштейна.
Засыпая, я слышу заунывный вой ветра в трубе. Сквозь тонкие щели в тройных рамах пробивается мышиный писк резких порывов.
В нос ударяет резкий запах раздавленного клопа. Вероятно, это первый нечаянный мазок на моей простыне за сегодняшнюю ночь. К сожалению, не последний.
2. В ЦАРСТВЕ КУМКИ
Колгуевская больница никогда не переживала такого оживления, как со времени нашего приезда.
Днем и ночью мы только и занимаемся приемом гостей. С примусов не сходят чайники, так как, надо отдать справедливость колгуевцам, даже русакам, пить чай они отменные мастера. О самоедах я уже не говорю. Их способность поглощать чай просто феноменальна, особенно у женщин. Полуведерный чайник приходится подогревать дважды, чтобы угостить четырех человек. Однако не следует думать, что в качестве угощения здесь можно отделаться одним чаем. Чай - это только прелюдия к угощению, выставляемому людьми, приехавшими "с парохода". Основное - это водка. Все взоры устремлены на твой багаж, все разговоры вертятся около того, сколько у тебя водки.
Приезжий, не поднесший "кумку" гостю, погибший человек, если он имеет в виду не только сделать какое-нибудь дело с туземцами, но даже просто извлечь от них какие-нибудь сведения.
Уже на другой день после того, как мы высадились на берег, тундра, по-видимому, знала о нашем прибытии. Начали приезжать гости.
Лихо подкатили к крыльцу три первые нарты. Через минуту в комнату вошли и три первые гостя: Ека, Макся и Неньця. Входят робко, застенчиво, смотрят исподлобья.
Я еще не в курсе тем, которые могут заинтересовать самоедов; гости сосредоточенно молчат. Так же сосредоточенно и молча пьют чай. Пьют его неимоверно горячим и очень быстро. Жадно откусывают большие куски сахара.
Пытаюсь занять гостей барометром.
- Вот аппарат, который говорит наперед, какая погода будет.
Молодой самоедин поглядел, видимо, из желания не обидеть хозяина и снова принялся за чай.
Старик даже не стал смотреть и пренебрежительно махнул рукой.
- Твоя аппарат врет. Цисы эта, а цисы засегда врет. Наса чум цисы был, так засегда один время казал.
Мой барометр он принял за часы, а в часах его, по-видимому, уже разочаровал какой-то ломаный будильник, невесть каким ветром заброшенный в тундру. Я попробовал все же объяснить ему:
- Нет, друг, это не часы. Это совсем другая штука. Она не время говорит, а говорит, какая погода вперед будет: завтра, послезавтра.
- Ты, парень, брось, все равно такая штука врет. Кто могу сказывать, какая погода перед будя?
После этого я уже не делаю попыток занимать гостей нашими диковинками.
Молчаливое хлюпанье и чавканье длится десять, пятнадцать, двадцать минут. Наконец Макся решается прервать молчание. Маленький, щуплый, он, застенчиво улыбаясь, выдавливает из себя еле слышно:
- Хоросa цай.
Помолчав, точно подумав, так же робко замечает:
- Сахар хоросa.
Двое других, соглашаясь, кивают головой. Я решаю использовать это начало и завязываю разговор.
- А разве у вас нет чая и сахара?
Макся смущенно опускает глаза и, ни на кого не глядя, цедит:
- Какой цай? Не стала цай, не стала сахар.
- Почему не стало?
- Агент мала давал.
- Так ты, наверно, промысла не сдавал, вот агент тебе и не давал.
- Какой промысла, нет промысла. Так давать нада.
- Почему же нет промысла?
- Зверь не стала. Зверь больсевик стала. Хоудe ягу, aу ягу.
- И не будет aу потому, что вы яйца весной у них обираете, откуда же aу будут?
- Яйца как не обирать, что кушать будем?
- Так ведь лучше подождать, пока птица будет. Лучше большую птицу съесть, чем маленькое яйцо.
- Как не луцце.
- Так зачем же яйца берете?
- А как не брать?
- Так ведь ты же сам сказал, что лучше большая утка, чем маленькое яйцо.
- Как не люцце. А если яйца не брать, что кушать будем? Понимаешь ли, нет ли?
Я вижу, что это сказка про белого бычка, и перевожу разговор.
- А вот куроптей у вас тут много должно быть. Госторг промысел ставить будет.
- Хоудe ягу. Нет куроптя.
- А куда же он девался?
- Хоудe больсевик стала, не стала на Колгуе.
- Что же по-твоему большевики плохие люди?
- Зацем плохой? Нет плохой. Говорю только, больсевик глупой. Нам тенег нада, сахар нада, сипун для пой нада, цай нада, водка нада. Понимаешь ли, нет ли?
- Понимаю, конечно, вам все это и привозят.
- Какой привозят... мало привозят.
- Ну, сколько тебе чего надо? У тебя какая семья?
- Моя какой семья, малой семья - не есть, aнцы два есть, больше нет.
- Старики есть?
- Ягу.
- Ну так сколько же на тебя, женку и двоих детей чего нужно в год?
- На год? Сахар два сотня килограмма нада; цяй два десятка килограмма нада; мука десять мешок нада. Агент не дает столько. Мала дает, сей год сахар шестьдесят сотня (160) килов давал, цяй пятнадцать килов давал. Мала... Вон больсевик больница строил. Зацем больница, ты мне кази? Больница много тенег стоил. Тенег нет - больница есть. Пустой дело. Водка тозе нет, как мозна? Глупой больсевик.
- Постой, друг, ты что-то врешь. Ведь у вас на острове свой совет?
- Свой.
- Свой председатель?
- Свой претатель. Я сам, парень, замеситель претателю.
- Заместитель председателя?
- Ну да, замеситель.
- Так вы же сами должны говорить, что вам нужно, чего не нужно. И разве к вам не приезжали русаки объяснять, как совет работать должен, почему надо больницу строить, почему теперь водки нет?
- Как не приезал, приезал. Многа приезал. Самый больсой начальник из самой больсой исполком приезал Сидельник его прозывают.
- Синельников, что ли?
- Ну да, Сидельник, он. Приезал, собрание делал. Много говорил. Наса говорит, самоетький совет делать нада, а сам наказал секретарем Павлика выбирать. Мы выбирал, руки поднимал. Как мозна не выбирать.
Рассказчик стал, повидимому, оживляться, но тут его перебил по-самоедски сосед, седой как лунь старик. с изборожденным глубокими морщинами лицом.
- Ну да, как мозна не выбирать, коли Сидельник наказал. Сидельник многа говорил. Наказал водки пить не нада. Церковь ходить не нада. А только врал все парень. А зацем самоеду пьяный не быть? Не, врес, парень, нас не омманешь. Сидельник наказывал самоетьку обцеству в церковь ходить не нада. Многа врал Сидельник. Он сам чум никогда не емдал. Павлик посылал. Павлик тут у нас секретарем зимовал, все на чумы емдал, водку вместе пили. Павлик хороса видал, какая наса жизнь, что самоеду нада. На другой раз, когда Сидельник приезал, опять собрания делал, Павлик тозе говорил. Сидельника крепко ругал. Сидельник велел другой секретарь выбирать. Мы руки поднимал. Как мозна не поднимать, коли больсой начальник из самый больсой исполком наказал. Казал Павлик водку пивал, с водки помирать будем. А только, парень, нас не омманешь. Русаку водка, а самоедам больница? Так не ладна, парень.
Двое других самоедов согласно кивнули головами.
- Да, так не ладна, парень.
Эта поддержка точно подстегнула старика.
- Ты кажи, парень, кто врал-то, агент врал ли, нацальник врал ли? Не Сидельник, другой начальник на Колгуй езжал. Наказывал нам, не нада долг Госторгу платить. Наказывал, Госторг грабил долг тот, не нада платить. Да... больсой советьки хозяин долг списать будя. Так начальник наказывал. Да... а агент как делал? Наказывал: "долг плати". Долг есть - товара нет. Какое мое дело долг? Ты товар давай, есть долг, нет долг! Мне товар все одно нузен. Давай товар, как начальник наказывал. Кто врал? Я так думаю агент врал. Нас не омманешь, парень!
Они сумрачно допили чай и положили чашки на блюдца.
Минут десять прошло в молчании. Я не знал, как реагировать на только-что слышанную отповедь большому начальнику из самого большого исполкома, Сидельнику. Я догадывался, что речь идет о некоем Синельникове, который не то от Архангельского исполкома, не то от Комитета севера совершает каждое лето объезд островов на манер ревизора-сенатора: устрояет советский строй среди туземцев, чинит суд-расправу. Но я совершенно не был в курсе местных дел и не знал, в какой мере правы самоеды.
Меня выручил, наконец, Неньця.
- Ты, парень, дела делать приезал на Колгуй?
- Да, вот скоро в чумы к вам поедем.
В один голос все трое облили меня холодной водой.
- А водку привозил, парень?
И они весьма недвусмысленно уставились на водочную бутылку, стоящую на столе. Однако в бутылке была чистая кипяченая вода.
- Нет, у нас здесь водки нет.
- Как нет, парень? Не нада манить, нас не омманешь. Заскорузлый палец Еки с черным, широким как лопата ногтем ткнулся в бутылку.
- Это вода, друзья.
- Какой вода? Вода нам не нада. Кумка тарa.
- Говорю, нет вина здесь.
В доказательство я налил в чашку воды из бутылки и дал попробовать всем троим. Отпили, почмокали, покачали головами.
- Десь нет, пароход есть. Какой дела делать езал, коли кумки не подносил. Только голову дуришь. Так не ладна, парень.
Я попался на удочку.
- Здесь нет, на судне водка. Вот привезут, тогда приходите, угощу кумкой.
Только это им, по-видимому, и нужно было. Они сразу поднялись.
- А не омманешь, парень?
- Зачем обманывать.
Три пары глаз еще раз подозрительно обшарили все углы, прежде чем гости решились уйти.
Наши первые туземные гости.
Всего два часа знакомства, а какая оскомина!
Ощущение оскомины охватывает вместе с чувством, близким к тошноте, от острого запаха, оставленного по себе самоедами. Кислый пот, гарь, тухлое мясо - все это смешивается в какой-то всепроникающей крепкой струе. Волны этого самоедского духа плавают по комнате вместе с сизыми клубами табачного дыма.
А из соседней комнаты так же непреодолимо лезет в дверь гул голосов собравшейся у нас русской колонии Колгуева. В голосах чувствуется необычная приподнятость, не то от радости по поводу прибытия свежих людей, не то от излишне выпитой водки. Здесь способны так много выпить без внешних признаков опьянения, что сначала никак не отличишь, просто ли человек горячится или это действие водки.
Только по тяжелому запаху спирта можно скорее догадаться о втором.
Чтобы избавиться от этой удушающей смеси самоедского пота и русской горькой, я выбегаю на двор.
Редкий для Колгуева вечер.
Почти тихо и нет тумана.
Далеко в море виднеется наш бот, отделенный от берега резкими желтыми полосами кошек, просвечивающих сквозь серо-зеленую муть воды.
По мере удаления к горизонту море делается все темней, пока не переходит в бурый, почти черный валик тумана. Над этим валиком снова серая муть, холодная, глухая какая-то, точно за ней и не скрывается прозрачная голубая чаша неба.
А с другой стороны мокрый купол неба как-будто влип в пологие буро-зеленоватые волны тундры.
Под ногами пружинит бархатистый ковер мха. Он, точно матрац, подается на каждом шагу и так и тянет нагнуться и погладить рукой его коричневый ворс.
Но какое разочарование: такой бархатистый на вид, мох дерет по руке, как хорошая терка. Из-под верхнего сухого слоя при легком нажиме выступает вода. Совершенно теряются в коричневом мшистом ковре редкие кустики незабудок. Незабудка здесь особенная. Я такой еще не видел. Цветочки необычайно чистого-чистого голубого цвета. Еще реже, отдельными глазками выглядывает иногда из-под ног ромашка.
Такой же неприветливой, как серое море, кажется коричневая тундра. И когда с моря на тундру наползает туман, она сливается с морем в одну общую муть.
Не успеваю я пройти и одного километра в сторону тундры, как свинцовые валы тумана, виденные мной над морем, уже набегают на берег и начинают затягивать больницу. Она тускло желтеет свежим срубом сквозь завесу мутных клочьев.
Платье сразу намокает. Волей-неволей нужно итти домой.
А дома, в комнатах, такой же непроглядный туман, как на улице. Сизые клубы дыма от несметного количества выкуриваемых папирос плавают над столом.
Слышится хриплый голос Наркиза.
- Нет, я давно уже не священствую. Здесь я священствовал всего лишь два года, а то все на Новой Земле. Там-то я прожил, кажется, лет двенадцать.
Наркиз приостановился, медленно выцедил рюмку и, чавкая огурцом, продолжал:
- Религия! Какая там религия. Я так полагаю, что самоедину решительно все равно кому молиться, лишь бы молиться. Вот я вам скажу про свою просветительскую, так сказать, миссионерскую деятельность. Приедешь, бывало, в становище. Ну, конечно, вина привезешь. Без этого мы уж не езжали. Захватишь ведра три, а то и четыре. А вино нарочно так привезешь, чтобы самоеды видели. Бывало, спросишь: "Ребята, к обедне придете?" Ну, желающих мало, все на работу ссылаются: кому в море нужно, у кого рыба не засолена, другому турпана бить нужно. Тогда и объявляешь: "Кто придет к службе, получит по чарке водки!" Ну, конечно, придут. Служишь, стараешься. А они молчат, точно воды в рот набрали. И не перекрестится ни один. Такое зло, бывало, возьмет. Скажешь им душевное слово: "Вы что же, такие-сякие, где вы, на сходке, ай в церкви? Молиться я за вас буду, что ли? Молитесь, мол, и чтобы с крестами!" Ну, начнут здесь кланяться. И лбы крестят, нужно не нужно. А только все молчат. "Пойте, скажешь, братья, "Спаси, господи, люди твоя!" Молчат. "Вы что, онемели?" Молчат. Начнешь но словам им выпевать, а они хоть бы что, как оглохли. Ин зло возьмет, и крикнешь им: "Вы молитву знаете?" Не знаем, мол. "А русский язык знаете?" Тоже, мол, не знаем. "А если я вам чарку за молитву поднесу, тогда знаете?" Тогда, говорят, знаем.
И начнут тут на все голоса выводить. Такое запоют, что хоть святых вон выноси. Стараются. На "Спаси, господи" не очень похоже, но ведь не в том и дело.
А только службу кончу, сейчас всем обществом ко мне. Давай чарку, за поклоны одну, за молитвы одну, за пенье одну. Ну, выпоишь им ведро и айда в другое становище. Самоедин - он жаден до водки. За водку что угодно сделает.
Вот однажды приезжал к нам какой-то товарищ из центра. Это еще на Новую Землю-то. Но части фролкора. Вроде как былины самоедские собирал. А только редко-редко кто из самоедов ихние-то сказки знает. Ну, конечно, враз вся округа узнала про этого товарища. А сказочник один единственный в томь как-раз на промыслу был. Приезжает это только один самоедин, здоров был пить и жаден до водки - страсть. И прямо к этому товарищу из центра. Я, говорит, так и так, могу сказки самоедские сказывать, если ты кумку поднесешь. Ну, тот и рад стараться, поднес ему кумку, другую, а мне вполне известно, что никаких сказок этот самоедин не знает. А все-таки сели они и стал самоедин напевать, а этот фролкор записывает. Целый вечер все писал. Ну, налузгался самоедин до потери самочувствия, а фролкор-то доволен, что успел чуть не десять былин записать.
Тут еще инженер один случился, избы в становищах строил. Завидки его взяли на фролкора, и как только самоедин проспался, он давай ему от себя подносить и тоже просит все сказки сказывать. Ну, тот и сказывает. А только не сказки это, а так, из головы фантастика одна. И притом спьяну самоедин, конечно, успел уже забыть все, что накануне фролкору сказывал, и давай наново надумывать. Напевал, напевал, снова напился и уехал. А те двое, инженер и фролкор, стали свои сказки сравнивать: - и то, да не то. Выходит все шиворот-навыворот. И стали друг друга в некомплектности укорять. А только оба, конечно, свои сказки в центр повезли. Ну, а мне-то хорошо известно, что в этих сказках все только из пьяной головы самоедина надумано. Чудно, право... Ваше здоровье!
Пока Наркиз опрокидывал очередную рюмку, разговором овладел Жданов. Жданов вообще не отличался молчаливостью, а тут еще соответствующая доза водки окончательно развязала ему язык:
- За што я страдаю, товарищи? Скажите, за што? Да рази за мои 120 рублей сюда какой человек пойдет? Я и плотник, я и лавочник, я и водовоз, я и булгахтер. Вы жизнь мою в рассуждение возьмите. Госторг требует: товар дай, а Комитет севера - тпру!... Шалишь!.. Ты самоеда не тронь. Ты ему за товар-то в ножки поклонись... А он тебя eщe, ногой в рыло пхнет... Ведь если бы самоед знал, что для своего пропитания он так же, как наш российский пролетариат, труд положить должен. А то ведь разговор какой: Милые самоедики, вы можете и работать, конешно, если захочете, но имейте между прочим в виду, что этот самый Госторг вас так и этак, все едино кормить обязан. Долги есть? Снимет Госторг, он богатый... Ставка мала? Повысит Госторг - его мошна, мол, выдержит. Укажите, между прочим, товарищи, который метод я в таких обстоятельствах, как агент, иметь могу? Привезли, скажем, товар. Команда его к черте прилива выбросила, а я хоть своими двумя руками грузa в амбар поднимай. Потому, хотя поденная плата и определена кучеру на наших оленях в 2 р. 80 к. поденно, а при выгрузке по 5 рублей человеку поденно, но, впрочем, еще и за эти деньги напросишься, так как в направлении физического свойства самоедин первый лодырь. Муку на угор поднимать, так он тебе за день пять кулей сносит, и то скажи спасибо. А между прочим пятерку ему гони. Какой процент накидки выходит, сами судите. Но накидки не полагается, дана Госторгу твердая цена - по ней и отпусти. То-есть, значит, себе в убыток. Или вот еще в качестве обрисования примера экономической политики насчет дров. Ну, вот вы, скажем, почем в Москве за сажень платите? 75 рублей? Прекрасно! А скажите на милость, находятся там гортопы или губтопы какие-нибудь, которые пожелали бы вам эти дрова по 30 рублей продать? Небось, нет таковых желающих. А вот, прошу, у нас здесь расценок предельный 45 целковых за куб, а иначе - 15 рубликов за погонку швырка и ни гвоздика больше с самоеда ни возьми. А как вы располагаете, Госторгу таковые в чево станут? В Архангельске купи, на Колгуев привези, здесь на угор подними. Да все дрова трижды окупить можно за этот за подъем-то. Ведь за ево тому же самому самоедину, что мне 45 рублей заплатит, я столько же за подъем от берега отдам. То-есть позвольте, что же вышло? - дрова-то они у меня даром взяли.
Жданов задумчиво уставился в чашку с водкой, точно ища в ней прерванной нити своих набегающих друг на друга мыслей.
- Вы, вот, не имеете того представления, которое я хочу вам обрисовать в направлении деятельности культурного просвещения, а между прочим дело очень хреновое, чтобы не выразиться в смысле безнадежности. Возьмем теперь детскую площадку. Придумали это детей самоедов, прибывающих в Бугрино на время убоя, воедино собирать и с ними заниматься. Ну хорошо, привезти-то детей самоеды привезли и на площадку сдали. А потом и говорят: за такое одолжение пущай Госторг наших детей и кормит. А что у меня, Нарпит, что ли? Или тоже возьмем вот ясли. Приехал деятель из Комитета севера. Поговорил, разагитировал самоедов и вполне благоприятно добился постановления общества: организовать ясли. Постановили и уехал себе в Архангельск. А кто деньги-то на ясли давать будет? Самоеды? Нет, брат, шалишь: у них клещами на это дело копейки не вытянешь. На все один сказ: Госторг даст. А Госторг и так по всем швам трещит. Сколько-то вот разговоров было, артель организовать для морского промысла. А поди, выгони самоедина в море на лодке, пожалуй, оборвешься. Ну, хорошо, я им мотор исхлопотал. Мы с наблюдателем Баранкеевым на себя взяли. Тоже муки сколько приняли за мотор этот, пока его на карбас вчинили. Архитектура тоже при этом своя проявлена. Мотор вполне что надо вышел. Ну и последовательно самоеды в артель пошли 8 человек набрали. А ты спроси, с кого из них за мотор хоть копейку получить удалось? А ведь на мне по сей день 1 200 рубликов числится. Тоже и работать - на берег кто мотор вытаскивать? Думаешь, самоеды? Нет, брат, ошибись, агент да наблюдатель за самоедов сработают. Тоже и честность эта их хваленая. Вон, только зевнул я, Николай то Ледков казенную важенку за свою в расход и вывел. А как его на этом деле Николай Большаков застукал, тоже самоедин у нас тут, пастух, - так он Большакову другую важенку дал: молчи только, мол. Да тот спьяну мне все и выложил... Оч-ч-чень удобный в этом направлении человек Большаков Николай - никогда пьяный не запрется. Вот опять насчет вина, у кого найдется смелость в отрицании его вредности. Ну, а разве можно помыслить про сношения с самоедом без угощения?
Жданов крякнул, рывком опрокинул чашку и, не закусывая, грустно как-то закончил:
- А рассудите, товарищи, что есть триста литров вина на этот остров? Рази это норма? Тьфу, р-раз!.. и ни шплинта не осталось.
Жданов выразительно икнул и умолк.
В это время прибыли с судна люди, доставившие нам остатки нашего имущества.
Почти одновременно с прибытием этих людей я увидел в окно несущиеся по тундре ханы. Один, другой, третий. За ними еще серели в тумане упряжки.
Было уже два часа ночи, и я никак не мог предположить, что все эти упряжки направляются к нам. Но это было именно так. Не дальше как через десять минут самая большая комната больницы была уже набита самоедами.
Причину столь позднего визита тут же пояснил тот самый старик самоедин, что был уже у нас днем.
- Мы видали, с парохода люди на мотор приходил, ящики носил. Ты казал, пароход водка есть. Я так думал, этот люди водка возил. Ты кумка подноси, парень.
В дело вмешался Жданов. С необычайным терпением и энтузиазмом он принялся излагать самоедам все дурные стороны пьянства. Однако самоеды плохо воспринимают эту пропаганду и упорно твердят свое: "кумка тара". Тогда Жданов, махнув рукой на проповедь трезвости, стал объяснять самоедам, что водка у приезжих, может быть, и есть, это ему неизвестно, но тратить водку они не могут, так как, мол, если сейчас водку расходовать, то не с чем будет в тундру ехать, и им же хуже будет. Если водку сейчас почать, то русаки сами много выпьют, а если почать ее в тундре, то им же, самоедам, больше достанется. Самоеды плохо поддаются этим натянутым убеждениям, и спор продолжается битый час. Блувштейн, по-видимому, потерял терпение и в довольно решительных тонах дал понять гостям, что они напрасно тратят время. Самоеды, наконец убрались, но один из них, рослый, здоровый мужчина, уже пожилой, с энергичным коричневым лицом, долго не сдавался. Он ушел явно раздраженный, с насупленным злым лицом. Это был местный шаман - Семен Винукан.
По уходе самоедов спущенные было под стол бутылки снова появились на сцене. Маленькие глазки снова заиграли на кирпично-красном, испещренном мелкими, как паутина, морщинками лице Жданова. Пополняя израсходованные на проповедь трезвости калории, он наполнил себе чашку двойной порцией водки. С видом жертвы, сморщившись как от лимона, он проглотил водку, ничем не закусывая.
Большинство из нас уже клевало носами после невероятно сумбурного дня, но Ждановым вновь овладело непреодолимое желание делиться с кем-нибудь своими невзгодами.
- Да... и вот с таким несознательным людом мне пришлось здесь три года отмотать. Разве я провинник какой? А вот терпел. Если самоед придет, ведь я его не погоню, верно? А раз пришел, ты с ним хочешь, не хочешь, говорить должен, и чай пить и водкой угощаться... Это вполне правильно Никандра характеризовал: жаден до водки самоед. Вот я вам расскажу такой случай... Дело было зимой, или не... весной уже, кажется. Одним словом, темно еще совсем было, а лед, между прочим, уже разбивать ветрами стало. Иногда вокруг острова каша какая-то бывала. Это самое тяжелое время года у нас, потому что с последнего парохода времени уже много проходит, а нового еще ждать и ждать. И ветра, уж очень ветра доезжают. Такие ведь здесь задувают, что уж на что я по морю человек привычный, а ведь другой раз прямо жуть берет: дом-то останется на месте, ай нет? В такое время, конечно, и говорить не приходится, ни одного самоеда не уговоришь с берега сойти, боятся. Они вообще до моря и морского льду здесь не особенно охотны. Но вот, впрочем, однажды утром, погода была, ни свет ни заря, меня на ноги подняли самоеды. Пришли, шумят, что будто в море водка плавает. Я спервоначалу никак в толк взять не мог, как так водка плавает. Потом располагается, что в море среди битого льда бочка большая треплется. Ну, сами понимаете, мало ли бочек в море может плавать, и почему эта именно бочка с водкой, непонятно. Я, конечно, независяще от содержания бочки, бинокль взял и усматривать стал в том направлении, где самоеды это видали. И в действительном виде представилось мне вроде бочки, а около той бочки еще некоторые предметы. А самоеды все, как один: идем на лед, да и только. Бочку смотреть. И ведь надо вам поиметь представление о том, что трусы они, на лед их не выгонишь ежели за каким делом, а тут, вот, поди. Хотя, впрочем, одни на лед иттить не решаются, требуют сопутствия. Я, конечно, не с точки зрения водки, а все-таки, думаю, надо поглядеть, что есть за бочка и предметы. До кромки припая-то дошли. Самоеды даже оленей тащить хотели, чтобы бочку вытаскивать. С трудом отговорил: давайте, говорю, сперва посмотрим. А как твердый лед-то кончился, самоедов видимый страх забрал. И действительно получилось довольно неприятно. Лед битый, торосистый. Льдина мелкая, неустойчивая. На ее становишься, она норовит в воду. Измокли, надо сказать, до костей, пока до бочки-то добрались. Один самоедин с головой окунулся, думали - не выудим из полыньи-то. Однако же до бочки дошли. Действительно большого размера, железная, того вида как бензинная, но пробок несколько и все как раз вверх глядят. Мои самоеды просто одурели, а пробок-то открыть и не могут - винтовые они. Я одну за другой пробки те отвинтил, и вполне ясно обнаружилось, что все наши усилия в совершенной непроизводительности оказались... То-есть нет, я, собственно, хотел выразиться, что самоеды те напрасно, мол, старались-то... Бочка с моторным маслом оказалась... Сильная разочарованность проявилась среди самоедов. Все, что я в бинокль рассмотрел вокруг бочки, оказалось вполне непригодным для нас: доски, какие-то обрезки бревен, дрова, ящики. Такое у меня создалось впечатление, вроде как с палубы какого-то судна все это было смыто...
Между прочим, пока мы с этой чепуховиной возжались, неприятность для нас большая проявилась. Путь отступления к берегу-то весь разъехался. Чистая вода между нами и берегом оказалась. Затруднительно в настоящее время обсказывать все то, что нам тогда привелось перенести. Однако же я сам всю компанию на кошки вывел, как знаю, что на кошках лед плотно сидит и нет никаких опасений за то, что он в море может уйти. Ну, а на кошках мы были уже как дома, плавник там всегда есть, костер возможен. А кроме того, тут как раз случилось так, что несколько оленьих задков у нас еще с осени во время погрузки раскидало. Так они на кошках-то осели. И притом же совершенно нетронутые, так как во льду вмерзлые были. Мы их за милую душу, вырубивши изо льда, поварили. Хотя на этих кошках нам и пришлось двое суток посидеть, но, впрочем, это было наплевать, потому что, раз харч есть, все остальное ни к чему. Кроме того, надо сказать, что на этих самых кошках у меня зимой постоянно капканы с привадой для песцов ставятся. Личные мои. Поэтому место хорошо известное и даже...
Жданов не договорил и потянулся к бутылкам. Однако бутылки были пусты. Он перетряхнул их все по очереди, тщательно посмотрел на свет и разочарованно поставил под стол одну за другой.
Когда затих голос Жданова, я очнулся от какого-то полузабытья, в которое окунула меня усталость от непомерно длинного дня. Все остальные, оказывается, уже спали. Кто на койке, кто прямо на полу, на куче оленьих постелей.
Я оказался самым терпеливым слушателем Жданова. Тут же мне пришлось в этом раскаяться. С нежностью человека, пребывающего в том градусе, когда простая внимательность собеседника кажется ему проявлением необычайных душевных качеств и братской любви, Жданов принялся жать мне руку. Его нежность шла так далеко, что было бы по меньшей мере свинством не проводить его до становища. Однако, если путь туда мы совершили довольно быстро, подгоняемые ветром, то обратно мне пришлось итти навстречу этому ветру. Порывы огромной силы давили на все тело, воздух наполнял нос и рот, давил в уши. Рукава пузырились, и руки делались непокорными. При каждом шаге из-под подошв на мшистой поверхности кочек выступала вода. Мох становился скользким, как лед. Ноги скользили, и минутами не хватало опоры, чтобы бороться с неистовым напором ветра. То расстояние, которое в направлении к Бугрину мы только что прошли в четверть часа, я преодолевал больше часа. Выбившись из сил, я с наслаждением бросился в койку.
3. ПО СУХОЙ ТУНДРЕ
Сквозь тройные рамы еще слышно посвистывание ветра. Нудно воет в трубе.
Это остатки крепкого зюйд-веста, два дня не дававшего производить разгрузку.
Люди, топорщась против ветра, бродят от дома к дому.
Редко прокричит над берегом чайка. Она отчаянно машет крыльями в сторону моря, но ветер несет ее хвостом к тундре.
Зато нет и в помине несносного тумана. Уляжется зюйд-вест, и будет совсем хорошо.
Сегодня к полудню должны приехать самоеды, чтобы везти экспедицию в тундру. Но съезжаются очень вяло. С большими промежутками показываются одна за другой упряжки.
Пока съедутся наши ямщики, надо использовать время хотя бы для того, чтобы хорошенько познакомиться с самоедской одеждой. Ведь мне самому через несколько часов предстоит облачиться в малицу.
Малица - это широкая, длинная, неразрезная рубашка, сделанная из оленьих постелей. Носится мехом внутрь, прямо на голое тело. Зимой поверх малицы одевается вторая такая же рубашка, но мехом наружу - совик. Кроме того, совик обязательно делается с капюшоном, а на малице иногда делается только высокий воротник без капюшона.
Ни на малице ни на совике нет никаких застежек, и надеваются они прямо через голову.
Из широких рукавов малицы можно совершенно свободно, не снимая ее, втянуть внутрь руки. Самоеды так постоянно и ходят. А кроме того, это позволяет им все время заниматься борьбой с одолевающими их вшами.
Один "опытный" путешественник, по тундре пытался в Архангельске уверить меня, что замечательным качеством оленьей одежды является именно то, что в ней. не заводятся вши. Ну, так должен заявить, что мой скромный опыт совершенно не согласуется с этими уверениями опытного путешественника. Достаточно один раз видеть, как самоедин берет в зубы подол своей малицы и проходит по нему зубами, делая мелкие и быстрые укусы. Насекомые трещат на зубах достаточно убедительно, чтобы разочароваться в антипаразитных свойствах оленьего меха.
Если учесть, что самоеды в подавляющем большинстве никогда не моют даже лица и рук, не говоря уже о теле, то становится совершенно непонятным, каким образом их тело сохраняет белый цвет и кажется вполне чистым. Вот здесь я согласен поверить в спасительное действие оленьего меха, очищающего тело от грязи и пота.
Так же как малица, носятся на голом теле меховые штаны, а вместо сапог - пимы с меховыми же липтами.
Госторг, говорят, делал попытку завезти на Колгуев белье, но, в силу нежелания стирать его, самоеды носили рубашки под малицами до тех пор, пока эти рубашки не истлевали.
Это, конечно, не только не приносило пользы с точки зрения гигиенической, но скорее, наоборот, оказывалось вредным.
Самоеды носят малицы подпоясанными. Таким образом они имеют возможность прятать кое-что за пазухой на животе. И эту возможность они широко используют: за пазухой хранится табак, трубка, спички и вообще всякая мелочь, вплоть до изображения духов. Благодаря тому, что руки можно запускать за пазуху, втянув их внутрь из рукавов, такой способ ношения мелочей оказывается действительно настолько удобным, что с первого же дня я его вполне оценил. Во всяком случае, гораздо удобнее иметь за пазухой носовой платок, плитку шоколада, блокнот и даже карманный фотоаппарат, чем все это рассовывать по карманам брюк и пиджака и в дороге задирать полы неподатливой малицы, чтобы добраться до карманов.
Не совсем приятно только то, что и носовой платок и шоколад отзывают резким запахом не то оленьей шкуры, не то пота, особенно если малица уже ношеная.
Впрочем, скоро к этому запаху принюхиваешься и перестаешь отличать запах своего платка от запаха соседа-самоеда.
Самый процесс снимания и одевания малицы по первому разу кажется неприятным и неудобным. Во-первых, по физиономии каждый раз мажет грязным подолом, во-вторых, никак не сообразишь, что раньше совать: голову или руки?
Из-за этого я чуть не задохся, протискивая голову через узкий воротник.
Черепанов из новичков быстрее всех овладел искусством носить малицу. Перетянувшись много ниже талии ремнем, он устроил себе объемистый мешок на животе и похож со своей бородой и лысоватой головой на какого-то толстопузого католического монаха, не по комплекции юркого. Зато поражает степенной мастодонтальностью Блувштейн. Даже для него огромная малица велика, она, как какая-то просторная ряса, спускается до пят.
Наконец прибыли нужные нам олени. Каждая запряжка состоит из трех нарт, запряженных таким порядком:
В передней нарте пять оленей, на ней сидит ямщик. Во второй четыре оленя - для пассажира. В третьей три оленя - под багаж.
Размер санок: 270 х 90 х 60 сантиметров.
Доски для сидения настланы лишь в половину длины санок и притом с промежутками шириной в ладонь, так что сидение особенным удобством не отличается. Не сразу удается сесть так, чтобы, с одной стороны, было удобно, а с другой, быть уверенным в том, что не вылетишь при езде по кочкам. Аборигены стращают трудностью езды по летней тундре именно из-за кочек.
Пока это удовольствие еще не началось, и мы имеем возможность насладиться обществом целой ватаги ямщиков-самоедов, набившихся к нам в комнату.
Нам некогда возиться сегодня с чаепитием, и мы хотим отыграться на угощении одними папиросами. Наперебой предлагаем самоедам пачки "Пушки". Но у них, оказывается, тоже губа не дура.
- Ты, товариш, такой не давай, перва сорт давай.
Речь идет о "Сафо". От нескольких коробок "Сафо" тут же ничего не остается. Но этим дело не ограничивается. Гости продолжают сидеть и истреблять папиросы. Это тянется полчаса, час, и не видно, чтобы они собирались подниматься. А нужно ехать.
- Ребята, надо ехать, пожалуй.
- Как не ехать.
Как будто должны бы подняться. Ничего подобного. Курение и оживленная беседа между собой продолжаются. Ждем еще полчаса.
- Ну, пора ехать.
С простодушным видом задают вопрос.
- Куда тут ехать?
- Как куда? Известно, в тундру, к горе.
- Мы говорим, как ехать-то, коли тундра сухой.
- Почему тундра сухая?
- Горла сухой - тундра сухой; тундра сухой, олень не бежит. Как ехать? Понимаешь ли, нет ли?
- Нет, не понимаю.
- Я говорю, как ехать? - И опять все то же: олени устали, погода плохая, ягель плохой и вообще все плохое и тундра сухая.
- А почему же тундра-то сухая?
- Без кумки как не будет сухой?
- Нет кумки.
Мы решили на этот раз выдержать характер и не давать кумки, но в дело вмешался Жданов.
- Если не дать по полчашке, все равно до вечера проканителимся. И, смотрите, с собой берите. На всех остановках та же история будет.
Делать нечего. Приходится приняться за угощение.
Как по мановению волшебного жезла, тундра сразу сделалась влажной и легкой для езды, вялые олени обрели бодрость, и через двадцать минут мы тронулись в путь. Я устроился поудобнее на своих вторых санках, на задних прикручен багаж.
Рослый красавец Иоцо, держа в руке мотыйню, в другой - тюр, бежит рядом со своим ханом, пока не разогнались олени; затем с размаху кидается на сиденье. С этого момента ни. на минуту не остается неподвижным его тюр, сердито подталкивая зады одних оленей и ласково оглаживая других.
У Иоцо щегольская головная упряжка - пять белых рослых хабтэ.
Мои олени привязаны веревкой за шею к задку хана Иоцо, а в свою очередь к задку моего хана привязаны за шею олени уто с багажом. Поэтому обе "прицепных" упряжки вынуждены равняться по головной - самой сильной под угрозой быть задушенными.
Мы быстро выносимся вперед. За нами длинной вереницей вытягивается караван.
Хан мягко бежит по мшистому ковру тундры.
Благодаря широкому разносу полозьев, хан сильно кренится только на очень высоких кочках, а небольшие проскакивает почти незаметно. Чтобы не испытывать неудобств езды, нужно только стараться полусидеть, полулежать, свесив ногу с хана. Но так, чтобы она не задевала за встречные кочки. Я было зазевался немного и чуть не поплатился за это ногой.
Как шпалы под вагоном, мелькают под ханом кочки. Впереди с легким треском, похожим на треск, какой издает мех кошки, если проводить по нему гребенкой, мелькают ноги четырех оленей. Этот характерный звук издают раздвоенные копыта оленей. Когда олень ступает на копыто, половинки копыта расходятся; когда он поднимает ногу, половинки снова сходятся, стукаясь друг о друга. Когда вблизи двигается много оленей, этот звук хорошо слышен и очень характерен.
Мотаются из стороны в сторону мохнатые крупы. Олени то расходятся в стороны, то прижимаются друг к другу совсем вплотную. Временами просто оторопь берет, как ловко бегут животные через расставленные на их пути бесчисленные препятствия.
Нечего и говорить, что никакие лошади не смогли бы здесь пробежать и ста метров, не поломав себе ног. А олени временами только разносят ноги широко в стороны, как циркуль, и пропускают между ними кочки.
Упряжка оленей более чем примитивная. У коренного оленя постромки протянуты от хомута между ног; у пристяжных по одной боковой постромке. На быстром беге и при перескакивании через кочки олени часто попадают ногами за постромки и бегут буквально на трех ногах. Но на Иоцо это производит мало впечатления. Только тогда, когда образуется настоящая каша в постромках он останавливается и дает себе труд распутать их.
Километр за километром передо мной мотаются крупы оленей. Высоко торчащие рога раскачиваются из стороны в сторону точно широкие ветви фантастического дерева, колеблемые порывами ветра. Бока животных начинают ходить все сильней и сильней от быстрого бега. А над головой у меня нависают морды задней упряжки. Широко открытые, до бессмысленности грустные глаза, разинутые рты и свесившиеся из них на четверть аршина языки. Морда оленя - глупо некрасива на бегу.
Тяжелое, точно из кузнечных мехов вырывающееся дыхание дает понять, насколько тяжела дорога.
Под санками совершенно бесшумно бежит шероховатый серый ковер мхов. Временами его сменяет короткая, плотно приглаживаемая полозьями зеленая трава болота или жидкая коричневая, как загустевшая кофейная гуща, грязь. По траве полозья идут легче и олени прибавляют ходу. На спину мне и за воротник малицы летят брызги мутной желтой воды и холодные комья коричневой грязи.
Олени бегут, и ветром несет мне в лицо вместе с брызгами из-под их копыт целый дождь шерсти с линяющих боков.
В этом году олени поздно линяют, и их шкура по ровному блестящему меху испещрена несуразными пучками длинной прошлогодней шерсти. Эти пучки сильно уродуют вид оленей. Шерсть лезет целыми клочьями, пучками, и скоро мое мокрое лицо напоминает ковер из оленьей шерсти. Шерсть неприятно пахнет и щекочет лицо, но стирать ее нет смысла, так как немедленно налипает новая, и только загоняешь в рот щетинки, от которых потом немыслимо отплеваться.
Постепенно за долгие часы пути я привык к этой шерсти, как привык уже к налипшей на затылке густой грязи, как привык автоматически, помимо собственной воли, сохранять на толчках равновесие. Кочки больше не беспокоят, и клонит ко сну от непрестанного мотания хана и однообразной картины коричнево-зеленоватой тундры.
Мы мчимся по девственным мхам без всяких признаков дороги или следа, но время от времени Иоцо трогает единственную вожжу, идущую к незаминдесян быка-вожака. Упряжка послушно сворачивает то вправо, то влево.
Так же, как я не могу понять, какими признаками руководится Иоцо, выбирая нужное направление в однообразной тундре, я не знаю и того, как он определяет пройденное расстояние. В тундре нет верстовых столбов, и у Иоцо нет часов. Но время от времени Иоцо резко дергает вожжу, вся упряжка бросается влево, Иоцо перегораживает ей путь своим тюром, и олени встают как вкопанные. Иоцо соскакивает с хана и безапелляционно заявляет:
- Верста едлым.
Самоеды называют здесь "оленьей верстой" расстояние в пять километров. Это та дистанция, которую олень пробегает без отдыха летом. Зимой "верста" становится длиннее.
Фраза Иоцо "верста едлым" означает, что мы будем стоять, пока не подтянутся остальные нарты.
На одной из них сидит Черепанов; у него в рюкзаке упакованы бутылки с разведенным спиртом.
Было бы совершенно бесполезно пытаться уговорить Иоцо ехать дальше, не ожидая остальных. Его олени не отдохнут до тех пор, пока ему не будет поднесена чудодейственная кумка. За отсутствием посуды отмеряют водку кюветкой, прямо из нее все по очереди и пьют.
Ради получашки водки самоеды не ленятся на каждой версте распаковывать рюкзак Черепанова, опутанный целой паутиной веревок, хотя мне так и не удалось уговорить Иоцо перепаковать едва держащийся на уто ящик с продовольствием.
По мере удаления вглубь острова, характер местности меняется. Навстречу идут холмы, а затем и на стоящие ущелья и сопки. Может быть, эти сопки не так велики, я даже наверняка знаю, что это небольшие холмы, но после унылой плоскости тундры они кажутся очень внушительными. Глаз отдыхает на них.
Мы стрелой спускаемся с крутого откоса прямо в русло потока, и полозья хана скребут по каменистому ложу. Трение полозьев о камни велико; видно, как напрягаются мускулы на ногах оленей, вытягивающих нарты. От скрежетания дерева по каменьям зудит в зубах.
Дальше едем вдоль реки прямо по руслу. Речка то растекается в плоскую лужу, едва покрывающую копыта оленей, то доходит им до брюха. Животные часто и напряженно дышат, с трудом протаскивая ханы по острым камням.
Вокруг в береговых складках лежит пожелтевший летний снег.
Мы с гиком выбираемся на высокий берег реки, и под полозьями слышится шуршание мелкого желтого песка.
Вот так вот ездили несколько тысяч лет тому назад в Египте - на санях по песку.
Я перестал себя чувствовать действительным статским времен николаевских, мчащимся на двенадцати положенных ему конях. Кони мои тяжело дышат, за душу хватает скрипение полозьев по песку. Если и можно вообразить себя статским советником, то, во всяком случае, не на службе какого-нибудь Николая I, а по крайней мере фараона Тутанхамона.
С холма на холм, из ущелья в ущелье, через речки, болота и озера бегут олени. Изредка Иоцо прерывает их бег на "версте", да один раз мы остановились из-за лопнувшей пеле-и-ня-сян. Не долго думая, Иоцо взял в рот покрытый грязью скользкий ремешок и крепкими белыми зубами развязал узлы у пясика и пябятя. Через две минуты на место порванной пеле-и-ня-сян была поставлена новая, и мы помчались с удвоенной скоростью.
Тусклое солнце уже коснулось горизонта, когда с высокого холма я увидел в котловине темный конус чума. За чумом на горизонте проектировался длинный силуэт Анорга-Седэ.
Через четверть часа, встреченные злобным лаем своры грязных, лохматых собак, мы подкатили к чуму.
Около чума, спрятав руки внутрь малицы, стоит высокий угрюмый самоедин, хозяин этого чумовья - Зосима, пастух госторговского стада (как, впрочем, и все привезшие нас ямщики).
4. БОГАТЫРИ В ПЛЕНУ
С непривычки мы изрядно устали от целого дня езды на оленях. Поэтому нашим первым стремлением было устроить себе ночлег.
Прежде всего нужно было найти клочок чистого места, не загаженного людьми и собаками. Видя наши поиски, один из самоедов, сомнительно покачав головой, философски заявил:
- Зря искать станешь, кругом гoвна. Ты на гoвна постель клади. Ничего.
Может быть, оно и ничего. Но все же мы на первый раз решили отыскать место почище. С трудом, но нашли.
Мы с Черепановым быстро расставили свою палатку, так как еще накануне в Бугрине прорепетировали ее постановку.
Кстати сказать, эта репетиция оказалась весьма кстати, так как палатка была до смешного плохо и небрежно сделана. В палатке оказалось столько дефектов, что ее вообще нельзя было расставить как "полудатскую" (под этой маркой я ее получил). Можно было только использовать полотнище для постановки немудрящей двухскатной крыши, без каких бы то ни было претензий на простор, и удобство.
Когда мы накануне проделывали репетицию постановки палатки и подгоняли никуда негодные части, Черепанов с удивительным терпением и знанием дела занимался каждой мелочью: надвязывал веревки, пригонял колышки. В результате мы, расставив палатку, даже попробовали, удобно ли в ней лежать. Появившемуся на крыльце больницы Блувштейну мы неосмотрительно предложили принять участие в нашем занятии, но получили в ответ:
- Вы отлично знаете, что я не люблю валять дурака.
Отпустив этот комплимент, он запел "Рамону" и отправился в Бугрино, в гости к агенту.
Зато теперь я не без злорадства поглядывал на Блувштейна, делавшего неловкие попытки поставить рядом с нами свою палатку, в которой он любезно предложил кров увязавшейся за экспедицией бугринской фельдшерице. Думаю, что Блувштейн так и не смог бы осуществить своего гостеприимства, если бы на помощь к нему не пришел Черепанов.
Через полчаса наш маленький лагерь был установлен, и все забрались в свои палатки.
Так как в добавление ко всем блестящим качествам палатки "Турист" у нее еще не сходятся с нужным запaхом полотнища входа, то промозглый ночной туман загоняется холодным ветерком до ее самого дальнего угла.
Я пытаюсь спать в малице, но это совершенно невозможно. Узкий воротник душит. Ветер дует под широкий подол, стынут ноги. Приходится перевернуть малицу воротом вниз и натянуть ее на себя, засунув ноги в рукава. Так много лучше, только переворачиваться с боку на бок неудобно и очень уж холодно верхней части туловища.
Проспав немного больше часа, я вылез из палатки.
Всю долину заполняет сизая муть тумана. Промозглый холод пробирает до костей.
Рядом на бугорке возвышается темный силуэт чума. Из вершины его конуса выбивается блеклое облачко дыма. Значит, не спят.
Вокруг чума в неописуемом беспорядке разбросаны нарты привезших нас самоедов. Около нарт брошена неприбранной сбруя.
Используя нарты, как крышу, набились под них тесными клубками собаки.
Царит мертвая тишина. Серая, глухая. Такой тишины не бывает нигде - ни в городе, ни в лесу, ни в поле, ни в море. Только в тундре.
Абсолютное молчание. Ухо не улавливает ни одного звука, кроме стука собственного сердца.
Оттого, что царит унылая мгла, в которой неуверенные силуэты чума и нарт расплываются серыми призраками, делается еще холодней.
Подхожу к чуму. Едва слышны голоса. Поднимаю засаленный край черного от копоти и грязи трехугольного полога из оленьей шкуры. Глаз упирается в тень, окружающую красное пятно костра. В нос шибануло дымом. Через минуту дым начинает немилосердно есть глаза.
Я торопливо озираюсь. По стенке, едва освещенные отблеском костра, сидят самоеды. Здесь все наши ямщики. Сидящие у входа подвигаются и очищают мне место. Сажусь по-турецки на хоба, мысленно подсчитывая количество вшей, которых мне придется вылавливать по возвращении домой.
В чуме дымно и смрадно. Из-за спин сидящих самоедов выглядывают рожицы детей. Нет-нет из-под локтя кого-нибудь из сидящих высунется собачья морда. Безжалостным пинком ее возвращают назад.
В дальнем конце, в темноте, которую с непривычки едва одолевает глаз, видны две хабинэ. Они вынимают из котла, только-что снятого с тагана, вареное мясо. Руками, редко пуская в ход нож, они делят мясо на небольшие куски и раскладывают в несколько плошек.
Самоеды едят мясо после чая. Пока они еще цедят чай, звучно потягивая его губами из чашек.
Хабинэ вышла на свет и берет первую свободную чашку. Пальцем она выбрасывает приставшие чаинки, вытирает их о полу малицы. Проворно действующий палец хабинэ ярко освещен. Он до такой степени грязен и покрыт салом, что у меня появляется во рту ощущение, как перед морской болезнью.
Чтобы придать чашке окончательный блеск, хабинэ сочно плюет в нее и растирает плевок засаленным рукавом малицы. Вдруг меня осеняет мысль: да ведь эта чашка очищается для меня!
Я не ошибся. Хозяин наливает в чашку горячего чая и с куском сахара протягивает ее мне.
- Наса самоетьки цай кусай.
Мурашки бегут по спине, но приходится брать. Хозяйка протягивает скользкую, почти сырую лепешку реска.
Чтобы отвлечь внимание хозяев от злополучной чашки, я стараюсь затеять разговор. Но дело идёт плохо, так как вся компания успела уже заняться мясом. Они наперебой тащат из плошек серые куски оленины. Чавканье и сочный хруст хрящиков слышатся со всех сторон.
Едят молча, сосредоточенно, изредка перебрасываясь фразами. Едят жадно и помногу.
Отдуваются, икают и снова едят.
Хозяин выловил из плошки кусок пожирнее, любезно протягивает его мне.
- Нада амдигам.
Я отговариваюсь тем, что хочу сначала напиться чаю. Хозяин кладет кусок передо мной.
Наевшись, самоеды откидываются от миски и, обсосав пальцы, вытирают руки о малицы или о пимы.
Тщательно, до блеска обскобленные, обсосанные и вылизанные кости, оставленные гостями, хозяйка собирает и опускает в тот же котел. Это будет суп назавтра.
У гостей из-за пазухи появляются кисеты, трубки - харнико и папиросы.
Наиболее удобный момент для беседы.
- Расскажи, хозяин, как дела, как живешь?
- Чево рассказать. Как дела? Плоха дела. Я не умею рассказать, вон Тэко могу рассказать, - кивнул он в сторону маленького старичка.
Горбатый, с непомерно большой головой, покрытой редкими прядями седых волос, сидит Тэко у костра, принимая мало участия в общей беседе. Лицо Тэко худое и длинное. С широких скул свисает изрезанная глубокими складками морщинистая коричневая кожа. Над скулами из глубоких впадин поблескивают маленькие, хитрые глазки.
- Ну, Тэко, ты расскажи мне что-нибудь.
Он пожевал губами, поросшими редкой серой щетиной, и нехотя прошамкал:
- Што сказывать? Ничего ты, парень, понимать не станешь, что я сказывать могу. Наса шись самоетька, а ты русак. Как можешь понимать!
- А ты все-таки расскажи. Ну, хоть бы про то, как вы на Колгуев пришли, как пастухами стали, как живете между собой.
- Эх, плоха рассказывать... Ну, ладно, ты слушай, я сказывать стану.
Старик закрыл глаза и задумался. Все самоеды притихли. Хрипло зашелестел его голос в тишине.
- Много годов назад я в тундре на большой земле живал. Много оленей у меня не бывало. Но жил помалу. Промысел делал. Убой делал. Емдал со стадом на ягель, как нада.
Женка в чуму была молодая. Сынов два было. И ладно бы. Да пришел плохой год... Да, говорю, крепко дурной год пришел. Никогда раньше такого гололёда зимой не бывало. Все копыта олени себе разбили, а ягеля из-под снега добыть не могут. Исхудали, ослабли олени. В два раза меньше сделалось стадо мое.
Ну, думал, ничего, поправлюсь. Пойдет приплод, летом откормятся олени, все хорошо будет.
Нет, не принесло мне добра и лето. Плохие были корма. А овода прежде столько и не видывали. Бились олени, страдали от свища, похудали, а поправиться и сил набрать негде. Тундру точно кто огнем выжег, нечего есть.
И пропало все стадо. В один год остался я без оленей. Не стало мяса. Не стало постелей для чума. Не стало даже из чего малицу сшить. Снова зима пришла, а у меня в чуме женка и сыны голодные. К промыслу емдать не на чем. Осталось три упряжки, только-только под чум ханбуй запречь. А зачем запречь, куда емдать? Какой промысел, когда не на что пороху и свинца купить? Капканы чинить нечем. Не стало у меня и промысла.
А купец какой человек? Есть промысел, и купец тебе первый друг пороху дает, хлеба дает, водки дает сколько хочешь. А нет промысла - и водки нет, и пороху нет, хлеба сынам куска не дает. Стал я совсем пропадать.
А в ту пору в нашем роду один богатый хозяин повелся. Ему и гололёд нипочем. У него двенадцать тысяч оленей в стадах, и скоро все родичи у него пастухами стали. Крепкая у него была голова. А мы молодые тогда были и понять не могли, почему в те годы, когда у нас последний олень подыхал, он только брюхо себе почесывал.
И вышел тут для этого хозяина удачный год. У него приплод, почитай, пять тысяч телят. Долго я думал, да и пошел к нему.
- Дай, - говорю, - мне полета оленей. Я тебе верну после третьего приплода столько, а потом от каждого приплода буду десять годов долю давать.
Долго ломался хозяин. Дал мне оленей. Только не дал полета, а дал два десятка. И те два десятка не пошли мне в прок.
К весне осталось у меня два оленя...
Тэко умолк. Только слабое позвякивание крышки чайника, приподнимаемой паром, нарушало тишину. Все самоеды сидели скрестивши пальцы и уставивши взоры в костер.
Тэко не спеша набил себе маленькую, совсем черную трубку.
Только когда из захрипевшей трубчонки поплыли клубы серого удушливого дыма, Тэко стал продолжать.
- Да, два оленя остались у меня. На чем теперь емдать, что кушать, как долг богатому родичу отдать? Подумал я и пошел к тому самому родичу.
- Бери, - говорю, - меня себе, вместо оленей.
- Ладно, - говорит, - возьму тебя я в пастухи. А только пасти мое стадо ты будешь не здесь, а на острове в океане.
Знал я про остров, худо говорили про него самоеды И как уйти от своей тундры, где отец мой пас свое стадо, где отец отца моего ставил свой чум? Скажи, как можно оттуда уйти?
Подумал я, да и говорю своему хозяину:
- Нет, не пойду я на остров.
Пришел к себе, а дома женка совсем больная лежит. Молоко у нее пропало, нечем дочку, которая только родилась, кормить. А сыны, те тоже всегда голодные стали ходить; что раньше собаки едали, то стал теперь сынам своим давать. И в сей же день пошел опять к богатому родичу:
- Ладно, пойду на остров твоим пастухом.
А на острову этом у родича четверо тысячи голов ходило в четырех стадах, и у каждого стада свои пастухи были...
Много, много годов прошло. Из черной гагары я белой чайкой стал... Сыны мои пастухами стали... А стадо на острове уже десять тысяч голов. И каждый год хозяин к нам езжает. Оленей клеймит своими руками. Для убоя выбирает. Лучших хоров себе на быки холостит. Сам тоже с купцом-русаком водку пьет и менку делает. Постелей по тысяче каждый год продает.
И нам, пастухам, притеснения не делал. Убивай сколько хочешь, но только для айбарданья. А постель ни-ни - хозяину надо сдавать. И вовсе плохо стало у нас с постелями: чумы все подырявились, малицы не из чего пошить.
Только и было поддержки от песцового промысла. Был тогда еще песец на Холголе. Да цену плохую русак давал!
Бывало, за десять целковых норовит первый сорт отобрать. И все больше на водку. А бутылка те же десять рублей...
Но только однажды не приехал купец. И хозяин наш не приезжал в свое время. Стали бедовать самоеды. А только потом приехал хозяин и говорит, что стадо все, все десять тысяч голов, как только станет море, он льдом на большую землю погонит.
Сам понимаешь, как такое можно делать - сколько оленей на льду-то останется. А хозяин крепко уперся на своем: погоню и погоню. Стали мы, пастухи, к такому емданью все готовить, а тут на кошки в Бугрянке пароход русский пришел. Но только не купец на нем, а какой-то начальник новый приехал. Красный ситец на зимовье купца вывесил и всех самоедов сзывать стал.
Много тот начальник сказывал про то, что новый хозяин у русаков встал - большевик называется - и будет новый порядок. Будто у богатеев оленей станут брать и малооленных наделять...
Правду скажу: думали, пьяный начальник-то этот. А только нет. Призвал к себе хозяина нашего, велел на пароход собираться. А нам перепись сделал и дал всем пастухам так, чтобы у каждого было по сту оленей. А что осталось, - "будут, - сказал, - олени казенные. А вы, пастухи, за казенными оленями глядеть должны".
Приехал этот начальник на другой год, агента привез, Госторг на острову сделал. И стали мы пастухами Госторга. Я - пастух и сыны мои пастухи. В четыре сотни стадо теперь у меня.
Жить стало легче. Есть олени - мясо есть, постели есть, одежда есть, емдать можно. Много оленей нужно самоеду. Чем больше, тем лучше.
А только понять ничего невозможно теперь. Пришел на Холгол большевик и дал оленей. На ноги, можно сказать, поставил самоеда. Ну, а нынче, как стадо прибавилось, опять неладно. Много у вас, говорит, оленей стало, богатеями стали. "Кулак" называет нас большевик.
А скажи мне, парень, разве не лучше самоеду, если много оленей? А начальник от большевика хочет оленей назад отбирать и беднякам, у которых мало оленей, мой приплод отдавать. Скажи-ка, парень, разве так можно?
Старик умолк. Вопросительно обвел своими маленькими глазками круг слушателей и бросил что-то по-самоедски.
Сразу весь чум загудел. Хабинэ подбросила охапку свежего хвороста под чайник, и яркие языки пламени потянулись к верхнему отверстию чума.
Я собирался ответить на вопрос старика. У меня не укладывалось в мозгу его сомнение в правоте людей, поставивших его на ноги за счет хозяина-богача и собиравшихся ограничить его теперь, чтобы помочь бедующему соседу.
Но мне не удалось заговорить. Ко мне повернулся хозяин чума.
- Ты, парень, гость моя. Желаешь ли, нет ли самоетька варко слыхать?
- Очень желаю.
- Винукан будет сказывать. Он знает старая варко.
При этих словах хозяина в середину круга выдвинулась массивная фигура черного как смоль самоеда с суровым, точно вырубленным из камня лицом. Большой горбатый нос и узкое лицо делали его мало похожим на самоеда; передо мной невольно воскресли образы куперовских индейцев. Это был Винукан.
Я не сразу узнал в нем шамана, который давеча приезжал к нам в Бугрино за кумкой.
Ко мне подсел маленький, пожилой самоед, с торчащими как у моржа русыми усами - Николай Летков. Он сравнительно чисто говорил по-русски. С конфиденциальным видом он мне шепнул:
- Я тебе по-русски сказывать стану, что Винукан будет напевать.
Я вынул блокнот и карандаш. Летков заправил в нос основательную щепотку нюхательного табаку. Через минуту он с наслаждением выжал из носу пальцами слизь и вытер пальцы о малицу.
Винукан уставился в костер широко открытыми глазами и, набрав полную грудь воздуха, загнусил нараспев непонятные мне слова.
Летков шепотком на ухо переводил мне их.
Вот что пел Винукан 1.
"За длинным хребтом высоких холмов, где в долгую зимнюю ночь голубой волк со сверкающей черными искрами спиной, уставившись на полный диск луны, поет свою жуткую песнь, есть долина. В этой долине растет ягель, он высок и мягок, как шерсть полярного медведя, царя всех медведей и господина белых пустынь.
Среди этого ягеля, точно на ковре, сшитом из постелей зимних хоров, стоят чумы.
Это чумы самоедских богатырей. Их род никогда не знал счета своим стадам и богатствам.
Легкие санки, покрытые андером, незапятнанным как зимняя льдинка, с белой как снег четверкой в упряжке, точно куропатка с гнезда, сорвались от одного из чумов и понеслись в снежную даль. Скорее, чем веко успевает подняться и опуститься над глазом, санки были уже так далеко, что виден был только столб снежной пыли, поднятый их неудержимым бегом.
Это богатырь Кырыкытэа поехал к своему стаду.
Уже третье солнце кончало свой путь через небо, когда Кырыкытэа въехал в лес рогов своих оленей, такой густой, как чаща тайги самой южной, какую когда-либо видели люди. Это была только середина его стада.
Шум дыхания оленей был громче рева морских волн, когда их гонит северный ветер на кромку берегового припая. Пар из ноздрей оленей, заволакивая густым туманом все стадо, простирался так далеко вширь и ввысь, что нельзя было видеть его края.
С тынзеем, сплетенным из тонких ремней длинными ночами белого лета, Кырыкытэа выехал поймать себе упряжку для дальнего пути. Кырыкытэа собрался в большое становище, к большому русскому начальнику. Много лет не плачена ему подать. Может осердиться начальник.
И стал себе выбирать Кырыкытэа упряжку для дальней дороги.
Есть у него пять наличных выездных хапторок, добрые в держке, да на дальнюю-то дорогу не держаные, не выстоят. Есть черные, как жуки, что весной по тундре летают, пять быков, в езде сильно ретивых, да к дальней дороге тоже непривычны. Загорят с горячкой-то своей, живо утомятся. Есть еще пять белых, их шерсть белее, чем шерсть песца в ту пору, когда снег покроется настом и глаза болят от одного взгляда на тундру, сверкающую на солнце белизной своей. Те на дальнюю дорогу много лет держаны. Отец еще в большое становище с податью езжал. После того в упряжке не бывали. Эти хоть и стары, да выстоят.
Пронзительно свистнул тынзей, брошенный быстрей, чем летит из лука стрела. Раз, другой, третий, четвертый и пятый взвивался тынзей. И ни разу не было так, чтобы его петля не падала на высокий рог быка. В упряжке было пять белых, да не чисто белых, а каждый с отметиной; у передового под ухом черное пятнышко; с передовым рядом - на шее пятнышко; у среднего - на лопатке пятнышко; что рядом с крайним-у того на холке пятнышко; у крайнего - на задней ноге пятнышко.
Осмотрел Кырыкытэа упряжь, дернул всей своей богатырской силой: крепко все. Взял хорей и ветром к чуму понесся. Точно снежная метелица по тундре пролетела. А у чума его уже батюшка ожидает, закрывшись от света рукой, тундру оглядывает. Ласково спросил:
- Дитятко мое, куда собрался?
- К русскому начальнику ехать надо. Десять лет не были, подать не возили. Сердиться станет. Достань-ка песцов да лисиц что ни есть лучших по полному мешку. Начальнику свезу.
А отец был мудрый, старинный человек. Запечалился отец. Ночь всю просидел с пензером, но что ему тадебции открыли, того никому не сказал.
Только ласково сыну обмолвился.
- Не езди, дитятко. Уедешь в становище, да там начальник станет тебе кумки подносить, запьешь ты и месяц и другой будешь пить, а враги тасынэа да тунгусы набегут на наши чумы и всех нас зарежут.
Призадумался Кырыкытэа. Долго думал, да и говорит:
- Нет, батюшка, я поеду. Если бы враги хотели притти, то пришли бы раньше, а захотят, так и позже придут и при мне придут.
Только заплакал старик. Мудрый был и много знал, но ничего не сказал.
Взял Кырыкытэа два полных мешка песцов и лисиц. Ударил вожжой по крутому боку передового, качнулся в богатырской руке хорей, и понеслась лихая упряжка,
Как пять белых чаек, как пять снежинок, подхваченных ветром, несутся олени. Олени добрые, сами бегут, хореем шевелить не надо.
Три солнца прошло по небу, как ехал Кырыкытэа, и только тогда до целого, не выбитого оленями снега доехал. Велико было стадо богатырей самоедских.
Половину луны неудержимым вихрем неслась упряжка. Много холмов пересек санный след, много озер объехал, выкружил Кырыкытэа, только тогда показалось становище русского начальника.
- Знал он за солнце до этого, что становище близко: следа россомахи уже целое солнце не видал.
Как избы увидел, словно опьянел. Лицо раскраснелось, в жар бросило, шапку с головы сбросил и под себя сунул.
Ветер ласково расчесал холодной пятерней черные как вороново крыло пряди прямых волос. В становище въехал. Олени боятся, шарахаются. Десять лет здесь не бывали, русского жилья не видали давно, духу не могут терпеть чужого. Передового все на тугой вожже держать надо, а то свернут куда-нибудь в сторону.
К большому дому в самой середине становища подъехал Кырыкытэа. Упряжку вожжой привязал, хорей к ногам оленей бросил. Потянулся, размял затекшие от долгой езды руки и ноги. Развел богатырскими плечами. Глядит, начальник уж с крыльца спускается.
- Здравствуй, - говорит, - друг! Не знаю я твоего лица, а по оленям признать могу. Старика Кырыкэ сын будешь.
- Правильно, друг, - ответил Кырыкытэа и пошел за хозяином на высокое крыльцо.
Привел его начальник в просторную горницу. Обедать посадил с собой. Никогда еще Кырыкытэа так не едал. После чая хозяин кумку вынес.
- Ну, - говорит, - для первого знакомства давай чокнемся, чтобы у нас с тобой все так же ладно шло, как раньше с отцом твоим ладилось.
Не помнит Кырыкытэа - много, мало ли пил он у начальника. День ли пил, два ли пил, а может, и целую неделю.
Только проснулся, а голова-то как отмороженная. Ничего не чувствует.
Не может Кырыкытэа вспомнить, что с ним и где он. А начальник снова ласково так:
- Что, поправиться хочешь?
Опять обожгло вино глотку и пошло по нутру веселыми огоньками, как-будто уголек из чумового костра в нутро спустили. Опять все на свете позабыл Кырыкытэа. Долго ли он пил, долго ли он спал, ничего не знает Кырыкытэа. Только он проснулся, а хозяин опять над ним стоит. Как добрый Нум, с широкой улыбкой говорит хозяин:
- Кумка тарa?
- Тарa, - ответил Кырыкытэа.
Опять выпил он, еще прибавил да снова попросил.
И много раз повторял Кырыкытэа "кумка тара". Как пил, долго ли спал, не помнит. А только видит, что голова его в озеро опущена сквозь прорубь, схватился руками за край проруби, чтобы не упасть, а за руку волк зубами хватил и дергает.
Проснулся тут Кырыкытэа.
Хозяин его за руку трясет шибко. А на голову ему холодную воду из ковшика льет. Стоит русак над ним, сурово так глядит.
- Кумка тара, - снова просит Кырыкытэа. А хозяин только головой покачал, потянул за руку и говорит:
- А ну, потряси головой, добрый молодец, встанька на ноги свои богатырские.
А у Кырыкытэа точно кто ноги из пимов вынул; одни пимы мягкие остались, и не держится на них могучее тело. Хозяин усмехнулся, чашку налил в четверть ведра.
- Нa тебе, самую последнюю на опохмелку.
Одним духом хлебнул ее Кырыкытэа, еще просит. Хозяин и говорит:
- Не дам больше. Луна целая прошла и еще, четверть луны прошло, как ты все пьешь, сын друга моего Кырьдкэ. Старый приятель мой невесть что о нас с тобой подумает. Знает порядок отец твой. Крепкая голова у твоего мудрого старика, а у тебя вот не такая. Поезжай в чум, больше не дам.
- Ну, коли так, хозяин, с собой-то ведра три в сани положи, без вина дорогой не весело ехать. Дорога ведь дальняя.
- Позжай, все сделано, положено тебе вино в сани.
Вышел Кырыкытэа во двор. Ветер свистит как богатырский тынзей. Снег в глаза так и хлещет. Даже в голове загудело, точно в колокол там русский шаман зазвонил. Олени понуро стоят и совсем отощали. Да ничего, на то крепкие и выбраны - на кости дотянут.
Отвязал Кырыкытэа вожжу, хорей взял и упал в сани с криком...
Осталось становище далеко, за снежной пургой и не видно.
В голове у Кырыкытэа русские колокола гудят, а среди этого гула редкие мысли, как заблудившиеся путники в густом тумане бродят.
Вспомнил тут Кырыкытэа про песцов и лисиц два полных мешка. Ведь хозяин-то про них даже не помянул и квитанции на них не выписал. Верно, будет снова пoдать на их роде числиться, будто вовсе она не плаченая.
Только подумал это Кырыкытэа, хотел оленей воротить назад к становищу, а в голове опять колокола загудели, и забыл про все Кырыкытэа.
Едет он солнце, едет второе, едет третье. Видит, олени совсем приутомились. Остановиться надо.
И думает тут Кырыкытэа: "Ведь у меня хорошее что-то с тобой есть. Ах, да, водка есть в санях".
Боченок отвязал, припал к нему губами. Оторвался, дух захватило. Сколько выпил, не видно, а с четверть ведра выпил. Опять завязал все и поехал дальше.
Долго ехал, быстро бегут олени, отдохнуть надо.
Опять отвязал боченок, припал, столько же выпил.
Дальше поехал, олени не сдают, все скоком идут, на хорей не оглядываются. С третьей остановки чум бы видеть должно. Но не видно чума, а в голове мысль опять: "Эк ведь у меня голова болит, поправить надо".
Вязки развязал, боченок достал, опять с четверть выпил. Дальше поехал не останавливаясь. До высокой сопки доехал. Стал с сопки во все стороны глядеть. Глаз у него как у орла тугокрылого, что живет на самых высоких сопках большого хребта. Отсель чум бы видать должно, а чума нет.
"Съемдали, верно, - думает, - копище стало велико, мох олени, видно, весь объели. На другое место отец ушел. Не видать чума".
Тряхнул вожжой, дальше поехал. К месту стал подъезжать. Вот и бугры, а чума-то нет нигде. Глядит, а чумовище все разворочено по-худому. Чисто все вымято, а дальше-то на снегу кровавые пятна.
"Наверно, убой делали, - думает, - яловых на праздник добывали".
Подъехал ближе, видит: отец весь изрезан. Сестры да братья тоже все убиты, глазами в снег, затылками в небо лежат. Сердце как сорвалось, в голове дума пробежала, черная, как волчья осенняя ночь.
"Тасынэ были, все разорили".
Опомнился немного, глядит, а среди убитых самого старшего после него брата и не видно. Оленей погнал, чумовище семь раз окружил, только на восьмом след нашел. По следу видит, брат от тасынэ убежал, да и убежал-то босиком. Врасплох застали.
По следу поехал Кырыкытэа. Едет солнце, два едет, а как на снег взглянет, все кровь ему мерещится, и дума одна у него в голове про то, что кроме брата он женки своей не видел, да двух сынишек маленьких, за один раз женка которых принесла. Пропадут теперь во вражеской неволе.
Слезы сквозь снег до ягеля доходят. Жаркие они, как уголья из костра.
Четыре дня след чередил, то пропадал, то снова появлялся. На пятый день глядит Кырыкытэа, а на бугре ворон не ворон, а что-то чернеет.
Подъехал ближе.
Человек как-будто... Брат!.. А тот как увидел, что кто-то на оленях едет, вскочил, да бежать что есть силы. Думал, тасынэ опять гонятся.
Видит Кырыкытэа, что брат со страха так бежит, что не догнать его на утомленных голодных оленях.
С бугров в лощину он тут съехал и лощиной оленей что есть духу погнал, прямо на торчащие впереди кусты. К кустам прежде брата подъехал и караулит. Когда брат прямо на него выбежал, выскочил Кырыкытэа из своей засады и схватил брата за руку. А тот словно ума лишился, ничего не видит, не понимает. Весь потемнел.
Шопотом еле слышно взмолился.
- Если убивать будешь, так прямо сюда, - а сам на грудь показывает, на левую, повыше живота.
- Опомнись, - говорит Кырыкытэа, - я ведь брат твой, посмотри на меня. Или не узнаешь?
Только тогда младший опомнился. Обнял его и заплакал. И в слезах поведал свое горе. Рассказывает дрожащими губами, а самого от холода сводит. Раздетый он. Вынул Кырыкытэа из саней запасную малицу, пимы достал. Брат оделся и говорит:
- Ну, теперь нас двое, надо тасынэ догонять, твою женку с ребятами, добро да оленей обратно отнимать.
Вынул тут Кырыкытэа из саней богатырский свой меч и подал брату.
Тот мечом себе грудь накрест неглубоко разрезал и кровью весь меч вымазал.
Что было у Кырыкытэа с собой поесть, с братом все съели, водки по четверти выпили и в путь...
Олени, как двужильные, идут все по-старому. Богатырские олени, не нынешние.
Кырыкытэа хореем помахивает, а сам крепкую думу думает, как им вдвоем с братом тасынэ одолеть и женку с сынами от них отнять.
Сколько ехали богатыри, все думал думу Кырыкытэа. И говорит он брату:
- Ты с саней сойдешь и сзади останешься. Я вперед заеду и навстречу тасынэ выеду. Будто я ненароком встретился. А потом, как ты на задние чумы нападешь, я к тебе на помощь приду.
Так и порешили.
Погнал Кырыкытэа оленей из последних сил, пошибче. Через три солнца увидели братья тасынэ. Догнал их Кырыкытэа, кругом объехал, большого крюка в обход дал.
Как ни в чем не бывало едут навстречу тасынэ, песню под нос себе напевают.
Впереди едут семь тасынэ и среди них старший в роде. Увидели тасынэ Кырыкытэа. А тот едет будто и не видит их.
Окликнули они его.
- Здравствуй, друг, куда путь держишь? - спрашивают.
- Здравствуйте, друзья, я издалека, из Малой Земли правлю, за богатырской добычей.
- За какой такой добычей? - спрашивают.
- Да сказывают у вас в тундре старики, что где-то есть богач Кырыкытэа, богач и богатырь, так еду его убить, оленей, добро да женку его себе забрать.
Рассмеялся старший тасынэ да и говорит:
- Поздно взялся ты, друг, за это дело, видишь, вон там на санях, что идут длинной вереницей, это и есть Кырыкытэа добро.
- Вижу, - говорит Кырыкытэа.
- А видишь темной тучей лес рогов поднимается, это богатырские олени Кырыкытэа.
- Вижу, - говорит Кырыкытэа.
- А видишь последний хан в том конце, где чумы сложены и собаки бегут? На нем женка Кырыкытэа сидит. Она пищу теперь в моем чуме моей женке готовить помогать будет.
Вскипело сердце у Кырыкытэа, вот-вот выскочит. Но схватился Кырыкытэа рукой за грудь и сдержался.
- Эх, - говорит, - видно, не судьба была мне поживиться его добром. Ну, уж если вы становить чумы будете, я хоть у вас погощу да про ваши подвиги послушаю.
Велел тут старший тасынэ остановиться и чумы ставить.
Чумы поставили, старший тасынэ Кырыкытэа к себе в чум позвал.
Зашел Кырыкытэа в чум, а женка-то его мясо подает да прислуживает. Увидала его и обмерла, но моргнул ей глазом Кырыкытэа, чтобы виду она не показала. Хитра была женка, сразу поняла. Сама скорей к ребятам, а те не на шкурах сидят, а на снегу у самого, входа, дома-то так не сиживали. Только глаза у обоих чернеют. Ребяткам женка что-то шепнула, а сама опять к столу.
Старший тасынэ своими подвигами похваляется, добром награбленным хвастает. Пока айбардали да похлебку ели, да чай пили, в других-то чумах спать легли.
Только вдруг рев какой-то поднялся и шум, точно ветер прошел над чумовищем. Вскочил на ноги Кырыкытэа.
"Наверное, - думает, - брат задние чумы режет. Надо и мне начинать".
Да тот же нож, которым мясо ел, в живот старшему тасынэ и воткнул. У того только голова на грудь склонилась, да так на пол и оплыл, как сидел.
- Женка, - крикнул Кырыкытэа, - бери ребят, да к оленям на мои сани в сторону поди.
А сам меч выхватил, да к другим чумам, а там брат почти всех переколол. А тасынэ во все стороны разбегаются, к оленям своим ладят добежать. Меч тогда бросил Кырыкытэа и стал из лука в бегущих стрелять, а брат мечом их докалывать.
Сколько было врагов, всех перебили. У живых уши и языки отрезали, а брату старшего тасынэ хоте (детородный член) отрезали и заставили его самого свой хоте съесть.
Так отцы за свою кровь мстить учили, так и сыновья делают. Со всеми покончили.
На свои сани с женкой да с ребятами сели и над кровавым следом, под лунным светом, о своем горе, о покойниках дорогих и подвиге своем песни спели.
Печальна, как зимняя вьюга, эта песня о покойнике и крепка, как морской ураган, песня о подвигах богатырей самоедских".
Гнусавый голос Винукана затих.
Несколько минут длилось молчание. Затем хозяин достал из-под шкуры бутылку и налил водки во все чашки.
Один из гостей, вчерашний ямщик Иоцо, поднялся и тихонько вышел из чума. Я решил воспользоваться тем, что общее внимание сосредоточено теперь на водке, и вышел за ним.
Тумана как не бывало.
На вершине холма, освещенный пылающей полоской восхода, стоит рослый красавец Иоцо. Шапка в руках, ветер треплет черные как смоль прямые пряди блестящих волос.
- Иоцо, а как ты думаешь, правда то, что пел Винукан? Были самоедские богатыри?
Иоцо посмотрел на меня со своего холма.
- Бывали, парень... И снова будут, когда русак от нас уйдет.
Иоцо круто повернулся и издал резкий гортанный крик. Целая свора собак бросилась на этот крик.
Широкими шагами пошел Иоцо по гребню холма от чума.
Его могучая фигура пламенела в лучах багрового востока.
У левого бедра на толстой медной цепочке позвякивал широкий хар в разделанной медными бляхами харнзэ.
Все, что досталось ему в наследство от богатыря Кырыкытэа.
5. ТУНДРА В КРОВИ
Тумана нет. Но солнца тоже не видно. Небо нельзя назвать ни серым ни белым. Оно делает горизонт таким расплывчатым, что трудно отличить, где кончаются облака и где начинаются пологие холмы, которые самоеды называют здесь горами.
Почти в каждой долине, в каждой складке, образованной холмами, поблескивает темное зеркало воды. Иногда это просто небольшая мутная лужица, иногда широкое, отороченное пушистым воротником шипящих камышей, прозрачное озеро.
Лежа на мшистом кочковатом берегу такого озера, я терпеливо жду, когда стайка уток подойдет ко мне на расстояние выстрела. Утки плавают темной кучкой, с видимым наслаждением разбрызгивая широкими клювами воду.
Выстрелил. Вся стайка моментально исчезла с поверхности воды. Осталась только одна подбитая уточка.
Пока Джек, чистокровная ждановская лайка, похожая на большую лисицу, повизгивая не то от восторга, не то от пронизывающего холода ледяной воды, тащит в зубах еще дергающую лапкой добычу, утки успевают под водой уйти до противоположного берега озера. Там они выныривают, но ни одна не поднимается с воды.
Долю жду, пока стайка снова подойдет к моему берегу, но она осторожно держится на том берегу.
Иду туда. С моим приближением утки ныряют, и головы их появляются в разных концах озера. Они показываются на поверхности лишь на короткие мгновения, едва достаточные, чтобы прицелиться. И после каждого выстрела вся стая снова исчезает под водой на такие долгие промежутки времени, что начинаешь думать, не ушли ли они какой-нибудь протокой в другое озеро.
Мне начало уже надоедать переходить с одного берега на другой в погоне за делающимися все более и более осторожными, но не улетающими утками, когда я заметил, что высокий скат одного из дальних холмов покрывается какой-то серой массой, плавно текущей от его гребня.
Серое пятно быстро подвигалось, растекаясь все шире по холмам. Скоро за ближайшей грядой послышалось хрюканье, точно там двигалось стадо в несколько тысяч кабанов.
Это олени.
Десятки, сотни серых тел просвечивают сквозь волнующееся кружево рогов. Рога сцепляются, переплетаются, перекрывают друг друга. За паутиной рогов пушистый мех оленьих шкур кажется только фоном. Тонкое плетение филигранной решотки лежит на пушистом бархате. Фон течет, колышется, точно живые разводы муара проходят по бархату. Плетение филигранной решотки так тонко, так необычайно. В непрестанном изменении она остается все той же, с хитрым неуловимым узором.
Головные олени выходят на самый гребень, и широкие ветви их мощных рогов ярко проектируются на светлом небе.
Серая лавина стада устремляется мимо меня, гонимая несколькими пастухами, едущими на легких нартах, запряженных резвыми быками.
Растекаясь по долине, стадо стремится использовать каждую лощину, как лазейку для бегства. Но тут на пути оленей встают собаки. Проворно и как-будто вполне отдавая себе отчет в своей задаче, собаки несутся оцеплением вокруг стада. Их немного, но они очень искусно ведут оленей, точно разумные пастухи.
Вот на бугре несколько собак сгоняют в кучу отбившуюся массу оленей и оттесняют к общему стаду.
Все стадо в две тысячи голов влилось на ровную площадку невдалеке от чума, и началась "гоньба".
Как это ни странно, но отношение самоедов к оленьему стаду ни в коей мере нельзя назвать бережным, несмотря на то, что именно стадо составляет единственную основу их хозяйственного благополучия. Скорее наоборот, по отношению к своему кормильцу самоеда можно назвать неразумно безжалостным. Быть может, происходит это и просто из-за полного непонимания самоедом элементарнейших истин скотоводства. К вопросам "планирования" своего хозяйства они относятся совершенно по-детски - с точки зрения интересов сегодняшнего дня, чрезвычайно мало задумываясь о будущем. Кроме того, и представление их о животном дикарски грубо, им ничего не стоит без всякого смысла вымотать до последних сил стадо. Гоньба в этом отношении чрезвычайно характерна. Трудно представить себе более нелепый способ выбора животных из стада, чем непрестанная гонка его. Из-за глупости и трусости оленя эта гонка принимает совершенно панический характер и чрезвычайно вредно отзывается на физическом состоянии животного. Для самок, носящих плод, это занятие в большинстве случаев кончается падежом.
Под гиканье самоедов, под остервенелый лай собак стадо образует несколько бурливых водоворотов, центрами которых служат группы пастухов, стоящих с тынзеями в руках.
Слышится только храп оленей и дробное пощелкивание копыт.
В этом непрерывно крутящемся потоке перед пастухами проходит все стадо, и они намечают нужных им оленей, в первую голову - ездовых быков.
Увидев нужного оленя, самоед устремляется к нему. Трудно понять, как может самоед в неуклюжей, широкой малице совершать такие быстрые движения. Напуганный бегущим человеком, поток оленей устремляется в сторону. Но уже поздно. Тонкие витки тынзея неуловимым для глаз броском расплелись в воздухе. Схваченный за рог олень совершает дикие скачки, пытаясь освободиться. Пастух быстро выбирает тынзей, и через минуту плененный олень уже послушно идет к хану хозяина. Очередь за другим.
Большой серый бык мчится по краю площадки, закинув за спину огромные ветвистые рога. Один миг, шелестящий свист брошенного тынзея, и попавшая в петлю задняя нога быка нелепо вытягивается в сторону. Олень всем корпусом описывает дугу и с размаху ударяется головой в землю. Маленький клубок взброшенной коричневой грязи, и животное бьется в бесплодной попытке подняться. Около его головы почва покрывается сочным темным пятном - одного рога нет; он беспомощно ветвится с земли, прикрепленный к голове только тонкой полоской кожи. А на черепе оленя в зияющей ране кипит яркая кровь и пульсирует беловатая масса. Кровь широкой струей вытекает из раны. Кровь заливает оленю всю голову, от просвечивающей сквозь ее темно-красную пленку белой звезды на лбу до бархатных нежных ноздрей. Сквозь кровь широко глядят бессмысленные карие глаза.
Подбежавший самоедин коротким ударом ножа пересек лоскут кожи, на котором болтался рог, и пинком ноги заставил оленя подняться. Взяв оленя за сиротливые ветви оставшегося рога, самоед бегом отвел его к своей нарте. В ней не хватало быка-вожака.
Через минуту нарта мчалась уже по холмам наперерез утекающему ручьем отростку стада. Слева, опустив единственный рог, скачет вожак. С его наклоненной головы кровь струей стекает на копыта. Ноги спотыкаются о каждую кочку. Глаза вожака застланы пленкой непрерывно текущей крови. На ходу капли крови относит ветром на лицо машущего тюром пастуха. Капли коростой застывают на его правой щеке, обращенной к упряжке.
А на центральной площадке тынзеи один за другим взвиваются в воздух. Вон самоедин зацепил за ногу важенку, предназначенную для убоя. Петля вот-вот сорвется. На помощь самоедину спешат два мальчугана. Старшему не больше восьми лет. С сознанием важности своей миссии они взмахивают тынзеями, и важенка валится на землю.
Через минуту ребятишки уже сидят на судорожно поднимающемся и опускающемся боку поваленной важенки и с интересом смотрят на блеснувший в руке пастуха клинок. Коротким движением самоедин проводит ножом вдоль шеи важенки, вскрывая бархатную кожу. Пальцем он выдергивает из разреза горло и перерезает его. Важенка судорожно бьется. Ее широко открытые глаза подернулись влагой.
Ребятишки продолжают сидеть на олене, пока самоедин, перерезав горло, не втыкает нож под лопатку дрожащего в агонии животного.
Еще с минуту судорога сводит ноги важенки. Затем веки медленно опускаются на огромные влажные глаза. Самоедин, свернув тынзей, бежит "имать" следующего оленя. Ребятишки тоже торопливо сворачивают свои тынзей, и младший карапуз вперевалку спешит за старшим братом. Около убитой важенки остается только ее теленок. Он недоумевающе бегает вокруг матери, тычясь мордой в ее окровавленное брюхо.
Убой производится самоедами с таким расчетом, чтобы животное теряло как можно меньше крови. И действительно, только-что убитая важенка потеряла меньше крови, чем тот бык, что сломал себе рог. Там потеря крови не имеет никакого значения. Олень ее нагуляет опять. А здесь каждая капля, которую можно сохранить, будет использована в пищу. Кровь - это тепло и сила - это здоровье.
Меня поразила беззвучность оленей при всех, несомненно болевых ощущениях. Если даже допустить, что во время убоя олень не успевает реагировать на боль, когда самоед уже перерезает ему горло, то не может же не причинять боли клеймение тем примитивным способом, каким делают его самоеды.
Выловленного тынзеем молодого оленя валят на землю и ножом вырезают у него кусок уха. Вырез делается треугольный, круглый, двойной, квадратный и т. д., в зависимости от клейма того или иного хозяина. Можно видеть оленей и вовсе без левого или правого уха. Тут почти безошибочно можно сказать, что олень имел прежде клеймо Госторга, и ухо у него отсечено впоследствии пастухом, чтобы уничтожить это клеймо и выдать оленя за своего.
Теперь, впрочем, пастухам не придется с этой целью даже отрезать оленям ушей, так как Госторг придумал новый способ клеймить своих оленей: щипцами вроде пломбира в крае уха оленя простригается небольшая дырочка ромбической, овальной или иной формы, по желанию агента. Дырочка эта быстро зарастает шерстью и перестает быть видимой. Чтобы опознать оленя, такое клеймо нужно прощупать пальцами.
Самоеды от души смеются над этим клеймом, так как, по их словам, достаточно отрезать какой-нибудь дюйм от уха такого оленя, чтобы уничтожить следы госторговского клейма и придать разрезу любую форму.
Надо думать, что пастухи на практике не замедлят доказать свою правоту.
Кроме того, клеймение большим вырезом имеет еще и то преимущество, что по такому клейму самоед опознает оленя на бегу во время иманья, а с новым "усовершенствованным" клеймом оленя надо выловить, а потом уже можно сказать, кому он принадлежит. Впрочем, все это имеет чисто формальное значение, так как всех оленей своего стада хозяин в большинстве случаев знает "в лицо" и редко ошибается.
Но наиболее мучительной операцией, проделываемой над безответным оленем, является, вероятно, кастрация.
Гоняя стадо, самоеды намечают наиболее крупных и сильных хоров. Их рога, особенно высокие и разветвленные, сразу выдаются над мчащимся лесом стада.
Свистит тынзей, и схваченный за рога, ошеломленный хор останавливается, как вкопанный, на всем скаку. Самоедин выбирает на себя тынзей. Но с хором справиться не так просто. Он мотает головой, делает дикие прыжки. Самоедин, забросивший на него свой тынзей, уже лежит на земле и на животе волочится за мчащимся оленем.
Второй, третий, четвертый тынзей разворачиваются над пляшущим хором. Одна из петель попадает на ногу. К оленю подбегают несколько самоедов. Олень мечется среди них, но не пускает в ход своего единственного действительного средства защиты - рогов. Здоровый самоедин хватает хора за рога и, скрутив ему шею, заставляет его лечь. Ноги оленя скручивают тынзеями. На бок животному опять усаживаются все наличные ребятишки. У одного из самоединов сверкает нож.
Ножом самоедин вскрывает сзади пах. Засунув в рану руку, он нащупывает там пальцами яичко и, сильно дернув его к себе, вырывает. Вырванное яичко летит на несколько шагов назад. Олень дрожит как в ознобе, судорожно бьется в опутывающих его веревках. Детишки со смехом скатываются с его бока. Вместо них наваливаются взрослые.
Между тем самоедин, нащупав второе яичко, вырывает и его. Яички сейчас же подхватываются присутствующими. Даже не смахнув налипшей на яички грязи, лакомки тянут в рот любимое блюдо. Отрезаемые у самых губ ловким ударом ножа куски яичек медленно со смаком поглощаются.
Мой знакомец, Летков, вчерашний переводчик, даже облизал свои торчащие усы и, сощурившись от удовольствия, чмокнул языком.
- Ття, ття, ах, кусна!
Олень, освобожденный от пут, вскакивает, как ошпаренный. Его ноги дрожат, бессмысленные глаза широко раскрыты, почти выпучены. Постояв минуту точно в раздумье, олень забрасывает голову и, широко раскидывая задние ноги, стрелой мчится к стаду.
В результате - или из него выйдет прекрасный ездовой бык, или у него в паху в месте варварского разрыва образуются гнойники, которые через месяц окончательно свалят оленя.
К сожалению, второе происходит гораздо чаще в результате принятого здешними самоедами способа кастрации.
Говорят, что у тех самоедов, которые зубами раздавливают яичко или вовсе выкусывают его, олени переносят операцию гораздо лучше.
В то время как взрослые наслаждаются свежими яичками и стоящие около них дети только чмокают губами от зависти, группа мальчуганов не теряет времени и угощается по-своему. Они поймали оленя и строгают ему ножами рога. Срезанную полосками бархатистую кожу ребята с аппетитом суют в рот. По рогам оленя струями течет кровь. Ножи, руки и лица лакомок измазаны кровью. Олень только дико вращает глазами, не пытаясь даже бежать от этого завтрака "а-ля-фуршет", на котором он служит живой закуской.
Время подошло уже к обеду, когда карьера производителей для всех обреченных на сегодня самцов была закончена и с десяток трупов важенок серел на истоптанной и заваленной кучами кала площадке.
Уставшее от нескольких часов гоньбы стадо медленно утекает по лощинам в сторону озера. Собаки пытаются удержать оленей, но короткие крики хозяев заставляют их поджать хвосты извернуться к чуму. Теперь они бродят около убитых важенок и облизываются, глядя на их свежие раны. Но ни один пес не решается тронуть трупы.
Эти трупы один за другим подбираются самоедами. Мужчины взваливают тушу на спину и тащат ее к чуму. Из вскрытого горла висящей вниз головой туши сочится кровь. Кровь заливает малицу несущего. Кровь покрывает ему всю спину темными скользкими пятнами и струйкой стекает с подола. Но самоеды не обращают на это никакого внимания.
Принесенные к чуму туши оленей поступают во власть хабинэ. Здесь среди взрослых женщин снуют девочки, деятельно помогая матерям.
Женщины первым долгом снимают с туш шкуры. Делается это необычайно быстро и ловко. Через несколько минут, синие с кровавыми разводами шкуры широкими дымящимися щитами покрывают всю землю вокруг чума.
Затем отделяются конечности и положенная на землю ободранная туша вскрывается. Из нее извлекаются внутренности.
Хабинэ вытаскивает из живота груду внутренностей и тут же выжимает из длинной кишки ее содержимое в жидкую желтую кучу. Девочка лет десяти кольцами нанизывает опустошенную кишку себе на руку и уносит ее. Другая, крошечная, едва ходящая вразвалку как утка, спотыкаясь на каждом шагу, бредет с прижатым к животу концом оленьей ноги. Девочке тяжело, окровавленная нога выскальзывает у нее из рук, но пузырь, отдуваясь, упорно тащит свою ношу, помогая взрослым.
А взрослые хабинэ тем временем разделывают тушу до конца. Разрубленные ноги, часть ребер, полоски мяса, все это опускается внутрь туши, как в корыто. Кровь плещется в этом корыте темной густой жижей, в котором тонут отпускаемые в нее куски.
Олени разделаны. Вынимая на ходу ножи, подходят самоеды. Становятся тесными кружками вокруг кровавых корыт, и начинается высшее наслажденье "айбарданье".
Погружая руку в кровавую ванну, самоеды извлекают оттуда нарезанные хабинэ куски и, поднося их ко рту, быстро чиркают ножами у самых губ. Оставшийся кусок они, как спаржу в соус, снова погружают в кровь и спешат донести до рта, пока кровь льется сочной струйкой.
Кому досталась кость, отделяет от нее кончик мяса и, ухватив его зубами, отрезает длинную полоску. Кость снова макает в кровь и только после этого опять тянет в рот.
Мясо исчезает во рту длинными полосками. Эти полоски почти не жуются. По кадыку, под закинутой назад головой видно, как куски этой кровавой спаржи проходят непрожеванными.
Едят много и долго, вылавливая из крови все новые и новые куски. Тонкие полоски одну за другой отсекают у самых губ.
Постепенно движения делаются все более медленными. Начинаются разговоры. Уже не так поспешно подносятся ко рту новые куски. Отрезанные полоски мяса более старательно вымачиваются в крови после каждого укуса.
Наконец обсасывается кровь с пальцев. С каждого в отдельности.
Пальцы тщательно обтираются о подол малицы, а ножи об штаны.
Некоторые, правда, немногие, идут в своей чистоплотности так далеко, что даже ополаскивают руки несколькими каплями воды, тщательно обтирая пальцы все о ту же малицу.
На щеках, на губах, на подбородке остаются пятна и струйки крови. Их даже не пытаются смыть.
Как истые гурманы, самоеды после обеда полулежат в кружок, лениво перебрасываясь словами; у каждого в зубах папироса или трубка. На белых мундштуках папирос губы и пальцы оставляют розовые, быстро буреющие следы.
После мужчин к кровавым тушам-корытам подходят хабинэ с детьми. Они едят не так жадно. Более размеренно, перемежая еду оживленной трескотней, хабинэ срезают длинные лепестки мяса. При этом хабинэ почти исключительно используют кости, оставляя мякоть детям.
Ребятишки до рукавов погружают ручонки в тушу и, плескаясь в крови, отыскивают кусочки получше. У каждого из детей тоже по острому ножу в руках и, подражая взрослым, они ловко отрезают полоски мяса у самых губ.
Лепестки кровавой спаржи один за другим исчезают в их маленьких ртах.
Через полчаса руки, подбородки, щеки, носы и даже лбы ребят покрыты густыми, темными пятнами запекшейся крови. Дети и не думают ее смывать или стирать. Меньше всего озабочены этим и родители.
Скоро отдельно от мужчин садятся в кружок насытившиеся хабинэ. Около них, уткнувшись окровавленными личиками в темные, пропитанные салом и кровью подолы, сладко сопят девочки. Мальчики сосут мундштуки. Кто мал для настоящей папиросы (если ему нет еще десяти лет), сосет пустой мундштук или окурок.
Около людей, свернувшись клубками и положив испачканные до глаз в крови морды на розовые лапы, блаженно спят псы.
В порыве младенческой собачьей нежности маленький пушистый щенок взобрался в люльку спящего ребенка и с азартом лижет ему лицо. На нежной кожице язык щенка оставляет слизистые розовые следы.
Ребенок сладко улыбается во сне и чмокает губами.
6. ПОГАНА МЕСТА
Я проснулся от тонкой струйки влаги, ни с того ни с сего полившейся мне на лицо. Прислушался - дождя как-будто нет. Торопливое, мелкое понюхивание над полотном и мелькнувшая тень разъяснили, в чем дело. Я вчера еще заметил, что самоедским собакам очень нравится поднимать лапу над углами нашей палатки.
Тяжелый, сизый туман лезет под распахнутую полу палатки; совершенно так же, как зимой клубы морозного воздуха лезут в дверь жарко натопленной кухни. И так же оседает на вещах холодным матовым потом, по которому можно выводить пальцем блестящие буквы.
Все сыро в палатке: цепляющееся за голову холодное полотнище; замша малиц, сделавшаяся совсем темной и скользкой; свитр, от которого пахнет мокрой псиной, и не лезущие на ноги скоробившиеся сапоги. От долгой возни с сапогом я совсем закоченел и, махнув на него рукой, снова полез ногами в малицу.
Мой сосед Черепанов оказался много остроумней - он спал в пимах. Теперь его борода самым непринужденным образом глядит в потолок палатки, пока он грязной пятерней протирает большие роговые очки. В этих очках и черной бороде никто не признал бы теперь комсомольца Толю. За бородой он ухаживает любовно и неустанно. Черепанов убежден, что возвратиться из полярной экспедиции бритым просто неприлично.
Он осторожно щупает пальцами мохнатые щеки и соображает, насколько выросла борода со вчерашнего вечера.
- Слушайте, Тото, бросьте бороду. Хороша как у Кира. Не лучше ли зажечь спиртовку, а?
- Фактически лучше.
Черепанов зажигает две баночки сгущенного спирта и разводит примус. Через четверть часа у нас почти тепло. Я блаженно задремал. Без дрожи можно одеться, даже с вожделением думаешь о студеной воде соседнего озера, служащего нам умывальником. В тазу сверхкоролевских размеров видно на дне каждый камешек, вода прозрачна как хрусталь, а температура ее такова, что до посинения стынут руки.
И сегодня для начала дня мы решили немного пострелять и попытаться заменить парную оленину свежими утками. Впрочем, хотелось этого, пожалуй, мне одному, так как после постоянного созерцания царящей на чумовище живодерни и айбарданья оленина в меня просто не лезет. А есть хочется.
Однако охота сегодня оказалась еще менее удачной, чем вчера. Особенно плохи, по обыкновению, дела у Блувштейна. У него каждая утка, в которую он стреляет, "определенно убита, но почему-то не всплывает". В конце-концов его даже делается жалко, глядя на его мучения с автоматической магазинкой Вальтера, всученной ему перед отъездом в Москве в оружейном магазине военно-охотничьего общества. Так называемый автомат не только не подает патронов, но регулярно после каждого выстрела гильза встает боком в окне и весь механизм перестает действовать. Обычно после каждого выстрела в продолжение нескольких минут слышится злобное чертыхание Блувштейна, пока ему не удастся заправить, свежий патрон. Однако отказаться от магазина и использовать свой автомат как простую берданку он упорно не хочет.
Видя наше возвращение со скудными трофеями, самоеды ехидно посмеиваются над усовершенствованными "дробовками", и какой-то старик предлагает сменять автомат на его развалившуюся, безобразно заржавленную тульскую двухстволку. Надо заметить, что самоеды - прекрасные стрелки и рьяные охотники. Об их пристрастии к ружейной охоте говорит огромное количество потребляемых ими охотничьих припасов. Так, на хозяина в год приходится: пороху 5 кило, дроби 20 кило, свинца 30 кило. Это - средние цифры. Но остается совершенно непонятным, как могут самоеды охотиться с тем оружием, каким они располагают. Госторг постоянно завозит на свои фактории вполне доброкачественные и соответствующие вкусам и потребностям туземцев ружья: дробовики и винтовки. Но завоз этот нисколько не поднимает запасов действующего огнестрельного оружия в руках туземцев, так как в необычайно короткие сроки самоеды умудряются приводить свои ружья в полную негодность. Они совершенно не чистят ружей, не смазывают их и не заботятся даже о том, чтобы хранить их в сколько-нибудь сухом месте. Летом запросто можно найти ружье лежащим в луже на открытом воздухе, зимой в снегу. В таких условиях, понятно, ружья со скользящими затворами делаются совершенно неприменимыми для самоедов, и они считают лучшим, что можно придумать - Ремингтон. Мотивируется это тем, что Ремингтон не отказывает в работе даже тогда, когда казенная часть покрыта ледяной коркой. Вообще, кажется, единственное требование, которое самоедин предъявляет к своему ружью, это чтобы сквозь ствол был виден свет. Остальное неважно и меньше всего значения имеет для него внешний вид оружия - пусть оно будет как угодно покрыто ржавчиной и грязью.
Жданов рассказывал мне, что он выдал старому самоедину, прекрасному охотнику, отлично промышляющему песца, новую винтовку. Через месяц, приехав к старику в чум и поинтересовавшись, хорошо ли работает ружье, он должен был помогать хозяину отыскать его в куче всякого хлама под лодкой на берегу озера. Казенная часть была уже настолько покрыта ржавчиной, что затвор не действовал - это и послужило причиной того, что самоед выбросил ружье. Жданов привел ружье в порядок и сказал, что если хозяин не станет смотреть за ним, то он отберет у него ружье. Однако вскоре выяснилось, что этот самоед хранит теперь ружье в снегу.
Скоро, разбуженный нашей возней, поднялся весь лагерь, и стали готовиться к киносъемке. Блувштейн решил сегодня заснять жизнь внутри чума, невзирая на серый день.
Хотя еще накануне вечером с хозяином чума были обусловлены все мелочи съемки, сегодня он делает вид, что это для него совершенная новость. Битый час уходит снова на переговоры. Наконец он нехотя разобрал половину чума, но сниматься так и не стал. На помощь, пришел усатый Летков, охотно изображавший перед объективом всю процедуру вставания, еды и укладывания ко сну. Только хабинэ никак не хотела раздеться, укладываясь спать. Пришлось удовлетвориться тем, что она в малице полезла под шкуру. А в действительности самоеды спят голыми. Вся семья на одной куче шкур. Дети между родителями. Постелью служит утяр, накрытая вау.
Ничего не вышло и со съемкой богов. Судя по всему, шаман запретил их нам показывать. Вообще, появившись на сцене, шаман испортил все дело. Самоеды стали отворачиваться от объектива; хабинэ стали прятать детей и закрываться рукавами.
Но все-таки считалось, что нам оказана большая услуга, и пришлось отблагодарить не только хозяина, а и всех зрителей, преподнеся им для айбарданья двух оленей из стада Госторга за наш счет.
На этот раз никого не пришлось уговаривать ехать за оленями. Через полчаса стадо было уже на месте и пошла дикая гоньба.
Через час туши двух важенок уже дымились плескающейся в кровяном корыте жижей. Тут же их сайбардали. Вокруг чума выросло несколько кучек свежих отбросов.
Какое счастье, что здесь нет мух. Трудно себе даже представить, что делалось бы здесь, если бы были мухи. Вокруг чумовища буквально нет места, куда можно было бы ступить без риска по щиколотку увязнуть в каких-нибудь нечистотах. Человеческие и собачьи экскременты чередуются с выброшенными внутренностями оленей, громоздятся желто-зеленые кучи выдавленной из кишек убитых животных жижи. Там и сям разбросаны кости, черепа, рога. Все это никак не используется. Даже оленья шерсть, ценнейший продукт, не собирается, так как самоеды считают, что можно использовать только ту шерсть, которая сама спадает во время линьки. Но не хотят собирать и ее. В сущности все использование оленя сводится к утилизации мяса и шкуры.
Все остальные продукты оленеводства, могущие служить не только предметами внутреннего потребления, но и экспорта, безвозвратно пропадают.
Когда айбарданье подаренных нами оленей кончилось, один из самоедов явился в палатку.
- Кумка давай.
- За что кумку?
- Все самоеды айбардал.
- Так ведь вы для себя айбардали, а не для нас. Мы же угощенье поднесли, с нас же еще и кумка?
- Тот большой с машинка карточка снимал, как мы айбардал.
Блувштейн, действительно, накручивал киноаппарат во время айбарданья. Но требование все же показалось нам чрезмерным.
- Не будет кумки.
- Ай, непоросa, парень. Самоеды работал, кумка нет.
Делегат еще посидел с обиженным видом, угостился папиросой, сунул несколько штук за пазуху и ушел. Долго слышались возмущенные голоса всей отдыхающей после еды компании.
Через час в палатку снова вполз тот же делегат.
- Кумку дашь?
- За что?
- Наса гонять будя. Хоросa оленя прягать будя.
Гонка на санях - заманчивое зрелище, но и тут мы отказались выставить кумку.
Скоро переговоры возобновились, и было решено, что чашку водки получит тот, кто выиграет состязание.
К берегу озера подъехали 12 ханов, запряженных лучшими быками. Все мои попытки установить их на старте так, чтобы уровнять шансы состязующихся, ни к чему не привели. Ханы сбились в кучу. Олени перепутались в постромках. Когда, отчаявшись наладить старт, я махнул рукой, клубок из оленей, людей и ханов завертелся бешеным водоворотом. Из водоворота только тонкими иглами торчат поднятые тюры.
Но вот из бестолковой свалки вырвалась одна упряжка. Пастух на бегу бросился на хан, и хорей загулял по крупам распластавшихся в неудержимом беге оленей. Второй и третий ханы взметнулись одновременно, и за ними по берегу озерка покатилась серыми мятущимися клубками гонка. Тесно сжавшись в упряжке, олени скачут одним скоком, взметаясь над высокими кочками. Широкими фонтанами разлетается грязь мелкой протоки, преграждающей путь гонщикам. Олени несутся прямо на препятствия, точно у них завязаны глаза. Ханы выделывают по кочкам дикие скачки. Вот один хан почти лег на бок. Самоедин кубарем вылетел из него и покатился в озеро, а олени, точно опьяненные собственным бегом, заложив на спины кусты рогов, понеслись в тундру, радостно увлекая непривычно легкие санки.
Обогнув озеро, к финишу бешено несется хан, запряженный пятеркой серых быков, а на спине у него висят белые как снег олени местного фаворита, потерявшего слишком много времени на распутывание своей запряжки на старте. Его дело явно проиграно. Мальчик, едущий на первом хане, на полном ходу яростно дергает вожжу, и вся упряжка очумело бросается влево, прямо на толпу зрителей. Но победитель уже стоит на земле, и олени, упершись головами в протянутый тюр, встают как вкопанные. Мохнатые бока ходят как кузнечные меха.
Хотя победитель и его единственный серьезный конкурент-фаворит уже давно на финише, остальные участники гонки продолжают неистово погонять своих оленей, стараясь привлечь к себе внимание зрителей.
Как и следовало ожидать, кумку потребовали, кроме победителя, и отставший фаворит и все участники.
Самоеды сами большие любители оленьих бегов. На свадьбах у них всегда устраиваются большие гонки. Кроме того, один раз в году, обычно летом, устраивается большая, так сказать, годовая гонка, посвященная духу, покровителю оленей. Звание чемпиона, выигранное в этой гонке, сохраняется за победителем до следующей гонки.
Присваивается оно не гонщику-самоеду, а оленю, вожаку победившей упряжки.
Кроме состязания на скорость, самоеды практикуют еще и состязание на искусство фигурной езды. В этом соревновании любители искусной езды должны проехать извилистыми, узкими проходами, оставленными между расставленными нартами или специально вбитыми колышками. В этих состязаниях принимают иногда участие и женщины, отличающиеся умением править оленями не хуже своих мужей.
Наиболее интересны и показательны гонки, конечно, зимой, когда накатанный санный путь позволяет развивать значительно большие скорости, чем на летнем покрове тундры.
Чтобы отвлечь внимание самоедов от надоевшей нам кумки, Черепанов нарочно на виду у самоедов стал собирать микифон.
Через пять минут тесный круг сгрудился вокруг микифона, бессильно пытающегося захватить воздух тундры слабыми звуками Данкеровских пародий. То ли потому, что звуки совершенно терялись в безбрежной равнине, то ли потому, что напевы серебряных струн, рожденные под расплавленным золотом гавайского неба, уж очень чужды сынам мшистых равнин, но гавайские гитары не произвели никакого впечатления. Даже какое-то разочарование было написано на лицах: такой, мол, интересный, блестящий, многообещающий аппарат ради каких-то слабых непонятных звуков. Не больший эффект вызвал марш оркестра. Только когда послышался голос человека и свист, самоеды стали смеяться и заинтересовались граммофоном.
Музыка самоедам совершенно чужда, у них нет ни одного музыкального инструмента, ни одного мотива, ни одной сложившейся песни. Вместо песни или сказки самоед выпевает на любой лад впечатления об окружающем мире, воспринимаемые в момент пения: "я еду на санках, олени бегут хорошо. Над головой пролетела куропатка, собаки побежали за ней. Левый олень xpoмает".
Распеваемое без всякого мотива, вполголоса - это и составляет единственную самоедскую песню.
И граммофон, как аппарат, тоже не производит на самоедов должного впечатления. Быть может, самоеды, как большинство народов севера, отличаются огромным самообладанием и способностью не удивляться самому удивительному.
Пока, занимаемые добросовестными усилиями Черепанова, самоеды слушали граммофон, хозяин чума, заснятого сегодня Блувштейном, занялся разборкой своего жилища (он снял уже ейя и приступил к складыванию у). Я думал, что он собирается емдать на новое пастбище, но, к моему удивлению, хабинэ и детишки, вместо укладки шестов на ханы, стали их снова составлять конусом в нескольких саженях, от того места, где только что был чум. Меня это заинтересовало, но хабинэ в ответ на мои расспросы просто кокетливо закрылась рукавом грязной малицы, а с хозяином мы не могли сговориться, так как он знал только три русских слова: теньга, сярка, вогка - деньги, чарка, водка. Я же со своей стороны не мог найти в составленном мною самоедско-русском словаре нужных слов, так как этот словарь не был еще разбит по алфавиту. Да, по-видимому, хозяин и не был особенно расположен давать мне какие бы то ни было объяснения. Я прибегнул к моему присяжному толмачу - усатому Леткову.
- Послушай-ка, Николай Алексеевич, спроси хозяина, с чего он чум с места на место таскает.
- Цего спросить, не нада спросить. Я сама знаю. Твоя товарища его чум на картинку вертел?
- Ну, вертел, так что ж с того?
- Как сто зе? Как такой чум зить? Тебе говна месал, а нам злой дух месал. Твоя парни всяка недобра навертел.
Летков сделал сердитое лицо. Даже его щеткообразные усы встопорщились. Но я знал, что этот Летков не так глуп, как хочет казаться. У него весь остров в родне и свойстве, и он умненько заставляет всех самоедов плясать под свою дудку. Я знаю, что, не снискав тем или иным путем согласия Леткова, даже сам местный губернатор-агент не предпримет ничего в отношении туземцев.
- Брось-ка ты, Николай Алексеевич, какие там злые духи, ведь сам ты утром говорил, что вы только в одного Нума верите, который создал все и теперь сверху за порядком смотрит.
Летков сделал хитрое лицо и оглянулся кругом.
- Ты, парень, друг мне, я сказу. Мне духи нипоцем... тьфу... а только шаман хозяину сказывал, сие места погана стал, вон ходить нада. Васа машинка дурной напустил, чум убирать нада... Ты с товарыши уезать будя, хозяин и сам эта места уходить будя.
- Неужто и мы поганые?
- Зацем ты погана... не вся погана... вон длинный с бабой на чуму спит, а баба ему не зонка... наса колгуйская баба... так рази мозна цузой баба чуму спать. Такая места погана.
Речь шла о Блувштейне и фельдшерице. Самоедская мораль, по-видимому, не хотела признавать даже таких гарантий целомудренности этого случайного сожительства, как две малицы и совик.
Позже мы узнали, что хозяин, действительно, перекочевал на совершенно новое место. Фельдшерице это тоже доставило массу неприятностей: разнесшийся по острову с молниеносной быстротой слух о том, что она спала в палатке чужого мужчины, грозил совершенно лишить ее уважения пациентов. Слухи по тундре передаются с совершенно непостижимой быстротой, точно разносятся порывами колгуевского ветра. Слух о чумовище, запоганенном русаком, далеко опередил нас и, когда мы вернулись в Бугрино, там уже знали все подробности про "поганое место".
7. МЕДНАЯ ПУГОВИЦА И ПОЛИТИКА
При всей примитивности самоедов, чувство деликатности, связанное с обязанностью гостеприимства, у них настолько велико, что, несмотря на уже состоявшееся решение хозяина немедля после нашего отъезда покинуть поганое место, все общество, включая хабинэ, непринужденно веселилось, развлекаемое Черепановым, около самой злополучной палатки.
Постепенно мужчины разошлись по своим делам, остался чисто женский кружок. Стоило исчезнуть мужьям, как степенные матроны сразу утратили всю свою важность и превратились в самых обыкновенных кумушек, судачащих между собой и не чуждых кокетства по отношению к мужчинам, которых они больше никогда не увидят.
Понятие кокетства применимо здесь, конечно, условно. Это не больше, чем свободный разговор с посторонним русаком, право без стеснения пощупать ткань его одежды, право показать ему свои украшения и одежду, не больше. Но все это делается со смехом, ужимками, так как по существу это запретно, в присутствии своих мужей самоедки на это не пойдут, да и мы не стали бы рисковать возбуждать недовольство туземцев, очень ревниво оберегающих своих женщин от излишнего общения с пришельцами.
Из всего этого не следует делать вывода о том, что женщина здесь в какой бы то ни было мере утеснена, забита. Хабинэ - рабыня чума не больше, чем традиционная сказка. В действительности хабинэ полноправный член семьи даже в значительно большем объеме, нежели это бывает у многих белых народов. Впечатление какого-то рабства может создаться лишь у того, кто склонен оценивать положение женщины по "виду" производимых ею работ. К примеру, хотя бы то, что мужчина утром не снимает сам с сушильного шеста своих пимов, а делает это женщина, не стесняющаяся зубами размять скоробившуюся или замерзшую обувь мужа, происходит исключительно в силу того, что вообще всем платьем, обувью, постельными принадлежностями, вообще всей домашней утварью и одеждой заведует женщина. Мужчина не го что не хочет в это дело путаться, а просто не имеет права. Попробуйте повести с самоедом, главой семьи, разговор о пошивке для вас малицы, пимов, шапки.
- Не знай, - один ответ.
- А кто же знает, ведь ты же хозяин?
- Не, нет моя хозяин на пимы. Зонка хозяин.
То же самое и с куплей-продажей.
- Николай, больно хороша паница у твоей Варвары, сколько хочешь за нее?
- Не знай.
- А кто знает?
- Зонка знает.
- Да ведь деньги-то твои будут, а не женкины?
- Не, зонкин.
Это, конечно, в значительной мере формальное разделение, но есть и чисто правовые моменты, определяющие имущественную независимость женщины.
Я разговорился как-то с усатым Летковым о его делах.
- Говорят, Николай Алексеевич, что ты самый богатый хозяин на острову.
- Какой богатой, нет богатой... пастух я, своя олень мала имею.
- Хорошее мало, у тебя, небось, голов сот пять есть?
- Не, ягу.
- Как ягу, мне агент сказывал?
- Цево он понимай, агент, не мой олень сей, пастух я.
- Чьи же олени-то?
- Зонкин олень сей... четыре сот ейный, одна сот мой. На четыре сот ейна клейма резан.
Самый оборотистый и хитрый хозяин острова оказывается только пастухом своей хабинэ.
По каким-то причинам стадо, полученное хабинэ Летковой в приданое, росло, тогда как стадо ее мужа вымерло.
И клейма на приплоде ставятся женины. Это значит. что хабинэ Леткова будет по-своему распоряжаться оленями, выделяя приданое за дочерью или выкупая калымом, невесту для сына.
И правда, достаточно взглянуть на председательствующую на граммофонном собрании Варвару Большакову, чтобы рассеялось всякое представление о рабыне. В этой рабыне пять пудов с изрядным хвостиком. Любой нашей женщине понадобится фунт свеклы, чтобы создать себе такой цвет лица, каким блещет эта рабыня. Все ее слова и жесты исполнены сознания своего достоинства и независимости.
Что касается цвета лица хабинэ Большаковой, то он отнюдь не является исключением, у всех ее собеседниц окраска щек выходит за пределы того, что можно просто назвать "румянец", - это ярко сияющие пятна. Так и кажется, что из пор туго натянутой на широкие скулы блестящей кожи брызнет алая кровь.
Неужели это результат кровавой диэты самоедского стола?
Стремление наряжаться не чуждо хабинэ. Даже мода - временное увлечение той или иной принадлежностью туалета - имеет место в колгуевской тундре. Как-то какому-то самоедскому оленеводу-купцу удалось забросить с материка на остров партию подвязок, самых обыкновенных дамских подвязок. Говорят, ни одна уважающая себя хабинэ не считала возможным появиться в свете, не одев поверх меховых пимов яркой цветной подвязки.
Впрочем, слабостью к подвязкам страдали не только хабинэ, - их мужья тоже щеголяли с розовыми, зелеными и лиловыми лентами на ногах. Мода!
Украшения в платье, применяемые самоедками, незамысловаты по своей сути, но весьма сложны в выполнении. Они состоят из кусков мехов, резко отличных по цвету от основного меха одежды. Если нарядная паница шьется из белого оленя, то все поле разделяется на прямоугольники величиною в папиросную коробку, ограниченные узкой как шпагат полоской черного или темно-коричневого меха. Это адская работа: всю паницу нужно сшить из этих отдельных кусочков, каждую полоску нужно вшить; шитье производится нитками из тончайше разделанных оленьих жил.
Для украшения мужской одежды меха красного зверя у колгуевских самоедов совершенно не употребляются. Необходимость сбывать продукты пушного промысла в обмен на жизненные припасы не позволяет и женщинам слишком роскошествовать в отношении отделки своего платья дорогими мехами, но все же отделка паниц производится зачастую красной лисицей. Праздничные же наряды паницы отделываются иногда даже песцом, хотя чаще для опушки подола, обшлагов и воротников употребляется либо бракованный песец, либо только куски песцовых шкурок. Надо сказать, что художественностью эти отделки не отличаются, так как самоедки не умеют подбирать мех и, кроме того, из-за грязи даже песец теряет свой вид.
Гейденрейх со слов Журавского рассказывает о том, что в некоторых случаях отделка женских паниц по подолу производится мехом простой собаки. Такая отделка имеет будто бы ритуальную основу.
По преданию, собака во время оно не имела шерсти. В таком виде она и была дана Нумом - творцом света и духом добра - самоеду для охраны его от злого духа. Злой дух пришел к самоеду и хотел пробраться в чум, но на пороге чума лежала собака и не пускала злого духа к самоеду. Тогда злой дух напустил на тундру мороз. Собака стала зябнуть, но не уходила от дверей чума. Она дрожала всем телом, но не сдавалась на уговоры дьявола, звавшего ее внутрь чума в тепло. Тогда злой дух сзади подкрался к собаке и погладил ее по спине. Спина собаки обросла от этого прикосновения длинной и теплой шерстью. Собаке стало тепло. Из благодарности она стала ласкаться к злому духу и пропустила его к самоеду в чум. Вошедши в чум, злой дух плюнул самоеду в лицо. И самоед, не звавший до того зла и никогда не грешивший, сделался от этого склонным ко злу и греху. По изменившимся делам самоеда жена узнала о его соприкосновении со злым духом и проведала про измену собаки. В наказание самоедка задушила собаку и ее шкурой отделала подол своей паницы.
В бoльшем ходу, чем меховая отделка, окантовка из ярких цветных сукон - зеленого, красного, желтого. Иногда из такого сукна делаются узкие вставки. Цветных сукон к самоедам попадает мало, и они их очень ценят.
Не меньше, чем сукно, хабинэ любят медные украшения. Всю ту медь, какую их тропические сестры, какие-нибудь зулуски, распределяют в виде бесчисленных браслетов и колец по ногам, рукам, ноздрям и ушам, хабинэ вынуждены отделить от непосредственного соприкосновения с телом; климат этого не позволяет. Здесь вся медь сосредоточивается на поясе. И так как единственным видом медного украшения, попадающего на Колгуев, являются пуговицы, то для помещения их в надлежащем количестве приходится делать пояс значительной ширины.
Вот, например, у той же Варвары на поясе - шириною, примерно, двадцать-двадцать пять сантиметров - я насчитал 126 пуговиц. Какие только ведомства различных эпох ни нашли успокоения на широких чреслах этой самоедской матроны. Ярко начищенные сверкают двуглавые орлы вперемежку с красноармейской звездой, якоря рядом со старорежимным правоведским "законом".
В зависимости от достатка и способностей матери к рукоделию мода оказывает свое влияние и на костюмы детей. Их меховое платье и шапки несколько более пестро расшиваются, чем у взрослых. Пояса украшаются тонкими медными цепочками. Но, кроме того, в костюме детей находят место колокольчики, которых мне не довелось видеть на платье взрослых. Количество колокольцев на платье ребенка зависит от наличия их у родителей. Рядом с ребенком, у которого было пришито на рукавах по одному маленькому бубенчику, бегал какой-то карапуз - баловень, у которого малица расшита колокольцами по всем швам. Колокольцы приделаны даже к углам шапки и коленям штанов. При малейшем движении этого франта он издает звон, как лихая масленичная тройка.
Не знаю, верно это или нет, но обычай пришивания колокольцев к платью детей один самоед объяснил мне тем, что в случае, если мать не доглядит и ребенок уйдет далеко от чума, мать все-таки никогда его не потеряет, если не из вида, то из "слуха".
Недостаток в медных украшениях - предмет неподдельных сетований хабинэ. При всем желании не показаться настроенной оппозиционно к представляемому нами режиму, резвая молодуха, довольно бойко говорящая по-русски, все-таки не выдерживает:
- Дурная ты больсевик, и Госторг дурная, как мозна без золота (меди) зить. Вона гляди, - показывает она на Варвару, - вона царский купец какие прязка возил... а сей год где прязка такая? Не стала прязка, бубенца не стала и пуговица не стала.
На животе у Варвары унизанный пуговицами пояс застегнут резной медной пряжкой. Это целое круглое блюдо двадцати сантиметров в диаметре. По глазам молодухи видно, что такая пряжка действительно способна служить предметом невинной зависти. А Госторг таких пряжек не имеет. Даже медных пуговиц, которые рядами были нашиты на кителе любого урядника, Госторг не привозит. Отсюда: Госторг хуже купца. Госторг от большевика, купец был от царя, а значит, и большевик хуже царя.
Вот вам политическое значение медной пуговицы, не говоря уже о набрюшном блюде хабинэ Варвары.
8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУГРИНО
Тундрой, которая то намокает, то снова делается "сухой" на каждой оленьей версте, мы пробираемся к Бугрину. Едем кружным путем, так как Жданов хочет показать нам гордость Госторга - песцовое хозяйство. Вернее, бывшую гордость... Теперь хозяйство это уже ликвидировано.
Снова под ханом, как шпалы, мелькают кочки. Тундра кажется еще более неприветливой, чем прежде. Сквозь частую сетку мелкого как туман дождя далекие волны низких холмов кажутся еще более придавленными, точно расплывшийся от сырости студень. Мох еще более безотрадно-однообразным ковром устилает равнину. И только жалкая пюнг - трехвершковая карликовая ива - нарядно зеленеет своими отполированными дождем жесткими листочками, такими жесткими, точно они из жести сделаны.
На первом часе пути от оставленного нами чумовища, из-за серого угора, поросшего зеленой пюнг, навстречу нашей упряжке лихо вылетела пятерка серых рослых быков. Они легко мчали легкие санки с изящной резной спинкой. Торчащий над головами оленей длинный, тонкий хорей оказался в руках немолодой румяной хабинэ. Летков резко остановил свой хан и вступил в разговор. Через две минуты мы быстро двинулись дальше, и хабинэ повернула своих оленей за нами. Оказывается, она приехала с дальнего берега Колгуева, прослышав, что чужие русаки приехали в гости к пастуху Романычу и приглашают самоедов на угощение. Она опоздала из-за дальнего пути, но, по-видимому, это ее ни мало не смутило, так как она заявила, что готова ехать к нам в гости в Бугрино. Перспектива попить чайку в гостях оказалась достаточно привлекательной даже при необходимости ехать за этим чаем за тридевять земель. При этом путешествие хабинэ осложнялось тем, что на ее тесном хане, кроме нее, находилось еще двое детей. Мальчик лет шести сидел за спиной хабинэ, закутанный в груду мехов. Рядом с ним стояла люлька с грудным ребенком, которого предохраняла от падения толстая медная цепочка на манер тех, что служат у нас для подвески больших люстр. Дети, по-видимому, обращали на неудобства езды не больше внимания, чем их мать. Старший сидя спал; курносая розовая пуговица носа и черные изюмины глаз все, что виднелось от младшего над краем люльки - весело ворочались из стороны в сторону, нисколько не смущаясь ни качкой нарты ни туманом, переходящим временами в настоящий дождь.
На остановках хабинэ так же лихо, как любой из наших ямщиков, осаживает свою запряжку длинным тюром, а трогаясь с места, несмотря на свою солидную комплекцию, трусит рядом с ханом до тех пор, пока быки не разбегутся и не возьмут настоящий ход.
Когда мы встречаемся с оврагами, хабинэ соскакивает с хана и бежит рядом, чтобы облегчить оленям подъем на крутой берег.
При всем том она не перестает быть дамой, и когда у нее заиграл вожак и перепутал все постромки, мой Летков немедленно остановился и побежал к ее хану, чтобы помочь ей справиться с быками. Хан хабинэ при этом опрокинулся, но никто не обратил на это ни малейшего внимания - старший ребенок продолжал спать, свешиваясь из-под веревки всею грудой мехов, а младший так же весело ворочал глазами, вися вниз головой на животе, перетянутом толстой медной цепью.
Час за часом, верста за верстой, тряские кочки, прыгающие крупы оленей, монотонно из стороны в сторону покачивающиеся кусты рогов.
От нудно моросящего дождя, от ржавых брызгов, обильными фонтанами летящих из-под копыт оленей, малица намокла. Сырой мех узкого воротника прилипчиво щекочет шею. Обшлага рукавов сделались холодными. Я втянул руки внутрь малицы и грею их на животе. Все так противно мокро и скользко кругом, что нет никакого желания вытаскивать из чехла автомат, даже ради вырывающихся из-под самого хана куропаток. Только собаки, на которых шерсть обвисла длинными мокрыми клочьями, неутомимо носятся за курочками, искусно отводящими их от гнезда.
Начинаю клевать носом. Николай Летков то-и-дело с беспокойством оглядывается на меня со своего хана, видимо боясь, что, заснув, я вылечу на какой-нибудь кочке. Мы едем быстро. Как-будто и версты стали длиннее. Даже самоеды не с таким азартом хватаются за каждую остановку; уж больно противно слезать с хана. В движении как-то меньше замечаешь слякоть.
Но вот мы выбрались на широкое плато, поросшее пюнгом, с большими плешинами какого-то серого, точно выгоревшего мха. Здесь была расположена часть песцового хозяйства. Там и сям разбросаны игрушечные, в метр вышиной, избушки. В эти избушки песец должен был приходить плодиться. Игрушечные домики тянутся далеко в тундру. Слева стеной вышиною в человеческий рост сложены деревянные ящики-клетки, в которых 218 песцов были привезены на остров с материка для завода.
До приезда этих двухсот восемнадцати песцов самоеды на острове свободно охотились на местного песца. Этот промысел в достаточной степени развит и пользуется большой популярностью среди туземцев, так как является единственной возможностью восполнения экономических прорех, порождаемых недостаточным развитием оленеводства и неправильной постановкой использования его продуктов.
С появлением же "казенных" песцов всякий песцовый промысел на острове был воспрещен, и Госторг стал выплачивать туземцам денежную компенсацию в возмещение убытка, причиняемого их хозяйству этим вынужденным бездельем. Но самоедам это очень не нравилось.
Для пропитания прибывших на остров песцов было завезено и переброшено на оленях вглубь тундры 1 200 бочек рыбы и 300 бочек шквары. Были построены большие избы-кормушки - ценою, кажется в 500-600 рублей каждая.
После нескольких часов езды по берегу тихого, опоясанного камышами озерка мы увидели такую кормушку. Она меньше всего похожа на дом для песцов - это высокий просторный амбар, сложенный срубом из толстых бревен. Во всяком случае, этот амбар куда просторнее и лучше построен, чем жилища бугринских колонистов. На сто шагов от амбара слышен тошнотворный, удушающий запах гниющего мяса - оленины, заготовленной в свое время для песцов. В этой избушке песцы должны были получать питание в виде местной оленины и привезенной с материка рыбы и шквары - вполне достойное их высокого положения пушистой валюты.
Но как-то так случилось, что в один далеко не прекрасный день песцы оказались на воле в тот самый момент, когда к песцовому хозяйству съехались самоеды. Самоедские псы, не приученные к братскому сожительству с такой лакомой дичью, а, напротив, в большинстве своем натасканные в песцовой охоте, принялись с завидным рвением ловить госторговских песцов, и я не очень верю тому, что самоеды старались удержать псов от расправы с привозными песцами - причиной лишения их доходного зимнего промысла.
Короче сказать, часть песцов была изорвана собаками, остальные разбежались по тундре, забыв про заботы Госторга, уютные домики и грандиозные кормушки, построенные по последнему слову звероводческой техники. Самоеды же снова принялись за охоту и во славу Госторга промышляют умножившегося в числе песца.
9. КАЧЕСТВА СОВЕТСКОЙ БОГОРОДИЦЫ
Снова фельдшерица Анна Александровна заполняет собой гулкую пустоту больничных хором. Снова кровавые следы моих ночных битв с больничными клопами покрывают густыми мазками мою и без того не слишком опрятную простыню. От подложенных под простыню оленьих постелей она пропиталась каким-то совершенно особенным желтым жиром. Жир этот издает своеобразный терпкий запах. Ночью к запаху жира присоединяется острый дух десятков клопиных трупов...
Пользуясь нашим вынужденным гостеприимством, к нам продолжают приезжать самоеды.
Вчера они приехали целой гурьбой. После двух часов сидения, когда за волнами сизого тумана "Пушки" их лица стали казаться неверными призраками и в ушах начало стучать как при подъеме на большую высоту, от имени всех гостей выступил один из самоедов:
- На картоцку сниматься мозна?
- Отчего не можно, можно.
Мы решили, что они хотят получить на память группу. Черепанов старательно наладил на крыльце фотографический аппарат, долго рассаживал самоедов в группу и сделал два снимка. Через час гостям была продемонстрирована готовая фотография. Эффект получился совершенно неожиданный. Фотография быстро обошла весь круг гостей, причем некоторые самоеды едва удостоили ее своим вниманием.
Через несколько минут она вернулась к оторопевшему Черепанову.
- Что, разве карточка не хороша?
- Зацем не хороса? Хороса... хороса. Хороса картоцка. Ты, парень, карточку с собой забирай, покази больсому нацальнику, какой самоетька народ.
- А вам не надо карточку? Я и для вас сделать могу.
- Наса картоцка не нада... наса...
Не дослушав, я ушел к себе в комнату. Через десять минут к нам пришел бедняга Черепанов.
- Слушайте, граждане, до чего ж это дойдет, если дальше так пойдет. Ведь они вместо карточки...
Блувштейн не дал ему договорить.
- Едрихен штрихен, Толя, я сказал, пошлите их ко всем чертям - кумки не будет, - он повернулся к стене на куче оленьих постелей, оставив Черепанова в положении железа между молотом и наковальней.
Сквозь дрему я слышу: "Ramona, du bist..."
Глубокая ночь; почти утро. Мы не спим, потому что спать не на чем. Скоро сутки, как все веши сложены в ожидании отъезда на судно. Фансбот с судна давно пришел, но лежит обсохший на песке. Вода отошла от него по крайней мере на 10 метров.
Самоеды ушли. За столом один только седой, согбенный Прокопий. Я делаю запись в дневник, Прокопий молча колупает ногтем этикетку круглой жестянки из-под кофе. За работой я совершенно забыл о Прокопии. Только когда глаза устали от неверного серого, рассветного освещения, я оторвался от тетради и увидел сидящего против меня старика. Часы показывают четыре часа утра почти два часа, как я сел за дневник.
- Прокопий, ты все еще здесь?
- Тесь.
- Чего ж ты не едешь? Небось, твоих никого уже давно нет?
- Нет.
- Так чего-ж ты сидишь-то?
- Мне эта нада, - протянул он мне пустую жестянку, - твоя подари.
- Бери, сделай милость.
Прокопий нерешительно повертел жестянку в руках.
- А закрыська нет?
На банке не было крышки. Кажется, ее пустили вместо блюдечка для воды привезенному нами с материка котенку, первому котенку на Колгуеве.
- Не знаю, Прокопий, у меня крышки нет.
- Мозна поискать?
- Ищи, если хочешь.
Глотнув холодного чая, я снова уселся за дневник. Поднимая глаза от тетради, я каждый раз видел фигуру ползающего на корточках старого самоедина. Он облазил все углы в наших комнатах, перетряхнул горы нашего багажа, разгреб кучи мусора, в изобилии накопленного во всех углах. Два часа Прокопий мозолил мне глаза из-за дрянной жестянки, а теперь еще не даст покоя с крышкой. Это начинало меня раздражать.
- Слушай, Прокопий, брось, пожалуйста, шарить, ты мне мешаешь.
- Какой месай... закрыська нада.
- Да на что тебе крышка-то?
- Я сюда банка камень класть стану, ребятка играть даю.
Чтобы привезти ребятам в чум погремушку, старик, не жалея колен, лазит по всем углам! Я снял крышку с другой банки, наполненной кофе, и отдал крышку Прокопию.
- Пасиба, парень, ребятка много смеяться будут. У мой анцы ебцана мьяла ацки есь, играца нада.
Заскорузлые пальцы Прокопия с исковерканными ревматизмом суставами с трудом справляются с крышкой. Ногти на пальцах темно-синие, почти черные, выпучены как большие круглые пуговицы.
По неприветливому, всегда насупленному скуластому лицу пробегает усмешка и застревает где-то в глубоких морщинах, бесчисленными рубцами избороздивших щеки и лоб. Мне хочется воспользоваться хорошим настроением старика и выяснить у него то, чего мне не хотели сказать в тундре.
- Слышь, Прокопий, скажи-ка мне правду, есть у вас боги?
- Есь, парень.
- Какие?
- Мыкола есь, Егорь есь, Спаса есь, Богородыся Мария есь.
- Нет, а ваши, самоедские? Вашей работы изображающие духов: Нума, Аа там?
- Есь, парень, и наса тозе есь. Многа есь. Не знай, парень, как тебе обсказывать, наса духа свята... Я буду обсказывать, парень, а ты, мотри, никому не обсказывай, сто старая Прокопий тебе на духа свята говорил.
От старого Прокопия я узнал, что и у колгуевских самоедов так же, как у материковых, главный дух, создатель всего видимого и высшее существо, вдыхающее Жизнь, покровитель всего доброго - Нум. Нум управляет миром, Нум в награду за хорошую жизнь посылает ягель стадам самоеда, Нум ограждает его оленей от копытки и головной болезни, Нум посылает песцов в капканы тех самоедов, которые ведут хорошую жизнь и приносит мелким духам, подчиненным Нуму, обильные жертвы. И тот же самый Нум посылает на стада болезни и осыпает оленей оводами, Нум покрывает гололёдом тундру, чтобы лишить оленей ягеля и наказать плохого самоеда; Нум отводит дуло ружья плохого самоеда от головы нерпы и Нум делает руку самоеда трясущейся и неверной, когда тот стреляет по куропатке или утке. Нум распоряжается самым страшным, что только может случиться - громом и молнией. Но, распределяя награды и наказания, Нум никогда не смотрит на землю. Его светлое лицо слишком ясно и божественно, чтобы Нум мог запятнать его, повернув в сторону порочной и грязной земли с населяющими ее самоедами. Но Нум светел и справедлив, он покровительствует самоедам во всех их добрых делах и наказывает только за злые. А чтобы знать, не глядя на землю, что делают самоеды, Нум слушает их жизнь. Поэтому у Нума есть большое ухо, такое большое, что слышат каждый шорох во всей тундре.
В противоположность расположенному к самоедам светлому Нуму, где-то где именно, Прокопий мне сказать не мог - живет злой, строящий людям козни Аа. Аа только и думает о том, как бы подстроить самоеду какую-нибудь гадость. Он заманивает его на лодке в открытое море и только тогда заставляет улечься волны, когда самоед дает ему обет принести обильную жертву. Аа толкает самоедов на всякие нехорошие дела: он приводит самоеда к чужому капкану с попавшимся в этот капкан прекрасным песцом и подзадоривает самоеда взять песца из чужого капкана. Аа знает при этом, что за такое злое дело не только хозяин песца будет в вечной вражде с вором и его будет презирать весь род, но сам Нум - великий, светлый, справедливый Нум - будет преследовать несчастного своим гневом и накажет, напустив болезнь и мор на его стадо, сгноив его муку и лишив молока жену, когда она будет кормить новорожденного ребенку. Аа только этого и нужно. Аа показал на остров дорогу русакам с водкой, губящей самоедов и ведущей их к нищете. Нум хочет, чтобы самоеды не пили водки, Аа подговаривает самоедов пить водку. Раньше Нум имел себе на земле верных помощниц в самоедских женках, не дававших мужьям пить водку и заставлявших их выменивать меха оленей и пушных зверей на свинец для пуль и муку для хлеба. А теперь и женки отвернулись от Нума, - их обольстил своими хитрыми речами Аа. Женки сами стали пить водку вместе с самоедами. От этого пришло на самоедскую тундру много горя.
Сильно печалится светлый Нум, и сильно радуется темный Аа.
Но Нум и Аа оба так велики и страшны, живут так далеко от самоедов, что самоеды не могут с ними говорить и не могут слышать их. Даже самый сильный шаман никогда не смеет обратиться к Нуму или Аа и принести ему даже самую роскошную жертву. Шаманы могут говорить только с малыми духами, живущими невидимо в пространстве вокруг земли, - где именно, Прокопий опять-таки не знает, это знает только шаман, а спрашивать шамана об этом нельзя. Шаман может призывать духов и просить у них за самоедов, но для этого нужно приносить жертвы духам и сделать так, чтобы шаман тоже был доволен самоедом, за которого просит.
Эти духи злые, они редко отступают от человека и почти всегда стараются принести ему вред. Как ни странно, но, будучи злыми гениями человека, эти духи оказываются посланцами Нума. Так как духи эти злы и хитры, в сношениях с ними нужно большое искусство и особые знания. Этими знаниями никто из самоедов не обладает, кроме шаманов. А шаманы своих знаний никому не передают, кроме своих старших сыновей. Таким образом прерогатива одурачивания самоедов оказывается наследственной.
Но, кроме этих духов среднего ранга, имеются еще и совсем незначительные духи, домашние, живущие постоянно с самоедом в чуме. Это щепочки с простыми зарубками на том месте, где должна быть божественная голова духа. Щепочки эти хранятся в божнице, вместе с казенными духами русаков, но только так, чтобы никто из русаков не знал, где эти щепочки, потому что батюшка всегда говорил, что начальник будет любить тех самоедов, у которых в божницах будет стоять Микола, и будет строго наказывать тех, у кого найдет самоедских деревянных духов. Только теперь начальник стал говорить, что ему все равно, каких духов держит самоед. Но все-таки спокойнее держать советских: Миколу, Марью, Спаса. Своих самоеды на всякий случай все же прячут, и шаман строго велит ничего русакам про них не сказывать.
Свои духи, живущие в чуме с самоедом, самые удобные духи, так как сношение с ними не требует вмешательства даже шамана, и хозяин сам может просить их о милости. И, кроме того, духи эти самые выгодные: не только шаману за сношения с ними ничего не надо платить, но они даже не требуют себе никаких жертв. Единственно, что необходимо делать, чтобы снискать расположение духа, это мазать ему губы маслом. А если дух не исполнит просьбы самоеда и обидит его приплодом, или не убережет от гололедицы, или не поможет сделать выгодную менку с агентом, тогда этого духа самоед может наказать. Духа можно побить. А если дух уж очень недобрый, если он причиняет самоеду большое горе, тогда можно поручить женке побить духа. Это для духа так обидно, что он постарается исполнить просьбу самоеда, не доводя до прикосновения женщины к своему божественному телу. Ведь женщина нечистая тварь, она не может прикасаться к духу, если он хороший дух и не причинил вреда хозяину. Самое же хорошее качество этих домашних духов то, что им можно обещать какие угодно жертвы, не принося их, эти бессильные духи довольствуются только обетами, не настаивая на самих жертвоприношениях.
Длинная речь Прокопия на коверканном самоедско-русском арго показалась ему, вероятно, неуместным откровением, и он внезапно замолчал, уставившись своими выцветшими глазами на огонь лампы. Подумав, он категорически заявил.
- Только наси негодные с советькими равняцца. Васа советька богородыся куды как ладно сработана, а наси плохи. Мы сам и делал... ну какой мы мастер икона делать. Наса икона худой есь. Васа икона куда как хороса. Наса обчества, парень агента и Сидельника просить будя самоетька икона нам у центру уделать, чтобы такой зе хоросой был, как васа советька богородыся.
Я не смог дослушать Прокопия. На крыльце послышался стук тяжелых морских сапог, и дверь с треском и грохотом распахнулась, ударив со всего маха об стенку.
- А ну, мать вашу бог любил, кто на судно, собирайтесь! В два счета, а не то вода снова, мать ее боком в горло, столбом через сердце мать, к чертям спадет. Живо!
Пришел фансбот, чтобы снять нас с острова Колгуева.
Я в последний раз вышел на заднее крыльцо, глядящее в коричневые просторы колгуевской тундры. С крыльца, направляясь вглубь тундры, удаляется хан.
Там далеко, за прикрытыми серой мутью постоянных туманов синими холмами, укрылись темные конусы чумов.
Передо мной, пропитанные дымным смрадом и запахом дымящейся крови, проходят образы этого осколка тундры, заброшенного в холодные волны Ледовитого моря: спящие с собаками дети, истекающие кровью олени, старые гурманы, едящие яички бьющихся перед ними в путах животных, и юные лакомки, скоблящие ножами истекающие кровью бархатные рога, медное блюдо на животе хабинэ Варвары, и надо всем этим одно несносное слово "кумка".
Хан Прокопия исчез в овраге. За пазухой у старика побрякивает кофейная банка, а в голове копошится мысль о том, что если большевику поручить делать богов, он сделает их так же красиво, как делает деву Марию. А с богами не так уж плохо жить. Боги сделают так, что Сидельник и агент поссорятся еще больше. Тогда можно будет еще поднять поденную плату и, набравши побольше товару в долг, попросить, чтобы долг списали. И, может быть, придет на остров еще один начальник, самый большой из самого что ни на есть большого исполкома, больше агента и больше Сидельника, а может быть, сам большевик и тогда... Прокопий не знает, что будет тогда. Надо спросить у шамана.
Никто на Колгуеве не знает, что будет тогда, когда придет большевик. Большевик еще не был на острове. Ни Прокопий, ни шаман, ни агент, ни даже сам большой начальник из самого большого исполкома Сидельник не может сказать ни того, что будет с островом, ни того, что будет с ними самими, когда придет большевик.
(Продолжение следует. Следующая часть - "По губам Новой земли")
Примечание:
Текст взят из книги Н. Шпанов - "Край земли" (М-Л: Молодая гвардия, 1930, 336 стр., тир. 4110 экз.) стр. 55-168.
1 Записав сказку, спетую Винуканом, я обратил внимание на то, что содержание ее мне почему-то знакомо. Позже, вернувшись из экспедиции, я проверил себя. Действительно, сказка Винукана была почти точным пересказом той записи, что давал мне читать Л. Н. Гейденрейх в Архангельске. Л. Н. сделал ее много раньше в Канинской тундре на материке. По записи Гейденрейха я и исправил свой текст, так как в переводе Леткова многое из спетого Винуканом было для меня непонятно. Авт.




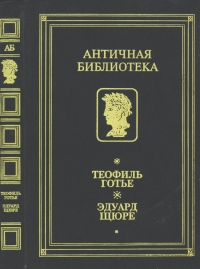

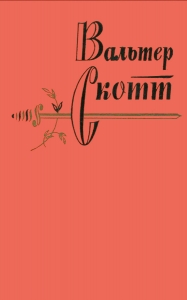
Комментарии к книге «Холгол (Край земли - 2)», Николай Шпанов
Всего 0 комментариев