Виктор Мануйлов Жернова. 1918–1953 Роман-эпопея Книга пятая. Старая гвардия
Часть 16
Глава 1
Григория Евсеевича Зиновьева арестовали 16 декабря 1934 года, арестовали средь бела дня, когда он, плотно отобедав, собирался вздремнуть на диване в своем кабинете, но перед этим просматривал газеты, позевывая и ворча. Окружающим он говорил, что сталинские газеты листает исключительно перед сном: действуют лучше любого снотворного. «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Красная звезда» — обычный повседневный набор Григория Евсеевича. Читая, он отмечал, что газеты все более походят одна на другую, в них исчезает та индивидуальность, которую еще недавно накладывали на них главные редакторы, поскольку выражали точки зрения своих политических группировок. Сегодня в «Правде» сидит желчный Мехлис, в «Известиях» — неунывающий Бухарин, поэтому «Правда» говорит сухим казенным языком постановлений ЦК, короткими евангелическими фразами бывшего семинариста Сталина, а «Известия» — языком цветистым и революционно-романтическим, но обе — об одном и том же и одно и то же.
Газеты сообщали о ходе расследования убийства Кирова, захлебывались комментариями, предположениями, намеками, расписывали, как по стране, волна за волной, вскипают собрания, митинги, на которых народ требует принятия самых жестоких мер против заговорщиков и оппозиционеров. Тут же следуют обязательства выполнить, перевыполнить, догнать и перегнать. Григорий Евсеевич отметил, что кампания ведется весьма целенаправленно, как и положено вести ее, имея в виду так называемые народные массы, однако никакие предчувствия при этом его не встревожили: себя он целью этой кампании не считал, полагая, что полностью испил из сталинской чаши, предназначенной человеку, сброшенному с вершины власти: и тюрьмы советские испробовал, и ссылки.
Вообще говоря, страна жила своей жизнью, Григорий Евсеевич — своей, к отторгнувшей его стране никакого отношения не имеющей. Убили Кирова? И, как говорится, слава богу. Что-то где-то взорвалось — или взорвали? — дай бог почаще. Вот Каменев — тот еще из-за чего-то переживает, а Григорий Евсеевич на все смотрит из-за облачных высей, откуда внизу заметно лишь некоторое шевеление, но ничего конкретного. Правда, он и раньше смотрел из этих же самых высей, но раньше взгляд его был связан с его высоким положением во власти, а нынче… нынче — от нежелания спускаться на землю. Отвергнутый бог — все еще бог.
В дверь позвонили. Слышно было, как мимо кабинета прошаркала пожилая домработница, что-то ворча на ходу сварливым голосом. Григорий Евсеевич подумал, что надо бы заменить эту бабу на более молодую и жизнерадостную, но жена привыкла, менять не хочет: боится, скорее всего, за себя и своего мужа. Можно, конечно, настоять, но… лень.
Послышались приглушенные голоса, затем неожиданно раздался стук в дверь кабинета — и безжизненный голос жены возвестил:
— Гриша, к тебе… товарищ… Аграноф-ф.
В голове сразу же стало пусто от страха, сердце забилось… забилось и остановилось в горле. Длилось это несколько долгих мгновений, но потом проскользнуло — и даже не в мозгу, а как бы перед глазами в затуманенном воздухе: заместитель наркома внутренних дел никак не может выступать в роли ваньки-оперативника, которому только и поручают такие щекотливые дела. Но страх эта мыслишка не прогнала, оттого и голос у Григория Евсеевича был глух и хрипл, когда он выдавливал слова заплетающимся языком:
— Д-да-да, к-конечно, п-пусть зах-ходит.
При этом попытался встать на ноги — ноги не послушались, и он так и замер в неловкой позе, упершись обеими руками в кожу дивана, склонившись и вытянув короткую шею к двери.
Дверь отворилась. Однако не сразу в ней возникла знакомая еще по Петрограду, почти ничуть не изменившаяся с того времени фигура Агранова. Все та же детская улыбочка на женственном лице, все те же слегка прищуренные глаза.
— Григорий Евсеевич, прошу прощения за столь неожиданный визит, — жизнерадостно начал Агранов от порога, надвигаясь на хозяина своим затянутым в мундир телом.
Григорий Евсеевич протянул руку навстречу, изобразил улыбку на большом квадратном лице, отчего лицо съежилось, нижняя челюсть будто бы отделилась от него и повисла на испорченных шарнирах.
— Извини, Яша, что не встаю, — прошамкал он плачущим голосом. — Ревматизм проклятый житья не дает.
— Ничего, ничего! — успокоил Агранов, пожав влажную от пота руку некогда ближайшего сподвижника Ленина, тут же демонстративно обтерев ее надушенным платком и сразу же переходя на ты, не столько по причине давнего знакомства, сколько из презрения. — Я к тебе на минутку.
— Да-да, конечно, — прошамкал Зиновьев, пытаясь водворить челюсть на положенное место, но попытка лишь свела судорожной гримасой его одутловатое лицо.
Агранову же показалось, что тот что-то держит во рту, что-то большое, едва туда поместившееся, и почему-то стыдное.
Несмотря на панику, Григорий Евсеевич заметил неожиданный переход Агранова на «ты»: раньше на «ты» они не были, вернее, на «ты» был Зиновьев, но не Агранов: разница в возрасте в десять лет не позволяла, а разница в положении — тем более. На «ты» могло значить либо то, что дело худо, либо совсем наоборот. И он решил, что, скорее всего, имеет место второе («Я к тебе на минутку») — и тут же справился со своей челюстью. Затем вяло повел короткопалой рукой, предлагая гостю кресло, и, будто его прорвало, торопливо заговорил, отодвигая опасность, не слишком-то задумываясь над смыслом произносимых слов, обволакивая ими себя и незваного визитера:
— Ты не можешь представить себе, Яша, как мы все здесь переживаем смерть товарища Кирова! — воскликнул Григорий Евсеевич проникновенным голосом. — Даже наши политические разногласия отошли на второй план. Все мы понимаем, что убийство это направлено против партии, ее вождей, ее политики, лично против товарища Сталина, которого все мы высоко чтим, особенно его заслуги в области индустриализации и коллективизации… Такая решимость идти до конца, такая уверенность в поддержке партии и рабочего класса!.. Я всегда считал, что только Сталин способен поднять страну из бездны анархии и… и… — Григорий Евсеевич произвел волнообразное движение рукой и уронил ее, что означало эту самую бездну. — Конечно, я иногда ошибался! — продолжил он с горечью и раскаянием. — А кто из нас не ошибался?… Даже Ленин не избежал, так сказать… Но сила партии в том и состоит, чтобы преодолевать так называемые ошибки своих отдельных членов… концентрировать свою энергию… э-э… в единую волю своих вождей… товарища Сталина, который, как говорится… И вдруг такой удар… такой удар… Кто бы мог подумать, Яша, кто бы мог…
— Вот именно, Гриша! Вот именно! — подхватил Агранов, просияв девичьими глазами, и закинул ногу на ногу движением уверенного в себе человека.
В голосе его Григорию Евсеевичу почудилась насмешка. Он замер с открытым ртом и уставился на Агранова, растерянный, жалкий, даже не пытающийся скрыть своего безмерного ужаса.
Именно таким его помнит Агранов, когда в августе восемнадцатого был убит Урицкий, а буквально через несколько часов поступила телеграмма из Москвы о покушении на Ленина. «Это конец… это конец…» — шептал тогда председатель Петрокоммуны помертвелыми губами, вглядываясь в лица людей, собравшихся в его кабинете, точно отыскивая среди них убийцу, на сей раз уже своего собственного.
Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества. А возможности для распространения у него были, люди для этого имелись, момент вполне отвечал духу и потребностям времени, но трусость победила, и момент был упущен.
Агранов не мог смотреть на Зиновьева неласково еще и потому, что тот теперь был в его руках, он мог отомстить ему за его трусость, нерешительность и глупость, благодаря чему к власти пришел Сталин, поставив всех, а более всего евреев, в двусмысленное положение. Теперь можно поиграть со своей жертвой, проявить актерство и все что угодно для того, чтобы в полной мере насладиться тем ужасом, который объемлет ничтожную душонку бывшего властителя Петрограда и его окрестностей.
— Ты напрасно так пугаешься, Григорий, — произнес Агранов тихим, вкрадчивым голосом и дотронулся кончиками тонких пальцев до массивного колена Зиновьева. — Ничего страшного не произошло. И ничего страшного не предвидится. В Ленинграде раскрыта группа заговорщиков, большинство из них уже призналось в своих контрреволюционных замыслах, следственные органы выясняют подробности. Что касается моего визита к тебе, то, сам понимаешь: отрабатывается несколько версий, в том числе и месть со стороны тех, кого в двадцать шестом товарищ Киров по поручению партии вынудил уйти в отставку с ленинградского политического… э-э… поприща. Как видишь, Григорий, я с тобой абсолютно откровенен. Встань на наше место, и ты поймешь, что другого решения мы принять не могли. Между нами говоря, товарищ Ягода ни на минуту не допускает даже мысли, что эта версия имеет под собой реальные основания. Тем более что все мы слишком хорошо знаем товарища Зиновьева, знаем его вклад в русскую революцию, его близость к товарищу Ленину. Никто и никогда не сможет отнять у товарища Зиновьева его славного прошлого. Поэтому я здесь. И поэтому… — Агранов на мгновение замялся, будто затрудняясь, в какой форме подать официальную часть своего визита, замялся тем отработанным приемом, который должен внушить наибольшее доверие, и перешел на «вы»: — Поэтому с вами, Григорий Евсеевич, хочет побеседовать наркомвнудел товарищ Ягода. На полуофициальной основе. Чистый формализм. Если, разумеется, вам позволяет здоровье… — закончил Агранов еще более тихим и вкрадчивым голосом.
— Да-да, конечно, конечно! — уцепился Зиновьев за спасительную соломинку, не зря, разумеется, протянутую ему Аграновым. — Радикулит проклятый… — канючил он. — Но через несколько дней… или, скажем, через недельку-другую… Я так полагаю, ничего экстраординарного… И как только… Я же понимаю… Мы же свои люди… И к Генриху Григорьевичу я всегда относился… и… и отношусь с большим уважением…
— Вот видите, — перебил бессвязную речь Зиновьева Агранов. — А что касается вашего радикулита, так это мы мигом. Я сейчас позвоню в Кремлевку и приглашу сюда профессора Пфеффера. Пара укольчиков, массаж — и вы будете на ногах.
— Нет-нет! — Григорий Евсеевич с мольбой простер руки к Агранову и медленно выпрямился. Он боялся кремлевских врачей: ходили упорные слухи, что Ягода использует их, чтобы под видом лечения убирать неугодных Сталину — и самому Ягоде — людей, что, например, Фрунзе и Менжинский на совести кремлевских эскулапов. — Зачем же отрывать профессора? Совсем уже не обязательно. Уж я как-нибудь… — лепетал Григорий Евсеевич, — Жена вот… скипидарчиком… — Но, заметив на лице Агранова легкую тень неудовольствия, поспешил эту тень устранить: — Впрочем, можно обойтись и без скипидарчика… А что, Генрих Григорьевич сейчас у себя? На Лубянке?
— У себя, Григорий Евсеевич, у себя. Ждут вас с нетерпением.
— Ну да, конечно, конечно! Тогда что ж, тогда поедемте, если так срочно. Я понимаю: нарком, все расписано по минутам, такая ответственность, столько дел, да и товарищ Сталин — ему ведь надо разобраться… такая ответственность… такая страна…
И Григорий Евсеевич стал медленно подниматься с дивана, кривя лицо и обеими руками держась за поясницу: он и в самом деле почувствовал чуть выше кобчика какое-то неудобство, которое могло перейти в настоящую боль, ждал этой боли, надеялся на нее. Но боль так и не возникла.
Хотя Агранов и успокоил его насчет своего визита и поездки на Лубянку, однако Зиновьев слишком хорошо его знал еще по Петрограду, да и потом — уже по Москве, где, впрочем, общались они не так уж и часто: Агранов всегда отличался тем, что умел за своими медоточивыми речами и детскими улыбочками скрывать самые коварные замыслы. Ни один из подследственных попался на его столь привлекательно упакованный крючок, а, попавшись, уже не мог с него сорваться и уйти от заслуженного наказания. Тогда, в те далекие времена, когда Петроград был в полной власти товарища Зиновьева, эти способности Агранова восхищали Григория Евсеевича, в них было что-то библейское: такое призрение к своим врагам, когда любой договор, любые обещания и клятвы даются лишь для того, чтобы усыпить бдительность и обмануть.
Сейчас Зиновьев старался не думать об этих способностях Агранова. В конце концов, он ему не враг, у Агранова не может быть к нему личной ненависти, а обязанность каждого еврея состоит в том, чтобы помогать и защищать своего соплеменника независимо от обстоятельств.
В последнее время Григорий Евсеевич все чаще и чаще вспоминал о своем еврействе, видя в нем то спасение свое, то, наоборот, неминуемую гибель. Все, казалось, зависело от того, какую линию возьмет в этом вопросе Сталин. Но Сталина понять трудно. Однако он должен помнить, что своим возвышением обязан евреям же. А Зиновьеву — в первую очередь. Но более всего о своем еврействе должны помнить Агранов и Ягода. Интернационализм интернационализмом, а еврейство еврейством, и законы его вечны.
Между тем, сидя в черном автомобиле, который катил на Лубянку по засыпанной снегом и промерзшей Москве, Зиновьев все более поддавался панике. Ему мерещилась всякая чертовщина, от которой он пытался защититься тем общеизвестным фактом, что даже для Рютина, призывавшего в своих прокламациях и письмах к физическому устранению Сталина, Сталину не удалось добиться от Политбюро вынесения самого сурового приговора — высшей меры пролетарского возмездия. А Григорий Евсеевич Сталина убивать не призывал. Сместить — да, критиковать критиковал, но не более того. Так что максимум, что грозит товарищу Зиновьеву, — новая ссылка в какую-нибудь Тмутаракань…
Но тут же вспомнилась Казань, место своей первой ссылки уже при советской власти, и съеденное за обедом вдруг подступило к горлу, а рот заполонила прогорклая слюна… Даже если просто ссылка — за что? Ведь он не имеет никакого отношения к убийству Кирова, хотя и рад этому убийству безмерно. Как сказано в Священной книге евреев: «Всякому по делам его да воздастся полною мерою». Или что-то в этом роде. А Киров отнял у Зиновьева власть, унизил и оскорбил его. Надо будет убедить Ягоду, напомнив ему, откуда они вышли и какие извечные законы и обычаи избранного народа связывают их прочнее всякого марксизма.
Глава 2
Автомобиль остановился не у подъезда «Большого дома», как того ожидал Григорий Евсеевич, а у железных ворот.
— Здесь удобнее, — пояснил Агранов с милой детской улыбкой на узких губах.
Въехали во двор. Легкий Агранов выбрался из автомобиля первым и, вопреки надеждам пассажира, ждать его не стал и тут же скрылся за дверью.
Григорий Евсеевич с испугом огляделся: ни одного знакомого лица — и убрал ногу с подножки автомобиля внутрь. Заметив приглашающий жест дюжего гэбиста выбираться наружу, затряс головой и обеими руками вцепился в спинку сидения.
— Я никуда не пойду! — закричал он, все еще не желая верить в реальность происходящего. — Вы не имеете права! Я буду жаловаться! Меня ждет нарком товарищ Ягода!
— Так идемте к товарищу Ягоде! — пригласил его гэбист с мерзкой ухмылкой на плоском лице.
Но Григория Евсеевича опять парализовал страх. Он ничего не соображал, не понимал слов, он знал лишь одно: Агранов его надул, впереди, за этой дверью внутренней тюрьмы, в мрачных ее казематах ждет его не дружеская беседа с Ягодой, а нечто ужасное.
С одной стороны его выталкивал дюжий гэбист, поддавая плечом и бедром, отрывая цепляющиеся за любые выступы руки, и методично тюкая каблуком по ступне; с другой такой же костолом с остервенением дергал за шиворот и штанину, а потом вцепился в волосы одной рукой и в ухо — другой. Григорий Евсеевич визжал, плевался, отбивался локтями. Он не чувствовал боли, он чувствовал только страх.
Едва его вытащили, он перестал сопротивляться, но идти самостоятельно не мог: не держали ноги.
— Куда вы меня тащите? — плачущим голосом вопрошал Григорий Евсеевич, когда гэбисты, подхватив под руки, поволокли его безвольное тело — и все куда-то вниз, вниз… и далее длинными, узкими коридорами, слабо освещенными тусклыми лампочками, куда-то все дальше от дневного света, от домашнего уюта, тепла, от жены, от дивана, от сытной и разнообразной пищи, — от всего, что было жизнью или, вернее, оставалось таковой после начавшегося несколько лет назад скольжения вниз. Оказывается, можно еще ниже — в подвалы Лубянки, о которых он если и поминал, то с легким пренебрежением, свысока: не для меня сии подвалы, не для меня.
Но охранники не слышали ни охов, ни стонов арестованного, ни его слов. Они лишь сопели прямо в уши да крепче сжимали своими медвежьими лапами полные руки Григория Евсеевича, не привычные к такому с ними обращению… И опять — ни одного знакомого лица. А Агранов, этот подлый филистимлянин, исчез, не сказав ни единого слова… О великий бог израилев! И где тот атлет с могучими руками из петербургской корчмы, которого слюнявый старикашка назначил надзирать за Григорием Евсеевичем? Почему он не придет на помощь своему подопечному? И куда девался сам старикашка, который благословил когда-то Кирша Радомышльского на служение Великому Израилю в русской революции?
Сзади лязгнула очередная железная дверь, под сапогами охранников загромыхали ступени вниз.
— Вы поплатитесь за это! — взвизгнул Григорий Евсеевич. — Говорю вам: меня ждет сам товарищ Ягода! Генрих Григорьевич! Я — Зиновьев! Я с Лениным совершал революцию! Я жил с ним в Разливе! Это я спас товарища Ленина от расправы ищеек Временного правительства! Вы не имеете права! А-ааа! — вскрикнул он от боли в плечах и сразу же сник: до него дошло наконец, что этих ничем не проймешь, что они не поддаются агитации, что его слова для них — пустой звук, что они готовы вот сейчас же, сию секунду разбить его голову о бетонную стену.
От страха и безысходности на Григория Евсеевича напала такая икота, что он не только говорить, дышать мог с большим трудом. Он окончательно сдался и покорился своей участи.
Его притащили в просторную бетонную камеру, ярко освещенную двухсотсвечовыми лампами. Последовала долгая и унизительная процедура с раздеванием и тщательным прощупыванием одежды, заглядыванием в рот и даже в задний проход, резкие команды, которые с трудом доходили до сознания.
Затем его одели и опять поволокли по узкому коридору. Лязгнула очередная железная дверь, прогромыхали несколько ступенек вниз. Квадратная камера, зарешеченные окна, стол, яркий свет рефлекторов. Здесь Григория Евсеевича плюхнули на железную табуретку, привинченную к полу, поддержали за плечи, чтобы не упал. Табуретка слишком жесткая и холодная, слишком маленькая для его широкого зада. Он подпрыгивал на ней от икоты и нервной лихорадки, затравленно оглядывался.
До революции молодому революционеру довелось разок-другой посидеть в тюрьме, но тогда это было не так страшно, тогда, наоборот, несидение в царской тюрьме приравнивалось как бы к незаконченному революционному образованию. Чем больше революционер просидел в царских тюрьмах, тем опаснее казался для власти и полезнее для революции, тем выше мог подняться по ступеням революционной иерархии. А после революции Григорий Евсеевич в тюрьмах ни разу даже и не бывал: и некогда, и незачем, и страшно, если учесть, что там теперь вместо царских опричников распоряжались аграновы и бокии. И вот довелось-таки. Не зря русские говорят: от тюрьмы да от сумы не зарекайся…
На столе, в трех-четырех шагах от него, вспыхнул свет настольной лампы, будто мало было света рефлекторов, и Григорий Евсеевич, подслеповато прищурившись, вгляделся в лицо человека, неожиданно появившегося за столом, — и лицо это показалось ему до боли знакомым и родным: большие, чуть навыкате черные глаза, высокий лоб с залысинами, полные губы и широконоздрый, слегка приплюснутый нос.
Человек посмотрел на арестованного с явной доброжелательностью, улыбнулся знакомой улыбкой — и Григорий Евсеевич узнал в этом человеке своего дальнего родственника, Солю Гринберга, которого не видел лет десять — с тех времен, когда был в силе, то есть заседал в Политбюро, председательствовал в Коминтерне и во многих других организациях, вместе с Каменевым и Сталиным боролся против Троцкого. Тогда Соля крутился в секретариате Коминтерна, с лица его не сходила услужливая улыбка человека на побегушках. Потом он пропал из виду… И вот…
— Соля? Соля, это ты? — не веря своим глазам и на какое-то время перестав подпрыгивать на табуретке, тихо спросил Григорий Евсеевич на идиш.
— Прошу говорить по-русски, — согнав с лица услужливую улыбку, деловым тоном произнес Соля. — Меня зовут Сергеем Иосифовичем Григорьевым. Я ваш следователь. Прошу назвать вашу фамилию, имя, отчество.
— Со-олья-аа! — дернувшись в отчаянии на стуле, воскликнул Григорий Евсеевич. — Это же я, Кирш Аронов Радомышльский, двоюродный брат твоего дяди, Давида Соломоновича Критца, что из Екатеринослава… Со-оля-ааа!
— Еще раз повторяю: говорите по-русски и отвечайте на поставленные вопросы! Иначе я вынужден буду отправить вас в карцер.
— Со-оля, боже мой! Со-лья-ааа!
— Итак: ваша фамилия, имя, отчество.
Но Григория Евсеевича вновь одолели страшная икота и нервная лихорадка. Тряслось и подпрыгивало на табурете его широкое тело, заваливаясь то в одну сторону, то в другую, тряслась голова с вислыми щеками на короткой шее и тоже болталась, как неприкаянная. Даже несколько увесистых тумаков не привели Григория Евсеевича в нормальное состояние. Все случившееся с ним и окружающее его казалось ему диким кошмаром, и оттого в душе его тоже поселился кошмар, не менее дикий.
Глава 3
А в это же самое время Лев Борисович Каменев уже минут сорок находился в кабинете народного комиссара внутренних дел Генриха Григорьевича Ягоды. Они — Каменев и Ягода — сидели за отдельным столиком, пили кофе с пирожками и мирно беседовали.
Каменева привезли на Лубянку несколько раньше Зиновьева. И приехали за ним тоже раньше, то есть перед самым обедом, когда он уже мыл руки, а жена торопила его, говоря, что все остынет, что его, как обычно, сразу не дозовешься — привычная словесная процедура перед принятием пищи. Такая милая и такая обязательная процедура, которая может больше никогда не повториться.
Впрочем, Лев Борисович надеялся на лучшее. Да и начальник оперативно-розыскного отдела НКВД Карл Паукер, явившийся на квартиру Каменева собственной персоной, уверял, сияя своими плутоватыми глазами, что поездка на Лубянку — чистая формальность, без которой можно было бы и обойтись, но… И рассказал анекдот про еврея, который собрался на базар обменять гуся на две утки и петуха, а жена ему говорит: «Исраэл! Зачем ехать nach базар? Утки und куры есть наш сосед Апанас. Они гулять близко наш Haus. Мы кушать его самы жирны утка und петух. Апанас видеть — нет утка und петух, делать нам Unannehmlichkeit — неприятность, мы отдавать ему наш гусь. Самы стары, самы тощи».
Посмеялись.
Каменеву обедать расхотелось. Если обедать, то надо приглашать Паукера, а Лев Борисович терпеть не мог «царского брадобрея», как Паукера называли в «кремлевских кругах». К тому же Паукер говорил, что это на час — не более, и домой Льва Борисовича отвезут в казенном же автомобиле.
Ну что ж, раз надо, значит надо. Каменев с почтением относился к этому партийному заклинанию. Он быстренько собрался, на ходу выпил стакан простокваши, следуя рекомендациям всемирно известного микробиолога академика Мечникова — пить простоквашу натощак, потому что простокваша улучшает пищеварение, замещает бактерии гниения в прямой кишке бактериями брожения и, таким образом, продляет человеческую жизнь. Лев Борисович рассчитывал жить долго, очень долго и счастливо. Если, конечно, дети не будут укорачивать ему жизнь своими беспардонными выходками, компрометирующими их высокопоставленного родителя. Ну, ладно бы пакостили, но тихо, не на виду, а то ведь не таясь и не стесняясь. И не только собственный сын, но и многие другие сыновья и дочери видных партийцев. Упустили своих чад, некогда было воспитывать, вот и результат. И поделать ничего нельзя. То есть, конечно, можно: общественное порицание, например, товарищеский суд, но поднимется шум, тень упадет прежде всего на авторитет родителей, занимающих высокую должность, и даже на авторитет партии… Впрочем, шума и так много, но в основном шума неслышного, кухонного, следовательно, пока безвредного. А что касается пьесы, в которой главным героем выставлен его, Каменева, родной сын, а второстепенными — чада других ответственных товарищей, так это происки врагов, завидующих этим товарищам и подкапывающихся под их авторитет.
Все эти мысли вертелись в голове Льва Борисовича, пока он вслед за Паукером спускался вниз и усаживался в автомобиль. Но едва они тронулись, Паукер, обернувшись к Каменеву, оборвал эти мысли очередными анекдотами, и один из них был про самого Сталина, хотя имя его не называлось:
— Ein позиционьер просыпаться zwei Stunde день и думать: «Нэ паспат бы ишо шестьдесят минутен?» — сыпал Паукер словами с ужимками клоуна на плутоватом лице. — Нажимать кнопка, входить секретарь, позиционьер спрашивать: «Скажи, лубезнай, мыровая рэволуция ешо нэту?» — «Нету, товарищ Али-баба». — «Вах! Нычаго нэ подэлаеш, нужьна встават».
Каменев смеялся сдержанно, Паукер — во все горло. Так, с непогасшим смехом на лицах, они и вошли в кабинет наркома внутренних дел.
Нарком от самого стола пошел навстречу Льву Борисовичу с протянутой для пожатия рукой и кривой покаянной улыбкой на страдальческом лице.
Между тем Генрих Григорьевич уже 2 декабря, то есть на другой же день после смерти Кирова, перед самым отъездом Сталина в Ленинград, получил от генсека указание проверить причастность Зиновьева и Каменева к убийству главы ленинградской парторганизации. Указание выглядело как пожелание или совет, но Сталин редко употреблял такие выражения, как «Я вам приказываю!» или «Я требую!» Любое его пожелание или совет с некоторых пор воспринимались всеми как приказ, а Генрихом Григорьевичем — так и значительно раньше — с восемнадцатого года. Однако на сей раз нарком внудел решил принять пожелание Сталина именно как пожелание — и не более того. Он не понимал, зачем Сталину нужно пристегивать к делу Кирова своих бывших соратников по партии и Политбюро: ведь они нынче мало что значат в политической игре, хотя и пытаются как-то влиять на определенные партийные круги как в Москве, так и на периферии. Обо всех этих попытках известно Генриху Григорьевичу, почти обо всех он докладывал Сталину, оставляя кое-что и для себя: жизнь — сложная штука, никогда не знаешь заранее, каким боком она к тебе повернется, а информация — это капитал, за который можно, в случае крайней нужды, купить себе жизнь. Наконец, став наркомом внутренних дел, Генрих Григорьевич как бы получил право на свою игру, в которой все остальные действующие лица перемещались в разряд меньшего значения, не выше, чем ладья среди шахматных фигур. Себя он ощущал ферзем, Сталина — королем, которого необходимо защищать, но до тех пор, пока король нужен самой королеве. А дело шло к тому, что он все более становился ей в тягость. И не только королеве, но и многим слонам, ладьям, коням и даже пешкам.
Итак, отдав необходимые распоряжения, собрав команду из чекистов и партийных функционеров, Сталин ночью уехал в Ленинград разбираться с убийством Кирова, а Генрих Григорьевич, взвесив все за и против, решил в Москве события не форсировать. Пусть в Ленинграде все завершится так, как угодно Хозяину, пусть там будут обрублены все концы, так или иначе ведущие к убийце: этого хватит для длительной пропагандистской кампании и, вполне возможно, для удовлетворения аппетитов самого Сталина. Все-таки евреи Зиновьев с Каменевым были ближе еврею Ягоде, чем грузин Сталин, и самому Генриху Григорьевичу они ничего плохого не сделали, если не считать мелких гадостей. Но политика не может обходиться без гадостей, а политики не могут не понимать, что гадости — вещи преходящие.
Лишь с возвращением Хозяина в Москву Ягода приступил к арестам, но ограничился всего семнадцатью персонами, особо близкими к Зиновьеву и Каменеву.
Однако Сталин на сей раз был неумолим. Глядя сузившимися глазами на своего наркома, он медленно цедил слова сквозь сжатые зубы:
— Зиновьев с Каменевым причастны к этому преступлению против партии и советской власти. В этом у наркома внутренних дел не может быть ни малейшего сомнения… если ему дороги… идеи Маркса-Энгельса-Ленина.
Для Генриха Григорьевича эти слова прозвучали как «если наркому внутренних дел дорога своя жизнь». Маркс-Энгельс-Ленин тут были ни при чем.
После этих слов у Генриха Григорьевича из головы вылетело, кто из них двоих король, а кто королева, он снова опустился в собственных глазах до уровня ладьи. И даже ниже. И лишь в своем кабинете на Лубянке пришел в себя, к нему вернулось осознание своего высокого предназначения, и он исподволь повел в деле оппозиции свою незаметную игру. И вовсе не потому, что хотел этой игрой добиться каких-то определенных целей, а потому что по-другому не мог: слишком долго в нем сидел заморенный провизор с провизорскими мечтами о массовых отравлениях, чтобы эта мечта так и умерла, не дав никаких всходов.
16 декабря очередь дошла и до Зиновьева с Каменевым. Основную ставку в предстоящей игре Ягода сделал на Каменева: Каменев умнее Зиновьева, да и всех остальных вместе взятых, с Каменевым у Ягоды давние и весьма неплохие отношения, на которые почти не сказались политические разногласия. От Каменева можно узнать, что именно готовит Сталин, потому что Сталин никогда и ни с кем своими планами не делится, а лучше Каменева никто Сталина не знает и больше Каменева лично для Сталина никто не сделал. Можно сказать, что Каменев для Сталина в свое время был тем же, чем Зиновьев для Ленина: его тенью и тенью его тени. Именно Каменев помогал Сталину двигаться наверх, имея на него свои виды. Да, Каменев недооценил Сталина, но после Ленина — менее других, и когда Владимир Ильич практически порвал со Сталиным все отношения из-за хамского поведения генсека по отношению к жене товарища Ленина товарищу Крупской, Каменев, замещавший больного Ленина на посту предсовнаркома, помог Сталину удержаться на своем месте и даже укрепить свою пошатнувшуюся власть после обнародования «Завещания Ленина».
Конечно, если бы Ленин поправился и вновь занял свое место в партии и государстве, то неизвестно, чем бы закончилась карьера Иосифа Джугашвили. Но не поправился и умер — в этом все дело. Зато Сталин смерть Ленина мастерски использовал для поднятия своего авторитета. И снова ему в этом помогал Каменев. И не только он один, но и Зиновьев. И даже сам Троцкий. Тут был свой расчет, видимый всеми, но не называемый своим действительным именем: нацмен Сталин должен был горой стоять за других нацменов, заполонивших властные структуры в бывшей Российской империи, как это случилось при Петре Первом, Великом Реформаторе. Видимо, в России без этого не может обойтись ни одна Реформация.
Дальше, правда, все сложилось не совсем так, как рассчитывали Зиновьев с Каменевым, но в политике все не рассчитаешь. А Троцкий, сидя в Париже, пишет, что дело вообще не в Сталине или в ком-то другом, а исключительно в определенных исторических закономерностях, решительным образом влияющих на революционные процессы, которые с необходимостью развиваются до некоторых пределов, а потом не только затухают с той же необходимостью, но и начинают как бы попятное движение. Троцкому хорошо теоретизировать, находясь вдали от Москвы и пописывая статейки в разные газетки. В том числе и в сугубо буржуазные. Троцкому вольно искать оправдание себе и своему поражению от Сталина в фатальных исторических закономерностях, а ты сиди здесь и варись в этих самых закономерностях. И еще неизвестно, такие ли они, эти закономерности, какими их описывает Троцкий, или совсем другие. Поди угадай. А угадывать надо. Иначе — карачун.
— Еще кофе, Лев Борисович?
— Нет, благодарю вас, Генрих Григорьевич: сыт. Дома, признаться, обедать лучше, — кольнул Каменев Ягоду. — Но что поделаешь, если надо. Мы — коммунисты, наши обязанности и права в одном — служить партии и ее делу. Так что разок постоловаться за казенный счет… — и замолчал, многозначительно поглядывая на Генриха Григорьевича.
Но тот пропустил намек мимо ушей, допил из чашки, осторожно поставил ее на блюдце, отер рот платком. Делал он все это не спеша, будто у него впереди прорва времени. И у Каменева тоже.
Закурили.
— Да, так я и говорю, — продолжил прерванную беседу Генрих Григорьевич, — что положение наше сегодня таково, что с одной стороны — Япония, с другой — Германия и Антанта, и все спят и видят, чтобы среди нас, коммунистов, начались свары и развал…
— А что, уже начались? — осторожно вклинился в рассуждения наркомвнудела Лев Борисович, сосредоточенно рассматривая дымящийся кончик папиросы.
— Если бы начались, я бы здесь не сидел. Задача органов воспрепятствовать малейшему проявлению шатания, не говоря о развале. Я хотел бы услыхать, Лео, — доверительно понизил голос Генрих Григорьевич, с состраданием глядя на собеседника, — твое мнение на сей счет: все-таки ты близок с людьми, которые совсем еще недавно открыто оппозиционировали курсу ЦК и Политбюро.
— Видишь ли, Генрих, — вяло улыбнулся Лев Борисович, — к тем сведениям, которыми ты несомненно располагаешь, я могу добавить лишь одно: никто из нас к убийству Кирова не причастен. Можно любить Сталина или не любить, любить Кирова или не любить, но поднимать на них руку… Это и безрассудно, и преступно, если учесть факты международной действительности, которые ты упоминал. И бессмысленно с точки зрения политического момента. Мы не враги Союза ССР, а наши былые расхождения связаны… как бы это сказать?… — связаны с непредсказуемыми шараханьями Сталина то слева направо, то справа налево, за которыми мы просто не в состоянии уследить. Сперва он борется с Троцким против его левизны, — и мы ему помогаем в этом. Затем он сам подхватывает выпавшее из рук Троцкого левацкое знамя, чуть-чуть подправляет его лозунги и бьет этим знаменем других, обвиняя их в правом уклоне. Сегодня он возрождает русскую великодержавность и русский патриотизм — или что-то в этом роде, завтра ему взбредет в голову новая абсурдная идея… Впрочем, ты все это и сам прекрасно знаешь…
Генрих Григорьевич неопределенно покивал головой, отметив про себя, что Каменев либо темнит, либо упрощает, либо вообще не понимает того, о чем говорит. Ведь всем известно, что почти все шатания Сталина так или иначе зависели от политических шараханий других, в те поры обладавших в партии авторитетом значительно большим, чем Сталин. И лишь когда Сталин разобрался в том, кто из них чего стоит и за что борется, только тогда оттеснил всех и взял все в свои руки — и теорию, и практику. Неужели он, Ягода, ошибся в Каменеве?
— Теперь поезд разогнался, — продолжал между тем Лев Борисович менторским тоном. — Одни успели вскочить на подножку, другие остались на полустанке, покупая у бабки домашний варенец и слишком долго из-за него с нею торгуясь. Третьи… третьи просто отдались практической работе. И таких большинство. Так стоит ли возвращаться на полустанок и забирать отставших? Пусть они уже едят свой варенец на доброе здоровье.
— А к какой категории отнести тебя? — спросил Генрих Григорьевич и скорчил такую страдальческую гримасу на своем угловатом лице, точно задавать подобный вопрос ему было настоящей пыткой.
Но дело было не в вопросе, а в том, что он никак не мог понять, почему Каменев, такой умный человек, никак не возьмет в толк, что спорить со Сталиным глупо? Не менее глупо спорить даже с ним, наркомом внутренних дел Генрихом Ягодой. Будто Каменев не знает, что в споре как бы заложено обвинение противоположной стороне в некомпетентности, недоверие к ней и даже унижение ее, то есть унижение и Сталина, и самого Ягоды. Если бы те же сельские кулаки не спорили, то есть не сопротивлялись, если бы не спорили и не пытались доказать свою правоту сторонники Временного правительства и даже царской власти, всякие буржуи и прочие, то… Э, да что тут говорить! Хочет того или нет товарищ Каменев, а только он встает на одну ступеньку со всеми контрреволюционерами. Именно с этой точки зрения рассматривает Сталин своих политических противников. И он, Генрих Ягода, очень хорошо понимает такое отношение к спорщикам товарища Сталина. Одного только не понимает товарищ Ягода — удержится ли наверху сам Сталин, выстоит ли он в борьбе со своими противниками? Уж больно много — по данным многочисленных осведомителей — противников у товарища Сталина. Хотя все в один голос заявляют, что дело не в Сталине, а в той политике, которую он проводит. Но вот вопрос: может ли Сталин проводить другую политику и сможет ли кто другой на его месте? И как быть Генриху Ягоде в новых условиях? На кого ориентироваться? На Бухарина? На Каменева? Но Каменев не мыслим без Зиновьева, а Зиновьев — это труп. Правда, трупы иногда оживают, но подобное случается лишь в сказках.
Лев Борисович на вопрос Генриха Григорьевича ответил не сразу. Он глубоко затянулся дымом папиросы, выпустил его через нос, внимательно, поверх очков, глянул на товарища Ягоду. Ответ его был осторожным, но в нем так или иначе содержался элемент спора, противоречия:
— Скорее, ко второй. Но я уже в переходной стадии к третьей, — усмехнулся Лев Борисович и качнул массивной головой. — Из мест не столь отдаленных свое положение в партии видится значительно отчетливее. Да и, действительно, надо работать. О чем тут еще спорить?
— Спорить всегда есть о чем, была бы причина, — задумчиво возразил Генрих Григорьевич, как бы отвечая своим мыслям. — Зиновьев, например, находит о чем спорить. Да и некоторые другие. А начнись какая-нибудь заварушка…
— А ты не допускай заварушки, Генрих, вот тебя и не коснется.
— Так я и стараюсь не допускать. Увы, этого мало. Надо уметь предотвратить даже намек на заварушку. — Склонил голову набок, заглянул в глаза Льва Борисовича: — Ты помнишь, Лео, почему была расстреляна царская семья? Ведь эти полутрупы сами по себе не представляли ни малейшей опасности для советской власти. Опасность представляли те, кто мог их использовать в качестве знамени. А русский мужик… он ведь мог вспомнить, что совсем недавно пел «Боже, царя храни». Впрочем, кому я говорю? Ты же сам принимал участие в судьбе глупого Николашки…
— Ты хочешь сказать, Генрих, что я могу стать знаменем для русского мужика? Или для русского рабочего?
— А почему бы нет? Русские цари были первейшими притеснителями, однако все русские бунты проходили под знаменами самозванцев, претендующих на царский трон… Но речь идет не о мужиках. Речь идет об интеллигенции… А если быть точным — о старых партийных кадрах…
— Старые партийные кадры… Каменев-Розенфельд — знамя интеллигенции… Чушь поросячья! Для евреев я не могу стать знаменем, потому что еврей я — по их понятиям — неполноценный: мать у меня русская. Для русских не могу стать знаменем потому, что я все-таки еврей. И даже после того, как мы сами разделались со своими сионистами… — Лев Борисович передернул жирными плечами. — Так что все эти знамена и знамения есть домыслы чистой воды. Эдак можно сказать, что ты, Генрих, опасен для советской власти уже тем, что под твоим началом тысячи и тысячи чекистов, которых ты можешь использовать для захвата власти… Но мы с тобой реальные политики, и, следовательно, не имеем права на беспочвенные домыслы.
При словах о возможности захвата власти Генрих Григорьевич внутренне сжался и подумал: «А если точно так же думает и Сталин?» Но заговорил совсем о другом:
— Как сказать, как сказать… Следствием установлено, что в Ленинграде существует… пока еще существует, — многозначительно поправился Генрих Григорьевич, — так называемый «Ленинградский центр» — явно контрреволюционная организация, в задачу которой входит убийство выдающихся деятелей нашей партии и государства. Есть некоторые данные, что и в Москве существует аналогичный «центр», так сказать, параллельный… Ведь Рютин появился не на пустом месте, у него была почва под ногами. Не могла не быть. Да и Троцкий все время твердит о существовании антисталинского подполья. Ты ничего не знаешь об этих центрах, Лео?
— Впервые слышу, Генрих.
— Может быть, может быть… А знаешь, Лео, что делают с воинским подразделением, утерявшим свое знамя? Его расформировывают. — Помолчал, и новый вопрос: — А что делают с командным составом такого подразделения? Командный состав такого подразделения предают суду военного трибунала и… — Пошевелил в воздухе пальцами, мучительно покривившись одной половиной лица. — Спросим себя, как могут спрашивать у себя большевики-ленинцы: правильно делают, что предают суду и так далее? Ответ может быть только один: очень даже правильно… Однако, дело не в этом…
Генрих Григорьевич ткнул докуренную папиросу в пепельницу, выпрямился в кресле и чуть прихлопнул по коленям ладонями, словно собирался вставать. Даже лицо его приняло отрешенное выражение. Но не встал.
Каменев между тем отметил, что нарком внутренних дел усвоил манеру речи Сталина, следовательно, и думает по-сталински, и действует тоже, хотя Льву Борисовичу известно доподлинно, что Ягода Сталина ненавидит и боится, в кругу «избранных» не скрывает ни того, ни другого, и наверняка это известно Сталину. И Льву Борисовичу стало скучно. Так скучно, что даже до зевоты. Он с трудом удержал сведенные судорогой челюсти, достал из кармана платок, снял очки, принялся протирать стекла. «Полтора десятка человек, взятые недели две назад, все еще сидят где-то здесь, на Лубянке, — подумал он. — Все это проверенные товарищи, и Ягоде вряд ли удастся из них вытащить что-то полезное для своего хозяина. И не столько для него, сколько для самого себя. Уж не хочет ли он это полезное получить от меня?»
А Генрих Григорьевич, мучительно наморщив лоб, продолжал развивать свои мысли:
— Да, согласен, дело не в знамени. Дело в том, дорогой Лео, чтобы вместе разобраться, существует ли на самом деле — и в какой именно форме? — опасность для советской власти. Я очень надеюсь, что ты нам в этом поможешь. Как истинный коммунист. Как истинный марксист-ленинец. Как истинный революционер. Никакой кровожадности на твой счет нет и в помине… Но посуди сам, Лео: все шло хорошо, ничто не предвещало, так сказать, никаких политических катаклизмов… И вдруг — выстрел. И — нет Кирова. А что завтра? Ведь где-то живут, действуют и готовятся другие стрелки, которых кто-то объединяет в какие-то «центры». Как их найти? Как обезвредить? Только последние идиоты могут заниматься исключительно расследованием совершенных преступлений и поплевывать в потолок в ожидании новых. Мы, чекисты, наследники Дзержинского, не можем себе позволить этой буржуазной роскоши. Иначе советской власти не продержаться и года. Вспомни восемнадцатый год… Вспомни, как в Киеве петлюровцы резали евреев…
— По-моему, ты слишком пессимистически оцениваешь положение советской власти, Генрих, — нахмурился Лев Борисович и тоже откинулся на спинку кресла. — Сегодня не восемнадцатый год. Сегодня более половины дееспособного населения страны даже не слыхивали «Боже, царя храни». Для них соввласть — это все: и дом, и родина, и будущее. У нынешней молодежи стойкий иммунитет относительно прошлого России. А чтобы какие-то полумертвые микробы…
— А что мы знаем о микробах, Лео? Никто ничего о них не знает. И никто не узнает, если время от времени не класть их под микроскоп. А вдруг из полудохлых превратятся в очень даже живых? Все может быть, все может быть… Поверь мне, бывшему провизору.
С этими словами Генрих Григорьевич встал на ноги, подошел к своему рабочему столу, нажал кнопку вызова. Когда в дверях появился человек в форме, он, глядя в окно и страдальчески кривя угловатое лицо, произнес:
— Увы, гражданин Каменев. Мне очень жаль, но тебе придется немного постоловаться у нас и подумать над тем, о чем мы тут с тобой говорили. Чем быстрее надумаешь, тем быстрее окажешься дома. И не забудь, пожалуйста, о «Московском центре». У меня такое ощущение, что ты о нем что-то знаешь. Партии было бы полезно тоже узнать об этом «Центре» кое-что существенное… гражданин Каменев.
Отвернулся и стал звонить по телефону.
Уже от двери Лев Борисович услыхал, как Ягода говорил с почтительной нотой в голосе: «Да, товарищ Сталин. Так, товарищ Сталин», и понял, что думать над словами Генриха Григорьевича придется долго. Может, и не на Лубянке, а в какой-нибудь Самаре. Впрочем, в Самаре тоже живут люди…
Только первый настоящий допрос заставил Каменева взглянуть на свое положение другими глазами. Он запаниковал и заметался в поисках выхода. Однако выхода не было. Разве что признать своими всех собак, которых на него повесили. В том числе и руководство «Московским террористическим центром». И связь этого «центра» с «Ленинградским», наверняка таким же мифическим. Но признать такое руководство и такую связь означало подписать себе смертный приговор. И Лев Борисович, и Григорий Евсеевич, и все остальные семнадцать их подельников с яростью отвергали всякие обвинения.
Глава 4
— И что? Не признаются? — тихо спросил Сталин, и Ягода услышал в этом тихом голосе хорошо скрытую ярость. А более всего разглядел ее в медленном повороте головы, в пожелтевших глазах генсека, остановившихся на его лице. — Так не признаются в контрреволюционной и террористической деятельности или не участвовали в ней?
— Мы не можем пока доказать их причастность к этой деятельности, товарищ Сталин, — почти так же тихо ответил нарком. — А главное — к убийству товарища Кирова.
Сталин взбил чубуком трубки свой ус, пошел к двери по толстой ковровой дорожке. У двери постоял, повернулся, произнес:
— Может быть, вы, товарищ Ягода, допросили не всех людей по этому делу?
— Если кто и остался, товарищ Сталин, то фигуры явно малозначительные. — И поспешно добавил: — Но мы ищем.
— Плохо ищете, товарищ Ягода. Врага надо чувствовать по запаху. По походке. По выражению глаз. По голосу. Раньше у товарища Ягоды нюх на контрреволюционеров был значительно острее. Вспомним Царицын. Вспомним дело «Промпартии», «Шахтинское дело». Вспомним коллективизацию, вспомним раскулачивание. Может, у товарища Ягоды притупилось классовое чутье?
— Никак нет, товарищ Сталин, не притупилось.
— Тогда почему же товарищ Ягода миндальничает с товарищами Зиновьевым и Каменевым? Чем товарищи Зиновьев и Каменев отличаются от кулака? Чем они отличаются от любого контрреволюционера, от предателей дела рабочего класса и даже от фашистов? С точки зрения социалистического строительства и противодействия этому строительству — абсолютно ничем. Следовательно, любое обвинение в их адрес оправдано исторически, оправдано с точки зрения мировой революции. Вы это понимаете, товарищ Ягода?
— Да, товарищ Сталин, я это понимаю.
— Так идите и действуйте. Мы ждем от вас положительных результатов.
— Будет исполнено, товарищ Сталин, — произнес Ягода, но с места не сдвинулся.
— Что у вас еще к товарищу Сталину, товарищ Ягода? — спросил Сталин, проходя мимо наркома к своему столу.
— У меня письмо товарища Зиновьева лично к вам, товарищ Сталин.
— И что пишет нам товарищ Зиновьев?
— Он пишет… Позвольте я вам зачитаю…
Сталин чуть кивнул головой.
— Только самое существенное, — добавил он, возясь со своей трубкой.
Ягода пошуршал бумагой, стал читать монотонным голосом, стараясь ничем не выдать своего отношения к письму:
— «Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед вами лично. Клянусь вам всем, что может быть свято для большевика, клянусь вам памятью Ленина…»
Ягода замолчал, взглянул на Сталина. Тот стоял к нему боком, стоял, опустив голову, уминал в трубке табак большим пальцем и, казалось, был целиком поглощен этим занятием. И нарком продолжил чтение письма Зиновьева:
— «Умоляю вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души…»
— Довольно! — остановил Ягоду Сталин. Затем медленно повернулся, спросил: — Ви все еще верите этому сукину сыну?
— Никак нет, товарищ Сталин. Я просто счел необходимым…
— Что у вас еще?
— Органы, как, впрочем, и многие другие инстанции, буквально осаждаются родственниками арестованных, их друзьями. Одни требуют разобраться, другие просят о снисхождении… Выстраиваются очереди…
Сталин остановил Ягоду коротким движением руки.
— Где были эти родственники и друзья, когда арестованные вредили социалистическому строительству? Почему они своевременно не обратили наше внимание на их контрреволюционную деятельность? — Помолчал и убежденно отрезал: — Они были с ними заодно. Надо прекратить это безобразие, товарищ Ягода. Нам не нужны демонстрации сочувствующих и сострадающих. Если пустить это дело на самотек, мы захлебнемся в жалобах. Все наши инстанции только тем и будут заниматься, что разбирать жалобы и ходатайства. Пусть родственники идут вслед за преступниками. Пусть они ответят за свою бездеятельность, благодушие и укрывательство. Пионер Павлик Морозов, как известно, не стал ждать, когда чекисты арестую его отца и братьев. Он заранее предупредил об их преступной деятельности ГПУ. Если деревенский полуграмотный мальчишка смог подняться до понимания высшей правды революции, то почему, товарищ Ягода, до этого понимания не могут подняться образованные родственники и друзья разоблаченных вами троцкистов? Мы думаем, что они, эти родственники, заслужили соответствующего наказания. И это справедливо. Подготовьте ваши предложения на Политбюро по этому вопросу. — Несколько раз пыхнул дымом, продолжил: — Что касается друзей… Вот вам те люди, которые еще не опрошены вашими чекистами. Вы можете быть свободны, товарищ Ягода.
И Сталин долго еще хмурился и посматривал на дверь, за которой скрылся нарком внутренних дел. Что-то ему не нравилось в сегодняшнем Ягоде, что-то было в его поведении странного, непривычного, уклончивого. «Неужели власть вскружила ему голову? — спросил Сталин у самого себя, но отвечать на свой вопрос не стал, решив обдумать его со всех сторон в ближайшие дни. Затем отложил в памяти: — Надо будет поговорить с Ежовым. У него должна быть информация на этот счет. И еще: надо встретиться с Вышинским».
Глава 5
Лобастый человек лет пятидесяти пяти, в строгом сером костюме с петлицами и шевронами на рукавах чиновника от юстиции, в круглых очках, прямой, точно проглотил аршин, шагнул в кабинет Сталина и задержался на несколько мгновений в дверях: окна были зашторены, в люстре горели всего две лампочки, да еще одна на столе, и в этом полумраке виднелся силуэт, в котором вошедший не сразу узнал Сталина — так тот изменился с тех пор, как они виделись в последний раз.
Представить себе в ту далекую пору, что Сталин, человек не слишком развитой, с трудом владеющий русским языком, медлительный и всегда держащийся в тени более речистых соратников, однако наделенный цепкой памятью, с жадностью поглощающий всякое знание, — представить себе, что он взлетит так высоко, этот чиновник не мог. Как не могли этого представить и все остальные. Он и сейчас еще до конца не может поверить, что перед ним тот самый Коба, хотя часто печатающиеся в газетах его портреты свидетельствовали в пользу превращения Кобы в Сталина.
Человек этот когда-то знал Сталина довольно близко: в 1908 году они сидели в одной тюремной камере по обвинению в подстрекательстве рабочих к забастовке и свержению законной власти, иногда встречались на нелегальных квартирах в Баку или Тифлисе. Бывший польский шляхтич покорил Кобу-Джугашвили своим доскональным знанием уголовного права и прочих достижений человечества в этой области, помог ему добиться смягчения наказания за антиправительственную деятельность, но затем, освободившись, уехал в Киев, там закончил юридический факультет Киевского университета, занимал различные судебные должности, прославился своей речистостью, знанием законов и умением их использовать как в пользу подсудимых, так и им во вред.
В ничтожно жалкий период власти Временного правительства этот же человек подписал указ о розыске и аресте Ульянова-Ленина. Другого на его месте давно бы отправили на тот свет, а он не только выжил во время «красного террора», но и, открестившись от прошлого, принял безоговорочно Советскую власть, в двадцатом вступил в партию, какое-то время работал в Наркомпроде Украины, с 1923 года подвизался в прокуратуре РСФСР, читает лекции в МГУ, пишет статьи, выступает с обвинительными речами на судебных процессах, выдержки из которых время от времени печатаются в различных газетах. В том числе и в «Правде».
Они встретились как раз посреди кабинета. Сталин протянул руку, вглядываясь в лицо посетителя.
— Здравствуйте, товарищ Вышинский, — заговорил он, не отпуская руки старого знакомца. И замолчал в ожидании ответа.
— Здравствуйте, товарищ Сталин… — воспользовался Вышинский предоставленной возможностью. Он еще хотел сказать, что рад встрече, но Сталин перехватил инициативу:
— Рад вас видеть, товарищ Вышинский. С удовольствием читаю отчеты о судебных заседаниях, на которых вы выступаете в качестве обвинителя… — Сталин отпустил руку Вышинского, взял его под локоть, повел к дивану, усадил, продолжая говорить, тщательно подбирая слова: — Взять хотя бы судебный процесс по поводу гибели нефтеналивного парохода «Азербайджан». Судя по вашей обвинительной речи, вы хорошо изучили все обстоятельства этого дела. Капитана буксира расстреляли. Это правильно. Сбежать на своем буксире с места аварии и не помочь гибнущим в огне и в воде морякам, есть тягчайшее преступление. Но, как мне кажется, чиновники, которые должны были отвечать за безопасность плавания судов по Каспийскому морю, отделались лишь небольшим испугом. А именно с них и начинаются все наши беды. Сидят люди в своих кабинетах, получают деньги, и не малые, а пользы от них практически никакой. Вреда больше, а не пользы. Время от времени мы снимаем таких бесполезных для дела людей с должности, иногда выгоняем из партии… И что же? Проходит немного времени, их восстанавливают в партии, они возникают в другом месте, иногда на более ответственных должностях. У нас имеются отделы кадров, обязанные следить за подбором и движением по служебной лестнице каждого чиновника. Есть контролирующие органы. Мы за годы советской власть провели несколько чисток партийных рядов от примазавшихся к партии людишек. Но положение с кадрами меняется к лучшему очень медленно. В иных местах даже не в лучшую сторону, а в худшую… Кстати, не попросить ли нам, чтобы принесли чаю? — вдруг спросил Сталин, откинувшись на спинку дивана. — Как вы, товарищ Вышинский, не против?
— Нет, товарищ Сталин.
— Вот и прекрасно. Разговор у нас будет длинный.
Сталин поднялся с дивана, вскочил и Вышинский.
— А вы сидите! Сидите! — остановил его Сталин. — Вы мой гость, я здесь хозяин, мне и командовать. А вы пока подумайте над тем, как нам изменить положение с кадрами. И в самое кратчайшее время…
Сталин подошел к своему рабочему столу, склонился над ним, произнес:
— Товарищ Поскребышев! Попросите принести нам чаю. Ну и… чего-нибудь еще.
Вернувшись к дивану, но не садясь, спросил:
— Ну и как? Надумали?
— Это очень сложный вопрос, товарищ Сталин. Его с кондачка не решить.
— Это понятно, — кивнул головой Сталин. И вдруг, склонив голову набок, заговорил мягким тоном: — Я очень хорошо помню, как в камере предварительного заключения один молодой человек мечтал о том времени, когда все люди станут совсем другими: добрыми, грамотными, снисходительными к невинным слабостям ближнего. Тогда, помнится, этот молодой человек полагал, что со временем отпадет надобность в полиции, тюрьмах, в мерах принуждения. Признаться, я с некоторым скептицизмом слушал эти мечтания. Вы, что же, продолжаете стоять на этой точке зрения?
— Нет, товарищ Сталин. Уже не стою. Однако полагаю, что правосудие, наказывая преступника, должно иметь в виду нечто подобное. А именно: исправление человека, возвращение его обществу совсем в другом качестве.
— Ну, капитана буксира уже не вернешь ни в каком качестве, — усмехнулся Сталин. — Мечтать не вредно. Но, сталкиваясь с реальностью, надо иметь холодную голову и поступать в соответствии с практической необходимостью.
— Совершенно с вами согласен, товарищ Сталин… — начал было Вышинский, но Сталин остановил его движением руки.
— Вам в своей практической работе в качестве прокурора разве не приходило в голову, что в этом вопросе мы как бы топчемся на одном месте?
— Приходило, товарищ Сталин, — заволновался Вышинский, опасаясь, что Сталин не даст ему высказаться. — Иногда сталкиваешься с такими бюрократическими завалами, пробраться через которые очень трудно. А подчас и невозможно. Дело, на мой взгляд, в том, что старые кадры не поспевают за стремительностью процессов, совершающихся в нашей стране. А не поспевают они потому, что отстали от времени и технически, и теоретически. Тут нужны скорости аэропланов, а они все еще не слезли с телеги. К этому следует добавить несовершенство наших законов, в которых много лазеек для всяких проныр. По-моему, все разрешится в течение ближайших десяти-пятнадцати лет, когда им на смену придет образованная молодежь…
— Десяти-пятнадцати лет… — качнул головой Сталин и, повернувшись, медленно двинулся к двери. Там постоял, вернулся к дивану, спросил: — А вы уверены, что мы за эти десять-пятнадцать лет получим то, что нам необходимо? Не забывайте, товарищ Вышинский, что старые кадры постоянно оказывают разлагающее влияние на молодых специалистов, еще не окрепших морально и идеологически. Они не дают им развернуться, проявить себя в деле. А почему? Да потому что боятся: всем станет ясно, что эти старые кадры ни на что не годны. Старые кадры цепляются и будут цепляться за любую возможность, чтобы продолжать жить по-старому. Без решительного избавления от старых кадров мы будем и дальше трястись в телеге по отвратительным российским дорогам, — продолжал Сталин, все более загораясь. — Впереди нас ждет война. Мировой империализм не может смириться с существованием государства, в котором решающую роль играет рабочий класс… Правда, нашему рабочему классу тоже расти и расти. Но у него есть прочная база для такого роста. Это, прежде всего, марксизм-ленинизм. Это — единство партийных рядов. Оздоровление партии есть решающий фактор в борьбе за доверие рабочего класса. Только на такой основе возможно стремительное усиление индустриального и военного могущества нашей страны.
— Я целиком и полностью согласен с вами, товарищ Сталин, — воскликнул Вышинский, воспользовавшись паузой в речи Сталина. — Но как это сделать? Работа наших карающих органов тоже далека от идеала. Здесь тоже решающую роль играют старые кадры, которым не так уж плохо живется. Иногда дела о растрате или стяжательстве рассыпаются под влиянием властных структур, которые всякий раз ссылаются на то, что ущерб де не такой уж большой, а политически дело может принести больше вреда, чем пользы. Мы, мол, сами тут разберемся и все уладим.
— И что, часто случается такое?
— В Центре не так уж и часто, но на периферии довольно часто.
— Вот видите! А вы говорите: десять-пятнадцать лет. Да за эти годы бюрократия так окрепнет и усилится, так воспитает молодое поколение, что оно, это поколение, с пеленок будет считать, что иначе и не может быть.
Сталин замолчал, отошел к своему столу, принялся набивать трубку табаком.
Вышинский тоже молчал, теряясь в догадках о том, какую роль в этой борьбе со старыми кадрами, а не только с оппозицией, отводит ему Сталин.
Принесли чай.
Так и не закурив, отложив трубку, Сталин пригласил Вышинского к отдельному столику. Сели напротив друг друга. Сталин разливал чай по чашкам.
Отпили по паре глотков.
— Выход я вижу только один, — заговорил Сталин раздумчиво. Посмотрел на Вышинского вприщур, закончил: — Выход может быть только один: избавиться от старых кадров физически. На аэроплане, как вы заметили, им места нет. Даже самый большой в мире туполевский аэроплан не выдержал такой нагрузки со стороны бюрократического аппарата…
— Вы полагаете…
— Полагаю. Исторически необходима большая и решительная чистка партийных, советских и прочих рядов от старых кадров. Эти кадры поднялись на революционной волне. В ту пору достаточно было знать несколько лозунгов, чтобы соответствовать политическому моменту. НЭП отравил кадры вседозволенностью, безответственностью. А в результате самый большой в мире аэроплан, названный именем нашего великого писателя Максима Горького, стал жертвой невежественных руководителей. И начать надо с головки оппозиции: Зиновьев, Каменев и прочие.
— Но их уже осудили! — воскликнул Вышинский.
— Да, осудили. Но что это за осуждение, если они и в заключении продолжают свою вредительскую политику? Только избавившись от них, мы сможем начать большую чистку наших «авгиевых конюшен». И вы, товарищ Вышинский, я надеюсь, станете одним из таких чистельщиков.
— Позвольте, товарищ Сталин, но в чем же их обвинять на этот раз? Ведь большинство из них виноваты лишь в том, что не умеют или не способны делать то, что им поручено. Конечно, есть и такие, кто ведет свою работу во вред государству вполне сознательно. Но таких не так уж много. Нельзя же дважды за одно и то же дияние… И потом… Я писал на имя Цэка записку, в которой указал, что признательные показания подозреваемого не могут быть признаны судом доказательством его вины. На этом стоит вся правовая база судопроизводства. Тем более что признания добываются следствием противозаконными методами…
— Я читал вашу записку, товарищ Вышинский. Ее положения хороши в государстве с устоявшимися нормами общественного сознания. Нам до этого еще далеко. История не отпустила нам времени на то, чтобы разбираться, кто не способен работать хорошо, а кто способен вредить сознательно, — продолжал Сталин тихим, но твердым голосом. — Сознательно или бессознательно, а вред от их так называемой работы слишком велик, чтобы мы и дальше могли терпеть такое ненормальное положение. По существу, мы уже начали Большую чистку, товарищ Вышинский. Нам надо провести лишь несколько громких процессов над теми, кто занимает большие должности, кто у всех на слуху. И здесь вы должны показать свои способности к анализу нетерпимого положения и решительным выводам из этого анализа. Пора судить по революционным законам не только капитанов буксиров, но и тех, кто им покровительствует… Судить как вредителей, предателей, врагов революции и народа. Судить как шпионов, пособников Троцкого, фашистских приспешников. Совершенно неважно, в каком качестве окажется бюрократ и бездельник на скамье подсудимых. Никакого компромисса. Никаких поблажек! Вот что нам нужно. Вот что нужно нашему народу, который в значительной степени стал работать на бюрократию, а не на социализм. — Помолчал, произнес жестким голосом: — Я жду от вас ответа, товарищ Вышинский.
Вышинский снял очки, протер их тонкой замшей, водрузил на нос, посмотрел на Сталина, разжал плотно сжатые узкие губы.
— Я согласен, товарищ Сталин.
— Другого ответа я от вас и не ожидал, — удовлетворенно кивнул головой Сталин.
Глава 6
За окном колобродила январская метель. Серые космы снега сновали по крышам домов, взлетали вверх, вытягивались в струну, опадали и, запутавшись в кронах лип и тополей, ссыпались вниз шуршащей крупой. Здесь ветер подхватывал снежную крупу, закручивал в штопор, швырял в окна, в спины и лица прохожих, гнал в подворотни и переулки, чтобы уложить там наконец в тугие сугробы. Казалось, будто кто-то живой, лишенный тепла и солнца, пытается обратить на себя внимание людей, ища у них сострадания и помощи. Но люди, закрываясь от метели руками и поднятыми воротниками, спешили укрыться в подъездах, в продрогших трамваях и троллейбусах, им дела не было до космических бурь и страданий, каждый из этих бегущих по улице людей жил своей жизнью, и только она была для него важнее всего.
Николай Иванович Бухарин, главный редактор газеты «Известия», оторвал взгляд от окна, в задумчивости подергал свою некогда рыжеватую, а ныне грязно-серую бородку.
«Метель революции». Сравнение было не из лучших, но вполне созвучно состоянию души Николая Ивановича. Он и сам сегодня утром шел в редакцию, закрываясь от ветра и снега бобровым воротником пальто, но в те минуты метель была просто метелью. Зато со стороны… Сегодня большинство людей так же закрывается воротником от ветров революции, как от нынешней метели. Эти ветры уже никуда их не зовут, не тревожат их души, не зажигают в глазах священного огня. Остались лишь привычные слова, лишенные изначального содержания. При этом главным выразителем этих настроений является ни кто-нибудь, а сам Сталин, человек, стоящий во главе партии, самой революционной по своей сути. Но Николай Бухарин не закрывается, он всегда готов подставить свою грудь революционной метели, и не только в фигуральном, но и в самом прямом смысле слова. Да что от этого толку, если готовность эта никому не нужна!
Природа всегда вызывала в Николае Ивановиче несуразные чувства, ничего общего не имеющие с материализмом.
«Все-таки в каждом из нас еще сидит дикий человек, поклоняющийся камню или дереву и пытающийся найти в них нечто, созвучное человеческой натуре, — подумал Николай Иванович и потянулся за папиросами. — А там уж и до бога недалеко», — но подумал об этом без былого протеста и возмущения, как о чем-то фатально неизбежном.
Закурив, принялся перечитывать только что написанную передовицу, в которой давался обзор промышленного строительства за прошлый, 1934 год.
Строительство, его темпы и объемы, даже на взгляд скептика были впечатляющими. Конечно, не без срывов по тем или иным причинам, по тем или иным пунктам, так ведь в новом деле без срывов не обойтись. С прошлого лета стало подтягиваться и сельское хозяйство. Несмотря на колоссальный отток сельских жителей в города, количество произведенной продукции увеличилось весьма существенно даже по сравнению с более-менее благополучным двадцать восьмым годом, следовательно, колхозы стали работать, то есть выполнять возложенную на них историческую миссию. Как не крути, как не цепляйся за частности, а в главном Сталин оказался прав: промышленное строительство и одновременная с ним коллективизация деревни должны были дать и дают-таки свои положительные результаты.
Конечно, Сталин Сталиным, но и ты тоже внес в это гигантское дело немалый вклад. Однако без сталинской настойчивости, упорства и целеустремленности таких успехов добиться вряд ли удалось бы, — это ты, Николай, должен признать. Другое дело, что Сталину это строительство заслонило главную задачу, которую поставила История перед Россией: зажечь пожар Мировой Революции, не дать мировому капиталу ни года, ни часа передышки. Вода по капле камень точит. Если бы на Польшу в двадцатом бросили всю Красную армию, какая была под ружьем, Варшава была бы наша. А там и до Берлина рукой подать. И никакая Антанта Европу бы не спасла, потому что разложение ее шло полным ходом. И Гитлер не смог бы захватить власть в Германии. Но именно в то время Сталин показал свое подлинное лицо, хотя в той суете и взаимных обвинениях это его подлинное лицо не было замечено, зато его сугубое выражение откровенно бьет в глаза сегодня: нежелание фронтально атаковать крепость мирового капитала и приверженность генсека имперскому мышлению.
Именно имперское выражение на его политической физиономии видно всем и каждому, а вот говорить о нем желающих немного. К тому же Сталин весьма успешно маскируется революционной фразой, не подкрепляя ее практическими делами.
Дверь кабинета осторожно отворилась, в нее заглянула секретарь, остановилась на пороге, произнесла:
— Срочное сообщение Информагенства.
— Что там?
— Приговор суда по делу «Московского центра».
Николай Иванович молча протянул над столом руку. Секретарь, смуглая еврейка лет сорока пяти, с резкими чертами лица и короткими черными волосами на косой пробор, подошла к столу, подала бумагу с машинописным текстом.
Николай Иванович принял шуршащий тревогой желтоватый листок, пробежал длинным, не моргающим взглядом по черным строчкам и тут же почувствовал сильное сердцебиение. У него даже в животе сделалось жарко и вспотели ладони. Он отодвинул от себя бумагу, в растерянности пошарил глазами по кабинету, наткнулся на понурую фигуру женщины.
Секретарь все еще стояла напротив, чего-то ждала, в черных глазах ее зрел немой крик. Николай Иванович знал эту женщину давно. Когда-то, в молодости, она отличалась своеобразной красотой, но как-то незаметно с возрастом черты лица ее огрубели, вызывая в нем чувство недоумения и жалости. Муж этой женщины, один из ярых приверженцев Троцкого, умер в сибирской ссылке, теперь брат этой женщины проходит по делу «Московского центра». Еще вчера Николай Иванович при случае старался как-то утешить свою сотрудницу, внушить ей надежду на благополучный исход. Сегодня ее чего-то ждущий от него взгляд вызывал раздражение и желание сказать нечто резкое, даже грубое. Однако он не произнес ни слова, лишь досадливо махнул рукой: иди, мол, не мешай, не до тебя! И она покорно повернулась и вышла.
Николай Иванович дождался, когда за секретарем закроется дверь, выскочил из-за стола, заметался по кабинету, нервно потирая ладони. У него и самого зрел где-то внутри вопль отчаяния и тоски, хотя он не ожидал ничего для подсудимых утешительного, если иметь в виду предъявленные им обвинения, но чтобы такие суровые приговоры…
«Успокойся», — велел он себе, прислушиваясь к неровным толчкам своего сердца. И еще несколько раз, точно заклинание, повторил это же веление, пока еще без мысли, оглушенно и потерянно. Но мысль уже зрела подспудно, вытесняя вопль отчаяния и тоски, мысль спасительная и примиряющая.
Легко поддающийся самовнушению, Бухарин не сразу, но приспособился-таки к тем изменениям в политике партии, которые ей диктовал Сталин. Набив себе шишек на попытках противостояния генсеку, каких не набивал на оппозиции самому Ленину, он сдался и с тем же энтузиазмом и азартом принялся за привычное дело — внушать людям те мысли и идеи, которые необходимо было им внушить. Он частенько даже опережал самого Сталина в рвении своем, настолько увлекался новыми политическими поворотами и бросками, даже не замечая, что в них было слишком много его, Бухарина, собственных мыслей и представлений, и, может быть, именно поэтому повороты и броски Сталина, становились как бы его, Бухарина, собственными, но чувствовал при этом себя актером, который вынужден играть роль, предназначенную ему обстоятельствами.
Что ж, такова практическая политика, которая на каких-то этапах частенько расходится с общепризнанными руководящими идеями. Ни сам Маркс, ни Ленин не избежали этого, когда им приходилось на практике воплощать в жизнь свои теории. А уж ему, Бухарину, как говорится, сам бог велел.
Сердце стало биться ровнее, в голове помаленьку прояснилось. Теперь необходимо как-то объяснить случившееся прежде всего самому себе, убедить и настроить себя определенным образом. Он верил в силу слова, а объяснение и самоубеждение — это ведь тоже слова, выстроенные в определенном порядке и направленные вовнутрь. Вот и сейчас надо выстроить их соответствующим образом. Лишь убедив самого себя, можно браться за убеждение других.
И Николай Иванович, глядя в окно невидящими глазами, приступил к самоубеждению, причем к такому самоубеждению, точно дело шло не о нем самом, а о ком-то другом, кто этому убеждению противился. Этот человек, желчный и несговорчивый, стоял напротив, за стеклом, и ухмылялся в пегую бородку, надменно щуря припухшие глаза.
«Да, приговор суда, конечно… если рассматривать его с точки зрения сугубо мирного времени… — медленно и с усилием разгонял свои мысли до необходимой скорости Николай Иванович. — И, между тем, в этом приговоре должна иметь место своеобразная логика и историческая необходимость. Даже, можно сказать, диалектическая неизбежность. Они, эти логика и необходимость, безусловно существовали изначально, но вышли на поверхность лишь с гибелью Кирова… Ничто не возникает из ничего. Движение осуществляется от причины к следствию, пока само следствие не становится причиной чего-то нового… Борьба жестока, жестокость неизбежно навязывается самой борьбой… Жестокость есть следствие борьбы бескомпромиссной… А что станет следствием самой жестокости, покажет отдаленное будущее».
Мысли, еще пока не слишком стройные, принесли некоторое успокоение, да и оппонент Николая Ивановича, смутно прорисовывающийся в оконном стекле, перестал желчно ухмыляться, внимая его философствованиям. Однако этого было мало: мысли эти не должны оставаться втуне, ибо есть еще тысячи и миллионы людей, которые не обладают способностью к самоуспокоительной философии, которых чувство страха или ненависти толкает к разрушительным действиям. Их еще не растраченную энергию надо направить в нужное русло, а для этого мало философских построений. Более того, философские построения не только бесполезны в подобной ситуации, они сугубо вредны. Людям импульсивного действия нужны соответствующие текущему моменту эмоции, направленные в соответствующее направле… эээ… русло…
Увы, мысли не хотели разгоняться до нужной скорости, как это случалось прежде, текли вяло, через пень-колоду. Им, мыслям, не хватало какого-то импульса, пороха и динамита, чтобы взорваться и нестись вперед… вперед, разбрасывая по сторонам искры, осколки и… э-э… капли крови…
«Ну причем тут осколки и кровь? Речь должна идти, скорее всего, о буре, сметающей со своего пути…»
Николай Иванович потер лицо обеими ладонями, потрепал свои уши и стал смотреть на улицу сквозь смутное свое отражение. За окном все так же бесновалась метель, подгоняя редких прохожих, все так же над крышей дома напротив отчаянно сновали серые космы снега. Но постепенно картина непогоды вызвала воспоминания — и как раз такие, какие были нужны в эти минуты.
Когда-то, почти вот в такой же ненастный день, только не январский, как нынче, а ноябрьский двадцать девятого года, он возвращался с Пленума ЦК, на котором его обвинили во всех смертных грехах, заставили каяться и лишили почти всех постов в партии и государстве. Какое одиночество он испытывал, какое отчаяние, какую несправедливость судьбы! Вспомнил, как толкали его прохожие, вспомнил чей-то свист и злобный окрик, а он ничего не мог поделать в ответ на это новое унижение со стороны презренных российских обломовых, пробуждению которых от вековой спячки он посвятил всю свою жизнь.
Даже сейчас, почти через семь лет, Николай Иванович помнил в мельчайших подробностях, как все это происходило. И попытался вызвать в своей душе те же негодование и ненависть, какие испытывал долгое время спустя…
Тогда бушевала над Москвой непогода… Улицы пронзали потоки воды, бешеные порывы ветра… И Каменев — в домашнем халате, тепло устоявшегося квартирного уюта, ленивый голос довольного собой человека, искусственный зевок, едва прикрытый ладонью… И обвинение в недальновидности и прожектерстве. И нервные свои речи, и страстное желание свое пробить непроницаемое равнодушие собеседника, отчаяние и злоба под конец, а потом… Потом — возвращение в Кремль, встреча со Сталиным в коридоре, его покровительственное похлопывание по плечу, усмешка в рысьих глазах, деланно равнодушный вопрос: «Ну, как, Бухарчик, нэ дагаварылся с таварыш-шем Камэнэвым? Нычэго, ешшо успэешь дагаварыться…»
А через полгода оппозиция предательски напечатала разговор между Бухариным и Каменевым, тайно застенографированный в соседней комнате, представив его как переговоры между ним, Бухариным, и оппозицией, направленные на создание коалиции против ЦК и Сталина.
О-ооо, проклятье! Как он тогда ненавидел и Каменева, и Сталина, и Рыкова — всех-всех-всех! И как он ненавидит их сегодня!
Глава 7
Так что же случилось сегодня? А случилось то, что он, Бухарин, и предсказывал Каменеву — полный и бесповоротный крах: Зиновьеву десять лет тюрьмы, Каменеву — восемь, остальным по пяти. Что ж, заслужили. Так им и надо! Путались под ногами… Ни нашим, ни вашим… Все-таки есть на свете справедливость! Ай да Сталин! Ай да молодец! Вот уж, действительно, Чингисхан так Чингисхан! Можно позавидовать… Недальновидность? Прожектерство? Как бы не так, товарищ Каменев! Согласились бы тогда с моим прожектерством — сидели бы в Кремле, правили бы страной, задавали бы тон во всем мире. А теперь извольте-ка понюхать парашу. Давно не нюхали? Ничего-с, зато есть, что вспомнить, есть, о чем подумать и пожалеть.
Сердце Николая Ивановича забилось вновь короткими и сильными толчками, но это было совсем другое биение — не то, что несколько минут назад. Такое биение сердца упоительнее даже того, что возникает в объятиях любимой женщины. Такому биению сердца вообще нет названия. Такое биение сердца помогает идти в штыковую атаку, на штурм укреплений врага, на… И хотя Николай Иванович никогда не ходил ни в атаку, ни на штурм укреплений врага, он вновь обрел душевную опору, почувствовал прилив сил и вдохновение, будто лично с бою взял очередную крепость. В нетерпении он кинулся к столу, схватил чистый лист бумаги, «вечное перо» и стал торопливо писать, загибая вниз размашистые строчки. Дрожали руки, разбрызгивались чернила, — возбуждение запоздалого торжества не давало сосредоточиться, оно рождало в мозгу разрозненные картины и дикие предположения, никак не вязавшиеся с теми словами, которые принимала бумага.
Николай Иванович с досадой отбросил «вечное перо», вызвал секретаря, велел сесть за машинку, вновь энергично потер лицо ладонями, отгоняя все ненужное, стал диктовать:
— Итак, заголовок. Пишите: «Свершилось!» Далее с красной строки: «Правосудие свершилось!» Н-нет, не так: «Революционное правосудие свершилось!» Снова с красной строки: «Мы все ждали этого мгновения, как ждут люди посреди знойной пустыни глотка чистой родниковой воды. Ждали члены нашей великой ленинской партии большевиков, возглавляющие великие революционные преобразования в бывшей отсталой России… Нет, не так!.. в бывшей мрачной тюрьме народов под названием Россия, ждали преданные душой и телом этой партии рабочие и колхозники, ждала трудовая интеллигенция, ждали доблестные бойцы Красной армии — ждал весь советский народ. И дождался: изменникам и предателям вынесен справедливый приговор истории: руководители… нет: гнусные руководители и беспринципные участники террористического контрреволюционного центра получили достойное наказание… Нет не так!..участники фашиствующего… далее по тексту.»
Стучала пишущая машинка, порхали над клавишами руки женщины, катилась по ее щеке одинокая слеза, но горе этой женщины уже не трогало Николая Ивановича, он давно позабыл о ней, не его это было горе, да и горе ли вообще, когда идет такая ломка старого… нет, такая борьба с людьми, вставшими на путь предательства и измены! Сколько позади жертв, сколько крови и слез, сколько еще будет впереди! Но без этого невозможна ни одна революция. А коли льется кровь, так это означает лишь одно: революция не стоит на месте, революция продолжается, даже если этого не хочет товарищ Сталин. Следовательно, и он, Николай Бухарин, все еще нужен революции, нужен партии, рано ему успокаиваться и размагничиваться.
Весь день Николай Иванович был возбужден и деятелен. Продиктовав передовицу в следующий номер газеты, он собрал совещание редколлегии, поставил перед подчиненными конкретную задачу: выявить и осветить народное мнение по поводу приговора, а сам приговор подать как следствие этого народного мнения.
— Нужны отклики с мест, — говорил Николай Иванович звонким молодым голосом, и глаза его блестели былым фанатичным блеском, который так поразил когда-то американского журналиста Джона Рида, покоящегося ныне у Кремлевской стены. — Нужны решения партийных собраний, собраний трудовых коллективов, комсомольских, профсоюзных, женских… Ну и так далее. Садитесь на телефоны, звоните во все концы, связывайтесь с парторганизациями, требуйте соответствующих резолюций, пошлите людей на заводы и фабрики, в институты, в школы. И обязательно в общества политкаторжан и старых большевиков. От них получите безоговорочную поддержку! Не мне вас учить, как это делать. Чтобы в завтрашнем номере дать развернутую картину народного гнева и осуждения предателей и ренегатов. Не жалейте красок, острых сравнений, метафор, даже гипербол. Газета должна дышать справедливым гневом и ненавистью, она должна заряжать народ на новые свершения в труде. — Оглядел собравшихся лихорадочно сверкающими глазами, подергал бородку, рубанул воздух крепко сжатым кулаком. — Все! За работу!
Дважды в течение дня Николай Иванович пытался дозвониться до Сталина, но всякий раз недремлющий сторожевой пес генсека Поскребышев сообщал равнодушным голосом, что товарищ Сталин все еще не вернулся с дачи. А Николаю Ивановичу так хотелось поздравить Сталина с победой, так хотелось выразить ему свою поддержку и искреннее восхищение его последовательной борьбой с оппозицией. Он бы сказал Сталину: «Коба, я иногда ошибался, но теперь, оглядываясь назад, я воочию вижу, насколько ты предвосхищал историческую неизбежность своих практических шагов в деле… в деле…» Впрочем, это неважно. Главное, чтобы Коба знал: Бухарин с ним, он давно порвал со всякой оппозицией и готов следовать за товарищем Сталиным…
В тот же вечер, передав текущие редакционные дела своему заместителю, Николай Иванович поехал в Промакадемию. Ему мало было выплеснуться в строчки газетной передовицы. Нужны были живые слушатели, он должен видеть их глаза, должен знать их мнение, и если оно, это мнение, не совпадает с его, он должен так же переубедить несогласных и сомневающихся, как это сделал еще утром по отношению к себе самому.
* * *
Аудитория была переполнена, и сердце Николая Ивановича радостно вздрогнуло: люди пришли услышать от него живое слово, они верят ему, и он докажет им, что верят они не зря. Что там Сталин! Он и говорить-то как следует не умеет. Разве что по бумажке. А вот поставь его перед этими людьми — и что? Да ровным счетом ничего: будет выкатывать из-под усов слово за словом, однообразные и сухие, как катышки из-под овечьего хвоста. Тут не спрячешься за трубкой, не станешь вышагивать с многозначительным видом по узкому пространству по-за кафедрой. Здесь живые люди, алчущие живого слова. И конечно, им нужны разъяснения по поводу приговора. Все-таки осудили не каких-то там Сырцова со товарищи, которые в революции были лишь частью революционной массы, а признанных вождей движения, одних из тех немногих, кто стоял во главе. Такие повороты вызывают недоумение. Недоумение требуется рассеять. Тем более что большинство осужденных — евреи, и у многих несознательных граждан могут возникнуть нездоровые ассоциации.
— В истории часто случаются такие коллизии… — говорил Николай Иванович звонким голосом, вцепившись обеими руками в края кафедры, точно боясь, что кипящее в его груди вдохновение оторвет его от пола и унесет в беспредельность, — …такие неожиданные, я бы сказал, коллизии, когда, при ближайшем рассмотрении кажется, что подобные коллизии противоречат общему ходу событий, их диалектической сущности. Но отойдите на несколько шагов в сторону, взгляните на эти события шире — и вы увидите, что они вполне вписываются в историческое русло, определенное гениями всемирного пролетарского движения. Гибель Парижской Коммуны стала возможной лишь потому, что коммунары, написав на своих знаменах новые социальные лозунги, продолжали между тем слепо следовать буржуазной морали с ее мнимо добродетельным отношением к побежденному врагу, морали, которой сама буржуазия никогда не следовала, прикрывая ею свои грязные делишки. Наша партия отбросила эти так называемые добродетели, признав за основу всякого практического действия революционную целесообразность. Сегодня эта целесообразность диктует нам непримиримое отношение к идейным врагам, потому что их действия, а более всего их помыслы, смыкаются с действиями и помыслами мирового капитала и их верных слуг — фашистов. Хотели мы того или нет, а отношение к нашим идейным врагам, изменившим нашей конечной цели на мировую революцию и построение социалистического общества во всемирном масштабе, может быть отношением двух полярно противоположных исторических сил — коммунизма и фашизма, коммунизма и национал-социализма, коммунизма и троцкизма. Другого нам не дано! Другого попросту быть не может! Иначе нас постигнет участь парижских коммунаров.
Слушатели академии хлопали долго, с восторгом, кричали что-то, что трудно было расслышать в этом гвалте, но что хорошо понимается и воспринимается каждой частицей напряженного тела как безусловное одобрение и понимание.
«Завтра, если уже не сегодня же, Сталину в подробностях доложат о моем выступлении, — думал Николай Иванович, вбирая в себя, впитывая, как впитывает живительную влагу полузасохший цветок, эти аплодисменты и крики зала. — Сталин безусловно должен остаться доволен моим выступлением. Не может быть, чтобы после такой поддержки с моей стороны он не вернул меня в Политбюро… Хотя бы, на первых порах, кандидатом…»
Уже дома, лежа в постели и слушая тихое дыхание своей юной жены, Николай Иванович вдруг представил себе Каменева в тюрьме — не в царской, не в буржуазной, а в советской, — и ему стало как-то нехорошо. Что может чувствовать товарищ Каменев, некогда замещавший Ленина во времена его болезни, — что может он чувствовать, сидя в одиночной камере на жестких нарах?… Говорят, в тюрьме плохо кормят, в камерах холодно, крысы, вши… И Зиновьев, и еще много людей, которых Николай Иванович хорошо знал, с кем работал в советском правительстве, в ЦК, с кем вместе боролся за установление советской власти… Хорошие же люди и преданные коммунистической идее большевики! И вот… «Боже, минуй меня чаша сия!» — вдруг ни с того ни с сего взмолился Николай Иванович и понял, что боится, боится до холодного пота, до судорог в животе, до истерики.
Откинул одеяло, сел на кровати, спустив ноги на толстый ковер. Включил торшер. Заворчала недовольно жена.
— Ты спи, спи, прелесть моя, — виновато произнес Николай Иванович и вспомнил, что сегодня не приласкал жену, не выполнил своих супружеских обязанностей, вообще почти не заметил ее присутствия, не слышал ее слов, не чувствовал ее прикосновений. А она молода, для нее любовь — это почти все, для нее постель и это самое… эти самые игры под одеялом — вершина любви и, может быть, счастья. А он… Эдак можно дождаться, что потерпит-потерпит, да и заведет себе любовника… Ах ты, боже ж ты мой!
Николай Иванович сверху попытался заглянуть в лицо жены, лежащей к нему спиной, но лицо оставалось в тени, и он ничего не разглядел. Может, она и не спит вовсе. Может, думает о чем-то своем, переживает. А он… Ах ты, бож-же ж ты мой!
Встал, поддернул пижамные штаны, сунул ноги в тапочки, пошлепал на кухню. Там, прикрыв за собой дверь, уселся за стол, закурил. Во рту было горько, в голове — пусто.
Заглянула домработница, чья комнатенка примыкала к кухне. Зевнула, прикрывая рот ладонью. Спросила сонным голосом:
— Может, чаю, Николай Иваныч?
— Чаю? Нет-нет, спасибо! Не беспокойтесь. Я вот только покурю… Идите спать.
Сидел, курил, слушая, как громко вздыхает за стеной одинокая женщина, как скрипит кровать под ее телом… Недавно в этой квартире жил Сталин со своей женой. Жена застрелилась. Сталин перешел в другую квартиру… Завтра ему доложат, что Бухарин плохо спал, нервничал. Сталин может решить, что у Бухарина не чиста совесть…
Николай Иванович чертыхнулся, пошлепал в кабинет. Присутствие за стеной женщины, которая наверняка прислушивается к тому, что делается в квартире, а завтра свои наблюдения изложит на бумаге, мешало, раздражало, вызывало беспричинный гнев, будто не только эта женщина, но и все люди видели, как он растерян и как он боится.
А тут еще эти чертовы политкаторжане: не захотели поддержать решение суда, отделались пустыми фразами о возможности пересмотра дела по апелляции… Старые кретины!
Завтра выйдет газета, Сталин прочитает, а общества каторжан, как организации, там нет, старых большевиков — тоже. Лишь частные мнения отдельных представителей. Даже если Сталин и не заметит, ему подскажут, ткнут носом: Бухарин, мол, стоит на позициях этих самых старых дураков, он ничему не научился, ничего не усвоил из своих ошибок и промахов, на словах он — одно, на деле — другое. И Сталин…
Николай Иванович даже застонал от бессилия своего и страха. Но тут же спохватился, стал названивать в редакцию, связался с выпускающим редактором, велел ему вставить в текст строку: «общества старых большевиков и политкаторжан единодушно поддерживают…» Ну, и так далее. Для них же, идиотов, лучше.
Только после этого успокоился, вернулся в спальню и осторожно пристроился под теплым боком жены, обнял ее рукой, нащупал в прорези рубашки мягкую грудь. Жена делала вид, что спит, но он знал, что она уже проснулась, ждет его ласки, более решительных действий. И он, осторожно повернув ее на спину, стал задирать рубашку, учащенно дышать, изображая вспыхнувшую страсть, в то время как в голове его не прекращали метаться обрывки тревожных мыслей.
Наконец жена раскрылась навстречу Николаю Ивановичу, и он, навалившись на нее всем своим телом, забылся всего на несколько коротких минут.
Глава 8
В небольшом старинном доме на улице Кирова, в уютном кабинете с камином, в котором с шипением и треском горели сырые березовые поленья, за круглым столом сидели четверо: председатель общества старых большевиков Оскар Минкин, секретарь Иван Синегубов, старейший большевик и политкаторжанин, проведший на царских каторгах более десяти лет, восьмидесятишестилетний Афанасий Коротеев и председатель общества политкаторжан Григорий Абельман. Все были подавлены только что прочитанной передовицей в газете «Известия», а более всего заметкой, в которой утверждалось, что оба общества единогласно и единодушно поддерживают приговор Зиновьеву-Каменеву и их товарищам. Это сообщение было неслыханной ложью, против которой они не знали, что предпринять.
Всего лишь вчера в этом же кабинете сидел корреспондент «Известий» Борька Шульман и уговаривал подписать заявление, в котором осуждалась преступная шайка Зиновьева-Каменева. Сидел, пил чай с баранками, травил анекдоты, заходил то с одного бока, то с другого, но председатели обществ стояли на своем: нет и нет. Кто хочет, пусть подписывает, но исключительно в частном порядке, для подписи же от имени самих обществ у них нет полномочий, а чтобы получить такую подпись, надо собирать правление, затем собрание, на что уйдет несколько дней — и это только по Москве, а чтобы по СССР, так и думать нечего.
Борька Шульман несколько раз звонил в газету, спрашивал, что делать, ему отвечали: «Настаивать!», он настаивал и даже грозился, что это упрямство может плохо кончиться для самих же упрямцев, но ответственные товарищи только хмурились и твердили одно и то же: «Не можем, потому что не имеем права».
Борька плюнул и ушел. Не в прямом, разумеется, смысле плюнул, а в переносном, то есть в душу плюнул, сукин сын: мол, ну и сидите тут трухлявыми пеньками, отставшими от насущных велений быстротекущего революционного времени, и дождетесь, что вас выкорчуют, чтобы расчистить почву для новых всходов. Он, сукин сын, так и сказал: выкорчуют. Это их-то, прошедших огни, воды и медные трубы! Такую вот молодежь вырастили, для которой нет ничего святого, то есть надо понимать так, что Шульман вернулся в редакцию и сказал, что старые большевики и политкаторжане «за!». Все как один.
— Так что, товарищи, мне сегодня идти в школу или не идти? — нарушил гнетущую тишину Коротеев и приставил к уху слуховую трубку.
— Идите, куда хотите, товарищ Коротеев, — вспылил Абельман. — Хоть в школу, хоть в Политбюро.
— Ась?
— Я говорю, — уже кричал Абельман, — что можете идти!
— Мне б провожатого: сам не дойду.
— А вот товарищ Синегубов — он вас проводит.
— Почему я? — возмутился Синегубов и громко шмыгнул носом. — Как чуть что, так товарищ Синегубов. Сами и провожайте, а мне надо… у меня дела.
С этими словами он поднялся, сунул под мышку папку и покинул кабинет.
— Так идти мне или не идти? — снова завел свое Коротеев.
Абельман и Минкин с ненавистью посмотрели на старика, не зная, как от него отвязаться.
В эту минуту в кабинет заглянула старая революционерка Розалия Пинзур. Она всегда именно заглядывала, чуть приоткрыв дверь, просовывала в щель голову в ожидании, что ее то ли пригласят войти, то ли попросят закрыть дверь с той стороны. Уставившись на сидящих в кабинете испуганными глазами, она ожидала решения своей участи на ближайшие несколько часов или разоблачения ее коммунистической неискренности. Но поскольку ее не гнали, не разоблачали и ничего ей не предлагали, она протиснулась в щель, произнесла обычное: «Компривет вам, товарищи!», робко присела на краешек стула, заглядывая в лицо то одного товарища, то другого.
Розалия Марковна в партию большевиков вступила лишь в двадцать первом году, убедившись, что большевики действительно «взяли власть надолго и всерьез», а до этого числилась сперва в «Бунде», потом… потом даже подумать страшно: состояла в рабочем совете, который был образован в черте еврейской оседлости полковником Зубатовым, а когда зубатовщина приказала долго жить, подалась в сионистки, целью которых было создание государства Израиль, населенного исключительно евреями, и на том самом месте в Ханаане, где такое государство существовало задолго до рождества Христова; из сионисток перекочевала в меньшевики, а уж оттуда — в большевики. Нелегкий и весьма запутанный путь к большевикам прошли и многие другие политкаторжане. И даже «старые большевики».
Хотя Розалии Пинзур перевалило за семьдесят и во рту почти не осталось зубов, она во всю молодилась: носила парик, кокетливый берет и вуаль, красила щеки губной помадой, подкладывала под бюстгальтер вату, кокетничала с молодежью, шепелявя от избытка чувств и вихляя костлявым задом. Энергии ей было не занимать, а встречаться со школьниками и студентами она просто обожала. И ей тут же поручили проводить Коротеева в ближайшую школу, где он должен рассказать старшеклассникам о своих мытарствах по царским каторгам, какие жуткие порядки там существовали и как гибли товарищи, «замученные тяжелой неволей».
— В школу я, конечно таки, пойду, но сперва объясните мне, что такое уже происходит? — заговорила Розалия Марковна, удостоверившись, что без нее здесь не обойтись. — Почему уже от моего имени выражают одобрение судилищу над нашими товарищами по партии? Я заявляю решительный протест! — воскликнула она, тряхнув накладными буклями, и даже притопнула ногой, обутой в огромные боты.
— А чего вы уже нам заявляете свой протест? Заявляйте его Бухарину. Это он без всякого с нашей стороны согласия дал в газете одобрение, которое будто бы идет от нашего же имени. К нему, Роза, к нему! — воскликнул Абельман трагическим голосом.
— И заявлю! И в школе так и скажу, что это беспардонная ложь, порочащая имя большевика-ленинца! Моя принципиальная позиция состоит в том, чтобы выйти на улицу и заявить протест. Пусть нас убьют, пусть расстреляют, но какое это счастье погибнуть за свободу и коммунистические убеждения! — воскликнула она со слезой в голосе и даже всхлипнула.
Все смотрели на нее, будто Розалия Пинзур только что свалилась с луны. И подавленно молчали.
— Ась? — подался со своей трубкой к женщине Коротеев.
— Идемте, товарищ Коротеев. Здесь нам делать нечего! — воскликнула она и снова топнула ногой. В глазах ее уже не было страха, в них светилась решительность и партийная твердость.
— И что будем делать? — спросил Минкин у Абельмана, когда за Пинзур и Коротеевым закрылась дверь. — Опровержения они не дадут. Обращаться к Сталину бесполезно. Выходить на улицу — глупо. Может быть, к Мехлису?
— К Мехлису? Ты шутишь? — отмахнулся Абельман. И, понизив голос до шепота: — Если к кому и обращаться, то к… Сам знаешь, к кому. Но пока дойдет до Парижа, время будет упущено.
— Надо не к нему, а к его сыну, — тоже перешел на шепот Минкин. — Впрочем, и это бесполезно. К тому же накличем на себя беду. И на других тоже… Кстати, ты слышал: Сталин собирается закрыть еврейскую секцию в Цека?
— Не может того быть! — воскликнул Абельман. — А что же Каганович?
— А! — презрительно махнул рукой Минкин. — Да он такой же еврей, как и выходец из рабочих! Он поди и не знает, что такое гаечный ключ и с какой стороны хвататься за молоток! — И заключил: — И все там сплошь фальшивые! Все бывшие семинаристы да кадеты! И коммунизм строят тоже фальшивый!
Дверь открылась, стремительно вошла женщина лет сорока, невысокого роста, плоскогрудая, сухая, подвижная, с лихорадочным блеском в черных навыкате глазах — очень похожая на ту, что только что покинула кабинет, но на тридцать лет моложе. Не поздоровавшись, она бросила на стол пачку газет и воскликнула:
— Бухарин-то! А! Ах, негодяй! Ах, Иуда! Продался Сталину за тридцать сребреников! А мы-то считали его настоящим партийцем-ленинцем! Боже, что происходит? Голова идет кругом!
Выпалив все это одним духом, она упала в кресло, и стала резкими движениями расстегивать пуговицы на лисьей шубке. Ее серое лицо при этом кривилось и дергалось. Казалось, она вот-вот расплачется. Покончив с шубкой, достала из кармана кисет и бумагу, принялась крутить «козью ножку».
Мужчины смотрели на нее с мрачным ожиданием. Они слишком хорошо знали Анну Абрамовну Берзинь, эту неистовую женщину, во время гражданской войны комиссарившую в полках и дивизиях Красной армии, о которой поговаривали, что она, случалось, самолично расстреливала белых офицеров, а также паникеров и трусов из своих рядов. Теперь она подвизалась на литературном поприще: пишет воспоминания о гражданской войне, критику на возрождение русской националистической литературы, Есенина обзывает подкулачником, Пушкина — придворным поэтом-юнкером, во всем видит отступление от революционных принципов. В последнее время ее почти не печатают, и она бушует, обивая пороги партийных кабинетов на Старой площади. Просто удивительно, что ее до сих пор не трогают.
— И что вы молчите, словно уже в рот воды набрали? — задала вопрос Анна Берзинь, окутавшись дымом вонючего табака. — Если все будут молчать, то Сталин нас всех отправит вслед за Зиновьевым с Каменевым. Или мы для этого устанавливали советскую власть? И разве вам уже не видно, что в стране насаждается черносотенство и русский шовинизм, что Сталин берет на себя роль Бонапарта — душителя французской революции? Мне лично все это не нравится. Да!
— Нам тоже, — подал голос Абельман. — Но что мы можем поделать? Оппозиции уже практически не существует, Сталин везде заменяет старые кадры на выдвиженцев из… из всяких деклассированных элементов… И даже из буржуазии. Мы уже не нужны ни революции, ни советской власти. Троцкий только вредит нам своими статьями, уверяя, что народ только и ждет момента, чтобы сбросить Сталина и его клику. А народу до нас нет никакого дела. Мы — отработанный шлак. Так надо понимать начавшуюся чистку партийных рядов.
— Ерунда! — Берзинь вскочила на ноги и забегала по кабинету. — В гражданскую войну мы попадали и в более трудные обстоятельства, но выходили из них победителями. Помню, на Южном фронте… Впрочем, вам этого не понять… В любом случае нельзя опускать руки и давать вертеть собой, как заблагорассудится кремлевскому горцу. Лично я не собираюсь сдаваться.
— То в гражданскую… — безнадежно махнул рукой Минкин. — Тогда все было ясно: этих налево, тех направо. И была уверенность, что тебя поддержат, за тобой пойдут. А сегодня… Сегодня все изменилось. Григорий прав: нас считают отработанным шлаком. Вы только подумайте: в Цэка собираются прикрыть еврейскую секцию! — и никто не протестовал, хотя мы, евреи, внесли самый большой вклад в русскую революцию. И молодежь пошла совсем другая, — добавил он, вспомнив Борьку Шульмана. А вслед за ним и своего внука Левку, который вчера восторгался тем, что «этих выродков» упрятали за решетку. — И заключил: — Мы уже не влияем на политику партии — в этом все дело.
— Так если будете вздыхать и протирать здесь штаны, никакого влияния и не окажете! — взорвалась Берзинь. — Надо идти в народ, будировать его сознание, агитировать, пропагандировать! Вот что надо делать в текущий исторический момент, товарищи дорогие! А вы раскисли и сдались на милость победителей. И кому? Джугашвили, сук-киному сыну!
— Мы и будируем, — попробовал защититься Григорий Абельман. — Вот послали в школу Коротеева…
— Ха! — возмутилась Берзинь, и лицо ее покрылось красными пятнами. — Коротеева! Да он давно из ума выжил. Да у него отродясь его не было! Двенадцать лет каторги — и ни одного побега! Законопослушный революционер! Смешно сказать! В то время как наши товарищи… Самим вам надо идти! Самим! И не в школы, а на заводы, фабрики, на шахты и рудники! Да! А не сидеть тут… — Она махнула рукой, схватила свою лисью шубку и выскочила вон из кабинета.
— Пойду я, — сказал Минкин. — А то там этот Синегубов… Мне кажется, что он связан с Лубянкой.
— Сейчас и Лубянка не поймешь, с кем связана, — проворчал Абельман, давний негласный сотрудник ГПУ.
Глава 9
Пинзур и Коротеев пришли в школу к последнему уроку. Стуча палкой по деревянному полу, вытертому ногами до белизны, Коротеев едва поспевал за стремительной Пинзур, от входных дверей решительно направившейся прямо к директорскому кабинету. Директора оба знали давно: он тоже был старым партийцем, но не большевиком, а эсэром; когда же большевики партию эсэров разогнали, остался вне партий и подвизался на поприще просвещения новых поколений. Это в его школе совсем недавно пропагандировались свобода любви и половых отношений, застенчивым мальчикам и девочкам рекомендовался онанизм, как средство восстановления равновесия с природой; это он воспитывал подрастающее поколение в духе отвращения к делам своих предков, потому что дела эти были освящены средневековым невежеством, великодержавным шовинизмом и поголовным рабством; это здесь с особенной яростью нападали на устои семьи и брака; это здесь доказывали, что человек должен быть свободен от всего, что мешает ему нести революцию во все страны мира, в том числе очищение от буржуазной морали.
Но за директорским столом сидела совсем незнакомая им женщина, молодая, коротко остриженная по моде, в черном жакете и белой блузке. Она подняла голову и уставилась на вошедших.
— Вы ко мне? — спросила она.
— Мы к Иосифу Давидовичу, — ответила Пинзур.
— Иосиф Давидович здесь уже не работает, — произнесла женщина извиняющимся тоном. — Теперь я директор школы.
— Вот как! — воскликнула Розалия Марковна. — И куда же подевался Иосиф Давидович?
— Не знаю. Спросите в районо.
— И спросим. А пока скажите нам, в каком классе мы можем провести беседу по текущему политическому моменту? Я бы сказала — безобразному моменту! — воскликнула Пинзур.
— Простите, а вы кто? — спросила женщина, поднимаясь из-за стола.
— Мы представители обществ политкаторжан и старых большевиков. Вот это — старый большевик товарищ Коротеев! Он стоял у истоков образования РСДРП! Он более десяти лет провел в царских тюрьмах и на каторге! Я — тоже революционерка со стажем, зовут меня Розалия Марковна Пинзур. Мы посланы к вам от имени старых большевиков и политкаторжан.
— Мне очень приятно познакомиться с вами, но я ничем не могу вам помочь. То есть, простите, — смутилась директор, — не могу воспользоваться… то есть использовать вас в качестве политинформаторов. Дело в том, что поступила инструкция из районо, чтобы все, кто приходит в школу, имели официальное направление от районо или от райкома партии. Если у вас нет такого направления… И потом, политинформации мы проводим… то есть, проводили сами. Раз в неделю, — пояснила она. — Но с этой четверти политинформации заменены историей СССР и мира… Разве вы об этом не знаете?
Розалия Марковна фыркнула:
— Докатились! Заслуженных революционеров уже не пускают на порог советской школы! И вам не стыдно, товарищ директор?
— Мне не стыдно, — нахмурилась молодая женщина. — Я на работе, а на работе надо выполнять те инструкции, которые спускаются из вышестоящих органов. И лично у меня нет никаких оснований быть недовольной этими инструкциями: они мне кажутся вполне разумными.
— Ась? — направил в ее сторону слуховую трубку Коротеев.
— Я говорю, что…
Но Пинзур взяла Коротеева под руку и прокричала ему в ухо:
— Нам тут делать нечего! Мы им не угодны! Им не нужна революция! Им нужно мещанское счастье! Пойдемте отсюда! Здесь воняет клопами!
И потащила упирающегося и ничего не понявшего Коротеева вон из кабинета.
Директор смотрела им вслед, и на ее круглом милом лице растерянность и недоумение сменились жалостью к этим пожилым людям, почему-то напомнившим ей ходоков из некрасовского стихотворения «У парадного подъезда». В школе, где она до этого работала завучем, тоже бывали представители старых большевиков и политкаторжан, и она не видела ничего зазорного в их посещениях, в их пропаганде революционных идей, хотя это как-то не вязалось с заветами лучших представителей русского учительства, которые ориентировали педагогов на воспитание у своих питомцев восприятие окружающего мира во всей его красоте и полноте; это не вязалось, наконец, с детской психологией, с их еще не окрепшими душами, которые должны тянуться к добру и свету, а не к борьбе, к жестокости и забвению лучших народных традиций, создававшихся в течение веков.
Вздохнув, директор школы подошла к окну, отодвинула занавеску и дождалась, когда странные посетители покажутся во дворе школы. Она смотрела, как женщина размахивает руками и что-то пытается доказать своему тугоухому товарищу, как тот трясет и качает головой, и уши зимней шапки мотаются из стороны в сторону. Потом они вышли на улицу и побрели среди сугробов снега, такие жалкие и такие беспомощные.
И пошли они, солнцем палимы, Повторяя: «Суди его бог». И покуда я видеть их мог…Новый директор школы и сама не очень-то разбиралась в том, что происходит в ее стране на ниве образования. Она не понимала, почему так часто меняются программы и учебники, к тому же многие из них написанные таким суконным языком, что от чтения их сводит скулы. Однако она верила, что все происходящее правильно и имеет прямое отношение к революции и коммунизму. Именно эту точку зрения им настойчиво внушали в университете на курсах повышения квалификации после того, как была принята новая учебная программа, в которой история СССР соединялась логической нитью непримиримой борьбы классов с историей России и всего мира, а преподаватели, стоящие на позициях отрыва одного от другого, были уволены и некоторые даже отданы под суд за троцкистские взгляды и связи с контрреволюцией.
* * *
Двухэтажный дом старинной постройки, некогда принадлежавший купцу второй гильдии, затерялся в переплетении улочек и переулков между Никитской и Поварской, среди дровяных сараев и конюшен. В этом доме держал целый этаж отец одного из членов Цека партии большевиков. Сюда уже по темну собирались члены еврейской секции Цека, взбудораженные решением Политбюро о ее ликвидации. Приходили по одному с интервалом в несколько минут, подняв воротники и надвинув на глаза шляпы и шапки. Одни стучались в дверь парадного подъезда, другие — черного хода. Уж здесь-то точно никто не мог подслушать, о чем они собирались говорить.
Ранний зимний вечер давно перешел в ночь, в зале топилась печь-голландка, трещали в ней березовые поленья. Посреди большого полукруглого стола возвышался огромный двухведерный самовар, шипел пар, пованивало угарным газом, из краника капало в чашку. За столом сидели люди, давно знающие друг друга. Сидели и молчали. Ждали еще двоих: председателя еврейской секции и секретаря. А их все не было и не было. И это вселяло во всех тревогу и неуверенность.
Секцию собирались прикрыть давно, еще при Ленине, и на том основании, что теперь все нации равны, что во времена царизма страдали не только евреи, но и представители других народов, следовательно, деление членов партии следует осуществлять не по национальностям, а по преданности партии, ее идейным установкам, духу марксизма-ленинизма. Но Ленин умер, и окончательное решение как бы повисло в воздухе. Однако раньше или позже вопрос этот должен был возникнуть вновь. И он возник, как только Сталин вошел в силу, избавившись от Троцкого, а за ним от Зиновьева с Каменевым и их сторонников. Все они оказались за порогом большой политики, и еврейская секция перестала оказывать решительное влияние на работу Политбюро и Цека, хотя в процентном отношении евреев там и там меньше не стало. Зато стало больше других евреев, не связанных ни с Троцким, ни с Зиновьевым-Каменевым. Более того, процесс этот, судя по всему, имел тенденцию к развитию, это-то и вселяло тревогу за будущее, ради которого они пошли в революцию, вели борьбу и так далее и тому подобное.
И вот они сидели и молчали. Но не потому, что нечего было сказать. Вовсе нет! А исключительно потому, что никто из них не был уверен, что его слова не станут сегодня же известны на Лубянке со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На стене висели большие часы в резной деревянной коробке с ангелочками, цветочками и прочей дребеденью. За стеклянной дверцей мотался из стороны в сторону маятник в виде коня тяни-толкая о двух головах, но без единого хвоста. Время от времени раздавалось странное жужжание, затем звучал мелодичный перезвон, а вслед за этим колокол отбивал либо одним ударом каждые тридцать минут, либо соответствующим количеством каждый час.
Они сидели и смотрели в стол, думая о своем. Кто-то вертел на холщевой скатерти чайную чашку или блюдце, кто-то с деланным интересом разглядывал чайную ложку с замысловатой чеканкой. Самовар продолжал скулить, пищать и свистеть, но с каждой минутой все тише и тише. И людьми одолевало ощущение, что они ждут чего-то такого, чего нет и не может быть уже никогда. И тогда один из них, лет эдак пятидесяти, с черной в проседи бородкой, с гладкой лысиной чуть ли ни до самого затылка, откинулся на спинку стула, оглядел собравшихся насмешливыми глазами и спросил:
— Так какого черта мы ждем, дорогие товарищи? И зачем вообще нас сюда собрали? Мы что — желаем что-то изменить в череде закономерных, так сказать, событий? Если кто-то имеет такое желание, так пусть объяснит нам, в чем его суть. Лично у меня возникает убеждение, что мы собрались сюда на похороны и ждем, когда появится покойник. Что касается лично меня, то я ждать не хочу. Хотя бы потому, что покойники имеют дурную привычку увлекать за собою живых. Те, кого мы ждем, здесь уже не появятся. Они лучше нас понимают, что время неумолимо движется в одном направлении. И всякое даже предположение, что оно может хотя бы на миг остановиться, глупо само по себе. Посему я предлагаю разойтись и двигаться дальше вместе со всеми. А там, как говорится, что бог даст.
И человек этот поднялся и направился в прихожую. Было слышно, как он кряхтит и топает, пытаясь втиснуть ботинки в галоши, затем хлопнула дверь в коридор, еще одна на первом этаже. И все стихло. Но больше никто не шелохнулся.
Тогда вскочил самый молодой из них и заговорил, брызжа слюной от возбуждения:
— Лично я целиком и полностью поддерживаю товарища Сталина в этом вопросе! Да! Потому что времена, когда мы, согласно легенде, считали себя избранным народом, эти времена давно миновали! Да! Мы такие же, как и все. Да! И не смотрите на меня так! Многие настоящие партийцы полагают, что пора присоединиться к ассимиляции. В том смысле, что поставить этот процесс на практическую почву. Исходя из этого, заявляю со всей решительностью, что ждать никого не буду, у меня хватит ума и истинной партийной принципиальности твердо стоять на коммунистической позиции, а не плестись в плену у библейских сказок, которые были рождены невежеством наших предков.
Молодой человек, махнув рукой, тоже кинулся в прихожую, споткнулся о половичок, но удержался и скрылся за дверью.
И все сразу же засуетились и тоже устремились вон из комнаты.
— Товарищи! Товарищи! — взывал к ним хозяин квартиры. — Ради бога — не все сразу! И так соседи могут подумать бог знает что…
Однако товарищи никак не реагировали на призывы хозяина, торопливо натягивали на себя шубы и пальто на ватине, всовывали ботинки в галоши, топали, сопели и кидались вниз по лестнице, будто, промедли они хотя бы минуту, за ними непременно кто-то погонится. Иные так даже перекладывали револьвер из внутреннего кармана в наружный: время позднее, район весьма неблагополучный в смысле уголовной преступности, так что револьвер может оказаться весьма к стати.
Глава 10
Весь минувший 1934 год Никита Сергеевич Хрущев не знал ни минуты покоя: Каганович так загрузил его работой, что не продохнешь. Иногда Никите Сергеевичу кажется, будто Лазарь Моисеевич жалеет, что слишком близко приблизил к себе Хрущева, что он специально нагружает его, чтобы Никита сорвался на чем-нибудь, и тогда можно будет задвинуть его куда-нибудь подальше — хотя бы и в ту же Юзовку, то есть теперь Сталино. Да и то сказать: что ни заседание горкома-обкома, так непременно доклад Хрущева то о строительстве метро, то канала «Москва-Волга», то о выполнении плана по строительству жилья, то по машиностроению, то по обеспечению Москвы продовольствием, или, например, исключительно луком, без которого, впрочем, ни борща не сваришь, ни даже щей, не говоря о котлетах и прочих деликатесах… то еще по каким-нибудь даже и пустяковым вопросам, не имеющим никакого отношения к промышленности и строительству. Газету почитать некогда, не говоря о художественной литературе. Поднимать свой идейно-теоретический уровень — даже на это не остается ни минуты свободного времени. О событиях, совершающихся в стране, о которых говорят на каждом углу, первый секретарь горкома узнает по радио, от жены да если в машине глазами пробежит скорехонько по страницам «Правды». А события наиважнейшие, имеют к нему, Хрущеву, самое непосредственное отношение, и надо как-то реагировать, чтобы не проспать, не навлечь на себя подозрение в благодушии, беспринципности, а пуще всего в отсутствии бдительности.
Носится Никита Сергеевич с одной стройки на другую, с одного завода на другой, разбираясь в упущениях, недостатках, невыполнениях, отставаниях и даже конфликтах между отдельными предприятиями, создавая комиссии, заслушивая отчеты, принимая решения, а в голову иногда нет-нет, да и закрадется мысль: а вдруг все эти упущения и конфликты кем-то подстраиваются, чтобы опорочить его, Никиту Хрущева, а он в это время погряз в обыденности, можно сказать, в мелочевке, не видя самого главного? И вот это главное вдруг проявится с самой неожиданной стороны, а он о нем ни слухом, что называется, ни духом. И опять зудом охватит тело с ног до головы, и подумает он с тоской, что надо бы показаться врачам, но не дай бог узнают про его недуг, пойдут разговоры, и… и неизвестно, чем все это обернется. Лучше уж терпеть и чесаться, когда никто не видит, чем стать мишенью для злых пересудов.
На работу Хрущев выезжает рано утром, иногда так рано, что Москва еще досматривает сны, а по улицам ездят лишь первые трамваи да поливальные машины. При этом возвращается домой за полночь и, едва коснувшись головой подушки, тут же проваливается в сон. А во сне все то же самое: стройки, дороги, комиссии, люди. Осунулся, вокруг глаз круги, жена только вздыхает, да и то украдкой.
Но в конце прошлого года Сталин неожиданно вызвал его в Кремль, а там директора московских заводов и фабрик, конструктора самолетов, пушек, машин, еще чего-то, а от них все те же жалобы: того нет, этого не дают, там волокита, здесь что-нибудь затирают, и получается, что первый секретарь Московского городского комитета партии и второй областного один только и виноват во всех их бедах. Правда, Сталин — спасибо ему! — Никиту Сергеевича в обиду не дал, хотя и пожурил принародно. Уж и натерпелся страху Никита Сергеевич, да такого, что чуть не слег на почве нервного расстройства. Однако все обошлось. Более того, Сталин сам стал названивать ему, иногда среди ночи, советоваться, как лучше и быстрее сделать то-то и то-то. Спросит, пожелает спокойной ночи, а какая там спокойная ночь, когда в голове этот короткий разговор прокручивается снова и снова, и кажется Хрущеву, что надо было сказать совсем не то, что сказал, да теперь попробуй верни сказанное — не вернешь.
Дальше — больше. Сталин чуть ли ни каждую неделю стал вызывать Хрущева «на ковер», но не ругать, нет, а сталкивать со всякими ответственными жалобщиками лоб в лоб и смотреть, что из этого выходит. В итоге, как правило, жалобщикам попеняет с отеческой усмешкой в табачных глазах: не все, мол, сразу, имейте, мол, терпение, секретарь горкома хотя и отвечает в городе Москве за все и за всех, однако он не бог Саваоф, из глины ни то что инженеров не способен слепить, но и те же помещения для институтов или лабораторий, жилье и прочее, которые вы просите. И всякий раз Никита Сергеевич возвращается из Кремля окрыленный, понимая, что если не все, то главное он делает правильно, иначе бы Сталин не вызывал его снова и снова, и с должности своей товарища Хрущева сковырнул бы одним лишь щелчком. И даже не щелчком, а хмурым взглядом. Потому-то на портрет Сталина, висящий в своем рабочем кабинете, Никита Сергеевич смотрит с умилением, чуть ли не молится.
Так уж вышло, что с некоторых пор Хрущев все чаще замещает Кагановича, ведет заседания горкома-обкома и делает все, что положено делать первому секретарю. И восторг иногда охватывает его душу: неспроста все это, что-то грядет в его судьбе — что-то огромное, неохватное глазом, как само небо. Вот и на семнадцатом съезде ВКП(б) именно ему, Хрущеву, поручил Лазарь Моисеевич делать доклад по Москве и области, и все члены горкома-обкома, готовя доклад, сидели и писали, каждый по своим направлениям работы, о достижениях и проблемах, их писанина стекалась в кабинет Хрущева, а там он со своими помощниками все это сортировал и укладывал соответствующим образом. При этом Каганович только отмахивался, если Никита к нему обращался по какому-нибудь вопросу.
Доклад на съезде прошел на ура, и не только потому, что хлопали и кричали ура, когда Хрущев поминал товарища Сталина, а более всего потому, что сам Сталин благожелательно щурил свои глаза и тоже хлопал, но лишь тогда, когда Хрущев говорил о достижениях рабочего класса и технической интеллигенции Москвы в деле индустриализации и перевыполнения пятилетнего плана.
Но случился однажды и явный прокол со стороны Никиты Сергеевича, и все на волне растущего о себе высокого мнения, и как раз во время отчета перед Политбюро о введении продуктовых карточек. Тут Никита Сергеевич точно знал, что сделал доброе дело и поэтому изловчился выставить работу горкома партии как нечто из ряда вон и пример для подражания во всесоюзном масштабе. И вдруг, как раз на середине фразы: «Горком партии провел грандиозную работу по внедрению новых продуктовых карточек, что положительно сказалось на удовлетворении москвичей продуктами первой необходимости, в результате чего укрепился политический уровень активности…» — вдруг услыхал за своей спиной перхающий смех Сталина, сбился, покрывшись красными пятнами, понял, что несколько перебрал, хотел было сгладить впечатление, но Сталин не дал, придвинул к себе микрофон и заговорил своим сиповатым голосом:
— Слов нет, московский горком неплохо справляется со своими обязанностями. Да, секретарям некоторых республик и обкомов есть чему поучиться у москвичей. Но чтобы так возноситься по этому поводу, позволительно разве что самому господу богу…
И зал взорвался гомерическим смехом. А Никите Сергеевичу захотелось превратиться в букашку, в какого-нибудь комара, и, как в сказке Пушкина, вылететь в окно и забиться в какую-нибудь щель.
Но смех затих сам по себе, а Сталин продолжил:
— Конечно, это смешно, но мы должны простить москвичам и товарищу Хрущеву столь высокое мнение о самих себе. Тем более что подготовительную работу, направленную на отмену карточек по всей стране они проделали основательную.
И Сталин сам стал хлопать в ладоши и широко улыбаться. И зал бурно поддержал его. А Никита Сергеевич смог перевести дух, тоже улыбнуться и тоже захлопать в ладоши, как бы говоря, что он со словами товарища Сталина полностью согласен
С тех пор во всех своих последующих выступлениях Никита Сергеевич старается избегать даже тени бахвальства, основной упор делает на нерешенные проблемы и стоящие задачи по превращению Москвы в город-сад, в развитой промышленный и культурный центр не только СССР, но и всего мира. И если в чем и допускает некоторую победительную тональность, так это в отчете о борьбе с правым и левым уклоном в партийных рядах городской и областной организации, при этом не забывая отдать должное товарищу Кагановичу, его неусыпному руководству, а больше всего — товарищу Сталину, каждое мудрое слово которого вдохновляет коммунистов и весь советский народ на новые свершения по построению социалистического общества.
Глава 11
Вот уж и весна незаметно растопила снега, обнажив выбоины и колдобины на московских улицах, а с нею пришли и новые заботы. Никита Сергеевич давно носится с идеей создания вокруг Москвы совхозов по производству мяса, молока и всяких овощей, чтобы все было под рукой, чтобы не везти в столицу большинство продуктов из-за три-девяти земель. Кое-что в этом направлении уже сделано и делается, но пока еще медленно, без должного размаха. А скорость и размах придут лишь тогда, когда идея эта получит одобрение ЦК и лично товарища Сталина, когда на ее реализацию будут выделены деньги, как выделены деньги на реконструкцию Москвы по генеральному плану, в создание которого Хрущев внес свою весомую лепту. Но с одной идеей идти к Сталину не имеет смысла: Сталин тут же потребует доказать, что идея может быстро и без особых затрат реализоваться, показать, как это будет выглядеть практически и тому подобное. К Сталину нужно идти с конкретным планом, потому что рассуждений: как было бы хорошо, если было бы хорошо, он не потерпит и очень даже может выставить за дверь. И хотя Никиту Сергеевича он еще не выставлял, однако других — случалось, и не раз, и даже на глазах того же Никиты Сергеевича. А главное, такой человек как бы терял для Сталина всякую привлекательность, выпадал из обоймы и скатывался вниз. Иногда на самое дно.
С утра Никита Сергеевич первым делом узнал, на месте ли сегодня Каганович, не в Кремле ли он или на Старой площади, потому что «на месте» он может быть и там, и сям. Оказалось, что на месте, то есть в обкоме, и Хрущев тут же созвонился с ним, хотя их кабинеты почти что рядом, и попросил о встрече. И Каганович разрешил.
Лазарь Моисеевич встретил Никиту Сергеевича без обычного радушия. Он молча кивнул головой на приветствие своего зама, продолжая что-то писать на листе бумаги, время от времени поднимая голову и поглядывая в потолок.
— Так я… того… может, потом зайду? — приподнялся Хрущев на стуле, внимательно следя за каждым движением хозяина Москвы.
— Сиди! Я сейчас, — пробормотал Каганович и через пару минут, бросив на стол карандаш, произнес в сердцах: — Черт знает что! Просто беда с кадрами! Поставишь человека на какое-то дело, а он не только не двигает его вперед, а, напротив, загоняет в тупик, хотя вроде и старается, носом землю роет, не спит, всех гоняет, а толку никакого — один вред! Прямо беда с этими кадрами, — повторил Лазарь Моисеевич и полез в стол за папиросами. Закурив, посетовал: — За всеми надо следить, всех надо контролировать, иначе черт знает что получится, если не доглядишь. — И спросил: — У тебя-то как с этим вопросом?
— Да так же, Лазарь Моисеич. Точно так же, — ответил Никита Сергеевич и вздохнул.
— Вот то-то и оно. И это в Москве. А что творится за ее пределами, узнаёшь далеко не сразу, и то лишь тогда, когда жареный петух в задницу клюнет. И сам черт не разберет: то ли вредитель, то ли дурак, — добавил он, имея в виду, судя по всему, кого-то конкретно и что-то конкретное, что совершилось где-то за пределами Москвы и области… иначе бы Никита Сергеевич знал. Затем спросил: — Слыхал, какую катастрофу устроили нам на железной дороге в Сибири тамошние горе-руководители?
— Нет, еще не слыхал.
— Три состава с ценнейшими грузами, паровозы, вагоны!.. Я уж не говорю о людях… Да-а… И вот товарищ Сталин хочет, чтобы я со всем этим разобрался. В том смысле, чтобы возглавил наркомат путей сообщения. Делай из этого выводы.
У Никиты Сергеевича аж дух захватило: вот оно, вот! И душа запела тоненьким голоском, в животе похолодело от страха, и даже в голове возникло некое кружение, и… и вообще захотелось вскочить и куда-то бежать. Но Хрущев продолжал сидеть, сжимая папку и преданно взирая на своего благодетеля.
— И… и какие же выводы? — осмелился он спросить, переведя дух.
— Не придуряйся, Микита, — обрубил Каганович. — Сам знаешь, какие: займешь мое место. Считай, что этот вопрос уже решен. Остались формальности. Лично я никого во главе Москвы, кроме тебя, не вижу. Хотя за тобой тоже присматривать надо, но значительно меньше, чем за другими. Ошибки у всех случаются. Все дело в том, какие ошибки и как быстро они исправляются. У тебя с этими вопросами более-менее нормально. Я за тебя спокоен.
Никита Сергеевич благодарно кашлянул, поднялся, спросил, слегка изгибаясь над просторным столом:
— Так я пойду?
— Иди. Поздравлять тебя, считаю, еще рано, но пожелать тебе ни пуха не пера — это я с удовольствием.
Никита Сергеевич к черту могущественного Лазаря посылать не решился и уже открыл дверь, когда тот, прищурив глаза, спросил:
— А приходил-то ты зачем?
— А-а! Да так, пустяки, Лазарь Моисеич! Не буду вас отрывать… Сам разберусь.
— Ну-ну, — только и пробормотал Каганович, глядя на дверь, за которой скрылся его приемник.
Кагановичу не впервой заниматься всякими делами, не имеющими отношения к сугубо партийной работе. В тридцать третьем он возглавлял в ЦК сектор сельского хозяйства — второй этап коллективизации и борьба с последствиями голода проходили под его неусыпным руководством. А еще на нем висели партийные и всякие другие кадры, а теперь, после XVII-го съезда партии, Сталин повесил еще и председательство в Комитете партийного контроля, подсунув ему в заместители коротышку Ежова. И вот ко всему прочему — плюс наркомат путей сообщения. Зато Москва теперь — в минусе. И Комитет партконтроля тоже, скорее всего, пойдет в минус, превратившись в вотчину Ежова. А все потому, надо думать, что Сталину приглянулись и Ежов и Хрущев: оба энергичные, инициативные, в меру знающие, умеющие работать с людьми. Что ж, пусть будут Хрущев и Ежов. Если же иметь в виду, что Сталин не любит, когда кто-то слишком засиживается в одном руководящем кресле, то все идет нормально и никаких поводов для беспокойства нет. Но все равно — обидно. Хотя наркомат путей сообщения — это, считай, вся страна и кое-что рядом, что это тебе не легкая промышленность или что-то еще второстепенное. Но Москва… Впрочем, как бы там ни было, а в Москве отныне имеется метро имени товарища Кагановича — памятник самому себе на годы и годы.
И Лазарь Моисеевич, смяв папиросу в пепельнице, стал набирать номер наркома путей сообщения. Теперь уже бывшего.
* * *
Наконец произошло то, что уже с год почти висело в воздухе, заставляя Хрущева вертеться так, как не вертится белка в своем колесе: в марте его избрали первым секретарем Московского областного и городского комитетов ВКП(б) — вместо Кагановича. То ли Лазарь Моисеевич не справлялся со своими многочисленными должностями, то ли, действительно, дела в наркомате путей сообщения пошли из рук вон плохо и возникла необходимость в срочной замене. Однако Каганович как стоял в партийной иерархии сразу же за плечом товарища Сталина, так и остался стоять, то есть оставался все тем же Великим Лазарем.
Но бог с ним, с Кагановичем. В конце концов, не век держаться за подол его френча, пора и свою дорогу прокладывать. Так ведь уже, можно сказать, и проложил, налету подхватывая идеи вождя и претворяя их в жизнь. Заикнулся, например, однажды товарищ Сталин о том, что не худо бы как-то компенсировать нехватку говядины и свинины на столах рабочего класса, скажем, кроликами, которые плодятся быстрее, чем свиньи, — и Хрущев тут же эту идею подхватил и развил бурную деятельность в указанном направлении, так что кроликов стали разводить даже в научно-исследовательских институтах чуть ли ни рядом с кульманами. А еще кур да уток, а еще шампиньоны, в которых белка и прочих полезных для трудящегося организма веществ не меньше, чем в мясе. Теперь в магазинах кроличьи тушки висят и лежат в огромных количествах, бери — не хочу, а грибницы с шампиньонами занимают все подвалы, какие и где только ни находят, почему острословы и прозвали их «египетскими гробницами». Беда в том, что иные директора заводов и фабрик с некоторых пор не столько занимаются непосредственным производством, сколько все теми же кроликами и шампиньонами, будто это и есть их главная обязанность, так что приходится окорачивать не в меру ретивых, ибо давно известно: заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет. А тут вроде бы и не дураки, и вроде бы выполняют последние распоряжения партийной организации, а поди знай, по глупости отрывают рабочих и инженеров от прямых обязанностей, или с преступным умыслом? Мол, вы хотели столько-то кроликов на одного работающего, вот вам кролики, а об остальном не спрашивайте. Значит, прав Каганович: следи за всеми, вникай в каждую мелочь, чтобы не подкузьмили, не поставили первого секретаря обкома-горкома перед товарищем Сталиным в глупое и даже глупейшее положение.
Глава 12
В майское, тихое и солнечное утро Никита Сергеевич ехал на строительство канала Москва-Волга в город Дмитров. На подъезде к поселку Яхрома что-то стряслось с мотором его «форда», на котором еще недавно ездил Каганович. До Яхромы Хрущев добрался в машине охраны, можно было в ней ехать и дальше, но Никита Сергеевич передумал, как всегда неожиданно не только для сопровождающих его лиц, но и для себя самого. Он вдруг решил, что раз уж так вышло, значит сам бог велел ему прокатиться на том транспорте, которым пользуется простой советский человек, и извлечь из этого случайного происшествия пользу как для самого себя, так и для дела.
Никита Сергеевич велел купить четыре билета на электричку до Дмитрова: на себя, своего помощника и двоих охранников, остальным велел отремонтировать машину, ехать следом и искать его на канале. От этого своего решения настроение Никиты Сергеевича поднялось еще выше, а ведь еще минуту назад ему казалось, что выше некуда. Оказывается, есть куда, хотя пересадка на электричку — это такая малость, что и сравнить не с чем. Однако малость малостью, а тоже имеет свое непосредственное влияние в добавление к тому, что можно с полным правом назвать основанием и даже фундаментом.
Что касается отличного настроения, то его фундамент сложился после недавнего торжественного заседания московского партийного, советского и прочая активов по случаю пуска метрополитена имени товарища Кагановича. На этом торжественном заседании Хрущев сидел в президиуме рядом с товарищами Сталиным и Кагановичем, не считая других известных деятелей партии и советского государства. Выступал товарищ Сталин, хвалил метростроевцев за самоотверженный труд, московскую партийную организацию — за четкое и творческое руководство этим трудом, а бывшего первого секретаря обкома-горкома товарища Кагановича и нынешнего товарища Хрущева — за руководство этой самой партийной организацией. И на этом же торжественном заседании, ему, Хрущеву, был вручен орден Ленина. А также Кагановичу. То есть сперва Кагановичу, а потом Хрущеву, но это не столь уж и важно, кому первому, а кому второму. Затем ордена менее важные и просто медали были вручены некоторым другим руководящим товарищам, а более всего простым строителям: проходчикам, рельсоукладчикам, каменщикам, бетонщикам и так далее и тому подобное. Теперь орден красовался на черном пиджаке Никиты Сергеевича как раз напротив сердца, и Никита Сергеевич нет-нет да взглянет искоса на этот орден, и по телу его пройдет теплая волна. Нет, не зря он в свое время повернул оглобли в сторону Сталина, выбрал себе прямую дорогу, не стал, разинув рот, как в прошлые времена, слушать всяких крикунов и провокаторов, троцкистов и прочий антисоветский элемент… Главное теперь — не сбиться в сторону как-нибудь нечаянно и незаметно для самого себя, сдерживать свой характер и выдерживать четкую линию.
Никита Сергеевич шествовал вдоль вагонов, решив наперед, что сядет непременно в третий вагон, потому что цифра три для него всегда была счастливой. Во-первых, он родился третьего апреля по старому стилю; во-вторых, ему еще в пастушестве было предсказано одной странницей, которой он дал кусок хлеба и напиться из своей баклаги, что в тридцать три года, то есть в возрасте Христа, он, Никита, достигнет большой власти над людьми, и власть эта будет возрастать год от года. Но уже и тогда какая-никакая, а власть у него уже имелась. Правда, только над коровами и овцами. Зато в тридцать третьем он обладал властью весьма солидной, а через год — так и подавно. Конечно, цифры и прочая хиромантия — или как это там у попов называется? — есть чистейшей воды предрассудок, но не такой уж и страшный, потому что это лишь его собственный, Никиты Хрущева, предрассудок, никак не отражающийся на его собственной же деятельности. Чего не скажешь о предрассудках простых людей, вносящих разлад в личную и общественную жизнь.
Вот и третий вагон. Никита Сергеевич ухватился руками за поручни, задрал ногу на ступеньку, сзади его подсадили услужливые руки, и он оказался в тамбуре, заплеванном и засыпанном окурками и всяким другим мусором. Никита Сергеевич в сердцах ругнулся про себя, помянув железнодорожное начальство: и платформу не устроили для посадки, и грязь в вагонах, и… и настроение Никиты Сергеевича как-то сразу поблекло. Однако он был не из тех людей, кто не умеет управлять своим настроением, и в вагон вошел, сияя белозубой улыбкой на лице, все еще хранившем на себе следы былого изумления.
Народу в вагоне было не так уж и много. В основном мужчины. Но имелись и женщины. И, судя по одежке: грубые брезентовые штаны и куртки, огромные ботинки из кирзы, прозванные еще в стародавние времена говнодавами, — все работники железной дороги. Некоторые с лопатами и ломами, огромными гаечными ключами. Плавал по вагону махорочный дым, заметно шибало запахом сивухи, чеснока и лука, слышался негромкий говор, иногда ленивый матерок — все знакомое Хрущеву по его бурной молодости, когда он и сам ничем не отличался от других.
— Здравствуйте, товарищи! — весело воскликнул Никита Сергеевич, останавливаясь в самом начале вагона.
В его сторону повернулись многие головы, послышались неуверенные ответные приветствия. Кто-то спросил у кого-то:
— Чо это за птица такая?
— А хрен его знает, — прозвучало в ответ.
— Гля, с орденом…
— Ишь ты…
Хрущев не стал дожидаться окончания недружественных реплик и взял инициативу в собственные руки.
— Значит, если мерить меня на петухов там или гусей, — продолжил он также весело, — то получится, что я самый первый секретарь московского обкома партии, и зовут меня Никитой Сергеевичем Хрущевым. А если воронами и воробьями мерить, то я и сам не знаю, какая птица из этого получится.
В ответ засмеялись. Не так чтобы очень дружно, но лед, как говорится, тронулся.
Никита Сергеевич присмотрел себе свободное местечко в середине вагона, где людей было погуще, решительно направился туда, спросил, остановившись:
— Место свободное?
— Свободное. Садитесь, — пригласила широкая женщина, с широким же скуластым лицом и вздернутым, в веснушках, носом, и посунулась ближе к окошку, переложив на колени кошелку из соломы, из которой торчала трехлитровая бутыль с молоком, заткнутая деревянной пробкой.
— Обед? — спросил Никита Сергеевич.
— Да как получится, — засмущалась женщина. И пояснила: — На весь день едем, питаться-то надо.
— А вы где работаете?
— На железке.
— А что, столовых поблизости нет?
— Есть, да не про нашу честь, — дерзко ответил молодой грудастый парень в серой косоворотке.
— Это как же понимать, позвольте вас спросить? — насторожился Хрущев.
— А так же. Дорогу и канал заключенные строят, им кормежка положена, а нам нет. Вот и берем с собой, кто что может.
— Понятно. А перед профсоюзом своим вопрос этот не ставили?
— Так он, профсоюз-то, где? Он же в городе. В будний день туда не поедешь, потому как работа не пускает, а в выходной — сами понимаете, там нет никого, — пояснил пожилой усатый рабочий, ткнув предварительно локтем задиристого парня. — Спокон веку на железке сами себе пропитание устраивали, чем бог пошлет. Такие-то вот дела, дорогой товарищ.
— Плохие, однако, дела, должен вам заметить, — помрачнел Никита Сергеевич, но лишь затем, чтобы показать, как его возмутила такая несправедливость. И пообещал: — Я этот вопрос подниму перед вашим начальством. И вот еще что… Почему платформ нигде нету? Как товарищи, прощу прощения, женщины, на вагонные ступеньки свои ноги задирают? Это ж ни в какие ворота не лезет! — уже с возмущением говорил он. — А грязь в вагонах? А? В ином хлеву и то чище. Как это вам нравится?
— Да мы уж как-то попривыкли, — ответила все та же женщина с кошелкой и зарделась от смущения: с таким большим начальством ей разговаривать еще не доводилось.
— Плохая привычка! Очень плохая! — попенял Хрущев. — Советский человек должен быть примером для пролетариев всех стран как в труде по примеру товарища Стаханова, который, как известно, перекрыл в десять раз прежние нормы, так и в культурном строительстве… в смысле бытовых условий и тому подобное. Товарищ Сталин и вся партия очень большое внимание уделяют этим жизненно важным вопросам.
— Оно конечно, — согласился, хотя и без особого энтузиазма, пожилой рабочий. — Мы понимаем, не без понятия чай. Однако, начальство — оно что? Оно в первую голову смотрит на план. План идет — и ладно. Не идет — лается… прошу прощения… ну и все такое. А мы что ж, мы ничего, мы всегда пожалуйста.
— А план, значит, идет не всегда?
— Да уж как водится: то того нету, то этого, — опять заговорил молодой парень в косоворотке. — Иногда сидим по целым дням и ждем. А потом пашем так, что жилы лопаются. Тут и о еде забудешь, и об отдыхе, и об этой самой… как ее?… культурности.
— Ну а со строительства канала есть тут кто-нибудь? — спросил Хрущев, оглядываясь, точно был уверен, что таковые имеются, но почему-то прячутся.
— Есть, конечное дело, — подтвердил его догадку усатый. И крикнул, обращаясь в конец вагона:
— Егорка! Тиунов! Идите сюда! Тут до вас дело есть у товарища секретаря.
Подошли трое молодых рабочих и один пожилой. Одеты свободно, в пиджаки, рубахи навыпуск, на ногах сапоги. Сразу видно — мастера.
На лавках потеснились, давая место.
— Так вы, стало быть, с канала?
— Стал быть, так, — согласился пожилой.
— Зовут-то как?
— Меня-то? Меня Егором Кузьмичем. А фамилия моя Скрипников, — с достоинством представился пожилой рабочий.
— И кем же вы на канале работаете, товарищ Скрипников?
— Я, например, кузнецом. Тиунов и Каплунов у меня в напарниках. А Данилов — он слесарь.
— И что делаете для канала? — не отставал Хрущев.
— А все, что прикажут. В настоящий текущий момент делаем болты для крепления бетонных блоков…
— А что, промышленность болты эти не выпускает?
— Такого размера не выпускает. Нам нужны длинной метр с четвертью, а у них самые большие сорок сантиметров. И толщина тоже не та. Нам нужно три четверти дюйма, а у них всего лишь полдюйма. Вот и куем сами… стал быть.
— И как?
— Не жалуются. Нам дают обнаковенное железо, а мы его науглераживаем поверху, получается и твердость и прочность у резьбы соответственная.
— Резьбу плашками режете или в матрицах в горячем виде куете? — показал свои познания в слесарном и кузнечном деле Никита Сергеевич.
— Поперва в матрицах, потом плашками доводим до кондиции, — ответил Скрипников. И пожаловался: — Матрицы-то старые, поизносились, а новых давно не дают. Да и плашки — дрянь, если вы, товарищ секретарь, в этом деле понятие имеете. Нарежешь три-четыре болта — и выбрасывай. А немецкие плашки — это совсем другое дело: износу нету…
— Так уж и нету? — засомневался Никита Сергеевич. — Всякий инструмент изнашивается, хоть немецкий, хоть шведский. Но чтобы на два-три болта — это уж пахнет вредительством… — И спросил, заглядывая в глаза Скрипникову: — А какой завод поставляет вам инструмент?
— Да всякие. Есть и московские. Завод «Калибр», если вы знаете.
— Знаю такой завод. Непременно поговорю с его директором, — пообещал Никита Сергеевич. — И он этому разговору не обрадуется, будьте уверены.
Вокруг заулыбались, закивали головами.
Вагон мотало из стороны в сторону, дробно стучали колеса, за окном проплывали деревушки, поля с зеленеющей озимью, речки, холмы, поросшие лесом с веселой солнечной листвой, еще не развернувшейся во всю силу. Вот открылась панорама строительства канала: тысячи рабочих, перекидывающих лопатами землю, снующие по трапам тачкогоны, подводы, машины; кое-где, окутываясь дымом солярки, рокотали ползающие туда-сюда бульдозеры, кивали длинными шеями экскаваторы, бухали паровые «бабы», вспыхивали на солнце начищенные медные трубы оркестра, огни электросварки, в открытое окно доносились веселые марши, полоскались на ветру флаги, и казалось со стороны, что и люди работают весело, даже радостно под этим веселым солнцем, бодрящим ветром и синим небом.
И электричка тоже засвистела весело своим сиповатым свистом, предупреждая конного и пешего, а Никита Сергеевич, продолжая раскручивать нить разговора о работе и житье-бытье строителей канала и железнодорожников, думал в то же время о себе с некоторым даже восторгом и в третьем лице: «А все-таки ты, Никита, что ни говори, а молодец! Другой бы на твоем месте, а ты вот… да-а… То-то же пораскрывают рты товарищи директора некоторых заводов, когда ты им на стол выложишь негодные плашки и метчики, которыми можно разве что в носу ковыряться, а для настоящего дела они никак не годятся. Строгоча влепить им за такую работу по партийной линии! — думал Никита Сергеевич, представляя себе в лицах и как все это будет происходить в его собственном кабинете. — Пораспустились, понимаешь ли, а работа стоит. Это даже не разгильдяйство, а самое настоящее вредительство, направленное на срыв сроков пуска канала. Да и вообще… тут не только строгача, но и похлеще чего, иначе до них не дойдет, иначе они и дальше будут вредить и пакостить, а отвечать придется тебе, Никита, и никому больше».
— Так вы мне кое-какой негодный инструмент ваш дайте, чтобы я мог доказательно представить некоторым директорам заводов, какую продукцию они выпускают, — говорил он, похлопывая Скрипникова по коленке. — И обещаю вам, что через пару недель вы будете получать хороший советский инструмент. Не хуже немецкого.
В Дмитрове Никита призвал к себе местное железнодорожное начальство, прихватил первого и пару вторых секретарей райкома партии и потащил с собой на следующую электричку, заставив лезть в вагон с заплеванного и замусоренного откоса, ехать в вагоне с выбитыми стеклами и тоже заплеванном и замусоренном.
— Так мы… это… старые деревянные платформы у нас погнили, их разобрали, чтобы предотвратить травматизм трудящегося пассажира, а на новые платформы средств не отпускают, вот оно и… — оправдывался первый секретарь райкома, вытирая платком обильный пот с полного лица.
— Прикажу машины у вас забрать к чертовой матери! — вскипел Никита Сергеевич. — Будете ездить только на электричках, как все советские труженики, — грозился он, размахивая кулаком перед унылыми носами начальников. — А убрать в вагонах — тоже денег не дают? А наладить питание? Разве нельзя по линии пустить вагон-ресторан? Или хотя бы теплушку, оборудованную соответствующим образом? Борщ там или щи, кашу или жареную картошку, компот — это, что, никак нельзя сообразить, чтобы накормить трудящего человека? Через неделю приеду сюда снова, и если увижу все в первозданном, так сказать, виде, я вам не только строгий выговор по партийной линии обеспечу, но и прикажу соответствующим органам разобраться, почему допускаются такие безобразные отношения по отношению к рабочему классу. — И, чтобы еще больше поддать жару перепуганному начальству, присовокупил: — Товарищ Сталин придает громадное значение социалистическому энтузиазьму рабочего класса, широкому развитию стахановского движения, от которого зависит выполнение и перевыполнение планов второй пятилетки, и тоже обещал посмотреть, как и что у нас в этом отношении делается. А тут ни черта не делается для поднятия настроения, производительности труда и энтузиазьма! Тут, можно сказать, троцкизьм, так сказать, в голом виде и непотребном своем естестве! — продолжал он на повышенных тонах. — Учтите, на ваше место соответствующие кадры найдутся: грамотные, с дипломами инженеров, молодые, полные сил и энергии. Это вам не двадцатые годы, когда на должности ставили всяких неучей! Это уже восемнадцатый год советской власти! Соображать надо, дорогие товарищи.
«Дорогие товарищи» только что не клацали зубами от страха, какого на них нагнал Никита Сергеевич. Да и то сказать: в своем последнем выступлении на совещании ударников труда он доложил о множестве арестованных руководителях, которые идут не в ногу со временем, чем вредят общему делу и, скорее всего, по наущению иностранных разведок. И утверждал, что мало арестовали, надо вдесятеро больше. Тут от страха не только зубами заклацаешь, но и всеми остальными частями тела.
А Никита Сергеевич, довольный произведенным впечатлением, покинул электричку на следующей остановке, где его уже поджидали машины, оставив начальство в полном недоумении, куда ему кидаться в данный текущий момент.
Глава 13
Василий Мануйлов стоял в плотной толпе, заполонившей просторный сборочный цех. На кран-балке было кое-как закреплено красное полотнище с белыми словами по нему: «Никакой пощады врагам рабочего класса и революции!» Под красным полотнищем наскоро сколоченная трибуна. На ней директор завода, парторганизатор, председатель профкома, еще какие-то люди. На крюке кран-балки подвешена люлька, в ней двое с кинокамерой. Один крутит ручку, другой размахивает руками, командуя крановщицей. Кран-балка то движется, то замирает над сдержанно гудящей толпой.
— Товарищи! — выкрикивает с трибуны какой-то высокий и худой работяга в черной спецовке, фамилию которого Василий не разобрал. — Мировая буржуазия в лице мирового капитала гнетет рабочий люд всех стран! А всякие недобитые буржуи у нас в стране ведут подрыв нашей работы на благо трудящихся и Красной армии! Эти буржуи убили товарища Кирова, теперь они хотят убить остальных наших товарищей, которые день и ночь руководят социалистическим строительством. Никакой пощады недобиткам! Мы, рабочие революционного Питера, твердо стоим на позициях большевиков и товарища Сталина! Смерть буржуям! Да здравствует товарищ Сталин, вождь мирового пролетариата и трудящихся всех стран! Фашистским предателям Каменеву и Зиновьеву не сидеть на нашей рабочей шее!
Толпа ответила на его призыв дружными хлопками. Работяга отер зажатой в кулаке кепкой взопревшее лицо и шагнул назад, уступая место другому оратору.
Кто-то за спиной Василия произнес изумленно и опасливо:
— Слышь, Серега! А ведь это никак Димка Ерофеев выступал? Помнишь, на рабфаке с нами учился?
Ему отвечал еще более опасливый и приглушенный голос:
— Да ты что! Димку ж посадили, пять лет дали.
— Точно тебе говорю: Димка! Значит, отпустили.
— И, правда, — очень похож. Только постарше выглядит.
— Там, небось, не курорт — не помолодеешь… Но он, помнится, не то на Путиловском работал, не то еще где, только не у нас…
— Так что, подойдем?
— Можно, конечно, только… когда же? Перерыв вот-вот кончится.
— А после работы?
— Так ведь в институт надо…
— Боишься, что ли?
— Чего бояться-то? Впрочем, радости особой не испытываю. Отпустили его или нет, а что сидел — это точно. За просто так гепеу не сажает. С такими лично мне знаться не с руки. Не забывай, что мы с тобой подали заявление в партию…
— Ладно, чего уж!
Василию хотелось обернуться и посмотреть на парней, разговаривавших у него за спиной: не исключено, что он знал этих парней по рабфаку. Но он не обернулся: еще подумают, что подслушивал их разговор. Но что он знавал когда-то Димку Ерофеева — это уж точно. Как точно и другое: Димка работал на Путиловском. Но не по заводу Василий знал Ерофеева, и не по рабфаку, а по поездке в Москву молодых ударников трудового фронта. Еще три года назад. В поезде познакомились. Потом иногда виделись случайно: «Красный путиловец» — заводище огромный, столовых — и тех несколько, так что можно десять лет проработать рядом и ни разу не встретиться. А о том, что Димку посадили, Василий не знал. Узнал только сейчас из опасливого разговора за своей спиной. Значит, эти двое учатся и боятся, что знакомство с Димкой может им повредить. Но если Димка выступает с трибуны, если ему доверили такое дело, значит, он ни в чем не виноват, а эти дурачки, хотя и учатся в институте, додуматься до такой простой вещи не способны. То-то же из них инженеры получатся…
Василий сжал челюсти до боли в деснах: оказывается, еще саднит в его душе рана, нанесенная исключением с рабфака, а он-то думал… Что до этих двоих — так даже стоять с ними рядом противно.
И Василий стал протискиваться вперед, поближе к трибуне: уж он не испугается встречи с Димкой Ерофеевым, не побоится подать ему руку. ГПУ — оно тоже ошибиться может, в нем тоже люди сидят, а люди — они разные. Да и терять Василию нечего.
Выступала какая-то женщина. Она сорвала с головы вылинявший ситцевый платок, размахивала им, как флагом, выкрикивала звонким голосом гневные слова. Да только Василий не прислушивался: все ораторы говорят одно и то же, а люди в этой толпе думают по-разному. Вот и эти двое: они вроде и не против подойти к Димке, да смелости не хватает. Так и будут с оглядкой идти по жизни. Что же касается Зиновьева с Каменевым, так Василию как-то все равно, что с ними будет: посадят их или расстреляют. И не важно, контрики они или настоящие революционеры: и те и другие сидят на шее рабочего класса. Да еще и погоняют.
Василий высматривал Димку, но пока протискивался поближе, Димка Ерофеев пропал из виду: ни на трибуне, ни около его не видно. А на трибуне какой-то мужик уже зачитывал резолюцию митинга. После зачтения все подняли руки за эту резолюцию, потом похлопали. И стали расходиться. Отправился и Василий в свой модельный цех.
Василий на собраниях, митингах и демонстрациях уже не испытывал того восторга, какой охватывал его когда-то на первомайских и октябрьских демонстрациях, на всяких антибуржуазных и антирелигиозных акциях. Горькое равнодушие это начало в нем утверждаться с того дня, когда его не приняли в комсомол, унизили при всех и оскорбили. Окончательно равнодушие поселилось в нем после вторичного изгнания с рабфака. Иногда ему казалось, — особенно в те минуты, когда в общем людском потоке подходил к заводской проходной, — будто он долго бежал вместе со всеми куда-то, где всех ожидает интересное, захватывающее зрелище, какие случались иногда в деревне, когда в нее забредали цыгане и начинали гадать, продавать всякие диковины и показывать фокусы с ручным медведем. Мальчишкой, пыля босыми ногами, он несся в центр деревни, где стоял большой дом Аверьяна Гудымы, вместе с другими пацанами и девками отирался возле цыганских кибиток, глазел на чужую жизнь, и никто не гнал его оттуда и не мешал глазеть. А тут… Тут толпа как бы устремилась в огромные ворота, но Василия в ворота не пустили: оказывается, не для него те зрелища, которые обещали им за воротами. Теперь там шум и гам, там весело, а здесь, в подворотне, скучно и тоскливо, каждый бродит сам по себе, никому друг до друга нет дела. Что ж, раз так, то и ему, Василию, тоже ни до кого нет дела.
И вот прошло не так уж много времени и оказалось, что можно жить и без тех зрелищ, что обещали всем и каждому, если стать частью передовой массы рабочих и крестьян. И он, Василий Мануйлов, честно пытался стать этой частью, но какие-то непонятные силы его отвергли… Ну и пусть. Не очень-то и хотелось.
И все-таки, как ни старался Василий убедить себя, что ему все равно и на все наплевать, он чувствовал за собой вину, что согласился когда-то с одноруким Митрофаном убрать из своей фамилии две последние буковки, стать из Мануйловича Мануйловым и тем самым посеять в душах людей сомнение в своей честности и честности своих желаний. Что там ни говори, а не хватало Василию полной слитности с другими, в своем одиночестве он казался себе не только беспомощным и слабым, но и опустошенным. Даже женитьба на Марии представлялась ему следствием постигших его несчастий, как бы завершающим штрихом его падения с тех высот, на какие он стремился взлететь.
Может, поэтому случалось не раз, когда подходил он к заводской проходной в густой толпе рабочих и, заметив, что на проходной случилась какая-то заминка, начинал испытывать неуверенность и тревогу: вдруг вахтер остановит его, посмотрит внимательно пропуск и скажет: «А тебя, парень, пускать на завод не велено: ты не наш, чужой, иди на все четыре стороны», — и он отойдет в сторону и примкнет к сиротливой кучке отверженных, мимо которых будет течь и течь равнодушная человеческая река.
Эта картина нового позора и унижения частенько снилась Василию по ночам.
Глава 14
Димку Ерофеева освободили из лагеря по амнистии по случаю семнадцатой годовщины Великого Октября. Вряд ли освободили бы, не притащи он из тайги на своем горбу раненого командира охранного взвода Пашку Кривоносова, потому что пятьдесят восьмая статья досрочному освобождению не подлежала.
Почти полгода после возвращения в лагерь Димка обретался в нем как бы в подвешенном состоянии: то ли освободят досрочно, то ли нет. Правда, в ожидании решения «инстанций» в рудник Димку не посылали, использовали на всяких мелких работах — кто куда пошлет. Но вскоре он сам прилепился к слесарной мастерской, стал мастерить портсигары и зажигалки, и так насобачился в этом деле, такие иногда штучки выделывал из куска жести, дерева и всяких камушков, отыскиваемых при промывке золотоносной породы, что лагерное начальство, когда подошла ему наконец амнистия, уговаривало Димку остаться вольнонаемным, обещая полную свободу и всякие привилегии.
Нет, ни за какие коврижки Димка не согласился бы остаться в этих гибельных местах. Домой и только домой рвалась его искореженная и изверившаяся душа. Ему казалось, что если он начнет все сначала, но как-то по-другому, без всякой там самодеятельности, то все пойдет хорошо. Может, даже снова примут на рабфак, потом институт, потом… Нет, лучше не загадывать. Как говорил покойный бригадир Сидор Силыч Плошкин, загадывать да отгадывать — дело ночное, а днем надо работать.
В Ленинград Димка вернулся в конце ноября, но на Путиловский не пошел: стыдно было возвращаться туда, где о нем наверняка думают как о каком-нибудь контрике и враге народа, а всем и каждому рассказывать, что это совсем не так, что контрики — это совсем другие, к нему, Димке Ерофееву, отношения не имеющие, — рассказывать об этом было бы невмочь. И Димка решил устроиться на Металлический, благо, слесаря нужны везде, да и в милиции, куда он пришел после возвращения домой, сказали, что решил он правильно, что новую жизнь лучше всего начинать на новом же месте. А еще настоятельно посоветовали сразу же явиться к тамошнему представителю госбезопасности, который и позаботится, чтобы Димке никаких препятствий не чинили.
Представителем оказался молодой белобрысый парень по фамилии Курзень. У парня было крупное и с первого взгляда добродушное, хотя и малоподвижное лицо, а на нем прозрачными капельками росы холодно светились бесцветные маленькие глазки, с жестоким равнодушием ощупавшие Димку с ног до головы. Такие же глаза и такие же лица помнились Димке по лагерю: охранники, например, так же смотрели на него, будто решая в уме, стрельнуть им в Димку или погодить до следующего раза. И после освобождения по дороге домой видел Димка эти глаза, так похожие на глаза Пашки Кривоносова, и в каждом милиционере, и еще в ком-то и где-то, о чем Димка уже и не помнил в подробностях, а лишь как о большом и многоглазом существе, чем и представлялось теперь ему государство, но не рабочих и крестьян, существом большим и добрым, а как бы пребывающим у него внутри, как червь в незрелом яблоке. Не удивительно, что и Курзень был оттуда же и воплощал то же самое, и от него Димка не ожидал ничего хорошего.
Курзень долго расспрашивал Димку о том, как тот попал в заговорщики, как жил и что делал в лагере и почему был освобожден досрочно. Димка, наученный знающими людьми и своим горьким опытом, рассказывал о своем прошлом скупо, отвечая исключительно на поставленные вопросы, не жаловался и не пытался оправдаться. Закончив расспрашивать, Курзень протянул Димке лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом, коротко велел:
— Прочти, вставь свою фамилию и распишись.
Бумага оказалась обязательством, по которому Димка должен сообщать представителям ОГПУ (при этом ОГПУ было зачеркнуто, а сверху написано ГУГБ) как на заводе, так и — в экстренных случаях — в любом отделении управления на местах о всех фактах нарушения советских законов, о любых проявлениях антисоветских деяний со стороны любого гражданина, какой бы он пост ни занимал, как то: антисоветская агитация и пропаганда, террористическая деятельность и намерения лица (лиц) проводить такую деятельность, факты тайных собраний и организаций, подозрения на такие факты, шпионаж в пользу иностранных разведок и… и вообще всякое подозрительное и необъяснимое.
Бумага, ко всему прочему, обязывала Димку сохранять в строжайшей тайне свою связь с ГБ, не разглашать эту связь никому и ни при каких обстоятельствах.
Димка бумагу подписал. У него даже на миг не возникло сомнения в необходимости принятия на себя таких обязательств. И не только сомнения, но и мысли по этому поводу: дали подписать, значит, так надо. И он, оторвав взгляд от бумаги, глянул на Курзеня пасмурными, ничего не выражающими глазами. И встретился почти с таким же точно взглядом, но еще более холодным.
Несколько долгих секунд Курзень пытался смутить Димку своим неломким взглядом, но у него из этого ничего не вышло: Димка будто даже и не видел его глаз, он будто смотрел сквозь него и видел нечто другое. Так смотрят мертвецы, полоумные и слепые. Слегка качнув широкими плечами, Курзень протянул Димке тоненькую книжицу, на обложке которой печатными буквами стояло: «Сов. секретно. Только для служебного пользования».
— Сять фон там, — показал гэпэушник рукой за отдельный столик, — и фнимателно прочитать дфа раса, — велел он Димке.
Тот пересел за столик, дважды добросовестно перечитал текст.
В книжице подробно описывалось, как Димка должен себя вести при обнаружении тех или иных фактов антисоветской деятельности, чтобы не спугнуть врага и не выдать своего сотрудничества с органами; более того, в инструкции разрешалось и даже поощрялось вступление в контакт с врагом советской власти с целью раскрытия всей цепочки заговорщиков, их планов и намерений, но исключительно после обсуждения этого вопроса с представителем ГБ, и с его личного разрешения. И много еще всяких дельных и полезных советов начинающему секретному сотруднику содержалось в этой книженции.
Далее Курзень на словах объяснил, как все прочтенное Димкой будет выглядеть на практике, то есть применительно к рабочей среде. Из слов Курзеня выходило, что и среди рабочих встречаются враги, завербованные вражескими агентами, — как внутренними, так и внешними, — и что эти-то враги есть самые зловредные для советской власти, потому что подрывают изнутри ее основу, ее социальную базу — рабочий класс, пролетариат и трудовое крестьянство.
— Глафное, — внушал Курзень, уверенно строя нерусские фразы и прожигая Димку насквозь маленькими жестокими глазками на широком добродушном лице, — это иметь фсек-да открытый уши и гласа, фсе фидать и фсе слюшать, фсе помнить и фсе понимать. Другой сторона дела — тебья никто не фидать, не слюшать и не снать. Ты будешь иметь кличка Ерофей. Если будешь сфонить, будешь гофорить: Ерофей. Я буду снать, кто есть гофорить.
Димка слушал наставления Курзеня, а сам думал: «Странно, — думал Димка. — Очень даже странно: почему он говорит „ф“ вместо „в“ и „с“ вместо „з“? Разве это так трудно — говорить „в“ и „з“? Это совсем не трудно. И немцы тоже любят вместо „в“ говорить „ф“ и вместо „з“ говорить „с“, хотя у них в языке тоже есть „в“ и „з“. Может, он это специально? А зачем?»
Димку так занимал этот вопрос, что он мало что разобрал из того, что ему наговорил этот Курзень. Зато он понял главное: Курзень обладает властью над такими людьми, как Димка, что амнистия — это так, для вида, что ему теперь до гробовой доски быть сексотом-стукачом, что он из одной клетки, о которой говорил покойный профессор Каменский, попал в другую, больших размеров. В лагере стукачей, если про них узнавали, находили потом в сортире с перерезанным горлом или с удавкой на шее. А на воле? Что будет с ним, с Димкой, если рабочие узнают об этих его обязательствах? Но ведь советскую власть обязаны защищать не только чекисты, но и весь народ. То есть и Димка тоже. И любой рабочий. А что в лагере, так это совсем другое: там другие законы, там сидят либо урки, либо враги. Во всяком случае, из тех, кто бежал вместе с Плошкиным с рудника, один лишь Димка не был ни уркой, ни врагом. А все остальные были врагами. Это ему Пашка Кривоносов очень даже доходчиво объяснил. Как и то, что и он, Димка Ерофеев, тоже вполне мог стать врагом, если бы и дальше продолжались внестудийные занятия по дополнительному изучению марксизма-ленинизма. Как бы это произошло, Кривоносов тоже очень наглядно доказал и показал: сперва человек учится, чтобы больше узнать, потом сами знания начинают уводить человека в сторону от мировой революции и коммунизма, потому что ученье — это как водка: чем больше пьешь, тем больше хочется — и человеку уже не до революции. Что ж, все правильно. Хотя и не совсем. Выходит, что учиться вредно, что учение обязательно приведет ученого человека в стан противников революции и коммунизма. Кого и приведет, а кого и нет. Димку — так уж точно не приведет. И совсем уж неправильно — это что его, Димку, допрашивала Сонька Золотая Ножка. Пусть бы она другим, настоящим врагам, отбивала своей туфлей половые органы, а тем, кто просто оступился по незнанию, тем это делать не обязательно.
И вот уже месяц Димка Ерофеев работает на Металлическом заводе. Никто не знает о его недавнем прошлом, никто не смотрит на него косо или еще как-то не так. Димка числится в беспартийных и очень старается себя не проявлять. Ему даже нравится жить такой неприметной жизнью. После всего, что он испытал и увидел, его привлекает одиночество и тишина. Он и раньше не отличался разговорчивостью, а теперь и подавно — слова из него не вытянуть.
И вдруг сегодня перед самым перерывом подходит к нему секретарь цеховой партячейки, маленький такой, кругленький слесарёк, и говорит, заглядывая снизу вверх в Димкины глаза с некоторой даже робостью и беспокойно вертя в измазанных ржавчиной руках штангенциркуль на 250 миллиметров:
— Ты, Ерофеев, беспримерно должон выступить нонче же на митинге от беспартийной массы с осуждением врагов трудового народа. Поскольку у тебя, парень, имеется образование, стал быть, ты должон соответствовать духу нашего революцьённого времени. — И щелкнул нониусом штангенциркуля, как бы ставя точку и наперед утверждая Димкино согласие.
Димка посмотрел вдаль поверх головы секретаря, точно вспоминая что-то, и согласно кивнул головой: отказывать он так и не научился. Да и боязно отказывать: еще не так поймут и сделают неправильные выводы.
Не знал Димка, как не знал и секретарь цеховой парторганизации, что в партком завода поступила бумага из заводского же отдела ГБ, в которой, помимо прочего, говорилось, что молодого рабочего Дмитрия Ерофеева партком может использовать в агитационно-пропагандистских целях в качестве одного из представителей беспартийной массы, что Д. Ерофеев идеологически выдержан и подкован, правильно понимает текущий политический момент и стоит на платформе ВКП/б/, но требует постоянного за собой контроля и привлечения к активной общественной работе. И когда в парткоме составляли список выступающих на митинге, то включили в этот список и Димку, о чем и поставили в известность секретаря партячейки слесарно-сборочного цеха.
И Димка выступил. Тут, собственно говоря, и выступать-то было нечего: коль скоро суд решил, что эти Зиновьев-Каменев (в сознании Димки эти двое как бы слились в одно, как слились в одно Маркс-Энгельс и Ленин-Сталин)… да, так вот, что эти Зиновьев-Каменев есть враги трудового народа, оппозиционеры, троцкисты и прочее, так оно и есть: суду виднее. Об этом и газеты пишут, и радио со всех столбов кричит, и политинформаторы каждую свободную минуту талдычат. Даже дома отец об этом же, и младший брат, и в трамвае, и куда не посмотри, кого не послушай, — все об одном и том же. Будто и говорить не о чем больше. Будто каждый решил непременно выяснить, что все остальные по этому поводу думают. Будто каждый успел побывать на собеседовании у белобрысого Курзеня, прочитал инструкции и подписал нужные бумаги.
Поразмышляв таким образом, Димка Ерофеев решил, что и это тоже правильно с точки зрения мировой революции и строительства социалистического общества: если каждый будет проверять каждого же на предмет идеологической платформы, если все возьмут пример с Павлика Морозова, то никаких врагов народа скоро не станет, некому будет убивать таких товарищей как товарища Киров, и коммунизм наступит значительно раньше.
В то же время случалось: едет Димка домой с работы или, наоборот, на работу из дому и вдруг глянет на какую-нибудь женщину в трамвае, различит ее черные волосы под шляпкой или беретом, черные глаза и резкие черты лица — и обдаст его колючим холодом. Не то чтобы узнает в этой женщине Соньку Золотую Ножку, а просто вспомнит о ней и представит, что где-то же она, эта Сонька, существует, где-то ходит, ест и пьет, спит, — может, даже с мужиком, то есть с мужем, и дети имеются, — а уж потом едет на свою «работу». И будто наяву вдруг увидит Димка эту Соньку в свете ярких стосвечовых ламп, увидит так, будто это происходит перед его глазами: и как отделяется она от стола, отбрасывая на стену черную согбенную тень, как приближается к какому-нибудь мужику, привязанному к стулу, похожему на трон, а в руках у нее туфля со стоптанным каблуком, и движется эта Сонька зигзагом, точно змея, и дышит сапно, и губы ее фиолетовые подрагивают и кривятся, а в глазах черные огоньки. И жутко станет Димке от этой картины, и дыхание собьется, и сердце споткнется в своем безостановочном движении, и ногам станет холодно.
Да, живет где-то рядом Софья Оскаровна Гертнер по прозванию Сонька Золотая Ножка, и потому, что она живет, весь мир становится черным и враждебным Димке Ерофееву, и что бы он ни делал, все это так или иначе несет на себе отблески стосвечовых ламп в мрачной камере пыток, страшную боль во всем теле и еще что-то стыдное, нехорошее. Никак не может Димка отделить Соньку от всего остального — от того, что правильно и хорошо, никак не может объяснить себе, почему все хорошее и правильное не обходится без этой Соньки, без того стыдного и страшного, что она делает в той камере. И часто по ночам снится ему Сонька, слышится голос Яшки Меклера по прозванию Яшка Мясник, сомневающегося в его, Димкином, пролетарском происхождении. Тогда Димка во сне кричит и стонет, просыпается в липком поту и видит над собой жалостливое лицо матери…
Глава 15
Весна в Ленинград не спешила. Весь апрель держались холода, майские праздники встречали со снегом, ежась от пронизывающего северного ветра. Только к середине мая потеплело, повеяло парной влагой с запада, нагнало туч, зарядили дожди. Но вот уж скоро июнь, а летом что-то не пахнет, хотя и трава зеленеет, и листва на деревьях шумит, и ландыши продают на углу Светлановского и Карла Маркса.
Василий Мануйлов сегодня на завод приехал пораньше: вчера не успел закончить срочную модель корпуса гидронасоса, потому что в чертежи к концу смены внесли кое-какие изменения, так что пришлось в двух местах наращивать уже практически готовую модель, возился до десяти вечера, на сегодня осталось немного, обещал начальнику цеха закончить модель к обеду и сдать в ОТК.
Василий торопился. Не дожидаясь остановки трамвая, соскочил с подножки, зашагал к проходной, испытывая то знакомое нетерпение и волнение, которое всегда сопутствует завершению сложной работы. Вроде бы уже нет для него секретов в его профессии, вроде бы должен привыкнуть к своему делу, а все будто в первый раз: и волнение перед сдачей в ОТК, и тревожный сон, и сожаление, что дело сделано и уходит из твоих рук навсегда.
Завод, как живое существо, на глазах у Василия отряхивался от ночной дремы. Из высокой трубы, до этого едва курившейся, повалил черный дым и поплыл в сторону Невы; в литейке и других цехах взвыли вентиляторы, из распахнутых настежь ворот плавильни потянулась жиденькая цепочка рабочих ночной смены: натруженные руки висят плетьми, сутулятся спины, шаркают подошвы; воспаленные до красноты глаза, серые под ними тени, рты кривятся и раздираются от судорожной зевоты, и даже настырный сырой ветер не может стряхнуть с них тяжелой одури усталости и наваливающегося сна.
Василию хорошо известно это состояние полного равнодушия ко всему окружающему, когда ничего не хочется, глаза не способны видеть, уши — слышать, и властвует над тобой одно единственное желание — ткнуться головой в подушку и спать, спать, спать… Василию известно это состояние, но испытывает он его не так уж часто: модельщики работают в одну смену, потому что работа требует особой точности руки и глаза, свежей, не замутненной усталостью и дневными заботами головы.
Пробовали и у модельщиков ввести двухсменку, да вскоре отказались от этой затеи: пошел брак, получилось не ускорение производственного процесса, а явное замедление. Даже гэбэшники занимались этим делом, искали, не по злому ли умыслу совершили такое начальники, нет ли тут какого заговора, и не из желания ли воспротивиться этому новшеству сами рабочие стали на путь саботажа? Долго разбирались, таская в заводоуправление на допросы то одного, то другого, но закончили тем, что сняли директора завода да пару спецов из отдела главного технолога. Говорят, посадили.
Впрочем, Василий тогда работал еще на «Красном путиловце» и заварушку эту на собственной шкуре не испробовал. Но помнит, что и на Путиловце поговаривали о введении у модельщиков двухсменки, да так и не ввели: видать, учли опыт Металлического завода, оказавшегося пионером в этом деле. Так что у Василия вторая смена выходит лишь в тех не слишком частых случаях, когда требуется изготовить какую-то модель особенно срочно. Но это уже даже и не вторая смена, а сразу две подряд. И ничего, ни разу брака не допустил, ни разу не подвел свое начальство. Ну и себя тоже, разумеется.
Переодевшись в гулкой и сонной тишине раздевалки, Василий пришел в цех, где тоже было гулко от безлюдья. И сонно.
Василию с некоторых пор особенно нравится работать в полном одиночестве, когда ничто не отвлекает от дела. А когда дела нет или оно требует лишь механически повторяемых движений, тогда сами по себе в голове возникают до того широкие мысли, что становится жутковато от их упорного стремления к отысканию истины. Конечно, мысли приходят не сами по себе, а чаще всего от прочитанной книги, от сравнения жизни героев этих книг с жизнью собственной и окружающих тебя людей, но это не главное, главное — что они приходят. Жизнь книжная и похожа на твою, и не похожа, но тревожит она не меньше собственной. Оказывается, другие люди, в других местах испытывают то же самое, что и Василий, мучатся теми же муками, что и он сам. И странно находить в книгах что-то похожее на себя, иногда до изумления и испуга, будто писатель подслушал твои мысли, распознал твои чувства.
Затем, как обычно, мысли Василия от прочитанного переходят на свою собственную жизнь, и от этой своей жизни становится не по себе. Вот он лез в гору и лез, и такое испытывал состояние при виде открывающихся перед ним далей, что, казалось, еще немного подняться — раскинешь руки и полетишь. А потом… Мало того, что сорвался и скатился вниз, так внизу — вдобавок ко всему — его спеленали и обрубили крылья, и теперь не то что взлететь, а не скатиться бы на самое дно…
Василий мелкими движениями стамески снимает тонкую, как бумага, стружку, и постепенно из куска дерева, приклеенного к стенке корпуса, вырисовывается бобышка, с мягкими очертаниями и ровной площадкой. Еще чуть-чуть наждачной бумагой, проверка по копиру — готово. Осталось еще две бобышки — и все.
Сложная работа, как всегда, увлекает, с каждым движением стамески из головы уходит все ненужное, лишнее, мешающее работе, точно он не дерево режет, а свои безрадостные мысли. И не только безрадостные, но и всякие другие. Может, это и хорошо, что никаких мыслей. Знай работай себе и работай. А думать… И все-таки: девять классов, плюс то да се — уже приучили Василия думать, и страшно ему, что привычка эта может исчезнуть как бы за ненадобностью…
Вчера предложил Марии почитать книгу, а она так на него глянула, такими удивленными глазами, точно он предложил ей выйти на улицу голой. Пытался убедить ее, как это интересно и полезно, а в ответ слезы. Кончилось тем, что сам не сдержался, наговорил ей всякого, даже выругался, а если разобраться, то в чем ее вина? Нет за ней никакой вины, потому что не испытывает она ни малейшей потребности в книгах, как ты сам не испытываешь потребности ходить на руках. А ведь иные ходят… Да и пример двоюродного брата у нее перед глазами. Попробуй-ка переубеди ее, что не из-за книг он пытался наложить на себя руки, а от неправильного их понимания. Может, к тому же не те книги читал. И не о том. Но даже если и так, то не книги виноваты, а он сам. Тут и думать нечего.
Сзади хлопнула дверь, взвыла вентиляция — и Василий догадался, что пришел мастер, Евгений Семенович, пришел пораньше, зная, что рано придет и Василий, а одному — по технике безопасности — работать не положено. Сейчас подойдет, встанет сзади и будет турурукать мелодию из оперы «Кармен», которую недавно передавали по радио. Эту мелодию Евгений Семенович будет турурукать дней десять, пока не увлечется какой-нибудь другой. Небось, как и прежде, то есть два года назад, еще когда Василий, ожидая места в общежитии, жил у Ивана Кондорова, стена в стену с Евгением Семеновичем, там все так же вечерами напролет и по выходным с утра до вечера играет патефон, звучат всякие арии и романсы, а по ночам скрипит и стучит в стенку железная кровать, на которой Евгений Семенович пытается заставить понести свою мослаковатую и худющую жену. Василия иногда подмывает спросить у мастера, не забеременела ли его жена, но спрашивать неудобно, а с Кондоровым отношения у Василия разладились, и все лишь потому, что тот когда-то ухлестывал за Марией, а ее влекло к Василию…
— Здорово! — произнес Евгений Семенович и слегка коснулся Васильевой руки.
Василий отложил наждачную бумагу, вытер руки тряпицей, повернулся, протянул руку мастеру.
— Здравствуйте.
— Ну, как?
— Осталось две бобышки.
— Ну-ну. — Потурурукал что-то карменовское, затем сказал, будто между делом: — Слыхал, теперь в высшие учебные заведения будут принимать всех, независимо от социального происхождения?
Василий не сразу понял, о чем речь. А когда до него дошло, рука дрогнула — и лезвие стамески ушло вбок.
— То есть как? — спросил вдруг осипшим голосом и посмотрел Евгению Семеновичу в глаза: не шутит ли?
— А вот так, — равнодушно передернул плечами Евгений Семенович. — Постановление Цэка и Верховного Совета: независимо от социального происхождения. Неважно, кто твои родители — из дворян, буржуев или, скажем, из кулаков. Дети за отцов не ответчики. Хочешь учиться — учись. И должность можешь потом занимать любую. Так сказать, по способностям. В СССР теперь социализм, полное отсутствие классов и антагонизмов, все равны, у всех одинаковые права и обязанности…
Затурурукал и пошел по своим делам.
А Василий еще долго не мог унять дрожь в руках и, чтобы не напортачить, отложил стамеску, взял из пачки папиросу, пошел в курилку, в маленький скверик из полудюжины лип и кустов сирени, затерявшийся меж прокопченными корпусами.
Над головой, хрипло и надсадно, проревел первый гудок. Ему откликнулись заводы «Красный выборжец», «Арсенал», имени Свердлова, какие-то еще: будили рабочие окраины, звали к станкам, печам, верстакам, конвейерам…
Где-то за Ладогой-Онегой встало солнце и теперь медленно карабкалось вверх, иногда выглядывая, играючи золотистыми лучами, в прорехи между облаками. На Неве хрипло, почти по-собачьи, рявкнул буксир. В церквушке, точно при старом режиме, зазвонили к заутрине. Еще совсем недавно колокола там молчали, говорят, веревки с них были срезаны, а двери в звонницы опечатаны ГБ. Теперь, значит, разрешили…
Давно ли и сам Василий ходил под медь оркестров и шелест красных флагов скидывать с церквей кресты и колокола, рушить церковные маковки. И как поменялось все за последнее время, о чем и помыслить недавно не смели: и карточки отменили, и крестьянам дали всякие льготы и послабления, и много чего еще произошло удивительного, что казалось невозможным несколько лет назад. Однако у Василия эти изменения не вызывают ни печали, ни уныния, ни возмущения, ни ропота, какие они вызывают у иных партийных товарищей. Василий считает, что коли вернули старое, значит, так надо. Да и что плохого в церквах и колокольном звоне? Они революции не помеха. К тому же в голове Василия еще удерживаются воспоминания о прошлом, он иногда будто въяви слышит, как в звонкой тишине осенней поры плывет над землей дальний колокольный звон, плывет в серебре паутинок, плывет вместе с журавлиными и гусиными косяками, и печальный звон этот так же неотделим от уставших за лето полей и лесов, как неотделим от них прощальный клекот пролетающих птиц.
«Независимо от социального происхождения…»
Неужели это возможно?
Полузабытое лихорадочное нетерпение охватило Василия, он оглянулся по сторонам, бросил недокуренную папиросу в чугунную урну и поспешил к своему верстаку: ему казалось, что чем скорее он закончит модель корпуса гидронасоса, тем быстрее же решится и его судьба. Не обязательно даже идти на рабфак. К тому же, на весь Питер их всего два, поступить туда не так-то просто, а образование у него и так среднее, можно за лето пройти ускоренную подготовку и сдавать экзамены прямо в Технологический институт. Только надо самому посмотреть это постановление Цэка: вдруг Евгений Семенович что-то напутал. Или бывает по пословице: слышал звон, да не знает, где он. Вполне возможно. Однако внутри Василия уже крепла уверенность, что ничего мастер не напутал, что так оно все и есть на самом деле, как он сказал, и можно будет снова попытаться…
Только бы имелось это постановление и только бы его не отменили.
Глава 16
На другой день, сразу же после смены, Василий поехал в Технологический институт, что на углу Международного проспекта и Фонтанки, узнать, какие туда нужны документы для поступления, когда экзамены, что сдавать и действительно ли можно без предваряющей учебы на рабфаке. В прошлом году он все это знал, но за год многое могло поменяться.
Полюстровская набережная… Финляндский вокзал… Литейный мост через Неву… Справа — набережная Жореса, слева — Робеспьера. Далее — проспект Володарского, Загородный проспект, Детскосельский вокзал… И вот наконец трамвай останавливается напротив Технологического института имени Ленина.
Несмотря на вечернее время, коридоры полны молодежи, хлопают двери, спешат в аудитории озабоченные преподаватели. Все это живо напомнило Василию недавнее прошлое, когда он и сам спешил в аудитории, слушал лекции, участвовал в работе тематических кружков, писал курсовые работы — жил, одним словом, на всю катушку. Не то что теперь.
С гулко бьющимся сердцем открыл дверь канцелярии, окунулся в гул голосов, бочком протиснулся к одному из столов, ждал, когда отхлынет народ, чтобы объясниться один на один с молоденькой девушкой-секретарем, выяснить у нее все до последней точки и запятой, чтобы уж потом не кусать себе локти, не мучиться еще одной несбывшейся надеждой.
Наконец все разъяснено, все бланки получены, и Василий вновь оказался в коридоре, но уже пустом. Слегка кружилась отчего-то голова, на лбу выступили капельки пота. Неужели все еще сказывается болезнь? Вот так пойдешь за медицинской справкой в поликлинику, а там тебе скажут… — и от нехорошего предчувствия внутри все похолодело, ноги сделались ватными. Василий добрел до ближайшей лавки и тяжело, по-стариковски, опустился на нее и привалился спиной к стене. Может, и не пытаться? Может, пусть все идет, как шло до сегодняшнего дня? Да и Мария не обрадуется его возвращению к учебе. А как сложится у них жизнь, когда он закончит образование? Что будет объединять их на долгом пути к старости? Дети? А нужны ли они в таком случае, когда и сам не знаешь, что ждет тебя впереди?
А ведь Мария уже на четвертом месяце…
В поликлинику Василий собирался долго, откладывая со дня на день, с недели на неделю. Он бросил курить, стал по утрам делать зарядку, обтирался сырым полотенцем, берегся сквозняков, не прыгал на ходу из трамвая и в трамвай, — вообще, вел себя так предусмотрительно и осторожно, точно беременная женщина. И втихомолку посмеивался над самим собой. Однако безотчетный страх за свое будущее требовал от него все новых и новых жертв и воздержаний. Даже Мария стала поглядывать на своего мужа с удивлением, не зная, что и думать.
Прошло еще какое-то время — пришел страх другой: вдруг в нем что-то осталось от той болезни, ему бы успеть залечить эти остатки, а он валяет дурака и доваляет до того, что ему не дадут положенную для поступления в институт справку. Нет, надо спешить, пока еще есть время: вступительные экзамены на вечерний факультет будут только в сентябре, а до сентября…
А у Марии живот уже округлился, выпирает, ничем его не скроешь. Да она и не старается скрывать. Даже наоборот: выставляет, будто напоказ: смотрите, мол, и завидуйте.
* * *
— Должна вас огорчить, молодой человек, — равнодушно произнесла пожилая докторша, держа перед собой амбулаторную карточку Василия. — Рентген показал затемнение правого легкого, а в вашей мокроте обнаружены палочки Коха. Вам не об учебе думать надо, а о своем здоровье. Главное — питание, режим, уверенность в скором выздоровлении. Без такой уверенности чахотку победить невозможно. Ну и мы, со своей стороны, будем способствовать… медицина не стоит на месте, так что здоровый образ жизни, плюс…
После того, как было произнесено слово «чахотка», до Василия перестал доходить смысл выползающих из круглого рта докторши продолговатых, будто сосиски, слов. Он жалко улыбнулся, оперся обеими руками в крышку стола, медленно поднялся со стула, покачнулся и…
Дальше ничего не помнит.
Очнулся Василий, тяжело продираясь на свет божий из гула и звонов, пронизавших все его тело. Остро пахло нашатырем, пощипывало в носу, горели виски, а само тело казалось полым, будто из него вынули внутренности.
— Ну, слава богу, очнулся, — произнес над ним незнакомый мужской голос. — А на вид такой здоровый парень.
— Молодежь нынче пошла квелая, Александр Потапыч, — решительно поддержал мужчину женский голос. — Чуть что — сразу в обморок. Уж и не знаю, какие из них солдаты получатся…
— Ничего, получатся, — не согласился мужчина. — Не хуже прежних.
Василий открыл глаза.
Над ним высились две белые фигуры, уходящие вверх и заканчивающиеся остроконечными головами. Сверху, будто камни, падали голоса и больно застревали в ушах.
Спрашивать эти белые фигуры о том, что с ним и где он находится, не хотелось: все это не имело теперь ни малейшего значения. И вообще: ничего уже не имело решительно никакого значения после того, как на свет явилось страшное слово «чахотка». Раньше казалось, что чахотка — это где-то там, за какой-то невидимой и непреодолимой стеной, в какой-то полуреальной стране, населенной полуреальными людьми, к которым он, Василий Мануйлов, не имеет ни малейшего отношения. Теперь все поменялось: стена рухнула, он в одночасье оказался в этом полуреальном мире, сам полуреальный, полудействительный — полуживой. А стоит ли продлять такую жизнь? Кому она нужна? Кому нужен он сам?
Василий закрыл глаза, задохнувшись жалостью к самому себе, ничуть не стесняясь своих набухших влагою глаз. В груди что-то росло, большое и тяжелое, оно сдавливало грудь, затрудняя дыхание, из горла рвался крик и уходил куда-то внутрь тела. Что-то бубнили голоса, произнося какие-то малопонятные слова. Затем укол в руку — покой, небытие, сон…
Когда Василий снова открыл глаза, он увидел испуганное, подурневшее лицо жены, ее опухшие губы, круглые и черные, как у мыши, глаза. Мария склонилась над ним, положила прохладную руку на лоб, стала говорить что-то жалостливое, говорить срывающимся шепотом — и тело Василия начало заполняться густой печалью. Он всхлипнул по-детски и заплакал облегчающими душу слезами.
Глава 17
На этот раз пребывание Василия Мануйлова в больнице было не таким долгим: всего сорок пять дней. Врачи определили его болезнь как нервный срыв на почве развивающегося туберкулеза легких, но сам туберкулез был еще в зачаточной форме, его лечение требовало усиленного питания, спокойствия и еще раз спокойствия.
В палате, где лежал не только Василий, но еще пятеро больных, и все тоже с туберкулезом легких, к нему отнеслись со вниманием и, поскольку он практически ничего не знал о своей болезни, давали всякие советы, почерпнутые из своего и чужого опыта. Василий советы выслушивал, однако следовать им не собирался, справедливо полагая, что советчики прежде всего должны своими же советами и пользоваться, и если эти советы так хороши, то и по больницам валяться им не престало. А еще он заметил, — еще с прошлого раза, — что чем хуже у человека со здоровьем, тем больше он знает, как это здоровье поправить, но почему-то не свое, а чужое.
И все-таки с одним из больных, столяром с мебельной фабрики, Василий сошелся. Может, потому, что у обоих профессии связаны с деревом, что оба из деревни и обоим как-то особенно не повезло устроиться в жизни так, как мечталось.
Столяра звали Афанасием, на вид ему было лет сорок. Высокий, худой, с прозрачными, водянисто-голубыми наивными глазами, какие встречаются у детей-переростков в глухих деревушках, чаще всего у подпасков. Афанасий сразу же привлек к себе внимание Василия пристальным взглядом необычных глаз, размеренной речью и убежденностью своих рассуждений, в которых болезнь существовала не сама по себе, а была тесно связана с жизнью, вытекала из нее и влияла на нее все более отрицательным образом по закону взаимозависимости.
Если бы не Афанасий, Василию пришлось бы худо: он потерял опору в действительности, разуверился в себе, ничто его не трогало, не увлекало, даже самые интересные книги выпадали из рук, он целыми днями мог сидеть на постели и смотреть в одну точку остановившимися обессмысленными глазами. Афанасий не давал ему уходить в себя, приставал с разговорами, тормошил. Другого кого Василий послал бы куда подальше, но только не Афанасия с его детски-наивными глазами.
— Главное в жизни человека, — говорил Афанасий, ласково поглядывая на Василия сквозь прозрачную голубизну своих зрачков, — какая у этого человека позиция относительно своей персоны. Ежели ты, положим, хочешь власти или, скажем, почестей, то непременно будешь наказан за это либо болезнью, либо смертью близких тебе людей. А почему? А потому, скажу я тебе, что станут от тебя исходить такие токи, которые, как у магнита силовые линии, на себя же и замыкаются, и кто попадет в зону их действия, тот непременно заболеет. Ежели близких нету, то заболеешь сам по причине саморазрушения организма из-за повышенной его энергетики. Ежели с властью не получилось и почестей нет, то непременно впадешь в разврат, все тебе баб будет мало, все будешь искать чего-то особенного, заболеешь какой-нибудь заразной болезнью, истратишь себя зазря. Вот, брат, какая штуковина, — заключил со вздохом и кроткой улыбкой Афанасий.
— По-твоему выходит, что если энергичный человек, так от него только вред и ничего больше? — Василий мрачно глядел на Афанасия из-под лохматых бровей, поражаясь его наивности.
— Не от каждого, а от тех, кто стремится к власти и почестям, забывая о предназначении человека делать добро всем без исключения, — убежденно вязал пеструю дорожку своих рассуждений Афанасий.
— Это попы, что ли?
— Не в попах дело, а в человеке, в его нацеленности на главное в своей жизни. Вот есть, скажем, революционеры, а есть, наоборот, такие, которым важнее всего собственная персона. Он и в революцию шел по этой самой причине. Скажешь — нет?
— Не знаю, — хмурился Василий, боясь углубляться в подобные темы, зная таящуюся в них опасность. — У меня знакомых революционеров нету.
— А Свердлов? А Дзержинский? А Урицкий? А Зиновьев? — спрашивал Афанасий, кротко сияя прозрачной голубизной глаз. — Вот и Киров тоже…
— Что — тоже?
— Имели вредную энергетику, которая и привела их к гибели.
— Ну что ты можешь знать об этих людях? — досадовал Василий. — Кто эти люди и кто ты…
— Так я ж столяр-краснодеревщик! — воскликнул Афанасий с изумлением от Васильевой непонятливости. — Кирову мы, например, делали мебель на заказ в его домашний кабинет. И в Смольный тоже. И Зиновьеву, когда он был у власти. И другим кому еще. Думаешь, не видно по мебели, чем человек дышит, какие у него взгляды на собственную персону? Очень даже видно. Мебель — она человека с головой выдает. Только не все это знают. Да.
— Ну и что Киров и Зиновьев?
— Как что? Зиновьев, например, пользовал мебель из княжеских хором. Очень уважал, чтоб была с инкрустацией и всякими завитушками. Чуешь смысл? Мол, князья пользовались, теперь мой черед. Только вензеля княжеские велел посымать и заменить на серп и молот. А Кирову подай все новое, чтоб строгость была и прямая линия.
— А причем тут болезни? У меня, например, дома никакой мебели, считай, нету. Стол да кровать, да крючки в стенах для одежды. Что ты можешь обо мне сказать по этой мебели? Ничего не можешь.
— Очень даже могу, — улыбнулся снисходительно Афанасий. — Стол сам делал? Крючки сам вбивал в стены?
— Сам. Но ведь Киров себе мебель не делал, делал ее ты. Это о тебе можно судить по мебели, которую ты делал для Кирова, а не о нем.
— Ну вот здрасти, я ваша тетя, — ласково усмехался Афанасий. — А заказывал ее кто? И чтоб такая была и этакая, чтоб и тут ящичек, и там полочка. Не-ет, о характере хозяина можно сказать доподлинно, что он из себя представляет. И обо всем прочем, что он про себя думает. А обо мне можно сказать только одно: мастер я или так себе — не пришей кобыле хвост. Ты приди ко мне домой: дома я и хозяин, и мастер — весь как на ладони. А ты говоришь…
Василию не хотелось спорить. Действительно, о чем тут спорить? Какой такой у него, у Василия, характер? Откуда у него силовые линии? Ерунда все это. Тем более ерунда, что ни к почестям, ни к власти он никогда не стремился, а стремился… Жить хотелось интересно, заронила в него Наталья Александровна, первая его учительница, тягу к такой жизни, чтобы не как лошадь: дали — ест, налили — пьет, запрягли — повезла. А еще была у Василия мечта, — может, не самая главная, но все-таки, — что родится у него сын, и он, его отец, на все вопросы сына сможет ответить сам со всеми подробностями, и не так, как когда-то отец с матерью отвечали, что, мол, все от бога и поэтому недоступно человечьему пониманию.
Что будет сын и сын этот будет человеком любознательным, Василий знал совершенно точно. Он даже во сне видел этого своего будущего сына, и как тот, совсем еще малец, спрашивает у него, у своего отца: «А скажи, папа, — спрашивает он, — сколько на небе звезд?» Или такой вопрос: «Почему всякое дерево имеет свой норов? От чего это зависит — от почвы, от сырости или еще от чего?» И он, его отец, на все эти вопросы сможет сыну ответить. Не сейчас, а когда выучится. А сегодня даже самые главные ученые не знают, почему у липы древесина мягкая, а у дуба твердая. А уж звезды на небе никто сосчитать еще не смог. Но, может быть, сосчитают, когда сын подрастет, а Василий к тому времени закончит институт. Что касается дерева — это уж Василий сам, потому что лучше модельщика никто дерева не знает.
— Ну, может, про характер еще куда ни шло, — соглашается Василий, отвлекаясь от своих бесполезных теперь мечтаний и вспомнив, что, действительно, и по тому, как сделана модель, тоже можно кое-что сказать о человеке, ее сделавшем, и о конструкторе, сделавшем чертеж этой модели. И даже по тому, как кто в стенку забивает гвоздь. Это верно. Но болезни — тут не все сходится. И Василий, пристально заглядывая в прозрачные глаза Афанасия, пытается проникнуть до самого их дна, но дна не видно, и вообще ничего в этих глазах не видно, кроме их непоколебимой наивности.
— А при чем тут болезни? — спрашивает он у Афанасия, пытаясь удержать в голове нить рассуждений. — Да и характер… это же от природы, а против природы не попрешь, горбатого могила исправит.
Худое лицо Афанасия становится серьезным, он склоняется к Василию, тихо и доверительно внушает:
— Очень даже можно поделать. И чем сильней характер, тем легче. А делать надо вот что: надо разрушить свою энергетику, свести ее на нет, чтобы никаких силовых линий, никаких токов, чтобы все люди одинаковые, все друг другу братья и сестры. А иначе какое ж равенство? Никакого. И коммунизма никакого не будет тоже. — И замолкает, загадочно улыбаясь.
— И чем же ее разрушать? — спрашивает Василий, полагая, что Афанасий член какой-нибудь секты и весь разговор его — прощупывание Василия на предмет отношения к религии.
— Спиртом, — выпаливает Афанасий убежденно.
— Пьянствовать, что ли? — криво усмехается Василий, с презрением относящийся к выпивохам. — Так для этого нечего и философию разводить…
— Вот ты не веришь, а оно так и есть, — нисколечко не обиделся Афанасий, и тут же по привычке задает вопрос, чтобы самому же на него и ответить: — Почему спиртом? А потому, скажу я тебе, что спирт расслабляет организм, делает душу мягкой, лишает ее других соблазнов. Почему такое происходит? Потому, что спирт сам есть наивысший из всех соблазнов соблазн. Это — с одной стороны. С другой стороны, спирт убивает микробы. Ты был в Кунсткамере? Во-от. В банке уродец — и не гниет. Почему? Спирт. Тут главное, скажу тебе, не привыкнуть, не стать алкашом. Главное и самое трудное. А ты преодолей соблазн. Преодолеешь — станешь хозяином самого себя. Врачи — они что? Они о каждом из нас думают как о среднестатистическом существе: голова, руки-ноги, туловище и внутренности — все на одну колодку. А каждый человек, между прочим, имеет от других существенные различия, каждый одной и той же болезнью болеет по-своему. И одни и те же лекарства на нас по-разному действуют. А спирт — это, брат, не лекарство, это — существо жизни. Он, спирт, всех уравнивает, он везде и во всем. Может, даже в камне. Только научились его выделять из природы не так давно. А поняли его природную сущность так и совсем недавно. И очень немногие. А для всех других спирт есть алкоголь, отвлечение от жизни. В этом вся штука.
— Ну и как это практически делать?
— А очень просто: пятьдесят грамм спирта и пятьдесят грамм сливочного масла. Сперва проглотил масло, потом, через пять минут, спирт. Не разбавляя. Каждый день перед обедом. За полчаса. Месяц. Потом перерыв в месяц же. И еще раз. Так до полного излечения.
— А сам ты что ж не излечился?
— Я-то? А я только два месяца назад дошел до этого понимания, — доверительно сообщил Афанасий. — Один месяц поупотреблял, месяц перерыв, теперь вот снова…
— И попал в больницу…
Афанасий и на этот раз не обиделся. Он вообще, похоже, не умел обижаться.
— Это — по глупости: поехал на рыбалку, на Ладогу, стал переходить протоку и сорвался в воду: скользко было. Простыл. Только поэтому. А так бы — ни в жизнь. — И предложил: — Если хочешь, сегодня и начнем. Вместе.
— У меня ни спирта, ни масла.
— У меня есть. Главное что? Главное — верить. Вот что. И порядок.
Масло Василий проглотил с трудом. Спирт обжог язык, нёбо, горло, огнем пролился в желудок.
— Не дыши ртом! — командовал Афанасий. — Носом, носом дыши!
Василий втягивал в себя воздух побелевшими ноздрями, вытирал слезы вафельным полотенцем.
Постепенно огонь утих, по телу разлилась теплота и успокоительная слабость.
— Чувствуешь? А? Вот то-то и оно, — удовлетворенно говорил Афанасий, с нежностью заглядывая Василию в серые его с зеленцой глаза своими прозрачно-голубыми. — И что ты чувствуешь? — спрашивал через минуту.
— Ничего, — отвечал Василий.
— Вот оно и есть то самое, — радовался Афанасий.
А Василий устало подумал: «Может, он и прав… насчет энергетики… Ведь не все же рвутся в инженеры, большинству и четырех классов довольно, значит, какая-то тут энергетика имеется. Кто его знает…»
Его властно тянуло в сон.
Глава 18
Позднее северное лето доживало последние дни в тепле и зелено-голубом великолепии своего убранства. Между тем среди зелени уже видны там и сям преждевременные желтые пряди, чем-то напоминающие первую седину еще не старого человека. Редкие белые облачка скользят по голубому небосводу и пропадают вдали. Если пристально проследить за одним из них, то станет видно, как быстро облако меняет свою форму: вот оно показалось из-за верхушек деревьев в виде медвежьей головы, однако нос у него курится игривыми прядями и расползается на глазах. За носом куда-то исчезают уши — и вот уже нет медвежьей головы, а есть что-то, похожее на огурец, огурец вскоре превращается в замысловатую картофелину, картофелина вытягивается, распадается на прозрачные ломтики, а те исчезают из глаз окончательно, будто и не было никакого облака. Тонкий полупрозрачный серп месяца точно играет в детские прятки с солнцем: он то скрывается за белым барашком, то, боднув его острыми рожками, выбирается на простор и становится ярче, когда солнце, в свою очередь, кокетливо заслоняет свой лик пышным хвостом белошерстой лисицы.
Однако ветер, дующий с северных пределов Атлантики, уже прохладен, заставляет ежиться и кутаться в теплые одежды.
За те недели, что Василий провел в больнице, он привык перед обедом принимать пятьдесят граммов спирта, жадно и торопливо проглатывать обед и погружаться через какое-то время в расслабляющую дремоту — без мыслей, без желаний, без чувств. Даже задумываться над своим новым состоянием не хотелось. Что-то ему говорили доктора — все мимо. Сестры приносили какие-то порошки — они с Афанасием высыпали их в раковину. К вечеру в палате появлялась Мария, что-то рассказывала ему о том, что делается за стенами больницы — и это все тоже шло мимо, не касаясь Василия даже краешком. Правда, утром и ближе к вечеру состояние безразличного блаженства уступало место непонятной тревоге, когда не знаешь, куда себя деть, чем занять свой мозг, свое тело. Бесконечные рассуждения Афанасия — и все об одном и том же — вызывали досаду, его умильные улыбочки — раздражение, но досаду и раздражение приходилось прятать от него, потому что спирта у Василия не было, и где его доставать, он не знал, а когда спрашивал об этом Афанасия, тот лишь загадочно улыбался, обещая раскрыть свою тайну потом, когда Василий будет выписываться.
Но Василий и сам догадывался, откуда у Афанасия спирт и масло: тот как-то проговорился, что жена его работает на оптовой продуктовой базе, а там, надо думать, если даже и нет спирта, так есть масло, которое можно обменивать на спирт. А иначе откуда? Даже здесь, в больнице, спирт для протирки дают по каплям, и медсестры эти капли в маленьких пузыречках держат всегда при себе.
Зависимость от Афанасия угнетала Василия, но ему даже в голову не приходило попросить у Марии, чтобы она взяла на себя заботу раздобывать ему спирт и масло: он знал, что нет у нее таких возможностей, да и зарплата их не позволит ей такие непомерные траты. Поэтому, когда Василию сообщили, что его через два дня выпишут домой, он испытал облегчение — и не столько оттого, что выписывают, сколько оттого, что не надо будет ждать обеда и с деланным безразличием следить, как Афанасий, прикрывшись полой полосатой пижамы, наливает в мензурку спирт и, зыркнув по сторонам глазами, протягивает ее Василию. Принимать эту мензурку из рук Афанасия становилось с каждым разом все тягостнее, но и отказаться от нее не было сил: вдруг и в самом деле поможет вылечиться. А уж как вылечится, так сразу же и перестанет принимать это «лекарство».
Василий вышел за ворота больницы вместе с Марией, остановился, посмотрел назад: двухэтажный корпус больницы тонул в трепетной тени могучих лип и казался вымершим. Даже не верилось, что он провел в ее стенах полтора месяца, что там остались и продолжают жить люди, тот же Афанасий, а на его, Василия, койку у окна не сегодня — завтра положат другого. Никакой болезни Василий не чувствовал, тело было послушно его воле, голова работала исправно. Вылечился? Нет, врач, напутствуя Василия, сказал, что дело это не скорое, что, вообще говоря, вылечиваются очень немногие, что медицина еще не научилась на все сто процентов избавлять человека от чахотки, что победить эту болезнь можно лишь общим оздоровлением жизни и быта всего народа, а до этого еще далеко.
А еще врач посоветовал ему сменить сырой ленинградский климат на более здоровый южный, пока болезнь не зашла слишком далеко, но Василий воспринял этот совет как нечто совершенно невозможное, нереальное, следовательно, и не обязательное.
Как-то в начале сентября Василий, возвращаясь домой с получкой, не удержался и, зайдя в коммерческий магазин, вышел оттуда с бутылкой водки и куском развесного вологодского масла, завернутого в вощеную бумагу. Неделю после больницы он не чувствовал никакой тяги к спиртному, как не чувствовал самой болезни, но вот появились деньги — и тут же откуда-то возникло воспоминание об Афанасии, услышался его уверенно-наивный голос, память услужливо напомнила, как приятно расслаблялись тело и душа после масла и спирта, как уходили прочь все заботы и тревоги. И хотя после больницы забот не прибавилось, а тревогам вроде бы неоткуда взяться, так ведь и ничего хорошего жизнь ему не сулила тоже. Ну, родит Мария дитя, может, даже сына, а что он, Василий, даст своему сыну? Дать ему совершенно нечего. То есть все, что Василий может ему дать, сын и без него получит в школе. Разве что отец научит его держать в руках рубанок и стамеску, понимать дерево и получать хоть какую-то радость от сделанной своими руками вещи. Но это когда еще будет… А что самому Василию осталось в этой жизни? В чем его радости? В семье? Для этого надо в первую очередь любить свою жену, а он Марию… он к ней относится хорошо, но любовь — это что-то совсем другое.
Василий шел домой, нес в карманах коричневого плаща свои покупки, и ему казалось, что все встречные догадываются, что у него в карманах и почему оно там оказалось. И он, будто оправдываясь перед этими людьми, стал мысленно убеждать их, что дело не в том, что ему вдруг захотелось выпить и заглушить водкой свою тоску, а дело в болезни, которую, если верить Афанасию, лучше всего лечить спиртом. Или, на худой конец, водкой.
Поймав себя на том, что ищет оправдание своему поступку, что, подобно Афанасию, готов с головой погрузиться в оправдывающую это его желание философию, хотя погружаться не во что: философия едва по щиколотки, а желание выше головы. Василий нахмурился и подумал со злостью: «Уж хоть себе-то не ври», — а подумав так, почувствовал облегчение оттого, что перестал играть сам с собой в кошки-мышки. И тут же попробовал защититься от себя самого вялым обещанием, что выпьет рюмку — и на этом все.
Мария встретила Василия возле дома: стояла, круглая, оплывшая, разговаривала с соседкой. Увидев мужа, дрогнула всем лицом своим, уронила руки вдоль тела, ожидала с жалкой улыбкой на губах, со страхом в глазах и надеждой. Василий точно впервые увидел такой свою жену — и сердце у него защемило от ответной жалости к ней. Он вдруг почувствовал себя виноватым перед Марией — и за то, что женился на ней, и что заболел, и что вспоминает о Марии лишь тогда, когда возникает в ней какая-то нужда. А ведь она, может быть, не менее несчастна, чем он сам.
Дрогнувшими губами он поцеловал Марию в щеку, бережно приобнял за плечи, повел в дом. В комнате, вытащив из карманов бутылку и сверток, стал было объяснять, почему купил все это, но Мария, всплеснув руками, рассмеялась, перебила Василия:
— Ой, я и сама купила водки! Понимаешь, вдруг вспомнила, что ты в этот день приехал из Пятигорска… Помнишь? У меня еще была Зинаида… я тебя ждала на два дня позже… а ты привез вино и фрукты… а я тогда в первый раз увидела персики… Ой, даже не верится, что уже год прошел с тех пор… Ведь мы с тобой с тех самых пор только и начали жить по-настоящему, а то как-то все… — и тут же слезы брызнули у Марии из глаз, она робко прильнула к Василию всем телом и, хлюпая носом, стала говорить, как она ждала его, какие страсти ей чудились тогда и, если бы не Зинаида, она бы, наверное, сошла с ума…
И Василий впервые не увидел, а ощутил Марию своей женой, то есть самым близким ему человеком, с которым ему предстоит пройти долгий путь — и это впервые же не испугало его своей неотвратимостью, а даже успокоило. Рядом с ним дышало живое существо, женщина, готовящаяся стать матерью его ребенка, существо, которое его любило и ради этой любви готовое терпеть его отчужденность. Вот он чуть приласкал ее — и она уже счастлива, расцвела, ластится, будто кошка. Чем же она виновата перед ним, что все так получилось?…
— Муренок ты мой, — прошептал Василий невесть откуда взявшееся слово, и крепко прижал голову Марии к своей груди, чувствуя, как теплая волна обволакивает его тело еще неиспытанной им нежностью.
Глава 19
Трамвай дернулся и, прокатившись несколько метров по инерции, замер, едва отъехав от остановки.
— Тока нет! Ток выключили! — закричала кондукторша, и народ, набившийся в вагоны, ворча и чертыхаясь, полез наружу, под холодный моросящий дождь.
Василий Мануйлов тоже выбрался из трамвая и, подняв воротник плаща, зашагал в сторону завода вместе со всеми.
Кто-то толкнул его локтем. Василий покосился и увидел высокого парня в брезентовой куртке и кожаной фуражке, надвинутой на глаза, обгоняющего его сбоку. Из-под фуражки торчал длинный нос и широкий подбородок. Несколько мгновений потребовалось Василию, чтобы признать в высоком парне Димку Ерофеева. Догнав его, он сам толкнул его локтем, проворчав с нарочитой угрозой:
— Чего толкаешься, Ерофеич? Чай не на трибуну опаздываешь…
Ерофеев резко остановился, обернулся, указательным пальцем ткнул свою фуражку под козырек, с которого капала вода, глянул на Василия исподлобья тяжелым, неломким взглядом, пробурчал недовольно:
— Что-то не припомню…
— Или память девичьей стала? — Василий протянул руку, назвался: — Мануйлов, Василий. Помнишь, в Москву вместе ездили? Ну и… и на рабфаке вместе учились… Правда, в разных группах…
— А-ааа! — протянул Димка равнодушно, вяло пожав Василию руку. — Как же, помню. Рационализатор! Модельщиком, кажется, работаешь. Ну, как же, как же! — И спросил строго: — Учишься?
— Н-нет, — запнулся Василий, не ожидавший такого холодного к себе отношения Димки. Однако пояснил: — Приболел я: пневмония, потом осложнение — такое вот дело. Лечусь. Там видно будет. А ты как?
— Я-то? Да так, — произнес Димка будто через силу, передернул широкими плечами и посмотрел на Василия испытующе, пряча за припухлыми веками свой тяжелый взгляд. — Тоже болел. Пришлось год пропустить. Сейчас наверстываю.
Они пошагали рядом, втянув головы в плечи, в густом потоке рабочего люда, шаркающего в молчании по лоснящейся от дождя мостовой. Нарушать это суровое молчание было не с руки. Да и говорить вроде не о чем. Но за проходной, перед тем как разойтись в разные стороны, Димка спросил Василия:
— А ведь ты, помнится, на Путиловце работал? Или я что-то путаю?
Нечто настораживающее почудилось Василию в голосе Димки: от этого голоса повеяло чем-то далеким, тревожным, точно Димка спросил у него: «А ты не из кулаков ли будешь? А фамилия твоя действительно Мануйлов?» А с другой стороны, и Димка наверняка побаивается, что Василий прознает про его судимость.
— Да нет, Ерофеев, ты ничего не путаешь, — ответил Василий с кривой усмешкой. — Да, было дело — работал на Путиловце. Так ведь и ты тоже, если мне не изменяет память, работал на Путиловце… — И примиряюще добавил: — Везде хорошо, где нас нету.
— Да, это верно, — понимающе кивнул головой Димка. Затем, собрав на лбу глубокие морщины, поскреб в раздумчивости зубами нижнюю губу, хотел что-то сказать, но не сказал, махнул рукой то ли прощально, то ли с досады, повернулся и пошел к сборочным цехам широкими шагами, сутулясь больше прежнего.
Василий с недоумением посмотрел ему вслед, качнул головой, развернулся и зашагал в сторону приземистого кирпичного корпуса литейки, над которым уже вовсю дымили старые закопченные трубы, часто перетянутые ржавыми железными обручами. Слышался мерный рокот вентиляторов, шипение и свист воздуходувок.
Поведение Димки Ерофеева казалось Василию странным, необъяснимым. Ну, сидел… Ну, и что? И при чем тут Василий? Не он же тащил Димку на Ореховую, 2. Вон у них, еще на Путиловском, году в 32-м, взяли одного мужика из литейщиков: показывал листовку, а в ней нарисована карта России, и стоят с одной стороны карты Сталин, Орджоникидзе, Енукидзе и еще кто-то из шашлычников, а с другой — Троцкий, Зиновьев, Каменев — жиды. Внизу написано: «И заспорили „славяне“, кому править на Руси… Что ни власть, то басурмане… Боже, Русь от них спаси!»
Василий тоже тогда подержал в руках эту листовку. Помнится, было почему-то неловко за тех, кто ее сочинил, хотя в листовке изображена и написана была вроде бы чистая правда. Но, видать, не всякое лыко в строку…
А литейщик тот, что принес листовку на завод, через несколько дней пропал, как в воду канул. Но вслух о нем даже и не вспоминали. Однако каждый что-то про себя по этому поводу думал. И Василий, разумеется, тоже. «Поделом, — думал он о пропавшем литейщике. — Не клепай на власть — себе дороже выйдет».
История с листовкой и литейщиком, к тому же, лишний раз доказывала существование оппозиции советской власти и всяких подпольных организаций. Ведь чтобы напечатать ту же листовку, надо иметь и типографию, и бумагу, и краски, и людей, которые листовку будут распространять. А это уже сотни и сотни человек. Если не тысячи. И когда приходишь к такому выводу, то невольно оглядываешься по сторонам и думаешь: а не вон тот ли вечно хмурый и чем-то недовольный человек состоит в оппозиции или, того хуже, в подпольной организации? И вон тот — с виду такой же. А когда так начинаешь смотреть да оглядываться, то и собственная физиономия в зеркале кажется подозрительной: тоже ведь радость из нее не фонтаном брызжет.
* * *
У Димки Ерофеева друзей не было. После возвращения из лагеря вокруг него образовался невидимый круг, переступить который никто из его старых знакомых не отваживался. Сам Димка поначалу сунется к одному-другому: мол, что да как? — а вчерашние друзья-товарищи начинают мяться, смотрят в сторону, спешат уйти, ссылаясь на срочные дела. И Димка еще более замкнулся, сам стал всех сторониться; «да», «нет», «здравствуй», «прощай» — все, что слышали от него окружающие. Даже дома Димка открывал рот лишь при самой крайней нужде, особенно после того, как младший его братишка Колька вдруг ни с того, ни с сего выпалил со слезами в голосе: ты, мол, Димка, враг народа и мне никакой не брат, из-за тебя меня из пионеров выгнали. Отец отодрал пацаненка ремнем, крик стоял на весь дом, сосед, Иоахим Моисеевич Катцель, только что вернувшийся с работы и пивший в своей квартире чай с пресными оладьями, вызвал милицию, Димку и отца забрали, составили протокол, сосед показал, что младшего сына отец стегал по политическим соображениям, поскольку стоит на стороне старшего сына, который был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм и до конца не исправился.
Несколько часов отец и сын Ерофеевы просидели в холодной, но потом явился оперуполномоченный по Металлическому заводу товарищ Курзень, хмурый и недовольный, что его потревожили в такую поздноту, переговорил с милицейским начальством, и Ерофеевых отпустили.
Курзень Димке в тот вечер ничего не сказал, но на следующий день вызвал к себе и, глядя на Димку холодными безжалостными глазами, посоветовал быть осмотрительным и не давать никому повода для подобных обвинений, какие предъявили ему в милиции, особенно в антисемитизме, иначе он, Курзень, уже не сможет Димке ничем помочь, а новый срок заключения окажется раза в два-три больше предыдущего.
Димка не оправдывался, хотя никакого антисемитизма не было. Тем более, антисоветчины. Но знал, что обвинить его могут в чем угодно. И кто угодно. Особенно старый Катцель, которого в квартире никто не любит за склочный характер. Даже собственная дочь. К тому же этот Катцель, как только Димку посадили, писал всюду и требовал выселить Ерофеевых из квартиры, мотивируя свое требование тем, что квартира именуется «квартирой коммунистического быта», а какой же в ней может быть коммунистический быт, если в ней проживают родственники врага народа? Да и жена у Катцеля больная, требует дополнительной жилплощади. И притих старый Катцель лишь после того, как ему отдали жилплощадь поэта Золотинского, свихнувшегося на писании стихов. Но надолго ли притих — неизвестно.
Все это, вместе взятое, страшно угнетало Димкину душу, непривычную к одиночеству и самостоятельности. И встречу с Василием он поначалу тоже воспринял как желание мало знакомого человека влезть в его, Димкину, душу, потоптаться на ней и обвинить Димку в еще неведомых ему преступлениях. Но чем дольше он думал о встрече с Васькой Мануйловым, тем меньше видел в ней опасности для себя, тем сильнее хотелось встретиться еще раз, чтобы понять и разрешить что-то такое, что никак не удавалось понять и разрешить в одиночку. Намек Васьки на то, что и он, Димка, работал на Путиловском, и что «везде хорошо, где нас нету», говорил о том, что Мануйлов знает Димкино прошлое, но не собирается чураться Димки, что для него это обстоятельство не имеет никакого значения, что, может быть, он и сам пострадал безвинно и тоже ищет себе товарища.
И Димка решил сегодня же дождаться Ваську у проходной и поговорить с ним. Не в лоб, конечно, а осторожненько, с подходом, издалека. И в ожидании встречи с Василием он впервые за последний год-полтора почувствовал, что мышцы лица его расслабились, разгладились, и нет того мучительного напряжения во всем теле, которое он уже и не замечал, но которое не отпускало его даже во сне.
Глава 20
К вечеру разъяснилось, выглянуло солнце, потеплело. В кронах старых лип возились и отчаянно кричали воробьи, иногда шумным комком падали в траву, чего-то выискивали там и клевали, не замечая ни людей, ни собак, ни кошек. А в небе что-то не могли поделить между собой вороны и галки, и тоже галдели на разные голоса. И сочные листья на деревьях, и густая трава, и робкое солнце, и глубокая синева небес в разрывах облаков — все ликовало и будто стремилось друг к другу, соединяясь в единый многоцветный и многоголосый хоровод, который бывает лишь по весне, точно на белом свете перепутались времена года.
— Хорошо, — мечтательно произнес Василий и, сцепив за спиной руки, прогнулся назад всем телом и блаженно улыбнулся, подставив вечернему солнцу свое бледное лицо.
— Да-а, осень, — согласился Димка, тут же вспомнив осень прошлого года, томительное ожидание амнистии, тоску по дому. Затем воспоминание, как всегда, перекинулось на весну, оно оживило погибших Плошкина, Пакуса, одноглазого грузина, профессора Каменского, Пашку Дедыко, комвзвода Кривоносова и странного якута, застрелившего Пашку и через несколько минут застреленного Плошкиным, — всех, с кем пришлось скитаться по весенней тайге сперва прочь от лагеря и прииска, а затем назад, к лагерю и прииску. Сейчас конец августа, а тогда был май, распускались деревья и поднималась трава, тайга полнилась звуками пробуждающейся жизни, и была такая же, как и нынче, тревога в душе, и такая же растерянность перед чем-то огромным и непонятным, и хотя Димка не мог все эти чувства свои и ощущения внятно выразить словами даже самому себе, они жили в нем и требовали выхода.
И что-то вдруг нашло на Димку, — Васькино ли настроение, его ли участие и открытость, — а только начал Димка рассказывать про лагерь, про работу в забое, про обвал в штреке, про побег и возвращение, сбивался, возвращался к самому началу, то есть к аресту, рабфаковскому кружку внестудийного изучения марксизма-ленинизма и даже в свое далекое детство. Он вновь переживал свое прошлое, но уже как-то по-другому, без былого мучительного сожаления и тоски. При этом Димка не столько видел, сколько ощущал, что Василий понимает его, что его не пугает Димкино прошлое — и это еще больше подкупало Димку и делало его признание безоглядно откровенным и правдивым.
Единственное, чего не коснулся Димка в своем рассказе, так это допроса, который учинила ему Сонька Золотая Ножка: стыдно было рассказывать про это, стыдно своего пережитого ужаса, стыдно за Соньку, воспоминания о которой ложились черным пятном на всех женщин без разбору. Ну и, конечно, ни словом не упомянул Димка о своей связи с оперуполномоченным от госбезопасности Курзенем, о подписанной бумаге.
И Василий тоже рассказал Димке о себе, но более скупо. Однако не потому, что менее доверял Димке, а потому что Димкина судьба оказалась куда более трагической, чем судьба самого Василия, более, что ли, запутанной и даже интересной. Так Василию, по крайней мере, казалось в тот вечер. Да и то сказать: в тюрьме не сидел, в забое не вкалывал, от смерти не бегал. А и было-то всего ничего — не приняли в комсомол да исключили с рабфака. И без комсомола можно жить, и без высшего образования тоже.
Потом, когда оба выдохлись, зашли на Светлановском проспекте в дежурный продмаг. Димка купил там бутылку водки, кое-какие закуски (у Василия денег с собой не было, Мария выдавала ему лишь на обед), вышли на улицу, остановились в нерешительности.
— Пойдем в парк, — предложил Димка. — Посидим под сосной… подальше от людей.
Но Василий настоял пойти к нему домой, — благо, совсем рядом. Ему почему-то хотелось познакомить Димку с Марией, показать, как он живет, и, может быть, этим как-то отплатить Димке за его откровенность и доверие. Потому что ничего, кроме Марии и маленькой комнатенки, у Василия не имелось.
Мария собрала на стол, и хотя была недовольна поздним вторжением чужого человека в устоявшийся покой ее маленького мирка, однако виду не показала. А мужчины, похоже, едва замечали ее присутствие, так были увлечены чем-то своим, ей, Марии, совершенно непонятным, и все говорили, говорили… Затем, покончив с водкой и закуской, выпив по два стакана чаю, поднялись и ушли в опустившуюся над городом ночь…
— Ох, как неловко вышло, — произнес Димка, останавливаясь и прислушиваясь к недалекому дребезжанию трамвая. — Ведь мы с тобой твоей жене даже конфет не купили… И вообще как-то… Это я все виноват… Ты уж, Вась, извинись перед нею за меня, а то стыдно, ей-богу…
— Да ничего, она без претензий, — успокоил Димку Василий.
С этого вечера Василий и Димка стали встречаться на проходной чуть ли ни каждый вечер. То Димка ждет Василия, то Василий Димку. И пешком идут до самого Васильева дома в Лесном, где на одной из узеньких улочек, ответвляющихся от Светлановского проспекта, почти на опушке соснового бора стоит деревянный двухэтажный дом всего из четырех густо заселенных коммунальных квартир. Каждый в этой неожиданно возникшей дружбе наверстывал что-то свое и открывал в самом себе дотоле ему неизвестные стороны. Тянуло Димку к уюту чужой семьи, здесь он отходил душой и старался изо всех сил быть чем-нибудь полезным для новых своих друзей.
Однажды, в воскресенье, Димка приехал к Василию домой — собирались пойти на природу, — и застал у них девушку лет восемнадцати, как оказалось — Мариину двоюродную сестру, недавно приехавшую в Ленинград и поступавшую на «Светлану» ученицей сборщика электронных ламп. Девчонка была плотненькая, крепенькая, как гриб боровик, с большими темно-серыми, с таинственной синевой глазами.
— Тая, — тихо произнесла она и протянула Димке ладошку с плотно прижатыми друг к другу пальцами.
И у Димки во рту сразу стало сухо, язык прилип к небу и никак не желал отлипать, хотя Димке впервые в жизни хотелось быть речистым и необыкновенно умным. Но слова не находились, а если что-то и приходило в голову, так исключительно не по делу.
Почти весь день провели в парке, лишь под вечер прогнала их оттуда неожиданно наплывшая с Финского залива мрачная туча. Последние метров двести бежали под дождем. Василий придерживал Марию под руку, укрывая ее от дождя пикейным одеялом. Димка тащил наспех собранные газетные кульки и свертки. Перед домом все это, размокнув, вдруг развалилось в его руках, посыпалось на мокрую землю, и этот пустяковый факт вдруг привел всех четверых в такое веселое состояние, с таким хохотом собирали они рассыпавшиеся вещи, будто ничего смешнее на свете и не бывает. С хохотом же ввалились в квартиру и долго не могли успокоиться, каждый пустяк окрашивался в их глазах в легкомысленные тона, каждое слово звучало призывом к веселью.
С этого воскресенья Димкина жизнь наполнилась новым смыслом — ожиданием встречи с Таисией Ершовой. А встречи эти случались только по воскресеньям и только у Василия дома. Ни на что другое Димка не осмеливался, да и времени было мало: подошли выпускные экзамены, они же — вступительные в институт, приходилось зубрить все свободное время. Но мудреные математические и физические формулы, не менее мудреные формулы философские плохо лезли в Димкину голову, где почти все закоулочки занимала Тая со своими темными с таинственной синевой глазами, плотной фигуркой и простенькими мыслями.
Василий, глядя на увлечение своего едва обретенного друга, хмурился, завидовал Димке. Мало того, что тот через месяц станет студентом, и уже это само по себе отдалит его от Василия, так он еще и втюрился в Тайку, девку и не шибко-то привлекательную, а тем более умную. И когда Таисия появлялась в их квартире, а появлялась она часто, и не только по воскресеньям, старался поддеть девчонку ее деревенскими замашками, наивными взглядами на действительность, и даже тем, что она так вдруг увлеклась Димкой Ерофеевым.
— Ну, выйдешь за него замуж, — говорил Василий, расхаживая по комнате. — Ну и что? Он инженер, а у тебя всего четыре класса. И книжек ты не читаешь, а на одних кинофильмах да на Любови Орловой настоящую семью не построишь. О чем вы будете говорить? Говорить вам не о чем.
— Будто вы с Маней умные разговоры разговариваете, — отбивалась Тая, сердито поглядывая на Василия.
— Так откуда им взяться, умным-то разговорам? — сердился Василий. — Она за всю жизнь ни одной книжки не прочитала.
— Книжками сыт не будешь, — не сдавалась девчонка и уходила на кухню помогать Марии по хозяйству.
А Мария была довольна тем, что Таисия пришлась по душе Димке, а он — ей. Собственно, она и пригласила ее к себе домой, в тайне рассчитывая, что Димка увлечется ее двоюродной сестрой. Тем более что дружба Василия с Димкой пугала Марию. Во-первых, Василий стал как-то решительно удаляться от семьи; во-вторых, они с Димкой как сойдутся вместе, так непременно бутылка на стол и пьяные разговоры, которые заставляли сжиматься сердце Марии своей ожесточенностью; и, наконец, в-третьих, стала Мария то и дело натыкаться на внимательный и тоскующий взгляд Димкиных серых глаз, пугавший ее откровенной настойчивостью. А в памяти Марии еще свежи были воспоминания о домогательствах Ивана Кондорова, которые чуть не лишили ее Василия. И вот только все наладилось: Василий стал и к семье потихоньку привыкать, и об учебе вспоминать все реже, и к самой Марии появилось у него что-то теплое и бережное, как вдруг откуда ни возьмись этот Димка. Нет, кто-кто, а Мария была очень довольна своей находчивостью и чем эта находчивость обернулась.
Глава 21
Книга очерков Алексея Задонова «По великому пути» — о его путешествии по Турксибу — вышла в январе; в июле, тоже отдельной книжкой, вышел роман «Перековка» — об идейной и нравственной перековке сознания старого интеллигента, — поначалу напечатанный с некоторыми сокращениями в «Новом мире» летом же прошлого года. И хотя Алексей Петрович не считал эти произведения вершиной творчества писателя Алексея Задонова, все же был доволен самим фактом своего вступления в большую литературу. Теперь-то он может наконец проститься с газетой и полностью посвятить себя главному делу своей жизни — созданию такого романа, который был бы не только созвучен эпохе, но и открыл бы новую страницу в русской литературе.
Прямо в издательстве Алексей Петрович приобрел по льготной цене пятьдесят экземпляров романа и принялся раздаривать эти экземпляры направо и налево, как до этого раздаривал книгу очерков. Он был уверен, что подаренную книгу, да еще с надписью автора, не могут не прочитать — хотя бы из приличия, следовательно, все более-менее близкие ему люди станут еще ближе, а сам он в их глазах поднимется еще на одну ступеньку вверх. Правда, эти люди не занимают высоких постов, не от них зависит популярность и значение писателя Задонова в литературных и издательских кругах, зато одни знали Алешку Задонова чуть ли не с пеленок, будучи приятелями отца, с другими Алексей Петрович учился в гимназии, с третьими в университете, с четвертыми работал по железнодорожному ведомству, пятые были ближними или дальними родственниками, шестые… да только вряд ли кто из них подозревал за ним такую будущность, если вообще подозревал хоть что-нибудь, — так тем более.
Вернувшись из командировки в Донбасс, где спешно и повсеместно прокладывались вторые пути для бесперебойной железнодорожной связи с центром, на следующий день утром, едва Алексей Петрович переступил порог своего кабинета, его вызвал к себе главный редактор.
— Заходи, Алексей, — сказал Главный, протянув через стол руку и, лишь только Задонов опустился в кресло, подвинул по столу к нему его же роман, ткнул в него пальцем, велел: — Пиши!
Алексей Петрович ухмыльнулся, раскрыл книгу, размашисто накидал несколько уже давно созревших в голове строк: «Моему любимому начальнику и благодетелю в качестве подхалимажа, в количестве одного экземпляра, лично им приобретенного за свои коврижки, дарю бесплатно сии строчки с пожеланиями благожелательного ко мне отношения и уверениями в вечной любви и покорности.
Алеха Задонов. 20 августа 1935 года».
Главный прочел, буркнул:
— Шут гороховый. За это поедешь в командировку в Калининскую область. Нужен очерк о передовом колхозе, нужен положительный, так сказать, пример…
— Завтра? Завтра не могу: на завтра приглашен к Горькому. На восемнадцать нуль-нуль.
— Ишь ты, — сказал Главный и с любопытством уставился на Задонова. — Растешь, однако. Или уже вырос?
— Скорее, подрос.
— Да-а, вре-емя… Сам звонил?
— Нет, секретарь.
— В колхоз не завтра, однако ехать надо. Как только отпишешься о командировке в Донбасс. На всякий случай вот тебе адрес, фамилия председателя колхоза, анкетные данные. И не тяни резину. Дерзай! — И, когда Алексей Петрович уже взялся за ручку двери, произнес все тем же ворчливым голосом: — Ты, Алексей, смотри там не зарывайся: у Горького бывает народец тот еще… А то я тебя знаю… — И покрутил в воздухе длинными пальцами несостоявшегося музыканта.
— Это я перед вами могу зарываться, товарищ начальник, а перед Горьким… — и повторил жест редактора, скорчив при этом рожу законченного идиота.
Алексей Петрович уже с час поди безвылазно сидит у себя в редакционном кабинете. Его высокий лоб, с нависающими над ним густыми русыми волосами, хмур и озабочен, на столе исчерканный лист бумаги, на котором он пытается слепить из десятка слов дарственную надпись Максиму Горькому. Надпись должна быть короткой и емкой, теплой, искренней и не избитой. Горький — это Горький, а не Главный, с которым ты запанибрата.
Еще вчера Алексей Петрович даже не помышлял дарить Горькому книгу, тем более — оказаться его гостем, но вечером позвонил секретарь писателя Крючков и от имени Горького пригласил Задонова на завтра — в связи с отъездом Алексея Максимовича в Крым на отдых и лечение. Он так и сказал: «в связи», точно отъезд на отдых и лечение непременно требовал некоего участия в нем писателя Задонова. По тону секретаря не трудно было догадаться, что отказ от приглашения невозможен, — да Алексею Петровичу и в голову бы не пришло отказаться, — однако тон этот его покоробил.
Впрочем, обиделся Алексей Петрович уже потом, когда положил трубку, а пока выслушивал вежливую и сухую речь секретаря, пребывал в состоянии оглушенности — больше от неожиданности, чем от самого тона. И с той самой минуты в нем грызутся два Алешки Задонова: один требует не ходить, потому что унизили известного журналиста и писателя Алексея Задонова; другой, наоборот, убеждает, что надо быть действительно законченным идиотом, чтобы не пойти к самому Горькому, потому что, во-первых, интересно, а во-вторых… и в-третьих-десятых то же самое, а если обращать внимание на тон каждого лакея, то надо сидеть дома и не высовывать из него своего задранного носа.
Нос оказался аргументом неоспоримым — и другой Алешка Задонов пересилил.
Окно в кабинете Алексея Петровича распахнуто настежь, в него глянцевитой листвой заглядывает старый тополь, в листве неистово чирикают и возятся воробьи. На белесом небе уже несколько дней ни облачка, тополь сонно помаргивает мириадами зеленых глаз. Жарко и душно. Хочется на природу, лучше — в длительную и далекую командировку. Лежать на полке, смотреть в окно на проплывающие пейзажи, думать под стук колес о том, что где-то ждет тебя новая любовь, представлять себе ее глаза, фигуру, вслушиваться в ее речи, тосковать…
Алексей Петрович и героя своего романа наградил этой тоской и ожиданием, но ожиданием не просто женщины, а женщины молодой, красивой, наивной и свежей, как дыхание утреннего ветерка. При этом писал интеллигента со своего брата Левы, у которого таких ожиданий не было и не могло быть: ему бы свою Катерину удержать возле себя — и то слава богу, но в основном брат вполне подходил в качестве натуры для перековавшегося интеллигента. Все остальное Алексей Петрович списал с самого себя. Да и как иначе?
А тут потей и пиши… Хотя писать, быть может, вовсе и не обязательно, как не обязательно идти к Горькому со своей книгой: наверняка она у него уже имеется. Однако идти с пустыми руками неприлично…
Отношение у Алексея Петровича к Горькому сложное и противоречивое. Подкупало и восхищало, что русский человек из низов поднялся на такую высоту и стал как бы символом эпохи. Однако писатель Горький не был близок Задонову: он чувствовал в его выверенных строчках фальшь и двусмысленность. По мнению Алексея Петровича, Горький, хотя и называется официально «пролетарским писателем», остается певцом мещанства, выразителем мещанской психологии и мировоззрения, именно поэтому с такой настойчивостью он проклинал эту психологию и мировоззрение практически в каждом своем произведении. Тут явно давала о себе знать борьба с самим собой, борьба бесплодная и потому ожесточенная. А что до романа «Мать» — так эта вещь в его творчестве совершенно случайная. Так певчий дрозд, хотя и поет иногда соловьем, хотя выплескиваются из него действительно соловьиные коленца, остается все-таки дроздом, и до настоящего соловьиного пения ему далеко.
Кто-то верно подметил, что из каждого литературного произведения торчат уши, нос и прочие выступающие части писателя, чуть ли не в каждом слове видны его характер, привычки, вкусы, тайные вожделения, темперамент, социальное происхождение и, уж конечно, национальные особенности. Какие звонкие псевдонимы себе не придумывай, на каком языке не пиши, а своего нутра не скроешь, оно в чем-нибудь да скажется. И Алексей Петрович знает это не только по себе. Он всегда может о другом писателе сказать больше, чем обыкновенный читатель. И даже больше, чем предполагает сам автор.
Взять того же Гоголя. Считается великим русским писателем. А на самом деле? На самом деле из его творчества торчит нос и оселедец самого настоящего хохла, малоросса, украинского националиста. И Пушкин его считал таковым, и его современники, и даже Белинский. Да вот хотя бы такой факт: все творчество Гоголя явно делится на две неравноценные части: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» — с одной стороны; «Петербургские повести», «Ревизор» и «Мертвые души» — с другой. В первой части сердечная теплота, любование, мягкое чувство юмора. Во второй — сарказм, презрение, страх перед огромной и непонятной силой, способной раздавить зазевавшегося прохожего, страх, не переходящий в озлобленность только благодаря особенностям таланта писателя. И ни единого доброго слова. Разве что снисходительность. А что до явной нелепицы, будто ничтожество Чичиков катит по Руси на «Русь-тройке», так это откровенная лесть, ложка меда к бочке дегтя, чтобы москаль не набросился на малоросса господина Гоголя с кулаками.
Алексей Петрович уверен, что Гоголь никогда не отважился бы написать ни «Ревизора», ни «Мертвых душ», если бы подобные сюжеты пришли в его голову сами по себе. Но сюжеты сии подсказал ему Пушкин, и это решило дело: Гоголь воспринял подсказку как веление сверху, как божий перст. Впоследствии, все более раздуваясь от лести, звучащей со всех сторон, от самовнушенной предопределенности своей судьбы, Гоголь стал смотреть на себя как на самим богом избранного судию Великой Руси.
Вместе с тем писателя всю жизнь преследовал страх за эту его гордыню. Страх вверг Гоголя в мистицизм и фанатическую религиозность, выгнал из России, где в глазах каждого москаля чудились гнев и осуждение, заставил жить на чужбине, кочевать из страны в страну — при этом на пенсион, выпрошенный у самого императора Российского. Страх понуждал писателя постоянно что-то исправлять и смягчать в написаном ранее. Гоголь до конца дней своих никак не мог поверить, что в Петербурге и Москве его пасквили приняты с искренней благожелательностью, что москали не разглядели его к ним нелюбви, он донимал своих русских корреспондентов настоятельными просьбами писать ему обо всем, что говорят в тамошних литературных кругах о его произведениях, а пуще всего — о том, кто и как его ругает. Это при его-то бешеном честолюбии и самомнении! — явное фарисейство и желание предупредить именно ругань и здоровую критику.
Но его не ругали и почти не критиковали, ибо русские в своем самоуничижении, в своей извечной склонности к покаянию за свои — и чужие! — грехи оказались не способны на такую ругань, как Пушкин не был способен написать ни «Мертвых душ», ни «Ревизора», потому что был русским писателем и любил Россию безгранично, хотя в минуты отчаяния ему в голову наверняка приходили сюжеты и более ядовитые и злые.
К тому же в самой России всегда полно ее ненавистников, наделенных такими лужеными глотками, какие перекричать великороссу не под силу. Да и стыдно как-то: грязи в любезном отечестве действительно по самую маковку, разве что цвет и запах меняются. Да и сами крикуны, сделав Гоголя своим знаменем, не столько борются с грязью, сколько ее добавляют и перемешивают.
Но Гоголю показалось мало «Ревизора» и «Мертвых душ»: они все-таки аллегоричны, они все-таки безадресны. И тогда его захватывает вздорная идея, что человек — особенно русский человек — только тогда сможет пристально посмотреть на себя и разглядеть свои недостатки и даже пороки, только тогда займется их исправлением, если ему влепить хорошую оплеуху. И он публикует «Избранные места из переписки с друзьями», в которых не только пытается оправдаться за «Ревизора» и «Мертвых душ», но и закатить такую оплеуху всем своим благодетелям, от которой бы вздрогнула вся Россия. И не меньше. При этом он униженно заискивает перед царем в надежде на продление пенсиона и вспомоществование на поездку к «святым местам». Иногда он вообще теряет чувство меры и несет такую околесицу, что просто стыд и срам. Да только страх от этого никуда не девается, он овладевает всем существом писателя, взвалившего на себя непосильное бремя, парализует его волю, помутняет сознание. Только страх перед мрачным будущим заставляет Гоголя писать вторую книгу «Мертвых душ», как бы покаянную книгу, однако ненависть к России выходца из сонной Малороссии и непонимание ее пути неудавшимся историком не позволила довести это дело до конца, заставила сжечь неоконченную рукопись. Гоголь не без основания полагал, что фальшь второй книги «Мертвых душ» ему не простят, как простили клевету и поношения на великий народ и созданное им великое государство, что фальшь этой книги как бы осветит мертвенным светом написанное ранее, и перечеркнет его. И не простят как раз те, кто Россию ненавидит.
Впрочем, Гоголь и не скрывает, что вторая книга его насквозь фальшива — до такого исступления доводит его самобичевание, какое он рассчитывал услыхать от других.
Душевный разлад превращает в конце концов Гоголя в физическую развалину, а творчество его являет собой скорбный памятник приспособленчеству и двоедушию, чтобы постоянно напоминать будущим литераторам, к чему эти пороки приводят даже и очень большие таланты.
Но то Гоголь. Ему, собственно говоря, и деваться-то было некуда: не на украинском же писать, когда сказать хочется так много и таким образом, чтобы услыхали по всему белому свету. Тут одно приходилось прятать, за другое прятаться самому. И не он один такой — многие!
А что ты сам, Алексей Задонов? Что выразил ты и что собираешься выразить, когда в душе твоей полный разлад?
Перечитывая свои очерки и роман, получившие окончательное оформление в виде книг, Алексей Петрович с особенной ясностью видел и самого себя в своих писаниях, видел свои собственные недостатки, он отчетливо слышал фальшивые ноты, прорывающиеся сквозь вроде бы стройную мелодию, выписанную им с таким тщанием. Увы, он и сам недалеко ушел от Гоголя, хотя пишет о любимой им родине, о вроде бы любимом народе, привычки которого иногда приводили его к лютой к этому народу ненависти. Но сказано же мудрыми: любовь и ненависть — две стороны одной медали. К тому же у каждого времени свой неясный звук, который как ни заглушай, никак не заглушишь.
Однако сказать об этом открыто Алексей Петрович даже не помышляет, понимая, что это такая область в исторической судьбе русской литературы, которую трогать опасно, и всякий, кто попытается преодолеть некий рубеж, сгорит без остатка. В то же время его не оставляет мысль, что когда-нибудь он тоже будет наказан за свое двоедушие и трусость, за насилие свое над своим же талантом.
Что-то и у Горького от гоголевской судьбы, выразившейся в ненависти к русскому крестьянству, но не столько на почве национальной, сколько социальной.
Оторвав взгляд от зеленой, сонно перемаргивающейся массы тополиных листьев, Алексей Петрович перечел написанное, поморщился, разорвал листок в мелкие клочья.
«При чем тут искренность и все прочее! — с досадой думал он, рисуя на чистом листе козлоподобных чертиков. — Ведь в самом приглашении нет ни искренности, ни такта, ни уважения к приглашаемому, одно лишь казенное мерило полезности некоего небездарного индивидуума для определенных целей. И вовсе даже не государственных, а бог знает каких. Вот приду… „Здрасти!“ — „Здрасти!“ — „Ах, я так рад!“ — „А я! Вы себе и представить не можете!“ — „Ну, полноте!“ — „Нет, правда-правда!“»
Тьфу!
Алексей Петрович даже и не заметил, что предполагаемый диалог с Горьким построил по Гоголю.
Проходила минута за минутой, а дело не подвигалось ни на шаг.
«Ну чего ты пыжишься, друг мой Лешка? — думал Алексей Петрович, уныло марая листок бумаги „вечным пером“. — Ведь ты так хотел быть принятым в писательскую элиту, встать вровень с признанными корифеями русской литературы… Наконец, это — жизнь, реальность сегодняшнего дня, свидетельство твоего роста. А форма, в какой эта реальность выражается, другой быть и не может. И Гоголь мог состояться в тогдашних условиях исключительно как писатель русский, но не как украинский; и Горький мог выбиться „в люди“ только в качестве мещанина, изумленного многообразием мещанского бытия. Да и сегодня ни казах, ни татарин, ни тот же украинец, ни тем более еврей, не могут состояться как писатели вне русской литературы. Другое дело, что факт сей почему-то стыдливо замалчивается, хотя стыдного в этом ничего нет, а стыдно называть себя русским писателем лишь на том основании, что пишешь по-русски».
Рассердившись на себя за бесплодные мысли, Алексей Петрович решительно придвинул к себе книгу, раскрыл ее и прямо набело накидал все тем же размашистым почерком: «Максиму Горькому — с изумлением и наилучшими пожеланиями. А. Задонов.» Подумал и перед предлогом «с» поставил длинное — горьковское — тире. Хохотнул, довольный, и сразу же все сомнения остались позади. Однако отметил не без удивления: «Как же важно точно найденное слово! И слово-то — так себе, зато вполне к месту и ко времени». Правда, чуть позже шевельнулась-таки мыслишка, что мелко это и пошло, — особенно тире, — но мыслишка была мимолетной, душу его не смутила: себя Алексей Петрович прощал все чаще, других прощать не научился.
Глава 22
Секретарь Горького Крючков, человек тихий, как мышь, но основательный, с внимательным — исподлобья, — но ускользающим сумрачным взглядом, будто слепленный из крайних противоположностей, провел Алексея Петровича в библиотеку, промолвил сдержанным лакейским голосом, точно боясь нарушить устоявшуюся тишину:
— Подождите здесь, товарищ Задонов, Алексей Максимович сейчас будут.
Алексею Петровичу почудилось даже, будто Крючков произнес «будут-с», потому что в тишине библиотеки, от одного книжного стеллажа к другому, проплыло, вертясь и покачиваясь из стороны в сторону, что-то, похожее на змеиное сипение. Он удивленно глянул на Крючкова, но не сумел поймать его скользящий настороженный взгляд, и слегка качнул своей барственно ухоженной головой.
И точно, не успел Алексей Петрович оглядеться, как сбоку послышалось сухое покашливание, похожее на лай, — и вошел Горький, высокий, худой, сутулый, с вислыми усами, морщинистым землистым лицом, водянистыми глазами, с еще более выдвинутой вперед нижней половиной лица, — совсем не такой, как на портретах, и не такой, каким его видел Задонов всего год назад на первом съезде писателей, а очень и очень постаревший и вроде как поизносившийся.
— Извините, что заставил вас ждать, дорогой Алексей Петрович, — забубнил, с нажимом на «о», Горький, протягивая руку. — Читал ваши очерки — понравились. Роман успел поглядеть еще в журнале — впечатление самое благоприятное. А главное — очень нужные вещи для понимания теперешних событий. Лично я о современности писать не могу: стар, весь в прошлом, дай, как говорится, бог, осмыслить то, чему был свидетелем. А о нашем времени — это уж вы, молодые. Да-да! Именно так! — закончил он как бы утверждая сказанное в собственном сознании.
Горький говорил не спеша, но почти без пауз, а там, где возникали паузы, Алексею Петровичу казалось, что Горький мысленно ставит длинное тире. И вообще он казался смущенным и будто пытался словами это свое смущение замаскировать. Взяв Алексея Петровича под локоть, провел к столу, усадил, сам сел напротив, придвинул пепельницу, предложил папиросы.
Задонов тоже чувствовал себя неловко, точно нагло и бесцеремонно нарушил покой безнадежно больного человека. Воспользовавшись тем, что хозяин раскуривал папиросу, выложил на стол свой роман.
— Вот, Алексей Максимович, разрешите преподнести…
— А-а! Да-да-да! Премного благодарен! — не дав Алексею Петровичу закончить фразы, перебил его Горький, взял книгу, откинул обложку, прочитал надпись, удовлетворенно покивал головой.
Алексей Петрович следил глазами за старчески неторопливыми движениями Горького, молчал, не зная, что говорить и надо ли говорить вообще. Ему показалось, что Горький боится, как бы его посетитель не сказал лишнего, чего-то такого, что хозяин наперед знает за своим гостем. Быть может, Горький вынес это впечатление о писателе Алексее Задонове из его публикаций; не исключено, что ему говорили о нем что-то не очень лестное; даже, может быть, отговаривали приглашать.
От всего этого Алексей Петрович почувствовал себя еще более неуютно, захотелось встать и уйти, но что-то удерживало: не то любопытство, не то смущенный и даже какой-то жалкий вид хозяина. Да и неловко было: только пришел и — сразу же за дверь.
А Горький, между тем, заговорил о своем романе «Жизнь Клима Самгина». Тема эта была, судя по бесстрастному голосу Горького, дежурной. Алексей Максимович убеждал, — то ли Алексея Петровича, то ли самого себя, — что в этом своем романе пытается решить практически те же задачи, что и Задонов в «Перековке», что эта тема — тема интеллигента и его связи с народом, ответственности перед ним — вечна, и ни один писатель этой темы в одиночку раскрыть полностью не в состоянии, что у него, у Горького, не получаются женские образы, а вот у Алексея Петровича каждая героиня и говорит по-своему, по-женски, и плачет, и смеется.
— Вы, батенька мой, действительно русский, действительно самобытный писатель, — продолжал Горький убежденно, но все так же бесстрастно, то и дело, будто слепец, касаясь книги своими сухими длинными пальцами. — Таким и оставайтесь, не дайте себя утянуть в безликость, где каждый похож на каждого же. И язык у вас хорош, сочен и ненатужен. Очень это важно для писателя, чтобы языка как бы и не чувствовалось, чтобы читатель не отвлекался на всякие языковые выверты. Ведь язык лишь средство, а не самоцель…
И тут же, без всякого перехода:
— Много среди нас, русских, талантливых людей. Очень много. Но… — поднял вверх палец, покачал им и головой тоже качнул, — …но губит нас, русские таланты, либо власть, либо слава, либо водка. Никак мы из этого дьявольского круга выбраться не можем… Вот, обратите внимание, Алексей Петрович. Пишет мне Васильев… Павел… Поэт… — Горький взял со стола бумагу, нацепил очки, стал бормотать, отыскивая нужное место: — Вот! Вот пишет мне, послушайте: «… уже три месяца как я в исправительно-трудовой колонии при строительстве завода Большая Электросталь. Я работаю в ночной смене краснознаменной бригады, систематически перевыполняющей план. Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные плахи на леса. Это длится в течение девяти часов каждый день. После работы валишься спать, спишь до „Баланды“ и — снова на стройку».
Горький отложил письмо.
— Вот видите, жалуется. А на кого ему жаловаться? Только на самого себя. Пил, дебоширил, ни с кем и ни с чем не считаясь. Как же, великий русский поэт! А ведь чертовски талантлив. Чертовски! А грамматенки не хватает: в письме куча ошибок. Но главное — без царя в голове. Дошел до того, что впадал в своем творчестве в явный антисемитизм. Мол, Россия проглотила нечаянно жида, и скончалась от несварения желудка. А? Каково? И это не первое его покаянное письмо ко мне. Были и еще. Помогал, спасал, но все без толку. И, как теперь понимаю, зря. Жалость в ином случае нас же и подводит, оборачивается против нас. Тот же Есенин… А чем кончил? Трагедия! И Маяковский… С самого начала я ему не доверял. — И с глубокой убежденностью: — Талант должен работать на людей, а не против, показывать их жизнь, вскрывать язвы безыдейного бытия, подсказывать верное направление, но не навязчиво, а через столкновение образов, идей, характеров. Да… Тоже самое и о языке художественной литературы. Как, впрочем, и любого другого печатного слова.
Алексей Петрович попытался было вставить что-то свое, наболевшее, но Горький всякий раз останавливал его движением кончиков своих пальцев. И тогда Алексей Петрович догадался, что Горькому просто хочется выговориться, что у него, быть может, нет слушателей, и вот появился свежий человек, которому еще не надоели речи старика, которому можно говорить все и ничего не опасаться. Вспомнился отец, тоже чахоточный, тоже страдающий от недостатка слушателей, и тоже пользовавшийся когда-то терпением своего младшего сына.
«Неужели и я когда-нибудь стану таким же!» — подумал Алексей Петрович, внимательно слушая Горького, чтобы потом по памяти описать и встречу, и обстановку, и воспроизвести произнесенные слова, хотя ни в обстановке, ни в самом Горьком, ни в его словах не было ничего нового, необычного, кроме разве что того факта, что это был Максим Горький, и все прочее принадлежало ему или было с ним связано. Более того, описывая эти минуты с Горьким, придется сказать, что хозяин дома в своих речах был слишком назойлив, слишком дидактичен и ненатурален. Он больше походил на старого профессора, которого ждет скорая отставка, и он, предвидя ее, старается выложить всем и каждому все, что знает, что пережил и передумал, следовательно, доказать, что все еще может быть полезен.
Горький вдруг отвернулся и закашлялся, прикрыв рот платком, и Алексей Петрович тоже отвернулся — из вежливости — и принялся разглядывать книжные стеллажи, заставленные длинными рядами книг. Полки стеллажей отливали темным лаком, плотные шеренги книг, выстроившиеся от пола до потолка, томились в недоуменном ожидании. Казалось, что их как поставили, так они и стоят годы и годы, без смысла, без пользы, всеми забытые и нужные лишь для создания определенного впечатления об их хозяине. Вспомнилось, что в кинохронике как-то промелькнуло: Сталин в гостях у Горького — этот же стол, эти же книжные стеллажи. О чем они говорили, двое столь не похожих друг на друга людей? А ведь говорили же о чем-то…
Горький перестал кашлять, отер лицо и шею платком, вновь повернулся к своему гостю.
— Так о чем бишь мы с вами говорили? — И сам же ответил: — О языке. — И продолжил: — Язык — это… Помните, что Тургенев сказал о русском языке? Ну, да, разумеется, помните. А вот некоторые наши писатели… — Вдруг оборвал себя на полуслове, прислушался, торопливо схватил подаренную книгу и сунул ее в ящик стола, затем снова потянулся за папиросой.
За дверью громко затопало несколько пар ног, послышались уверенные, возбужденные голоса. Они напомнили Алексею Петровичу первые месяцы после прихода к власти большевиков, когда в устоявшийся покой дома бесцеремонно врывались голоса и топот ног членов комитетов то по уплотнению, то по привлечению к физическому труду, то по выявлению антисоциальных элементов, то еще по каким-то там революционным надобностям, и почти каждое такое вторжение возглавлял еврей или еврейка, наводившие в первопрестольной революционные или, под шумок, свои местечковые порядки. Но вот он, Алексей Задонов, написал роман, в котором много страниц и о том времени, а евреев в его романе почитай что и нет, будто их вообще не было и нет в самой действительности, будто они не оказывали и не оказывают влияния на эту действительность с такой напористостью и силой, с таким презрением к прошлому аборигенов, в жизненную среду которых вторглись с такой бесцеремонностью, с какой в чужую жизнь вторгаются лишь безжалостные завоеватели, так что завоеванным аборигенам остается лишь, раскрыв рот, хлопать глазами и идти на поводу у распорядителей новой жизни. Правда, описывая возглавителей тогдашних комиссий и комитетов, фамилии и имена Алексей Петрович дал им русские, зато характеры и все остальное — тех, действительных возглавителей, отчего получилось как-то искусственно и натянуто.
Топот и громкие голоса за дверью библиотеки не сулили ничего хорошего, и Алексей Петрович поспешно поднялся, но Горький замахал руками, призывая его сесть, заговорил все тем же извиняющимся голосом:
— Сидите, сидите! Куда же вы, Алексей Петрович? Я так давно хотел с вами познакомиться, да все, знаете ли, как-то не получалось… — Помолчал, прислушиваясь, произнес с робкой надеждой: — Может, в Крым приедете? А? Поговорили бы… И детишкам там очень хорошо и полезно для здоровья…
Глава 23
Двери распахнулись, и в библиотеку, — без доклада сумрачного Крючкова, — один за другим вошли четверо. Троих Алексей Петрович знал, не близко, но все-таки: писатель Исаак Бабель, поэт Исаак Фефер, журналист Михаил Фридлянд, больше известный по литературному псевдониму как Кольцов, — все довольно известные люди, составляющие так называемое одесское братство — нечто вроде масонской ложи; четвертого видел впервые. Но едва тот заговорил, узнал по голосу, иногда звучащему по радио: Соломон Михоэлс, актер еврейского театра.
Вошедшие заполонили благоговейную тишину библиотеки своими громкими голосами, перетекающими с места на место подвижными фигурами, беспрерывно меняющимися лицами, так что создавалось впечатление, будто вошло не четверо, а вдвое- втрое больше, — и все какие-то одинаковые… нет, не одинаковые, а точно части нерасторжимого целого.
Горький остался сидеть, остался сидеть и Алексей Петрович. Пришедшие подходили, жали руки, радостно улыбались, вид их свидетельствовал, что они довольны жизнью, счастливы, добились всего, чего хотели, что вообще все идет хорошо и все тоже должны быть довольны жизнью и счастливы вместе с ними, но быстрые взгляды их выдавали тревогу, точно люди эти пытались понять, о чем тут говорили, не о них ли, и как говорили, хорошо или плохо?
Пришедшие вели себя запросто, они явно были завсегдатаями горьковского дома. Да и сам Алексей Петрович стороной слыхивал, что есть категория лиц, для которых вход в дом Горького открыт в любое время и без всякой предварительной договоренности. Ходит даже анекдот, что Горький потому окает по-нижегородски, что никак не может выучиться картавить по-одесски: нет, мол, у человека склонности к иностранным языкам.
«Так это и есть та элита русской литературы, в которую ты так стремился?» — спросил Алексей Петрович у самого себя и усмехнулся.
— А вот вы усмехнулись… — вдруг склонился в его сторону Михоэлс, многозначительно выпятив нижнюю губу, и уставился хитренько сощуренными глазами в лицо Алексею Петровичу.
И все тоже уставились на него хитренько же. Лишь Горький — с тревогой и ожиданием.
— Бьюсь об заклад: вспомнили новый одесский анекдот, — подсказал Бабель и снисходительно улыбнулся толстыми, вывернутыми губами.
— Нет, петербургский, еще дореволюционный, — нашелся Алексей Петрович, входя в ту атмосферу опасной игры, которая установилась в библиотеке с появлением этих в чем-то одинаковых людей.
— Во-от… — произнес Горький, откидываясь на спинку стула с явным облегчением: боялся, видать, что Задонов скажет что-нибудь не то. — Вот мы рассуждали здесь с Алексеем Петровичем о свойствах литературного языка… Да-а. Порассуждали и пришли к выводу, что язык есть средство, а не цель писателя, что главное для художника — мысль, идея, чувство. Язык должен быть прост в своем разнообразии, своей индивидуальности, мысль, наоборот, сложна, идея совершенна, чувства возвышенны. В молодости я этого не понимал, теперь вот стыдно…
— Ах, как вы правы, дорогой Алексей Максимович! — воскликнул Бабель, закатил глаза и причмокнул языком от удовольствия. — Именно на ваших произведениях я учусь совершенству русского языка, многомерной емкости его слова. — И уточнил с нажимом, склонив круглую голову, точно клюнул что-то невидимое утиным носом: — У вас и у товарища Сталина. Я недавно перечел речь товарища Сталина на последнем съезде партии, так вы знаете… такая уже бездна мысли и такая доступность выражения! Уверен, что если бы товарищ Сталин имел время писать романы, никто из нас не смог бы сравниться с ним по гениальности! Куда там всем Толстым и Достоевским!
— Да, товарищ Сталин, разумеется… Кхм… Но я имею в виду не политический язык, а сугубо литературный, художнический, — попытался вернуться к своим рассуждениям Горький, но все вдруг как-то разом загалдели, из чего Алексей Петрович сделал вывод, что и остальные считают язык докладов товарища Сталина идеальным для произведения любого жанра, что Горький для них не указ, что они сами с усами.
«Вот те раз, — думал Алексей Петрович, пытаясь разобраться во всей этой трескотне. — Чего же здесь больше: лицемерия или наивной веры, что чем выше человек на ступенях власти, тем безграничнее его способности во всех областях человеческой деятельности? Наверное, и то и другое. Ведь они и есть нынешняя власть, они таким образом как бы оценивают самих себя через оценку Сталина. Быть может, если бы Сталин не был грузином, они не так бы старались, потому что окажись на его месте русский, так это как бы противоречило духу интернационализма, а под восторженные славословия Сталину можно и Мейерхольда поднять над куполом театра его имени, и Кагановича над входом в метро, и Дзержинского над Лубянской площадью, и ничтожного Баумана возвеличить, и кого угодно. Тут лесть по расчету. Бабель и на писательском съезде говорил то же самое. И Кольцов. И многие другие. А Мехлис в „Правде“ все это подхватывает и многократно раздувает. Когда же лесть столь откровенна и массова, она перестает быть лестью, переходя в иное качество…»
Но Алексею Петровичу не дали до конца разрешить свое недоумение. Щуплый Кольцов, который задавал тон в этой компании, вдруг повернул к нему голову — и все, как по команде, повернули свои тоже, — и спросил в наступившей тишине:
— А вы, товарищ Задонов, как относитесь к несомненно выдающимся способностям товарища Сталина излагать свои гениальные мысли столь емким, простым и понятным для широких трудящихся масс языком?
— Я думаю, что товарищ Задонов, — попытался придти на помощь Алексею Петровичу Горький, — разделяет общую точку зрения…
— И как же вы ее разделяете в конкретных тезисах? — не унимался Кольцов, наваливаясь плоской грудью на стол.
Все ждали, как Задонов выкрутится из этого щекотливого положения. На лицах присутствующих было написано такое неподдельное любопытство, — даже у Горького, — что Алексея Петровича вдруг начал разбирать смех: в горле запершило, в груди поднялась озорная волна, судорогой свело закаменевшие челюсти, но все эти усилия, как и противодействие им, вылились в неудержимое желание чихнуть: Алексей Петрович взмахнул руками, отвернулся, согнулся, торопливо выдернул из кармана платок, прижал к лицу, всхлипнул, хватая ртом воздух, и… и… — но так и не чихнул.
Отдышавшись, мокрыми от слез глазами весело оглядел собрание и заговорил:
— Дорогие товарищи! Алексей Максимович, с присущей ему прозорливостью, совершенно точно выразил мою точку зрения, то есть, что она целиком и полностью совпадает с точкой зрения, высказанной здесь товарищем Бабелем. Что касается конкретных тезисов, то и они стоят в русле этой точки зрения. Более того, — уже несло Алексея Петровича по зыбким хлябям софистики, — моя точка зрения, как вам всем прекрасно известно, была одобрена самим товарищем Сталиным, что с неизбежной неумолимостью, или, наоборот, с неумолимой неизбежностью, свидетельствует, что мой литературный язык идет в русле языка товарища Сталина, ибо в противном случае товарищ Сталин заклеймил бы мой язык как язык классово чуждый диктатуре пролетариата и советской власти. Что же касается языка Толстого и Достоевского, то его недостатки, равно как и достоинства, связаны исключительно с их социальным происхождением, но никак не с национальным. Что очень тонко подметил в свое время еще товарищ Ленин, который восхищался языком графа Толстого, — закончил Алексей Петрович, мило улыбнулся и восторженно сияющими глазами еще раз оглядел собравшихся.
— Мда, вот таким вот образом, — прихлопнул Горький ладонью по столу и окутался табачным дымом. В его потускневших глазах Алексей Петрович успел различить искорки добродушного лукавства.
Зато на лицах четверки не отразилось ничего — ни удовлетворения, ни досады. Конечно, они отлично поняли, что он подыграл им, так и не открыв своих истинных мыслей. Они не могут не знать, что истинные мысли его далеко не совпадают с его словами и что он не один такой среди истинно русских писателей. Алексей Петрович был уверен, что эти люди, так близко стоящие к власти, а иные, как, например, Кольцов и Бабель, являются, к тому же, сотрудниками НКВД, — и про Михоэлса говорят то же самое, и про Фефера, — и не скрывают этого, а, наоборот, гордятся своим сотрудничеством, — так вот, что они догадываются, или даже знают наверное о существовании в толще народа течений, скрытых от постороннего глаза, течений, которые оказывают теперь как бы попятное влияние на ход истории, хотя ни силы этих течений, ни их направления не представляют эти случайные в русской литературе люди, как не представляют их ни сам Алексей Петрович Задонов, ни даже Горький, все творчество которого было попыткой определить эти течения и показать их своим читателям. Неспособность понять и определить эти подспудные течения в толще народной пугала одних, обнадеживала других, приводила в замешательство третьих, восхищала четвертых, вызывая в них чувство преувеличенного поклонения.
— И все-таки инженер Перемышлев, герой вашего романа «Перековка», — менторским тоном бил в одну точку Кольцов, — лично у меня не вызывает доверия. Если он и перековался, то исключительно в целях самосохранения, оставаясь в душе все тем же представителем мелкой буржуазии, которая, в случае войны, непременно перекинется на сторону врага. В рассуждениях Перемышлева нет искренности, в его поступках — пролетарской последовательности…
— Ну, я бы так резко не оценивал, — вмешался Горький. — Трудно ожидать, что процесс этот завершится в одном поколении. Да и название романа подразумевает длительность во времени и пространстве. Тут вы, Михаил Ефимович, не правы. Тем более что на подобном недоверии мы уже успели набить себе немало шишек. Именно поэтому я пытаюсь доказать на всех этажах новой власти, что народу надо знать свою историю, «откуда есть пошла земля русская», что без этого знания мы не можем в полной мере использовать те богатства русской литературы, которые создали наши предшественники, начиная со «Слова о полку Игориве» и «Жития протопопа Аввакума» и кончая уходящим поколением писателей, к коему принадлежит и ваш покорный слуга.
— Я все понимаю, Алексей Максимович, — стал оправдываться Кольцов. — Тем более что товарищ Сталин еще в прошлом году выступил совместно с товарищем Кировым против упрощенного, так сказать, толкования русской истории. В данном случае я говорю исключительно о своем ощущении.
— Боюсь, что на ваше ощущение оказывает влияние ваше же прошлое, — не удержался Алексей Петрович. — И, вообще говоря, все мы так или иначе связаны со своим прошлым. Тут уж ничего не поделаешь.
— Мы таки со своим прошлым порвали раз и навсегда! — отрубил Кольцов. — Чего я с уверенностью не могу сказать за других.
И тут прорвало:
— Это верно, далеко не все порвали… Вот Мандельштам, например…
— Ох, и не говорите-таки мне за него! Это ж надо: написать такое за товарища Сталина! Как у него только рука поднялась!
— И что мне особенно таки прискорбно, что такие пасквили пишет еврей. Ну ладно там — Васильев, кулацкий подпевала с замашками национал-социалиста! Или Клюев, поповский прихвостень. А это ж… Даже уже и не знаю, как за это и сказать!
— Ничего, Сибирь их обломает, не таких обламывала…
— Товарищи! А вот Михаил Шолохов в «Тихом Доне» даже и не пытается скрывать свое положительное отношение к прошлому полицейско-казачьего Дона: он его прямо-таки идеализирует, — взлетел к самому потолку голос Бабеля. — Вспомните эпизод, в котором казаки, охранявшие Зимний, пили за здоровье Маркса? Помните? Так это же форменное уже издевательство над марксизмом! Возмутительно!
— А сцена, когда казак, георгиевский кавалер, уличает Подтелкова в неграмотности и пророчит ему смерть на виселице от казаков же! — поддержал Бабеля Михоэлс. — Это же не просто частный случай, это антисоветчина в чистом таки виде, я бы даже сказал: пророчество и заклинание! Ведь Подтелкова таки и повесили уже.
— Я думаю, что не зря говорят, будто этот свой роман Шолохов украл у какого-то белогвардейца, — произнес Фефер. — Почистил, помазал вишневым соком и — готово.
— Нет дыма без огня…
— Зато «Поднятая целина»…
— Ну, ее еще поднимать и поднимать…
— С нашим-то народцем…
— Бухарин прав: обломовщина, нация рабов…
— А что касается казаков, так они только и ждут случая…
— В польскую кампанию тысячи перешли на сторону белополяков…
— А как они резали евреев…
— Им только дай волю…
— Да, это уж точно. Зато Троцкий столько их к стенке поставил…
— А в эмигрантских газетах так прямо и говорится, что «Поднятую целину» мог написать человек, стоящий в оппозиции к советской власти.
— Казак — это крестьянин в кубе, — вклинился Горький в перепархивающие реплики. — И вообще русский мужик хитер и скрытен. Он тебе на первых порах состроит кроткую улыбку, расшаркается, раскланяется. Но в глубине души затаит ненависть… особенно к еврею, который посягнул на его святыни… Я всегда говорил, и даже Ленину, что еврейские большевики должны оставить русским большевикам все эти щекотливые дела с раскулачиванием и расцерковлением. Я говорил об этом и Троцкому, и Ярославскому, и другим еврейским вождям большевизма, чтобы они держались подальше от святынь русского народа, что у них много других дел, более важных… Жаль, что не послушались моих советов. А русского крестьянина я ужасно как ненавижу. Но Шолохов…
— Вы совершенно правы, Алексей Максимович, — перебил как-то уж слишком бесцеремонно Горького Кольцов. — Только не в кубе, а в десятой степени… К тому же русские большевики, как выяснилось это на практической работе, не обладают нужной решительностью именно в тех вопросах, которые оказывали решающее влияние на судьбы революции.
— Нам не приходится разочаровываться в том, что мы свершили. Враг на то и существует, чтобы его уничтожать. А так называемые святыни есть основа, на которой зиждется его сопротивление.
— Зижделось. В начале тридцатых мы этому мужичью показали, в чьих руках власть и что это значит…
— Крестьянин уже не тот…
— Ах, бросьте! Звериный оскал кулацких восстаний — мы это видели, нам это известно не понаслышке…
Они говорили и после каждой фразы поглядывали на Задонова, точно проверяя на нем силу своих слов и его к этим словам отношение. В их взглядах Алексей Петрович улавливал не только торжество победителей, имеющих право судить всех и каждого по своим неписаным законам, но более всего — потаенный страх перед грядущим. Это была иллюстрация к его недавним рассуждениям о Гоголе, о гоголевских притязаниях и страхах. И Алексей Петрович с удивительной ясностью, будто в солнечном луче, проникшем через щель в пыльную затхлость старого сарая, разглядел, что этим людям вовсе не нужен коммунизм, в неизбежной победе которого они так громко и так настойчиво убеждают побежденный ими народ, что им не нужно ни братства, ни равенства, ни свободы для всех и каждого, — особенно — братства и равенства, — и что они сделают все возможное, чтобы ничего подобного в России не осуществилось. Их вполне устраивает нынешнее состояние дел, а какую цену приходится народу платить за это состояние, никого из них не волнует.
И тут же вспомнились строчки из стихов Эдуарда Багрицкого, сборник которого вышел совсем недавно. А в нем что-то вроде поэмы под названием «Февраль», то есть не «Октябрь», нет, а именно «Февраль», открывший герою путь к вседозволенности, к возможности отомстить женщине, которая когда-то не обратила на него никакого внимания:
Я швырнул ей деньги. Я ввалился, Не стянув сапог, не сняв кобуры, Не расстегнув гимнастерки, Прямо в омут пуха, в одеяло… Я беру тебя за то, что робок Был мой век, за то, что я застенчив, За позор моих бездомных предков, За случайной птицы щебетанье! Я беру тебя, как мщенье миру, Из которого не мог я выйти…Да-да, именно «как мщенье миру», и не более того. А матросы в распахнутых бушлатах с винтовками под мышкой, сопровождавшие героя, — это так, средство для этого мщения, как наган в кобуре. И они таки здорово порезвились в своем безоглядном мщении. И резвились бы дальше, да время повернуло на другое, заставив их вновь приспосабливаться. Показательно, что поэму эту Багрицкий написал не тогда, по горячим следам, а только теперь, осмыслив пройденный путь, но не народом, а им самим… и вот этими, что пялятся на русского писателя Задонова, пытаясь скрыть свой страх. И хотя Задонов и сам побаевается непредсказуемости нынешней власти, хотя ему самому вполне хватило бы «Февраля», однако он знал, за что терпит, — или, по крайней мере, предполагал, что знает, — что терпит ради самой России и ее народа, который ведь никуда не делся и деться не может.
Увиденное и услышанное за эти несколько минут Алексеем Петровичем невероятно раздвинуло горизонты его сознания, охватило не только прошлое, но и будущее на многие десятилетия вперед, и то, что ему представилось там, в этом будущем, не столько потрясло его, сколько как бы приподняло над этими людьми, над запутанной современностью. Он смело, без всякой робости вглядывался в подвижные лица, слушал речи, похожие на выпады фехтовальщиков, но выпады осторожные, прощупывающие, а сам старался больше не вмешиваться в разговор, убедив себя, что пришел сюда в качестве исследователя, обязанного только слушать и только спрашивать. Более того: чувствовал себя разведчиком в стане противника, в обязанности которого входит выяснить все его тайны, и хотя противник тайны свои выдавать будто бы не собирается, всячески подчеркивая, что тайн никаких и не существует, однако делает это таким образом, чтобы Алексей Петрович непременно догадался, что главная тайна — это они сами, и если писатель Задонов не будет с ними, то от него не останется даже воспоминаний. Но эти скрытые угрозы почему-то Задонова не пугали.
Самое удивительное, что Горький, похоже, верил в могущество этой объединяющей его с этими людьми тайны, поглядывал на своих гостей с благожелательностью, с умилением, почти с детским восторгом, точно сам, как бог Саваоф Адама, слепил их из глины и вдохнул в них душу, приглашая Алексея Петровича разделить с ним этот его восторг.
«Вот они, бесы-то, вот они! — думал Алексей Петрович, чувствуя, как мурашки пробегают по коже, узнавая в произносимых словах знакомые мысли, слегка завуалированные обтекаемыми фразами, и знакомых героев, будто шагнувших в эту библиотеку со страниц романа Достоевского. И библиотека показалась ему кладбищем. — О, эти готовы судить и осудить кого угодно, а не только Достоевского. Вот они и Шолохова судят и выбрали для этого самый коварный способ — обвинение в плагиате. Даже только посеяв в душах читателей сомнение в авторстве Шолохова, они тем самым вызывают сомнение в правдивости и высокохудожественности его романа. Что ж, сегодня еще продолжается их праздник… Но Горький-то, Горький! Он-то как оказался с ними?… А впрочем, с кем же ему быть? Ни рабочий, ни интеллигент, — мещанин, всю жизнь воюющий с собственной тенью… И эти тоже: уже не евреи, но и не русские, уже не лавочники, но и не интеллигенты, и уж точно не рабочие и крестьяне. Именно половинчатость, незавершенность самосознания и объединяет их с Максимом Горьким. К тому же Горький — сентиментален, а сентиментальность — родная сестра озлобления и ненависти».
Не знал Алексей Петрович, что с Горьким этих людей связывают их общие и во многом совпадающие взгляды на политическую атмосферу в стране, что еще в те времена, когда Горький жил в Италии, они писали ему о произволе Сталина, о его антисемитизме, выразившемся в гонениях на Троцкого, Зиновьева, Каменева и других старых партийцев, что они опасались и опасаются за свое будущее и советовали ему, Горькому, не возвращаться в СССР. Письма эти, составившие часть горьковского архива, хранятся за границей, но все может быть, если Горький вернется и письма окажутся в руках Ягоды и самого Сталина. Не потому ли они так стараются возвеличивать вождя — уравновешивая этим свои крамольные высказывания? Не потому ли они так вьются вокруг старого писателя, стараясь удержать его в своей орбите? Пока жив Горький — их не тронут, близость к Горькому есть защита от возможных нападок и гонений. Вот откуда их страх, подмеченный Задоновым, а не только перед чем-то еще, ему доселе неведомым.
— Шкловский говорил это на съезде писателей, а я готов повторить сейчас, — дошел до Алексея Петровича голос Кольцова, — что если бы Достоевский появился среди нас, мы бы судили его пролетарским судом и за махровый антисемитизм, и за махровый же национализм и шовинизм, за черносотенство и даже за фашизм. Я уверен, что он бы приветствовал Гитлера, пел бы ему дифирамбы и сжигал бы на Красной площади Шолом-Алейхема…
— А рядом с ним бы ликовали и тот же Васильев, и Клюев, и даже Мандельштам, — дополнил Михоэлс.
«Бе-сы! Бе-е-есы! — настойчиво стучало в голове Задонова. — Это их предвидел Достоевский, именно за это они его так ненавидят», — думал он, хотя никогда Достоевским особо не увлекался, с трудом воспринимая его болезненно-назойливую прозу и его болезненно-неуравновешенных героев. И только теперь увидел все это по-иному — и назойливая болезненность получила в его глазах историческое оправдание: предвидение и не может быть не болезненным, ибо строится не на логике, а на болезненных же ощущениях, обостренном чувстве собственного достоинства и ответственности за будущее своего народа.
Через какое-то время Алексей Петрович, несмотря на внешнюю оживленность и разнообразие тем разговора, уже заранее зная, что и о чем будет сказано, почувствовал нестерпимую скуку, воспользовался паузой и стал раскланиваться.
Его не удерживали.
Горький проводил Алексея Петровича — к его удивлению — до самой калитки. Здесь, смущенно улыбаясь и тревожно оглядываясь по сторонам, снова повторил приглашение приехать в Крым, долго тряс руку и все пытался объяснить, что его гости — люди не злые, а очень даже добрые и хорошие, но весь предыдущий жизненный опыт приучил их к излишней подозрительности и недоверию, зато если уж они поверили кому-нибудь, то нет в мире друзей преданнее и бескорыстнее.
— Беда в том, — говорил он, но как-то без убежденности, без напора, затвержено, — что на евреев смотрят с точки зрения их наихудших национальных черт, которые подметил еще Маркс. И смотрят на всех поголовно, хотя все они люди разные. Впрочем, как и в любой нации. Вот в Германии сионисты снюхались с Гитлером, поют ему дифирамбы, утверждают, что фашизм и сионизм имеют одни и те же корни, что сионисты готовы следовать за Гитлером, имея в виду свою цель — построение государства Израиль. А основатель сионизма Герцель уверяет, что антисемиты являются верными союзниками сионистов. Вот вам и пожалуйста. Что касается Шолохова, то это громаднейший талант! Я с ним разговаривал — талант сразу видно. Если не с первых же слов, то с первых же строчек. Да! А что там говорят: украл-не украл — все это чепуха! Такой роман украсть невозможно. Мы вот с товарищем Сталиным разговаривали здесь о «Тихом Доне» Шолохова… В его же присутствие… Да! Потрясающая вещь! Боюсь, как бы Шолохова не принудили завершить свой роман… э-э… неестественным, я бы сказал, образом. Впрочем, будем надеяться: у Шолохова крепкий характер… И вы, Алексей Петрович, тоже не поддавайтесь ничьему нажиму! — воскликнул Горький, беря Задонова за локоть. — Должен вам заметить, что если даже писатель не всегда последователен в выражении своих чувств, своего понимания жизни, это его вполне извиняет: жизнь сама весьма непоследовательна, в ней подчас трудно уловить некую генеральную линию. Хотя, конечно, политика… А впрочем… я и сам далеко не всегда последователен. Что поделаешь, что поделаешь…
Алексей Петрович слушал Горького, согласно кивал головой на каждое слово, не слишком-то доверяя этим словам, видя перед собой и того Горького, который поддакивал с умилением на своем испитом лице напористым собеседникам, оставшимся в библиотеке. Вместе с тем ему до слез было жаль старого писателя, как жаль бывает друга, который искренне уверен в добродетелях своей давно неверной жены. И только выйдя за калитку и удалившись от этого странного дома, похожего на крепость, вздохнул с облегчением, развел плечи и пошагал по тихим и кривым улицам, знакомым с детства, чувствуя, как возвращается к нему бодрое настроение и ожидание чуда. Но длилось это недолго.
Глава 24
На углу Большой Никитской и Тверского бульвара Задонов остановился в раздумье. Идти домой не хотелось. Бодрое настроение и ожидание чуда улетучились. Что-то тревожное, невысказанное теснилось в голове, искало выхода. Атмосфера горьковского дома, его завсегдатаи, их скрытый страх и бьющая в глаза озлобленность, опасность, исходящая от этих людей, невозможность эту опасность осмысливать и переживать в одиночестве, потребность в чьем-то участии заставили Алексея Петровича оглядеться в поисках человека, с которым можно было бы поделиться тем, что скопилось за годы и годы рабского молчания и самоедства. Но среди спешащих по своим делам озабоченных и погруженных в себя людей такого человека не находилось.
«Не может быть, — думал Алексей Петрович, — чтобы их не было вовсе. Наверняка кто-то сейчас на другом перекрестке стоит вот так же в крайней растерянности и вглядывается в текущую мимо толпу в поисках единомышленника и единочувственника. Эх, знать бы, на каком перекрестке стоит этот человек!»
Кто-то толкнул Алексея Петровича в плечо и, на ходу приподняв шляпу, пробормотал извинения. Толчок привел в чувство, но Алексей Петрович, вместо того чтобы идти домой, пошагал вверх по Тверскому бульвару и остановился возле так называемого Дома Герцина, где размещались различные писательские организации и имелся неплохой ресторан с весьма умеренными ценами. Пускали в этот ресторан только по писательским удостоверениям, поэтому народу там бывало не так уж много.
Не то чтобы Алексей Петрович надеялся найти там нужного собеседника, а просто не мог долее оставаться в одиночестве. Ведь вот же, все эти бабели и фридлянды, михоэлсы и феферы — они везде и всюду вместе, попробуй тронь одного, взвоет и набросится вся стая. Так что же мешает ему, Алексею Задонову, русскому писателю, найти себе подобных и составить такую же сплоченную стаю? Вроде бы ничего. И что-то все-таки мешает… Может быть, лень? Или страх перед властью, которая и есть сегодня в значительной степени бабели и фридлянды? Вот и во вчерашних газетах тоже об этом: товарищ Сталин встретился с группой ведущих советских писателей, на встрече обсуждались проблемы советской литературы и воспитания молодежи в духе коммунизма, пролетарского интернационализма и советского патриотизма. И в перечне фамилий опять бабели и фридлянды. Да разве что парочка фадеевых. Если разобраться, то с кем же еще бывшему семинаристу Сталину обсуждать проблемы пролетарского интернационализма, как не с бывшими аптекарями и лавочниками. Но обсуждать с ними проблемы патриотизма, пусть даже и советского, — это уж ни в какие ворота…
Задонов достал из кармана портмоне, прикинул на глаз наличность и решил, что часок посидеть в ресторане вполне хватит. Правда, без особых роскошеств.
Спустившись в Нижний зал, он огляделся, выбрал один из свободных столиков за колонной, но едва сделал несколько шагов, как всевидящий метрдотель перехватил Алексея Петровича, извиняющимся тоном сообщил, что столик заказан, предложил другой, тоже свободный, но в противоположной стороне.
Народу еще не так много, и все больше гомонливая окололитературная молодежь, попадающая сюда по записочкам и временным пропускам. В противоположном углу три столика составлены в ряд, дюжина знакомых журналистов и литературных критиков облепила их. А во главе стола рядышком Борис Пастернак и Илья Эренбург. У первого недавно вышел сборник стихов, второй только что вернулся то ли из Америки, то ли из Франции. Громкие восклицания, хохот, довольные лица. Вроде бы ничего особенного в том, что собралось несколько человек по принципу: свояк к свояку, ан нет, что-то кольнуло вдруг — не зависть, нет! — а вопиющее несоответствие с теми лозунгами, которыми эти люди прикрывают свое особое среди других людей положение.
И Алексей Петрович отвернулся и уткнулся в меню.
А народ все прибывал и прибывал.
Пахло жареным луком, уксусом, ванилью. Плотным рокотом звучали голоса, прорезаемые взрывами хохота. Небольшой оркестрик настраивал инструменты, музыканты жевали, тяжело ворочая челюстями, что-то вязкое, — может, ириски, — наклонялись друг к другу, о чем-то переговаривались.
Задонов редко бывал в этом ресторане. Не потому что лишь недавно стал писателем, а потому что презирал здешнюю публику и чувствовал себя весьма неуютно под прощупывающими, липкими взглядами. Но иногда на него находило что-то, — как вот сегодня, — и появлялось желание оказаться в гуще этих людей, самому пощупать их взглядом, послушать их фальшиво-жизнерадостное жужжание, и только затем, чтобы выйти потом на свежий воздух и в который раз заречься, что больше в этот гадюшник ни ногой.
Слегка глуховатый и откровенно брюзгливый голос вывел Алексея Петровича из задумчивости.
— У вас свободно… надеюсь?
Алексей Петрович поднял голову и увидел высокого и несколько грузноватого человека, с большим мясистым лицом, длинными каштановыми волосами, спадающими по обе стороны высокого лба, внимательными и тоскующими глазами.
— Да, конечно, — произнес Алексей Петрович, узнав в этом человеке Алексея Толстого. — Прошу вас, Алексей Николаевич.
Толстой тяжело опустился на стул, прислонил к столу суковатую палку, расправил обеими руками длинные волосы и откинул их назад.
— Простите, — заговорил он, бесцеремонно разглядывая Задонова слегка прищуренными глазами. — Не имею чести знать…
Алексей Петрович назвал себя и принялся с такой же бесцеремонностью рассматривать Толстого, мысленно усмехаясь тому, что вот встретились два действительно русских писателя — и уже почти что враги.
— Задонов… Задонов… — пробормотал Толстой, поднял голову и уставился в потолок. — Нет, не припомню.
— Ничего удивительного, — усмехнулся Алексей Петрович. — Ведь это моя настоящая фамилия.
На лице Толстого появилась брезгливая гримаса, широкие брови опустились на глаза, но тут же взлетели вверх — и перед Алексеем Петровичем явился совершенно другой человек, будто сбросивший маску, добродушный и открытый.
— Кхе-кхе-кхе! — сипло рассмеялся Толстой и произнес, ткнув в сторону Алексея Петровича пальцем: — Так вы тот самый Алексей Задонов, который написал «По великому пути»? Кхе-кхе-кхе! Узнал не столько по фамилии, сколько по характерной речи: вы пишите точно так же, как говорите. — Протянул через стол руку: — Рад познакомиться. — И добавил со значением: — Весь-сьма рр-рад.
Подошел официант, Толстой взял в руки меню, стал заказывать блюда и напитки, всякий раз вопросительно поглядывая на Алексея Петровича. Была заказана селянка, салат из помидоров с зеленью, котлеты по-киевски и графин водки. На десерт — мороженое и кофе.
— Да-да, читал вашу книгу очерков, — заговорил Толстой, едва официант отошел от стола. — Ощущение: грандиозность свершаемого вдоль Турксиба и какая-то болезненно-лихорадочная спешка во всем, что там делается. Вы это очень хорошо подметили и показали. Впрочем, полагаю, что не заметить то, что лежит на поверхности, мог только слепец, а вот передать эту эпохальную грандиозность и болезненно-лихорадочную спешку обычными словами может только человек с большими способностями. Рад, что вы этими способностями обладаете. Душевно ррр-рад.
За столиками напротив снова прозвучал взрыв хохота. Толстой, не оборачиваясь, поморщился, спросил:
— Книжку-то обмыли или так?
— Как-то не получилось: верстку прочел и надолго уехал в командировку. Когда вернулся, книжка уже вышла из печати, страсти, если они имели место, улеглись, кричать ура вслед не имело смысла. Да я, признаться, как-то и не готов к тому, чтобы быть центром внимания. Хотя бы и вот такого, — кивнул Алексей Петрович головой в сторону веселящейся компании. И добавил: — Ну, дома, в семье, само собой…
— Мда, кхм! — крякнул Толстой и помял пальцами подбородок. — Должен заметить, что мы, русские, не умеем показывать свой товар лицом, даже если этот товар наивысшего качества. Зато другие могут и дрянцо свое так расписать, что только ахнешь. Кстати, «Перековка» в «Новом мире» — это тоже ваше?
— Тоже мое, — кивнул головой Алексей Петрович.
— С кого писали?
Алексей Петрович пожал плечами, усмехнулся:
— С себя. С кого же еще? Но не с себя, маленького, а с себя, как бы вместившего множество других «я».
— Мда, кхм! А я вот две книги «Петра» закончил, а душа не спокойна: надо писать дальше, да не могу: чего-то не хватает. Не хватает не только во мне, но и в самой жизни. Вы, Алексей Петрович, не испытываете такой раздвоенности?
— Испытываю.
— Вот то-то и оно, — обрадовался Толстой. — А они (кивок в сторону)… они не испытывают.
Алексей Петрович упрямо мотнул головой, возразил:
— И они тоже испытывают, но совершенно другую раздвоенность и совершенно по другому поводу.
— Вы так думаете?
— Уверен. — И пояснил: — Я только что от Горького, посмотрел, послушал и вынес именно это впечатление о тамошнем народце.
— Ну, как там старик поживает?
— Кашляет. И чувствует себя, как мне показалось, не в своей тарелке.
Официант принес водку, салаты, селянку. Толстой сам разлил водку по рюмкам, поднял свою, произнес:
— Ну-с, чтобы ни в жизни, ни в нас самих, русских писателях, раздвоенности не было.
За столами напротив загалдели. Алексей Петрович покосился в ту сторону и увидел, что к веселому застолью примкнули только что вошедшие недавние гости Максима Горького: Бабель, Кольцов, Михоэлс, Маршак, а с ними Авербах, Шкловский, Катаев и еще несколько человек из «одесского братства». Задвигались столы, стулья, забегали официанты.
Толстой передернул плечами, произнес, брезгливо скривив губы:
— Вот так же ведут себя американские матросы в портовых кабаках Европы. — И тут же принялся опять разливать водку по рюмкам. — Между первой и второй перерывчик небольшой, — пояснил он свое действие известной прибауткой. И спросил, внимательно рассматривая водку на свет: — Вот вы пишите, что в управлении промышленным строительством и вообще в управлении народным хозяйством верх все больше берет молодежь… Что, это действительно так? И чем это объяснить?
— Ваше здоровье, — произнес Алексей Петрович, выпил водку, закусил, только после этого заговорил, отвечая на вопрос Толстого: — Это действительно так. А объяснение весьма простое: молодые, как правило, выпускники вузов, старики, как правило, имеют четыре класса, да и привыкли больше командовать, чем грамотно руководить. В этом все дело.
Толстой, выслушав, кивнул головой, тоже выпил.
Ели селянку, молчали, смотрели в стол.
Положив ложку, Толстой стал набивать трубку табаком, заговорил раздумчиво:
— Петр Первый после поражения под Нарвой говорил, что он рад тому, что его генералов шведы побрали в плен. Нам, говорил, не только новые и хорошие пушки нужны, но и молодые генералы, знающие и энергичные. Я думаю, что Сталин правильно делает, постепенно заменяя руководящий состав промышленности. Конечно, тут без издержек не обойтись: и опыта у молодых нет, и горячности через край, но зато обучение их идет во много раз быстрее, чем если бы они стали наживать этот опыт под властью стариков. Да и сам опыт был бы с душком.
— Вы совершенно правы, — согласился Алексей Петрович, но тут же уточнил: — Хотя я больше склоняюсь к тому, что процесс этот стихийный, он продиктован самими условиями бурно развивающейся жизни. Более того, если стариков частенько поднимают выше для общего, так сказать, руководства — это-то они умеют, — то молодежь грамотно руководит конкретным делом, техникой, технологией, обучением техническим премудростям рабочих и специалистов низшего звена.
— Процесс-то действительно стихийный, — перебил Алексея Петровича Толстой, — но один может своею властью пойти наперекор этой стихии, затормозить естественный ход вещей, исказить его, другой использует стихию с выгодой для страны, для народа. А для этого, что ни говорите, требуется талант. Если не больше. Помните, как у Льва Толстого объяснено поведение Наполеона во время Бородинского сражения? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Лев Николаевич считал, что главное достоинство Наполеона в управлении сражением заключалось в том, что он не вмешивался в стихийный ход этого сражения, не мешал тому, что и само по себе шло хорошо, и старался препятствовать тому, что могло быть плохо. Впрочем, Кутузов, по мнению Льва Николаевича, действовал точно так же. И даже в более значительной степени. Вот и Сталин, по моим наблюдениям, постепенно отходит от жесткого доктринерства, все более следует извечной мудрости: «Чем меньше кобылу хлещешь, тем меньше она лягается».
— Вполне возможно, — пожал плечами Алексей Петрович, которому такие мысли в голову не приходили. И все-таки решил уточнить: — Можно хлестать и за то, что лягается. Тогда и самой кобылы ненадолго хватит.
Толстой глянул на Алексея Петровича как-то рассеянно и ничего не сказал.
Когда все было съедено и выпито, Толстой поднялся, взял палку и шляпу, предложил:
— Пойдемте отсюда на свежий воздух: уж больно тут нехорошо пахнет. Если не сказать больше…
Шли между столиками к выходу под липкими взглядами со всех сторон, даже тишина в зале наступила на несколько секунд вполне осязаемая, но оба шли, не глядя по сторонам, никого не видя и ни с кем не раскланиваясь.
Глава 25
Солнце еще стояло высоко, но уже не пекло, а излучало приятное тепло, под которое хотелось подставить лицо. Пахло нагретым асфальтом, известью, пыльной листвой. Высоко в небе неподвижно висела серебристая рябь полупрозрачных облаков, — как будто занавес в театре, который вот-вот должен опуститься. Среди этих облаков плавал, такой же прозрачный, но рябой и кособокий, диск луны. Природа вершила свой очередной, вполне понятный наблюдению круг; человечество — свой, совершенно непонятный, особенно если в это движение вдумываться.
Алексей Петрович и Алексей Николаевич медленно шли по Тверскому бульвару мимо скамеек с сидящими на них старушками и молодыми мамашами с детьми, их обтекал поток гуляющих после рабочего дня советских чиновников в поношенных пиджаках и чиновниц в укороченных платьях и юбках. Возбужденные стайки молодежи, одетой в пузырчатые штаны, рубахи и платья, но не замечающей своих невзрачных нарядов, пересекали бульвар в разных направлениях. Целеустремленность и жизнерадостность били из этих юношей и девушек звенящими фонтанами, в оживленных лицах ни тени уныния и неуверенности.
— Вот вам две России, — заговорил Толстой и остановился на перекрестке, твердо опираясь на палку. — Одна Россия — это мы с вами и вот эти чиновники, которые мало чем отличаются от своих предшественников, начиная от средневековых дьяков и подьячих. Новая бюрократия, так сказать. Можно замечать только этих чиновников и писать с них нового «Ревизора» или «Мертвые души». А можно вот об этой молодежи, ибо она тоже Россия, тоже Советский Союз. Настоящее и будущее его. Все зависит от точки зрения. Можно быть Гоголем и можно быть Гладковым… Или еще кем-то. И то и то — правда. И то и то — ложь. А истина где-то посредине. Эта истина и есть… простите за каламбур… истинная русская литература.
— Гоголь сейчас вряд ли может появиться, — выразил свое сомнение Алексей Петрович. И, вспомнив свои недавние рассуждения о Гоголе, осторожно добавил: — А если появится, то непременно откуда-то со стороны.
— Вы имеете в виду Зощенко?
— Из нынешних — никого конкретно. Я имею в виду определенный тип писателя и его отношение ко всему истинно русскому. Такой писатель Петра Первого не напишет. А если напишет, то переврет до неузнаваемости.
— Да, вы, пожалуй, правы, — согласился Толстой. И вдруг, в сердцах ткнув палкой в землю, заговорил торопливо и запальчиво: — Сколько же всего нерусского налипло на русскую литературу! И откуда у нас эта жадность к чужим именам? Будто от количества писателей зависит качество нашей литературы! Ну какой, скажите на милость, из Бабеля русский писатель? Какой такой русский поэт из Мандельштама? Еще в своих дореволюционных стихах он более-менее успешно тщился казаться русским, но в нынешних… Нынешние его стихи столь же маловразумительны, как холстины Малевича. И оба спят и видят Иерусалим и Палестину! Да возьмите того же Гоголя! Несмотря на то, что Гоголь по-русски писал правильнее Льва Толстого, у которого «Война и мир» написаны по-французски… или как бы в переводе с французского, несмотря на это — Толстой все-таки русский писатель, а Гоголь — малороссийский. И не может быть никаким другим, как не может Тургенев быть писателем французским, хотя последние вещи писал по-французски. Если всю эту свору нерусских выставить за скобки, у нас останется не так уж много поэтов и писателей, зато это наши поэты и писатели, какими бы они ни были. А ведь русский писатель — это более чем название. Это состояние души, отражение глубинного духа своего народа. Но что, позвольте вас спросить, отражают бабели и зощенки? Ничего. Даже себя самих не отражают. Потому что они уже не те, кем были, но никогда не станут тем, подо что подстраиваются и что, вместе с тем, хотят причесать под себя. Тьфу!
Алексей Петрович не нашелся, что ответить на эту длинную тираду Толстого. Он не ожидал такого откровения от писателя, который, как ему казалось, тоже подстраивается под чуждые ему нравственные ценности и тоже не всегда искренне и удачно. А то, что Алексей Николаевич помянул Мандельштама, так это, скорее всего, из-за ссоры, случившейся у Толстого с поэтом в том же ресторане, который они только что покинули. Одни говорили, что прав был Толстой, другие — Мандельштам, отвесивший писателю слишком звонкую пощечину. Ясно было одно, что пощечина эта все еще горит на щеке Толстого и требует возмездия.
Они стояли под густой кроной старой липы, в стороне от пешеходной дорожки, и хотя Толстой говорил не так уж громко, Алексей Петрович иногда внутренне поеживался и поглядывал по сторонам, в то же самое время в душе его пели восторженные трубы: он нашел, нашел человека, который думает о действительности и чувствует ее так же, как и сам Задонов. Какое это счастье знать, а не только догадываться, что ты не одинок в этом мире, что там-то и там-то живут человеки, котором ты можешь при случае излить свою душу.
Толстой между тем молчал, смотрел куда-то вдаль и сердито пыхтел.
Алексей Петрович очнулся, глянул на Толстого и заговорил, также торопливо и запальчиво:
— Я с вами абсолютно согласен, Алексей Николаевич, — говорил он, не замечая, что теребит пальцами рукав плаща Толстого. — Я и сам мучительно думал об этом же, иногда даже пугался своих крамольных мыслей. Но — увы: мы так все разобщены, нас так раскидало друг от друга всякими новыми и новейшими литературными веяниями, писательскими дрязгами… Впрочем, мы и не были никогда объединены — это беда истинно русских писателей… Разве что «передвижники»…
— Объединения ищет в основном серость да ничтожество, — сварливо перебил Алексея Петровича Толстой. — Так им легче доказывать самим себе свою значительность и вес. Ведь серости больше ничего и не нужно: главное, чтобы сегодня быть наверху, а там хоть трава не расти.
— Да, пожалуй, — промямлил Алексей Петрович, подавленный безапелляционностью приговора своего именитого собеседника, загнавшего его, Алексея Задонова, в ряды серости и ничтожества. И попытался возразить: — Однако, на мой взгляд, объединению серости и ничтожества надо противопоставить объединение же полярных сил и взглядов.
— Это нереально, дорогой мой Алексей Петрович, — снова нетерпеливо перебил его не слишком связную речь Толстой. — Еще Лев Николаевич сетовал, что зло объединено, а добро разобщено, и достаточно, мол, добру объединиться, как все изменится… Но добро — вещь самодостаточная, всякое объединение ему претит уже потому, что даже в призыве к объединению заложены зачатки зла. История всех и всяческих объединений и партий нам говорит, что любое объединение, под каким бы флагом оно не выступало, состоит на девяносто девять процентов из примазавшихся к нему носителей зла, ибо зло есть как бы масса чувствительных окислов железа, которые мгновенно прилипают к большому магниту, облепляют его и под слоем своим губят изначально заложенное в него добро. Зло тем и берет, что прикрывает себя словами о добре, а добро доверчиво, в этом его сущность, и начинает различать зло лишь тогда, когда оно свяжет добро по рукам и ногам. К сожалению, так было и так будет. И наша с вами действительность — лишнее тому доказательство. Вы спросите, как бороться со злом? Не знаю. Знаю лишь одно: зло непобедимо. Оно лишь иногда устает от своей разрушительной деятельности, ибо эта разрушительная деятельность направлена не против добра как такового, а против всех и вся. В том числе и против самих носителей зла. И тогда наступает эра равновесия между добром и злом. Такие эры человечество нарекает громкими именами: золотой век, серебряный и прочая и прочая. — И вдруг спросил: — Кстати, как вы смотрите на наших евреев?
— На евреев? — опешил на мгновение Алексей Петрович?
— Да, именно на евреев, — уже сердито повторил свой вопрос Толстой. — Меня интересует ваш взгляд на их роль в нашей новейшей истории.
— Признаться, я… — промямлил Алексей Петрович, который не то чтобы не задумывался над этим вопросом, но просто не пытался докапываться до его сути, исходя из практической бесполезности этого занятия. — Я полагаю, что они играют слишком непосильную для них роль. И кое-кто из них начинает осознавать эту непосильность, углубление этой роли пугает их, но остановиться они не в состоянии. Куда это приведет евреев, да и нас тоже, трудно сказать.
— Странно, — произнес Толстой таким тоном, будто он не слушал, что говорил ему его собеседник, и это «странно» целиком относилось к его собственным мыслям. — Мне тут один человек рассказал одну притчу. Наподобие тех, что рассказывал Христос. Суть притчи вот в чем. Живет некий русский человек. Образованный, умный, совестливый. Почти интеллигент в изначальном значении этого слова. Вокруг него тоже неглупые и вполне образованные русские люди. И тоже совестливые. И вот в присутственном месте вдруг что-то укусило этого человека. Где-то там, в штанах. Блоха! Чесаться на виду у всех неприлично, а блоха… ну, вы сами знаете, как эти твари кусаются и как они могут изводить человека. Оглядится наш герой — не видит никто? — почешется. А все время чесаться… Дали ему бумагу на подпись, а у него на уме одна блоха. Вот он и подмахнул бумагу, не глядя. Вызывает его начальник: «Что ж ты, такой-сякой?» Тот разводит руками: неловко признаться, что блоха его донимает. Такого здорового, цветущего — и такая мелкая тварь! Потом блоха будто бы пропала. Но на другой день все повторилось сначала. Смотрит наш герой, и другие тоже почесываются. И опять он не ту бумагу подмахнул, не ту резолюцию на ней поставил. Опять его на ковер. Не выдержал он, признался: «Блоха, товарищ начальник! Сил нету терпеть». «Да что это у вас, товарищи, — вскричал начальник, — все блохи да блохи виноваты! Стыдитесь! Своего ума нехватка, так виноватого ищете!» — Толстой замолчал, потыкал палкой в землю. — Между прочим, — заговорил он вновь, — в давние времена евреи приучали своих рабов заниматься онанизмом с детства, чтобы на жен и наложниц своих хозяев не заглядывались. И те так к онанизму привыкали, что им женщины совсем были не нужны…
Последние фразы Толстой произнес вяло и безразлично. Он то ли не верил, что собеседник поймет его как надо, то ли именно сейчас нашел какую-то формулу, которую искал долго и безрезультатно, и теперь, найдя ее, пытался приспособить к чему-то, известному лишь ему одному.
Алексей Петрович пожал плечами и почувствовал, что ему стало скучно. Да и Толстой поглядывал по сторонам с таким видом, точно искал, в какую сторону ему податься, чтобы не тащить за собой своего случайного собутыльника.
— Не желаете ли еще выпить? — спросил Толстой равнодушно, будто заранее знал, что Алексей Петрович ответит ему отказом.
— А-аа, нет-нет, спасибо, — поспешил тот подтвердить это знание. — Пожалуй, поздновато уже. А завтра на службу…
— Вы все еще в газете?
— Д-да, хочу дотянуть этот год… А там уж на вольные хлеба…
— Да бросьте вы свою газету к чертовой бабушке! — неожиданно сердито воскликнул Толстой, точно Алексей Петрович сказал ему какую-то несусветную глупость. — Бросьте так, как бросают курить. Или пить. То есть немедленно, а не с понедельника, как принято у некоторых господ-товарищей. Имейте в виду, что газета убивает писателя, низводит его до констататора фактов и событий, лишает фантазии и простора. Бросайте завтра же и не ждите нового года. А еще лучше — уезжайте из Москвы в какие-нибудь Вяземы, Кимры… — Приподнял шляпу, чуть кивнул головой: — Всего доброго. — Повернулся и пошел, прямой и величественный.
Алексей Петрович долго смотрел ему вслед, качал головой и недоумевал: когда, на какой фразе он вдруг стал неинтересен Толстому, а Толстой ему? И была ли такая фраза с их стороны произнесена, был ли некий повод для угасания интереса?
Так и не разрешив своего недоумения, он повернулся и пошел вверх по Тверскому бульвару в сторону дома, все убыстряя и убыстряя шаги, мысленно продолжая спорить и с Толстым, и с Горьким, и еще бог знает с кем.
«Конечно, стихия жизни страшно давит на поведение индивидуума, в том числе и на политика, но большевики в гражданскую войну доказали, что можно не только противостоять стихии, но и направлять ее в определенную сторону. Какими методами — другой вопрос. Но та же стихия, подчинившись силе, все-таки продолжает эту силу подтачивать и разрушать, потому что стихийное движение постоянно и неизменно, оно, это движение, и есть народная жизнь, а жизнь продолжается по каким-то своим исконным законам даже в неволе. Даже в армии, скованная дисциплиной, единообразием формы и поведения, стихия не выказывает себя лишь до тех пор, пока… пока… И вряд ли возможно стихию объяснить. А писателю так и вовсе этого делать не нужно. Он должен не объяснять, а описывать. Вот Лев Толстой пытался объяснить, но из этого у него ничего не получилось. Более того, когда Лев Толстой писателя, художника пытался соединить в себе с историком и философом, то выглядело это, по меньшей мере, жалко, — особенно на фоне его огромного таланта художника… — И тут же мысли Алексея Петровича перебросились на Алексея Толстого: — А Алексей-то Николаевич как был барином, так им и остался… И что-то в нашем разговоре было еще, — мучительно соображал Алексей Петрович, продолжая шагать по затихающим улицам. — Что-то такое недосказанное… Впрочем, хотел бы я увидеть человека, который мог бы сказать другому человеку все, что он думает в десяти словах. Тем более, когда мысли спутаны обстоятельствами, как ноги лошади на росистом лугу… И вообще: пошло оно всё к такой матери! И не нужно никого и ничего! То есть в том смысле, что писатель свои сомнения должен разрешать в полном одиночестве, с самим собой, а не тащить эти сомнения на суд первому встречному-поперечному. Даже если встречный-поперечный окажется твоим единомышленником и единочувственником. Более того, единомышленникам и единочувственникам просто не о чем говорить. Да и объединяются не эти люди, а те, у кого совпадают какие-то исключительно личные, эгоистические цели. А таких, как Алексей Толстой, Михаил Шолохов и Алексей Задонов тянут в этот союз, чтобы сказать: „Вот и эти тоже с нами, следовательно, мы правы“. Но подобное объединение от этого не становится союзом. Это, скорее, загон для писателей, но только не союз».
Лодыжку будто обожгло. Алексей Петрович замер на месте и, воровато оглядевшись, почесал одной ногой другую. Неужели блоха? И рассмеялся, вспомнив толстовскую притчу.
Пожилая женщина, шедшая ему навстречу, глянула на него с изумлением… как на последнего дурачка.
Глава 26
Алексей Максимович Горький не уехал в Крым ни на следующий день, ни через день, ни через два: в тот же вечер, почти сразу же после ухода писателя Задонова, а за ним и остальных гостей, позвонил Сталин и попросил о встрече.
Звонок был неожиданным: буквально неделю назад Горький виделся со Сталиным в Кремле, разговаривал с ним о проблемах советской литературы, о привлечении писателей к пропаганде передового технического опыта, достижений науки и социалистического строительства, романтизации службы в Красной армии, особенно в авиации и на флоте. Правда, Алексей Максимович был против того, чтобы каким-то образом навязывать писателям эти темы, когда почти каждый из них темы выбирает по склонности души или, лучше сказать, своего таланта. Однако есть много маленьких и средненьких писателей, которые не наделены особым воображением и будут рады любой предложенной теме. Беда лишь в том, что если дать таким писателям слишком большие привилегии, вся литература сместится в сторону служения власти, выродится и опошлится.
Горький на той встрече со Сталиным об этих своих опасениях ничего не сказал, понимая, что Сталин печется не столько о литературе, как таковой, сколько о государстве, а о литературе — лишь как о составной части государственного дела, и что личные опасения писателя здесь неуместны.
Впрочем, и сам Горький когда-то пекся о государстве… вернее сказать, о душевном здоровье народа, составляющего основу государства, пекся больше, чем об отдельных, даже очень талантливых личностях, с особенной яростью нападая на индивидуализм и введение в храм русской литературы воинственной мещанской пошлости. Беда в том, что так называемые государственные интересы Сталина способны возродить эту мещанскую пошлость под новым флагом, ибо нет ничего более живучего, чем пошлость, и нет большего соблазна для маленьких писателей, чем утверждение пошлости в ранге высокой художественности.
— Я понимаю, Алексей Максимович, — слышался в трубке глуховатый голос Сталина, — что вы настроились на отдых. Я сам настроился на отдых. Есть, однако, вещи, которые требуют своего завершения независимо от наших настроений.
— Мне приехать в Кремль, Иосиф Виссарионович? — спросил Горький, рассчитывая, что одной встречи со Сталиным будет предостаточно и ему не придется откладывать свой отъезд, но Сталин, помолчав, будто раздумывая, предложил встретиться у Горького дома.
— Я заеду к вам завтра, если вы не возражаете, часа в два пополудни. До этого времени я просил бы вас, Алексей Максимович, подумать над некоторыми вопросами воспитания молодежи… Я имею в виду широкое толкование этой проблемы.
— Хорошо, Иосиф Виссарионович, я подумаю, — согласился Горький и, услыхав отбой, медленно положил трубку на рычажки.
Что случилось за эту неделю? Почему вдруг Сталину так срочно понадобилось обратить внимание на проблему воспитания молодежи? В чем суть этой проблемы и в чем недоработки существующей системы воспитания? Вопросов было много, и Горький терялся, каким из них отдать предпочтение. В своих поездках по Союзу Советов, как он называл СССР, Алексей Максимович не раз сталкивался и с проблемами беспризорничества и сиротства, молодежной преступности, скудности школьного образования и много чего еще. Каждая из них требовала огромного внимания, привлечения материальных и человеческих ресурсов, и многое уже делалось в этом направлении. Взять хотя бы детскую колонию, которой талантливо руководит педагог Макаренко… Но вряд ли Сталина интересует что-то отдельное, хотя и важное само по себе, но не решающее проблему в целом. Да и советы Горького не могут распространяться далее общих рассуждений. Так что если бы Сталину нужны были советы по вполне конкретным вопросам, он бы нашел специалистов. Таких специалистов много во всех областях государственной и общественной деятельности, прямо или косвенно влияющих на формирование сознания молодежи. Следовательно…
А что следовательно? Вот детский писатель Корней Чуковский, вроде бы неглупый человек и детскую тематику знает хорошо, и при этом полагает, что детишек, независимо от возраста, надо сажать за малейшие правонарушения… Да, вот и еще одна тема: детский писатель должен любить детей? Вроде бы должен, а если разобраться, то получится то же самое, что и с народом вообще: народ не любит никто, и если описывают его страдания, то исключительно из любви к себе, потому что часть этого страдания так или иначе достается и писателю… Да и за что его любить, этот народ? Не за что! С ним надо постоянно бороться то за одно, то за другое, то против того, то против этого, что возникает в толщах самого народа. И никого, кроме своих выдуманных героев, писатель любить не может и не обязан… Впрочем, к воспитанию молодежи это не относится.
Алексей Максимович поднялся из-за стола и принялся медленно расхаживать по своему кабинету.
Бывший дом промышленника Рябушинского, приспособленный к писательским нуждам Горького, казалось, затаенно следил из темных углов за своим новым хозяином тысячью пар глаз, прислушивался к его шагам тысячью пар ушей. Алексей Максимович не любил этого чужого дома, предпочитая Горки и подмосковные дачи, щедро подаренные ему советским правительством сразу же по возвращении в Советский Союз. Здесь, в бывшем особняке Рябушинского, чувствуешь себя не столько писателем, сколько чиновником, обязанным делать и говорить то, что требуется, а не то, что хочется. Вот и с этим Задоновым… Умный и приятный человек, который многое видит и знает, с которым говорить бы обо всем наболевшем без оглядки, а — нельзя: сам себе не принадлежу, какие уж тут откровенности!
Алексей Максимович закурил и, держа мундштук на отлете, продолжил свое маятниковое движение от окна к стене и обратно. На ум приходило то одно, то другое, но все это не шло к делу, все было мелко и для завтрашнего разговора со Сталиным не годилось. Да и трудно сказать, что может, а что не может годиться в разговорах со Сталиным. С Лениным можно было спорить, не соглашаться, иногда рвать отношения, а со Сталиным спорить не тянет, он подавляет своей безграничной властью и непредсказуемостью решений. Ясно лишь одно: Сталин пришел к каким-то выводам в вопросах воспитания, хочет это воспитание повернуть в нужную для партии — или для себя? — сторону, что-то уже решил, а Горький ему понадобился лишь для того, чтобы лишний раз утвердиться в своем решении и подкрепить его авторитетом всемирно известного писателя.
Так иногда поступал и Ленин, находясь в эмиграции… да и потом, уже став главой Совнаркома: вызовет то одного, то другого, заставит спорить, а решение примет такое, какое уже давно созрело в его голове. Не исключено, что Сталин использует опыт Ленина, которого наблюдал вблизи, возможно, что такой метод вообще есть непременное условие успешного руководства при наличии громадной власти и громадной же ответственности…
Думать без того, чтобы тут же не заносить свои мысли на бумагу, было для Горького делом почти безнадежным. Мысли, зафиксированные на бумаге, возбуждали дальнейший ход рассуждений, требовали оформления в точном слове. Четкая вязь строчек, скользя от головы к пальцам руки и ложась на бумагу, тут же возвращалась назад, но уже через зрение, и, выталкивая из головы и подгоняя новые цепочки слов, заставляла их беспрерывно скользить по нервам руки и беспрерывно же стекать с пера на бумагу. Это был привычный процесс, выработанный годами сидения за письменным столом. Вне этого процесса мысли возникали в голове и лопались тут же, как пузыри в луже во время дождя, оставляя после себя одни лишь неясные ощущения.
Вдоволь находившись по кабинету, Алексей Максимович уселся за стол, взял ручку с ученическим пером, положил перед собой стопку бумаги, обмакнул перо в чернильницу и написал: «Сталин. Проблемы воспитания молодежи». Подумал, зачеркнул слово «молодежи», оставив всего три слова, и тотчас же увидел перед собой Сталина, точно тот сидел напротив, почувствовал на себе расчетливо-холодный взгляд его табачных глаз, услышал медленную речь, сотканную из коротких предложений и сдобренную грузинским акцентом.
Сталин вызывал у Алексея Максимовича болезненное любопытство. Почти такое же, как когда-то Ленин. И даже большее. Потому что для Ленина его положение было естественным, а для Сталина… Из всех вождей революционной волны досемнадцатого года, каких знавал Горький, Сталин, пожалуй, был самой загадочной и самой удивительной фигурой, возникшей как бы из ничего. И самая большая загадка состояла именно в том, как этот человек сумел подняться до таких высот при наличии фигур, как казалось всем окружающим, превосходящих его и по интеллекту, и по эрудиции, и по авторитету в революционных кругах.
Пытаясь разрешить загадку Сталина-человека, Горький прежде всего соотносил его с самим собой: оба поднялись с низов, оба всего достигли исключительно своими силами, волей и способностями. Тут все было ясно. Но ясно применительно к деятельности исключительно литературной, индивидуальной, где все на ладони: и владение языком, и умение выбирать тему, и способность заинтересовать этой темой других, и некоторые знания в тех или иных областях, пусть даже и не слишком глубокие. Между тем власть и литература вещи настолько различные, что всякая аналогия тут же натыкается на пропасть всяческих противоречий, которых не было бы, если бы речь шла о писателе, музыканте или художнике, когда нужно говорить о таланте и его реализации в произведениях искусства, о полезности этих произведений для общества, о новизне и прочая, и прочая. А что можно сказать о Сталине? В чем полезность его деятельности, например, для тех, кто оказался неугодным его власти и вынужден был расстаться не только со свободой, но и с жизнью ради какой-то отдаленной и весьма проблематичной полезности? Взять тех же Сырцова, Зиновьева, Каменева… Тут явно пахнет не только борьбой политической, но и борьбой за власть. А что такое власть вообще и что такое власть одного человека над миллионами и миллионами людей, не имевших отношения к созданию этой власти и даже противившихся ей? Стоит лишь посмотреть в историю…
Впрочем, смотрел, и не единожды.
Если Сталина-человека Горький сравнивал с самим собой, то Сталина-вождя сравнивал с Лениным, и это сравнение было не в пользу Иосифа Джугашвили. Однако и самого Ленина Горький хотел бы видеть несколько другим — более гуманным, более человечным и менее циничным. Но власть… Тут и свои законы, и правила поведения, и многое такое, чего обыкновенному смертному, стоящему вне власти, понять практически невозможно. Именно практически… А если теоретически, то здесь очевидно главное: на смену личности гениальной пришла личность, не отличающаяся особыми талантами, зато неумолимо, как выпущенный из пушки снаряд, направленная на одно — на достижение единоличной власти.
Когда-то Маркс выразился в том смысле, что гении рождаются раз в столетие, а в промежутках их заменяет сумма посредственностей. На практике же выходило, что Сталин возжелал собой одним подменить любую сумму. Может, это неизбежно на определенном этапе истории, в определенной стране, с определенным же населением. А может быть, у Сталина все-таки есть какие-то способности, не только проявляющиеся в борьбе за власть, но и в других областях человеческой деятельности, с этой властью связанных теснейшим образом. И то сказать: без способностей Сталин не поднялся бы на вершину власти, не удержался бы на ней, и страна не смогла бы двигаться в своем развитии вперед в таком бешеном темпе и с такой неумолимой последовательностью… Следовательно, марксов закон не всеобъемлющ, он вполне допускает исключения. Да и сам закон распространяется на людей, которые оказываются наверху в силу рождения в определенной среде, в силу наследственности. То есть выбор тут невелик. Из всех русских царей лишь Петр Великий, пожалуй, соответствовал своему месту и званию, хотя в толще народа талантов неисчислимо. И Сталин, следовательно, прошел жестокий и тщательный отбор среди себе подобных и, следовательно же, занимает свое место по праву.
Итак: «Сталин. Проблемы воспитания»…
Скорее всего, генсек обратился к нему, к Горькому, потому, что Алексей Максимович написал ни одну статью о молодежи и для молодежи, что ему, Горькому, часто пишут именно молодые, и эта переписка иногда появляется на страницах газет и журналов. Что еще? Еще — «инженер человеческих душ». И вообще ближе к народу, чем тот же Сталин…
М-да. А надо ли Сталину быть ближе к народу? В его положении, пожалуй, чем дальше, тем проще принимать решения, имея в виду этот самый народ как некую шахматную фигуру, которая то превращается в пешку, то в ферзя, то, в зависимости от обстоятельств, в любую другую. Так-то, не видя этот народ вблизи, легче манипулировать им и не считать его жертвы: народ он всегда народ, а меньше его или больше, значения не имеет.
Нет, все не то! Сколько ни ломай голову, а предугадать ход мыслей Сталина вряд ли возможно. Ему угодно играть в кошки-мышки? Пусть играет. А он, Горький, будет оставаться на месте, будет терпеливо ждать, когда Сталин наиграется и раскроется сам. Горький не из тех, кто обязан угадывать чужие мысли и желания, он не любитель кошек-мышек. Завтра в два пополудни все раскроется само собой. Надо лишь дождаться, не нервничать и не пытаться угадать. Что касается проблем воспитания, то лично он, Горький-писатель, только тем и занимается, что своими произведениями воспитывает и перевоспитывает человека. То есть — пытается. В силу своего разумения и талантов. Но обстоятельства жизни воспитывают сильнее. Тут все думано-передумано. Все прочее — от лукавого.
Однако успокоение не приходило, и Алексею Максимовичу казалось, что хитрый азиат непременно хочет как-то использовать авторитет Горького в своих целях, что просто так он бы не позвонил и не стал бы настаивать на встрече. Не попасться бы в его сети. Между тем Горький знал, что давно барахтается в этих сетях, что мельче ячеи или крупнее, значения не имеет, а имеет значение нечто большее — большее, чем Сталин, чем Горький и многое другое. Но что это такое, стоящее над всеми и всем? Коммунизм? Или то, что под ним подразумевается? Ведь другие-то люди живут, надеются, верят… Другие-то люди… А это и есть народ. Следовательно, и он, Горький, должен жить так же. Может, и от Сталина зависит далеко не все. Может, и он, как и все, тоже всего на всего лишь раб обстоятельств, слуга исторической предопределенности…
Черт знает что! Казалось: случится революция — и все станет ясно. Случилась — и никакой ясности. Более того, теперь кажется, что в прошлом этой ясности было значительно больше: главные вершители истории — капиталисты и рабочие, все остальные — лишь около, вроде спутников Юпитера. А теперь… И каково самому Сталину — на его-то месте? Может, иначе и нельзя? Может, кого ни поставь, все обернется тем же самым? Разве что с небольшими частностями?
А может, и правда — взять и написать о Сталине очерк? Как когда-то о Ленине… Ведь Сталин очень ждет именно этого. И объективных причин отказываться от написания очерка нет. Более того, с точки зрения политического момента такой очерк просто необходим. Ведь дело не в Сталине как таковом, дело в авторитете его власти, его должности, принимаемых партией решений, в надеждах народа, который исторически всегда связывал свою судьбу с той или иной личностью: с царем, богом, вождем или героем. Сталин — лишь символ, олицетворение народной мечты…
Но как писать о Сталине, если ты в своей речи на съезде писателей заклеймил вождизм, если ты с вождизмом связал Гитлера и Муссолини, имея в виду более всего именно Сталина и пытаясь своими рассуждениями отвратить его от вождизма? Тем самым ты как бы отвел Сталину совсем иную роль — значительно более низкую, менее емкую, чем вождям фашизма и национал-социализма. Как писать о Сталине, если ты иудейское пятикнижие сравнил с «Майн кампф» Гитлера, идею еврейской исключительности — с расистской идеей национал-социализма? Да и вообще: как писать о человеке, который тебе антипатичен, в каждом слове и движении которого ощущается неискренность и дьявольское властолюбие? И все-таки ты восхвалял Сталина! Вместе со всеми. И в таких выражениях, в каких не восхвалял Ленина, хотя тот был более достоин…
Алексей Максимович подпер голову ладонью и прикрыл глаза. На листе бумаги не прибавилось ни слова.
Вдруг вспомнил: надо сказать Крючкову, чтобы обменял билеты на завтрашний поезд.
Алексей Максимович торопливо нажал кнопку вызова. Ему показалось, что если он немедленно не отдаст такого распоряжения, Крючков сообщит Ягоде, а тот Сталину, что Горькому дела нет до просьбы вождя, что ему вообще нет дела ни до чего.
Что Крючков состоит на службе в НКВД, Горький знал, как имел основание предполагать, что остальная прислуга следит за каждым его шагом, прислушивается к каждому его слову. Он уже попривык к этому своему положению поднадзорного, научился не говорить лишнего, а его постоянные посетители не только не говорили лишнего, но и всячески старались выказать свою лояльность советской власти, состязались в этом выказывании и всячески втягивали в это состязание Горького, будто знали наверняка, что каждое их слово дойдет по назначению. В том числе и о тех, кто им не нравится, кого бы они хотели убрать куда-нибудь подальше.
Дверь в кабинет открылась сразу же, едва Алексей Максимович снял палец с кнопки звонка: видать, Крючков стоял и ждал под дверью.
— Звали, Алексей Максимыч? — спросил он, переступая порог.
— Да, Петр Петрович, звал. Тут такое дело…
Низкорослый, плотный, как нераскрывшаяся еловая шишка, Крючков стоял в двух шагах от стола и терпеливо ждал, слегка склонив на сторону круглую голову с седоватым ежиком волос. Алексей Максимович поймал себя на мысли, что внимательно рассматривает своего секретаря, пытаясь определить, что у того на уме, смутился и принялся прочищать мундштук. Пытайся не пытайся, а Крючков… он всегда застегнут на все… э-э… крючки и пуговицы и потому непроницаем для постороннего взгляда.
Горький был уверен в том, что сын погиб не без помощи этого услужливого и непроницаемого человека. Напоил Макса и, пьяного, бросил лежать на сырой, холодной земле. Вряд ли это было подстроено умышленно, но вина все-таки на нем лежит безусловная. По Крючкову, однако, не скажешь, что он за собой вину эту чувствует. Что касается Генриха Григорьевича Ягоды, то между ним и наркомом будто пробежала черная кошка: именно Ягода упрятал Каменева и многих других хороших людей за решетку. Более того, он не раз пытался доказать, что обвинения, выдвинутые против них Вышинским, не высосаны из пальца человеком, весьма неприятным, не очень-то старающимся скрыть свой шляхетский антисемитизм.
Впрочем, Макс давно уже не был ребенком и сам обязан был отвечать за свои поступки… Был… обязан… Но… но в том-то и дело, что не способен был ни на поступки, ни на собственное мнение, — ни на что определенное. Тут и он, его отец, виноват тоже: держал при себе, пытаясь втянуть в литературное дело, боясь отпустить от себя сына в свободное плавание, потому что жизнь — штука страшная, и сам ты ее хорошо не знаешь и даже не понимаешь, хотя и делаешь вид… а у сына ни дарований, ни стремлений. И никакой самостоятельности: сын-секретарь у своего отца… Может, поэтому Макс и стал пить. Так что вина за его смерть на тебе самом, дражайший ты мой Алексей Максимыч, и неча сваливать ее на других…
— Да, вот что я вам хотел сказать, Петр Петрович, — вспомнил Горький о своем секретаре. — Завтра у меня в четырнадцать часов встреча с товарищем Сталиным… Здесь, в этом доме. Судя по всему, завтра уехать не удастся. Распорядитесь насчет билетов, ну и что там еще…
— Я уже распорядился, Алексей Максимыч, — склонил голову Крючков. — Билеты перезаказал на следующую неделю. Еще, с вашего разрешения, дал понять редакции «Наших достижений», что вы — возможно — примете участие в ближайшем заседании редколлегии: они очень просили.
— Вот как! Что ж, пожалуй, вы поступили правильно, — медленно произнес Алексей Максимович, а про себя подумал: «Угодники начинают с услуг, а кончают господством». И в растерянности подергал себя за усы: он с трудом перестраивался на другой лад, то есть — в данном случае — на то, что придется еще неделю провести в пыльной и дымной Москве, когда всем своим больным и усталым телом, всеми помыслами уже как бы обретаешься на крымском берегу, дышишь его живительным воздухом и относительной свободой.
— Что ж, все правильно, все правильно, — пробормотал Алексей Максимович, окончательно забыв о секретаре.
И вновь необычная просьба Сталина захватила его сознание, наполнив душу тревогой и сомнениями.
Глава 27
Давненько Алексей Максимович так не волновался, как в эти последние два часа ожидания приезда Сталина. Он не находил себе места, слонялся по дому, то заходя на кухню, то в комнаты вдовы своего сына, пытался отвлечься в общении с внуками, но тут же забывал о них, молча поднимался и шел дальше. В маленьком и уютном кабинете было слишком тесно, трудно дышалось. В библиотеке слишком пахло пылью и о чем-то назойливо молили разноцветные корешки книг. И почти везде за ним следовал тенью молчаливый Крючков, а когда Алексей Максимович останавливался и поворачивался к нему лицом, тот отступал на несколько шагов назад и в сторону, опускал голову и застывал в вопросительном почтении.
«Надо было выгнать его сразу же после смерти сына, — не впервой подумал Алексей Максимович о Крючкове, понимая в то же время, что не волен выгонять или принимать прислугу. И даже не потому, что не властен, а потому, что на виду и… и мало ли что подумают и скажут. Впрочем, иногда даже полезно иметь именно такую прислугу: твои мысли станут легко и быстро достоянием верхов, и верхи могут по этим твоим мыслям принять нужное для тебя решение. Однако надо признать, что ни одна из подобных попыток не имела видимого разрешения, но кто знает, кто знает… Ну и, в конце концов, тебе никто не мешает писать то, что ты хочешь писать, не препятствует заниматься делом, в которое ты веришь, с мнением твоим считаются все, сам Сталин обращается за советом… Чего тебе еще надо?»
За окном послышался шум подъехавших автомобилей, коротко рявкнул клаксон, торопливо захлопали дверцы. Алексей Максимович глянул на настенные часы: без трех минут два. Что ж, надо отдать Сталину должное: сказал в два, в два и приехал. Вот только что хочет получить руководитель страны Сталин от почетного руководителя писателями этой страны Горького?
Алексей Максимович спустился на первый этаж, встретил Сталина в прихожей. Внимательно, сверху вниз, посмотрел на низкорослого вождя, первым протянул руку для пожатия — как старший младшему по возрасту.
— Прошу, Иосиф Виссарионович, — показал рукой в сторону библиотеки, сдержанно покашлял в кулак.
В библиотеке сели за круглый стол напротив друг друга. Сталин, скользнув взглядом по книжным полкам, спросил:
— Читали «Поднятую целину» Шолохова?
— Да, читал, Иосиф Виссарионович. Весьма нужная, весьма полезная для понимания проблем коллективизации вещь. И написана с большой художественной силой.
— Совершенно с вами согласен, Алексей Максимович, — произнес Сталин и посмотрел на Горького слегка прищуренными рыжими глазами. — Очень жаль, что у нас мало писателей, которые с такой силой и правдивостью отражали бы трудные процессы становления новых отношений между людьми. В частности, в деревне.
— Да, вы правы, Иосиф Виссарионович. Но действительно талантливые писатели случаются очень редко. Тем более гениальные. А Михаил Шолохов безусловно талантлив.
— А каково ваше мнение о Маяковском?
— О Маяковском? — удивился Алексей Максимович, не ожидавший такого вопроса. — Я полагаю, что это один из крупнейших поэтов нашего времени, — осторожничал он. — Правда, в его творчестве не все равноценно, однако это не умаляет его значения для нашей поэзии и литературы, для поэтического отражения революционной эпохи.
— Мы придерживаемся такого же мнения, — произнес Сталин глуховатым голосом, не вдаваясь в значение слова «мы». — И мы полагаем, что необходимо как-то увековечить имя этого поэта, воздать должное его заслугам перед пролетарской революцией и государством рабочих и крестьян.
— Совершенно с вами согласен, Иосиф Виссарионович, — тут же откликнулся Горький, все еще не понимая, куда клонит Сталин. Не за тем же он пришел к нему, чтобы выяснить отношение Горького к Маяковскому. Хотя… почему бы и нет?
— Но Маяковский — это лишь часть дела по воспитанию народа в духе советского патриотизма, — продолжил Сталин, как будто не слыша Горького. — Я согласен с вами, Алексей Максимович, что народ должен знать свою историю, историю государства, на территории которого он живет. Без такого знания не может быть любви к отечеству…
— Да-да, Иосиф Виссарионович, — подхватил Горький, подаваясь к Сталину своим большим телом, постепенно увлекаясь. — Вы совершенно правы! С изменением общественных формаций не должна прерываться связь времен, — в этом я убежден самым глубочайшим образом. А без этой связи невозможно воспитание народа в духе любви к своему отечеству. Должен заметить, что в фашистской Италии и нацистской Германии широко пропагандируется культ отечества. Правда, исключительно в своих, антигуманных, спекулятивных целях, но недооценивать фактор патриотизма нельзя в любом случае, а отрицать его на том лишь основании, что подобный культ имеет место в названных странах при соответствующих режимах власти, по меньшей мере не серьезно…
— Вы имеете в виду Троцкого? — спросил Сталин и остановил немигающий взгляд на переносице Алексея Максимовича.
— Не только его, Иосиф Виссарионович, не только его, — выдержал Горький взгляд Сталина, хотя и почувствовал себя весьма неуютно. И повторил: — Не только Троцкого. Есть и среди нас, писателей, люди, которые полагают, что если в России произошла пролетарская революция, то все, что было до этой революции, подлежит забвению, как ненужное и даже вредное.
— Это точка зрения товарищей Бухарина, Демьяна Бедного, Авербаха и им подобных. Мы не согласны с подобной точкой зрения. Мы пересмотрели дела некоторых старых историков, — размеренно и тихо говорил Сталин, будто не он санкционировал их арест и высылку в Сибирь и на Дальний Восток. Правда, с подачи других, но и не мог не санкционировать: эти, другие, были преобладающей частью власти, с которой он, Сталин, в ту пору не только считался, но и разделял ее взгляды. Теперь другое время, другие соотношения во властных структурах, старое рушится, новое надвигается, установилось то равновесие, пошатнуть которое может в свою пользу именно новое, прагматичное, а старые историки волей-неволей оказываются в русле новой волны. Вернее сказать, волны-то старой, но на новой основе. Горький должен это хорошо понимать. Но он явно не понимает и не принимает методов, которыми это равновесие устанавливается. И даже противодействовал им в недавнем прошлом.
— Мы считаем, что обвинения этих историков в контрреволюционности не имели под собой основания, — после длительной паузы вновь заговорил Сталин, заполнив паузу возней с трубкой и табаком. — Мы вернули их к прерванной ими работе в учебных заведениях, к их трудам по изучению истории России. Мы думаем, что это правильно.
— Да-да, я полностью разделяю и поддерживаю это… это решение партии, Иосиф Виссарионович, — с воодушевлением подхватил Горький. — Платонов, Рождественский, да и многие другие — я помню, как зачитывался ими в молодости! — воскликнул он. — История страны и ее историческая научная школа имеют такую же преемственность, как и литературное дело. И все это в масштабах исторических является фактором народного воспитания.
— Не только это, — возразил Сталин. — Но и определенное отношение народа к происходящему… У Льва Толстого в «Войне и мире» есть интересные рассуждения насчет того настроения, которое охватывает в определенных условиях народные массы. Это может быть настроение упадничества, уныния, пораженчества, но может быть и настроением подъема, энтузиазма. Если второе настроение передается армии, то она делается значительно сильнее армии противника, даже если армия противника превосходит количественно и в техническом отношении. А нам рано или поздно придется воевать с фашизмом, следовательно, мы должны подготавливать в народе необходимое нам самочувствие, необходимое нам настроение. И не на короткий период, а на длительное время, что значительно сложнее. Наконец, есть еще одна существенная область, влияющая на сознание народа и его самочувствие — это практическая работа партии и правительства, ее руководящих кадров по социалистическому строительству, восприятие этой практической работы рабочим классом, широкими народными массами. — И замолчал, ожидающе глядя на Горького.
Только теперь Горький понял, чего, собственно, добивается от него Сталин: признания авторитета этого руководства, следовательно, авторитета самого Сталина. По существу, это еще одна попытка склонить Горького к написанию работы о Сталине по типу того очерка, что он когда-то создал о Ленине. Но Горький сейчас еще меньше был расположен к такой работе, поэтому пространное рассуждение Сталина о народных настроениях и ссылка его на Толстого прошли мимо сознания Горького. Он не представлял себе, как будет описывать Сталина с его медлительными движениями, его неподвижным лицом и постоянно настороженными глазами, точно Сталин чего-то ждет или даже боится. Ленин был проще, понятнее, непосредственнее. А Сталин — он точно ходячая маска, внутри которой скрывается нечто такое, чего неслышно, но что как вулкан бурлит и клокочет, взрывается бесшумно и незаметно для глаза, однако с далеко идущими последствиями.
— Я разделяю вашу точку зрения, товарищ Сталин, — осторожно произнес Горький и с ужасом понял, что назвал Сталина не Иосифом Виссарионовичем, а именно товарищем Сталиным, то есть перевел разговор с ним как бы на официальную почву. И тотчас же заметил, как сузились глаза Сталина, как он тут же убрал свой взгляд и полез в карман за платком, достал его, развернул и слегка промокнул рот, будто съел что-то липкое. Пытаясь сгладить впечатление от нечаянно сорвавшегося официального обращения, Горький заспешил словами: — Я должен вам заметить, Иосиф Виссарионович, что мы в писательской организации придаем большое значение руководящему фактору социалистического строительства, ибо, по моему глубочайшему убеждению, партийное руководство, начиная с Октябрьского переворота, всегда стояло на высоте своих исторических задач и в каждом конкретном случае решало эти задачи подобающим образом. В журнале «Наши достижения» мы отражаем этот фактор. А в редакционных планах есть еще более весомые решения этой проблемы. И силы привлечены соответствующие.
Сталин никак не реагировал на слова собеседника, словно потеряв к нему всякий интерес. Он сосредоточенно чистил трубку, был всецело поглощен этим занятием, однако Алексей Максимович, охваченный непонятной тревогой, принялся развивать тему журнального творчества в направлении воспитания и образования народных масс, но уже без былого вдохновения, а как бы по инерции. Иногда ему даже казалось, что Сталин его не слушает, занят своими мыслями, и в мыслях этих настолько далек от Горького, что вряд ли помнит о его существовании. Но, несмотря на это, Алексей Максимович продолжал говорить, потому что… А что же еще делать? Не сидеть же этаким попкой и дуться на Сталина только за то, что тот занят своими мыслями.
В отличие от Горького, для Сталина размышления были самым важным способом обретения истины. Он не любил писать, он вообще был ленив по натуре, но обладал огромной волей и умел свою лень преодолевать. Он мог часами ничего не делать, есть, пить, гулять по парку или вышагивать по своему кабинету, слушать болтовню других, в то время как в голове его, наполненной огромным множеством разнообразных фактов, шла вполне определенная работа по сортировке этих фактов и отысканию в их совокупности определенного смысла. Лишь тогда, когда эта работа заканчивалась, Сталин мог сесть за стол и изложить на бумаге короткими фразами на нескольких страничках то, к чему пришел в результате многочасовой и даже многодневной работы мозга. И это, как правило, были не рассуждения о том о сем, а конкретный план действий. Оставалось лишь придать этому плану видимость теоретического обоснования. А для этого годилось буквально все: от высказываний Маркса и Ленина, до народных поговорок и пословиц. Но главным аргументом все-таки были не эти надерганные отовсюду цитаты, а кропотливый подбор людей, наделенных необходимыми качествами для поддержки и практической реализации готового плана. При этом вовсе не обязательно, чтобы все эти люди были преданы товарищу Сталину душой и телом, как вовсе не обязательно, чтобы они хорошо знали дело, которым им предстоит заняться. Более того, иногда личный враг и идейный противник товарища Сталина годился для того или иного дела больше, чем единомышленник и друг. Такого тем более не жалко, если он дело проваливал, такой иногда только и годился для того, чтобы выказать подобным образом свою никчемность или доказать на практике, что путь, на который была направлена его деятельность, ведет в тупик. Так некогда Ленин использовал Троцкого, поручив тому восстанавливать и налаживать железнодорожный транспорт, и Троцкий, более способный к публичной политике, дело завалил, расписавшись в своей непрактичности.
Горький — с практической же точки зрения — ничем не отличается от подобных людей, мысленно вернулся Сталин к своему собеседнику. Разве что славой и авторитетом, которые создал себе сам. Но это имело значение лишь в масштабах тех агитационно-пропагандистских задач, для разрешения которых он только и мог быть использован. Но чтобы Горький соответствовал этим задачам, чтобы сам считал себя обязанным им соответствовать, Сталин долго держал его за границей, не пуская в Советский Союз, воспользовавшись для этого публикацией в Берлине книги горьковских статей, идейно расходящихся с советской властью. Он заставил писателя унижаться, просить о снисхождении и всячески доказывать свою лояльность. Вот и в речи на Первом съезде писателей Горький старался в том же направлении, замаливая прошлые грехи и делая авансы на будущее. Разрешив Горькому вернуться, Сталин окружил его верными людьми, повязанными с новой властью не только идейно, но и кровью, он взял писателя в такой оборот, привлекая его то к одному, то к другому мероприятию, что у Горького почти не оставалось времени на самостоятельною деятельность.
Да, он, Сталин, желал бы иметь о себе горьковскую работу наподобие работы о Ленине, такая работа еще больше укрепила бы его авторитет как внутри партии и страны, так и за границей. Чем больше авторитет вождя, тем большие задачи он может решать самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. А Сталин не только знал наверняка, но и вполне понимал, что авторитет его сегодня еще не беспределен, что он постоянно подвергается давлению и умалению со стороны людей, поднявшихся к власти вместе с ним. А иногда и благодаря ему, Сталину. Но власть не для всех и не всегда есть мера благодарности тому, кто ее тебе предоставил, ибо желание власти столь же огромно, как и желание богатства и славы.
Знал Сталин, о чем говорят в доме Горького, кто у него бывает, что в разговорах этих часто проскальзывает скрытая и явная оппозиционность, что Горький, хотя и не поддерживает эту оппозиционность, но и не препятствует ее звучанию.
— Вот, буквально вчера, — упавшим голосом произнес Алексей Максимович, и Сталин чутко отметил эту перемену интонации в голосе Горького, — мы говорили с товарищами Бабелем, Кольцовым, Задоновым… э-э… и другими товарищами писателями на тему… э-э… укрепления с помощью печатного слова авторитета руководящих кадров…
Горький сам не знал, зачем из него выскочила эта ложь про руководящие кадры, смутился, но все же успел заметить, что при упоминании Задонова Сталин замер с зажженной спичкой в руке, и лишь спустя несколько секунд принялся раскуривать трубку, плямкая губами и посапывая. Алексей Максимович вспомнил, как нападали на Задонова Кольцов, Бабель и другие, ему подумалось, что зря он упомянул имя Алексея Задонова в ряду других имен. Увы, слово — не воробей… Впрочем, чего это он вдруг? Все равно список людей, бывших в тот день у Горького, наверняка давно лежит в соответствующем месте. Так что упоминай не упоминай — разницы никакой.
Утешив себя рассуждениями, Алексей Максимович невольно втянул носом дым от трубки Сталина, и ему тоже захотелось курить. Он открыл лежащий на столе портсигар, выловил из него папиросу, принялся усердно разминать ее, придавая мундштуку изломанную форму, удобную для курения.
А Сталин в это время свободной рукой собирал в кучку разорванные папиросы «Герцеговина-флор», табаком которых набил себе трубку.
В библиотеке на какое-то время повисла настороженная тишина.
Вдруг рука Сталина замерла над столом, качнулась в нерешительности, затем убралась под стол. И лишь после этих приготовлений Сталин принялся неторопливо ронять слова, точно они, эти слова, были разбросаны на большом расстоянии друг от друга, и для того, чтобы их соединить, требовались большие усилия и время:
— В истории Рима имел место длительный период гражданских войн… И был случай, когда беспощадное подавление всякого своеволия его граждан привело к устойчивому миру и процветанию, — заговорил Сталин тем раздумчивым голосом, каким говорят о выстраданном. При этом он поглядывал на книжные полки, время от времени поводя в их сторону черенком трубки, как бы призывая книги себе в свидетели. — Я имею в виду годы консульства Суллы, — после короткой паузы продолжил он. — Если мне не изменяет память, в семидесятые-шестидесятые годы до новой эры. Сулла много лет стоял во главе империи. Все это время не было ни одной попытки его свержения со стороны недовольных патрициев. Когда Сулла достиг вершины могущества, он самоустранился от власти, ушел на покой, занялся разведением цветов, но в стране все оставалось таким же, будто Сулла продолжал стоять во главе империи. И никто не посмел взглянуть на него косо…
Снова замолчал, долго плямкал губами, раскуривая трубку, вытягивая из нее голубоватый дым, продолжил так же тихо и раздумчиво, в обычной своей манере: вопрос — ответ, вопрос — ответ:
— А почему? Потому что за ним стояли народные массы, стояла армия. Но едва Сулла умер, как вновь начались раздоры между отдельными группировками рабовладельцев. Следовательно, и при Сулле, несмотря на видимое спокойствие, тлели угли этих раздоров. Почему тлели эти угли? Потому что для них оставалась классовая почва. Или взять Юлия Цезаря… Юлий Цезарь был убит своими же соратниками. В чем причина этого убийства? В том, что Юлий Цезарь доверился той покорности и славословию в свой адрес, которые его соратники ему выражали. Тот же Цицерон, например… Или Брут…
Сталин замолчал так же неожиданно, как неожиданно заговорил о далеком прошлом. Алексей Максимович растерянно поглядывал на своего собеседника, ожидая продолжения, не зная, что ответить на это слишком откровенное высказывание. Сталин удивил его своим многословием, чего Горький за ним еще не замечал. И доверительностью. К этому Алексей Максимович был не готов.
Снова наступила неловкая пауза.
Впрочем, Сталин эту паузу, судя по его спокойному лицу и плавным движениям руки с зажатой в кулаке трубкой, неловкой не считал. Он невозмутимо пыхал дымком, будто лишь для этого — покурить и рассказать историю римского консула Суллы — и приехал к Максиму Горькому, щурил свои рыжие глаза и продолжал не спеша возиться с обрывками папирос. Он мял их пальцами, складывал в пепельницу, тщательно вылавливал на столе рассыпанные крошки табака, — и так был, казалось, поглощен этим занятием, что на Горького у него просто не оставалось времени.
«При чем тут Сулла?» — недоуменно подумал Алексей Максимович, и вдруг — будто вспышка яркого света — увидел Сталина с той стороны, с какой раньше никогда до этого на него не смотрел, — и Сталин, озаренный этой вспышкой, словно отделился от самого себя и из него вылущился тот, кого раньше называли Иосифом Джугашвили. А поодаль стояли другие революционеры, бывшие соратники Сталина, но и они тоже как бы вылущились из своих оболочек, и каждый явил себя в истинном виде, то есть каждый наособицу и каждый со своей жаждой власти.
Алексей Максимович еще раз взглянул на Сталина, проверяя свои ощущения, но тут же с испугом отвел взгляд в сторону. Он в замешательстве постучал мундштуком папиросы о стол, надвинув на глаза лохматые брови, опасаясь, что Сталин прочтет в его глазах истинные о себе мысли Горького, наконец сунул папиросу в рот, закурил, жадно затянулся дымом и закашлялся.
Кашлял долго, с надрывом, хрипло, и кашель был похож на лай кавказской овчарки. А едва затих, Сталин поднялся, произнес:
— Вам, дорогой Алексей Максимович, действительно надо бы хорошенько полечиться. Зря я отсрочил ваш отъезд в Крым. Думаю, мы сами тут разберемся в вопросах воспитания. Тем более что в своей практике неизменно опираемся на марксизм-ленинизм. Не откладывайте поездку, поезжайте, подлечитесь. Осень в Крыму — наилучшая пора для чахоточных. А ваша жизнь очень нужна рабочему классу. — Протянул руку, задержал в своей. — Не провожайте. Товарищ Сталин найдет выход и сам. Не впервой. До свидания.
И пошел скользящей походкой из кабинета.
Глава 28
Когда затих шум моторов, Алексей Максимович вернулся за стол, сел в кресло, вытянул ноги, откинулся на спинку, устало закрыл глаза. Вспомнил, что в голову минуту назад пришла какая-то мысль, связанная со Сталиным, которая не то чтобы напугала его своей обнаженностью, а… как бы это сказать… Да уж чего там: действительно напугала, даже еще не родившись, а лишь забрезжив в полутьме сознания.
Алексей Максимович напряг память.
Сталин и Сулла. Сталин и Цезарь… Не просто так он рассказал байку об этих римлянах. Значит, сравнивает себя с ними, ищет в их опыте аналогию с собственным положением.
Марксист и рабовладельцы… Странная аналогия. Почему она родилась в голове Сталина? В чем суть этого человека? Почему Сталин именно такой, какой он есть? И почему он так разительно отличается от всех других революционеров? Почему он ведет ту политику, которую никто бы из бывших соратников Ленина скорее всего не вел бы? Почему он избавился от этих соратников и продолжает от них избавляться? Почему он с такой настойчивостью преследует Зиновьева с Каменевым? Почему разогнал общества политкаторжан и старых большевиков? Почему ликвидировал еврейскую секцию в ВКП(б)? Чем они помешали ему? Откуда в нем все это? И какая связь между ним и консулом Суллой, жившим две тысячи лет назад?
Алексей Максимович вспомнил свою первую встречу со Сталиным за границей, — кажется, в Лондоне, — встречу, которая не оставила в его памяти почти никаких следов, разве что сам факт такой встречи; вспомнил неприметную фигуру Джугашвили, его невольное желание оставаться в тени, и понял, что сегодняшний Сталин начинался оттуда, что, собственно говоря, в нем нет ничего странного и необъяснимого.
Вся штука в том, думал Алексей Максимович, что Сталин не жил в эмиграции, не участвовал в тамошней борьбе идей, в партийных интригах и склоках, не выработал в себе добродушной снисходительности к своим оппонентам. В нем нет того напускного лоска, который обретают люди за границей. Он не прошел школы партийного лицемерия и соперничества, не проникся духом западничества, сохранив в себе патриархальные представления не только о семье, но и о партии, об обществе и государстве. Судя по всему, в его сознании крепко сидит евангелический догматизм и евангелическое же понимание личности, хотя и претерпевшие изменения под воздействием тех событий, в которые Иосиф Джугашвили вовлекался после ухода из семинарии. Вполне естественно, что годы семинарии не могли пройти бесследно. И, пожалуй, главное, что вдолбила в него семинария, это убеждение, что представление человечества о миропорядке идет от представления единого бога, его безграничной власти над людьми, что у бога нет ни правых, ни виноватых, а есть лишь те, кто верит в него, поклоняется ему и славит его. Богу, скорее всего, эта слава и не нужна, но она нужна людям, нужна их объединению, спокойствию и нежеланию нести ответственность не только за всех остальных людей, но и за самих себя. Наконец, в Сталине что-то от тех босяков, грабителей и убийц, с которыми Горький встречался в своих странствиях по Руси, с их собственным кодексом чести и справедливости, что-то от диких горцев-абреков, с жестоким презрением взирающих на человеческую жизнь. И очень странно, что Сталин, будучи профессиональным революционером, так мало почерпнул для себя именно революционного, так много сохранил в себе допотопного и дикого. Наверное, так всегда случается, когда события по своей значимости опережают время и как бы отделяются от сознания людей, подстегивавших эти события своим нетерпением. Наступает момент, когда большая часть людей останавливается в ужасе перед ими содеянном, даже не понимая, как все это произошло, и начинает оглядываться назад, и уж во всяком случае большинство из них уверены, что до всех этих событий жилось спокойнее и лучше. Затем какая-то часть начинает пятиться, увлекая других, у них находится свой вождь, который попятное движение выдает за движение вперед, тем самым обезоруживая всех — и правых, и левых. Сталин и есть именно такой вождь.
Алексей Максимович и сам не понимал, хочет ли он безоглядного движения вперед или тоже некоторого отката назад. Пожалуй, полагал он, отойти назад и оглядеться — это даже лучше. Вот и Клим Самгин у него тоже начинает пятиться и предавать свою былую революционность… вернее, былую революционную фразеологию. Но за то, за что можно судить Клима Самгина, как-то не поднимается рука судить весь народ. Или все-таки можно? Ведь народ — в подавляющем большинстве своем — это крестьянин или мещанин, не имеющий даже малейшего понятия о тех бреднях, которые возникают в головах иных интеллигентов. Беда в том, что интеллигент свои бредни выдает за чаяния самого народа, а когда народ отворачивается от этих бредней, полагает, что народ предал самого себя. Взять хотя бы того же Бердяева, полагающего, что народ предал идею Третьего Рима и тех «трех китов» — православие, самодержавие и народность, — на которых будто бы держалась дореволюционная Россия. А ведь философия Бердяева возникла на узкой почве религиозной секты пресытившихся великосветских мещан. Нынешние «левые» ворчат, в свою очередь, на свой народ, полагая, что он предает былую революционность, а вместе с этим и саму идею коммунизма. Следовательно…
Алексей Максимович растерянно повел глазами по книжным полкам: не они ли внушили Сталину мысли о Сулле? Но книги смотрели на Алексея Максимовича укоряюще-спокойно, как бы говоря, что они ничего не внушают человеку, а лишь заставляют его думать.
* * *
Сталин покидал Горького с уверенностью, что этот человек себя изжил. Он не только перестал быть полезен советской власти, но стал для нее обузой. Слишком дорогой и совершенно бессмысленной. Причем такой обузой, на которую все время приходится оглядываться, как бы эту обузу не потерять и не растрясти. А впереди решительная борьба с зазнавшимися «революционерами», старыми партийцами, которые, подобно Троцкому на посту Наркомжелдора, ничего не могут, не умеют и не хотят уметь, которые живут в плену революционной фразы, всем недовольны, годятся лишь на музейные экспонаты, и то лишь в том случае, если не заслоняют собой тех, кто много работает и мало говорит, да еще, ко всему прочему, втягивают этих работающих в свои бессмысленные притязания. Тронь этих… эту революционную бюрократию по-настоящему — и Горький тут же выступит в роли их адвоката.
А трогать придется. И очень скоро.
А еще Троцкий со своими нападками на товарища Сталина, со своими претензиями на лидерство в мировом коммунистическом движении. Горький не понимает, что с троцкизмом можно и нужно бороться таким авторитетам, как Горький же, что у товарища Сталина ограниченный ресурс влияния на западную интеллигенцию, что Горький мог бы написать о Сталине очерк, который укрепил бы авторитет Сталина, ослабил бы влияние Троцкого. Не товарищу Сталину нужен этот очерк или статья, а делу социалистического строительства в СССР, делу противостояния мировой реакции и фашизму. А тот факт, что Горький молчит, заставляет многих приходить к выводу, что он находится в оппозиции к товарищу Сталину, что он на стороне Троцкого.
«Пора тебе в бронзу, товарищ Горький, — подумал Сталин, умащиваясь на сидении автомобиля. — У каждого человека есть свой предел целесообразности. Когда-нибудь и товарищ Сталин достигнет этого предела. Но каждый старается отодвинуть от себя его границу. Горький — не исключение. Впрочем, создать ничего выдающегося он уже не в состоянии. „Клим Самгин“… А что такое „Клим Самгин“? — Сталин посмотрел в окно на мелькающих человеков и дома, усмехнулся в усы и решительно ответил на свой вопрос: — Бессмысленное и бесконечное копание в самом себе. А что может выкопать человек из самого себя? Из самого себя он может выкопать бледное подобие себя самого же. Карикатуру. Как не может ни один верующий в бога воссоздать в своем воображении бога, отличного от самого себя, так и Горький не может вырваться из плена понимания человеческой сущности не иначе как через мещанство».
И мысленно поставив на Горьком точку, Сталин переключился на другое: страна огромна, мир огромен, проблем прорва, не на Горьком одном свет клином сошелся.
Конец шестнадцатой части
Часть 17
Глава 1
В воскресенье Петр Степанович Всеношный встал до света, разбудил жену. Они попили чаю с оладьями, сели на велосипеды и отправились на свой огород.
Небо уже посветлело, на востоке рдяная полоса сменилась на оранжевую, сквозь которую пробивались желтые лучи. Они щупали белесое небо и редкие облака на нем, становясь все короче и короче, пока не исчезли совсем вместе с зарей, уступив место желтому диску солнца.
В старом рабочем поселке, застроенном приземистыми мазанками, во всю глотку кричали петухи, хлопали двери, дымились летние кухни. Воскресенье, а людям не до отдыха: хозяйство требует рук. Из нового поселка, названного именем товарища Фрунзе, застроенного двухэтажными домами из шлакоблоков, по улицам тянулся народ — и все в верхнюю степь, к своим огородам. В основном пешком, неся на плечах узелки, лопаты и тяпки. Люди спешили поработать до жары, они, правда, и в жару будут работать, но до жары легче и веселее, а потом через силу, потому что не работать нельзя, потому что на государство надейся, а сам не плошай.
Из родничка в меловом овраге Петр Степанович набрал в бутылки холодной воды, чтобы попить и умыться. Родничок еле сочился, прибывающий народ выберет всю влагу до дна — когда-то еще натечет.
Весна в этом году выдалась ранняя, снегу зимой выпало мало, весенние дожди были редкостью, сухая земля начала трескаться, лишь на глубине штыка еще держалась сырость, и если в ближайший месяц не будет дождей, урожая не видать и труды пойдут прахом, а родничок и вообще уснет до новых дождей. Но человек надеется на лучшее, и Петр Степанович вместе с женой, согнувшись в три погибели, тяпали и тяпали землю, очищая ее от сорняков, окучивая слабые ростки кукурузы, фасоли, помидоров, огурцов…
Конечно, им вдвоем много не надо: дети выпорхнули из гнезда, живут своей жизнью, но привычка запасаться на зиму, оставшаяся от смутного и голодного времени, держалась в сознании крепко. Да и что говорить: всегда приятно выделить детям лишнюю банку маринованных огурчиков или помидоров, мешочек белой фасоли. А когда созреют дыни-дубовки, или мелковатые, но сахарные арбузы, приятно подать их на стол, нарезанные тонкими ломтями, когда кто-нибудь из детей приедет на летние каникулы.
И вся степь, кроме желтоватых скифских курганов, пестрела в это раннее утро бабьими белыми косынками и мужскими соломенными шляпами, курилась буроватой пылью. Везде видны люди, даже дети малые, кланяющиеся земле-кормилице.
В полдень Всеношные уселись под навес из старой холстины, разложили нехитрую снедь: глиняный кувшин с квасом, хлеб, сало, вареные яйца, перья зеленого лука, раннюю редиску. Вера Афанасьевна, молчавшая целых шесть часов кряду, принялась рассказывать о школьных делах, о том, чьи дети и как закончили учебный год, кто ходил в отличниках, а кто в троечниках.
— Дочка вашего главного инженера Вилена Водохлебова всех забивает своими знаниями. Даже сына Бикешиных, который всегда был первым в классе. Чувствуется, что в Москве ее учили в особой школе: там и музыка, и иностранные языки, и рисование, и даже танцы с самого первого класса. А у нас этого ничего нет. Наша француженка язык знает хуже этой девчонки, просто плачет от нее — та все время ее поправляет. Смех да и только. И ничего удивительного: к ней на дом репетиторы ходят, а жена вашего Водохлебова — так та просто никого не видит. Представляешь? Идет и никого не видит! — возмущалась Вера Афанасьевна. — Оказывается, они три года жили во Франции — все от этого и получается. Конечно, во Франции все по-другому, там школы частные, в классах не более десяти-пятнадцати человек, а у нас по сорок и в три смены. Я просто рада, что сдала свой четвертый класс и с нового года начну опять с первого.
Петр Степанович школьные истории своей жены слушает не впервой, знает их назубок, поэтому мыслями своими находится отсюда далеко — даже сам не знает где. Но если он не знает где, то знает возле кого, хотя и боится в этом себе признаться. И есть отчего бояться: в цех к ним недавно пришла новенькая, только что закончившая Харьковский университет, пришла на должность начальника спектральной лаборатории, потому что старую начальницу, жену начальника производства завода, не имеющую никакого образования, а только кое-какую практику, зато состоящую членом парткома и профкома одновременно, сняли с должности и перевели на склад обыкновенной кладовщицей.
Но дело, конечно, не в бывшей начальнице, а в новенькой.
Петр Степанович до мельчайших подробностей помнит то утро, когда на планерке новенькую представил руководящему составу цеха его начальник товарищ Онищенко. Новенькая стояла рядом с ним, такая юная, такая стройная и удивительно красивая, что все смотрели на нее, как на чудо. И Петр Степанович вместе со всеми.
— Значит, так, товарищи! Вот это есть новая наша начальник лаборатории, — говорил Онищенко, будто речь шла о какой-то детали, и по одному по этому было видно, что он тоже как бы не в своей тарелке. — Зовут ее Агнесса Георгиевна Чулкова, так что, как говорится, прошу любить и жаловать, и чтоб у нас во всем был порядок. И с чугуном, как говорится, и с маркировкой, и с отливками. Чтоб комар носа… это самое. Поскольку товарищ Чулкова женщина сама из себя видная… кхм… я должен предупредить, что она в настоящий текущий момент состоит замужем, так что некоторые товарищи, которые губы свои раскатили, пусть на нее не заглядываются и трудовую дисциплину не нарушают. А то начнут таскаться в лабораторию по делу и без дела — я таких товарищей знаю и буду пресекать.
Агнесса Георгиевна, пылая всеми своими щечками, ушками и шейкой от такого к себе повышенного внимания, ответила на некоторые вопросы некоторых особенно любопытных товарищей по части своей партийности и происхождения: комсомолка и происхождение пролетарское, — поблагодарила за теплый прием, улыбнулась приветливо и села как раз напротив Петра Степановича, разве что чуть-чуть наискосок, обвела всех — и его тоже — какими-то совершенно необыкновенными глазами: черными, как южная ночь, и слегка раскосыми на татарский манер, еще раз улыбнулась — и тут что-то дрогнуло в душе Петра Степановича, да так дрогнуло, что и до сей поры, — вот уже третью, считай, неделю, — дрожит и никак не уймется. И боится при встрече Петр Степанович смотреть на эту молодую особу, и ходить в лабораторию боится, хотя ему и положено туда ходить дважды в день, но тянет в лабораторию поминутно, потому что… а он и сам не знает, почему… но голова его сама по себе поворачивается вслед новенькой, если она идет мимо, да не его одного голова, а и все другие, и даже женские, а имя ее — Агнесса! — звучит в его душе чудеснейшей музыкой.
И вот ведь что самое страшное и удивительное: оказывается, что он свою жену, Веру Афанасьевну, никогда не любил, потому что ничего подобного к ней не испытывал, но то, что происходит с ним сейчас, тоже любовью назвать нельзя, а скорее каким-то ужасным наваждением: ни днем, ни ночью эта Агнесса не дает ему покоя, не оставляет его, преследует своими колдовскими глазами — до головокружения и болей в левой части груди.
— Да ты меня и не слушаешь, Петя! — возмутилась Вера Афанасьевна. — Я ему битый час толкую о своих делах, а он хоть бы ухом повел. И о чем таком ты можешь думать, когда с тобой жена разговаривает?
Петр Степанович некоторое время смотрит недоуменно на свою жену, пытаясь что-то вспомнить, но не то, о чем она рассказывала «битый час», а что-то другое, давнее. Ну да, было, было когда-то, когда Вера Афанасьевна называла его исключительно по имени-отчеству, обращалась на вы, и не только на людях. А с тех пор, как он вернулся из лагеря и они вынуждены были уехать из Харькова, только Петя да Петя и никаких вы. И даже покрикивает на него и читает ему нотации.
— Нет-нет, я слушал тебя, — стал оправдываться Петр Степанович, виновато улыбаясь. — Могу даже повторить. Но… — Он хотел сказать, что у него тоже есть о чем подумать: завод, например, но не сказал, потому что не видел в этом никакого толку.
И вообще, учительство каким-то необъяснимым образом повлияло на Веру Афанасьевну исключительно в худшую сторону: она во всех людских поступках различает одни сплошные козни, люди ее почему-то интересуют только с отрицательной стороны. Раньше он ничего подобного за своей простушкой-женой не замечал. Впрочем, он вообще за ней мало что замечал. И это тоже удивительно.
Петр Степанович допивает квас, поднимается, берет тяпку и идет в конец огорода: ему совсем не хочется работать рядом с женой, наоборот, хочется побыть одному и понять самого себя. Он слышит, как жена что-то говорит соседке, жене начальника инструментального участка, и речь Веры Афанасьевны, с теми же самыми учительскими нотками, с какими она разговаривает с Петром Степановичем, мерно стрекочет над степью, сливаясь со стрекотом кузнечиков и сверчков.
«Вот ведь незадача, — грустно думает Петр Степанович под этот стрекот. — Не зря говорят: седина в голову, а бес в ребро. Мне уж скоро пятьдесят, а ей не больше двадцати пяти. К тому же она — замужем. И что из этого выходит? Один смех, да и только. Вот Левка Задонов бы узнал, вот уж он бы посмеялся, так посмеялся. Надо выбросить эту дурь из головы. А то я иногда забываю, зачем и куда иду и что должен делать…»
Петр Степанович горестно вздыхает, но мысли об этой самой Чулковой, такие приятные сами по себе, так далеко уводящие от опостылевшей обыденности, снова наполняют его голову, и он продолжает рассказывать кому-то — может быть, Левке Задонову, — ну да! а кому же еще! — который давно почему-то не пишет, — рассказывать о том непонятном, которое с ним, Петром Степановичем, приключилось:
«Давеча Онищенко встретил, спрашивает: „Петр Степаныч, — спрашивает он, — вы распорядились добавить в вагранку флюсы?“ „Нет, — говорю, еще не успел: еще не получил результаты анализа. Вот иду…“ „Срочно, — говорит Онищенко, — распорядитесь“. А в лаборатории говорят, что Агнессы Георгиевны нет: вышла, говорят, вот-вот должна придти…»
«И вот, Левка, странность какая: стою это я и не помню, зачем пришел. А все потому, что… потому что на ней с утра была такая блузка, такая, знаешь ли, с этими самыми… рюшечками… или черт знает с чем… что она в ней, в блузке то есть, — ангел, да и только. И лифчик сквозь блузку видно, с кружавчиками такими, знаешь ли… А она в это самое время белый халат одевала… руки подняла вот эдак, знаешь, ли… Так — веришь ли? — у меня аж дух перехватило. Черт знает что! — И Петр Степанович даже сам распрямился и приподнял руки и тяпкой в них для пущей наглядности, точно Левка Задонов стоял рядом. — Вот я и забыл, — продолжил Петр Степанович свой рассказ. — Вышел я из лаборатории, понимаешь ли, как пришибленный. А в голове — веришь? — все одно и то же: ведь кто-то этой ночью обнимал эту Агнессу, кто-то пользовался ее телом… и даже днем… вот сейчас… пока я тут тяпаю картошку… хотя это безнравственно и вообще нехорошо. А главное, Левка, я ее за все это почему-то ненавижу. Да, именно так: ненавижу. Хотя это же так естественно для молодой и здоровой женщины — быть замужем и все такое прочее…»
Петр Степанович выпрямился, держась за поясницу, но не до конца, и в таком полусогнутом состоянии огляделся. И весь мир показался ему таким отвратительно серым и никчемным, что и смотреть тошно. Ведь живут же люди, весело живут, хорошо, ни о чем не думая, ни о чем не жалея. А он… Даже вот этот жаворонок — и тот более счастлив, чем он, Петр Степанович Всеношный, хомо, так сказать, сапиенс. Вон как заливается, вон как крылышками трепещет. А тебе уж и трепыхать нечем…
И тут Петр Степанович не к стати вспомнил, что вчера, то есть в субботу, к концу дневной смены привезли чугунные чушки для второй смены, и он, как глянул на них, так сразу же и подумал, что они, эти чушки, несколько светлее положенного. Он даже подошел, глянул на цветную маркировку — по маркировке выходило, что углерод в норме, сера и другие примеси в пределах допустимого. И все-таки опыт подсказывал ему, что маркировка одно, а вид чугуна — другое. И решил: надо зайти в лабораторию и сказать, чтобы проверили. Но вся штука в том, что он совсем недавно был там, — по делу, разумеется, — идти снова было неловко. Решил, что сходит к концу смены. И не сходил: замотался, то да се. А тут еще пришел сменный технолог, молодой парень, почти мальчишка, недавно из техникума, стало быть, чушки — это теперь его забота, тем более что сразу же и заявил, что идет в спектральную, чтобы уточнить и прочее. А уточнил ли — бог его знает.
«Выпить, что ли? — с тоской подумал Петр Степанович. — И решил: вернусь домой и выпью. Ну его все к черту!»
И снова согнулся и засновал тяпкой вокруг жалких ростков картофельной ботвы.
Глава 2
Директор Константиновского чугунолитейного завода Иван Кириллович Чумаков с некоторых пор завел привычку с раннего утра обходить подведомственную ему территорию, заглядывая во все углы в поисках беспорядков. И завел он ее после неожиданного приезда на завод наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, который, пройдясь по захламленной всякой всячиной территории, распушил Ивана Кирилловича в его собственном кабинете, как какого-нибудь сопливого мальчишку, и даже поднес к его носу кулак, пообещав, что если через месяц заводская территория не будет приведена в порядок, он отдаст директора и всех остальных руководителей завода под суд, загонит их на лесоповал и даже поставит к стенке.
Нашумевшись, Орджоникидзе лишь мельком осмотрел основные цеха, не стал вдаваться в подробности выполнения плана, уехал, не попрощавшись.
Черт знает, какая муха укусила наркома, что он вдруг взъелся на захламленность заводской территории! В прошлом году приезжал, было то же самое, но он и бровью не повел на это, а самому Ивану Кирилловичу в голову не приходило, что надо заниматься территорией, когда на более важные дела не хватает не только рабочих рук, но и времени у самого Ивана Кирилловича. Не иначе, как что-то должно случиться: то ли иностранная делегация приедет, то ли сам товарищ Сталин. Ничего другого в голову Ивана Кирилловича не помещалось.
К тому же, сколько и как ни убирай эту территорию, а только народ такой, что никогда окурка в урну не бросит, обязательно под ноги, да еще и плюнет туда же, а ненужные вещи — в смысле устаревшее оборудование и всякие там бракованные детали — бросают где попало, без всякого разбору. Попробуй-ка перевоспитай деревенского парня или девку, если они всю жизнь ютились в грязи вместе с телятами-ягнятами, убирались разве что на праздник, жили в своем дому так, точно завтра съезжать и двигать в неизвестном направлении. Опять же, сверху требуют план и соцобязательства, а не какие-то там газончики и прочую чепуху.
Но не идти же, в самом деле, под суд из-за всего этого, хотя, конечно, Орджоникидзе вряд ли исполнит свою угрозу: криклив, шумлив, но отходчив. Вместе с тем еще раз видеть наркомовский кулак возле своего носа Ивану Кирилловичу не хотелось, и он поставил вопрос ребром перед партийной, профсоюзной и комсомольской организациями завода: хоть кровь из ваших носов, а порядок за неделю чтоб навели. И не в рабочее время, а сверх него. И в выходные.
— Объявляйте воскресники, субботники, вторники и что хотите, работайте с фонарями по ночам, а чтобы территория завода выглядела так, как… как сквер перед зданием горкома партии. И даже красивше! — стукнул Иван Кириллович кулаком по столу. А чтоб придать своим словам большего весу, предположил: — Не исключено, что сам товарищ Сталин приедет на наш завод смотреть, как мы тут работаем и тому подобное. — Подумал малость, что бы еще заодно повесить на своих разгильдяев, вспомнил, как обедал в заводской столовой, а не как обычно — в своем кабинете, и понес по кочкам, накаляя голос до крика: — И чтоб в столовой тоже порядок был! А то посмотришь, черт бы вас всех побрал, одна грязь да и только! Я уж не говорю, как кормят! Кормят так, что жрать не станешь по причине невкусности и всяких других причин. Даже удивительно, куда деваются продукты, ложки там и вилки! Потому рабочий класс и ходит со своими судками, как во времена старого режима. Стыд и срам на нашу голову по поводу такой кормежки наших рабочих и тому подобное в неотложном строительстве социализма и мировой революции.
Такая проработка на всех подействовала самым решительным образом, особенно упоминание о возможности приезда на завод товарища Сталина. И, действительно, за две недели территорию завода стало не узнать: весь хлам вывезли в степь, подальше от города, свалили там в глубокую балку, железо, какое обнаружили, пустили в переплавку, дорожки засыпали шлаком и плотно укатали, а сверху посыпали песком, по обочинам насадили акации и всякие другие деревья и кусты, устроили места для курения и отдыха и даже соорудили фонтан напротив административного корпуса и цветочные клумбы.
«Умеют, черти полосатые, если их покрепче ухватить за эти самые… за самое больное место», — сделал вывод Иван Кириллович по прошествии отпущенного им времени и напрочь забыл о территории. Но однажды шел в литейный цех, глядь — тут что-то валяется, там куча, там две! Ах, мать вашу неумытую! Опять за старое принялись! Глаз да глаз за ними нужен, за этими несознательными строителями нового мира. И стал с тех пор Иван Кириллович с утра обходить территорию, совать носом своего зама по быту в каждый окурок, не говоря о всем прочем. И, что особенно удивительно, получал удовольствие от красоты и приятного вида, которые возникали в результате его решительной деятельности. Глаз радуется: социализм в чистом, можно сказать, виде.
А вдруг и в самом деле товарищ Сталин возьмет да и приедет? Что тогда? Товарищ Сталин — это тебе не Орджоникидзе, он шуметь не станет, нет, а придут к тебе ночью, возьмут под микитки — и на Соловки, будь ты хоть дважды орденоносец и член партии с дореволюционным стажем.
Вот и сейчас Иван Кириллович остановился возле шарообразных кустов какой-то удивительной заморской акации, разглядев под ними пожухлую листву, окурки и даже какие-то промасленные тряпки. Ясно, как божий день, что дворник смел все это туда, в надежде, что никто не заметит. Ах, сукин сын! Ах, бракодел чугунного литья!
— Кто здесь ответственный за уборку? — с тихим шипением спросил Иван Кириллович у своего зама по быту, вонзив в одутловатое его лицо свои серые колючие глаза. — Лишить премии и вычесть из зарплаты! И твоя квартальная будет на половину меньше. А еще раз увижу… — и поднес к носу своего зама кулак величиной со средний кочан капусты.
Зам, Никодим Никодимович Перелядко, спорить не стал: бесполезно. А про себя решил, что уж своего-то зама по уборке территории так высечет, как сидорову козу не секли в старорежимные времена, то есть лишит его не половины квартальной премии, а всей, до последней копейки. Ну и дворников тоже, чтоб не подводили свое начальство.
— Народ, Иван Кириллович, того-этого… бросает, куда ни попадя, — осмелился пояснить Никодим Никодимович. — Урна рядом, а он мимо урны… народ в смысле… Вот я и говорю: штрафовать надо. Бросил окурок — плати. Бумажку там или плюнул — тоже самое. Иначе — нет никакого смысла.
— Штрафовать? Ты что, рехнулся? Вспомнил старорежимные времена? Это в те поры штрафовали за всякую мелочь, а ты, значит, и в наше, советское, то есть, время… Да нас с тобой в домну вместе с шихтой загрузят! Да я тебя за такие одни мысли сам загружу! Выдумал, твою дивизию! Воспитывать надо — вот что! Лекцию там или еще что. Поговори с профсоюзом, комсомолом, внуши, так сказать, а о штрафах и не заикайся.
— Значит, меня штрафовать можно. Моих замов — тоже, а всяких некультурных разгильдяев — нельзя? — совсем уж осмелел Перелятко. И даже налился вишневым соком от своей смелости.
— А ты, товарищ Перелятко, не рабочий класс, — огрызнулся Иван Кириллович.
— А кто же я такой есть по своей существенности, если и я, и мой отец, и дед вкалывали на заводе на буржуев?
— Ты, Никодимыч, есть по своей существенности в настоящий текущий момент чиновник-бюрократ. Вот кто ты такой есть, а вовсе не рабочий класс. Так что сам перевоспитывайся и других перевоспитывай. Иначе уволю и поставлю дворником…
— Ну спасибо тебе, товарищ директор, за все мое хорошее.
— На здоровье. И на этом наш идейный и политический разговор закончен. Иди и делай свое дело. Аминь.
Иван Кириллович в то же утро побывал и в рабочей столовой. Накинув на себя поварскую куртку, он совал нос во все котлы, нюхал варево и жарево, пробовал на соль и перец, проверял раскладку продуктов, а в конце предупредил, что сегодня будет обедать в общем зале, и если что окажется не так, то пусть лучше сразу бегут хоть в степь, хоть в застепь, иначе он самолично сварит всех поваров в котлах… вместе с директором столовой, снабженцами и прочими лоботрясами.
Нагнав таким образом страху на всех, на кого было положено нагнать, в девять часов пятнадцать минут Иван Кириллович переступил порог своего кабинета, велел подать себе крепкого чаю с черным хлебом и солью и принялся просматривать сводки выполнения графика чугунного литья за минувшие сутки.
Глава 3
До того, как стать директором чугунолитейного завода в городе Константиновке, Иван Кириллович прожил весьма трудную жизнь. Начинал он в двенадцатом году подсобным рабочим в Юзовке, потом воевал с германцами в империалистическую, почти без перерыва перешел в войну гражданскую, служил под командованием луганского слесаря Ворошилова, отступал до Тулы в девятнадцатом, наступал до самого Новороссийска, в двадцатом под командованием Тухачевского дошел почти до Варшавы, потом драпал до самого Минска, закончил войну комиссаром полка. Уволившись из армии, четыре года учился в школе рабочей молодежи, одновременно работая мастером в формовочном цехе. Через год, благодаря своей партийной принципиальности, которая не терпела старорежимных методов работы и саботажа со стороны спецов царского времени, поднялся до начальника цеха, показал и на этой должности железную хватку, в результате чего по партийной путевке был направлен на ускоренные курсы в промакадемию, по окончании которых рекомендовался начальником строительства и одновременно директором вот этого самого завода.
Конечно, промакадемия обширных и глубоких знаний ему не дала, так ведь чтобы руководить заводом, не обязательно быть академиком, достаточно знать, куда и сколько воды втекает, сколько должно вытекать, имея в виду испарения и прочие химические процессы, и требовать от подчиненных, чтобы ни каплей больше, ни каплей меньше. Орджоникидзе, например, и ускоренных курсов не кончал, Сталин — так тот лишь духовную семинарию, однако один руководит всей тяжелой промышленностью, другой — всей страной. И ничего, получается. И товарищ Чумаков ничем их не хуже. И другие Чумаковы тоже. Уж если они в гражданскую, едва научившись писать и читать, царских генералов распушили с Антантой в придачу, то сколько чего нужно кинуть в вагранку, чтобы получить тонну чугуна, а из этого чугуна все остальное, он знал и раньше. По этой причине можно было обойтись и без промакадемии: лишняя трата времени в догонянии и перегонянии Америки и всего капиталистического мира. И это в тот исторический момент, когда настоящих большевистских кадров ощущается явная нехватка и дефицит, потому что молодежь пороха не нюхала, в штыковую атаку против офицерских рот не хаживала, следовательно, закваска у нее не та, темпы не те, из камня искры собственным лбом выбивать не приучена. Зато гонора — выше крыши. Ну, да мы видали всяких, не таким вязы набок сворачивали, а уж этим… Впрочем, не вся, конечно, молодежь такая несознательная, зато отдельные элементы…
Рассуждая таким образом, Иван Кириллович поглядывал на нового главного инженера завода по фамилии Водохлебов, присланного из Москвы всего полгода назад, человека молодого, то есть едва перевалившего за тридцать, но уже с залысинами, очень упрямого и неуступчивого, очень о себе высокого мнения по причине испорченности высшим образованием.
Вот и сейчас, и не впервой, на этот раз с графиками в руках, он, этот Водохлебов, пытается доказать, что внедрение кислородного дутья в технологический процесс плавления чугуна и стали сэкономит время расплава, повысит качество чугуна, что скажется в лучшую сторону при производстве отливок.
— Вот смотрите, Иван Кириллович, — говорил главный инженер Водохлебов, показывая директору завода график, вычерченный на листе ватмана цветной тушью. — Вот эта синяя кривая есть время, необходимое на выплавку одной тонны чугуна при обычном дутье, а вот эта красная — при дутье кислородном. Разница, как видите, большая. К тому же мы имеем возможность регулировать количество углерода в чугуне и стали до десятых долей процента, вводить легирующие добавки, поднимая для этого температуру плавления практически без дополнительного использования энергоресурсов. И главное — для этого не понадобится больших затрат на реконструкцию печей. На Западе, особенно в Германии, кислородное дутье применяется широко, а у нас лишь кое-где, да и то в ограниченных масштабах. Если мы применим кислородное дутье на нашем заводе, мы шагнем далеко вперед…
— Куда мы шагнем, так это еще бабушка по воде вилами того-самого, а если план не выполним, за это нам головы поснимают. Это я тебе говорю, потому что знаю, как такое подобное делается. Ты мне наладь дело, чтобы имеющуюся технологию выполняли тик в тик, а до твоих ученых премудростей нам еще дожить надо. Да и наркомат добро не даст, потому что в планы такая модернизация не внесена, денег нет и в ближайшем будущем не видно, чтобы появились. Так что ты, Николай, свои… эти самые… прожекторатства оставь до лучших времен. Мне план нужен, а не прожекторатства.
— Прожектерство.
— Хрен редьки не слаще. Я заграничные слова на полях гражданской войны в красноармейских наступающих цепях изучал, а там в ходу было только два слова: интернационал и коммунизм. Другие без надобности. Разве что мать-перемать.
— Как хотите, Иван Кириллович, а я этот вопрос поставлю перед наркоматом, — горячился главный инженер Водохлебов. — Нельзя весь век работать по старинке. Этак мы от капиталистов отстанем еще лет на десять, а товарищ Сталин требует, чтобы мы их не только догнали, но и перегнали.
— Что товарищ Сталин от нас требует, я и без тебя знаю. И ты мне на этот существенный факт пальцем не указуй: молод еще. И пока я здесь директор, никаких… этих самых… черт бы их побрал! — не допущу. В Москве много чего выдумляют, каждый день чего-нибудь выдумляют, если все эти выдумля… если всё это начинать у нас вводить, работать некогда будет. А с нас план требуют. План, план и план! А прошлой ночью, между прочим, двенадцать тонн чугунных отливок в брак пошли. Это как? Сегодня двенадцать тонн, да завтра столько же, — это сколько же за месяц набежит? — уже почти кричал Иван Кириллович. — А вы мне тут… Ты мне лучше скажи, как эти тонны вернуть? Вот что ты мне скажи по своей учености! И не позже, чем через два часа. Все! Можешь идти и думать. На то тебя и учили целых пять лет.
И показал рукой на дверь.
Водохлебов пришел в свой кабинет и какое-то время не мог ничего делать и ни о чем думать от нанесенной ему обиды. Он метался по кабинету, ломал руки и ругался с отчаянием и злостью: «Старый хрен! — ругался он про себя, имея в виду директора завода, хотя тому едва перевалило за пятьдесят. — Ретроград! Недотепа! Неуч! Привык брать одной глоткой, а чтобы подумать, так куда та-ам! Как будто то, что я ему предлагаю, мне во сне приснилось. Как будто я не думал, как будто в Германии…»
Выкурив две папиросы, выпив стакан крепкого чаю и несколько успокоившись, Водохлебов связался по телефону с начальником чугунолитейного цеха Онищенко.
— Семен Ардальёныч? Это Водохлебов. Что там у вас стряслось в ночную смену? Почему такой брак? Почему такая недостача в выполнении плана?
— Так это самое… разбираемся, товарищ главный инженер. Ночная смена… некачественный чугун… много раковин. Опять же, процент углерода не выдержан и серы больше положенного. Уж не знаю, что и делать. Тут у нас и главный технолог, и диспетчер — все занимаются. Иван Кириллович уже устроил нам нахлобучку — чертям жарко…
— Я вас не про нахлобучку спрашиваю, а о причине брака, товарищ Онищенко, — сердился Водохлебов. — Впрочем, я сам сейчас к вам приду.
Глава 4
Всеношный в это утро пришел на завод раньше обычного — без десяти минут восемь. Чуяло сердце, что в цехе не все ладно. Правда, он и всегда приходил раньше времени, но редко когда раньше чем за полчаса. А тут на целый час с минутами. И его сразу же огорошили: почти вся работа ночной смены — коту под хвост.
Петр Степанович ходил среди остывающих отливок, уже выброшенных из кокельных ящиков, и даже без всякой лупы видел тонкую сетку трещин на корпусах моторов и станков, язвы раковин на их серых боках. Пока ясно было одно: полученные на днях чугунные чушки имели заниженный процент углерода и завышенный процент серы, в результате чего в вагранку внесли не то количество присадок, не был выдержан температурный режим. Но больше всего Петр Степанович винил самого себя: он видел эти чугунные чушки, однако поверил соответствующей маркировке, выведенной на их поверхностях масляной краской, и не поверил своему многолетнему опыту, вернее сказать, замотался, допустил безответственность и халатность.
Утешало, что качество отливок зависит не только от технолога литейного цеха: в ночную смену работает лаборатория спектрального анализа, в задачу которой входит устанавливать марку чугуна; есть квалифицированные и опытные вагранщики, есть мастер ночной смены, есть, наконец, дежурный инженер-технолог, то есть куча всяких ответственных лиц, которые, как водится, передоверили свои обязанности друг другу, а в результате…
Теперь-то все были здесь, суетились, искали стрелочника. Таковым мог стать и сам Петр Степанович. Правда, доменщики давно их не подводили, а раньше — года три назад — брак шел постоянно, и без проверки пускать чугун в вагранки было нельзя. Но за последние годы доменщики подтянулись, да и руководство там поменялось радикально, все вошло в норму, маркировке стали доверять — и вот результат этой доверчивости.
Петр Степанович понимал, что он и есть первый кандидат в стрелочники, поэтому надо как-то умудриться и возможные попытки свалить на него все грехи пресечь в корне. Иначе… О том, что может последовать за ночным происшествием, даже подумать было страшно, тем более Петру Степановичу, уже имевшему срок по пятьдесят восьмой статье. Но как пресечь эти возможные попытки, когда еще никто не назван по имени, еще ни на кого не указали пальцем? Высунешься — тут как раз о тебе и вспомнят. Промолчишь — тоже могут заподозрить неладное. Просто голова кругом — да и только.
Ближе к девяти появился начальник цеха Анищенко, уже извещенный о случившемся, белый, как собственные холщевые штаны.
— Что? Что? Что? — вцепился он в Петра Степановича, не в силах произнести ничего другого.
— Я распорядился, Семен Ардальёныч, добавить в вагранку кокса и извести, через час спектральный анализ покажет… Рабочие готовят опоки для нового литья…
— Ах ты, боже ж ты мой, боже ж ты мой, — сокрушался Анищенко. — И это перед самым отпуском…
Между тем прибывало все новое и новое начальство: главный технолог завода, начальник производства, начальник лаборатории. Высунулось из угла сплющенное лицо начальника первого отдела, высунулось, покрутило носом и опять куда-то засунулось. Но Петру Степановичу не до них: он снует по цеху, проверяя, контролируя, распоряжаясь и проклиная себя за допущенную в субботу беспечность и лень. Он даже на какое-то время забыл о существовании Агнессы Георгиевны Чулковой, а вспомнил, лишь чуть не столкнувшись с ней в тесном коридоре, куда выходили двери цеховых служб.
— Ах, Петр Степанович! — воскликнула Агнесса Георгиевна, схватив его за рукав синей спецовки. — Я в отчаянии! Просто не знаю, как все это случилось и что мне делать!
И в раскосых глазах ее, прекрасных, как сказки Шехеразады, появились слезы.
— Ну что вы, Агнесса Георгиевна! — засуетился Петр Степанович, оказавшийся так близко от своего божества, что даже расслышал запах не только ее духов, но и молодого тела. — Вы тут совершенно ни при чем. Тут, видите ли, стечение обстоятельств. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тут и я, знаете ли, виноват тоже. И… и другие. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Все утрясется, все утрясется…
— Вы так думаете? — и в глазах Агнессы Георгиевны вспыхнул робкий свет надежды.
— Я в этом больше чем уверен, — шел напропалую Петр Степанович, даже не зная, какую извлечет из своих слов пользу, не думая о последствиях, и вообще ни о чем не думая, испытывая в эти минуты такое блаженство, какого не испытывал никогда: вот она, милая, милая… стоит рядом… в глазах слезы… целовать бы ее, целовать… Впрочем, и того довольно, что рядом, что рука ее так и застыла на сгибе его локтя, точно она боялась упасть или что-то еще.
И верил, что все будет хорошо, и даже вдруг обнаружил в себе отчаянное желание пойти куда-то и сказать, что во всем виноват только он один, и никто больше. Но едва успокоенная Агнесса Георгиевна отпустила его руку и, на ходу промокая шелковым платочком свои восхитительные глазки, скрылась за дверью лаборатории, Петр Степанович судорожно вздохнул и желание свое, может быть, благородное и тому подобное, но глупое в самой основе, задавил. Он потоптался на одном месте еще какое-то время и пошел в цех, забыв, почему оказался в узком коридоре, зачем шел и к кому, продолжая чувствовать на сгибе своей руки прикосновение ее длинных трепетных пальцев.
На пять минут заглянул директор завода, выслушал сообщение начальника производства, нахмурился, пожевал губами и, ничего не сказав, покинул цех. Это-то и было самым, пожалуй, страшным: лучше бы наорал, как обычно, обматюкал. А теперь поди знай, что у него в голове.
В половине десятого в цехе появился главный инженер завода Водохлебов. Тут же, в кабинете начальника цеха, собрал совещание, всех выслушал, назначил комиссию: он сам во главе, помощниками — главный технолог завода и начальник производства.
Снова из угла высунулось плоское лицо первоотдельца — и Водохлебов добавил в комиссию и его. Но и на этот раз ничья фамилия названа не была.
До обеда Петра Степановича дважды вызывали в кабинет начальника цеха, спрашивали, когда привезли чугун для отливок, уточняли, была ли на болванках маркировка, какая именно, когда произвели закладку в вагранки? Петр Степанович тыкал пальцем в журнал, где все было записано, повторял уже в десятый раз одно и то же, пытаясь понять по хмурым лицам членов комиссии, как они относятся к его ответам. Вроде бы ничего: кивали головами, соглашались, каверзных вопросов не задавали, а он сам о том, что чугун показался ему несколько светловатым, разумеется, не помянул. И комиссия в конце концов пришла к выводу, что на чугуноделательном комбинате, находящемся буквально за забором, выплавленный чугун неправильно промаркировали — отсюда и все остальное. И Петр Степанович понял, что для всех это самый удобный выход из положения. А наверху пусть разбираются, кто прав, а кто виноват. Но на душе кошки все-таки скребли: беда еще не миновала, без виноватого все равно не обойтись.
Комиссия покинула цех. Ночную смену отпустили по домам. Работа в цехе продолжала идти своим ходом, но в значительно ускоренном ритме: все понимали, что допущенный брак надо исправлять, допущенное отставание надо выправлять, и тут уж не до перекуров и чего прочего.
Глава 5
Вечером в кабинете Ивана Кирилловича Чумакова раздался звонок, и голос телефонистки равнодушно сообщил, что сейчас будет говорить Москва. Иван Кириллович поплотнее прижал черную трубку к уху, слушая далекие трески и хрипы. Наконец сквозь них прорвался голос наркома Орджоникидзе, который можно было угадать исключительно по характерному акценту.
— Что там у тебя опять стряслось? — спросил далекий голос. И, не дожидаясь ответа: — Тебе, Чумаков, что — директорское кресло надоело? Зажрался? Почил на лаврах? Если ты будешь и дальше давать брак по сотне тонн в день, то я ломанного гроша не дам за твою шкуру!
— Откуда сотни тонн, товарищ нарком? Всего двенадцать тонн! Всего двенадцать! Вас неправильно информировали! — кричал Иван Кириллович в черную трубку, радуясь такому несоответствию и надеясь на снисхождение. — Да и те тонны мы уже почти восполнили, — соврал он, не моргнув глазом, — так что план дадим полностью, как и обещали.
Трубка ответила ему долгим молчанием, и Чумаков догадался, что нарком у кого-то уточняет, сколько действительно завод допустил брака. Сейчас ему скажут, что да, ошиблись, лишний нолик приписали в телеграмме, и гроза пронесется мимо. И точно:
— Так двенадцать, говоришь? А не сто двадцать?
— Так точно, товарищ нарком! Всего двенадцать. Да и те по вине доменщиков: маркировку не ту дали на чугуне. Отсюда брак и пошел.
Иван Кириллович знал, что нарком до таких тонкостей производства не опускается, и теперь начнет пушить соседей, а те, бог даст, как-нибудь выкрутятся. Лишь бы не за его, Чумакова, счет. Потому что и его вина тут имеется. То есть не его лично, а его подчиненных, но перед Москвой не они отвечают, а директор. А он уже отдал приказ всех лишить квартальной премии. Всех! Чтоб следующий раз рот не разевали.
И гроза, действительно, пронеслась мимо. И, как говорится, слава богу. Или еще там кому в небесной канцелярии. Можно перевести дух — до следующего раза. Потому что раз на раз не приходится.
Иван Кириллович выходной день на этот раз проводил на даче, ковырялся с утра в земле, но не вокруг картофельной ботвы, а вокруг цветов: георгинов, гладиолусов, хризантем. Тоже надо смотреть, чтобы не заросли сорняком, чтобы стояли, как вкопанные, и имели красивый вид.
За забором из штакетника, разделяющим две дачи, в гамаке лежала молодая жена директора чугуноделательного завода, держала в руках книжку. Ее муж, Гаврила Елизарович Пинченко, широкий, низкорослый мужчина, на пару лет старше Ивана Кирилловича, ходил в это время в полосатой пижаме по зеленой лужайке и поливал из шланга цветочные клумбы.
Иван Кириллович с Гаврилой Елизаровичем в ссоре — почти как в известном рассказе писателя Гоголя. И все из-за тех проклятых чугунных чушек с неправильной маркировкой. На заседании в горкоме партии они и поссорились. Секретарь горкома Берестянский потребовал вынести товарищу Пинченко предупреждение по партийной линии, а товарищ Пинченко стал обвинять товарища Чумакова в том, что у него на заводе нет никакого контроля и никакой технологической дисциплины. Ну, чугун, действительно, оказался не того качества. Так эта партия и не предназначалась чугунолитейному, попала туда по ошибке, так что ж теперь — бить директора за эту случайную оплошность кладовщика? Вот уже три года доменщикам не предъявляли никаких серьезных претензий, а тут такая ерунда — и на тебе, и все старания коллектива по выполнению повышенных соцобязательств пошли насмарку. Разве это дело между товарищами по трудовому фронту? Нет, не дело. В гражданскую вместе били белых, друг другу на выручку приходили, а тут, получается, что стараемся другим свинью подложить и всякие пакости…
Однако товарищу Пинченко не дали продолжить свою обличительную речь, поскольку секретарь лишил его слова и пригрозил, что вместо предупреждения товарищ Пинченко очень даже может схлопотать партийный выговор.
Пинченко замолчал, сел и так зыркнул на Чумакова, что если бы у него в глазах были огнеметы, он бы своего соседа по даче и по работе испепелил бы в пару секунд.
С того дня Пинченко не замечает Чумакова, а Чумаков делает вид, что никакого Пинченко на свете не существует. Будто Иван Кириллович виноват в том, что кто-то постарался о допущенном браке сообщить в Москву раньше, чем о нем узнал директор завода.
«От ведь лизоблюды проклятущие! От ведь старорежимные пережитки и бюрократия! Знать бы, кто капнул наверх, голову бы самолично ему скрутил на все сто восемьдесят градусов. Пускай бы ходил задом наперед».
Из будки выбрался черный с подпалинами здоровенный кобель, тряхнул железной цепью и лениво рявкнул в сторону калитки, отвлекая Ивана Кирилловича от своих невеселых мыслей.
Иван Кириллович посмотрел в сторону калитки и увидел там самого товарища Берестянского, Марка Ефимовича, секретаря горкома.
«Черти тебя принесли спозаранок! — подумал Иван Кириллович с досадой. — Дома ему, вишь ты, не сидится». Но тут же выпрямился, отложил тяпку и, расправляя вислые плечи, пошел к калитке, вымучивая на лице радушную улыбку. И не то чтобы Иван Кириллович недолюбливал Берестянского, вовсе нет, но и радоваться его появлению не было причин: все-таки выходной, люди отдыхают, а этот Берестянский других мыслей в своей лысой еврейской голове, похоже, не имеет, как только мысли о последних решениях партии и товарища Сталина.
И точно.
Едва они обменялись рукопожатием, как Берестянский заговорил, тыча пальцем в газету «Правда» от вчерашнего числа, где в передовице — что-то о работе тяжелой промышленности под заголовком: «Наши победы и поражения». И подзаголовок: «Тяжелая промышленность на марше». И дальше в тексте отчеркнуто красным карандашом: «Куда марширует наша тяжелая промышленность? Когда прекратится брак?» — и далее все в том же духе.
— Вот, здггасти вам пожав-вуйста! — воскликнул товарищ Берестянский и продолжил картавить в том же духе: — И о наших заводах. Вот здесь и здесь. — И потыкал пальцами в красные строчки. Затем последовал вывод: — А мы еще миндальничаем с некоторыми директорами, призываем их к партийному порядку. А с них — как с того гуся вода. А товарищ Сталин уже не раз говорил, что многие из хозяйственников зазнались, почили на бюрократических лаврах. — И, переменив тон на приказной и категорический: — Значит, так, Иван Кириллович, после обеда прошу ко мне, проведем небольшое совещание, как нам уже дальше работать и в каком таки направлении. И прошу без этого самого… — многозначительно пощелкал себя пальцами по горлу и направился к соседу, то есть к Пинченко.
Скоро и оттуда послышался его возмущенный картавый говорок.
— Э-э, — произнес уже вечером Гаврила Елизарович Пинченко, сидя на веранде дачи Ивана Кирилловича Чумакова и заедая стопку горилки салом и редиской. И многозначительно добавил: — Иэ-хе-хе. Одну лямку тянем.
— Да-а, — вторил ему Иван Кириллович, — ничего не скажешь. — Подумал немного, добавил для большей убедительности: — Прямо голова кругом идет, да и только.
— А молодежь-то, молодежь… Вот где оппозиционеры так оппозиционеры: молоко на губах не обсохло, а, того-самого, дай им дорогу, облачные выси и так далее…
— Во-во! И я об том же самом говорю: выучили на свою голову. А чтоб там классовое сознание, так этого нету — одни химические формулы да и только.
— Именно что. И на одних нас, стариков, хотят свалить все провалы и недостатки в индустриальной политике. Вот и Берестянский туда же. А сам только и умеет, что давай да давай. А много ли дашь, если и там дырка, и тут заплатка?
— И не говори, Елизарыч. А главное — никак не хотят входить в текущее положение вещей. Вот у меня, например, какое положение? А такое, что надо вводить кислородное дутье, а в плане нет на это денег, — сокрушается Иван Кириллович. — В той же Германии, например… или в Англии — везде кислородное дутье. А у нас? Ты введи в практику достижение науки, а потом и спрашивай, и суй свой кулак, извиняюсь, под нос…
— Совал? — любопытствует Гаврила Елизарович.
— Еще как совал! — радуется Иван Кириллович.
— Вот и мне тоже, — с облегчением хихикает Гаврила Елизарович. — Куда, говорит, смотрите, если этот самый… как его?… научный прогресс? А куда мне смотреть? Прогресс — он везде прогресс, да пока до нас доберется… Давай, Кирилыч, еще по одной… чтоб, значит, начальство нас не обижало.
— Давай, Елизарыч. Начальство — оно… а мы, значит, вроде этих самых…
— То-то и оно…
— Будем здоровы…
— Взаимно.
— А ты помнишь, Елизарыч, Никиту Хрущева? — спросил Чумаков, закуривая папиросу. — Помнишь, в дивизии нашей был заместителем начальника политотдела? Губастый такой, глазастый?
— Как же, как же, помню. Помню, как он у нас в полку выступал за мировую революцию, а потом мне же и дыню вставил в одно место за то, что у бойцов грязное обмундирование, давно не стиранное. Будто было когда его стирать, это самое обмундирование. Сами-то, прости господи, ходили черт знает в чем и ни о какой стирке не думали…
— И что? — блаженно улыбается Чумаков, знающий все эти истории.
— Да что-что? Раздели весь полк, загнали в речку, велели мыться и стираться. В час управились.
— Это когда было-то? — спросил Чумаков, нахмурив свой покатый лоб.
— Как то есть когда? Как раз перед походом в Закавказье, — удивляется Пинченко.
— А-а… Ну, это уж без меня было, машет рукой Чумаков. — Меня после ранения перевели на Западный фронт против белополяков. Но я не про то. А про то, что этот самый Хрущев и нынешний первый секретарь Москвы — одно и то же лицо. Вот я о чем.
— Да ты что! А я-то думаю: тот или не тот? А оно вон оно что! Скаж-жи пож-жалуйста. Вот дела-то. А с виду, если посмотреть, так себе, ничего особенного, — качает круглой головой Пинченко.
— Все мы — ничего особенного, — глубокомысленно утверждает Чумаков. — А как вспомнишь, кем были до семнадцатого года, так и задумаешься, так мысли-то и начинают разбегаться в разные стороны.
— Про мысли — ты это верно заметил, Кирилыч. А только время такое, что разбегаться им не положено. Надо, чтоб мысли эти в одну точку были направлены, и чтоб ни влево, ни вправо, — философствует в свою очередь Пинченко.
— Вот за это давай и выпьем, — предлагает Иван Кириллович.
— Давай, — легко соглашается Гаврила Елизарович.
Над тихим ставком, заросшим камышом, охраняемым длиннокудрыми ивами, над высокими свечками тополей и грудастыми садами вокруг дач, над их крышами, над степью и дальними курганами висела большая рыжая луна, окруженная крупными звездами, как большой начальник прихлебателями. В жестяной абажур фонаря билась мошкара, где-то ухал сыч, душная тишина полнилась треском и звоном цикад. Вдали погромыхивал поезд, вставало багровое зарево над черными силуэтами доменных и мартеновских печей.
Со стороны небольшого хутора послышалось заливистое кукареканье первых петухов…
И от всех этих привычных звуков, от вида повторяющейся из года в год летней ночи в головах обоих директоров заводов бродили одинаково ленивые мысли.
Глава 6
Мужчина лет сорока и женщина лет тридцати с небольшим шли не спеша по Большому Харитоньевскому со стороны Садовой, старательно обходя лужи, оставшиеся после недавних дождей. Мужчина был в поношенном черном плаще и в черной же шляпе, черная бабочка косо выглядывала из-под концов воротника белой рубашки. Мужчина слегка сутулился, смотрел себе под ноги, на его худощавом болезненном лице застыла какая-то неразрешимая мука, избороздившая лоб глубокими морщинами, в глазах таился страх перед окружающим его миром.
Женщина рядом с мужчиной выглядела весенним цветком: легкий плащ темно-зеленого цвета, зеленая же, но более яркая, беретка, одетая чуть набекрень, и голубой шелковый шарф, обернутый вокруг шеи, одним концом спадающий на грудь, другим на спину, зеленая вуаль и ярко накрашенные губы на милом и очень даже неглупом лице.
Не исключено, что мужчина долго болел, поэтому чувствовал себя не слишком уверенно, он, может, впервые вышел на свежий воздух, волочил ноги, смотрел на мир отчужденными глазами, не веря ни яркому солнцу, ни листьям на деревьях, омытых недавнем дождем, ни веселому чириканью воробьев и возбужденной суматохе ворон и галок. Женщина бережно поддерживала мужчину под локоть, всем своим беззаботным и цветущим видом стараясь внушить ему, что солнце существует в действительности, пора похолодания и непогоды миновала, что теперь все будет хорошо, что надо жить и находить в этом удовольствие и радость, — но внушала не только своим цветущим видом, но и словами: она ни на секунду не закрывала рта, рассказывая что-то своим милым журчащим говорком, однако мужчина, похоже, слушал ее не слишком внимательно, думая о чем-то своем.
Они пересекли сквер у Чистых прудов, подошли к скамейке и сели — лицом к пруду, спиной к старым домам с облупившейся штукатуркой, к металлической ограде и трамвайной линии. Мужчина принялся озираться по сторонам, точно не узнавал знакомых мест, затем снял шляпу и, положив ее на колени, пригладил ладонью редкие русые волосы с уже заметной сединой на висках, потрогал бородавку на подбородке, расположившуюся под нижней губой как раз посредине — бородавка царапалась недобритыми волосинками.
Женщина замолчала и, с тревогой поглядывая на мужчину, пробежала руками по воротнику его плаща, поправила бабочку, свела концы шерстяного шарфа на шее, чтобы не дуло, и нерешительно покрутила в руке снятую шляпу, не зная, то ли снова водрузить ее на голову своего спутника, то ли повременить.
Впрочем, солнце грело почти по-летнему жарко, ветер едва обдавал их теплым дыханием нагретого камня, и даже малые детишки были одеты довольно легко, а некоторые граждане мужского пола — так те вообще отважились ходить без плащей и шляп, иные с расстегнутыми воротниками рубашек, хотя на западе все еще громоздились облака, грозя новой непогодой.
Был обычный рабочий день, скамейки сквера вокруг пруда населяли бабушки с внуками да несколько стариков, читающих свежие газеты. Тишина окутывала сквер пуховым покрывалом, шум большого города сюда почти не доносился. Но затем на противоположной стороне пруда послышались громкие звуки — мужчина вздрогнул, побледнел и с болезненным напряжением стал смотреть в ту сторону. Через минуту показались длинные ряды пионеров в белых рубашках, над которыми плыл красный флаг; визгливые звуки горнов и дробь барабанов наполнили собой все пространство. Пионеры то ли готовились к какому-то празднику, то ли приветствовали солнце, не показывавшееся целую неделю.
Белые колонны прошли в одну сторону, развернулись, пошли назад, звуки горнов и барабанов стихли вдали, снова наступила тишина — мужчина успокоился, бледность сошла с его лица, уступив место болезненному румянцу.
Но длилась тишина недолго. Позади сидящих на скамейке мужчины и женщины, ожесточенно стуча колесами по стыкам рельсов, истерично визжа на повороте и нервно тренькая, показался трамвай. Наверняка это был не первый трамвай, но те прошли как-то незаметно, заглушенные пионерским ликованием. Этот же возник из тишины. И мужчина вдруг оживился, повернулся всем телом и стал вглядываться в приближающиеся желто-красные вагоны, словно ожидая какого-то чуда.
Трамвай поравнялся со скамейкой, стало видно весьма сосредоточенное лицо молоденькой вагоновожатой, оно проплыло мимо и растворилось среди кустов сирени, и сам трамвай миновал скамейку, затем миновал и выход на Бронную через турникет между двумя железными столбиками, сторожившими железную же решетку, мимо какого-то гражданина в сером, ожидающего, опершись о турникет, когда проедет трамвай.
Мужчина с таким напряжением чего-то ждал, вглядываясь в стоящего гражданина и движущийся трамвай, что даже, похоже, и не дышал. И женщина смотрела туда же и тоже чего-то ждала.
Но ничего не произошло, ровным счетом ничего: трамвай поехал дальше, гражданин благополучно пересек трамвайные рельсы, пропал из виду, дребезжание трамвая затихло за поворотом.
Мужчина отвернулся и с облегчением выдохнул воздух, а вслед за ним и женщина. И оба одновременно посмотрели друг на друга. И улыбнулись. И это было впервые со дня болезни мужчины.
— Вот здесь они и сидели, — произнес мужчина таким тоном, похлопав при этом ладонью по толстой доске скамейки, как будто некие лица, о которых он вспомнил, померли или уехали из Москвы.
— Да, — согласилась женщина, но тут же и возразила: — Но у тебя сказано: у Патриарших прудов. А там трамвай не ходит.
— Ну и что? — пожал мужчина плечами. — Какое это имеет значение? Москвичи поймут, а другим все равно.
— Но кто-то приедет в Москву и станет искать… — не сдавалась женщина.
— Все равно, — упрямо повторил мужчина. — Соединить несоединимое — вот что для меня важнее всего. — И после некоторого раздумья: — В конце концов, я не виноват, что там нет трамвая, а эти пруды названы Чистыми, а не Патриаршими.
— Да, пожалуй, ты прав, — согласилась женщина, но только потому, что не хотела огорчать мужчину. И тут же встрепенулась: — Но ведь они вернутся? Не правда ли?
— Возможно, — не сразу ответил он. — Но мы с тобой, боюсь, об этом не узнаем.
— Ты думаешь?…
— Да, — коротко отрезал мужчина.
— И все-таки мне кажется, — мягко возразила женщина, — что мы это еще увидим. Теперь вполне становится ясно, что в стране многое меняется к лучшему. В школах решено преподавать историю страны, многие вернулись по амнистии из заключения, елку будто бы собираются разрешить уже в этом году, в армии собираются вернуть офицерские звания, твоему Киршону прищемили хвост, Сталин распушил Демьяна Бедного за его пьесу «Богатыри», за ненависть ко всему русскому…
— Демьян Бедный — это мелочь по сравнению с патологическим русофобством Бухарина, — не согласился мужчина. — И «Дни Турбиных» уже не ставят и, судя по всему, ставить не будут. Да и все остальное тоже. Боюсь, что клеймо яркого выразителя новобуржуазной идеологии, которое выжгли на мне в Малой советской энциклопедии, останется несмываемым до конца моих дней.
Женщина положила свою руку на руку мужчины и слегка погладила ее. Глаза ее подернуло печалью, но она тут же встряхнулась, улыбнулась беспечно и произнесла:
— Что ж, милый, надо пережить и это. Кое-кому пришлось похуже нашего. И я уверена, что все еще образуется. Сталин, как мне кажется, начинает понимать, что с киршонами ему страну не поднять, народ не поднять и прочное будущее России не обеспечить.
— Дай то бог, дай то бог, — пробормотал мужчина. Затем снова оживился: — Признаться, у меня, пока болел, возникла мысль самому написать пьесу о князе Владимире и окружавших его древнерусских богатырях. Ведь все мы родом оттуда, там корни всей нашей истории.
— Ты думаешь, это что-то решит? — спросила женщина, робко заглядывая в глаза мужчине. И продолжила: — Уж если писать пьесу, то о князе Святославе, который разгромил Хазарский каганат, управляемый иудеями. Ты представь себе, какая драма заключена в этом сюжете. Святослав — язычник, его мать, княгиня Ольга — православная, враги их — иудеи, которые так надеялись, что создали на берегах Итиля царство Израиля. При этом опираются на мусульман. Это самый настоящий плавильный котел интересов различных народов, религий, государств и отдельных личностей. Похлеще «Слова о полку Игореве» будет. И самое главное — иудеи всех стараются подмять под себя. Вот и у нас…
— Наше время ничуть не менее трагично судеб героев прошлых эпох, — решительно возразил мужчина. — И вообще дело не в этом. Несмотря на минувшие века и безусловный прогресс, мы продолжаем жить в стране, в которой многое зависит от человека, волею судьбы оказавшегося во главе государства. Сталин не безгрешен. На его поведении сказываются жестокая борьба за власть, затверженные в семинарии евангелические догмы, которые были поспешно заменены — или подменены — догмами Маркса. Вместе с тем, судя по всему, в нем с детства заложена тяга к знаниям и самосовершенствованию — и это помогает ему чувствовать подспудные народные течения, обусловленные историей, традициями, географией и многими другими факторами народного бытия. Может быть, с запозданием, но он улавливает биение пульса народа, русского народа в первую очередь, и старается совместить ритм исторической необходимости с биением народного сердца. То же самое происходило и с князем Святославом, и с его сыном Владимиром, утвердившим православие на русской земле. Ведь и православие на Руси утверждалось кровью. И не малой. А о важности совмещения исторической необходимости с биением народного сердца говорил еще Толстой в «Войне и мире».
Мужчина вынул из кармана платок и отер им вспотевшее лицо. Дышал он неровно, длинная речь утомила его, но в угрюмых глазах вспыхивали огоньки страсти, и женщина снова сжала его руку и погладила ее своими тонкими чуткими пальцами.
— Конечно! — подхватила она обрадованно, боясь, что огоньки страсти в глазах ее спутника потухнут и не загорятся вновь. — Я уверена, что у тебя получится хорошая пьеса. И пусть кое-кто думает, что ты сломался, пошел по пути многих других, кто эксплуатирует историческую тему в эгоистических интересах! Пусть думают! Наплевать! Ты сделаешь эту пьесу такой, чтобы она кое-что показала и самому Сталину…
— Вот этого-то я и боюсь больше всего, — криво усмехнулся мужчина. Затем, помолчав немного, продолжил раздумчиво: — Такие люди, как Сталин, не любят, когда им тычут в нос их же ошибки и недостатки. К тому же, как не прячь свои тайные мысли, а если они у тебя есть, всего не спрячешь. Нужно обладать слишком большой способностью к балансировке, чтобы пройти по лезвию меча и не оступиться. Боюсь, что я такими способностями не наделен. Ведь, что ни говори, а они угадали в «Белой армии» главную суть: на той стороне баррикад тоже люди, и не самые плохие, что они любят Россию, хотя и по-своему, и по-своему видят ее будущее. Правда, их мало интересовала политика, они не слишком задумывались о будущем страны, полагая, что мир неизменен. И ошиблись. И в этом их трагедия. И моя, если быть честным, тоже. Ведь я был вместе с ними, верил в неизменность мира, почти не знал свой народ… то есть не то чтобы не знал, а он был мне не слишком интересен… Или, точнее, за народ я принимал себя и этих людей, думая, что эти люди способны на большие дела, а оказалось, что они способны только на то, чтобы все и всех проклинать и жаловаться на свою судьбу… Мои хулители назвали это новобуржуазной идеологией — пусть будет так. Дело не в названии. Дело в сути. А суть в том, что я хотел примирить враждующих между собой русских людей, хотел, чтобы они поняли друг друга и протянули друг другу руки. У меня не получилось ни того, ни другого. Правда, за прошлое вроде бы перестали преследовать, но в этом моей заслуги нет. А вот у Шолохова кое-что получилось: казачество возрождают, ему возвращают кое-какие традиции, Сталин личным распоряжением отправил на Дон голодающим продовольственную помощь. Без «Тихого Дона» это возвращение могло не состояться или состоялось бы значительно позже. Да и продовольственную помощь Сталин направил только туда, о чем и растрезвонили все газеты, хотя нужда в ней была и в других местах. Но идею Шолохова и мою киршоны уловили: у них на этот счет очень тонкий нюх. Потому и набросились и на него, и на меня. Им русская культура ненавистна и враждебна по сути своей. Они готовы простить разбойника Варавву, но не Христа.
Мужчина устал и замолчал. Молчала и женщина. Но вдруг встрепенулась и тихо воскликнула:
— Посмотри!
Мужчина повернул голову в ту сторону, в которую смотрела женщина, и увидел трех человек, идущих по берегу пруда. Один мужчина был худ и непомерно длинен, другой толст и походил на перезрелый огурец, фигура третьего особенно ничем не выделялась, если бы не угрюмо сведенные брови, далеко вперед выдвинутая нижняя челюсть и крючковатый нос, нависающий над верхней губой.
Троица шла молча и целеустремленно, а когда подошла совсем близко, стало понятно, что идет она к пивному ларьку, в котором с утра пиво продается только на вынос и только в посуду покупателя. Посуда была при них.
Когда троица миновала сидящих на скамье, женщина сдержанно засмеялась, прикрыв рот ладонью, а мужчина чуть заметно усмехнулся.
— Вот тот, который угрюмый, так похож на Воланда! — воскликнула женщина. — Просто удивительно! Длинный — это Фагот, а короткий — Бегемот. Ужасно похожи, не правда ли?
— Действительно, кое-какое сходство имеется, — согласился мужчина.
— Вот видишь! Жизнь такая многообразная, в ней столько уподоблений…
— Воланд, Воланд, — пробормотал мужчина. — Нет, эта книга не увидит света. Меня и так обвиняют в тенденциозном искажении советской действительности, а тут Воланд… Еще и мракобесие пришьют. А Воланд — это воплощение власти, никем и ничем не ограниченной, когда зло творится будто бы во имя добра. Действительного или мнимого. Боюсь, что Сталин узнает в нем самого себя. Впрочем, и Гитлер тоже. Если бы им довелось прочесть… Но я ее закончу, я непременно ее напишу, — произнес он точно клятву.
— Ах, Миша, но ведь это же аллегория — и ничего больше! — воскликнула женщина, чувствуя, что мужчина уходит от нее в неизвестность, пытаясь вернуть его назад.
— Но и не меньше. В этом все дело, — уточнил мужчина.
Они выпили в ларьке по стакану газировки с вишневым сиропом и пошагали вдоль пруда, тесно прижавшись друг к другу.
Глава 7
Заседание драматургической секции московского отделения Союза писателей было назначено на четыре часа пополудни. Уже знакомая нам пара подошла к Домлиту без пятнадцати минут до назначенного времени. Женщина осталась в фойе, уселась в стороне на лавочке, обитой зеленым бархатом, сложила на коленях руки, приготовившись к долгому ожиданию; мужчина же, оставив в гардеробе свой плащ и шляпу, поднялся по ковровой лестнице на второй этаж, проследовал по коридору и вступил в небольшой зал для заседаний, где ряды кресел для слушателей или рядовых участников падали круто вниз, будто кальдера вулкана, охватывая полукругом небольшую сцену. Здесь собралось человек тридцать драматургов, театральных критиков, журналистов и тех, кто за все это отвечает перед партией, и рассевшись внизу на первых рядах.
Мужчина же, наоборот, спускаться вниз не стал, сев в кресло самого верхнего ряда, и тоже приготовился к чему-то длительному и мало приятному.
На небольшой сцене суетилось несколько человек, среди которых мужчина узнал и своего заклятого врага Киршона, и острого на язык Гурвича, и зануду Афиногенова, и более осторожных Алперса и Дрейдена, и еще кого-то, кто тоже внес свой посильный вклад в «разоблачение» его и многих других русских писателей и поэтов в завуалированной антисоветчине, мелкобуржуазности и еще черт знает в чем. Мужчина и сейчас не ждал от них ничего хорошего, хотя, если копнуть поглубже биографии этих людей, то в них наверняка обнаружится такое, что его собственные грехи перед советской властью покажутся семечками перед грехами этих людей. Но он не собирался ни копаться в их биографиях, ни подкапываться под их немалые должности в мире драматургии и театральной критики. Бог с ними. Они настолько деятельны, настолько широко и глубоко копают под других, что — мужчина в этом был совершенно уверен — рано или поздно непременно свалятся в вырытые их же руками ямы. Ибо таково неизбежное завершение логической цепи всякой подлости.
Поначалу заседание шло вяло. Один из руководителей секции драматургии, взгромоздившись на кафедру, сверкая своей обширной лысиной, делал обзор театральных постановок в Москве, Ленинграде и некоторых других крупных городах Союза. В общем и целом вытекало из этого обзора, что драматурги, режиссеры и вся совокупная театральная общественность правильно восприняли указания товарища Сталина на патриотическое воспитание народа в виду неизбежного грядущего столкновения с загнивающим мировым империализмом и его передовыми отрядами в лице фашистской Германии и панской Польши, которые спят и видят, как бы им задушить и уничтожить страну победившего пролетариата. Эта война уже началась в Испании, она не прекращалась в Китае, как и во всем мире капитала. И советские драматурги, постановщики и театральные критики должны своим самоотверженным трудом достойно отражать великую эпоху Ленина-Сталина, жить и творить в которую есть величайшее счастье для любого советского человека.
Речь оратора была хорошо поставлена, она текла без срывов и заиканий, оратору время от времени хлопали, но без энтузиазма. Спектакль только еще начинался, он не разогрелся, не получил той доли азарта, который тем больше, чем больше в нем конкретики и живых имен.
Оратор еще не довел до конца свои высокомудрые мысли, когда боковая дверь внизу отворилась, из ее черноты вылупился человек лет шестидесяти, одетый в вельветовую блузу, в больших круглых очках, длинный, узкоплечий, вихрастый, изломанный. А с ним еще несколько человек разного калибра, но помоложе, однако чем-то похожие на своего предводителя. Человек поднялся на сцену, достиг президиума под одобрительный рокот первых рядов, к нему повернулся председательствующий, длинный склонился к нему, что-то сказал, оратор замолчал, вытирая шею смятым платком.
Председательствующий покивал головой, поднялся, постучал режиссерской палочкой по графину с водой, сообщил:
— Товарищ Мейерхольд имеет сказать нашему собранию, но не имеет времени, чтобы ждать весь согласованный список, по причине своей чрезвычайной занятости. Я думаю, что мы с удовольствием предоставим слово товарищу Мейерхольду… Всеволоду Эмильевичу… вне всякой очереди, как выдающемуся деятелю театрального искусства нашего великого революционного времени.
И, почтительно склонившись, протянул руку к трибуне, с которой поспешно сошел обозревающий оратор.
Мейерхольд взошел на трибуну, положил руки на ее края, заговорил отрывистыми фразами:
— Я буду краток. Да, мы действительно переживаем великое время. Да! И многие из нас стараются этому времени соответствовать. Многие, но не все. Да! К немногим я отношу писателя Булгакова. Да! Я имею в виду его пьесу «Дни Турбиных». Как и некоторые другие, которые, к счастью, так и не увидели света рампы. Эти пьесы есть предательство интересов рабочего класса и скрытая белогвардейщина. Господин Булгаков тщится показать белогвардейцев героями. И это в Киеве! То есть там, где они резали евреев! Ни в чем не повинных женщин и детей! И это есть честные люди? Герои? И этих людей он выставляет совестью нации? Ха-ха! Какой нации, спрашиваю я? Есть лишь одна нация — нация рабочих и крестьян! Да! Но именно об этой нации не имеет понятия господин Булгаков. Трудно придумать большего издевательства над исторической действительностью! Его пьесам не место на подмостках Союза Советских социалистических республик! Да! Просто удивительно, как он смог пролезть на советскую сцену! Просто уди-ви-тель-но! Да! Гнать в шею и как можно дальше!
Зал взорвался рукоплесканиями и криками:
— Браво, Мейерхольд! Браво!
— Не место! Не место!
— Долой!
— К стенке!
— Ура Мейерхольду!
Оратор поднял обе руки, призывая к тишине.
— Вот… Да… Я был уверен, что вы меня поддержите… Что я еще хотел вам сказать?… Мы живем в великое время… Впрочем, я о другом. В том смысле, что… А товарищ Сталин призвал всех деятелей культуры к решительному отпору всякой контрреволюции! Она, эта контрреволюция, под видом пьес проникает в наши ряды! Разлагает изнутри! Долой таких писателей вместе с их пьесами, прославляющими контрреволюцию!
Вскинул руку, сжатую в кулак, оттолкнулся от трибуны и стремительно пошел вон из зала, провожаемый криками и аплодисментами…
Даже удивительно, сколько шума может произвести такая небольшая в общем-то кучка людей. Просто удивительно.
А когда шум и выкрики смолкли, тут-то и началось главное: ораторы, сменяя один другого, стояли на трибуну в очередь — и все, как один, твердили одно и то же:
— Булгаков! Булгаков! Булгаков?
— Белогвардейщина!
— Мелкобуржуазность!
— Полуапологет, полу-не-наш!
И все, кто сидел внизу, были очень довольны собой: они победно переглядывались, глаза их лучились восторгом, точно они после длительной борьбы победили некое чудовище, о котором поговаривали, что оно бессмертно. Черта с два! Еще как смертно, если на него навалиться скопом.
А само «чудовище» сидело наверху, в последнем ряду, и время от времени покачивало головой.
— Ну что? — спросила женщина, встретив мужчину в фойе и помогая ему одеться.
— Все то же.
— Что, выступал Мейерхольд? Я отсюда слышала, как там хлопали и кричали…
— Выступал. Повторил все, что написано обо мне в энциклопедии.
— Тоже мне выискался борец за пролетарское искусство! — тихо воскликнула женщина с гадливым выражением на своем милом лице. И опасливо оглянулась. Но фойе было пусто. Затем продолжила с жаром: — А сам при царе-батюшке из кожи вон лез, чтобы получить хоть какой-нибудь крестик за служение в императорских театрах. — И заключила с убежденностью: — Плюнь на них на всех! Плюнь! Ты мастер, а они кто? Так себе, ни с чем пирожок. Ведь не для них же ты пишешь! Не для них! А народ тебя поймет. Пусть не сегодня, пусть даже не завтра, а послезавтра — это уж точно. Нам главное — дожить.
Они вышли в сиреневый вечер. Над Москвой висело синее небо, затканное на закате серебристыми перьями высоких облаков.
— И я всегда буду с тобой, — добавила женщина через минуту, прижимаясь к мужчине боком.
— Я знаю, — сказал мужчина и обнял женщину за плечи.
Через пару минут оба растворились в сиреневых сумерках.
Глава 8
Командировка в колхоз откладывалась несколько раз. Затем о ней вроде бы забыли: другие дела, другие заботы заслонили колхозную тему. И слава богу. Да и чего, спрашивается, он, Алексей Задонов, не видел в колхозе? К тому же, не его это поприще. И вообще пора бросать журналистику и переходить исключительно на писательскую стезю. Вот дотянет до осени…
Но Алексей Петрович не был уверен, что переход снова не отложится то им самим, то главным редактором, то неизвестно чем и кем.
Вот уж и лето к концу — и тут Главный снова вспомнил о колхозе… или кто-то ему напомнил, или черт его знает что! А только надо ехать — и никаких. Алексей Петрович собрался и поехал.
До Калинина Задонов доехал на поезде. На вокзале его встретил инструктор обкома партии Илья Давидович Ржанский, человек подвижный, говорливый и весьма сдобный. Новенькая «эмка» менее чем за два часа домчала их по Ленинградскому шоссе до села Будово, вытянутого вдоль железной дороги, но в Будово пришлось пересесть в одноконный тарантас, потому что дальше дорога была разбита вдрызг и после дождей для легковушки стала непроезжей.
Здесь Алексей Петрович попытался отделаться от Ржанского, да не тут-то было: Ржанский прилип к нему, как репей, уверяя, что имеет категорическое указание самого секретаря обкома везде следовать за московским корреспондентом и создавать ему условия для плодотворной работы.
Алексей Петрович в своей журналистской практике не раз сталкивался с подобными инструкторами, знал, что спорить с ними бесполезно, потому что вся их работа в том и состоит — быть оком и ухом своего начальства, кнутом и пряником для нижестоящих, а главным условием и оправданием их деятельности — если мне хорошо, то и всем должно быть хорошо.
Пока автомобиль катил по шоссе, Ржанский даже не смотрел по сторонам, развлекая московского гостя разными историями, умудряясь вместе с тем не сказать ничего ни о своей работе, ни о своем начальстве, ни о положении дел в области, но едва возникла заминка, проявил завидную прыть в добывании транспорта для дальнейшего следования.
Мохноногая лошаденка лениво трусит по разъезженной, ухабистой дороге, то и дело переходя на шаг. Возница, парнишка лет шестнадцати, в выгоревшей сатиновой косоворотке, залатанных штанах и кирзовых стоптанных сапогах, сидит на передке, почмокивает и подергивает вожжами — больше по привычке, чем по необходимости: по такой дороге не шибко-то разбежишься, и лошаденка, похоже, это понимает, потому и ухом не ведет на почмокивания и подергивания.
В синем небе замерли легкомысленные облачка, похожие на разбредшихся по лугу овечек. Мимо проплывает густой еловый лес, с глубокими вздохами, навевая сон, качаются верхушки елей, и кажется, что в зеленом сумраке движутся тени таинственных существ, подстерегающих беспечных путников. На небольших полянах ветви лохматых лип стыдливо свисают до самой земли. Между толстенными стволами тянется к солнцу молодой подрост. Высокий папоротник в березняках укрывает землю сплошным буро-зеленым покрывалом. Густой, нагретый солнцем воздух пропитан смоляным и грибным духом, опасливой перекличкой молодых дроздов. Издалека — не поймешь, в какой стороне — слышится кукушка, ее кукование пронизывает воздух из конца в конец ровной строчкой непрожитых годов, а солнце расчертило дорогу светлыми и темными полосами.
Если бы не мотало по ухабам, если бы не комары, мухи и настырная мошкара, если бы не голос Ржанского, сливающийся с дребезжанием ведерка, болтающегося позади возка, если бы не тягучая неизвестность, ожидающая впереди, наконец, если бы не возок, а воз с пахучим сеном, то куда ни шло, а тут все сплелось в один клубок, который не размотать, не выбросить. Тем более что никакой удивительной встречи, на что надеялся Алексей Петрович, не случилось ни в поезде до Калинина, ни, тем более, на шоссе, по которому бежал их автомобиль, и уж, конечно, нет смысла ожидать чего-то невероятного на этой дороге и в лежащих за лесом неведомых деревеньках. Впрочем, как знать, не есть ли ожидание встречи с «прекрасной незнакомкой» более существенно и даже отрадно для писателя, чем сама встреча — с ее разочарованиями и механической повторяемостью цепочки полустершихся следов, уже когда-то оставленных тобой на дорогах.
Но вот впереди послышалось подвывание мотора, звук чужой и с окружающим миром никак не сочетающийся. Вот показался грузовик с цистерной, очень похожий на муравья, несущего на себе продолговатое муравьиное же яйцо. Возница съехал с дороги, пропуская грузовик, причмокнул языком и посмотрел на Алексея Петровича плутоватыми серыми глазами.
— Спирт везут, — сообщил он многозначительно. — В Тверецком у каждого мужика, сказывают, в избе под лавкой стоит по ведру спирта… Житу-уха-а!
— Что значит житуха? — вскинулся Ржанский. — Ты хочешь сказать: воруют?
— Да откуда ж нам знать? Говоримши так, товарищ. Врут, поди, — стушевался парнишка.
— А не знаешь, так не распространяй провокационных слухов! А то вот товарищ из Москвы подумают, что у нас тут анархия и никакой революционной сознательности. — И спросил, как выстрелил: — Как фамилия?
— Моя-то?
— А то чья же?
— Свистунов. Иван Свистунов.
— Комсомолец?
— Не-а. Беспартейные мы.
— Очень плохо! Сейчас, когда всемирный империализм готовится к смертельному походу против интернационала рабочих и крестьян, каждый сознательный трудящийся должен встать в строй передовых борцов и всемерно бороться со всякими распространителями провокационных слухов… Ясно тебе?
— Ясно, товарищ, — с готовностью согласился парнишка. И виновато пояснил: — Так я просто так сказамши, для поддержки разговору. А насчет мирового империализму — это мы понимаем, а то как же. Мы вот и соцобязательство брамши по сенокосу. И по свиньям тоже взямши в счет Красного флота. А то как же.
— Ну, смотри мне, Свистунов, — пригрозил Ржанский. — Еще раз услышу — не поздоровится. — И, обращаясь уже к Алексею Петровичу: — Восемнадцатый год советской власти, а многие все никак не возьмут в сознание, при каком строе живут. Особенно в глубинке. Для партийной организации нашей области первейшая задача — поднять сознательность вчерашнего единоличника на уровень передового пролетариата. А то, представьте себе, товарищ Задонов, начнется война, и что же? Что станет защищать вот этот Свистунов? Свой сенокос и своих свиней? Это когда в мире происходит такая жестокая борьба между старым и новым в глобальном масштабе! Когда его основная задача защищать социализм и советскую власть…
«А кто тогда будет защищать сенокос и свиней? — спросил, не открывая рта, Алексей Петрович. И добавил с убежденностью много повидавшего человека: — Для этого Ивана Свистунова сенокос и свиньи поважнее будут всего остального. Потому что…», — но дальше распространяться не стал, уверенный, что и Ржанскому кусок жареной свинины не в тягость.
Грузовик с цистерной на горбу, натужно воя, проколыхался мимо. Чумазый шофер приветливо помахал из кабинки рукой, что-то прокричал. Свистунов Иван помахал в ответ. Было слышно, как в цистерне плещется летучая жидкость. Остро пахнуло спиртом, и запахи леса, смешавшись с духом спиртным, напомнили Алексею Петровичу настойки на целебных травах и таинственном корне жень-шень, какими угощали его после бани на берегу далекой Уссури.
Река Тверца после недавних ливней смыла мост, на его почернелых быках, уродливыми горбами торчащих из мутного потока воды, сидели плотники и тюкали топорами. Ремонт обещали закончить только, дай бог, к завтрашнему обеду. Сидеть в поселке спиртзавода и терять день Алексею Петровичу не хотелось, он потребовал лодку и провожатого.
Директор спиртзавода, крепкий мужик лет сорока, в защитном френче, галифе и хромовых сапогах, скептически осмотрел Алексея Петровича с ног до головы, отмахнулся:
— Через Тверцу переедите, а там еще Осуга. Через нее перевозу нету. Только брод. Сейчас — по пояс и выше. Да еще течение. Утонуть хотите, товарищ?
— А местные как? Вон те люди… они откуда? — ткнул Алексей Петрович пальцем в сторону группы людей на противоположной стороне Тверцы, рассаживающихся в просторный дощаник.
— Так то ж местные, товарищ. А вы — вы человек городской, к нашим условиям не привыкши.
— Если не привыкать, то и не привыкнешь, — возразил Алексей Петрович. И добавил для верности: — Мне, товарищ директор, и не такие реки переходить доводилось — и ничего, цел пока.
— Вам бы лучше через Заболотье ехать, — начал сдаваться директор, обращаясь уже к Ржанскому.
— Кто ж знал… — передернул тот сдобными плечами. — Но и товарища корреспондента отпускать одного я не имею права, потому что отвечаю за его безопасность перед обкомом партии и лично перед первым секретарем товарищем Гривенниковым. А идти с товарищем Задоновым не могу: не умею плавать. Так что подождем до завтра.
— А я вас, товарищ инструктор, с собой и не тяну, — отрезал Алексей Петрович, зная, что с такими, как Ржанский, надо говорить твердо, непреклонно и официально. — У меня задание редакции, я должен выполнить его в указанные сроки. Не дадите провожатого, пойду сам.
— Ладно, провожатого дам, — согласился директор спиртзавода. — Люблю рисковых людей.
И кликнул здоровенного парня, тащившего на плече пятивершковое бревно.
— Антип! Проводишь вот товарища до Мышлятино. Чтоб в целости и сохранности. Понял?
— Чего ж не понять-то… Проводим, — басовито пророкотал Антип, не сбивая шага.
Он донес бревно до моста, там его приняли сразу четверо мужиков и бережно, с натугой, уложили на перемычки между быками.
Глава 9
Михаила Васильевича Ершова, председателя колхоза «Путь Ильича», предупредили еще накануне телефонограммой, что к нему едет московский журналист, чтобы ожидал его в конторе, никуда не отлучаясь, создал бы ему соответствующие условия для жизни и работы.
Поздним вечером, почти сразу же вслед за телефонограммой, прикатил из райцентра Спирово представитель райкома партии, и они допоздна обходили все постройки и поля, заставляя колхозников убирать все, что валялось бесхозно где попало, заново чистить конюшню и коровник, а с утра выгнали всех от стара до мала на засыпку ям на дороге в сторону Заболотья, чтобы московского гостя не растрясло на ухабах.
Журналиста ожидали к вечеру. К тому времени рассчитывали успеть подновить заборы перед избами у двух вдов, совсем уж сгнившие и держащиеся на многочисленных подпорках. Надо бы, конечно, и еще кое-что сделать: засыпать выбоины на дороге перед правлением, спустить в канаву навозную жижу возле коровника, установить наконец карусель на пустыре для детворы. Да мало ли что еще. Но на все не хватало ни рук, ни времени.
Вообще говоря, Михаил Васильевич уже попривык к тому, что его колхоз пользуется повышенным вниманием как у начальства, так и у газетчиков. Буквально в прошлом месяце был у него журналист из области, провел в колхозе целый день, ел-пил в доме председателя, ходил за ним тенью и, похоже, остался доволен и приемом, и колхозными делами. И точно: через пару дней в областной газете появилась большая статья, в которой все колхозные дела и его люди вместе с председателем были описаны самыми положительными словами.
Да и откуда взяться словам другого свойства, если и впрямь дела в колхозе идут весьма неплохо, вполне поспевая за новыми партийными указами и решениями, точно сам председатель колхоза время от времени заседает в Кремле вместе с товарищем Сталиным и другими руководителями партии и страны и знает поэтому все наперед… Другие, например, и после всех постановлений и решений никак не могут раскачаться и внедрить какое-то новшество, все им чего-то мешает. А Михаилу Васильевичу никто и ничего не мешает, потому что в него деревенские поверили накрепко и все делают так, как он скажет.
Из Москвы в Мышлятино журналисты тоже наезжали, особенно после съезда колхозников, на котором Михаил Васильевич Ершов сидел в президиуме почти за спиной Сталина. Более того, сам Сталин обратился к нему с вопросом, перебив докладчика, надо ли колхозы организовывать по заводскому принципу или не надо. Тогда в «Путь Ильича» кто только не ездил, но потом все поутихло… до второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников в феврале этого года, в котором тоже принимал участие Михаил Васильевич и на котором был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели. Правда, на этот раз в Президиуме съезда он не сидел, зато выступил с небольшой речью. В ней Михаил Васильевич, после обычного славословия Сталину и партии, критиковал местные власти за огульный подход к деревне, без учета особенностей почв и ландшафта. Речь ему написали грамотные люди, — то ли профессора, то ли академики, — но критику вставили с его слов, и Сталин, выслушав эту речь, долго хлопал Михаилу Васильевичу, улыбался и даже показал ему большой палец: мол, правильно, так ее, товарищ Ершов, эту местную власть. Но через пару месяцев газетчики снова о Михаиле Васильевиче забыли, и лишь районная газетенка постоянно поминала его колхоз как один из лучших в области и лучший в районе.
И вот снова журналист из Москвы. С чего бы это? Хлеб убрали, обмолотили и сдали, что положено. Сена накосили. Уборка картофеля и прочей овощи еще впереди. Праздник — тоже. Даже удивительно, с какой такой стати. Потому-то районное начальство и всполошилось: и неожиданно, и никому не хочется ударить в грязь лицом, никому не хочется худой о себе славы. И это правильно, по-человечески объяснимо и понятно: даже самая аккуратная хозяйка перед приходом гостей лишний раз смахнет со стола и с лавок невидимую пыль, перетряхнет половики и подметет во дворе. Что уж говорить о людях служивых, кормящихся из государственного кармана.
Солнце перевалило за полдень.
Инструктор райкома партии с крестьянской фамилией Боронов стоял на скотном дворе, широко расставив ноги в яловых сапогах, и задумчиво смотрел на обширную лужу жидкого навоза, над которой роились мириады мух всякого калибра и расцветки и в которой отражалось яркое солнце.
Боронов щурил серые глаза, будто гипнотизируя лужу и ускоряя ее испарение. Однако он понимал, что, как не щурься, лужа к вечеру не высохнет, как не тужься, ее не убрать и за два дня, что как дождь, так и лужа, что для навоза нужен специальный отстойник-накопитель, а на это ни у колхоза, ни у района ни денег, ни материала, ни людей.
Между тем в газетах пишут, что от таких вот луж происходят всякие болезни и другие неприятности не только у скотины, но и у человека, что лужи эти заражают колодцы и реки, что с этим злом надо бороться всеми силами. Но кто пишет-то? А пишут люди городские, сельского дела не знающие, ходят они по асфальту, ездят в метро и на трамвае и как только появляются в деревне и видят такую лужу, тут же зажимают нос, а иные даже отказываются от кружки парного молока. Тут все ясно. Но ясно и другое: если московский журналист напишет про эту лужу и всю свою статью сведет к луже, то инструктору райкома партии товарищу Боронову не поздоровится, потому что именно он отвечает в районе за сельское хозяйство, именно его первого вызовут на ковер и поставят перед парткомиссией. Не исключено, что и перед следователем НКВД тоже. Такие нынче порядки. Остается лишь одно: отвлечь газетчика от этой лужи, увести в сторону, показывать другое. Тем более что коровы сейчас на выгоне, там днюют и ночуют, там же их и доят, а коровник к осени приведут в порядок, где надо, подремонтируют, где надо, почистят, а сточную канаву к оврагу надо заставить председателя начать рыть завтра же. Так что если журналист обратит внимание на лужу, можно будет ему сказать, что работы ведутся по плану и в связи с возросшим пониманием культуры, санитарии и стоящих задач.
Боронов круто повернулся и зашагал к правлению.
В то время как инструктор Боронов гипнотизировал навозную лужу, председатель колхоза Михаил Васильевич Ершов шел ко двору вдовы Авдотьи Сёмовой. За ним следом ехала подвода со штакетником и новенькими, ошкуренными и обожженными до половины, столбами.
За подводой шагали четверо мужиков, жуя на ходу, потому что обедать было некогда, и если Василич велел поставить Сёмихе новый забор в срочном порядке, стал быть, так надо. Василич зря гонять колхозника не станет: не такой он человек.
Изба Сёмихи, покрытая почернелой соломой, походила на загнивший гриб, который кое-где обглодал ненасытный слизень. Она вместе с подворьями примостилась на краю оврага в самом низу, там, где овраг раскрывается на обе стороны и падает в заливной луг наезженной, промытой до гальки дорогой. Ходят к избе обычно поверху, по тропе, петляющей по задам. И подъезжают оттуда же, от леса. Но забор висит над оврагом, и с дороги к забору ближе.
Навстречу процессии от самой Осуги, еще не спавшей после проливных дождей, шли двое. Михаил Васильевич заметил их с самого верху и все поглядывал в их сторону с нарастающей тревогой.
Одного он признал, когда подошли поближе: плотник Антип со спиртзавода, детина здоровенный, можно сказать, единственный такой на всю округу, его ни с кем не спутаешь. Антип шел чуть впереди, нес в одной руке что-то, похожее на портфель, в другой сапоги. Штаны у него подвернуты до колен, выгоревшая на солнце рубаха выбилась из штанов. Его спутник ростом пониже, в плечах поуже, одет по-городскому, то есть в пиджак, брюки и белую рубаху с галстуком, на ногах лаковые штиблеты, на голове шляпа. Подробности Михаил Васильевич разглядел, когда Антип с незнакомцем подошли совсем близко, но и без подробностей было ясно: чужой человек.
Предположить, что это и есть московский журналист, Михаил Васильевич не мог: Осугу о сю пору вброд перейти решится далеко не каждый даже из местных, а чтобы какой-то там москвич — и думать нечего. Тогда кто же? Наверняка кто-то из мышлятинцев, живущих в городе. Больше некому. Но своих, хоть бы и бывших, Михаил Васильевич знал. А этого признать никак не мог.
Он в растерянности оглянулся на своих мужиков: может, они признали? Но и мужики пялились на незнакомца во все глаза, даже жевать перестали, и по их рожам было ясно: человек, поднимающийся в гору вместе с Антипом, есть человек чужой, никому не известный.
Процессия во главе с председателем колхоза остановилась напротив дома Сёмихи, мужики, окружив задок телеги, дожевывали свой обед, степенно выбирая из чистой тряпицы крошки хлеба и перья зеленого лука, запивая их духовитым квасом.
Подошел Антип с незнакомцем.
— Здорово, Михал Василич! — произнес Антип рокочущим басом. — Вот гостя к тебе привемши. Из самой Москвы. Примай! — И, осторожно тиснув председателеву руку, степенно отошел к мужикам. Слышно было, как он сдержанно рокочет в стороне, что-то им объясняя.
Приезжий снял шляпу, вытащил из кармана удостоверение, протянул председателю колхоза, представился:
— Задонов, Алексей Петрович. Журналист. Вот мои документы.
Михаил Васильевич осторожно принял красную книжицу, но раскрывать не стал: и так было ясно, кто перед ним, а смотреть книжицу — дело пустое и для гостя обидное.
— А мы вас, товарищ Задонов, ждали к вечеру, — простодушно признался он, возвращая удостоверение. — И деланно изумился: — Неужто Осугу вброд перешедши?
— Да, собственно, не так уж это и страшно, — поспешил заверить председателя Алексей Петрович. — Тем более — при таком провожатом.
— Да, Антип — у нас в районе мужик самый здоровенный, служил в артиллерии, конь увязнет — и коня вытащит, и пушку, — похвастался Михаил Васильевич, но тут же смутился и предложил: — Пойдемте в контору, Алексей Петрович… Чего ж здесь-то… Там и поговорим.
Алексей Петрович поблагодарил Антипа, пожал ему руку, и всем остальным мужикам тоже, пошел вслед за председателем вверх по дороге, с любопытством поглядывая по сторонам.
— А мы вот решимши… на правлении колхоза, — принялся объяснять Михаил Васильевич телегу со штакетником и все остальное, хотя никакого правления не было и решил он все сам, единолично, — что надо нашим вдовам поставить новые заборы. Не всем, конечно, а которые без мужиков. Таких у нас две: Сёмова — у ней одни дочки да пацаны малые, а мужик… — Замялся на мгновение, однако решил сказать правду: — Посадили мужика-то ее: подрамшись в Спирово по пьяному делу, вот его и… Через год вернется, бог даст… А другая вдова, Рогова, — та мужа лешимшись по причине половодья: пошел по весне мережи проверять и провалимшись под лед. Есть и другие вдовы, но при свекрах и братьях, а эти совсем одни. Колхоз чем может…
Михаил Васильевич увидел на крыльце правления инструктора Боронова и сбился с мысли: Боронов — мужик ничего, толковый, сам из деревенских же, но какой-то упертый, какой-то… ни вправо, ни влево. На таких пахать хорошо, чтоб борозда к борозде, а вникать в положение текущего момента — избави бог: для них текущего момента как бы и не существует, а есть лишь одно направление. Но ведь не выгонишь же…
И Михаил Васильевич, предупреждая события, кивнул в сторону Боронова:
— А это вон — инструктор нашего райкома, товарищ Боронов. Тоже интересуется колхозными делами.
— Вот как? И давно интересуется?
— Со вчерашнего вечера.
— По-моему, Михаил Васильевич, ему пора в райком. Как вы думаете? — И Алексей Петрович осклабился заговорщицкой ухмылкой.
Михаил Васильевич с удовольствием принял эту ухмылку, но осторожности ради с серьезного тона не сбился.
— Так я, Алексей Петрович, инструкторам не советчик. Да они и не спрашивают моего совета. Вот товарищ Сталин, к примеру, спрашивамши, а они — нет, — не удержался от хвастовства Михаил Васильевич и смутился еще больше: что-то в последнее время тянет его на хвастовство, как осу на тухлую рыбу. Уж и зарекается, и ругает себя, а все не впрок. А Сталина — так и совсем не к месту помянул, как бы хуже не вышло.
Он опасливо покосился на журналиста, но тот будто и не расслышал про Сталина, остановился, огляделся, спросил:
— А школа у вас где помещается?
— Школа? — удивился Михаил Васильевич. — Школы у нас нету. Деревня-то маленькая, всего двадцать шесть дворов. Школа в Заболотье. Это в версте отсюда. Там и сельсовет. Если погода хорошая, детишки пешком ходят, а если дождь или, к примеру, метель, отвозим на телеге или санях. — И снова похвастался: — Даже крышу из холстины соорудимши для этого… Наподобие цыганской… — Вспомнил, что детишек из-за этого в Заболотье дразнят цыганятами, хотел сказать и об этом, но передумал.
Они стояли посреди небольшой площади, изрезанной в разных направлениях тележными колесами, с бархатистыми островками птичьего горца, гусиных лапок и подорожника. К заборам жались лопух, лебеда и полынь, свирепо топырила острые листья крапива, два гусиных выводка щипали траву на почтительном друг от друга расстоянии. Рубленные избы, окружавшие корявую площадь, равнодушно пялились на нее, надвинув на самые окна-глаза соломенные и тесовые крыши. Курились прозрачными дымами кирпичные трубы, единственная улица, провалившаяся на дно оврага, сбегала к реке. Пахло свежепеченым хлебом.
С запада надвигалась туча, поглощая далекие холмы. Солнце пекло не по-осеннему старательно, словно в последний раз перед тем, как будет проглочено черной напастью. Парило, предвещая грозу.
Подошел Боронов, остановился в нерешительности в двух шагах. Михаил Васильевич представил его московскому журналисту, инструктор почтительно приблизился еще на шаг, протянул руку, сложенную лодочкой.
— Ну, значит, как договорились, — будто заканчивая прерванный разговор с председателем колхоза, произнес он, отпустив руку Алексея Петровича. — Уборка картошки само собой, а канаву по сливу навозной жижи закончи на этих днях. И песком там все засыпь, чтоб мухи не плодились. В общем, действуй по плану. А я поеду дальше: дела.
Снова протянул Алексею Петровичу руку, тиснул жесткой, как подошва, ладонью:
— Вы уж извините, товарищ Задонов, что не могу уделить вам внимания. Ну да товарищ Ершов есть самый у нас в районе передовой председатель колхоза — он вам все объяснит в лучшем виде. — И, уже сидя в бричке и разбирая вожжи, строго посоветовал: — А ты, Михал Василич, сообрази для гостя баньку да пошли мужиков с бреднем по плесам побродить: вода мутная, рыба сама в бредень пойдет. После баньки ушица — милое дело… Ну, бывайте. — И покатил в сторону Заболотья.
Глава 10
Писать о деревне Алексею Петровичу до сих пор почти не доводилось. Разве что в связи со строительством новых железных дорог, то есть о том, как эти дороги влияют на сельскую жизнь. Вся коллективизация прошла для него как бы стороной, но эшелоны с репрессированным кулацким элементом во время своих железнодорожных странствий видел не раз, и хотя внешне они напоминали почти такие же эшелоны времен великого столыпинского переселения крестьян в Сибирь, атмосфера вокруг них была другая, и люди смотрели на эти эшелоны тоже другими глазами. Какими? — трудно сказать. Во всяком случае — не завистливыми.
А однажды, на Енисее, Алексей Петрович оказался невольным свидетелем посадки людей на пароходы и баржи: лай собак, вопли женщин, плач детей, выстрелы, ругань охраны… От всех этих картин насильно поднятого с насиженных мест народа становилось не по себе, и что бы там ни писали о кулацком противодействии советской власти и ее реформам, женщины и дети с врагами этой власти не вязались, они оставались лишь женщинами и детьми, оказавшимися без вины виноватыми.
Но самыми страшными были картины голода тридцать второго-тридцать третьего годов на Северном Кавказе и Украине, картины тем более страшные, что сам ты наблюдаешь их из вагона несущегося мимо этих картин поезда, а по сторонам заброшенные поля, опустевшие хутора и деревни, дома с раскрытыми соломенными крышами, полускилеты-полулюди на полустанках и разъездах, пасмурные фигуры красноармейцев, замерших истуканами в сплошных оцеплениях, подводы с трупами на краю неглубоких ям, стаи одичавших собак — на земле, тучи воронья — в небе.
Как ни старался Алексей Петрович не задумываться над увиденным и отрешиться от событий, влияния на которые оказывать не мог, из этого ничего не получалось: что-то внутри его сопротивлялось этим своим жалким попыткам, что-то бунтовало, искало выхода, енисейские картины и картины опустевших деревень стояли у него перед глазами, томили и выворачивали душу. Ему казалось даже, что озверевшая власть, спасая себя и собственное благополучие, власть, в которой заправляют нерусские во главе со Сталиным, власть, с которой он, Алексей Задонов, связал свою судьбу, — эта самая власть поставила своей целью извести дотла русский народ, трудно, по ее мнению, управляемый, и уж во всяком случае — наиболее сильную и активную его часть.
Однажды, — дело было в декабре тридцать первого года в Заволжье, где строили новую железную дорогу, — Алексею Петровичу встретился обоз с переселенцами, внешне тихий и благополучный, но все виденное ранее наложилось вдруг на ум его и душу, и он, запершись в номере маленькой гостиницы, в неожиданной панике перед неумолимой силой и от ощущения своей ничтожности перед ней, пил водку стаканами, пил и не пьянел, лишь голова и тело наливались свинцовой тяжестью. Когда была выпита бутылка, он вынул браунинг и положил его перед собой на стол — и вид пистолета, холодного и равнодушного, не то чтобы отрезвил его, а заставил что-то понять, — не до конца, а как начало ниточки, до этого выскальзывавшей у него из рук.
«Так они и меня тоже хотят загнать в тартарары, — подумал он с изумлением о Сталине и его окружении, отчетливо вспомнив прием в Кремле по случаю дня большевистской печати, на котором Сталин неожиданно отметил и выделил журналиста Алексея Задонова, выделил с какой-то своей, малопонятной для Алексея Петровича целью. — Конечно, хотят! Да еще сделать это моими же руками…» И тут же услужливая память напомнила ему об упорных слухах, ходивших в Питере и Москве, что Есенин и Маяковский не сами покончили счеты с жизнью, что их к этому то ли принудили, то ли убили.
Но долго пребывать в состоянии неуверенности и страха Алексей Петрович не мог, тем более что опасности пока обходили его стороной. Как-то незаметно для себя он пришел к спасительной философии, в которой инстинкт самосохранения возобладал над всем остальным, то есть над тем, что составляло, как он полагал до этого, сущность его ego. Оказалось: совсем не трудно убедить себя в чем угодно. Ну, например, в том, что общество, как и отдельно взятый человек, подвержено болезням и травматизму, для спасения его приходится использовать не только горькие пилюли, но и хирургическое вмешательство, а это больно и неприятно. Он вспомнил, что каждое посещение больницы — сперва в связи с болезнью отца, потом Маши, — приводило его в ужас от тех людских страданий, которые не видны здоровому человеку и которые прячутся от тебя до поры до времени за стенами больниц, тюрем и исправительных лагерей, пока сам не окажешься среди этих страданий и боли. Увы, от страданий и боли никуда не денешься, как не денешься от самой смерти, и травить свою душу по этому поводу, значит входить в противоречие с жизненными установлениями. Он должен жить, чего бы это ему ни стоило, пытаться эту жизнь осмыслить и поведать о ней потомкам. А если повезет, то хотя бы самую малость попытаться изменить к лучшему. Если повезет…
Придя к такому выводу, Алексей Петрович как бы воздвиг преграду между собой и действительностью, при всяком неудобном для себя случае прячась за нее и уверяя себя, что преграда эта настоящая и выдержит любую осаду.
Да, все связанное с коллективизацией деревни и раскулачиванием крестьянства, прошло от Задонова стороной, как, случается, проходит смерч в полынной степи, лишь жаркое дыхание его коснется тебя душным облаком пыли, и будешь ты еще долго стоять на месте и с тоской и ужасом думать о том, что мог оказаться на пути смерча, попасть в его бешеный водоворот, и неизвестно, смог бы ты выбраться из него живым и невредимым.
Да, смерч коллективизации прошел от Задонова стороной, но с тех пор в нем тихо притаилось болезненное любопытство: а что же осталось в деревне после этого смерча, что сталось с теми людьми, которые, хотя и попали в его бешеную карусель, но как-то умудрились выжить, не были выброшены на обочину жизни? Ведь именно эти люди призваны теперь самой необходимостью залечивать нанесенные деревне раны и увечья и, вместе с тем, кормить огромную страну, несущуюся на всех парах к какой-то своей роковой черте, за которой все должно будет еще раз пройти страшную проверку на живучесть, на прочность, на приверженность вековым традициям.
Глава 11
В избе председателя колхоза «Путь Ильича» Михаила Васильевича Ершова собралось за поздним ужином пять человек.
Во главе стола, под темным пятном в углу, где раньше размещались иконы, а теперь, — только не в углу, а на стене, — висела в рамке под стеклом Почетная грамота Верховного Совета СССР, восседал сам председатель колхоза Михаил Васильевич Ершов, человек лет пятидесяти с небольшим, круглолицый, простоватый на вид, но с умными, все видящими глазами.
По правую руку от него расположился секретарь партячейки Пантелеймон Вязов, год назад вернувшийся в родную деревню из города, где так и не смог прижиться, мужик сорока лет, степенный, но для секретаря слишком молчаливый, зато надежный, как старая борона, которую куда ни приткни, везде она будет покорно дожидаться своего часа, а потом, волочась за равнодушным мерином, рыхлить слежавшуюся землю покривившимися зубьями, с треском вырывая из нее корни пырея и молочая.
По левую руку от председателя сидел его ближайший помощник и дальний родственник, грамотей и проныра, Петр Коровин, еще совсем молодой человек, три года как из армии и два года как женатый, умудрявшийся каким-то образом доставать для колхоза такие дефицитные материалы, какие выдаются лишь по именным обкомовским спискам.
Рядом с ним согнулся над столом Аким Щукин, единственный в колхозе бригадир, знаток крестьянского труда во всем его многообразии, жилистый и горластый, до недавних пор работавший на железке, выжаренный солнцем и высушенный ветрами до такой степени, что и не поймешь, сколько ему лет, — тоже человек надежный и безотказный на любое дело, но затаивший в лице своем и водянистых глазах настороженную подозрительность и неудовлетворенную озлобленность, готовую выплеснуться в резком слове и движении. Аким Щукин полтора года хлебал тюремную и лагерную баланду по обвинению в подрывной деятельности на железнодорожном транспорте, был выпущен досрочно по амнистии, но больше, может быть, потому, что жёнка его все эти полтора года обивала пороги всяких кабинетов, дошла до самого всесоюзного старосты Калинина, доказывая невиновность своего мужа.
Пятым был Задонов. Его усадили на противоположном конце стола, напротив председателя, на место, которое в обычное время занимает хозяйка, а в необычное, как сейчас, почетный гость.
Алексею Петровичу стало ясно с первого же взгляда, что люди эти встречаются за этим столом часто, каждый знает свое место и каждый этим своим местом дорожит, что это не просто люди одного дела, но и одной крестьянской души, однако каждый пришел к месту за этим столом своим, отличным от других, путем, выстрадал это место поисками своей правды и справедливости, саднящими рубцами на теле и в душе своей от непонимания других, потому что у каждого своя правда и своя справедливость. Разве что Петр Коровин выпадал из этого дружества, но и на нем виделся отсвет его неумолимой правды.
Алексей Петрович не впервые встречается с подобными людьми, он знает их нрав, их больные места, которых лучше не касаться, но знает также, что лучше этих людей нет во всем мире, что они-то и есть русский народ, а он, Алексей Задонов, лишь малая и не самая лучшая его частица. В такие минуты, то есть когда он вполне отчетливо ощущает себя частицей своего народа, душа его переполняется любовью и нежностью, глаза заволакивает туманом, ему хочется обнять каждого и говорить, говорить об этой своей великой любви, к которой, впрочем, примешано много такого, что, когда начинаешь-таки говорить, почему-то выходит пошло и гнусно, так что потом, когда этот восторг угаснет, жалеешь о сказанном, стыдишься и коришь себя самыми последними словами.
Все пятеро только что из бани, все красные, распаренные, с бисеринками пота на лицах, все в белых рубахах и белых же подштанниках. Они успели выпить по стакану разведенного спирта, настоянного на корне калгана и еще каких-то травах, похрустеть зеленым луком, солеными пупырчатыми неженскими огурцами, редькой, чесноком и прочими дарами здешней земли, похлебать налимьей ухи и теперь, разморенные и осоловелые, перебивались неспешными разговорами о погоде, о виде на урожай картошки, того-другого-третьего, про то еще, что если дожди зарядят, то все погниет на поле, зато грибам-ягодам хорошо, вспоминали всякие житейские истории — все это уже под жареную на сале молодую картошку — и с любопытством поглядывали на Алексея Петровича, который ни о чем не спрашивал и ничего не записывал в отличие от районных и областных газетчиков, а ел-пил без всяких церемоний и не спешил выделиться ни своими знаниями, ни своей бывалостью, но разговор поддерживал непринужденно, словно и для него погода и урожай зерна, сена и картошки, грибов-ягод и всего остального имели такое же значение, как и для любого колхозника.
— А вот ты скажи, Петрович, — обратился к нему бригадир Щукин, полагавший, что коли кто пьет с ним водку и только что голяком принимал от него на самом верхнем полке нахлестывания березовым веником, тот уже человек свой в доску и к нему можно обращаться на «ты». — А вот скажи, Петрович, какое твое мнение насчет войны: будет она в ближайшее текущее время или нет? И с кем будет — с Антантой, Польшей или с Германией?
— В ближайшее? — Алексей Петрович, не ожидавший подобного вопроса, задержал у рта вилку с насаженной на нее жареной картофелиной, круглой и чистой, будто выточенной из слоновой кости, но немного припеченной с одного бока, посмотрел в морщинистое лицо Щукина влюбленными глазами и произнес уверенно: — В ближайшее время войны не будет. Что они, дураки, что ли? Если они нас не победили в прошлой войне, то как же они нас победят в следующей, когда у нас не только пушки-пулеметы, но и танки, и самолеты, и все прочее имеется? И не хуже, чем у них, — говорил он, даже не подозревая, что выражает не свое мнение, поскольку своего мнения у него на этот счет пока еще не сложилось. Но именно это мнение казалось ему наиболее верным и логичным. И он продолжил: — Нет, они понимают, что с нами теперь драться им не с руки. Вот если они все объединятся против нас: и Антанта, и Германия, и Япония с Америкой, и та же Польша, тогда — да, тогда вполне возможно, — добавил он уже от себя, уверенный, что такого объединения быть не может.
— А что, и не объединятся? — не отставал Щукин, заглядывая снизу вверх в глаза Алексею Петровичу темными щелками глаз, запрятанных в морщинки дубленой кожи.
— В ближайшие годы — вряд ли. Это не я так считаю, так считает, например, командарм Блюхер. Да и Сталин тоже так считает, — прибавил Алексей Петрович для большего веса, полагая, что коль скоро Сталин не возразил Блюхеру, следовательно, согласен. — Но это не значит, что Гитлер, например, по своей самонадеянности, не решится на самоубийственный шаг и не развяжет войну против нашей страны без всякой Антанты. И даже против нее тоже. Как в Первую мировую.
— Значит, может решиться… — думая о чем-то своем, согласился Щукин. Потом воздел многозначительно палец вверх, заговорил, все более озлобляясь: — Вот ты, Петрович, говоришь: танки-самолеты! А я тебя спрашиваю: а в танках-самолетах кто? — И сам же решительно и зло отрубил: — Мужик. А кого мужик пойдет защищать против этого Гитлера? Кого? И надо ли их защищать от Гитлера-то? Может, Гитлер-то и лучше окажется, чем иные-прочие? А? Конечно, Гитлер — он с ружьем придет, оттого и обидно, и на ружье ружье требуется. А если какой другой инородец приходит с мошной? Или, к примеру сказать, с Библией? Или другой какой ученостью? Что тогда? Хрен-то редьки не слаще. То-то и оно…
— Как — кого защищать? — не понял Алексей Петрович. — А разве свои детишки не требуют защиты? А земля, родина, наконец?
— Родина, детишки — это мне понятно. Они и при царе бымши родиной и детишками, — гнул свою линию Щукин. — А что касаемо земли… Чья нонче, скажи на милость, земля? Общая. Ничья, стал быть. А откуда такое понятие? От власти. А власть чья? Тоже ничья. Я вот на железке пуп надрывамши… Есть у рабочего человека власть? Нету. Есть у крестьянина? Тоже нету. Ты вот у председателя у нашего, у Михал Василича, спроси: есть у него власть? Нету. А у кого она, власть-то эта? — уставился на Алексея Петровича всем своим морщинистым земляным лицом, ухмыльнулся: — Сам знаешь, у кого… Это что же получается — их и защищать? Сомнительно.
— Ты чего несешь, Акимка? — будто пробудился от дремы Пантелеймон Вязов и с опаской посмотрел на столичного гостя. — Что значит, власть ничья? Это ты брось! Бывший рабочий человек, а так отстало рассуждаешь.
— Какое у меня имеется от практической жизни понятие, так я и рассуждаю, — огрызнулся Щукин и потянулся за бутылкой.
— Вредное у тебя понятие, скажу я тебе, — отрезал Вязов. — А Примерный устав сельхозартели что говорит? Он говорит, что земля принадлежит колхозу на вечные времена. А ты говоришь — ничья. Эка куда загнул! — И, обращаясь к Алексею Петровичу: — Вы не слушайте его, товарищ корреспондент: это он по пьяному делу несет несусветное. Проспится — по-другому запоет. У нас на деревне всегда так: по пьяному делу хочется человеку противоречить натуральному движению вещей, вот он и противоречит. Другие-какие не поймут и в крик: контра! А какая Щукин контра, скажи на милость? Никакая! Язык без костей — вот и вся его контра. А работника такого — поискать стать.
— Да вы не беспокойтесь: я все понимаю, — заверил Вязова Алексей Петрович.
Но Вязов продолжал беспокоиться:
— Опять же, скажу я вам, обидели человека: возвели на него напраслину, в тюрьму упекли. Вот он, Акимка-то, и злобится. Потом, правда, помиловали, шкура заросла, а душа… душа — она болит долго. Это понимать надо.
— Да вы не волнуйтесь: я все понимаю, — еще раз попытался прекратить опасный разговор Алексей Петрович, но его перебил Щукин:
— Еще б не понять, — проворчал он и презрительно махнул рукой то ли на Вязова, то ли на Алексея Петровича. — Сталин — и тот понимает. А не понимал бы, так не стал бы задобрять крестьянина… Сталин — он соображает. А вот возьмут его, к примеру, и кокнут… Как Кирова… Что тогда? Кто будет верховодить? То-то и оно. А вы говорите: наро-од! Народ — он свое внутреннее понимает, как оно от веку шло, а что нынче устроимшись на русской земле, так это молодым утеха… Вот, Петьке Коровину — это разлюли-малина. А нам, старикам… И-эх! Давайте еще по махонькой, чтоб Гитлер соблюдамши понятие насчет нас, русских, а то страсть какая нелепица образуется от такого непонимания.
Петр Коровин дернулся было вступить в спор, поскольку тронул его Щукин не по-справедливости, но Михаил Васильевич удержал, чуть коснувшись рукой его плеча, и Петр, беззвучно открыв и закрыв рот, сердито воззрился на Щукина, хмуря чистый лоб и кривя полные губы.
Разлили по стаканам золотистую влагу.
— Скажи что-нибудь, Алексей Петрович, как ты есть человек образованный, — попросил Пантелеймон Вязов, явно задабривая гостя. — Наши старики бывалоча говаривали: пить не для того, чтоб в вине находить смысл жизни, а принимать вино за ради смысла.
Алексей Петрович не стал отнекиваться и в наступившей тишине поднял свой стакан. Оглядел сотрапезников.
Секретарь партячейки Вязов смотрел на него с надеждой, что приезжий журналист как-то выправит и загладит впечатление от злых рассуждений Щукина; молодой Коровин — с детским любопытством; кем-то когда-то, если верить Вязову, крепко обиженный Щукин — с недоверием; привычный к разному люду председатель Ершов — добродушно и отстраненно.
— Давайте выпьем, — произнес Алексей Петрович, — чтобы не было войны, чтобы наладилась и вошла в широкое русло наша с вами жизнь, чтобы русские жили по-русски, и каждый народ жил бы по-своему и не мешал жить другим, и чтобы наши дети не знали тех горестей, которые выпали на долю их отцов. За ваше здоровье! За благополучие и процветание вашего колхоза!
Все потянулись к нему стаканами, лица подобрели, морщины разгладились, даже у Щукина их будто стало меньше, а лицо Петра Коровина расплылось в такой беспредельно счастливой улыбке, точно Алексей Петрович подарил ему что-то такое, о чем еще минуту назад он даже не смел и мечтать.
Выпили, задвигали челюстями, закусывая. Вновь пошли разговоры о всякой житейской всячине…
Уж лампа-семилинейка начала коптить, когда разошлись гости и Алексей Петрович добрался наконец до отведенной ему в сенях постели, закрытой от комаров и мух белой холстиной.
Лежал, слушал, как за стеной тяжко вздыхает и жует жвачку корова, как где-то совсем близко время от времени ухает сыч. И дивился про себя: вот он, умный и образованный, всегда считал, что народ — это что-то темное и себе на уме, что-то такое, что он, Алексей Задонов, должен просвещать и наставлять на путь истинный. А вот тебе мужичок Щукин, битый и мятый жизнью, — и какая прорва мудрости и понимания глубинного смысла происходящего, о чем ты лишь догадывался, да назвать своими словами боялся — даже и по пьянке, — а вот ему — море по колено: сказать сейчас, а там хоть к стенке. Значит, остались они, такие люди, после всех смерчей и вихрей, пронесшихся по русской земле, остались и будут задавать тон, — и уж задают! — и давят на власть снизу, заставляя ее выправлять многое из того, что она в своем безумии покривила за минувшие годы. Но куда повернут эти люди завтра, ни богу, ни черту не известно. И тому же Щукину — это уж как пить дать. Но именно за этим-то он, Алексей Задонов, и приехал в деревню с символическим названием Мышлятино. Именно здесь громче всего слышны звоны тех подспудных течений, о которых с затаенным страхом говорили в Горьковском доме. Остается самая малость: в какой форме ему, Алексею Задонову, об этом потаенном рассказать на странице газеты, чтобы поняли правильно и самого автора не закатали в бересту.
Чужая власть… И перед мысленным взором Алексея Петровича вновь возникли лица, похожие друг на друга, лица эти кривлялись и масляно поблескивали одинаковыми глазами, а среди них выделялось вытянутое вперед, приплюснутое, шишкастое лицо Горького, расплывающееся в умильной ухмылке и поблескивающее сентиментальной слезой.
Чужая власть… Она всегда возникает на сломе исторических процессов, являясь то в виде варяжских князей, то бироновщины при Анне Иоановне, то засилья иноземцев при других царях, то вот как теперь — всякая шушера, которая ни своим народам, ни чужим спокойно жить не дает. Наверное, это неизбежно и необходимо. А под спудом, вопреки этой власти, что-то растет и зреет, что вырвется со временем наружу, сбросит с себя чужеродное засилье, вернется к родным корням, но уже более сильным и здоровым. А всех прочих подомнет под себя и заставит говорить и думать по-русски. И тебе, Алеха, надо жить и находить радости в этой жизни, потому что не волен человек выбирать себе эпоху, а любая эпоха хороша для одних и плоха для других. И человек смертен…
Глава 12
Два дня, проведенные Алексеем Петровичем в колхозе «Путь Ильича», пролетели незаметно и прозвучали для него как бы единственной строчкой из современной песни, слышанной им стороной, но такой песни, мелодия которой взята не то из какой-то старой оперы, не то из старинного романса, а слова придуманы новые, громкие, но лишенные чувства, придуманы людьми чужими и очень расчетливыми. Лишь одна строчка в этой песне оказалась с мелодией связана тайными корнями, лишь она, вставленная, быть может, рифмы ради, звучала печалью и надеждой, как стихи мало кому известного поэта, председателева сына, чья тоненькая книжечка бережно хранилась за почерневшей божницей, спрятанной от посторонних глаз, а сам поэт уже несколько лет покоился на деревенском кладбище.
На это кладбище Алексея Петровича будто невзначай, по пути с поля к скотному двору, привел Михаил Васильевич Ершов. Лежал его сын под гранитной плитой, принесенной сюда с разоренного барского кладбища, и на грубо обработанной обратной ее стороне были выбиты годы жизни покойного, имя и фамилия: Михаил Ершов. Рядом лежал кузнец, чуть подальше — пастух, были тут и плотники, и ямщики, и шорники, и даже валяльщик валенок, но были и могилы, над которыми стояли безымянные кресты, будто лежали под ними люди, ничего в жизни не значившие, ничего для людей не сделавшие. У бывшего поэта, слава богу, было хотя бы имя.
К концу второго дня до деревни Мышлятино добрался на своем автомобиле инструктор обкома партии Ржанский, добрался кружным путем, с поломками и ремонтом, зато с той минуты ни на шаг не отходил от Задонова, пыжился и выказывал свою власть, — и все перед его властью блекло и тушевалось: и сам председатель колхоза Михаил Васильевич Ершов, и коровы колхозные, и поля, и даже избы. Но к тому времени Алексей Петрович собрал все, что можно было собрать по интересующей его теме, так что машина — да и сам Ржанский — оказались как нельзя кстати. Но исключительно для него, журналиста Задонова, но не для крестьян: этот Ржанский, ни рыла ни уха не смысливший в сельском хозяйстве, был тут совершенно лишним. И он сам, и его предки, как черт ладана, боялись земли, и ни за какие золотые не желали заниматься хлебопашеством. Держать шинок, спаивать земледельца и обирать его за долги — вот это было по нему, тут он первый и никого даже во вторые близко не подпускал. И с тех пор пьянство широко захлестнуло земледельца, как половодье поля и дубравы, и до сих пор от этого зла никак он оправиться не может. И без толку убеждать крестьянина, что, мол, ты сам виноват, ибо никто тебя пить не заставляет. Заставляет, и еще как, сама жизнь. Беспросветно однообразная, подневольная и скудная.
Простившись с гостеприимными хозяевами, Задонов, по пути в Калинин, заехал на Машино-тракторную станцию, помимо прочих обслуживающую и колхоз «Путь Ильича», из МТС — в районный центр Спирово, где вызвал переполох у районного начальства, которое, прежде чем открыть рот, таращилось в испуге на инструктора Ржанского, мямлило и несло всякую околесицу, в то же время пытаясь соблазнить столичного корреспондента то рыбалкой, то охотой на боровую и водоплавающую дичь, то шикарным застольем.
Алексей Петрович от всех соблазнов отказался решительно и велел везти себя в Калинин. Там он до вечера исправно ходил по кабинетам, из которых пытался взглянуть на маленький колхоз с областной колокольни, чтобы если писать, так всеохватно, но хождение по кабинетам и разговоры с чиновным людом мало что добавили к тем впечатлениям, которые он получил на месте и от общения с товарищем Ржанским. Более того, это хождение странным образом отделило колхоз «Путь Ильича» от этих кабинетов, превратив его в некую неодушевленную производственную единицу, которая должна… должна… должна, не имея никаких прав и даже возможности мыслить самостоятельно.
— Мы спланировали поставки хлебом, картофелем, молоком, мясом и прочими сельхозпродуктами таким образом между сельскохозяйственными единицами области, — заученно говорил заместитель секретаря обкома по сельскому хозяйству товарищ Намцев, низенький, квадратный, с угрюмым и настороженным взглядом серых глаз, перебирая какие-то графики, на которых значились сельхозугодья, — что сразу становится видно, кто и что должен производить, в каких количествах, какого качества, когда сдавать на госхранение и кто несет за это ответственность. — Вот тут у меня все прописано… — и он показал Алексею Петровичу лист ватмана, на котором разноцветной тушью были изображены оси координат и многочисленные пересекающиеся кривые.
— Вы, судя по той основательности и дотошному знанию предмета, — перебил монотонную речь секретаря Намцева Алексей Петрович, тщательно маскируя иронию серьезным видом и тоном, — закончили сельхозакадемию… Чувствуется выучка…
Секретарь кхекнул, скулы его покрылись белыми пятнами.
— Я иду туда, куда пошлет меня партия, — отрезал он. Спохватился, что получилось слишком грубо, и, пытаясь замять, заворковал: — Партии, уважаемый товарищ Задонов, лучше видно, как распоряжаться своими кадрами, партия, как сказал поэт, есть рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак. Очень правильно, между прочим, сказано. А главное — целиком и полностью совпадает с указаниями товарища Сталина, которые указаны им на минувшем пленуме Цэка нашей великой большевистской партии.
Потом, стороной, Алексей Петрович получил подтверждение, что секретарь никаких академий не кончал, начинал с продотряда и курсов по ликвидации неграмотности, постепенно рос и дорос до нынешней должности, раз в год слушая лекции по марксизму-ленинизму и ученые толкования решений партии по аграрному вопросу, то есть был одним из десятков тысяч партийных чиновников, привыкших командовать, особенно не вникая в существо вопросов. Таких секретарей Задонов встречал во множестве и по железнодорожному ведомству. Но там подобные руководители уже решительно заменялись молодыми и грамотными, а здесь, в деревне, до сих пор оставался в силе принцип руководства сельским хозяйством со стороны передового революционного класса. Но класс и отдельные его элементы — это чаще всего далеко не одно и то же.
Вроде бы Алексей Петрович сделал все, что делал в подобных случаях, и всего этого обычно хватало для очерка, репортажа или статьи. Но сегодня у него было такое ощущение, что не только на очерк, но даже на маленькую заметку материала он так и не собрал: слишком много в существовании нынешней деревни было плюсов и противоречащих плюсам минусов, которые никак в одну колоду не ложились. Деревня явно изменилась, человек в ней изменился тоже, но что это за изменения, как глубоки они, понять было трудно. Реальность подсказывала, что, как ни изменились условия труда и жизни колхозника за последние несколько лет, люди не могли так скоро в эти изменившиеся условия вжиться, как не может взрослое дерево сразу же прижиться на новой почве, пересаженное на нее неумелой и нечуткой рукой, — на это потребуется слишком много времени, может быть, ни одно поколение мышлятинцев. И горькие слова Антипа Щукина были тому свидетельством.
«Ничего, — думал Алексей Петрович по пути на вокзал, сидя в автомобиле и слушая булькающий от избытка оптимизма говорок инструктора Ржанского. — Ничего, соберусь с мыслями и напишу. Такой страх и растерянность перед незнакомой темой у меня случались не раз и не два. А потом приходит спасительная мысль, связующая фраза — и все становится на свои места. К тому же тема не „пожарная“, за недельку-другую вызреет. А там, бог даст…»
Автомобиль остановился, Ржанский выскочил наружу, предупредительно отворил заднюю дверь, придержал Алексея Петровича под локоток, и все тарахтел, тарахтел при этом, внушая что-то нужное то ли ему, то ли его партийному начальству, да Алексей Петрович все это пропускал мимо ушей, потому что слушать все и запоминать — никаких мозгов не хватит и никакой бумаги, чтобы все это вынести.
И вот снова московский поезд, купейный вагон, хотя ехать тут — три часа с маленьким хвостиком, но редакция оплачивает и купейные, и мягкие вагоны, да и сам Алексей Петрович по чину своему и положению в другой какой и не сел бы, и вовсе не потому, что брезговал простым людом, а потому что любил комфорт и вежливую тишину купейных спутников.
Звякнул колокол, свистнул паровоз, тихо поплыл мимо перрон, а на нем тающая в вечерних сумерках сдобная фигура Ржанского, энергично размахивающего шляпой, точно провожал самого близкого и дорогого ему человека. Впрочем, Алексей Петрович тоже помахал ему шляпой: и неудобно не помахать, когда тебе так машут, да и Ржанский — при всей своей назойливости и дутой многозначительности — бывал часто полезен, избавляя Задонова от многих ненужных забот.
Почему-то вспомнился при этом Иосиф Смидович из Березников, очень похожий на Ржанского, затем Ирэн Зарницина, но уже без былого чувства вины перед ней и тоски по ее телу. А еще подумалось, что ему, Алексею Задонову, все-таки чертовски везет, если иметь в виду анонимку. Однако нет уверенности, что будет везти и дальше. А вдруг этот Ржанский тоже накатает на него анонимку? Поди знай, что у него на уме.
Глава 13
Вокзальный перрон еще тянулся мимо, но Ржанский уже пропал из виду, и Алексей Петрович прошел к своему купе. Остановившись перед дверью, постучал. Женский голос, показавшийся ему райской музыкой, от которой по телу прошла горячая волна, произнес нараспев:
— Да-да-а! Входи-ите!
«Господи, — успел подумать Алексей Петрович, берясь за ручку двери, — сделай так, чтобы… чтобы…» — но просьбы своей так и не завершил, и не только из суеверия, а больше потому, что наперед знал, что надо просить у господа, когда за дверью звучит такой очаровательный голос: чтобы лицом и статью женщина соответствовала своему голосу, чтобы ее тайное желание совпало с желанием Алексея Петровича, чтобы она была свободна, чтобы… — и много чего еще хотелось ему с тех пор, как узнал о смерти Ирэн, смерти, которая от чего-то освободила, а что-то взвалила на его плечи, но главное — лишила его прелести тайной и даже рискованной жизни.
Алексей Петрович набрал в легкие побольше воздуху и решительно сдвинул дверь купе в сторону. Еще не переступая порога, зажмурился: на него смотрели три пары женских глаз, смотрели, как показалось Алексею Петровичу, с ожиданием и надеждой. Сердце в нем радостно подпрыгнуло, и он, озарившись восхищенной улыбкой, шагнул навстречу сиянию женских глаз. Все, что только что мучило и занимало его, исчезло без следа, осталось на перроне вместе с инструктором Ржанским. Впереди три часа пути, содержание которых зависит исключительно от него самого.
— Добрый вечеррр… — произнес Алексей Петрович, переступая железный порожек и невольно затягивая приветствие: он хотел сперва сказать: «милые дамы», и дамы на первый взгляд действительно были довольно милы, но сияния в их глазах оказалось не так уж и много, еще меньше там было любопытства; в то же время называть их «товарищами» язык не поворачивался, и Алексей Петрович, скрывая замешательство, просто раскатил несколько длиннее конечное «р» и слегка наклонил свою львиную голову.
— Здравствуйте, — ответил ему все тот же милый голос, и что-то такое буркнули два подголоска.
Женщины были примерно одного возраста — лет тридцати пяти, то есть его ровесницы, а одна из них, что в одиночестве сидела у самого окна слева, пожалуй, и постарше, но именно она-то и была обладательницей мелодично-певучего голоса. И самое удивительное, что голос этот, как ни кому другому, шел именно этой женщине — пышнотелой, с такими щедрыми и правильными формами, которые говорят об уюте просторной рубленой избы, о цветастых половичках, высокой постели и горке подушек на ней, куче ребятишек мал мала меньше, курах, овцах, корове, березе под окном и цветущем жасмине.
— Я как услыхал ваш голос, — произнес Алексей Петрович, усаживаясь на одну лавку с этой женщиной, но на вполне приличном от нее расстоянии, — так тут же и решил, что вы не иначе как певица.
— Увы, — сказала женщина, — должна вас разочаровать: к пению никакого отношения не имею…
— К профессиональному, — уточнила женщина напротив. И пояснила, доброжелательно поглядывая на Алексея Петровича круглыми черными глазами: — А поет Варвара Сергеевна весьма и весьма прилично, тут вы нисколько не ошиблись.
Правильной, свободной, не замусоренной иностранщиной и новоделами речью, строгой одеждой и прическами эти женщины очень смахивали на учительниц какого-нибудь небольшого русского городка, где царит не до конца разрушенная революцией тихая патриархальность нравов.
— И я, признаться, очень рад, что не ошибся, — слегка склонился Алексей Петрович, на этот раз лишь в сторону Варвары Сергеевны, успев при этом заметить, что еще одна спутница, что сидела у окна напротив Варвары Сергеевны, чуть повела плечами и усмехнулась, а сама Варвара Сергеевна посмотрела на него строгими глазами, какими как раз и смотрят учителя на тупых учеников… или врачи на безнадежно больных.
От всех трех женщин так и веяло провинциальной скукой и той напускной целомудренностью, какой чаще всего прикрываются представительницы слабого пола, страдающие от невозможности распуститься во всю свою натуру. Нет, взгляды и жесты их не обманывали Алексея Петровича. В долгих своих странствиях и постоянном общении с людьми он научился распознавать характеры, более-менее точно предугадывать отношение собеседников к тому или иному предмету. Ему, к тому же, весьма помогали советы одного московского психопатолога, с которым он познакомился в поезде же и отношения с которым поддерживал во имя удовлетворения обоюдного друг к другу любопытства.
Сделав соответствующие выводы, Алексей Петрович тут же и решил, что, вместо того чтобы сидеть букой, уткнувшись в книжку или в газету, не лучше ли попробовать разыграть этих осторожных провинциалок, потрясти их души до самого основания и заставить эти души раскрыться и выплеснуться наружу всем своим естеством? Конечно, лучше. И он, притворно вздохнув, признался:
— А вот мне, увы, бог не дал никакого слуха. Представьте себе, я с большим трудом могу отличить пение дятла от пения обыкновенной вороны.
— Вороны, кстати, не поют, — произнесла ледяным тоном та, что сидела у окна наискосок. Она отличалась от своих спутниц твердостью скул, жесткой складкой над переносицей и чуть раскосыми серыми глазами. — Дятлы, кстати сказать, тоже.
— Правда? — изумился Алексей Петрович, высоко вскидывая густые брови. — Какая жалость! Однако должен вам заявить со всей ответственностью, что не поют они совсем не кстати. Лучше бы они все-таки пели. Впрочем, для моего слуха что пение, что писк, что щебетание, что чириканье, что карканье — говорят, вороны каркают! — ничем друг от друга не отличаются. Вместе с тем, должен признаться, что когда поет соловей и рядом же каркает ворона, то разницу я улавливаю… с грехом пополам. Но порознь… — И он, вздернув плечи и придав своему лицу непомерное страдание, широко развел руками, однако, заметив, что спутницы его готовы тут же забросать его вопросами и подвергнуть сомнению его признание, скромно потупился и произнес: — Кстати, разрешите представиться: Задонов, Алексей Петрович, — испытующе обвел женщин глазами, но ничто не вспыхнуло в их ответных взорах, ни один мускул не дрогнул на их румяных щеках, и он лишний раз убедился, что читают газету «Гудок» почти исключительно одни железнодорожники, а книги его еще не дошли до провинции.
Выяснилось, что черноглазую женщину напротив зовут Татьяной Трифоновной, а слегка раскосую, что у окна наискосок, — Раисой Ивановной, что они действительно учителя, все из Петрозаводска и едут в Москву на совещание учителей общеобразовательных школ, так что никакой интрижкой на длительное время здесь даже и не пахнет. Ну, разве что если судьба занесет его когда-нибудь в этот самый Петрозаводск…
Раиса Ивановна была помоложе своих коллег, побойчее, да и, судя по всему, поумнее, но именно она откровенно выказывала Алексею Петровичу свою неприязнь, так что Алексей Петрович сосредоточил на ней все свое внимание, решив склонить ее на свою сторону во что бы то ни стало… так, из спортивного, как нынче стало модно выражаться, интереса. Для этого он должен был отыскать в характере Раисы Ивановны некую «ахиллесову пяту», щекоча которую острыми репликами, сперва вызвать у женщины замешательство, а потом протянуть ей руку, признав за нею если не равенство с самим собой, то определенные ее достоинства, — способ проверенный и дающий почти всегда требуемый результат.
Судя по лицам женщин, они только что о чем-то горячо спорили, следы этого спора особенно ярко проступали на лице Раисы Ивановны: тут были и обида, и нежелание признать обвинения в свой адрес, и обычное женское упрямство.
О чем могут говорить, а тем более спорить, три женщины, оказавшиеся вместе по воле случая, давно знакомые и знающие друг о друге почти все, если учесть, что Петрозаводск — наверняка город небольшой и учителей там должно быть не так уж много? О проблемах школьного образования? О революционно-классовых позициях? О мировой революции? О планах второй пятилетки? Вряд ли. Тогда непременно были бы возбуждены все спорщицы. Нет, тут что-то личное и касающееся исключительно Раисы Ивановны. А что может касаться исключительно Раисы Ивановны? Скорее всего, ее личная жизнь: женщины, особенно учителя, большие любительницы покопаться в личной жизни своих коллег, потому что вся их профессиональная жизнь расписана по пунктам, повторяется изо дня в день и не несет в себе ничего нового, — разве что новые инструкции наробраза, далеко не всегда отвечающие потребностям жизни. А вот личная жизнь — совсем другое дело.
Еще Алексей Петрович успел заметить, что если Раиса Ивановна очень недовольна его появлением, то две другие женщины, наоборот, если и не рады, то и не огорчены. Следовательно, он избавил их от тягостных объяснений или даже наскоков более решительной и категоричной подруги.
— Хотите, я вам скажу, о чем вы тут только что спорили? — спросил Алексей Петрович, оглядывая спутниц таинственно прищуренными глазами. И, не дожидаясь согласия, принялся заманивать их в свою ловушку: — Так вот, милые дамы, в нетерпеливом ожидании моего явления пред ваши прекрасные очи вы здесь… только что… буквально за минуту до моего стука в дверь… говори-или о то-о-ом…
— Вы что же, подслушивали под дверью? — резко прервала его интригующе таинственную речь Раиса Ивановна. — По-моему, это верх неприличия! А на вид вы производите впечатление образованного человека… Или нынешние мужчины окончательно потеряли стыд и совесть? Можете не оправдываться, я и так знаю, что вы скажете…
Алексей Петрович вскинул вверх руки, изобразив на своем лице целую гамму стремительно сменяющих друг друга чувств, воскликнул восхищенно:
— Помилуйте, когда бы я успел подслушать? Тем более что, когда я достиг вашего купе, здесь стояла такая тишина, что я даже усомнился: есть ли здесь хоть одна живая душа.
— Слышали вы или не слышали, — уже даже и не столько учительским, сколько директорским тоном резала Раиса Ивановна, — а только лично меня совершенно не интересуют ваши необыкновенные способности угадывать чужие разговоры. О чем мы говорили, это наше дело, а не ваше. И здесь вам не цирк.
— Разумеется, разумеется, — согласился Алексей Петрович, уже уверенный, что «пята» отыскалась: Раиса Ивановна, скорее всего, из тех мужененавистниц, которые однажды обожглись на поприще любви и теперь в каждом мужчине видят своего лютого врага. А обожглась Раиса Ивановна потому, что она — женщина умная, властная и целеустремленная. Такие, добиваясь многого на профессиональной стезе, чаще всего терпят поражение именно в личной жизни: здесь они оказываются наивны и беспомощны.
— Я вовсе не собираюсь настаивать на своем. Не хотите, как хотите, — отступил Алексей Петрович на исходные позиции. — Должен, однако, вас уверить, что мужчины, как и женщины, не все одинаковы, хотя на уме у мужчин в отношении женщин, вы правы, одно и то же. Так они, бедняжки, в этом и не виноваты. В чем же вина мужчин, если вы все так хотите им понравиться? И вины женщин в этом их извечном желании тоже никакой нет. Все это естественно, но цивилизация облекла этот естественный процесс в разнообразные одежды условностей, правил, традиций и установлений. Вы посмотрите, как просто все у детей лет этак до пяти-шести. Скажем, подходит девочка к мальчику и предлагает ему: «Давай двужить». А он ей: «Не фочу: я с киской двужу».
Рядом с Алексеем Петровичем раздался всхлип, и Варвара Сергеевна зашлась беззвучным смехом, закрыв лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Она бы расхохоталась и во весь голос, но приличия, приличия… Зато Татьяну Трифоновну приличия, судя по всему, не так стесняли, как других, и она рассмеялась громко и безудержно. Только Раиса Ивановна сердито глянула на Алексея Петровича своими умными серыми, слегка раскосыми глазами, передернула плечами и произнесла ледяным голосом, почти не разжимая зубов:
— Самомнения вам, однако, не занимать стать. И уж, конечно, вы абсолютно уверены, что сделали в области взаимоотношения полов исключительно гениальное открытие…
— Что вы! Что вы! — замахал руками Алексей Петрович. — Я просто хотел вам напомнить прописные истины. Ведь вы же попытались меня уверить, что все мужчины — бяки. А мне почему-то бякой быть совсем не хочется даже в глазах случайных попутчиц. Да и жена моя меня таковым не считает… А ехать три часа в одном купе и смотреть в потолок, согласитесь, тоже ведь не слишком вежливо. Да еще с бякой…
— Ой, да вы не думайте ничего такого, — вмешалась Варвара Сергеевна своим певучим голосом. — Просто мы и в самом деле здесь немного поспорили, но это так — ничего особенного.
— Так я и не говорю, что это что-то особенное, — согласился Алексей Петрович. — О подобных вещах, — снова принялся он темнить, подбираясь к «ахиллесовой пяте» Раисы Ивановны, — говорят и спорят все женщины мира. Если бы они об этом не говорили и не спорили, род человеческий давно бы прекратил свое существование.
— Вы не думайте, что мы, женщины, спорим и говорим исключительно о мужчинах, — вступила Татьяна Трифоновна, обдав его черным пламенем своих глаз. — Иногда мы говорим и спорим и на другие темы.
— Я и не думаю, — не дал себя свернуть в сторону Алексей Петрович. — Я имел в виду лишь данный конкретный случай, то есть все ли мужчины такие плохие и все ли они хотят от женщины исключительно такого, чего самой женщине не надо и на нюх. Я думаю, что обжечься в любви может каждый. И не раз. Но это не значит, что все для этого человека кончено, что можно после этого стреляться или головой в омут. И чаще всего, как это замечено не мной и не сегодня, обжигаются целеустремленные натуры, потому что им как бы некогда присматриваться к партнеру — да будет мне позволительно употребить здесь это слово, — они слишком сосредоточены на своем деле и предполагают, что и все остальные должны быть такими же. А все остальные имеют, увы, свое мнение на сей счет, свои способности и наклонности. И вообще, как утверждают психологи, гармоничные пары, совместимые по всем человеческим параметрам, явление крайне редкое, можно сказать, исключительное.
Две женщины слушали его с интересом, иногда согласно кивая головой, а Раиса Ивановна сосредоточенно смотрела в одну точку, закаменев лицом, но поперечная морщинка на ее лбу несколько разгладилась, а взгляд как бы ушел внутрь.
«Ага, — удовлетворенно подумал Алексей Петрович, — я тебя таки доконал, голубушка. Еще немного, и ты тоже будешь посматривать на меня с интересом».
— Мы совершенно с вами согласны, Алексей Петрович, — заинтересованно поддержала его Татьяна Трифоновна, даже склонилась в его сторону слегка, и на круглом ее, добром русском лице отразилось практически все, что она думала в эту минуту. Наверное, с таким же вот лицом она объясняет ученикам свой предмет, и они не могут не слушать ее со вниманием. — Однако миллионы мужчин женятся на своих избранницах и живут с ними до гробовой доски, — продолжала Татьяна Трифоновна мечтательно. — Вот мой, например… Но дело, конечно, не во мне. Бывает, что не везет… Ну что ж… А ты верь, что еще встретишь положительного человека…
Эти последние слова явно адресовались Раисе Ивановне, хотя Татьяна Трифоновна и не смотрела в ее сторону. Алексею Петровичу лишь оставалось погладить себя по голове за догадливость. И он слегка коснулся обеими руками своей шевелюры, как бы проверяя ее целостность.
— Я тоже уверен, — многозначительно поддержал он Татьяну Трифоновну, — что такой человек непременно встретится… И довольно скоро.
Слова эти Алексей Петрович произнес совсем другим — спокойным и раздумчивым — голосом. И выражение лица его было другое, тоже спокойное и раздумчивое, потому что пришло время протянуть женщине руку, помочь ей достойно выпутаться из щекотливого положения. Алексею Петровичу даже стало жаль эту Раису Ивановну, он уже не думал об игре, более того, ему пришло на ум, что до его появления женщины как раз говорили эти же слова, что произнес он и что только что повторила Татьяна Трифоновна.
— Ведь встретить достойного мужчину для женщины, — развивал он свою мысль, подстраиваясь под мечтательность Татьяны Трифоновны, — равноценно встречи достойной женщины для любого мужчины. А такой выбор происходит исключительно по зову сердца. Сердце, увы, может ошибаться: на то оно и сердце. Все дело в том, чтобы не винить свое сердце за сделанные им ошибки. Для этого нужно совсем немного: немного терпения, немного юмора, немного рассудительности и много женственности… — продолжал он, и уже не столько для этих женщин, сколько для героини своего нового романа, женщины современной и чем-то схожей с Раисой Ивановной. — Вы считаете, что я не прав, Раиса Ивановна?
В ответ на его вопрос Раиса Ивановна посмотрела на Алексея Петровича долгим недоверчивым взглядом своих слегка раскосых глаз, затем робкая улыбка скользнула по ее лицу, она тут же отвернулась и принялась рыться в своей сумочке, а у Алексея Петровича почему-то защемило сердце.
— Я вам, с вашего позволения, расскажу одну историю, — предложил он, зная, сколь томительной бывает в таких случаях пауза и как трудно предугадать, какой стороной она обернется. К тому же, если уж взялся растапливать сердце женщины, ожесточенное житейскими невзгодами, то надо делать это последовательно и до конца.
И он принялся рассказывать историю героини своего романа, историю, еще до конца им не выдуманную, но давно зреющую в его голове и получившую только что новый импульс от общения со своими спутницами. Женщина в его рассказе была похожа и не похожа на Раису Ивановну, ее личная жизнь тоже не задалась, но исключительно потому, что ее избранник оказался человеком отсталых взглядов, к тому же — эгоистом, однако, вместе с тем, увлеченным своей научной идеей, которая, как предполагал Алексей Петрович, должна привести его героя в нравственный тупик. Что там будет дальше, он еще не решил, не любя заглядывать слишком далеко вперед, потому что тогда процесс творчества переходит в механическое следование по заданному маршруту, а ему доставляло радость ежедневное открытие как бы самого себя и своих творческих возможностей. Алексей Петрович был из тех писателей, которые не боятся чистого листа и могут начать повествование с первого же пришедшего на ум слова.
Он умел рассказывать, увлекался сам и увлекал других. Спутницы слушали его повествование с таким неподдельным интересом, так переживали за его героиню, что, когда Алексей Петрович остановился, почувствовав, что дальше рассказывать нельзя, невозможно, что дальше надо писать, что, собственно говоря, повествование и начинается как раз с этого места, на котором он остановился и в своем романе, женщины разочарованно завздыхали, поблескивая влажными глазами. Даже Раиса Ивановна. Пришлось повествование доводить до конца, но уже схематично и несколько в сторону от заветной двери, за которой только и открывался еще неизведанный, но такой манящий его героиню путь.
А поезд уже вползал под своды Ленинградского вокзала. Затем торопливые сборы, перрон, вежливое прощание без надежды на новую встречу — и спутниц его поглотила текучая толпа.
И все-таки Алексей Петрович был доволен временем, проведенными в тесном купе рядом с тремя такими непохожими друг на друга женщинами, общение с которыми тоже что-то добавило в его копилку знаний о человеках и человечестве.
И тут — и без всякой связи с исчезнувшими в толпе женщинами, — он вспомнил посещение Горького перед отъездом, его окружение и то ощущение бесовства по Достоевскому, с которым он покинул этот дом. Там была жизнь не только отличная от жизни, которой он был свидетелем в минувшие три дня, но и чем-то враждебная ей, враждебная людям, ее населяющим: расчетливому председателю колхоза «Путь Ильича» Михаилу Васильевичу Ершову, озлобленному, битому жизнью бригадиру Щукину, молчаливому секретарю партячейки Вязову, плутоватому помощнику председателя Коровину, трем учительницам из Петрозаводска и ему самому, писателю Задонову. И даже, быть может, инструктору обкома партии Ржанскому, искренне уверовавшему, что без его каждодневных усилий настоящего социализма в России не построить.
Впрочем, и его, Алексея Задонова, жизнь тоже отличается от жизни подавляющего большинства людей, но отличается другим образом: она все-таки есть производное от жизни народа, как некая безусловная необходимость, в то время как жизнь людей из горьковского дома движется в стороне и вопреки жизни народа, лишь пересекаясь в узловых точках, но не сходясь.
Но как об этом написать? Какой талант и дьявольская изощренность нужны, чтобы пройти по краю пропасти и не свалиться в нее… И потрясти всех до… до самых потрохов?
Глава 14
День клонился к вечеру, когда Сталин отложил в сторону книгу Фридриха Ницше «Воля к власти». Он остановился на положении, которое поразило его своей простотой и очевидностью, положении, которому он, оказывается, следовал всю свою жизнь:
«Не познавать, но схематизировать, придать хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно для наших практических целей. В образовании разума, логики, категорий определяющей является потребность, потребность не „познавать“, но субсуммировать, схематизировать в целях взаимного понимания, в целях учета (приспособление, измышление подобного, одинакового, т. е. тот же процесс, который проделывает каждое чувственное впечатление — характеризует и развитие разума!). Здесь не действовала какая-нибудь предшествующая „идея“, но полезность, т. е. то, что вещи поддаются учету и делаются доступными тогда, когда мы их видим грубыми и одинаково организованными…»
Все это по виду хаотическое нагромождение слов надо было хорошенько продумать, упростить, свести к сегодняшней действительности.
Оставив книгу на столе, Сталин, задумчиво пощипывая усы, спустился к морю. Книга вызывала в нем весьма противоречивые чувства. Он начал читать ее потому, что на нее сослался Гитлер в своей «Майн кампф». Гитлера необходимо было понять, чтобы предвидеть его поступки, и, может быть, позаимствовать что-то из его опыта организации власти. Гитлер, например, очень ловко устроил поджог Рейхстага и использовал этот поджог для полного разгрома оппозиции, для укрепления своей власти. И совсем не важно, получился у него суд над Димитровым, обвиненным в поджоге, или нет. Не важно и то, что немецкий народ своим голосованием на повторных выборах в Рейстаг поставил лишь на второе место партию национал-социалистов, возглавляемую Гитлером. Решающим фактором оказалась поддержка фюрера нацистов со стороны подавляющего большинства крупных промышленников и банкиров, увидевших в программе Гитлера реальную возможность выхода из экономического кризиса не на пути благотворительности, а на пути ускоренного развития промышленности в области вооружений. И Гитлер почувствовал себя на коне, а Европа проглотила последующие события в Германии с немым изумлением.
Ну, а ему, Сталину, ничего поджигать не надо. Убийство Кирова случилось как нельзя кстати, хотя лучше было бы, если бы убили кого-нибудь другого. Но что случилось, то случилось. Тем решительнее надо использовать убийство Кирова в наведении порядка в стране и в партии. Это и Рубикон, и Тулон, и Рейхстаг вместе взятые. Главное — не упустить момент.
Сталин начал читать Ницше с пятого на десятое, но понемногу увлекся. И все время его не отпускало ощущение, что он, Сталин, шел по длинному коридору в полной темноте, скользя руками по гладким стенам, уверенный, что это движение и есть исчерпанность бытия, и вдруг споткнулся обо что-то, открыл глаза и увидел, что коридор стеклянный, за его пределами кипит разнообразная жизнь, а он этой жизни не то чтобы совершенно не знает, а как бы позабыл о ее существовании.
Подобные ощущения Сталин испытывал почти всегда, когда открывал для себя новый мир идей, отличный от марксизма, с которым — в силу обстоятельств — когда-то без колебаний связал свою судьбу. Почти так же, как в детстве с христианством. И оба раза выбор отсутствовал. Поэтому Сталин имел весьма смутные представления о безграничном мире идей и был абсолютно уверен, что мир этот, враждебный ему, изучать или даже интересоваться им — значит бесполезно тратить драгоценное время, уже потраченное до него другими для того, чтобы родить новые идеи, более совершенные, которые только и стоит изучать. И то, если они приносят практическую пользу немедленно. Именно практическую!
Теперь, когда его деятельность на посту руководителя партии и государства все чаще и чаще сталкивается с проблемами, ответы на которые невозможно найти в догмах марксизма, он стал искать их в других учениях, открывая для себя новые знания о жизни вообще, о ее неисчерпаемом разнообразии, о неисчерпаемости взглядов на это разнообразие и приходил к выводам, которые с порога отверг бы еще совсем недавно.
С высоты приобретаемых знаний Сталин видел свое прошлое яснее и осмысленнее. Если бы ему пришлось начинать сначала, он многие решения свои переиначил бы, не стал повторять, другие проводил бы в жизнь более энергично. Он и раньше понимал, что ход революции предсказать невозможно, что управление этим ходом велось если и не совсем вслепую, то более все-таки на ощупь, что события опережали и часто заставали врасплох, — в том числе и Ленина, — хотя, оглянувшись назад, становилось ясно, что «неожиданные» события лежали на поверхности, кричали о себе на разные голоса, но никто эти голоса слышать не хотел, все были заняты чем-то другим, часто даже тем, что усугубляли надвигающиеся катастрофы, чтобы потом бросить все дотоле важные и наиважнейшие дела и заниматься «неожиданными событиями», и если все-таки благополучно прошли меж Сциллами и Харибдами минувших катастроф, то исключительно потому, что враги большевиков оказались еще менее способными проходить между ними. Теперь, когда борьба за личную власть практически выиграна и следует лишь поддерживать в партийном аппарате определенный настрой, Сталин смог оглядеться и постепенно придти к выводу, что если и далее следовать курсом ортодоксального марсксизма-ленинизма, то это значит постоянно двигаться наперекор каким-то историческим закономерностям, которым следует большинство народа. И не только русского, составляющего большинство, но и всякого другого. Можно какое-то время идти наперекор этому течению, но тогда в итоге непременно останешься в одиночестве, без поддержки народа, и будешь уничтожен своим же окружением.
Может быть, это случится не скоро, но случится обязательно. Сталин чутьем человека, вышедшего из народных глубин, чувствовал эту опасность и видел, что большая часть партийной верхушки ее не только не чувствует, но и всячески эту опасность разжигает своими безоглядными действиями. Так было во время коллективизации и борьбы с кулачеством, когда азарт и слепая ненависть перехлестывали через край, так продолжается и сейчас, хотя и не в таких масштабах, все более переходя в борьбу между отдельными бюрократическими группировками.
И еще. Прав Ницше, говоря, что каждое практическое дело требует своей элиты. Однако всякая элита хороша до тех пор, пока то дело, на котором она созрела, способствует росту государственного и общественного организма. Как только дело закончено, элиту необходимо либо уничтожать полностью, либо частично, а оставшуюся часть распылять по другим элитам. Нынешняя властная элита, так называемый «тонкий слой революционеров», организовалась на революционной фразе «военного коммунизма» и гражданской войны, она неплохо проявила себя в разрушении прошлых устоев, в борьбе с народными предрассудками и отсталостью взглядов, в подавлении глухого сопротивления осколков старого сознания в период массовой коллективизации и раскулачивания. Другого она не знает и не хочет знать. Она своего добилась, достигнув потолка своих возможностей, стала тормозом для государственного строительства. Да и самой революции, ибо революция приняла другие формы и другое направление.
В то же время нынешняя элита, как и сам Сталин, кожей чувствует глухое сопротивление народных масс, но видит в нем совсем не то, что видит Сталин, — она видит это сопротивление как сопротивление именно своему засилью во всех органах власти, своему вторжению во все сферы исконной народной жизни, своему господству. И в этом своем заблуждении она будет идти до конца. Воспользоваться этим заблуждением, которое на практике чаще всего выражается разрастающейся подспудной борьбой кланов, тяготеющих к тем или иным лидерам, вытеснить старую гвардию из властных структур: она свое дело сделала! — и заменить ее на гвардию новую, где задавать тон будут исключительно профессионалы своего дела, вот что нужно на данном историческом этапе. Без такой замены невозможно дальнейшее движение вперед.
Сталину вспомнилась его последняя ссылка в Туруханский край, споры о национальных особенностях, традициях и обычаях и о том, как все это сказывается на революционных процессах. Не все, конечно, но большинство ссыльных были уверены, что в России может быть только русская революция, поскольку в ней доминирует русский рабочий класс, хотя и признавали равенство революционеров всех наций перед лицом Мировой Революции. Другое дело, что мало кто верил в возможность революции именно в России, тем более отдельно от развитых европейских стран. Но все сходились на том, что желание евреев идти в революцию наособицу, иметь свои сугубо национальные партии и союзы вроде Бунда и Еврейского рабочего союза, противоречит марксизму, принципам пролетарского интернационализма, что национальный социализм не построишь, а если и построишь, то не социализм, а господство одной нации над другими, что евреи, возглашая неограниченную свободу, сами же эту свободу втискивают в националистические рамки, в политическое и духовное гетто.
Однажды после очередного спора, когда ссыльные разошлись, Сталин остался вдвоем с Каменевым, с которым снимал половину крестьянской избы. Каменев не принимал участия в споре, поглядывая на спорщиков со снисходительной усмешкой человека, знающего истинную цену произносимым словам. Сталин уже разделся и лег, а Каменев все ходил по горнице от двери к печке и обратно и вдруг заговорил, заговорил с той ленивой небрежностью, которая шла не от теорий, а от внутреннего убеждения.
Сталин хорошо запомнил слова Каменева, как он запоминал все, что так или иначе характеризовало человека с неожиданной стороны.
— Ты думаешь, Коба, русские способны на революцию? Ты думаешь, они способны на созидание? — спросил Каменев, остановившись напротив лежанки. И, не дождавшись ответа, продолжил: — Выйти стенка на стенку — вот все, что они могут. Подраться и разойтись. Так было на Сенатской площади в декабре 1825 года, так было и в пятом году. Даже если случится революция в Германии, Австро-Венгрии и во Франции, — а именно там она и случится в ближайшие десятилетия, — русских еще надо будет долго раскачивать для того, чтобы они присоединились к этой революции. Русские — анархисты по природе. Об этом говорил еще Герцен. Они против диктата любой социальной системы. Даже коммунизма. Для Герцена, Белинского, Достоевского, Толстого и прочих русских писателей личность выше общества и государства. А эти люди лишь отображают глубинные чаяния всего русского народа. В то же время такое свободолюбие, такой анархизм в этом народе уживается с имперской властью, с тоталитаризмом. Вся штука в том, чтобы заставить русских драться против русских же не на жизнь, а на смерть. Стенька Разин был силен казаками, которые себя русскими не считали; Емелька Пугачев — татарами и башкирами, для которых резать русских было наслаждением и мщением за свою несвободу и порабощение. Да и с чего русским драться иначе?! — воскликнул Каменев с возмущением. — Еще Маркс заметил определенную закономерность жизненной позиции так называемых титульных наций. Посуди сам: русский народ угнетается только его же, русской, буржуазией и его же, русской, царской властью. Все остальные народы России угнетены дважды и трижды: и той же русской, и своей буржуазией, и той же царской и своей феодальной властью, и вдобавок ко всему — самим же русским народом как носителем имперского самосознания, национализма и шовинизма. Только мы, малые нации и народности, можем толкнуть русских на революцию и заставить русских драться друг с другом. Поэтому все революционеры-нацмены должны быть вместе, поддерживать друг друга и подавлять в русских всякий намек на сопротивление нашему пониманию его роли в революции. И в истории вообще. Если мы этого не сделаем, то русские, немного подравшись, помирятся и тут же начнут резать всех остальных. Поэтому еврейские партии и союзы — это реальная сила, которая перестанет быть таковой, едва распылится среди партий объединенных национальностей. Вот это и есть самая голая и неприкрытая правда, а стыдливые слова о культурной и всякой иной автономии, ничего не значат.
Тогда Сталин даже и не пытался возражать Каменеву: он сам думал примерно то же самое, но не знал, как примирить жестокую правду жизни с теориями, которые были бы приемлемыми для всех. В то же время ему и в голову не приходило создавать отдельную грузинскую социал-демократическую партию как часть общерусской, хотя она и существовала де-факто, но — исключительно по своей слабости — не была способна проводить отдельную политику, отличную от других.
Да и жизнь подтвердила в дальнейшем, что спайка нацменов в русской революции семнадцатого года, называвшаяся интернационализмом и братством народов всех национальностей, осуществилась, доказала свою живучесть и право на существование. Если бы не эта спайка, русская революция скорее всего захлебнулась бы в собственной крови. Именно эта спайка вынесла Сталина наверх — и он это хорошо понимал, чтобы не разбивать эту спайку, ибо она была тот сук, на котором он сидел. В то же время еврейская струя в этой спайке была преобладающей и крепла год от года в попытке подчинить своему влиянию все остальные струйки и даже потоки. Но со временем некогда монолитная еврейская струя стала дробиться, разбавляться инородными струями, что тоже сыграло Сталину на руку. Однако еврейская струя еще была жива и продолжала оказывать влияние на весь разнородный поток. Более того, в последнее время эта струя получила как бы второе дыхание, обрела новую консолидацию в борьбе за власть. Сталин видел это и понимал грозящую ему опасность.
Да, знания хороши, однако без опыта они мало что значат. Как говорил Пушкин: «ученье сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Именно так: сокращает. Но не отменяет. И часто опыт и знания человека, даже облеченного большой властью, мало что значат без опыта и знаний подвластного ему народа. Здесь должна существовать некая гармония. Если ее нет, неизбежно насилие: либо власти над народом, либо народа над властью. А эти неизбежные насилия и есть опыт, который со временем ложится в основу теории.
Но насилие не может быть вечным…
«… придать хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно для наших практических целей».
Впитывая в себя новые знания, Сталин вместе с тем понимал, что далеко не все разберутся в сложных переплетениях разнообразных идей, следовательно, и книги, подобные книгам Ницше, нельзя давать в руки всем без разбора, иначе многообразие и противоречие идей внесет хаос и сумятицу в неустоявшееся общественное сознание, превратит в хаос само существование народа и государства, как многообразие толкования Христа ведет к созданию различных сект и вероучений, часто исключающих друг друга и раскалывающих народы.
Теперь-то, казалось Сталину, он более отчетливо — по сравнению с прошлым — видел, откуда и почему такие люди, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Орджоникидзе, Ягода, Косиор… кто там еще? — и русский Бухарин вместе с ними, — и многие другие, давно утратившие связь со своим народом, имеют столь отличные от его, Сталина, взгляды на жизнь и общественное развитие: эти взгляды есть следствие их воспитания, образа жизни, замкнутости в некоем узком сообществе людей, подолгу оторванных от родины, ее корней, объединенных недовольством существовавшими порядками, невозможностью реализации своих способностей и энергии в чуждой и враждебной им среде. Это был их жизненный опыт, определенным образом соединившийся в их сознании с полученными знаниями и определенным же образом претворившийся в поступки. Они все страстно хотели изменить среду обитания, то есть основы чужой народной жизни, приспособить их к себе по своему разумению, не понимая самой среды и не желая даже принимать во внимание ее особенности. Изменить и подчинить себе. Они и сейчас так же страстно желают того же самого, — желают власти. Этих людей невозможно переделать.
Рассуждая о других, Сталин себя в виду не имел: он как бы возвышался в своем сознании над законами природы и человеческих отношений, не подчиняясь им и от них не завися. Для него теперь важнейшей задачей становилось ввести эти человеческие отношения в русло наиболее простейших и полезнейших с практической точки зрения актов, где все ясно и понятно до последней точки не только ему самому, но и любому неграмотному рабочему и крестьянину. Ницше лишний раз подтвердил то положение, что любая истина относительна и становится таковой в результате внушения и самовнушения, традиций и общественного развития. Следовательно, если что-то внушать народу, так именно то, что он сам готов принять как неоспоримую истину. И одной из таких неоспоримых для народа истин является сильная и даже неограниченная власть.
От внутреннего возбуждения Сталин то и дело потирал правой рукой левую и щурил табачного цвета глаза: рассуждения Ницше о природе власти, во многом, по мнению Сталина, спорные, а иногда и просто мало понятные, запутанные, опирающиеся на какие-то другие, не менее сложные философские построения, окольными путями натолкнули его на мысли, на которые эти рассуждения вроде бы и не рассчитаны, то есть на то, как эти рассуждения могут быть применены в сугубо практической плоскости. А плоскость эта казалась Сталину такой: всякая власть есть следствие исторического развития, то есть фатально неизбежна, и всякое действие лица, стоящего во главе власти, правомерно и исторически оправдано. Все остальное не имеет ни малейшего значения. Он был уверен, что знал это и без Ницше. Ницше лишь укрепил его в своем знании и умении выделять главное.
Судя по всему, и Гитлер следует тем же путем, но с другими целями. А когда он говорит, что главный враг для него есть еврейский большевизм, верить этому могут лишь наивные люди. Потому что главный враг для Гитлера есть Россия: он наследник всех Фридрихов и Карлов, которые всегда зарились на восточные жизненные пространства. А национал-социализм есть очередная схема, придающая «хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно для… практических целей» Гитлера и его окружения. Все так просто и ясно, как… как вот это море, то есть наше о нем представление.
Глава 15
Море лежало перед Сталиным огромной чашей, наполненной до краев не водой, а чем-то живым, будто неким студенистым существом с обнаженными нервами, в эти минуты сонно-равнодушным ко всему остальному миру. Волны казались не волнами, а то ли чуткими щупальцами, которыми существо разглаживало края чаши, то ли жабрами, которыми оно дышало в разнеженной полудреме. От каменно-песчаной чаши, оправленной в густой малахит буйной растительности, исходил жар остывающего дня, от полусонного существа — запах йода, будоражащий воображение и заставляющий пристально вглядываться в сиренево-сизую дымку, затянувшую горизонт, точно оттуда вот-вот что-то выплывет, загадочное и удивительное.
Большое красное солнце погружалось в эту дымку; от него через все тело огромного студенистого существа пролегла широкая светящаяся полоса, которая сонно шевелилась и отливала перламутровой рябью обнаженных нервов.
Вдоль берега в сторону Грузии, рисовавшейся воображению такой же сонной и равнодушной, как лежащее у ее подножия море, молча тянули чайки, предвестницы надвигающегося шторма, устало взмахивая косыми крыльями. Стая диких уток металась над светящейся полосой, то припадая к ней, то взмывая вверх, и вдруг исчезла из виду, растворилась в густеющем вечернем воздухе. Цепочка длинношеих бакланов скользила над переливчатой гладью, цепляя ее кончиками острых крыльев, оставляя на ней расходящиеся круги. Все к чему-то готовилось, все спешило туда, где спокойнее и тише, где не коснется их надвигающаяся буря.
Сталин в море купался обычно ближе к сумеркам: не желал, чтобы видели его голым, со всеми неправильностями его тела, а в общем — таким же, как все. С некоторых пор он уверовал, что он не такой, как все, что в нем есть нечто, сильно отличающее его от других людей, иначе бы он не поднялся на такую высоту, но это отличие лежит не вовне его, а внутри. Однако люди привыкли судить о себе подобных по внешнему виду, и Сталину представлялось, что кто-то скажет, увидев его голым: «Посмотрите, а ведь он урод! Как же так: урод — и во главе партии и государства?»
Конечно, окружающим его людям и без того известно о его физических недостатках, то есть о сухости левой руки и, как следствие, некоторой диспропорции всего тела, однако это не помешало ему занять то положение, которое он занимает, стало быть, этот его недостаток не имеет никакого значения в глазах этих людей. Впрочем, и сам он всегда присматривался к другим людям именно с точки зрения их физического совершенства, и если обнаруживал какой-то изъян, испытывал удовлетворение от этого: мол, не у одного меня изъяны, у других тоже хватает; когда же встречал людей слишком красивых и физически совершенных, то был уверен, что эти люди наверняка не очень-то умны и уж точно — слишком высокого о себе мнения. Он даже читал где-то, что чем больше у человека физических изъянов, тем больше у него умственных и прочих духовных способностей, как бы обостренных физическими недостатками и недугами. Вот Ленин, например, картавил, страдал какими-то врожденными болезнями, которые и свели его в могилу, воспользовавшись пулевыми ранениями. Есть и другие примеры.
И только Кирова Сталин нисколько не стеснялся, хотя тело Кирова являло собой прямо-таки мужское совершенство и должно было бы вызывать если не зависть, то что-то вроде досады. Нет, ничего подобного. При Кирове, наоборот, было как-то спокойно и уютно, как никогда и ни с кем ничего похожего не бывало. И не только на пляже.
Воспоминание о Кирове на несколько мгновений вызвало глухую тоску и волну ненависти к людям, которые хотя и не впрямую, но все-таки так или иначе причастны к убийству Мироныча, потому что все в мире взаимосвязано незримыми нитями причин и следствий, а Мироныч был единственным человеком, которому Сталин, в чем он теперь был абсолютно уверен, доверял полностью и безоговорочно. И люди, направившие руку убийцы, не могли этого не знать. Даже если убийцей Николаевым, этим жалким ничтожеством, никто не руководил напрямую, он все равно являлся отрыжкой слепой ненависти, нетерпимости к политике Сталина, который в своем государственном строительстве просто не может не опираться на положительное прошлое Российской империи…
Это надо же до чего додумался этот ничтожный Николаев, записав в своем дневнике, что Сталин предал революцию, что он реставрирует монархию, что настоящие революционеры должны бороться против Сталина и его клики. Тут чувствуется связь с так называемой программой Рютина, а если вникнуть еще глубже, в самую суть, — с оппозиционностью Троцкого, Зиновьева, Каменева, а еще точнее — всего того «тонкого слоя революционеров», которые шли в революцию из ненависти ко всему прошлому России. Ненависть в них не остыла до сих пор. И вряд ли остынет когда-нибудь. Эта ненависть сказывается буквально во всем: в бюрократических проволочках наркоматов при исполнении решений партийных съездов, в местечковых интересах секретарей обкомов, крайкомов и нацреспублик, в высокомерии спецов на заводах, фабриках и стройках, в ворчании рабочих, в апатии крестьян к своему ремеслу, в разгильдяйстве военных, в пьянках комсостава и даже в дуэлях, которые приобретают в армии прямо-таки массовый характер, — некий вид всеобщего психоза, но, в то же время, указывающего на стихийное следование обычаям и традициям минувших эпох. Во всем и везде ощущается глухое брожение и сопротивление политике Политбюро, хотя и с разных позиций. Тут сказывается не только инерция, вызванная гражданской войной, борьбой старого с новым, а затем коллективизацией, а еще неспособность перестраиваться, действовать иными методами. Разве что молодежь полна энтузиазма и веры в будущее. Но и за молодежь надо бороться изо всех сил. И закономерно вытекает из самой сущности событий сам собой напрашивающийся вывод: лишь уничтожив «тонкий слой революционеров», кичащихся своей несгибаемостью, а заодно и старых спецов, чиновников и интеллигентов, носителей имперского консерватизма и шовинизма, можно решительно и бесповоротно направить усилия всех народов в единое русло созидания. Моисей был прав: старое поколение должно быть изжито, потому что лишь с новым можно завоевать обещанную богом землю. И если Моисей мог для смены поколений сорок лет водить по пустыне народ Израиля (интересно, что в пустыне ели-пили семьсот тысяч человек? И уж конечно не манну небесную, которая должна была развратить, тем более молодое поколение, израильтян), то товарищу Сталину эти сорок лет история предоставить не может. Дай бог — лет десять. Да и то вряд ли. Так что дело не только в желании или нежелании Сталина. Дело в насущной необходимости проводить такую политику, которая отвечает изменившимся условиям.
Вот, например, решение о вступлении СССР в Лигу наций, советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи — как было не пойти на все это? Да, акты эти не встретили открытого сопротивления ни в партии, ни в обществе, хотя все понимали, что они знаменуют собой фактическое примирение с миром капитала, отказ от курса на мировую революцию, измену идеологическим основам Коминтерна. Не было открытого несогласия и с предложенными изменениями в Конституции СССР, которые должны отменить неравенство граждан по классовому признаку. На ура прошел на втором съезде колхозников-ударников Примерный устав сельскохозяйственной артели, тоже отвечающий далеко не всем догмам марксизма-ленинизма. Однако скрытое противодействие этим шагам все-таки наблюдается, недовольство новым курсом, особенно со стороны старых большевиков, ощущается все сильнее. Недовольство ощущается даже в газетных и журнальных статьях: в полунамеках, в пространных рассуждениях о малозначительных частностях, обильных ссылках на Ленина и Маркса. А как будет воспринято возрождение казачества и возвращение к офицерским званиям? Как будет принято завзятыми революционерами примирение с церковью? Опять промолчат? Или снова загремят выстрелы бывших эсеров, некогда переметнувшихся к большевикам? Количество рано или поздно всегда переходит в качество. Ожидать, когда это случится, могут лишь трусы и недальновидные политики.
А Троцкий именно на это и рассчитывает. Он пишет в своих статьях, что у него в СССР много сторонников, даже в ЦК ВКП(б), что ему известны все секреты Сталина, так тщательно скрываемые от международного коммунистического движения, что он постоянно получает информацию из СССР по всем вопросам партийного, хозяйственного и военного строительства.
Преувеличивает, конечно, но наверняка известно ему многое. Можно было бы с Троцким покончить раз и навсегда хоть завтра, но существование Троцкого и его безудержная ненависть к Сталину сегодня приносят больше пользы, чем вреда. Вот когда будет покончено со всей и всякой оппозиционностью, которую проще всего связать именно с Троцким, только тогда, и ни часом раньше, придет конец и самому Троцкому.
С минуту Сталин бездумно и неподвижно смотрел вдаль, не видя ничего. Только пальцы его беспокойно перебирали края легкого френча, будто отыскивая в нем застрявшую колючку. Потом, очнувшись, он обвел взором горизонт.
Ничего не изменилось: море оставалось таким же сонным, только солнце, еще не погрузившись в воду, наполовину утонуло в дымке, принявшей свинцовый оттенок. На него, на солнце, можно было смотреть, даже не прищуривая глаз.
Когда-то Сталин писал стихи о борьбе добра и зла, но и лирики там хватало. Некоторые он и сейчас помнит наизусть.
Сталин пошарил в своей памяти, извлек оттуда цветистую вязь рифмованных строчек, написанных им еще в семинарии:
Когда луна своим сияньем переплывет надземный свод, и свет ее сквозь расстоянье лучами тучу обовьет, когда небесные порывы прошелестят через леса и на вершине у обрыва ручьев сольются голоса, когда в потоке перекрытом найдутся силы, чтоб опять пробить тропу по горным плитам и никому не уступать, когда с чужбины, неутешный, вернется сын в голодный край, и с просветленною надеждой увидит солнца каравай, когда незрячий и гонимый прозреет в солнечности дня, я успокоюсь. И отныне надежда вселится в меня. И околдованные вежды покинет грусти пелена. Да, мне ниспослана надежда, но так ли искренна она?Он подумал, что стихи не так уж плохи, хотя нагнетание условий для возвращения сына в голодный край может быть бесконечно и к самому возвращению не имеет никакого касательства. И все же, если бы он не был Сталиным, а оставался Сосо Джугашвили, их можно было бы издать отдельной книжкой. Но Сталин и стихи — понятия несовместимые, как голый Сталин, купающийся в море. Он и сам бы смотрел на вождя, сочиняющего стихи, с презрением. Слава богу, что никто из лизоблюдов не додумался сделать эти стихи эталоном поэтического творчества. А лизоблюдов, увы, слишком много, и ожидать от них мржно всяких пакостей. Иные даже политические речи товарища Сталина возводят в ранг художественных… А может, это скрытая издевка? Не дураки же писатели, чтобы не понимать разницу между политической речью и художественной… Впрочем, вождь в глазах народа должен выглядеть… должен сиять подобно солнцу, а такие беспринципные людишки, как Бабель и Мехлис, очень хорошо умеют оформлять это сияние. Так что пусть пока кривляются.
Раздевшись до гола и аккуратно сложив одежду на топчан под грибок, неуверенно переступая кривыми ступнями по расползающемуся в разные стороны сухому песку, Сталин приблизился к воде, потрогал ее ногой, затем стал осторожно входить в воду щупающими шагами.
Говорят, если погружаться в воду постепенно, шаг за шагом, то тем самым можно укрепить нервную систему. При условии, конечно, что эту процедуру повторять как можно чаще. Крепкие нервы вождям особенно необходимы.
Когда вода дошла почти до подбородка, Сталин оттолкнулся от дна и поплыл. Но проплыл всего метров десять и повернул назад: ощущаемая всем телом черная глубина пугала непредсказуемостью и непознаваемостью, заставляя думать о малости и бренности своей плоти, — занятие совершенно ненужное, бесполезное, а в его положении так даже вредное.
Признаться, раньше никаких отвлекающих от дела мыслей он за собой не замечал, но в последние годы, особенно после смерти жены… Неужели как раз в этом и сказывается возраст? Не в физическом и умственном оскудении, а именно в невольном желании заглянуть в какие-то запредельные дали, сокрытые от человеческих глаз. А еще — в томительном неравнодушии к молодым женщинам…
Пока растирался полотенцем, пока одевался, с гор потянуло прохладой, над головой тревожно завздыхали сосны и кипарисы. Но уходить не хотелось. Вздохи деревьев напомнили, как в молодости он впервые увидел море и какое ошеломляющее оно произвело на него впечатление.
Случилось это в Батуми в 1901-м году. Он уже тогда считал себя настоящим революционером, во всяком случае, вполне определил свою судьбу. Но, как оказалось, это были преувеличения молодости. По характеру своему он не подходил для должности революционера. Бунтарь — да, но свобода, равенство, братство — это было не для него. Случись другие обстоятельства, он, Иосиф Джугашвили, сын бывших крепостных крестьян, мог бы стать разбойником, атаманом какой-нибудь шайки. И какое-то время он таки им и был: партии нужны были деньги, деньги принадлежали купцам и банкирам, и Джугашвили, получивший в полиции кличку «Рябой», эти деньги добывал элементарным грабежом организованной им шайки. Энергия в нем била через край, искала выхода. Героями его мечтаний были не Маркс или Робеспьер, а Коба — кавказский Робин Гуд, защитник бедных и обездоленных. При этом Иосиф Джугашвили не столько любил бедных, сколько ненавидел богатых и всякое начальство. В конце концов, бедных любить вовсе не обязательно, как нельзя любить самою бедность. Не любовь движет миром, а ненависть, зависть и страх. Ненависть к богатым и начальству есть оборотная сторона любви к бедным и обездоленным. Но главное, чтобы в любви и ненависти над тобой не было никого: ни царя, ни бога, ни черта, ни отца с матерью. Хочу — казню, хочу — милую…
Теперь он суть Сталин, вождь революционного пролетариата России. Так, во всяком случае, о нем говорят и пишут друзья и недруги. И это недалеко от истины. На пути к высшей власти он обошел всех интеллигентов с их ученостью и высокомерием. Значит, именно он, единственный из всех, единственный из ста пятидесяти миллионов человек, населяющих огромную страну, оказался на правильном пути, единственный, кто понял не только революцию, но и душу народа, эту революцию совершившего… нет! — принявшего в ней участие. А это повыше всякой учености и всяких теорий.
Вот — море, огромное и никому не подчиняющееся. Вот он, Сталин, — такая малость в сравнении с этим морем. Так и с Россией: не то что глазом охватить невозможно, но и воображением. И миллионы людей, и каждый на особицу, и каждый жаждет «придать хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно…» Следовательно, не против шерсти, а по. Угадай желания народа, убеди его, что ты действуешь в соответствии с этими желаниями — и он поверит тебе, пойдет за тобой. Может быть, потом он разберется и поймет, что это не совсем то, чего он желал, и даже совсем не то, и завели его не туда, но это будет потом, когда придут новые поколения. Новые поколения выдвинут новых вождей, но лишь тот из них поднимется на самую вершину, кто сумеет понять свой народ и кто найдет в себе силы отвечать его глубинным интересам.
Сталин был уверен, что он понимает народ, знает его интересы, умеет эти интересы направлять в нужное русло. Он был уверен, что понимает не только народ, как некое целое, которому нужна сильная власть, но и отдельные его группы с их отдельными от народа интересами — и тоже умеет использовать их отдельные интересы ко благу целого. Он уверовал, что никто не имеет права препятствовать ему в определении общих интересов и в способах их удовлетворения. Потому что никто не может знать и понимать действительность так, как знает и понимает ее он, Сталин.
Присев на топчан под грибком, Сталин задумчиво смотрел, как все тоньше и тоньше становится багровая макушка солнечного диска, как наполняется тяжелым мраком морская вода. Теперь перед ним простиралось не живое существо, а бездумная и бездушная стихия, окутывающая сдержанным гулом и шорохами все вокруг: с нервной торопливостью плескались о песок волны, шуршала галька, гудели растрепанными верхушками черные сосны и черные свечи кипарисов…
Как все изменилось буквально на глазах! Как часто что-то меняется в самой жизни и как важно уметь видеть и понимать эти изменения. Иначе — крах. Иначе — смерть. Еще совсем недавно Сталин боялся неожиданных и неподвластных ему изменений, нервничал, замечая их приближение. Теперь он старался упреждать неожиданные изменения, научился отделять опасные для его власти неожиданности от неопасных. Любой неожиданности можно противостоять, когда у тебя в руках неограниченная никем и ничем власть. И никакая цена не может быть слишком большой для удержания такой власти.
Глава 16
Вдалеке прозвучал сигнал автомобиля. Скорее всего, приехал Ворошилов, приехал прямо с маневров Киевского военного округа.
Паукер, начальник оперативного отдела госбезопасности, которого Сталин по старой памяти притащил с собой в Мацесту, уже докладывал, что на маневрах Ворошилов столкнулся с оппозицией некоторых командующих округами во главе со своим заместителем Тухачевским. По словам Паукера, военные разошлись в оценке подготовки войск, их обеспечения техникой, а также использования этой техники в условиях разыгранных сражений между «красными» и «синими», и что Ворошилов в этом столкновении выглядел весьма бледно.
Сталин знал, что многие командующие округами, родами войск и корпусами считают Ворошилова отсталым в военном отношении человеком, что они желают кардинальных перемен в организации войск, в изменении военной доктрины и много чего еще. В том числе и отставки Ворошилова. Сам Сталин пока не решил, на чью сторону ему становиться, хотя прочитывал все, что писали эти военные, отстаивая свои взгляды на современную армию и на способы ведения современной войны. Вместе с тем у него были все основания опасаться разрастания военной оппозиции, ибо сегодня эта оппозиция осуществляется вроде бы исключительно по вопросам тактики и стратегии, завтра, если сдерживать ее устремления, она неизбежно пойдет дальше, то есть свяжет противодействие себе не только с именем наркомвоенмора, но и с именем самого Сталина, покровительствующего наркому. А нарком Ворошилов его устраивает, потому что не стремится решать сам, помимо Сталина, ни одной из задач, стоящих перед армией. Может быть, именно поэтому Тухачевский и его окружение считают Ворошилова дураком. А Ворошилов, хотя человек недалекий, но не дурак, во всяком случае, понимает, что, помимо проблем армии, есть еще десятки и сотни проблем других частей огромного государственного механизма, в котором все должно развиваться гармонично. Военных понять можно, но если военные не хотят понимать других, грош им цена. Такие военные вредны и опасны.
Сталин не принял никакого решения по имеющейся у него информации еще и потому, что полагал за лучшее пока не вмешиваться в распри военных, подождать, во что эти распри выльются, кто и как себя в них проявит. Для него не столь важными были теоретические построения военных доктрин, важнее было другое — кто стоит за этими доктринами и как тот или иной командир относится к товарищу Сталину. Но более существенным был тот несомненный факт, что Ворошилов никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет объединиться с такими людьми, как Тухачевский, Якир, Уборевич и прочие, следовательно, Ворошилову ничего не остается, как изо всех сил держаться за товарища Сталина.
Конечно, танк лучше лошади, а о самолете и спорить нечего, но промышленность еще не готова к тому, чтобы удовлетворять аппетиты военных. С другой стороны, и конница еще не утратила своей боевой мощи, а в иных положениях она может стать предпочтительнее любой техники, которая требует и ремонтных баз, и горючего, и дорог, и мостов, а главное — она требует грамотных кадров. А взять их пока неоткуда. В итоге получится, что на танк сядет крестьянин, который только и может, что подвязывать коням хвосты. Именно этому крестьянину придется столкнуться с западным рабочим, за плечами которого среднее образование и высокая техническая грамотность. Уже сегодня наплыв неподготовленных к работе с техникой крестьян на производство ведет к частым поломкам техники, к ее простоям, к снижению производительности труда. То же самое происходит и в армии. Лозунг: «Техника решает все» пора заменить на лозунг: «Люди, овладевшие техникой, решают все». Времени — вот чего не хватает стране для того, чтобы встать вровень с развитыми странами и во всеоружии встретить надвигающуюся грозу новой мировой войны, — времени и полного единодушия партийных рядов и всего общества.
Между тем сплоченность партии и народа перед лицом военной угрозы — насущная необходимость. Но эта необходимость стоит дорого, требует известного отката с революционных позиций на позиции государственности, требует своего Термидора, выравнивания фронта и отсечения всего лишнего.
Народу нужен враг, на которого можно свалить все его беды. А кто этот враг, — царь, буржуй, военспец, техническая интеллигенция, еврей или кулак, — для народа не так уж и важно. Важно, чтобы враг был конкретным, таким, на которого можно показать пальцем: вот он, бей его! Конкретика — для народа важнее всего. Народ привык к конкретике. Сонм святых, изображенных на иконах, а во главе Бог, — с одной стороны; нечисть в виде чертей, домовых, леших, ведьм и колдунов, а во главе Сатана, — с другой. Так и в реальной жизни. С одной стороны начальство, а наверху Сталин, с другой — всякие враги, а во главе Троцкий и прочие.
Тем более народу не нужны философские мудрствования, а вполне достаточно коротких и четких лозунгов, легко запоминающихся и отвечающих насущным потребностям. «Кадры, овладевшие техникой, решают все!» — просто и понятно. Вот они, кадры: школа, рабфак, ремесленное училище, военное училище, институт, университет, академия — иди, учись и станешь «решать все». «Мудрецам» кажется, что это пошло и примитивно, но это для них, «мудрецов», пошло и примитивно, но не для народа, для которого лозунг не только призыв к действию, но и указание цели. Как в Библии: десять заповедей, полученных от бога, — это для всех, а десятки других — исключительно для посвященных.
«Не познавать, но схематизировать, придать хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно для наших практических целей…» И чем меньше «регулярности и форм», тем доступнее для понимания, тем полезнее с практической точки зрения. Наконец, в политике всегда приходится чем-то или кем-то жертвовать для достижения конечной цели. Так лучше жертвовать тем, что идет вразрез с глубинными интересами государства. И только потом, когда это государство окрепнет, речь можно вести о народе.
Сталин давно готовил себя к такому выводу, но окончательно этот вывод оформился лишь сейчас — за те полтора-два часа, что он провел наедине с морем.
Глава 17
Сталин не ошибся: действительно, приехал Ворошилов. Это подтвердил Карлуша Паукер, поджидавший Хозяина на последней ступени белокаменной террасы. Но не только Ворошилов, но и кое-кто из родственников Сталина по матери и по бывшим женам пожаловали тоже.
Играя плутоватыми глазами, Паукер быстро ощупал, пытаясь угадать настроение, медлительную фигуру Сталина, его неподвижное, изрытое оспой лицо. И, успокоенно хихикнув, по каким-то лишь ему одному понятным признакам сделав вывод, что настроение Сталина вполне миролюбивое и даже дружелюбное, зачастил, подпрыгивая сбоку и клонясь вперед всем своим плотным телом:
— Климушка есть такой-сякой сердитость, о великий Коба! Приехать не один. Приехать свой свита. Товарищ Власик велеть свита не пускать. Я думать: товарищ Власик ожидать, как ваше величество приказать. — И замолчал, заглядывая сбоку на Сталина.
— Климу дай волю, — медленно произнес Сталин, высматривая в темной кроне магнолии восковые чаши цветов, — так он сюда не только куликов, но и ворон московских притащит.
— Так точно есть! Так точно есть! — подхватил Паукер, расплываясь в масляной ухмылке, и, чувствуя хорошее настроение Сталина, затараторил: — Если ты разрешать, я говорить новый анекдот. — Замолчал на мгновение, но, уловив заинтересованный взгляд Сталина, покатил дальше: — Приводить для товарищ Ворошилов новый конь. Товарищ Ворошилов садиться на новый конь und кричать: «Но!» А конь стоять на свой место и… как это по-русски? — ни гу-гу. «Что есть черт?» — спрашивать товарищ Ворошилов. Товарищ Тухачевски ему сказать: «Конь есть механисмус, товарищ нарком. Ездить на этот конь надо три года учить nach академия». Ворошилов слезать и говорить свой товарищ Кулик: «Ты есть должен учиться академия, потом мне рассказать… nach zvei Wort — на два слов. А я — ходить nach mein балерин… э-э… делать любовь».
Сталин перхнул, не раскрывая рта, и зашелся беззвучным смехом. Этот Паукер ничуть не изменился с тех пор, как был его личным брадобреем, хотя и занимает пост начальника оперативного отдела госбезопасности, — то есть как был шутом, так им и остался. Но если его натравить на кого-то, будет рвать зубами и когтями, потому что нынешнее положение его вполне устраивает, он ради этого положения столько лет кривлялся и угодничал перед каждым, кто сильнее его, что теперь готов мстить за это свое прошлое любому, но более всего тем, перед кем приходилось кривляться и угодничать. Доведись мстить товарищу Сталину — так с особым рвением и наслаждением…
Кстати, со временем надо будет ввести и генеральские звания. Уж коли есть маршалы и будут офицеры, уж коль скоро сказал «а»… Но рано еще, рано: генерал пока в сознании определенной части партии есть контрреволюционер и монархист, вызывает в памяти бойкие карикатуры на Деникина, Врангеля и прочую белогвардейщину. Лет через пять-шесть — в самый раз будет.
Возле здания санатория стоял Ворошилов, сиял начищенными сапогами, ременной амуницией, маршальскими звездами, букетом орденов на выпуклой груди, круглым лицом.
Глуп, подумал Сталин с удовлетворением. Зато верен, как собака. И никогда не предаст. Вернее, менее всего способен к предательству. Кстати, это отличительная черта русских как нации. Что же касается того факта, что Сталин грузин, так русские, как выяснилось, вовсе и не против грузина или татарина, или кого угодно, они даже испытывают некую гордость по этому поводу, и за этой гордостью стоит инстинктивное чувство силы своего народа, который способен и немца заставить плясать «Барыню» или петь «Дубинушку» и верить, что это его кровные «Барыня» и «Дубинушка».
А Паукер… этот рядом до тех пор, пока я в силе, нужен ему и кормлю из своих рук. Хуже того, паукеры втягивают в орбиту своего понимания действительности представителей других наций, в том числе и русских, — и это-то самое страшное. Нынче большая часть тех, кто стоит у власти и составляет ее основу, поражены этой паукеровой порчей. Пора менять их на молодых, грамотных и не пораженных микробами властолюбия. Иначе будет поздно.
После того, как Сталин поздоровался с Ворошиловым, к нему кинулось сразу несколько человек, в основном женщин, и, перебивая друг друга, толкаясь, окружили его, целуя и обнимая. Последним подошел Авель Софронович Енукидзе, секретарь президиума Центрального Исполнительного комитета СССР. Он тоже обнял Сталина, похлопывая по плечам и спине, выражая тем самым восторг от встречи, а еще от того, что Сталин жив, здоров и выглядит прекрасно. Все эти люди до поры до времени сидели в Грузии или в других местах, ничем особенно не выделяясь, но по мере того как росло значение Сталина во властных структурах Москвы, они поднимались по ступенькам власти у себя в Грузии, затем стали постепенно перебираться поближе к своему великому родственнику и занимать отдельные кабинеты уже в московских коридорах, беззастенчиво эксплуатируя родственную близость к Вождю. Сталин терпел нашествие этих нахальных дураков, боясь прослыть неблагодарным, нарушающим законы своего народа и родственные обязанности. Он терпел их стяжательство, неразборчивость и наглость, уверенный, что рано или поздно они начнут переходить все пределы дозволенного и тем сами себе выроют яму, в которую и свалятся. Если бы они одни вели себя подобным образом, их можно было бы приструнить. Но рядом с ними родственники многих других советских и партийных чиновников, дорвавшихся до власти, и тоже не упускают возможности ухватить все, до чего смогут дотянуться. Так что давить их поодиночке нет смысла. Придет и их время отвечать за безудержное сластолюбие. Что же касается Авеля Енукидзе, то с ним надо будет разобраться в ближайшее время. Власик докладывает, что секретарь ВЦИКа создал из женщин кремлевской обслуги собственный гарем, и не только из женщин, но и из девочек-малолеток. Сейчас в Кремле работает комиссия Цэка, вот Енукидзе и прискакал на юг искать у Сталина защиты.
И Сталин, дав Авелю себя потискать, отстранился от него со словами:
— Я тебе не девочка, чтобы меня лапать, — повернулся и пошел в дом, никого не пригласив, зная, что его родственникам приглашение и не нужно.
И точно: все тут же потянулись за ним следом, продолжая шумно выражать свой восторг по случаю приезда и встречи с любимым товарищем Сталиным. При этом особенно назойливо выражала этот восторг жена Шалвы Элиавы, заместителя наркома внешней торговли СССР, забивая всех остальных своим визгливым голосом.
За ужином Ворошилов рассказывал о маневрах, для наглядности двигал по скатерти бокалы, тарелки, ножи с вилками. Волновался, как мальчишка на выпускных экзаменах.
— Якир играл за «синих», Уборевич — за «красных», — порхал над столом его мягкий, полухохлацкий говорок. — Тухачевский — координатор. Якир наступает пехотной дивизией при поддержки броневой бригады. На флангах у него кавалерия. Входит в огневое соприкосновение с Уборевичем. У того пехота в ячейках, кроет залповым огнем и пулеметами. Якир подтягивает артиллерию и танки. Все идет нормально. А Тухачевский… — Ворошилов отставил в сторону бокал с недопитым вином, подергал верхней губой, сердито посмотрел на Молотова, будто тот и был Тухачевским. — Веришь ли, Коба, он приказывает прекратить игру и собирает совещание… Ладно, я не вмешиваюсь, потому как он тут за главного. А я кто? Я всего лишь нарком обороны…
— Это не так мало, Клим, — тихо произнес Сталин и отпил из своего бокала.
— Я понимаю, что не так мало. Но ведь сам назначил его руководить учениями — вот в чем штука. Не отменять же свой собственный приказ… Так вот, я к чему все это веду? Я веду к тому, что ученья должны быть приближены к боевой обстановке. Вот к чему. А в боевой обстановке не заставишь прекратить стрельбу и тех и других. Если ты не наступаешь, тогда наступать будет противник. Азбука! А Тухачевский… он останавливает игру и что же он заявляет? Он заявляет, что немцы так наступать не станут. Он заявляет, что немец попрет тараном, что он сосредоточит на главном направлении столько сил, сколько нужно для обеспечения подавляющего превосходства. Спрашивается, откуда ему знать, как поведет себя немец? И почему именно немец? Ведь если даже и немец, то непременно в союзе с поляками: у пшеков кавалерия, у немца ее, считай, нету: всего одна дивизия. А без кавалерии какой маневр? Никакого. Азбука!
— Тухачевский был у немцев на маневрах, общался с их генералами, — снова перебил порхающий говорок Ворошилова тихий голос Сталина. — А ты, Климушка, не был.
— А наркому обороны СССР вовсе не обязательно шаркать по немецким передним, — с солдатской прямотой выпалил Ворошилов и посмотрел на Сталина с испугом: он побаивался Сталина, побаивался его еще с Царицына, и даже раньше, и никак не мог преодолеть в себе эту робость. Но отступать было поздно, да и обида была еще свежа в памяти, и Ворошилов в отчаянии покатил дальше: — И не с германских маневров это у Тухачевского, а оттого, что начитался всяких фантазий бывших царских генералов, которые сегодня на лесоповале…
— Ну и ч-что д-дальше? Ч-что т-там Т-тухачевский т-твой? — поспешил остановить Ворошилова Молотов, очищая ножом большое красное яблоко.
— Дальше? Что дальше? — вскинулся на Молотова Ворошилов, точно конь, голову которого свернули набок железные удила. — А-а, дальше! Дальше я не выдержал, вмешался. Говорю: если так будем учить войска, они ничему не научатся, а у командиров среднего звена создастся впечатление, что мы, командование Красной армии, вообще не знаем, как воевать. — Повел недоуменно широкими плечами, дернул с презрением щеточкой усов. — Будто за пятнадцать лет эти условия настолько переменились, что и сравнивать не с чем. Видали мы танки в гражданскую войну! И что? Жгли их за милую душу. Что такое танк? Подвижная огневая точка. Пулемет и пушка на колесах. Всего-навсего. А из этого некоторые товарищи делают такую трагедию, какой у Шекспира нет в «Леди Макбет».
— Есть еще авиация. В гражданскую случалось, что один аэроплан создавал такой переполох в боевых порядках, какой создает волк в стаде баранов, — вклинился в разговор Микоян, осторожно избегая называть, чьи аэропланы и в чьих боевых порядках создавали переполох.
— Так для того и надо учить бойцов, чтобы не боялись ни авиации, ни тем более танков! — в запальчивости воскликнул Ворошилов. — Тем конница, между прочим, и отличается от пехоты и от тех же танков, что она может быстро рассыпаться при налете авиации и быстро собраться в ударный кулак. А если сосредоточить в одном месте танки, то та же авиация от них мокрого места не оставит. Да еще артиллерия. Сколько раз в гражданскую бывало: сосредоточат артиллерию в каком-нибудь месте, ну, думают, сейчас как жахнем, а противник прознает об этом и наносит упреждающий удар. И все — и нет артиллерии. Маневр массами конницы при поддержки танков и авиации — вот что нам нужно, а не клинья, какими немецкие рыцари ходили в атаку еще при царе Горохе. — И, повернувшись к Сталину всем телом, скрипнув кожей портупеи, воскликнул с обидой в голосе: — Ты как хочешь, Коба, а только я считаю, что Тухачевский и компания слишком ударились в теорию и по своей же теории строят всю практическую работу по обучению войск. А те же немцы их теорий, поди, и не читают… Да и с чего они взяли, что немец станет с нами воевать?! Что ему, немцу, Первой мировой мало?! Или тот же Гитлер не понимает, что СССР — это уже не царская Россия с ее бездарными генералами и продажным царским двором?! Или он не понимает, что как только решит напасть на Советский Союз, так немецкие рабочие тут же его и повесят?! Да и зачем ему Советский Союз? Не Советский Союз навязал Германии унизительные Версальские соглашения, а Франция с Англией. Вот против них он и будет воевать. Если решится. Да только долго они не провоюют: поднимутся рабочие и сбросят их всех к чертовой матери! Так что Красной армии останется пройтись по Европе железной метлой, выметая всю капиталистическую и фашистскую нечисть. Это ж ясно, как божий день! Азбука!
— М-может, п-поднимутся, а м-может, и нет, — тихо заметил Молотов. — П-поляки в д-двадцатом не п-поднялись, хотя К-красная армия стояла от Варшавы в одном п-переходе.
Ворошилов растерянно поморгал круглыми глазами: если Молотов сказал такое, то не исключено, что так же нынче думает и Сталин (у них одна политика на уме), а возражать Сталину Ворошилов отваживался редко.
— Эти военные, — влез вдруг молчавший до сих пор Енукидзе, — мыслят категориями, весьма далекими от марксизма-ленинизма и указаний товарища Сталина. Это чисто механический подход к своей профессии.
— Механический подход к своей профессии наблюдается не только у военных, — ожил Ворошилов, которому было известно нынешнее шаткое положение Енукидзе. И не удержался, чтобы не подковырнуть: — Тебе бы, Авель, в своем хозяйстве разобраться с позиций марксизама-ленинизма, а ты лезешь туда, где ни черта не понимаешь.
— Кое-что и я понимаю! — вскинулся Енукидзе, но тут же и погас под косым взглядом Сталина.
— Ах, мужчины! — воскликнула Анна Элиава с притворным возмущением. — В кои-то веки вас посещают женщины, а вы все о своем и о своем! Что касается меня, то я всем говорю: судьба дает тем, кого она выбирает для осуществления своей воли, и только таких людей надо слушать и следовать за ними, куда они указывают. Давайте выпьем за нашего родного и любимого Иосифа! Пусть ему всегда сопутствует удача. А мы за ним, как за каменной стеной.
Женщины зашумели. Иные даже захлопали в ладоши. Но восторженный шум тут же и оборвался под хмурым взглядом Сталина.
— За каменной стеной ничего, кроме стены не увидишь, — произнес он будто самому себе, но бокал поднял и пригубил.
Сталин слушал и не слушал запальчивые речи Ворошилова: эти речи повторяются не в первый раз, в их монотонной повторяемости уже заключена порочность, свидетельствующая о косности мышления и нежелании менять привычный уклад жизни.
В Климушке, хотя он и поддерживает во всем товарища Сталина безоговорочно, все-таки крепка старобольшевистская жилка, которая с разрушительной силой проявляется в других. Разница лишь в том, что у тех, других, эта жилка нацелена против товарища Сталина, а у Ворошилова — не против Сталина, а против изменений вообще. Радикальная революционность его пугает так же, как и сдача уже завоеванных революционных позиций. Для Климушки лучшее — враг хорошего. В этом все дело. Потому-то он не желает ничему учиться, потому-то он так нетерпимо относится к Тухачевскому и его единомышленникам. Правда, и те тоже хватают через край. Увы, все хватают через край. А в политике крайности, как доказала практика, особенно вредны.
Сталин искоса глянул на Ворошилова, удрученно катавшего по скатерти хлебный мякиш: небось, рассчитывал, что Коба тут же отдаст распоряжение о снятии Тухачевского с занимаемой им должности заместителя наркома обороны. Наверняка рассчитывал, хотя и не настолько глуп, чтобы не понимать элементарных вещей. Или власть так портит людей, что они утрачивают чувство реальности? Даже странно, что этот человек когда-то — еще при царе — яростно выступал против существовавших порядков, затем с бешеной энергией и решительностью отстаивал советскую власть… Впрочем, ничего странного: тогдашние порядки мешали луганскому слесарю Климу Ворошилову, нынешние его вполне устраивают… Всех почему-то устраивают. Всех, кроме товарища Сталина.
И Сталин вспомнил свою первую встречу с Ворошиловым. Произошло это в Баку. Их ночной разговор о партии, ее вождях, о революционном движении и своем в этом движении месте продолжался до самого утра. Оба были не удовлетворены тем, что движение ориентировано на заграницу, что именно там пишут музыку, а танцевать приходится здесь, в России, и танцы эти не всегда заграничной музыке соответствуют. Еще обоих раздражало, что в местных комитетах упорно пытаются верховодить евреи, которые к рабочему классу никакого отношения не имеют, а в загранице — так там лишь Ленин да Плеханов, а вокруг них всякие Мартовы, Даны, Аксельроды, Засуличи.
Правда, Сталин осторожные речи Ворошилова воспринял тогда как недовольство русского человека соперничеством представителей других народов. Сам Сталин в ту пору к русским относился с предубеждением: ему, как и многим, казалось, что русские и в революционном движении ведут политику на продолжение своего имперского господства, тем более что в Закавказье влияние русских на тамошние партийные организации было незначительно, зато евреи… На евреях они и сошлись.
После этого разговора Сталин написал статью, которую поместил в руководимой им газете, а в той статье привел шутку Алексинского, члена заграничного большевистского ЦК: мол, меньшевики — еврейская фракция, большевики — чисто русская, так не пора ли нам, большевикам, устроить в партии маленький еврейский погром?
Бакинские евреи очень обиделись на эту «шутку» и даже попытались исключить Кобу из партии. Статья дошла до заграницы, и Ленин, поговаривали, тоже был от нее не в восторге. Но Сталин своего добился: на очередных перевыборах многих евреев в комитет не переизбрали. Правда, и русских в нем тоже почти не осталось. Зато врагов Сталин нажил себе много и с тех пор старательно избегал повторять подобные «шутки».
Уже тогда Клим подпал под влияние Сталина, и все потому, что сам лишь чувствовал неудовлетворенность своим положением в партии, но не мог публично ее выразить. Да и побаивался выражать. Сталин не побоялся. А поскольку оба вышли из народных глубин, оба молились одному «революционному богу», то просто обязаны были найти общий язык. И они его нашли. Однако это был язык Сталина, но не Ворошилова, что, впрочем, вполне устраивало обоих. Но все это происходило до революции, о которой можно было только мечтать. Когда же она свершилась, Сталин вспоминал о тех, кто к нему благоволил.
Ужин еще продолжался, когда Сталин встал и, ничего не сказав, пошел к выходу. Взявшись за ручку двери, обернулся, поманил Ворошилова пальцем, открыл дверь и вышел. Он шел по длинному коридору, но ни разу не оглянулся, слыша, как Климушка тяжело дышит ему в затылок водочным перегаром. И в кабинете, показав Ворошилову на стул возле рабочего стола, молча стал набивать трубку табаком и, лишь затянувшись дымом, коротко приказал:
— Рассказывай.
Круглое лицо Ворошилова, красное от жары и выпитой водки, стало багровым: он не знал, о чем ему рассказывать, ему казалось, что он все рассказал за столом. Но если Сталин приказал рассказывать, то это означает, что он хочет услышать что-то еще, что-то такое, что Ворошилов упустил из виду.
Клим напрягся, полез в карман за портсигаром, щелкнул крышкой, стал выуживать из него папиросу непослушными пальцами. В голове метались всякие не идущие к делу мысли. Показалось, что Сталин неспроста зазвал его в кабинет, что он сейчас решает, что делать с Ворошиловым — не послать ли его в отставку или что-нибудь похуже?
Жадно затянувшись дымом и отерев с лица обильный пот, Ворошилов откашлялся и заговорил, преданно заглядывая в неподвижное лицо Сталина:
— Так что ж рассказывать-то? Ну, сцепились, поругались. Я один, а за спиной Тухачевского почти все: и Якир, и Эйдиман, и Путна, и Примаков, и Уборевич, и… Спасибо Буденному: он решительно встал на мою сторону. Да Кулик еще. А так, считай, в полном одиночестве.
— Считаешь, что это заговор? — тихо прозвучал голос Сталина, и вопрос точно повис в воздухе, повторяясь многократно в голове наркома.
От этого вопроса Ворошилову стало еще страшнее: согласиться, что заговор — так вроде заговора нет, не соглашаться — неизвестно, что об этом думает Коба. Может, у него имеется информация о том, что заговор действительно существует. И тут Ворошилов вспомнил, что по линии внешней разведки к нему поступала информация, будто Тухачевский снюхался с немцами и ведет с ними тайные переговоры. Да и Коба не зря помянул о присутствии Тухачевского на маневрах вермахта. Тут что-то есть. Не может не быть: Коба зря словами не сорит.
— Заговор? А что, очень может быть. Я тебе уже докладывал о данных внешней разведки. Дыма без огня не бывает… — кинулся будто в ледяную воду Ворошилов, преданно заглядывая в глаза Сталину.
— Дыма без огня не бывает, — как эхо повторил Сталин. — Но и современной армии без необходимых нововведений тоже не может быть. Или ты считаешь иначе?
— Коба! Побойся бога! Когда я так считал? — воскликнул Ворошилов. — Все дело именно в необходимости нововведений и их достаточности. Я ж понимаю. Но нельзя же рубить с плеча. Сегодня подай им танковые корпуса, завтра — армии. Это ж такие махины, их от чужих глаз не спрячешь. А ремонтные базы, а склады с горючим и боезапасами… На телеге за танком не угонишься, тем более что автотранспорт у нас желает, как говорится, много лучшего.
— Вот-вот. А некоторые товарищи все еще кричат… — медленно цедя слова, заговорил Сталин, искоса поглядывая на Ворошилова, будто тот и был тем товарищем, который кричит, — кричат, что товарищ Сталин решил своей индустриализацией изнасиловать матушку-Россию. Только окончательные дураки не понимают, что новая война есть война моторов. А моторы без моторных заводов не построишь. Моторные заводы, в свою очередь, не построишь без металлургических, не построишь без шахт и рудников, без электростанций. А все вместе — без грамотных рабочих, инженеров и техников. Нам никак нельзя повторять опыт Николашки, то есть кидаться в драку хуже подготовленными и вооруженными, чем, скажем, Германия… Кстати, ты читал записки бывшего царского военного министра Куропаткина? — И замолчал, плямкая губами, выпуская изо рта густые струи дыма.
— Читал. Правда, не очень внимательно, все как-то на ходу и на бегу: времени нет, то одно, то другое…
— Выходит, у меня одного есть время читать книги, — проворчал Сталин. — Выходит, одни вы только и работаете, а товарищ Сталин один среди вас дурака валяет. А между тем именно тебе надо с лупой изучить опыт Куропаткина. Тебе и твоим подчиненным. Чтобы не наделать таких же глупостей…
— Я все понимаю, Коба, — стал оправдываться Ворошилов. — И собираюсь прочесть эту книгу повнимательнее. Хотя там этот бывший министр слишком расшаркивается перед царем-батюшкой…
— Ему положено расшаркиваться, — перебил Ворошилова Сталин. — Он этому царю-батюшке присягал. И не на это надо обращать внимание, а на то, как сам Куропаткин понимал и объяснял войну с японцами, каков его взгляд на историю войн, которые вела Россия в течение последних двух веков. А вела она их не готовой, как правило, к этим войнам. И чем дальше, тем все более отставала от Германии и Австрии. И мы от них отстаем. И твой Тухачевский об этом знает. Более того, он уверен, что нам придется воевать именно с Германией. Другое дело, что он слишком забегает вперед…
— Так я о том же самом и говорю! — воскликнул Ворошилов. И добавил смиренно: — И я всегда поддерживал все твои начинания, Коба. И впредь, как говорится… Ты ж меня знаешь.
— Я тебя знаю, Клим. Поэтому советую: ты прислушивайся к Тухачевскому и другим командирам, вникай в их теории, в их предложения. Но одерживай, чтобы слишком не зарывались, чтобы по одежке протягивали ножки. Промышленные штанишки у нас коротковаты, едва коленки прикрывают. Это учитывать надо. А войска пусть учат так, как считают нужным. Тут они на правильном пути. Кстати, красноармейца надо учить не только тому, как чучело штыком проткнуть, но и грамоте, обращению с техникой. Кадры сегодня выдвигаются на передний план, кадры должны решать все. Но не всякие кадры, а овладевшие техникой, овладевшие знаниями. А то, как всегда, упустим время, на войне не наверстаешь.
Провел по усам кончиком короткого чубука, вяло махнул рукой.
— Ладно, иди.
Но едва Ворошилов переступил порог кабинета, произнес ему вдогонку:
— Ты, кстати, тоже учись, Климушка. Мне безграмотные наркомы не нужны.
Ворошилов замер, медленно повернулся к Сталину, открыл было рот, но Сталин насмешливо бросил:
— Закрой рот и дверь… с той стороны.
И снова мысль вернулась к Ницше, но не непосредственно, а к тем ощущениям, что он вызвал своей книгой.
Троцкий твердит на каждом углу, что в СССР может случиться русский националистический переворот, во главе которого встанут Ворошилов и Буденный, ибо за ними армия. В результате этого переворота Сталин будет свергнут, установится военная диктатура, ничего не имеющая общего с коммунизмом. Или этот переворот возглавит сам Сталин. У Троцкого всегда взаимоисключающие «или-или»…
А по линии госбезопасности, Ворошилов прав, идет информация из германских источников, что заговор против Сталина готовят Тухачевский и другие военные, в который Ворошилов с Буденным не входят, что заговор этот строится на тесном взаимодействии с германским генералитетом.
С Троцким более-менее ясно: он пытается столкнуть товарища Сталина с его ближайшим окружением. Указывая на Ворошилова, он, к тому же, отводит удар от своего ставленника Тухачевского. А вот зачем Тухачевского убирать немцам? Какая им выгода? Одно из двух: либо они подыгрывают Троцкому, либо здесь замешаны англичане и французы, для которых возможный союз Германии с СССР смерти подобен… В любом случае, правы ли немцы или Троцкий, есть заговор или нет, а только армию тоже поразила бюрократическая зараза. С такой армией много не навоюешь, ее тоже надо чистить. И весьма основательно. Во избежание всяких неожиданностей…
Глава 18
Последний месяц — где-то с самого начала октября — Василий Мануйлов жил в постоянно усиливающейся лихорадочной тревоге. Тревога возникала в нем сразу же, едва он открывал утром глаза. Ему казалось, что он опаздывает, не успевает что-то сделать очень нужное, что-то такое, что он еще не знает и сам, но что должно изменить его жизнь в лучшую сторону или, во всяком случае, сделать ее другой. Он уже и не замечал, как эта непонятная тревога сделала его торопливым и нетерпеливым. Он ходил широкими шагами, чуть наклонившись вперед, словно преодолевая сопротивление ветра; он ел, почти не жуя, обжигаясь и захлебываясь; он и работал за своим верстаком лихорадочно-поспешно, и вовсе не потому, что его подстегивали промфинплан и соцобязательства, ударничество и прочие вещи, а все из боязни опоздать и пропустить что-то важное, значительное. Или даже не успеть разглядеть.
Иногда Василий останавливался в своей торопливости, или кто-то его останавливал на бегу, и тогда он замирал, с недоумением оглядывался по сторонам и видел, что никто никуда не спешит, никто ни о чем не тревожится, но через минуту-другую забывал о том, почему остановился и зачем оглядывался, снова его охватывала гнетущая тревога, он снова начинал торопиться.
Взглянув на будильник, который мог зазвонить когда ему заблагорассудится, и отметив, что стрелки еще не дошли до шести часов утра, Василий тихонько, чтобы не разбудить Марию, выбрался из-под одеяла, поспешно натянул брюки и отправился на общую кухню умываться, тревожно прислушиваясь к тишине спящей квартиры. Помимо этой тревоги и постоянной торопливости, которые уже никак от него не зависели, а скорее наоборот — он зависел от них, Василий не любил торчать в очереди к раковине и туалету, не любил толкаться среди жильцов, поэтому вставал на полчаса раньше других и все делал без помех.
Приведя себя в порядок, Василий поставил на керосинку чайник и возвратился в свою комнату. Он уже допивал чай, когда проснулась квартира и стало слышно, как открываются двери, появляются люди, зевают и здороваются друг с другом сонными голосами, как ворчит в туалете сливаемая вода, как шаркают по крашеному полу подошвы и как тридцатипятилетняя разведенка Сара Фурман, работающая кассиршей в продмаге, зовет из окна свою рыжую кошку Софи, большую любительницу ночной охоты на птиц и другую живность.
— Кис-кис-кис-кис-кииис! — кричит Сара умильным голосом. — Софочка моя! Лапочка моя! Иди, иди уже к своей мамочке!
В коридоре толстая и ровная, как мраморная колонна Исаакия, пятидесятилетняя вдова Авдотья Колодьева, передергивает с отвращением своими пудовыми телесами, ворчит окающим басом:
— Ишь, разоралась мымра ерусалимська, людям спать не дает! Кис-кис-кииис! — передразнивает она Сару. — Того и мужик от ей ушел, что мымра. Сама людям сдачу неправильно сдает, прикарманиват, а туды же — рреволюцанерка! — с гадливостью произносит тетка Авдотья последнее слово и скрывается за своей дверью.
Раньше тетка Авдотья вместо «мымра ерусалимська» употребляла выражение «мымра жидовська», но с тех пор, как Сара Фурман подала на нее в суд за оскорбление своего национального и революционного достоинства, а суд по этому иску приговорил Колодьеву к штрафу и публичному извинению перед Фурман, тетка Авдотья перешла на «мымру ерусалимську», однако так, чтобы Сара Фурман ее слышала, но не видела, чтобы не было в коридоре свидетелей, но чтобы все жильцы при этом слышали тоже.
Суд над Авдотьей Колодьевой перессорил жильцов второго этажа: Сара Фурман привлекла свидетелями публичного оскорбления практически всех жильцов, от мала до велика. И это бы еще полбеды. Так нет же, она обвинила на суде и всех остальных соседей в молчаливом соучастии в оскорблении, а также в антисемитизме и контрреволюционности. Слава богу, суд не принял во внимание это обвинение, но страху люди натерпелись: обвинение было серьезным и могло повлечь за собой весьма серьезные последствия для всех без исключения. Обошлось. Зато после всех этих страхов охотников оказаться в роли свидетелей уже не было: едва появлялась в коридоре тетка Авдотья, как большинство жильцов точно ветром раздувало по своим углам, и тетка Авдотья могла хоть таким образом мстить своей ненавистнице. А заодно без помех пользоваться туалетом и кухней.
Впрочем, на Сару Фурман все это, похоже, не оказывало никакого влияния. Она ходила по квартире так, точно была ее полновластной хозяйкой и лишь от нее одной зависела свобода и даже жизнь всех остальных жильцов. И даже тетки Авдотьи. Не слышать «мымры ерусалимськой» Сара не могла, и все в квартире были уверены, что она лишь ждет случая, чтобы как-то подловить тетку Авдотью и снова привлечь ее к ответственности. Потому-то одни жильцы были за Сару и стелились перед ней, как коврики для вытирания ног; другие молча держали сторону Тетки Авдотьи. В любом случае, тихая эта война не прекращалась ни на минуту, держа в напряжении всю квартиру, и рано или поздно должна была кончиться чем-то более значительным, чем жутко пересоленными чьими-то щами или пованивающей керосином кашей.
Слава богу, Василий и Мария начало этой войны не застали, а узнав о ней, стараются держатся от нее в стороне. А еще им повезло, что одно окно их комнаты выходит на противоположную сторону дома, а другое в торец, так что умильный голос Сары Фурман, зовущий свою Софи, сюда доносится едва-едва.
Василий двигается по комнате бесшумно, так что ни половица не скрипнет, ни стул не громыхнет, ни ложка о стакан не звякнет. К тому же он большой аккуратист: все вещи у него лежат на своих местах, как лежит инструмент в ящиках рабочего верстака, протяни руку с закрытыми глазами — не ошибешься.
Мария спит и ничего не слышит. Не слышит она и голоса Сары Фурман, едва доносящийся с другой стороны дома.
Вчера вечером Мария почувствовала себя плохо, ей даже показалось, что пришла пора рожать, хотя по срокам вроде бы еще рановато, и она то начинала собираться в роддом, то, схватив Василия за руку, смотрела в его глаза расширенными от страха черными глазами, и что-то говорила ему про то, что если она умрет, чтобы он тут же женился на какой-нибудь бездетной женщине, которая не станет злой мачехой для ее ребенка, потому что мачеха… И начинала в сотый раз рассказывать, как тяжело ей было с мачехой, что не знала она ни материнской ласки, ни заступничества, что не чаяла скорее вырасти и уйти из дому.
Василий, как мог, успокаивал ее, но на душе у него становилось так тоскливо, хоть вой.
Мария спит на спине, ее живот остро приподнимает ватное одеяло и слегка колышется при дыхании. Василий с опаской посматривает на этот выступающий холм и никак не может взять в толк, что скоро, — может быть, завтра, — станет отцом. Он не представляет себе, как это будет, ему вспоминается сестра Полина, ее дети, возня, грязные и остро пахнущие пеленки, горшки, крики, плач, писк и постоянное волнение и страхи. Неужели все это придет в эту маленькую комнату, нарушит покой, что-то отнимет у него из того, к чему он привык и без чего, кажется, не сможет обойтись?
Разглядывая спящую Марию, Василий не чувствует к ней никакой любви. Он вообще ничего не чувствует к ней, и ему кажется, что так было всегда и всегда будет именно так. Но он гонит от себя все и всякие мысли, связанные с Марией, впрочем, как со своим будущим, со своей болезнью и невозможностью продолжать образование. Если начать задумываться, то остается только лезть в петлю и ничего больше. Все надежды, все мечты — коту под хвост. Впереди серость и никакого просвета. Как в сырой осенний день, когда вдруг густой туман ляжет на город, и куда ни посмотришь — туман и туман, и ни деревьев не видать, ни домов.
Мария спит, ее распухшее и подурневшее лицо слегка повернуто в его сторону, короткие жесткие волосы чернеют в полумраке на белой подушке. Дышит она тяжело, и время от времени болезненная гримаса кривит ее распухшие, потрескавшиеся губы.
Вчера они легли поздно. Где-то уже ближе к полуночи Мария вдруг решила, что надо самой идти в роддом, что пока Василий вызовет карету скорой помощи, пока та приедет, пока то да се…
Они оделись и вышли на ночную улицу.
Крупные звезды проклюнулись по всему небу, посылая на землю таинственные сигналы острыми, как иглы, лучиками. Кому предназначаются эти сигналы? О чем они предупреждают? Может, о чем-то ужасном, что сокрыто в белом молоке Млечного пути, о чем почти в полном безветрии ропщут старые сосны? Может, сосны видят и понимают сигналы звезд, и страх перед грядущим заставляет их роптать и тоже о чем-то предупреждать легкомысленных существ, тревожащих их корявые корни?
Василий и Мария медленно шли в прозрачной темноте ночи. Под ногами нет-нет да и похрустывал тоненький ледок вымороженных лужиц. Мария крепко держала Василия за руку обеими руками, часто останавливалась, к чему-то прислушиваясь. В ней тоже жила тревога и тоже гнала ее в неизвестность, не давая задерживаться на одном месте.
Может, эта ее тревога ожидания материнства передалась и Василию?
По Светлановскому проспекту еще катили редкие трамваи, погромыхивая и высекая голубые искры из невидимых проводов. Василий предложил доехать до роддома на одном из трамваев, но Мария отказалась. И непонятно было, куда она идет, к чему прислушивается, закусив распухшую губу. Но Василий не спрашивал ее ни о чем, не направлял ее движения, чувствуя, что это не нужно и даже вредно.
Вскоре Мария остановилась и сказала, что все прошло, и надо возвращаться домой.
И вот она спит.
Василию скоро идти на работу, а он не знает, идти ему или остаться. Правда, на всякий случай у него есть договоренность с теткой Авдотьей, что та присмотрит и, если что, вызовет «скорую». Тетка Авдотья работает уборщицей в соседней школе, рабочий день у нее начинается во второй половине дня, но даже и тогда она может отлучаться и присматривать за Марией. На тетку Авдотью можно положиться.
Василий последний раз взглядывает на часы, вздыхает, одевается, выходит в коридор и тихо стучит в соседнюю дверь. Дверь приоткрывается, и тетка Авдотья, одетая во все черное, шепотом спрашивает:
— Уходишь?
Василий кивает головой.
— Спит?
— Спит.
— Ну иди, голубок, иди, — говорит тетка Авдотья воркующим голосом и ласково смотрит на Василия. — Иди, я догляжу за Маней-то, не беспокойсь.
— Спасибо, тетя Дуся, — говорит Василий и торопливо идет к двери. Ему кажется, что чем скорее он придет на работу, тем скорее кончится день, и он снова окажется дома возле Марии, сможет помочь ей и уж во всяком случае сам отправит ее в роддом.
Почему-то последнее представляется Василию особенно важным.
Но прошел еще день, и еще. И еще. Наступил ноябрь. Чем ближе надвигались праздники Октябрьской революции, тем возбужденнее становился город и окружающий Василия народ, тем тревожнее, торопливее и лихорадочнее жил Василий, хотя вовсе не из-за праздника.
В мире что-то совершалось, какие-то события волновали людей, а Василий смотрел на всех с изумлением, не понимая, зачем эти волнения, какое кому дело до Испании, до оппозиционеров-зиновьевцев и троцкистов, когда у него, у Василия, чахотка, у Марии страх, что она переносит ребенка и умрет, или ребенок родится каким-нибудь уродом. Зачем, наконец, эта бессмысленная война в их квартире и зачем стараются втянуть его то на сторону тетки Авдотьи, то на сторону Сары Фурман? Все глупо, ненужно, бессмысленно. Как сама жизнь.
Заработки у Василия хорошие, в цехе его ценят. Но и это не радует Василия. Он все чаще и чаще возвращается домой под хмельком, успевая перехватить полстакана с такими же, как и он сам, неудачниками. Только те неудачники, скорее всего, и сами не знают, что потеряли в своей жизни или не нашли, а он знает точно, и от этого еще горше жить на белом свете. Правда, он никогда не задерживается в их компании, не ведет пьяных разговоров «за жисть». Проглотив сто двадцать пять граммов водки и запихнув в рот кусок колбасы с хлебом, быстро уходит, жуя на ходу, своей стремительной походкой, почти убегает: ему кажется, что дома без него что-то случилось или вот-вот случится. Он вскакивает на повороте в движущийся мимо трамвай, выскакивает из него за сто метров до остановки, едва тот поравняется с тихим переулком с высокими старыми соснами.
Он спешит, спешит, но куда и зачем, ответить не может.
Пятого ноября, уходя с работы домой, Василий зашел в каморку к мастеру предупредить, что, может быть, завтра он или не придет совсем, или опоздает.
— Что, подперло? — спросил Евгений Семенович, отрываясь от своего «гроссбуха», и Василий почувствовал, что тот ему завидует.
— Да у нее не поймешь, — пожал плечами Василий. — Это я так, на всякий случай.
— Вот на всякий случай садись к столу и пиши заявление: мол, так и так, прошу предоставить отгул по семейным обстоятельствам. А число не ставь. Обойдется — придешь на работу, нет — сам поставлю. А то сам, небось, знаешь, что за прогул могут дать?
— Знаю…
— Вот и я о том же. Ну, давай пиши, — показал на стул Евгений Семенович и выложил перед Василием лист бумаги и ручку. Но едва Василий обмакнул перо в чернильницу, спросил: — Как назвать-то решили?
— Кого?
— Сына, разумеется.
— Еще не знаю. Мы договорились с женой: если сын — она называет, если дочь — я. — Подумал и уточнил: — Дочь назовем Людмилой.
— А-ааа. Что ж, красивое имя. Хотя, скажу тебе, с подтекстом: милая людям.
— Разве плохо?
— Как сказать.
Василий задумчиво обвел глазами тесную каморку, задержался на миг на блестящей лысине мастера.
— Мне нравится, — отрезал он и заскрипел пером по бумаге.
Глава 19
За проходной на пронизывающем ветру топтался Димка Ерофеев, ежил широкие плечи, втягивал голову в воротник поношенного пальто.
— Здорово, — тиснул он руку Василию. — Как жизнь? Скоро на крестины звать будешь?
— Какие крестины? — удивился Василий.
— Да это я так, в шутку. Но все равно: рождение и имя отметить положено.
— Положено сперва родить.
— Вот я и спрашиваю: скоро?
— На днях или раньше.
— Точнее не скажешь. Домой?
— Домой, — замялся Василий, который стеснялся своего растущего пристрастия к выпивке.
— Пойдем — провожу.
— А тебе разве не в институт?
— Каникулы, — коротко бросил Димка. Но потом пояснил:
— У нас, понимаешь ли, двух преподавателей взяли: врагами народа оказались. На прошлой неделе на партсобрании их вычистили из партии, а вчера взяли в ГПУ.
— И что они преподавали? — спросил Василий, смирившись с тем, что выпить сегодня не удастся.
— Один — истпарт, другой — истмат. А у нас как раз сегодня политдень. Вот и гуляем.
— Наверстаете.
— Само собой.
Возле продмага Василий замедлил шаг, произнес с надеждой:
— Может зайдем? Отметим встречу: давно не виделись.
— Что ж, давай зайдем. Только я боюсь, Маня нас не попрет?
— Да нет, не попрет, — успокоил Василий, хотя и знал, что Мария будет недовольна. И, чтобы окончательно развеять сомнения друга, добавил: — Она уже какой раз спрашивала, как там Димка. А я ей одно то же: нормально, мол, живет, хлеб жует.
— Так оно и есть на самом деле, — согласился Димка. И спросил: — Как Таисия, заходит?
— Иногда. А вы что, поссорились?
— Да ни то чтобы поссорились, а, как бы тебе сказать: разошлись на идейных основаниях…
— Это как то есть? — Василий даже остановился от неожиданности.
— Да так: прознала она, что я сидел, вот и… Говорит, почему скрыл с самого начала? А я разве скрывал? Я ничего не скрывал. Я просто не говорил об этом. Зачем? Не станешь же каждому встречному-поперечному сообщать, что сидел и что с тебя эту судимость сняли… Правда, условно. Но сняли же! — возмущенно воскликнул Димка. И пояснил: — Потом бы сказал. Для такого признания нужна особая причина, нужны веские основания. Да.
— А теперь?
— Что теперь?
— Основания…
— Все шло к этому, и все уже в прошлом.
Василий поискал слова, чтобы утешить друга, но на ум приходили слова весьма неубедительные. К тому же Димкино разочарование перекликалось с его собственным, а он и для своего не может найти нужных слов.
Еще издали Василий заметил, что в угловом окошке на втором этаже не горит свет.
— Свет не горит, — в растерянности произнес он и остановился. Но тут же сорвался с места и кинулся к дому, взлетел на второй этаж, пробежал по коридору к своей комнатенке и возле самых дверей столкнулся с теткой Авдотьей.
— Отправила я твою Маню в роддом, — ворчливо произнесла тетка Авдотья. — Как сердце чуяло: помыла кабинет директора — и домой. А Маня уж собралась, стоит в коридоре, за стенку рукой держится. Я сразу смекнула: началось. Кликнула соседского Мишку, послала за «скорой». Только уложила ее — вот те и «скорая». Увезли. Может, уж и родила: дело-то не шибко хитрое.
— В какую больницу? — выдохнул Василий.
— Да в нашу же…
— А-а… — И Василий, крутнувшись на месте, кинулся к выходу, чуть не сшибив кого-то с ног на темной лестнице.
Димка Ерофеев молча последовал за ним, прижимая к груди пакет с водкой и закусками.
В роддоме сказали, что Мария еще не родила и пусть муж зря не ждет, под окнами не топчется, а приходит завтра в любое время. Все равно свидания не будет, а часом раньше узнает или часом позже, мир не перевернется.
— Пойдем, — сказал Димка и потянул Василия за рукав. — Завтра перед работой заскочим.
Василий молча подчинился другу. Торопиться на сей раз было некуда. В душе его установилось гнетущее безразличие ко всему на свете. Подумалось даже: «Хорошо бы, если бы Мария умерла. И ребенок тоже». Почему это было бы хорошо, почему ему так подумалось, тоже не имело никакого значения. Мало ли что думалось ему в прошлом. А лучше, когда не думается вообще.
Вечер Василий и Димка провели за бутылкой. Говорили мало. Да и о чем было говорить? Все давно переговорено.
Димка не одобрял отстраненности Василия от мира, его безразличия, но хорошо понимал своего друга, потому что сам когда-то прошел через это, знал, что словами тут не поможешь и уговорами ничего не изменишь, что Василию надо переболеть, от чего-то, некогда желанного, отвыкнуть, к чему-то, нежеланному, привыкнуть. Все проходят через одно и то же.
Вот и сам Димка привык к тому, что на нем несмываемое клеймо судимости, что приходится еженедельно, преодолевая себя, писать отчет обо всем, что видел и слышал на заводе и в институте и нести эту бумагу, называемую политдонесением, в первый отдел. Правда, вносит он в свои политдонесения далеко не все: иногда человек ляпнет что-то, не подумавши, а человек-то в основном хороший — Димка-то уж точно знает, а вставь его ляп в донесение — и нет человека. Если бы Димка не прошел через тюрьмы и лагерь, через следствие и Соньку Золотую Ножку, он, скорее всего, писал бы все подряд. А после такой школы сто раз подумаешь, прежде чем вписывать человека в бумагу: потом не отскоблишь ни человека, ни самого себя.
— Ты на кого рассчитываешь — на парня или на девку? — спрашивает Димка в темноте. Он лежит на раскладушке, закинув руки за голову и смотрит в потолок. Ему кажется, что если бы Тайка не повела себя так принципиально, он бы женился на ней и ждал бы, конечно, сына.
— Мне как-то все равно, — отвечает из темноты Василий. И добавляет: — Маня хочет, чтобы у нас были и сын и дочка.
— Это хорошо, — мечтательно соглашается Димка. И добавляет: — Я бы сына назвал Владимиром… В честь Ленина. Да и само имя мне нравится: владетель мира. Это тебе не фунт изюму.
— Х-хы, владетель мира! — усмехается Василий. — Если бы от имени зависело, владеть или не владеть, таких бы имен напридумывали… А моя вот решила, что если будет сын, назвать его Виктором. Лично мне не нравится.
— Почему?
— Буржуйское имя.
— Ерунда! Имен не бывает ни буржуйских, ни пролетарских. Я имею в виду старые имена, — поправился Димка. — Конечно, буржуй своего сына не назовет Владленом или Кимом. Или Смебуром. У нас один папаша назвал — от смерть буржуям произвел. Смешно. А Виктор — совсем не плохо: Победитель по-гречески. Глядишь, маршалом будет. Зря ты на это имя окрысился.
— Да я не окрысился, а так как-то… Не привык. А иногда кажется, что я его из-за этого имени меньше любить буду.
— Ну, это ты, скажу тебе, совсем уж в ерунду полез. Любить меньше — скажешь ведь такое… Сын ведь! Сы-ын! Понимать и чувствовать надо! Чудак, право слово…
И долго слышалось, как Димка вздыхает и ворочается на своем неудобном и коротком для его длинного тела ложе.
На другой день встали рано. Быстро позавтракали, по пути на работу заскочили в роддом. Справочная еще была закрыта, но они — особенно Димка расстарался — пристали к какой-то тетке в белом халате, проходившей через холл, и упросили узнать, что там и как Мануйлова Мария.
Через несколько минут вышла совсем еще девчушка в таком же белом халате и в белой же шапочке, из-под которой выбилась густая рыжеватая прядь. Девчушка недовольно оглядела парней усталыми прозрачными глазами, сурово свела к переносице тонкие брови:
— Это вы Мануйловой Марией интересуетесь? — И, получив утвердительные кивки, накинулась на парней: — Вы что, товарищи, совсем, что ли? Саму завотделением акушерства, товарища Сметанину, заставили ходить и узнавать. Совести у вас, товарищи, нету и сознательности. А небось, комсомольцы. Товарищ Сметанина всю ночь глаз не сомкнула, у нее два кесарева сечения за ночь было, пять разрывов промежности, а вам, видать, делать нечего…
— Да мы ж откуда знали, что это завотделением? — оправдывался Василий заискивающе. — Если б знали…
— Ты вот что, товарищ, — выступил вперед Димка Ерофеев. — Ты нас не совести. Это ты привыкла ко всему, а мы первый раз через это проходим, мы, может, на работе план не выполним по причине волнения и переживания. Или промфинплан, по-твоему, ничего не значит? Так что давай выкладывай, с чем пришла.
— И нечего мне грубить, — устало сказала девчушка, тоже, видать, глаз не сомкнувшая за ночь. — Я бы и так вам сказала… Мануйлова Мария сейчас в родилке. Начались схватки. Должна скоро родить. Все идет нормально. Пока без осложнений. Это все.
— Ну, спасибо тебе, товарищ, — поблагодарил Димка девчушку. — Звать-то тебя как?
— Это к делу не относится, — отрезала девчушка, нахмурила чистый лобик, повернулась и пошла по коридору, тоненькая, как тростиночка, и очень важная.
Димка проводил ее тоскующими глазами.
— Ты, Вась, вот что: ты оставайся, подожди результатов. Все равно сегодня шестое ноября, день предпраздничный, сам знаешь, какой. Да и заявление у тебя написано. А я после работы к тебе заскачу… Коляски-то у тебя нету? Или как?
— Я в комиссионке на очереди стою. Обещали на днях прислать открытку.
— А остальное приданное?
— Да Маня вроде бы все приготовила.
— А детскую кроватку?
— Это я сделаю сам. Заготовки у меня уже есть. Подогнать, зашкурить и лаком покрыть — вот и вся работа. За праздники успею. Матрас осталось купить. Ну, это с получки.
— Ну, ладно. Оставайся, а я побежал. Мастеру твоему скажу… Да, — остановился Димка, — если с деньгами нужда появится, скажи: у меня есть кое-что.
— Спасибо. Думаю, что обойдемся.
— Ну, смотри.
К восьми часам в холле возле справочной уже толпился нетерпеливый народ. Все больше пожилые мужчины и женщины. Василий сидел на кожаном продавленном диване под пальмой, поглядывал на людей, ждал, клевал носом.
Только в девять открылось окошко. Василий первым сунул в него голову. Женщина полистала книгу, произнесла будничным голосом:
— Мануйлова? Мария Васильевна?
— Да-да, Мария Васильевна, — подтвердил Василий пересохшими губами.
— Родила мальчика. Вес четыре двести. Мамаша и ребенок здоровы. Поздравляю. Палата тридцать четвертая. Какие передачи можно — в инструкции на стене. Следующий.
Василий отошел от окошка. Услыхал, как какая-то женщина из очереди за его спиной произнесла с горестным вздохом:
— Ос-споди! Все мальчики да мальчики. Не иначе — к войне. Спаси и помилуй.
— Типун вам на язык, — проворчал хрипловатый мужской голос.
Другой мужской голос, молодой и звонкий, весело и беспечно пообещал:
— Пусть только сунутся — всем морды понабиваем. Видали какие у нас танки? Четыре башни! Две пушки, три пулемета! А самолеты? Лучшие в мире! Как жахнем — одни ошметки полетят. Это вам не восемнадцатый год! Те-ехника!
Василий вышел на улицу.
Шел снег. Крутила поземка. Ветер нес по замерзшей земле снежинки, перемешанные с пылью, пожухлую листву. Домой не хотелось. На работу опоздал. Лучше совсем не ходить. Тогда куда?
Сзади хлопнула дверь. Василий обернулся. Девчушка, что выговаривала им сегодня утром, остановилась и, повернувшись спиной к ветру, стала застегивать крючок на тоненьком демисезонном пальто. Увидев Василия, улыбнулась ему, спросила:
— Ну, как, узнали?
— Узнал. Мальчик, — ответил Василий, глупо улыбаясь.
— Ну вот. А вы переживали. Поздравляю. Цветов жене купите обязательно.
— Цветов?
— Ну да. Сейчас это разрешено. И очень даже правильно. Некоторые считают буржуазными пережитками, а женщине приятно. Так это ваш сын? Или того товарища?
— Мой.
— А-аа… Еще раз поздравляю. Всего хорошего, — и вприпрыжку сбежала по ступенькам вниз.
— Подождите! — спохватился Василий. Он догнал девчушку, пошел рядом с ней. — Я, если можно, немного пройдусь рядом с вами. Просто так. Признаться, не знаю, куда себя деть.
— А работа?
— Да я взял отгул. Так, написал заявление на всякий случай, а оно как раз и вышло…
— Значит, жена в роддом, а вы за девушками ухаживать? Так, что ли?
— Да нет, что вы! — испугался Василий, которому действительно было отчего-то так одиноко, что он готов был уцепиться за кого угодно. — Нет-нет! Вы не так поняли. Я все эти дни ходил, как помешанный, — неожиданно признался он. — В голову лезло всякое. Да и Маня — она все чего-то боялась, иногда ужасно как боялась, говорила, что умрет, не сможет родить… Вот я и…
— У многих перворожениц бывает такое настроение. Не вы первый, не вы и последний. Все обошлось. Сын у вас — это ж понимать надо!
— Я понимаю.
— Да нет, вы еще не понимаете, — снисходительно отвергла его уверенность девчушка. — Вы потом поймете, когда он подрастет немного, когда улыбнется вам, произнесет первое слово…
— А вы откуда знаете?
— Я? Я работаю медсестрой и учусь на акушерском факультете института.
— Вон оно что… А мы с приятелем подумали… Кстати, он тоже в институте учится, а зовут его Дмитрием, — зачем-то сообщил Василий. Может затем, что Димка как-то очень уж странно смотрел на эту девчушку, с каким-то сожалением, что ли, что эта девчушка не его. Дура Тайка, конечно. — Так вот, мы с Димкой подумали, что вам и лет-то — не больше шестнадцати, — предположил Василий, явно занизив года.
Девчушка засмеялась, довольная, и сверкнула на него блестящими зрачками. Почти как у Марии, только значительно крупнее.
— Меня Василием зовут, — добавил он. И спросил: — А вас?
— Меня? — Девчушка подумала мгновение, ответила: — Меня — Любой. — Поинтересовалась: — А вы, что же, не учитесь?
— Нет, не учусь. Не всем же быть инженерами. Кто-то должен и у станка работать.
— Да, конечно, — согласилась Люба, но как-то очень уж скучно, из вежливости, скорее всего. И заспешила: — Мне в ту сторону, так что до свиданья, Вася.
И хотя Василию тоже было в ту сторону, то есть к трамвайной остановке, он с минуту стоял и смотрел на удаляющуюся невесомую фигурку Любы в тоненьком и, видно, очень холодном пальто, смотрел с болью и жалостью.
Снежный вихрь налетел на девчушку, заставил ее согнуться и пойти боком. Вот она пересекла трамвайные линии, остановилась, повернулась к Василию лицом. Из-за поворота выполз трамвай, девчушка махнула Василию рукой, и трамвай тут же заслонил ее своим дребезжащим телом. Когда он отъехал, на остановке никого уже не было.
Василий побрел в сторону дома. Долго перед его глазами маячила тоненькая фигурка девчушки с поднятой рукой, то выплывая из снежной пелены, то растворяясь в ней, и от этого почему-то на душе было тепло и не так одиноко. А еще он почувствовал, что торопиться ему совершенно некуда. Может, оттого, что родился сын и все теперь пойдет по-другому; может, еще и потому, что впервые вслух признал свое поражение в борьбе с неумолимой действительностью, признал и ничего страшного не произошло: рабочим так рабочим.
Глава 20
Димка Ерофеев стоял на задней площадке прицепного вагона трамвая, подремывал: последнее время он хронически не высыпался. На работе еще держался, и даже без особого напряжения, но в дороге и на лекциях — хоть караул кричи: глаза слипаются, в ушах звон, голова сама падает на грудь, и тут хоть из пушек пали, хоть за уши дергай, проснуться нет никаких сил. Димка даже думал, не пойти ли ему к доктору, но постеснялся: подумает, что симулянт. Кто-то из все знающих стариков сказал, что это от нехватки витаминов, посоветовал пить отвары из сосновых и еловых почек. Но где их взять, эти почки? Лес, правда, рядом, но времени — вот чего Димке всегда не хватает. Так вот и висел он почти постоянно между сном и бодрствованием, даже во сне, — такое у него было ощущение.
В вагон то заходили люди, то выходили, Димку то притискивало к стенке вагона, то на площадке становилось так просторно, что хоть пляши. По этим большим или меньшим наплывам людей Димка, не открывая глаз, безошибочно определял, где остановился трамвай и какой будет следующая остановка. До института от завода трамваю трястись минут сорок, так что можно и подремать.
На пересечении проспекта Володарского с улицей Кирочной опять нахлынуло народу, кого-то прижали к Димкиному боку, похоже — женщину, женщина выставила острый локоть, уперлась им в Димкин бок. Димка чуть шевельнулся, но локоть еще сильнее вдавился в бок — и Димка открыл глаза.
Он увидел у себя почти под подбородком синюю беретку, весьма потертую и засаленную, черный с проседью локон волос с крошевом серой перхоти, выбившийся из желтого лисьего воротника, в ноздри ему повеяло запахом дешевых духов и еще чего-то застарелого, затхлого, как от бабкиного сундука, запахом знакомым и пугающим. Он сдвинул локоть женщины своим локтем чуть в сторону, но женщина тут же нервно дернулась и попыталась восстановить прежнее положение. Ей это не удалось, она вскинула голову, вывернула ее — и на Димку с ненавистью глянули черные провалы глаз с испитого костистого лица.
От этого запредельного взгляда у Димки по телу побежали мурашки: перед ним стояла следователь с Ореховой Софья Оскаровна Гертнер, по прозванию Сонька Золотая Ножка. От неожиданности Димка даже перестал дышать, но взгляда не отвел.
— Чего дергаешься? — прохрипела Сонька. — Ехаешь уже, так и ехай, не дергайся: не один в транспорте. — И отвернулась. Но локоть все-таки убрала.
Впрочем, Димка даже и не почувствовал этого. Не то чтобы память его тут же подсунула ему никогда не забываемую картину жестокой и изощренной пытки, которой подвергла его Сонька Золотая Ножка, вовсе даже нет, а просто в нем все опустилось и отупело, и лишь через минуту отозвалось ноющей болью где-то в самом низу живота, болью, о которой он стал позабывать.
Димка стоял и смотрел сверху, не в силах отвести взгляда, на синий берет и выбившуюся из желтого воротника жесткую прядь заперхотевших волос, вдыхал запах дешевых духов и еще чего-то душного и чувствовал, как его начинает бить мелкая дрожь, покалывать кожу и сводить до боли стиснутые челюсти. Ясно, до мельчайших подробностей, вспомнился банный вечер в таежной прокопченной избушке, голые тела беглых зэков, послышался возмущенный голос Пашки Дедыко: «Та я б ее зубами, зубами!..», — и на синей беретке прорезались Пашкины выпученные черные глаза, неподвижно уставившиеся в сырое небо, — и в глазах самого Димки стало темнеть, темнеть, но на него снова надавили, и это спасло его от близкого обморока.
Одна, другая остановка, кондукторша прокричала: «Проспект Дзержинского!» — и Сонька стала пробиваться к выходу. Трамвай тронулся — Димка с трудом перевел дух, но тут какая-то сила толкнула его, он кинулся вслед за Сонькой, энергично работая плечами, продрался к дверям сквозь плотную массу людей и выскочил на ходу из вагона, успев заметить, как Сонька поворачивает за угол.
Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Димка пустился догонять Соньку. Повернув за угол на проспект Дзержинского, он увидел ее так близко от себя, что неожиданно остановился, тупо глядя на плоскую спину женщины и ее нелепо желтый воротник.
Сонька семенящими шагами шла в сторону Адмиралтейства, то есть в сторону Управления госбезопасности, на бывшую Гороховую, 2. Значит, она все еще работает там и, быть может, сегодня же вечером или ночью будет заниматься тем же самым с каким-нибудь другим человеком, чем когда-то занималась с Димкой Ерофеевым.
Сонькино «занятие» Димка никак не мог назвать допросом, тем более следствием. Несмотря на все пережитое им в заключении, оно, это «занятие», не вязалось в его представлении с образом чекиста, тем более самого Дзержинского, именем которого назвали бывшую Гороховую улицу. В этом занятии он видел что-то унизительное не только для допрашиваемого, но и для самой Соньки. Ему казалось, что и ей должно быть стыдно заниматься подобными делами, но ее, скорее всего, заставляет тот ужасный человек с голосом соседа по коммуналке Иоахима Моисеевича Катцеля, который издевательски звучал из ярких пучков света, направленных на Димку, привязанного к стулу:
— Сонья, ти слийшишь, что из себья вообьязьил йетот пьейльетайий? Он, вийдишь ли, самий пьейедовой, а ми с тобой… Хто, скажьи на мьивость, тогда ми с тобой, Сонья?
Сонька перешла Мойку по Красному мосту. Димка последовал вслед за нею всего шагах в тридцати. Ему ужасно хотелось еще раз заглянуть в провальные глаза Соньки, испытать холодок ужаса и на что-то решиться. «Та я б ее зубами, зубами!» — стучало у него в мозгу мотающейся от ветра незакрытой форточкой. Но Сонька шла не оглядываясь; ей, видать, и в голову не приходило, что кто-то может преследовать ее на знаменитой Гороховой. Она один лишь раз остановилась, чтобы закурить, при этом повернулась к Димке боком, а к ветру со стороны Ладоги спиной, затем продолжила свой путь, и над ее головой время от времени вспухало голубоватое облачко дыма и тут же уносилось в сторону и рассеивалось.
И Димке показалось, что все это с ним происходит во сне. Только раньше во сне ему виделась Сонька, подвигающаяся к нему, привязанному к стулу, вихляющей походкой, слышалось во сне змеиное шуршание ее шагов — и он просыпался от боли. Теперь он сам шел за Сонькой, не зная зачем, и ему не верилось, что в этой плоской женской фигуре с ярким желтым пятном заключена именно та ужасная Сонька Золотая Ножка из следственной камеры. Эта и та не совмещались, невозможно было представить, что та — настоящая женщина, что она ест и пьет, как все люди, спит на нормальной кровати, чувствует холод и жару, ездит в трамвае и ходит по улицам Ленинграда. Тем более невозможно было представить, что у нее есть дети, муж и даже родители. Казалось, что она взялась из ничего и ниоткуда, что ее, как Адама, вылепили из глины, но забыли вдохнуть в нее душу, что она только и способна на то, чтобы делать свое постыдное «дело», что, наконец, она никогда не выходит из «казенного дома», что именно там она возникла из мрака его подземелий. И если даже убить эту идущую впереди женщину, та Сонька Золотая Ножка не исчезнет, потому что никуда не исчезнет страшный человек из света, с его корявыми словами и гнусным хихиканьем.
Вот уже стали хорошо различимы при редком свете фонарей ограда и деревья Адмиралтейского сада, вот Сонька повернула и вошла в подъезд, уронив на тротуар искуренную папиросу. Димка остановился: дальше идти не было смысла. Не в подъезд же вслед за Сонькой.
Рядом скрипнул снег под чьими-то ногами, простуженный голос произнес ворчливо:
— Ну, чего встал? Проходи давай, проходи! Здесь стоять не положено.
Димка с испугом оглянулся и увидел милиционера в буденовке с застегнутыми под подбородком наушниками, в длинной шинели, перекрещенной желтой портупеей. Сзади виднелась стеклянная будка, которой Димка не заметил. Впрочем, он вообще ничего не замечал, кроме прямой и плоской спины идущей впереди Соньки и желтого пятна на ней.
Ничего не сказав милиционеру, который, похоже, ожидал от него каких-то объяснений, Димка развернулся и зашагал назад по бывшей Гороховой: до начала занятий оставалось минут двадцать, а до Технологического института еще топать и топать. Димка же опаздывать не привык.
Милиционер потянулся было к свистку, висевшему у него на шнурке под самым подбородком, но пальцы у него от холода стали такими нечувствительными, что он никак этот свисток нашарить не мог, так что в конце концов плюнул в сторону удаляющейся спины подозрительного гражданина и вернулся в свою будку.
Глава 21
Шел десятый час, когда Димка выскочил на улицу из дверей института, на ходу застегивая свое поношенное пальто. Но спешил он не домой, а в роддом, где сегодня в ночь дежурила Любаша. С тех пор, как он увидел ее впервые во время посещения роддома вместе с Василием Мануйловым, она запала ему в душу, и не было такой свободной минуты, чтобы он не видел ее сердитого лица и глаз, в которых было столько щемящей незащищенности, что Димке иногда казалось, что вот именно в эту самую минуту, когда он думает о ней, ее кто-то обижает или пытается обидеть.
Димка еще дважды с Василием посещал роддом, встречал с ним вместе Марию с сыном, но Любашу так больше и не видел. Помог Василий же: он однажды, возвращаясь с работы домой на трамвае, заметил Любашу, стоящую на остановке, выскочил из трамвая и… и чего-то наговорил ей такого, что она назвала два дня в неделю, когда ее можно встретить у ворот больницы, идущей домой после дежурства.
Лишь один из этих дней приходился на свободный от занятий в Димкином институте. И в первый же такой день, то есть в среду, он поехал к больнице, но Любаша вышла из ворот не одна, а с другими девушками, и Димка не решился к ней подойти. Так длилось и одну неделю, и другую, еще и еще. На трамвайной остановке стайка девушек распадалась, дальше Любаша ехала с подругой. Димка поодаль сопровождал их до самого дома. Девушки прощались между двумя подъездами и тут же скрывались каждая в своем.
Иногда Димка замечал, что Любаша оглядывается на него, потом стали оглядываться и другие девушки, но он делал вид, что они — и Любаша в том числе — ему совершенно безразличны, что он просто случайный попутчик — и ничего больше.
Собственная неуверенность в себе и нерешительность извели Димку вконец. Ему казалось, что как только Любаша узнает о его судимости, так тотчас же с презрением отвернется от него, как отвернулась двоюродная сестра Васильевой Марии. И тогда у него, у Димки, в жизни ничего не останется, ради чего нужно жить на этом свете.
Однажды девушки вышли из ворот, а Любаши с ними не было. Девушки заметили Димку, о чем-то пощебетали между собой и громко рассмеялись. От этого смеха Димку обдало лютым холодом, и он подумал, что зря ходит сюда, зря ждет — все зря.
Любаша появилась только через час, остановилась, поглядела в его сторону и решительно направилась прямо к Димке. Лицо ее и глаза были такими же сердитыми, как и в самый первый раз. Димка готов был провалиться на месте или убежать, но на него напал такой столбняк, как и в то далекое утро, когда он сидел в пещерке под сосной и видел, как перед ним гибнут люди: сперва Пашка Дедыко, за ним странный человек, потом Плошкин, и наконец последний из оставшихся в живых уходит с места побоища и через минуту скрывается в серой дымке ненастного утра.
— Ерофеев, почему вы преследуете меня? — воскликнула Любаша, останавливаясь в двух шагах от Димки, сверкая потемневшими от гнева глазами. — Если у вас какие-то серьезные намерения, то вы бы могли подойти ко мне и сказать о них. Это не по-советски. И тем более не по-комсомольски.
Димка, закусив нижнюю губу, молча смотрел на Любашу. Она казалась ему такой красивой, такой недосягаемой, что он искренне изумился своим предположениям, что эта необыкновенная девушка сможет… сможет… — Димка даже не мог назвать определенным словом то, что он хотел бы всем своим изломанным существом получить от этой девушки.
— Ну что вы молчите? — устало произнесла Любаша. — Пойдемте уж. А то все девчонки надо мной смеются. Вот, говорят, опять твой воздыхатель торчит под деревом.
Она потянула Димку за рукав — и только тогда он сдвинулся с места и, неуверенно ступая, зашагал рядом с ней к трамвайной остановке. Через несколько шагов Любаша остановилась, посмотрела снизу вверх на Димку строгими глазами, произнесла наставительно:
— Вася, ваш друг, мне все о вас рассказал: и что вы учились, и про внестудийные занятия, и что вас… про вас подумали так подозрительно. Вы, что же, думаете, что я такая несознательная, что не понимаю, что во всяком деле могут быть ошибки? У нас Дарья Никандровна, уж на что опытная акушерка, и то допускает ошибки в определении сроков рождения ребенка. И я тоже ошибаюсь, — продолжала Любаша все тем же строгим голосом, но для Димки этот ее голос казался самым прекрасным из всех, что он когда-либо слыхивал в своей жизни. Он готов был слушать ее наставления хоть всю жизнь, хоть десять жизней, хоть сто.
Любаша вновь остановилась и, зашагнув вперед, заглянула в Димкины глаза. Она вообще, похоже, не могла говорить просто так, не видя глаз собеседника, не чувствуя его отношения к ее словам и к себе самой.
— А это страшно… ну, это, что было с вами? — спросила она.
Глаза ее, и лицо, и голос были совсем другими: испуганными и жалостливыми-прежалостливыми, так что Димка вдруг почувствовал, как колючий спазм сдавил ему горло и на глаза навернулись слезы: так с ним еще никто не разговаривал. Даже мать. Лицо Димки исказилось от сдерживаемого желания заплакать и прижаться лицом к этой девчушке. Он хотел что-то сказать, но из горла его вырвался лишь клекот, он махнул рукой и отвернулся. И тогда Любаша снова зашла к нему спереди, протянула руку и коснулась пальцами его мокрого от слез лица.
— И не надо ничего говорить мне, — прошептала она, гладя лицо Димки шершавой ладошкой. — Я и так все понимаю. — И тут же посоветовала: — А ты поплачь, Дима, поплачь — легче будет.
Но Димка дернул головой, шагнул назад, вытер рукавом глаза, заговорил хрипло:
— Ничего, это я так. Это пройдет. Ты не думай, что я… что мне… А только у меня кроме тебя никого нет… Никого нет дороже. — И тут же поправился: — Конечно, родители, братишка, но это не то, это совсем другое.
— Я понимаю! — воскликнула Любаша и, схватив его за руку, потащила к остановке. — Я все понимаю, Димочка! — Но через несколько шагов снова заступила вперед, глянула с надеждой: — А ты правда меня любишь?
— Правда! — выдохнул Димка, хотя еще ни разу не употреблял ни про себя, ни тем более вслух этого слова, однако испытывая что-то совершенно небывалое, в то же время похожее на что-то, что с ним уже было. Впрочем, он не доискивался, было это на самом деле или ему только показалось. Главное, что вот она — Любаша, он может даже дотронуться до нее — и от этого дыхание у него то и дело перехватывало, ему хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы Любаша поверила, что он действительно ее любит и любил всегда, с той первой минуты, как увидел ее выходящей из двери в белом халате и в белой же шапочке.
Димка оглянулся по сторонам, ища, что бы такое сделать необыкновенного, но вокруг ничего такого не было, что привлекло бы его внимание и было достойно вмешательства его, Димкиной, непомерной силы.
Шел снег, мела поземка, на остановке трамвая топтался мерзнущий народ, серые дома едва выступали из серой же мути, серые деревья мотали растрепанными верхушками. Нет, положительно ничего нельзя было сделать, чтобы доказать Любаше его невозможную к ней любовь.
Подошел трамвай, они забрались в вагон и встали в уголок. Димка загородил Любашу своим телом, уперся руками в поручни, так что она оказалась как бы изолированной от всего мира, и ни один человек не сможет до нее даже дотронуться, сколько бы народу ни набилось в вагон. А народу было не так уж много, так что Димка не имел возможности доказать Любаше свою силу и свое желание защитить ее от всяческих напастей. Да и ехать им недалеко, можно было бы и пешком пройтись, но они оба не сразу осознавали, что лучше было бы им сделать, а что не делать вовсе. Впрочем, все это: и погода, и трамвай, и люди не имело значения, а имело значение то, что с каждой минутой росло в них и крепло, охватывая весь мир, вызывая в них изумление своей новизной и необыкновенностью.
Через несколько минут Любаша, засмеявшись, уткнулась Димке лицом в плечо, потерлась слегка о его колючее пальто, потом чуть отшатнулась, заглядывая снизу в его пасмурные глаза.
— Ты чего? — спросил Димка, растягивая губы в широкой улыбке.
— Так, — сказала Любаша, но тут же, спохватившись, пояснила: — Ты не подумай: ничего плохого.
— Я и не думаю.
— Правда? — Снова она придвинулась к нему и тихо произнесла: — Мы же теперь всегда будем говорить друг другу одну правду? Да?
— А как же иначе? — удивился Димка.
— Давай выйдем! — восторженно воскликнула Любаша и потянула его вон из вагона.
Перебежав улицу и оказавшись на тротуаре, засыпанном снегом, они вдруг расхохотались ни с того ни с сего, взялись за руки и пошли, толкая друг друга плечами и испытывая от этого непередаваемую радость.
И снова Любаша заступила ему дорогу, заглянула в глаза.
— А знаешь, что я тогда подумала?
Димка лишь помотал головой, растягивая рот в глупейшей улыбке: ему казалось, что она сейчас скажет что-то такое, от чего они оба упадут со смеху.
— А ты не будешь смеяться?
Димка еще шире растянул свой рот, моргая глазами и пряча руки за спину: ему все время хотелось обнять ее, прижать к себе с такой силой, чтобы самому задохнуться от переполнявших его непонятных ему ощущений, но он боялся сделать ей больно, боялся, что она снова глянет на него строго и сердито — и тогда уж наверняка все кончится, тем более что он все еще не мог поверить, что вот она, Любаша, совсем рядом, и ничто и никто не мешает ему смотреть на нее и слушать ее голос.
— Я подумала… — тихо произнесла Любаша, доверчиво касаясь пальцами его колючего подбородка, — я подумала, что у нас будет четверо детей: два мальчика и две девочки. — И посмотрела на Димку, вытянувшись и замерев, в ожидании и тревоге.
И опять Димка задохнулся от невозможной нежности к этой девчушке, крякнул, не находя слов, глянул по сторонам, вдруг наклонился, обхватил Любашу поперек одной рукой, другой подхватил под коленки, вскинул перед собой ее почти невесомое тело и понес, крепко прижимая к груди.
— Сумасшедший, — проворковала Любаша ему в ухо, обвив руками его шею. — И вообще, я еще не жена тебе, чтобы носить меня на руках.
— Ну и что? — удивился Димка. — Разве нельзя?
— Ладно уж, неси, — разрешила Любаша, прижимаясь щекой к его щеке. — Только вон до того угла.
С тех пор Димка каждый вечер либо встречает Любашу у ворот больницы, либо из мединститута, либо торчит в приемном покое, дожидаясь, когда она сможет освободиться хотя бы на минутку, чтобы увидеть ее глаза и поверить, что все это правда, а не сон. А в выходные дни, если Любаша не дежурит в больнице, а Димка не работает на заводе над выполнением плана, они встречаются в библиотеке, сидят рядышком и делают вид, что читают, а на самом деле прислушиваются друг к другу, ловя каждое движение, дыхание, прерывистые вздохи и осторожный шепот. Встречаться им больше негде: дома у Любаши большая семья, больная мать, строгий и даже суровый отец. У Димки семья поменьше, но он все не решается привести Любашу в свой дом, не решается признаться родителям, что у него появилась девушка, хотя мать догадывается, и отец тоже, но не подают вида. Димка уже предлагал Любаше пожениться, но предлагал робко, неуверенно. Однако она не согласилась: сначала надо закончить институт, а уж потом… а то пойдут дети — какая уж тогда учеба…
* * *
Василий Мануйлов столкнулся с Димкой Ерофеевым на проходной. Длинная череда уставших и молчаливых людей тянулась сквозь проходную. Шуршали шаги, шуршали невнятные голоса. Один Димка куда-то ужасно спешил: может, на лекции в институт, может, еще куда, иначе бы Василий его и не заметил. Он заступил Димке дорогу, тот вскинул голову, узнал Василия, обрадовался.
— Вась, вот здорово! Ты где пропадаешь?
— Как это где? — опешил Василий.
— Да не видно тебя — я вот о чем, — радостно хохотнул Димка.
Василий изумленно качнул головой: это был совершенно другой Димка, какого он никогда не знал. Тот был всегда хмурый и углубленный в себя, этот так и светился весь от какой-то непонятной радости, пасмурные глаза его были совсем не пасмурные, а даже наоборот — искрились прозрачным светом, как вода в Финском заливе под весенним солнцем.
— Чего это ты? — спросил Василий, уже догадываясь, почему так Димка изменился за то время, что он его не видел.
— А что? — Димка испуганно глянул на Василия.
— Светишься, как новый пятак.
— А-а! — снова хохотнул Димка и, подхватив Василия под руку, зачастил ему прямо в ухо: — Понимаешь — Любаша! Такая девчонка! Я раньше думал, что все они, а тут… Предлагаю замуж — нет, говорит, подожди. — Остановился, и еще более радостно: — Послушай, а если мы придем к вам в гости? А? Первенца посмотреть! Нет, правда!
— Приходите… Конечно, приходите! — загорелся Василий. И уточнил: — В воскресенье.
— Идет! Тогда — до воскресенья! — воскликнул Димка, тряхнул Васильев локоть и кинулся к остановке трамвая.
Василий проводил глазами его долговязую фигуру, позавидовал: вот у Димки все сошлось: и институт, и Любаша. А у него, у Василия…
Конец семнадцатой части
Часть 18
Глава 1
1936 год Советский Союз встретил с новогодней елкой. За две недели до Нового года открылись елочные базары, в магазинах игрушек продавались елочные украшения, в трамваях, автобусах, на улицах и во дворах, в коммунальных квартирах и рабочих бараках, на фабриках, заводах, в школах и высших учебных заведениях, в правительственных учреждениях, в партийных и профсоюзных комитетах, редакциях газет и журналов, в военных городках и на пограничных заставах — везде и всюду только и разговоров, что о встрече нового года по-новому… или, лучше сказать, по-старому. Все остальное померкло перед этой новостью. Вид человека, несущего елку, вызывал улыбку почти у всех прохожих. Просто удивительно, как это вдруг такая вроде бы мелочь преобразила людей, сблизила их и сроднила. Люди вглядывались в портреты Сталина, развешенные где только можно, и в этом неулыбчивом лице тоже находили нечто новое и родное, а еще какую-то хитринку: мол, это еще не все, то ли еще будет.
Конечно, не всех радовало возвращение к старой русской традиции, не все улыбались при виде елки, вызывающе плывущей над уличной толпой, но таких было не так уж много, да и те старались не слишком-то выделяться на общем улыбчивом фоне.
Зинаида Ладушкина, — теперь, правда, уже не Ладушкина, а Огуренкова, — после дневной смены на заводе поехала в центр купить новогодние подарки свекру, свекрови и мужу, — подарки, которые будут положены под елку. На бывшем Невском проспекте — ныне улице 25-го Октября — в эти дни открылось несколько торговых точек, специально для продажи новогодних подарков: власти расстарались и поднакопили на складах всяческий ширпотреб, который в старые добрые времена женщины дарили мужчинам, мужчины — женщинам, родители — детям, дети — родителям. Поначалу в эти торговые точки было не протолкаться, однако товаров меньше не становилось, люди успокоились и очереди исчезли. Как выяснилось, те же самые вещи можно купить и в других местах. И даже на окраинах. Но люди по привычке тянулись в центр.
В деревне на Псковщине, где родилась Зинаида, никто никому подарков на Новый год отродясь не дарил, и для Зинаиды, как и для большинства ее подруг по бригаде, этот старорежимный городской обычай казался необычным и странным. Но он, неизвестно откуда появившись в предновогодние дни, увлек почти всех, и разговоры о том, кто кому и что подарит, не прекращались все последнее время. Правда, комсомольские активисты пытались как-то противостоять этому обычаю, проводили беседы о его буржуазной зловредности, но делали это не слишком убедительно, а потом и вообще умолкли: знать, была дана сверху соответствующая команда. После этого разговоры о встрече Нового года по-новому стали еще оживленнее.
Для Зинаиды задачка, что кому подарить, была не из легких. Она долго ходила от прилавка к прилавку, смотрела, что покупают другие, прислушивалась к разговорам образованных женщин и мужчин, которых легко можно отличить и по манере держаться, и аккуратной одежде, и по выговору, так что в конце концов решилась и купила мужу галстук, свекру — шерстяные носки, свекрови — кожаные перчатки.
Довольная, что ей все удалось сделать быстро и без особых затруднений, она шла по улице, заглядывая в нарядные витрины, и радовалась вместе со всеми блеску и буйству новогодних красок.
В витрине одного из магазинов была выставлена елка, украшенная стеклянными шарами, конфетами и орехами в золотистой фольге. Под елкой стоял шикарный дед Мороз в малиновой шубе и восхитительная Снегурочка в бело-голубой. Но самое поразительное — на елке вспыхивали и перемигивались разноцветными огоньками маленькие лампочки, которые в одном из цехов «Светланы» изготавливали по спецзаказу и будто бы для самолетных радиостанций. И вот, оказывается, эти лампочки сверкают теперь на елке — и это было самым удивительным, как бы знаменующим начало нового времени во вселенском масштабе и Зинаидину к этому времени причастность.
Зинаида с трудом оторвалась от зрелища нарядной елки и выбралась из толпы. У них дома елка тоже будет нарядная: у свекра со свекровью сохранились елочные игрушки еще с давних времен, а вчера Иван прикупил новых: самолетики и танки, кораблики и солдатики, шикарную звезду на макушку и несколько больших стеклянных шаров, которые тоже делались на «Светлане». А еще будет шампанское, выданное по талонам, и всякие деликатесы из новогодних наборов. Причем набор, полученный Зинаидой на своем заводе, по изысканности перещеголял учительские наборы всех Огуренковых: рабочий класс — это тебе не хухры-мухры, и Зинаида этим втайне гордилась невероятно.
Напротив Казанского собора Зинаиду окликнули. Она оглянулась — Василий Мануйлов. Стоит и улыбается во весь рот. Может, потому улыбается, что в эти предновогодние дни весь Ленинград светится радостными улыбками, и на их фоне попросту не замечаются хмурые физиономии, а может, потому, что встретил ее, Зинаиду. И она тоже улыбнулась Василию и пошла к нему на другую сторону улицы, тем более что ей все равно надо переходить.
Зинаида шла через улицу, смотрела на Василия и радовалась не только встрече с ним, но и тому спокойствию в душе, которое от этой нечаянной встречи ничуть не поколебалось. А ведь еще совсем недавно от одного вида Марии, такого довольного, будто она сотворила невесть что такое и стала знаменитой на весь Союз, — от одного этого вида на душе начинали скрести кошки, и собственная жизнь казалась уже прожитой, и прожитой впустую.
— А я смотрю, — говорил Василий, когда Зинаида еще только подходила к нему, будто оправдываясь перед ней, — смотрю: ты или не ты? Дай, думаю, окликну. Оказалось — ты. — И робко протянул Зинаиде руку.
Но она руку будто и не заметила, подошла к Василию вплотную, закинула обе свои руки ему за шею, приблизила к его лицу свое лицо и поцеловала в губы. И рассмеялась, увидев его смущение и растерянность.
— Это мое тебе поздравление с первенцем, — пояснила она не отрывая рук, поцеловала еще раз: — А это мое тебе поздравление с Новым годом. Будь счастлив, Васенька, и не болей. Очень тебя прошу. А то что же это такое! — воскликнула она. — Был такой здоровый мужик — и на тебе! — Отступила на шаг, заглядывая Василию в глаза, покачала царственной головой, точно удивляясь случившемуся. — Вот, раньше не целовала, а теперь имею право. Теперь Маня ревновать не станет: женщина я замужняя, тебя у нее не отобью.
— Как — замужняя? — изумился Василий, и даже глаза у него расширились и потемнели.
— А ты не знал? — в свою очередь удивилась Зинаида.
— Н-не-ет. И давно?
— Ой, да уже год с лишком!
— Го-од с ли-ишком? — Василий как открыл рот, так и стоял теперь с раскрытым ртом, недоверчиво глядя на Зинаиду. — Что ж на свадьбу-то не пригласила?
— Н-ну, Вась, — замялась Зинаида, вспомнив, как на ее приглашение Мария отнекалась нездоровьем Василия. А она, оказывается, не только умолчала о приглашении на свадьбу, но и о самом замужестве Зинаиды не сообщила. Объяснять Василию все эти обстоятельства Зинаида посчитала излишним: Васька — он мужик вспыльчивый, еще наговорит Маньке чего, или оплеух навешает — с него станется. Хотя… может, и не навешает: пришибленный он какой-то, совсем не похож на того Ваську, которого она впервые увидела четыре года назад, самоуверенного и будто бы пребывающего в заоблачных высях.
И Зинаида, рассмеявшись, сказала:
— А у нас свадьбы и не было. Мой муж — человек передовых взглядов, он считает, что свадьба есть пережиток буржуазного прошлого. Так-то вот, Васенька. — И тут же заторопилась: — Ну, пойду я. А то у меня свекровь ужас какая строгая, всякую минуту считает. Так что еще раз с Новым годом тебя, с новым счастьем. И Маню тоже. Как там она, справляется?
— Справляется. Да и парень спокойный, ест да спит, особых хлопот не доставляет.
— А как назвали?
— Виктором.
— Сам выбрал или Маня?
— Маня.
— Что ж, звучит неплохо: Виктор Васильевич. А если с греческого перевести на русский, то получается: Победитель царственный. Или что-то в этом роде.
Василий на эту ее похвалу лишь смущенно улыбнулся: из-за имени первенца ему пришлось с Марией поспорить изрядно. Спасло лишь то, что заранее договорились, кто кого называет. Поэтому Василий и уступил. А вообще-то Мария, как только забеременела, так ее будто подменили: стала такая несговорчивая, такая упрямая и своевольная, что только держись. Правда, все по мелочам, так что Василий редко препятствовал ее своеволию и упрямству, а лишь пожимал плечами, недоумевая, откуда что взялось в некогда застенчивой и смешливой девчонке.
Зинаида уже поворачивалась уходить, когда Василий спохватился:
— И тебя тоже с Новым годом, Зина! С новым счастьем! Ты-то как — ребеночком еще не обзавелась?
— Нет, Васенька, не обзавелась: учусь, нагоняю упущенное, — лишь слегка, отвечая, повернула голову к нему Зинаида, и Василий увидел горькую усмешку на ее полных губах и снисходительно сощуренные зеленоватые глаза. — Муж у меня ученый, родители его ученые, одна я дура неученая среди них, образованных. Неловко как-то, Васенька. — Хохотнула и пошла, величественная и недоступная.
Василий смотрел вслед Зинаиде, смотрел до тех пор, пока ее стройная, высокая фигура не затерялась в человеческом водовороте. Недоуменно покачав головой, он вздохнул и огляделся, точно вспоминая, зачем здесь стоит и куда должен идти, и пошел в ту же сторону, куда пошла Зинаида. Он тоже, как и она, как и все, наверное, сновавшие вокруг него люди, приехал на бывший Невский купить новогодний подарок, прошел все магазины, но так ничего и не выбрал: все казалось каким-то незначительным и никчемным, а встретив Зинаиду, забыл о подарке и теперь брел в сторону Невы, а в той стороне никаких магазинов нет. Эта нечаянная встреча тронула в его душе такое, что дремало там до поры до времени, и вот проснулось, заставило оглянуться вокруг себя и попытаться разглядеть, что и кто его окружает. И что же он увидел? Да, собственно, никого и ничего. Пусто. Так же пусто, как на льду, укрывшем своенравную Неву.
Василий брел по набережной, сквозь снежную пелену вглядываясь в смутные огни противоположного берега, и вспоминалась ему та давняя ночь, когда его во второй раз выгнали с рабфака, на душе стало так же смутно и холодно, как смутно и холодно было в этот час на самой Неве. Конечно, сын что-то изменил в его жизни, придал ей некую осмысленность, но мало Василию было и сына.
Зинаида вышла замуж, учится, они могли бы учиться вместе… он проморгал Зинаиду…
Василий вспомнил, что ее присутствие всегда тревожило его душу, но еще больше в ту пору тревожило душу воспоминание о Наталье Александровне. А потом образовалась пустота, и в эту пустоту вошла Мария. Да только Мария не заполнила пустоту целиком, и сын не заполнил тоже, много еще в душе его осталось пустого места. Для чего? Для кого? Эх, знать бы…
Но помимо пустоты существовал в его душе с некоторых пор еще какой-то изъян, как в чугунной отливке существует невидимая раковина, снижающая прочность детали. Этот изъян, никак не связанный с болезнью, мешал жить, мешал крепко стоять на ногах, а какой такой изъян, понять невозможно. Вот ведь беда какая: и жизнь заново не начнешь, и прошлое не исправишь, а так не хочется просто плыть по течению, не задумываясь над тем, куда тебя вынесет.
Глава 2
Зинаида сегодняшние уроки в вечерней школе прогуляла. И вовсе не потому, что замужество как бы избавило ее от необходимости продолжать образование. Как раз наоборот: она твердо решила, чего бы ей это ни стоило, девятилетку закончить непременно. Даже если пойдут дети. Более того, она договорилась с Иваном и его родителями, что за лето пройдет с их помощью программу шестого класса, осенью сдаст экстерном; седьмой — в школе, восьмой — летом, девятый… девятый опять в школе же. Это был зарок отчаяния, как прыжок с большой высоты, без этого зарока, казалось Зинаиде, она не преисполнилась бы такой решительности. Ей было одновременно и боязно и интересно, сумеет ли она выдержать такой темп и освоить такой объем знаний.
Иван с жаром поддержал это ее нетерпение, и — чего она меньше всего ожидала — свекор со свекровью тоже. Они даже как-то по-новому взглянули на свою невестку, и Зинаида догадалась, что она своим нетерпением наверстать упущенное угодила всем. После этого своего решения и всеобщего одобрения в ней проснулся азарт, неведомый ранее, и нежелание принимать во внимание доводы, противоречащие ее нетерпению. Раз она так хочет, значит, сможет. И весь сказ.
Впрочем, не одна Зинаида была охвачена подобным нетерпением. Всем не терпелось что-то сделать решительное, и сделать поскорее. Принимались встречные планы, личные и коллективные обязательства, — лихорадочная гонка захватила страну, и когда в газетах или по радио объявлялись цифры тех или иных достижений, объявлялось о пуске нового завода или фабрики, о вводе в строй новой электростанции или канала, ликовала вся страна, будто каждый принимал участие во всех этих делах. А если что-то и не получалось, если что-то не ладилось, расстраивались не шибко: получится и заладится в другой раз. Такая была всеобщая вера в свои силы и возможности, что прикажи — пригоршнями вычерпают море, по камешку разберут самую высокую гору.
Это был период подъема духовных сил русского народа, пережившего годы страшных бедствий и страданий, народа, который открыл в себе такие возможности, какие открываются лишь в самые решающие исторические мгновения. Наверное, такой же всеобщий подъем душевных сил испытывал этот народ накануне Куликовской битвы, перед Бородинским сражением, когда казалось, что если собраться и ударить всем вместе, то сразу же после этого жизнь резко изменится к лучшему, и все, что давило до сих пор и мучило, будет отброшено и больше никогда не вернется вновь.
И все-таки это было другое время и другой душевный подъем. Все предыдущие подъемы вызывались необходимостью исключительно военной, распространялись на короткий период времени, а этот подъем длился уже несколько лет и продолжает нарастать и нарастать, особенно в среде молодого поколения, будто этому поколению все предыдущие поколения передали свою жажду лучшей жизни и справедливого отношения между людьми.
За русским народом тянулись другие народы огромной страны, однако они лишь следовали этому подъему, заражаясь им преимущественно в русской же среде, но сам душевный подъем других народов не вырастал из них самих, а был привнесен в них и тут же затухал, едва человек оказывался в родной стихии своего народа, все еще не пережившего ни страшных лет гражданской войны, ни коллективизации и голода. Люди, бывающие в командировках в Средней Азии, в Закавказье, говорили, что там совсем другой настрой, что там больше ворчни и недовольства новыми порядками, что там не только к самой советской власти отношение другое — в лучшем случае скептическое, — но и к русскому народу тоже. Но это никого не смущало, лишь вызывая снисходительную улыбку: ничего, придет время — и у них будет то же самое, куда они денутся!
Дома Зинаида застала одну свекровь. Мужчины отсутствовали: Иван вел уроки в вечерней школе, свекра буквально неделю назад — и совершенно неожиданно — назначили директором школы, и он пропадал в ней допоздна. Неожиданно вышло потому, что еще недавно Спиридона Акимовича собирались уволить, и не столько по возрасту, сколько из-за его будто бы отсталых взглядов на образовательный процесс. Теперь, наоборот, увольняли тех, кто смотрел на этот процесс слишком… как бы это сказать? — слишком радикально и без учета накопленного опыта предшествующими поколениями российского учительства. Вот так вот — ни больше и ни меньше. Этими событиями жила вся семья Огуренковых, жили их родственники и знакомые, в основном тоже из учителей.
Зинаида старалась не выпасть из общего тона, хотя для нее назначение свекра ровным счетом ничего не значило. Другое дело, поставили бы старика начальником цеха или директором завода — это было бы понятно, а как учить детей и чему, Зинаиде казалось делом настолько неважным, что и говорить-то тут не о чем: как ни учи, а два плюс два всегда четыре, а не пять и не три.
Нет, разумеется, Зинаида понимала, что в стране происходят перемены и в связи с этим кого-то куда-то двигают, передвигают или задвигают, потому что идет классовая борьба, а также борьба с людьми зазнавшимися, почившими на лаврах прошлых революционных заслуг, ставшими тормозом и даже препятствием для социалистического строительства. Как не понимать, если три раза в неделю всех работниц цеха собирают на политинформации, где подробно рассказывают о важнейших изменениях в стране и в самом Ленинграде, о том, что такую линию против зазнавшихся и почивших на лаврах товарищей ведет сам товарищ Сталин.
Вот и у Зинаиды полгода назад тоже произошли изменения: ее перевели на сборку радиоламп, а на это дело отбирали самых умелых, добросовестных и грамотных. Марию, например, не взяли. Впрочем, многих со сборки осветительных лампочек — «лампочек Ильича» — не взяли: не все повышали свое образование, кому-то, к тому же, надо и обыкновенные лампочки собирать. И все-таки для Зинаиды переход на новое место работы имел не меньшее значение, чем, скажем, для свекра назначение директором школы.
Зинаида открыла дверь квартиры своим ключом, разделась в передней, покрасовалась перед зеркалом, причесалась. С кухни в прихожую доносились запахи жареного мяса и лука: свекровь готовила ужин. Зинаида вымыла руки, прошла на кухню и попыталась включиться в готовку, но Ксения Капитоновна вежливо и решительно отказалась от ее помощи:
— Зиночка, ради бога! Какая помощь! Ты сегодня пропустила уроки, так иди и читай, а я все сделаю сама. Скоро придет Ваня… Спиридон Акимович, может быть, придет сегодня пораньше… Кстати, я посмотрела твое изложение отрывка из Пришвина — прорва ошибок в части согласования падежных окончаний. Так ты уж, пожалуйста, подучи правила. Я там тебе записала параграфы.
В голосе Ксении Капитоновны такая непреклонность, что Зинаида не в силах ей возражать. К тому же она заметила, что ее образование стало целью и смыслом жизни всей ее новой семьи, все разговоры так или иначе начинались с этого и этим заканчивались, то есть ее успехами в учебе и ее неудачами, а Иван так переживает ее «уды» и «неуды», как будто сам учится вместе со своей женой, и это его, а не Зинаидины, знания и успехи оценивают другие учителя.
Зинаида прошла в свою с Иваном комнату, опустилась в глубокое кресло. На столике перед нею разложены учебники, каждый открыт на нужной странице, из книг торчат закладки — тоже в нужном на сегодня месте. Это в основном работа Ивана, но и свекровь вносит в процесс обучения невестки свою лепту, окончательно же в ее руки Зинаида попадет начиная с седьмого класса: Ксения Капитоновна преподает в школе физику и математику. Но не хуже физики и математики знает химию, литературу и русский, историю и географию, и часто заменяет по этим предметам заболевших учителей. Не говоря о том, что в совершенстве владеет немецким и французским. Впрочем, этими языками владеют все Огуренковы, а Иван знает еще и английский. А еще латынь, греческий и старославянский, а еще музыкальное образование у всех Огуренковых, тысячи книг прочитанных, десятки и сотни ждущих своей очереди.
Зинаиду вся эта масса знаний, вмещенных в головы всего лишь троих Огуренковых, подавляет. Ей кажется, что сама она никогда не освоит и десятой… нет, сотой доли освоенного ими, а когда Иван, свекор и свекровь начинают о чем-то спорить, она сидит дура дурой, ничегошеньки не понимая из этих споров, даже слов иных не понимая, будто говорят они не по-русски, а на каком-то иностранном языке. Тогда ей хочется уйти куда-нибудь — туда, где люди говорят о простых и понятных вещах, где не надо цепенеть от ужаса перед беспредельностью человеческих знаний.
А еще случаются вечера, когда Ксения Капитоновна садится за фортепьяно, Спиридон Акимовоч берет в руки гитару, Иван — скрипку… и начинается то, что они называют музицированием. А она, Зинаида, даже на балалайке играть не умеет. Разве что петь. Так ведь и песен таких, какие поют Огуренковы, не знает, точно они все предыдущие годы жили в разных странах, принадлежали разным народам. Но когда от романсов переходят на русские народные песни, тут уж Зинаида впереди, тут она умеет показать, как надо правильно петь эти песни, и все трое Огуренковых только тянутся за ее грудным глубоким голосом своими голосами.
Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян, —— поет Зинаида, положив руки на колени, прикрыв глаза и видя свою избу с клоками мха между потрескавшимися бревнами, горящую в «красном углу» под иконами лампадку, беленую русскую печку, в которой потрескивают дрова, сидящих на лавках подружек своей старшей сестры, детские головенки на печи, и слышит песню, похожую на плачь по загубленной жизни:
Рано мою косыньку на две расплетать, прикажи мне русую в ленту убирать…А во дворе подпевает им метель, гудит в трубе ветер, шуршит соломенная крыша, жужжат веретена, бряцают спицы…
Тряхнув головой, Зинаида отгоняет от себя бесполезные ведения и мысли и начинает вчитываться в правила согласования сказуемого с подлежащим:
«Если сказуемое обретается в составе страдательного оборота речи… страдательного оборота речи, то… Если сказуемое обретается… сохраняется грамматическое согласование…»
«Ничего не выйдет, — с тоской думает Зинаида, тупо глядя в расплывающиеся строчки. — Одно дело — перевыполнить план на пять процентов, и совсем другое понять, каким образом язык должен умещаться в правила, которые выдумали люди от великого ума. Или от нечего делать… Вот Иван пишет статьи в журналы о том, какие стихи, хорошие или плохие, сочиняет какой-то там поэт Серебрянский. А кому это надо? Того бы поэта да поставить на конвейер, тогда бы ему и в голову не пришло сочинять свои стихи. Тем более что Пушкин, Некрасов, Маяковский и Демьян Бедный уже все про все понасочиняли, а другим ничего не оставили, но они, эти другие, стараются изо всех сил тоже выбиться в знаменитые. Тут и старых-то стихов не выучишь, а новые и вовсе ни к чему. Да еще всякие правила… А свекровь, между прочим, даже не спросила, что я купила для мужиков к новому году. Иди, говорит, учи… Дура я дура! Пятый класс с грехом пополам вытягиваю, а туда же — пятилетку за три года…»
И перед глазами Зинаиды всплыло вдруг растерянное и вместе с тем обрадованное лицо Василия Мануйлова, так неожиданно открывшее ей что-то близкое и родное, понятное и простое, как теплое дуновение майского ветерка на окраине родной деревни, когда в этом ласковом ветерке смешаны запахи расцветающей земли, парного молока и еще чего-то непонятного, что тревожит душу и зовет полететь куда-то вдаль, за реку, за озеро — неизвестно куда. А вот лицо Ивана всегда отрешенное от всего, направленное внутрь. Даже тогда, когда он ее целует. И лишь в те мгновения, когда его схватывают судороги страсти, оно ничего не выражает, кроме сладкой муки. А ей даже этого не достается… Бабы говорят: родишь — тогда. А хочется сегодня, сейчас… «Если сказуемое обретается в составе страдательного оборота речи… страдательного оборота речи… Если сказуемое обретается…»
Очень Зинаиде хочется угодить и мужу, и свекру со свекровью, очень ей хочется встать с ними вровень, — хоть в чем-то, — вот она и придумала досрочное свое образование. Поддалась всеобщему настроению… Ей даже книжки читать — и то не просто. Шутка ли — двадцать лет почти ничего не читала. А Иван подсовывает то роман Тургенева про дворян и помещиков, как они там мучились, бедные, с жиру бесились, то «Мертвые души» Гоголя — и там про то же самое, только смешно и неловко за тех людей, о которых пишет этот Гоголь, будто все русские люди какие-то недотепы. Другое дело — Чехов: мужики, бабы, мелкий чиновный люд — таких она встречала повсюду. И то не все ясно и понятно. А на днях Иван дал ей «Войну и мир» Льва Толстого, а там все по-французски, все про графьев да князей. И хотя Иван объясняет Зинаиде, что и как происходило в книжках и в самой жизни, понятнее и ближе от этого люди, населяющие книги, не становятся. Иван говорит, что она прежде должна хорошенько освоить литературу прошлого, чтобы лучше понимать нынешнюю. Ивану Зинаида верит, да вот осваивать шибко уж тяжко.
Зинаида вздыхает, некоторое время смотрит на разрисованное морозными узорами окно, затем опускает глаза на раскрытую страницу и, плотно сжав полные губы и сведя брови к переносице, в какой уж раз вчитывается в малопонятные строчки: «Если сказуемое обретается в составе страдательного оборота речи…»
Ужинать сели поздно — когда вернулись с работы мужчины. Свекровь подала на стол котлеты с макаронами, соленые рыжики. Потом пили чай с брусничным вареньем из шипящего и пыхтящего самовара.
Спиридон Акимович домой приехал прямо с общегородского совещания директоров школ, был возбужден, делился впечатлениями. Он поведал о том, что с нового года вводится курс российской истории — вместо политграмоты. Правда, учебников пока нет, они появятся лишь к следующему учебному году, поэтому в преподавании истории предполагается ориентироваться на старые гимназические программы. Разумеется, с учетом классовой теории Маркса.
— Я еще не вполне сознаю происходящее в полном объеме, — говорил Спиридон Акимович с набитым ртом, — но чувствуется, что происходит нечто поворотное и для будущего России весьма значительное. Но самое интересное: вчерашние крикуны молчат, как в рот воды набрали, а тон задают люди, которых еще вчера не ставили ни в грош. Вы знаете, кто выступал на совещании? — воскликнул он и оглядел домочадцев круглыми стеклами очков, сверкающими в свете всего лишь двух лампочек, горящих в двенадцатиламповой хрустальной люстре. Выдержал паузу, торжественно продекламировал: — Бывший академик императорской Академии наук Юрий Владимирович Готье! Вот кто! Поговаривают, недавно выпущен самим Сталиным из мест весьма отдаленных. Появление его на трибуне совещания встретили бурей аплодисментов. Стоя аплодировали! — воскликнул возбужденно Спиридон Акимович и даже вилку бросил, будто она мешала ему выразить свой восторг и изумление перед превратностями чужой судьбы. — Иван, ты его должен помнить: он у вас курс читал.
— Как же, конечно помню! — Теперь уже Иван сверкал стеклами очков и торжествующе оглядывал домочадцев. — Даже не верится! Бог ты мой! А поговаривали, что он помер.
— Нет, живехонек. Худ, бледен, но занозист, — довольно потирал руки Спиридон Акимович. — А вот Платонов Сергей Федорович — тот, действительно, помер в ссылке. Царство ему небесное…
— Да-а, что-то еще нас ожидает, — повела рукой Ксения Капитоновна и вздохнула. Она всегда вздыхала, когда ее мужчины слишком увлекались спорами на злобу дня.
Спиридон Акимович хохотнул чему-то и покрутил длинной своей головой.
— Видели бы вы, друзья мои, Марка Абрамыча Канторовича, — произнес он многозначительно. — На него, бедного, будто ушат ледяной воды вылили… Русская история! Да он лишь вчера с пеной у рта утверждал, что таковой никогда у России не было, что началась русская история с семнадцатого года, да и то не русская, а трудового народа, населяющего бывшую Российскую империю, что Карамзин и Ключевской были царскими прихвостнями и великодержавными шовинистами, что Россия была тюрьмой народов с особо изощренным изолятором для евреев, что так называемый русский патриотизм есть пережиток буржуазно-поповского спекулятивного оболванивания простого человека. И все в этом же роде. А сегодня… сегодня даже смотреть на него жалко — так это все неожиданно, и не только для него, но и для нас, русских, что и сам не знаешь, что думать.
— Ну, для Канторовича и Пушкин до недавних пор как бы не существовал. Авербах со Светловым да Маяковский с Демьяном Бедным затмили всю предыдущую русскую поэзию. Даже Некрасова и Блока, — вставил свое Иван Спиридонович. — Даже Мандельштам — и тот был против пушкинизма, как он говаривал. Для них важно, чтобы именно они, и никто больше, стояли в первых рядах, а русская поэзия — на задворках.
— Еще поговаривают, — внесла свою лепту в общую копилку знаний о текущей жизни Ксения Капитоновна, — что была амнистия для тех ученых и техников старой школы, которые проходили по делу «Промпартии». Говорят, самого Рамзина освободили. Ну, теперь дело пойдет! Глядишь, начнут освобождать и других, как два года назад освобождали инженеров и техников. Помните сталинские пять или шесть принципов? — обратилась она к мужчинам. И тут же к Зинаиде, с виноватой улыбкой слушающей застольные разговоры: — Зиночка, я вам еще положу макарон?
— Нет-нет! Спасибо! Мне хватит! — отказалась Зинаида.
Она отодвинула пустую тарелку и, поскольку все замолчали, решила, что тоже должна что-то сказать. А сказать она могла лишь о том, что происходит у них на заводе:
— А у нас сняли главного инженера. Говорят, за упущения в работе и халатность. Назначили совсем молодого, он только в позапрошлом году закончил институт… Такой, знаете, умный, в очках. — И невинно оглядела очкастых Огуренковых, пытаясь понять, как они на этот раз отнесутся к ее сообщению, потому что предыдущие ее рассказы о заводе принимались без особого интереса. Даже Иван — и тот скучнел, когда она пыталась заговорить о своей работе, будто стеснялся, что жена его простая работница. А о чем же ей говорить, как не о заводе? Все эти Готье, Платоновы и Авербахи — они ей ни сватья, ни братья.
— Да, молодежь… — Спиридон Акимович зацепил вилкой скользкий рыжик и отправил его в широко раскрытый рот. — Что ж, все правильно: у молодежи и дерзости больше, и прошлыми ненужностями головы не засорены. Штурмуют небо! — Ткнул вилкой вверх для пущей убедительности, усмехнулся: — Хотя, конечно, наличие очков на это никак не сказывается.
— Как знать, как знать, — не удержалась от шпильки и Ксения Капитоновна, разливавшая по чашкам чай из самовара.
— Мама! — умоляюще сложил руки Иван Спиридонович и, покраснев ушами, искоса глянул на Зинаиду, которая, поджав губы, теребила оборку своего платья.
— Да! — излишне поспешно вскинулся Спиридон Акимович и вдавил пальцем дужку очков в горбинку своего большого носа, что означало у него крайнее смущение. — В сегодняшних газетах сообщение про каких-то новых заговорщиков, что они осуждены трибуналом к высшей мере пролетарского возмездия. А среди них и бывший товарищ Кушнер: как ни как, курировал культурные мероприятия в рамках образовательного процесса… — И рассмеялся: — Господи, сколько ку-ку-ку и ка-ка-ка в одном лишь предложении! — И уже серьезно: — Между прочим, они с Канторовичем всегда дули в одну дуду. Я нисколько не удивлюсь, если и Канторовича, так сказать, к мере пролетарского возмездия… Вполне заслужил своим ниспровергательством русской культуры…
— А про Зиновьева и Каменева что-то помалкивают, — добавил Иван Спиридонович.
— А чего о них говорить? — пожал острыми плечами Спиридон Акимович. — Небось, сидят по камерам, штудируют Маркса. Мало им дали, скажу я вам. Особенно Зиновьеву. Сколько крови на его совести только здесь, в Питере…
— Спиридон! — возмущенно всплеснула руками Ксения Капитоновна. — Вот уж чего я не ожидала, так услышать от тебя подобные суждения. Может, они и виноваты, да только бог им судия. Вряд ли они сами ведали, что творили: образование у них — гимназия, много — университетский коридор.
— Ты права, душечка моя, — тут же сдался Спиридон Акимович. — Пока был просто учителем, в голову подобные кровожадные мысли не приходили, а стал администратором, чиновником… — махнул рукой и потянулся ложкой к хрустальной вазочке за вареньем. Но, положив варенья себе в розетку, не удержался: — А все-таки ведали. И очень даже ведали! Да-с!
Глава 3
После боя курантов из тарелки репродуктора, после шампанского и легкой закуски обе семьи Задоновых выбрались на улицу, а там, почитай, вся Москва. Только первый этаж дома, некогда целиком принадлежащего Задоновым, был тих и плотно занавешен, точно осажденная крепость. Здесь с восемнадцатого года жили две еврейские семьи, в Москву переселившиеся из западного приграничья вместе с десятками тысяч других еврейских же семей. В те поры Задоновы натерпелись от них лиха: по их заявлениям чуть ли ни каждую неделю на второй этаж врывались всякие комиссии и проверяли буржуйскую подноготную бывших владельцев дома на предмет хранения оружия, печатанья прокламаций, спекуляций и прочих антисоветских деяний. Лишь вмешательство Дзержинского избавило их от поползновений незваных квартирантов, но с тех пор первый этаж не здоровается со вторым, а второй делает вид, что первого этажа как бы и не существует. К тому же был сооружен отдельный для второго этажа вход, а проем в потолке над старой лестницей был заделан толстыми досками, на доски насыпали слой шлака, поверх всего уложили пол, и через какое-то время новые доски почти не отличались от старых, а само место, бывшее недавно дырой, уже таковой не воспринималось, на него наступали безбоязненно и без сожаления о прошлом.
Высыпав на улицу, Задоновы все вместе как-то странно посмотрели на плотно занавешенные окна первого этажа, переглянулись и, освобожденные от невидимых душевных оков, отдались буйному, безудержному веселью.
Почти все было, как встарь: катанье с горок, снежки, валянье в сугробах, конфетти, хлопушки и даже ракеты. Алексея Петровича затолкали в снег дети и Маша — он делал вид, что сопротивляется им изо всех сил, но все-таки свалился и дал на себе попрыгать и повозиться. Едва выбрался из сугроба, сам похожий на сугроб, как сбоку налетела Катерина, сбила с ног, упала сверху, губами успела ткнуться в его губы, да накинулись дети — на сей раз стаскивать с папы тетю Катю. Визг, хохот, крики…
Вдруг всю эту кутерьму пронизали тихие и настойчивые звоны далекого колокола. Все смолкли, стали прислушиваться, недоверчиво и изумленно поглядывая друг на друга, поводить головами, отыскивая направление, откуда звонят.
— Где это? — испуганно прошептала Маша и вцепилась обеими руками в руку Алексея Петровича. — Может, пожар?
Забухал колокол поближе. К уверенному буханью большого колокола добавились веселые перезвоны малых, благовест летел над крышами домов, над ущельями улиц, над расшалившимися людьми, заставляя их выпрямляться и вслушиваться в позабытые звуки.
— Это что, церковь? — изумленно спросила дочь Алексея Петровича тринадцатилетняя Ляля. — А разве это можно?
— Значит, можно, — стараясь придать своему голосу непоколебимую убежденность, произнес Алексей Петрович, потому что с Лялей можно разговаривать только таким тоном, иначе она не поверит.
— Папа, так ведь бога-то не-ету-ууу! — Ляля была не просто пионеркой, но и заместителем председателя совета дружины своей школы, ее взгляды на действительность часто ставили Алексея Петровича и Машу в тупик.
Впрочем, не отставал от сестры и девятилетний Иван, который мало что понимал, но кое-какие прописные истины усвоил намертво.
— Бога нет, а верующие в него есть, — продолжил свои наставления Алексей Петрович. — И с этим приходится считаться.
— Но ведь верующие против революции, — не сдавалась Ляля. — Против советской власти и индустриализации.
— Да, папа, верующие против революции… А еще они не любят товарища Сталина, — звонким эхом подхватил Иван.
— Наша бабушка — верующая, но она вовсе не против революции и товарища Сталина, — пришла на помощь Алексею Петровичу Маша.
— А мне нравится, когда звонят! — воскликнула Катерина. — Есть бог, или нет, а когда звонят, это красиво. Ты, Лялька, не слышала настоящих звонов…
— Нет, слышала. Я была маленькой, а помню: ничего красивого. Отсталость и дикость.
— Вот и поговори с ними, — рассмеялся Лев Петрович и, подхватив племянницу на руки, закружил и шлепнулся вместе с нею в сугроб.
— Ребенка покалечишь, бегемот! — испугалась Маша, но и ее тут же с хохотом и криками затолкали в сугроб, и вокруг народ вновь завозился и зашумел, будто колокольный звон придал веселью новые силы и полную раскованность.
Лев Петрович сходил в дом, принес санки, и началась такая кутерьма, что только ах. На санках, разогнавшись, съезжали вниз по Рождественке к Трубной площади. Санки сцеплялись длинными поездами, сталкивались; седоки, взрослые и дети, сваливались в сугробы, все перепутывалось и мешалось, а все люди, еще недавно чужие и не вызывавшие доверия друг у друга, вдруг стали близкими и родными. И во все время катаний и кутерьмы Катерина старалась быть поближе к Алексею Петровичу, оказаться в сугробе рядом, визжала от проснувшихся желаний, от возбуждения и от предчувствия чего-то невероятного и скорого, точно девчонка.
Потом, уже за столом, и во время танцев, Катерина все заглядывала Алексею Петровичу в глаза, ища в них искры воспоминания о том далеком Новом же годе, с которого началась их короткая греховная связь, да не одно воспоминание, но и обещание эту связь восстановить. И была минута, когда Алексей Петрович поддался соблазну и во время танца слишком крепко прижал Катерину к себе, почувствовав, как горячие токи пронизали их слившиеся тела, но тут же испугался этого и начал извиняться и оправдываться теснотой и неловкостью. Однако, как ни оправдывался, а слияние все-таки состоялось, и Алексей Петрович хорошо видел, что дал Катерине надежду, — видел по ее беспомощному выражению лица и тоскующим глазам, по унизительно неловким движениям ее ищущих рук. И также неожиданно заметил, едва повернув голову в сторону, изумленно распахнутые глаза Маши, стряхнул с себя обволакивающий дурман — и Катерина предстала перед ним совсем другой — чужой и постаревшей: глубокие морщины вокруг глаз, рубчатость шеи, увядшие губы под толстым слоем малиновой помады и сероватая кожа, просвечивающая сквозь черные, но с проседью от корней крашеные волосы, ее усталый, потухший взор с искорками едва теплящейся надежды.
Двадцать лет, ровно двадцать лет! — представить только! — с того Нового года! И все было впереди: и революции, и гражданская война, и страх, и отчаяние, и возвращение к жизни… Еще подумалось Алексею Петровичу, что возобнови он эту связь, откликнись на зов неудовлетворенной Катерининой плоти, — и все повторится, все ужасы прошлого, только уже без всякой надежды на лучшее. И суеверный холодок на миг охватил его душу.
Глава 4
Николай Иванович Бухарин Новый год встречал в семье Лариных — в семье своей юной жены. И тоже с елкой. Правда, восторга от елки не испытывал. Да и Ларины, судя по всему, тоже. И все-таки без елки было никак нельзя. Николай Иванович даже в редакции «Известий», которую он возглавлял, распорядился установить елку и проследил, чтобы все сотрудники газеты не отстали в этом деле от времени: как в душе не относись к решениям Цэка партии, над которым нависает сумрачная фигура Сталина, а выполнять эти решения необходимо, ибо без этого не будет не только самого Цэка, но и партии, и советской власти, следовательно, и самого Бухарина. В жизни, как известно, все взаимосвязано. С диалектической необходимостью. А Николай Иванович — вопреки сомнениям Ленина — считал себя диалектиком и теоретиком революции. В отличие от Сталина, который, как считал уже сам Бухарин, хватал лишь по верхам марксизма-ленинизма.
Что ж, елка так елка. Пусть стоит. Место ей — в темном углу: в глаза не бросается, но и не заметить нельзя. Так что если кто пожалует в гости…
Впрочем, ожидать гостей, как и слишком разгульного праздника, не приходилось: НКВД повсюду выискивало сторонников томящихся в узилище Зиновьева-Каменева, замаскировавшихся троцкистов, террористов и шпионов. Из Политбюро чуть ли ни ежедневно поступали новые инструкции относительно агитации и пропаганды новых веяний, решений и постановлений, направленных на укрепление, усиление, расширение и прочая и прочая. Николай Иванович хорошо знал эту кухню, поэтому ни тени возмущения не омрачало его редакторскую сущность. Другое дело, что все эти решения-постановления есть плод фантазии лично Сталина и его сателлитов, и, зная это доподлинно, приходится прилагать определенные усилия для того, чтобы поверить в их нужность и полезность.
Или вот еще: Сталин решил, что каждый партийный, советский или хозяйственный руководитель должен подготовить себе смену не менее чем из трех человек, чтобы в ближайшие годы передать им бразды правления партией и государством. То же самое в армии и НКВД. Получается, что каждый должен подготовить себе соперника и отдать ему то, что было завоевано в течение долгих лет борьбы, а самому отойти в сторону. Не удивительно, что такая постановка вопроса родила в руководящих кругах мощную волну скрытого недовольства и почти сразу же — новые способы приспособления к новому поветрию. И заключалось оно в том, что руководящие работники стали готовить себе замену из своих сыновей и дочерей, а за неимением таковых, из ближайших родственников или единомышленников. И может получиться так, что сам Сталин вызовет к жизни мощную себе оппозицию на новых, так сказать, основаниях, которая в конце концов погребет под собой нынешних кремлевских небожителей. Ибо «кремлевский горец» не ведает, что творит. Остается лишь немного подождать — и все свершится само собой. И тогда вновь понадобится Бухарин.
Да, Новый год на сей раз встречали в семейном кругу. А раньше… раньше Сталин собирал на даче в Зубалово — или в Кремле — довольно шумные и обильные застолья. Насколько известно Николаю Ивановичу, в Зубалово сегодня тихо. Тихо и в Кремле, который Бухарин покинул всего два часа назад. В его саду не возится детвора, никто не карабкается на Царь-колокол, не лезет в жерло Царь-пушки. Обитатели пуповины Москвы поразъехались — кто на дачу, кто к друзьям, живущим вне кремлевских стен, да и самих старожилов постепенно выживали за кремлевские стены в новые дома, которые делились по принадлежности к тому или иному ведомству. Судя по всему, Сталин хотел остаться в Кремле в гордом одиночестве, превратив его в непреступную крепость, в которой могут заседать самые близкие ему люди.
Да, тревожно как-то нынче на душе, хотя Сталин с Бухариным по-прежнему приветлив, поздравил, например, Николая Ивановича с Новым годом и пожелал счастья с молодой женой. Не без ехидства, конечно, так на то он и Сталин, человек необразованный и некультурный, лишенный чувства такта и порядочности.
За столом в квартире Лариных всего трое: Николай Иванович с молодой женой и теща. Тесть, Михаил Александрович Ларин, не дожил до этого дня. Может, и к лучшему: не обрадовала бы Ларина, женитьба Бухарина, почти его сверстника, на своей юной дочери. А теща… А что теща? Ей за Николаем Ивановичем, знаменитым зятем своим, как за каменной стеной.
На праздничном столе шампанское, водка, икра, кое-какие овощи-фрукты, легкие закуски: наедаться за полночь — вредить своему здоровью. Это у Сталина манера есть по ночам, а у нормальных людей…
Николай Иванович с досадой отметил, что всякий раз мысленно апеллирует к Сталину, что это стало навязчивой идеей, чуть ли не манией. Противно и мерзко. А, с другой стороны, к кому же апеллировать, как не к Сталину? К тому же со смертью Кирова у Николая Ивановича пробудилась надежда, что Сталин вновь приблизит его к себе, сделает вторым человеком в партии и государстве. Кто еще по своему влиянию на эти институты может сегодня сравниться с Бухариным? Троцкий далеко, Зиновьев с Каменевым в тюрьме, другие — явная мелочь. Так что кроме Бухарина — никого. И кроме Сталина апеллировать не к кому. Хотя бы и мысленно. Как, надо думать, и Сталину к Бухарину.
До сих пор в СССР Новый год праздником как бы и не считался. В самом деле, ну что такое Новый год с точки зрения диалектики? Некая условная астрономическая точка отсчета. Всего-навсего. К тому же имеющая исключительно религиозную основу. Действительные праздники в государстве рабочих и крестьян — это Первое Мая и Седьмое Ноября. Горячие головы предлагали даже переименовать календарь, приняв за точку отсчета «залп „Авроры“» — по примеру французов, начавших новую историю с падения Бастилии. Но предложение похоронили в бюрократических канцеляриях. А как бы было здорово: весь мир так, а мы — этак! А потом подсчитывать: вот и еще кто-то ведет летоисчисление по-нашему, по-большевистски, по-советски. И когда останется какая-нибудь там Новая Зеландия, можно будет считать победу Мировой Революции свершившимся фактом. А Новую Зеландию оставить в качестве реликта, чтобы дети ездили туда смотреть на ископаемый капитализм. Даже можно будет разрешить всем буржуям переселяться в эту самую Зеландию: пусть там живут и сами себя эксплуатируют. Интересно, надолго ли их хватит…
Николай Иванович усмехнулся своим мыслям, покосился на свою молодую жену, быстрым взглядом обласкал ее милое лицо, стройную фигуру: он таки дождался ее зрелости, и вожделенная мечта его обладать этим юным созданием наконец-то осуществилась. А несколько лет назад эта мечта казалась недостижимой: все-таки разница в возрасте в двадцать шесть лет — не шутка. Однако время скоротечно и неумолимо в отношении человеческого материала, втянутого в круговорот природы, и настоящий революционер лишь тот, кто подчиняет время своей воле…
По радио передавали новогоднюю речь Сталина.
Для Бухарина в этой речи не было ничего нового и неожиданного, поэтому он слушал ее вполуха. Но остальные внимали каждому слову, произносимому глуховатым голосом неторопливо и раздумчиво.
Сталин анализировал международную обстановку. Он отметил усиление в Европе фашизма и возрастающую угрозу новой мировой войны, успехи социалистического правительства Испании в преобразовании общества и в борьбе с фашистскими мятежниками, пробуждение забастовочного движения международного пролетариата в ведущих капстранах, активизацию борьбы колониальных народов против колонизаторов. Затем перечислил достижения СССР в области промышленности и сельского хозяйства, сказал, что не время почивать на лаврах, хотя кое-кто из партийного и советского руководства склонен именно к этому, заявил, что с такими людьми нам не по пути, и выразил уверенность, что железная рука наркома внутренних дел Ягоды настигнет и без всякой пощады покарает всех врагов советской власти и трудового народа.
К Бухарину эта угроза Сталина не относилась, хотя разногласия Бухарина с генсеком все еще существуют, но исключительно в плане тактическом. И, наконец, Николай Иванович, в отличие от Зиновьева-Каменева, не стремится с некоторых пор занять место Сталина, следовательно, не представляет для генсека реальной опасности в плане, так сказать, э-э… верховенства в партии и государстве, хотя с точки зрения авторитета…
В черной тарелке репродуктора куранты пробили двенадцать раз. Зазвучал «Интернационал». Трое поднялись и застыли в благоговейном молчании, не замечая, что губы их шевелятся, повторяя слова пролетарского гимна.
— Ну что ж, — произнес Николай Иванович, когда смолкли последние аккорды и установилась странная тишина, похожая на тишину поминок.
Все стояли, опустив головы, смотрели в стол, не пытаясь эту тишину нарушить.
Николай Иванович провел пальцами по воротничку косоворотки, поелозил слегка шеей, точно пытаясь выбраться из тесного воротничка, заговорил так же размеренно и глуховато, как перед этим говорил Сталин:
— Что ж, будем верить, что пламя Великой Революции не угаснет, несмотря на все ливни и штормы, которые обрушиваются на несгибаемых бойцов великого преображения человечества.
То ли собственный голос воодушевил Николая Ивановича, то ли какая-то необыкновенная мысль, а только он вдруг вскинул голову, дернул щекой, серые глаза его вспыхнули былым фанатизмом, голос окреп и зазвенел разящей сталью:
— Будем верить, что пламя революции будет разгораться все сильнее и сильнее! — воскликнул он, совершенно не думая о том, что перед ним всего-навсего две женщины, уверенный, что и они будут слушать его с таким же восторгом, с каким слушают его речи на митингах и многолюдных собраниях. — Будем верить, что гибель настоящих революционеров, падающих от пуль мирового империализма в разных концах земного шара, послужит… — замялся, опасаясь сказать лишнее и подыскивая подходящие слова. Слова не находились, мысли путались, их влекло по проторенной Сталиным дорожке, а дорожка эта уводила куда-то назад, в пещерные времена досемнадцатого года, в ненавистную Россию Обломовых, Карамазовых и Романовых. Разозлился, отсек что-то рукой в воздухе, закончил звенящим голосом: — … послужит раздуванию этого пламени во всемирном масштабе!
Обвел глазами стол, стоящую напротив пожилую увядшую женщину и молодую — совсем рядом, увидел их блестящие глаза, нашарил бокал с шампанским нервно подрагивающими пальцами, предложил клятвенно:
— За всепожирающий огонь мировой революции! За всемирную республику советов! Ура!
— Ура! Ура! Ура! — трижды торжественно прозвучало в большом гулком зале, заставленном книжными шкафами с тяжелыми старинными фолиантами и, при всем при этом, казавшимся пустым, в зале, служившим когда-то библиотекой, а теперь еще и столовой. Три человеческие фигурки посредине, под светом хрустальной люстры, выглядели здесь, где, казалось, все еще витали души совершенно других людей, неуместными и случайными: наступит утро и никого здесь не застанет.
Выпили шампанское и сели. Тихо и боязливо застучали ножи и вилки, медленно поднимались и опускались руки, двигались челюсти, — все с натугой, без удовольствия, через силу. Зато восторженно светились черные глаза юной женщины, когда она искоса взглядывала на великого человека, сидящего рядом с ней, самой судьбой предназначенного ей в мужья. Женщина мечтала стать Бухарину другом, опорой, соратником в великом деле, которому он посвятил свою жизнь, и любовницей. Последнее пока дается ей трудно, да и все остальное тоже, но она верит, что полное ее слияние с мужем близко и неизбежно — и от предчувствия этого слияния кружится голова и сладко замирает сердце.
Покашливала в замешательстве, замечая юный восторг своей дочери, пожилая женщина и отводила в сторону печальные глаза. Она уже ничего от жизни не ждала, у нее появилась прорва свободного времени, и она могла наблюдать и сравнивать. Она видела, что ее немолодой, но весьма известный и все еще влиятельный в стране и партии зять, люто ненавидящий страну и ее народ, упрямо продолжает питать уверенность, что эту страну и этот народ можно хотя бы использовать в качестве горючего материала для воспламенения пожара мировой революции, но сама она при той же ненависти, такой же уверенности уже не испытывала. Одному только удивлялась пожилая женщина — способности своего зятя не только держаться на плаву, приспосабливаясь к новым и неожиданным поворотам действительности, но еще и успевать удовлетворять свои сугубо физиологические потребности. Третья жена, и с каждым разом все моложе и моложе, — это надо уметь.
А Николай Иванович ничего вокруг себя не замечал. Весь мир для него сосредоточился на самом себе и Сталине, который этот внутренний мир Бухарина использует в своих интересах, не давая ему выплеснуться наружу во всей его неистовой силе, направленной на разрушение мира внешнего. Он думал о Сталине, думал с тоской о том, что тот в своей политике все больше отходит от революционных принципов, что он предает марксизм-ленинизм, все глубже погружается в болото российской державности и шовинизма, а по существу — в болото самой настоящей контрреволюции. Вот и елка эта есть ни что иное, как сугубое свидетельство чистой контрреволюционности. В то же время все меньше остается истинных революционеров, которые воспрепятствовали бы этому пагубному процессу, что самому Николаю Ивановичу уже почти не на кого опереться с полной уверенностью в преданности и любви, — ни к себе, нет! — а к высоким идеалам.
Да и откуда взять таких людей? На смену истинным революционерам пришли те, кто в революции искал исключительно личной выгоды, должностей и права безнаказанно творить произвол. Что им марксизм-ленинизм! Что им советская власть! Эти люди добились того, чего хотели, они будут служить любой власти, лишь бы она способствовала сохранению их положения. И среди них, надо признать, русских-то — относительно их общего числа — не так уж и много. Как при Петре Первом, Анне Иоанновне, Петре Третьем… Что это — историческая закономерность или игра обстоятельств, обусловленных крестьянским характером России? И какие выводы надо делать из этих обстоятельств? И надо ли эти выводы делать? Может, все значительно проще: есть Сталин, случайно оказавшийся на вершине власти, а сам Сталин есть средоточие зла, следовательно…
Николай Иванович думал о себе и о Сталине — другие его не занимали. И все Ларины, уже привыкнув, что Бухарину нельзя мешать думать, робко помалкивали, но каждый помалкивал о своем. К тому же они знали, что когда Николай Иванович отдумает свое, он стряхнет с себя все постороннее и снова превратится в жизнерадостного и остроумного человека, с которым будет легко и приятно. Надо лишь чуть-чуть помолчать и подождать…
И Николай Иванович стряхнул-таки с себя все постороннее, поднял голову и улыбнулся своей юной жене мальчишеской улыбкой, — и женщины вздохнули с облегчением и заерзали в нетерпении на своих стульях.
— А что, друзья мои, — лукаво сощурил серые глаза Николай Иванович, одаривая каждую из них брызжущим сиянием, — не начать ли нам праздновать Новый год по-новому? Не нарядиться ли нам петрушками и матрешками? Не отправиться ли нам по соседям с новогодними колядками? Глядишь, людей повеселим, себя потешим…
Прыснула смешливая и восторженная Ларина-младшая, благосклонно покивала седой головой ее мать, облегченный вздох вырвался из ее груди. А Николай Иванович выдерживал паузу, чувственные губы его дрожали от сдерживаемого смеха: еще немного — взрыв беспечного веселья взорвет напряженную тишину старинных покоев…
И тут…
И тут в эту все еще робкую тишину, точно охраняемую сотнями старинных фолиантов в тесненных золотом переплетах и скромно прикорнувшей в темном углу елкой, гремучей змеей вползло извне заунывное буханье большого церковного колокола. За этим буханьем юркими змейками засновали трезвоны малых. В этих звуках чудилось что-то черное и страшное, средневековое, похожее на встающих из гробов мертвецов, нечто зловещее и злорадное, как шествие черных монахов и монахинь с их погребально-заунывным пением.
Лицо Николая Ивановича побледнело. Он замер с неостывшей лукавой улыбкой на губах, в глазах его медленно мерк веселый блеск. И женщины, еще не понимая, что произошло, но видя, как это что-то подействовало на их кумира, тоже замерли и уставились на зашторенные окна.
Николай Иванович вдруг стремительно вскочил на ноги, беззвучно открыл и закрыл рот, беспомощно развел руками, затем кинулся к окну, толкнул форточку: звук благовеста ворвался в комнату властно, он бил по нервам, сталкиваясь в голове с еще не совсем умолкшими в ней звуками «Интернационала», заволакивал мозг черной пеленой отчаяния и тоски.
Но еще непонятнее и ужаснее были долетающие с улицы ликующие крики, женский и детский визг, чей-то неудержимый истерически-торжествующий хохот, будто знали эти люди, чем можно особенно досадить Николаю Ивановичу и его друзьям.
Бухарин растерянно потоптался возле окна, затем стремительно подошел к столу, схватил рюмку с водкой, выпил залпом, откусил от бутерброда с черной икрой, медленно задвигал челюстями, тут же торопливо налил еще одну рюмку, налил до краев, даже перелил, и тоже выпил залпом — он точно хотел залить водкой огонь в своей груди, который вот-вот вырвется наружу и испепелит все вокруг.
Обе женщины с надеждой и страхом взирали на Николая Ивановича. Но что он мог им сказать? Ненависть и отчаяние сковали его тело, в голове билось лишь одно — даже не мысль, а неуемное желание: стрелять! Стрелять всех, кто там, на улице, сейчас радуется, хохочет, торжествует! Стрелять из пулеметов! Из пушек! Стрелять! Стрелять! Стрелять!
И тут откуда-то, — возможно, из соседнего дома, где жили люди тоже не простые, а имеющие несомненные заслуги перед революцией, — зазвучал «Интернационал», сперва несмело, а затем все более громко и мощно: там явно открыли окна, там безбоязненно бросали вызов действительности…
Через мгновение вызывающее пение долетело и откуда-то сверху, и откуда-то еще, и Николай Иванович, со всхлипом втянув в себя воздух, судорожно проглотил непрожеванную пищу, подхватил песню со второго куплета и уже не слышал ни одного звука, кроме своего собственного прерывающегося голоса, не чувствовал ничего, кроме душивших его слез восторга и боли.
Глава 5
На другой день после новогодних праздников Алексей Петрович Задонов, как всегда ровно в девять, переступил порог редакции, напевая про себя арию Гремина из оперы Чайковского «Евгений Онегин». «Любви все возрасты покорны», — беззвучно пел он, раздувая щеки, шагая к своему кабинету по извилистому коридору. Алексею Петровичу, как никогда, хотелось любви, острых переживаний, мальчишеской бесшабашности, душа его стремилась куда-то вдаль, не чувствуя ни возраста, ни опыта прожитых лет. Катерина разбудила в нем дремлющие чувства, но удовлетворить их она не могла: нужна была совсем другая женщина, быть может, похожая на умершую далеко от Москвы Ирэн. Увы, такой женщины Алексей Петрович поблизости от себя пока не видел, однако ожидание неизбежной встречи с нею все сильнее будоражило его воображение, заставляя внимательнее приглядываться к знакомым женщинам, вслушиваться в интонацию их голоса, мимолетно ловить их запахи, искать в их глазах что-то совершенно необыкновенное.
Алексея Петровича остановил в коридоре партийный организатор Ардалион Эмильевич Кунцев, человек с обращенным вниз лицом и вопросительно согнутой долговязой фигурой. Он вцепился в отворот пиджака Алексея Петровича и, по обыкновению захлебываясь словами, будто пил из ведра студеную воду, тесня свою жертву к стене, заговорил о религии. У этого Кунцева всегда так: налетит и сходу огорошит такой темой, которая тебе самому никогда не придет в голову. Создавалось впечатление, что сидит себе человек в своем кабинете и фантазирует на вольные темы, а потом, когда очередная фантазия в голове его разрастется до размеров невероятных, выскакивает на люди и тут же, сходу, одаривает этой фантазией первого встречного-поперечного.
Конечно, все это происходило не совсем так, и Алексей Петрович хорошо знал, что Кунцев, прежде чем родить очередную фантазию, просматривает кипы всяких газет, — до районных и многотиражных включительно, — там и находит пищу для своих фантазий, но внешне все выглядело как некая причуда взбалмошного человека.
— Вы слышали вчера колокола? — спросил Кунцев, забыв поздороваться и оборвав звучащую внутри Алексея Петровича арию Гремина.
— Слыхал, скрывать не ста-ану, — ответил Алексей Петрович почти словами арии и почти нараспев, различив в голосе Кунцева что-то вроде растерянности, а в опущенном лице — явную подавленность.
— И что вы об этом думаете? — Кунцев еще придвинул к Задонову свое лицо и уставился на него немигающими, сведенными к переносице угольными глазами.
— Признаться, ничего подумать не успел, — пожал плечами Алексей Петрович, успев все-таки подумать, что Кунцев уж точно на улицу не выходил и в снегу не валялся. И добавил с веселой усмешкой: — Успел лишь… (слово «приятно» он благоразумно успел проглотить)… удивиться. И только.
— Вот-вот! — воскликнул Кунцев и настороженно глянул поверх плеча Алексея Петровича. — Именно что удивительно! И не только звоны, но и многое другое. Впрочем, я не об этом… Понимаете, религиозный процесс, — понес он дальше, захлебываясь торопливыми словами, — при социализме должен обрести определенную направленность в русле воспитания нового — коммунистического — человека. Поскольку религия не может одномоментно выветриться из сознания определенной категории граждан, а сами эти граждане не слишком горят желанием выветривания, нам, коммунистам-журналистам, необходимо взять этот процесс под свой неослабный контроль. Так вот, возникла необходимость поучаствовать в дискуссии на религиозную тему. Как вам известно, партия продолжает курс на обновление церкви, на извлечение метафизического корня из православной сущности и пересадки этого корня на материалистическую почву. Вы, Алексей Петрович, как-то говорили о стойкости суеверия и предрассудков в головах определенной категории граждан и говорили очень по-партийному верно. Так вот, у партбюро возникла идея послать вас на такую дискуссию в Клуб железнодорожников. Дискуссия состоится завтра в восемнадцать часов. Тут вот у меня брошюрка «Союза безбожников», в ней все есть, почитаете, плюс ваши идеи… А с Главным этот вопрос я согласовал: он не возражает. Потом, разумеется, напишете репортаж или что-нибудь в этом роде. Хорошо бы помянуть вчерашние новогодние звоны… в определенном ракурсе, естественно. Могу предложить несколько заголовков: «На путях к атеизму», например, или: «Рельсы ведут к безбожию», или: «По шпалам к земному раю», или: «Звонят, но не к отправлению поезда». Ну, вы уж там сами… — И уставился сквозь очки в ожидании возражения, чтобы тут же, не сходя с места, начать давить на партдисциплину и комсознательность, — уж тогда бы, точно, от него не отделаться.
Алексей Петрович слишком хорошо знал Кунцева, чтобы дать тому повод для такого давления, которое началось бы здесь, в коридоре, а продолжилось бы на партбюро и на общем партсобрании: Кунцев был человеком весьма последовательным и свои принципы, облаченные в форму строгой очередности поступков, отстаивал с энергией невероятной.
Но вот штука: слушая его и глядя в его опущенное лицо, Алексею Петровичу всегда представлялось, что дело не в громких принципах, а в чем-то еще, что прячется за этими принципами и светится лихорадочным огнем в угольных глазах партийного организатора, что это что-то и есть сущность самого Кунцева, которая не меняется даже вопреки его желаниям. Но можно быть сколь угодно проницательным и как угодно угадывать вторую — и главную — сущность Кунцева, однако поймать его на слове — тем более поступках — было совершенно невозможно: он всегда выскальзывал и растворялся в дымовой завесе идейно выверенных фраз. Поэтому, уловив, чего от него ждет партийный организатор, Алексей Петрович изобразил на своем лице радостную мину и, подлаживаясь под захлебывающийся говорок партийного организатора, с восторгом заговорил о том, что ему и самому давно хочется выступить на диспуте по вопросам религии, что он и сам собирался написать что-нибудь на эту тему, да все времени нет, да все другие темы перебивают, а коль само партбюро в лице товарища Кунцева, — да еще звоны, — то тут уж и тете Дуне ясно, что тема назрела и пора ее срывать и упаковывать.
Не переводя духа, он вытянул из рук Кунцева, ослабевших от неожиданной покладистости Алексея Петровича, брошюрку «Союза безбожников», полюбовался на его обалделую физиономию и пошел дальше, к своему кабинету, помахивая брошюркой, но уже ничего не напевая.
В кабинете, плюхнувшись в кресло, Алексей Петрович швырнул брошюрку в кучу всякого бумажного хлама и некоторое время сидел и перекипал тихим бешенством. Его злило, что Кунцев выбрал для этой неблаговидной роли именно его, Алексея Задонова, будто он и не Задонов вовсе, а начинающий журналист, что он не может понять причины, повлиявшей на этот выбор. Это мог быть чей-то наговор, неудовольствие главного редактора или новые политические веяния, которые прошли мимо его, Задонова, сознания. Ясно было одно: если его, Задонова, церковные звоны удивили и обрадовали, то Кунцева и ему подобных возмутили и озадачили, и теперь Кунцев хочет, чтобы Алексей Петрович это их возмущение отразил, то есть хочет руками известного журналиста Задонова, пользующегося, как ему, видимо, представляется, доверием самого Сталина, прощупать почву, на которой родилось решение дозволить церкви по-своему оповестить о встрече Нового года, и, если выяснится, что почва эта весьма шаткая, повести на эту почву наступление. Так уже бывало не раз. Правда, Алексею Петровичу до сих пор удавалось избегать участия в играх оппозиции, но точно ли удавалось, знает один лишь бог. Или дьявол. А рассчитывать на прошлое благоволение Сталина — наивно и глупо.
Алексей Петрович закурил трубку — в последнее время он перешел с папирос на трубку: и ощущения другие, и солидности больше, а возня с трубкой успокаивает и отвлекает. Попыхав дымком, он понемногу действительно успокоился: и трубка помогла, и незлобив был, и не мог подолгу сердиться на кого бы то ни было. А успокоившись, пришел к выводу, что, собственно говоря, он ничего не потеряет, если даже и поучаствует в этом диспуте, — глядишь, что-нибудь и просверкнет в смысле репортажа или статьи. А не просверкнет, то и ладно. Что же касается звонов, то надо будет подождать, что на сей счет скажет «Правда». Хотя и так ясно: без высочайшего соизволения звонить бы не стали, как ясно и то, что редактор «Правды» Мехлис против Сталина не попрет…
Но вот вопрос: что он, Задонов, говорил такого о религии, что эти его слова так засели в голове Кунцева? Наверняка ничего особенного, просто импровизировал, как обычно. И вечно его тянет за язык какая-то сила, с которой он никак не может совладать, а в результате — себе же самому одни неприятности да лишние хлопоты.
Алексей Петрович пошарил в своей памяти, но так ничего в ней не нашарил: ни когда, ни при каких обстоятельствах дернуло его за язык говорить о религии. Вспомнил бы обстоятельства, вспомнились бы и произнесенные слова. Но и по этому поводу огорчаться не стоило. И он, мысленно махнув рукой: авось вспомнится на самом диспуте, для очистки совести полистал брошюрку «Союза безбожников», выковыряв ее из корзины с мусором, однако ничего путного в ней не нашел.
Обойдусь как-нибудь и так, решил Алексей Петрович. Как говорится: черт не выдаст, свинья не съест… Кстати, это очень даже правильно, что бога стали писать с маленькой буквы. С одной стороны, если бог с большой буквы, так ведь и черта тоже надо писать с большой же, а если нет, так обоих с маленькой, потому что Черт есть антипод Бога, то есть равный ему по значению, как равны отрицательный и положительный электрические заряды. С другой стороны…
Стоило Алексею Петровичу зацепиться за какое-нибудь словцо, как мысль начинала накручивать вокруг этого словца десятки других слов и понятий, в результате чего вырастало чуть ли ни новое учение или, во всяком случае, пролог к такому учению. Увы, дальше пролога дело обычно не шло, потому что в воображении начинали, помимо слов, мельтешить какие-то лица, встревали какие-то непрошеные собеседники и поднимали такой гвалт, что от пролога ничего не оставалось.
Сегодня Алексей Петрович не поддался произволу непрошеных собеседников. Он встряхнул своей породистой головой и продолжил с тех же слов, на которых споткнулся: «с другой стороны».
Да, с другой стороны, бог — это нечто, в представлении каждого совершенно отличное от других, то есть, если я говорю: «Бог!» — то какого бога я имею в виду? Христа? Аллаха? Будду? Зевса? А если языческого бога иудеев или сонма богов древних славян, пришедших к ним с севера и даже из Ирана? Наконец, в таких выражениях, как «Бог с ним» бог легко заменяется на черта, хрена и далее на «х». Тем более что с точки зрения грамматики русского языка бог — понятие родовое, как, скажем, рыба, человек и прочее. Это уж церковники в своих книгах пусть пишут, как им хочется, а в светской литературе…
Но если непрошеные собеседники не помешали Алексею Петровичу рассуждать о боге, то помешал главный редактор. Пришлось идти к нему, решать там всякие вопросы, к религии никакого отношения не имеющие, и Алексей Петрович позабыл о предстоящем диспуте в Клубе железнодорожников. Но в конце рабочего дня Главный сам напомнил о нем, позвонив по внутреннему телефону и попросив поучаствовать. Ясно, что Кунцев для верности решил заручиться поддержкой Главного и науськал его на Задонова.
Впрочем, Алексей Петрович отлично понимал, что его существование и в качестве человека и гражданина, и в качестве писателя и журналиста целиком и полностью зависит от способности схватывать и поддерживать все то новое, что с некоторых пор внедряется в сознание народа и в практику повседневной жизни. Новое — это новогодняя елка, это изменение тона газет: в них перестали охаивать все, что связано с дореволюционным прошлым страны, в этом прошлом теперь пытаются найти и находят весьма положительные исторические факты и даже благотворно действующие на людей народные традиции, а по радио все больше звучат народные песни и мелодии и все реже песни времен революций и гражданской войны. Самому Алексею Петровичу в этом направлении перестраиваться нет необходимости. Тут главное — не высовываться вперед, но и не отставать.
Алексей Петрович вспомнил, как незадолго до Нового года шел по улице с елкой, только что купленной неподалеку от Большого театра, и повстречал знакомого писателя по фамилии Конкин, писателя серенького, но очень деятельного и очень революционного, состоящего в правлении московской писательской организации.
— Как, вы — и это?! — изумился Конкин, показывая на елку, точно это была вовсе и не елка, а четырнадцатиглавая гидра контрреволюции.
— А почему, позвольте вас спросить, я должен лишать своих детей такого удовольствия? — с вызовом ответил вопросом на вопрос Алексей Петрович, ставя елку между собой и Конкиным непреодолимой преградой, при этом у него внутри что-то все-таки дрогнуло от страха, и тут же подумалось, что мог бы покупку елки поручить Маше или попросить брата: черт его знает — сегодня елка, а завтра за эту елку потянут к ответственности.
Конкин на вызывающие слова Алексея Петровича покачал головой и укоризненно произнес:
— Эдак вам завтра скажут петь «Боже, царя храни», вы и запоете… чтобы не лишать удовольствия своих детей. А помимо удовольствия… — голос Конкина зазвенел и налился неукротимой силой убежденности: — …помимо удовольствия есть еще партия, советская власть и мировая революция. Смотрите, товарищ Задонов, как бы вам не аукнулись эти ваши сомнительные удовольствия в самом ближайшем будущем. Тогда пожалеете, да будет поздно.
— Так ведь как аукнется, так и откликнется, — пробормотал Алексей Петрович и, обойдя Конкина, пошел своей дорогой, стараясь изо всех сил убедить себя, что ничего особенного не произошло, что Конкин — это еще не советская власть и тем более — не партия, а елка — не преступление перед ними, а практическая поддержка их политики.
И все-таки Конкин был в чем-то прав: уже с год примерно в воздухе как бы все более густела атмосфера надвигающейся опасности, а что за опасность, кому она грозит, понять было трудно. Но вот убили Кирова, вслед за тем арестовали Зиновьева с Каменевым — и возникло ощущение, сродни тому, какое возникает перед грозой в чистом поле: вроде и тихо, и солнце светит, и вся живность на разные голоса кричит о своем существовании, но так кричит, будто в последний раз. Потом, как водится, станет душно, что-то начнет давить, воздух сделается плотным и вязким, будешь, потирая грудь, оглядываться по сторонам, будешь искать укрытие, а укрытия нет, разве что одинокий дуб на взгорке, уже не раз меченный небесным огнем…
Глава 6
В Клубе железнодорожников народу битком. Судя по всему, собрали пассажиров из залов ожидания, соблазнив их бесплатным чаем и бутербродами с вареной колбасой. На сцене за длинным столом несколько человек. Среди них два пожилых священника в черных камилавках, в черных же рясах, с лопатистыми бородами, ниспадающими гривами волос, с большими нагрудными крестами. И два каких-то странных молодых человека, тоже похожих на священников, но из тех, кого раньше называли попами-расстригами. Молодые оказались «живоцерковниками», «обновленцами», противниками патриарха Тихона, стоящего на позициях невмешательства церкви в государственные дела, а государства — в дела церковные. По существу, дискуссия проходила между этими попами, при этом тихоновцы выглядели весьма жалко, ссылаясь исключительно на Евангелие, в то время как попы-обновленцы крыли их насущными задачами простого народа, вытекающими из строительства новой жизни, широко цитировали Библию, а из Библии те положения, которые показывали, как израильтяне приняли нового бога и с этим богом отправились в землю обетованную, что без нового бога они бы туда не пошли и не дошли, следовательно, в новых условиях жизни народа надо и бога представлять по-новому, и его отношение к власти тоже. Их аргументы сводились к тому, что всякая власть от бога, а бог всегда стоит на стороне простого народа.
«Да-да, — думал Алексей Петрович в продолжение своих вчерашних рассуждений, вполуха слушая препирательства попов. — Стремление к власти есть стремление занять место бога в решении судеб себе подобных, присвоение себе божественных функций. Бог нужен исключительно для того, чтобы оправдать это неуемное стремление к власти, освятить это стремление благоволением свыше, обеспечить покорность народа и послушание. Не власть от бога, а бог от власти, то есть от людей, алчущих ее. Моисей выдумал бога, а не бог Моисея. Народу же все равно. У него свое понимание бога. Для народа бог — это, прежде всего, защитник его, народа, от власти. Власть, разрешив новогодние звоны, и то после „Интернационала“, сделала уступку народу, но не церкви…»
Зал лузгал семечки и явно склонялся к живоцерковникам. В этом зале было бы смешно выступать с философскими построениями, какие за последние сутки нагромоздились в голове Алексея Петровича, продолжая разрастаться до размеров невероятных, так что ему временами казалось, что он способен заглянуть за грани возможного и представить себе Вселенную во всей ее безграничности: надо лишь напрячься и все время повторять про себя какой-нибудь определенный набор слов, вроде: «Вселенная конечна в бесконечности». Или: «Бесконечность Вселенной есть расширяющийся шар». Когда это повторяешь так долго, что начинаешь утрачивать ощущение реального значения слов, тогда вдруг прозреваешь и конечность бесконечности, и бесконечно конечный шар. Недаром же верующих понуждают повторять молитвы так долго, как только возможно, и не удивительно, что после этого их посещают «божественные видения».
Слушая препирательства на сцене, Алексей Петрович порадовался тому, что предусмотрительно не обнаружил своего присутствия на этом сборище, иначе ему пришлось бы сидеть в президиуме и о чем-то говорить с трибуны, как пришлось там сидеть поэту Беспаспортному, очень, видать, возжелавшему воспарить над толпой силой своего интеллекта и эрудиции. Из этого возжелания получилось не воспарение, а чистая клоунада, над которой и потешался битком набитый зал.
Алексей Петрович поморщился и огляделся, пытаясь оценить реакцию зала. Рядом с ним сидел сухонький старичок в прозрачной седой бородке и реденьких пепельных волосах, как попало торчащих из его круглой головы. Старичок напряженно вслушивался в речи выступающих, укоризненно качал головою и что-то бормотал про себя, иногда пугливо оглядываясь по сторонам. Вскоре взгляд его стал все более задерживаться на Алексее Петровиче, как бы ища у него поддержки и сочувствия. Старичок был явно из попиков, хотя и одет в цивильное платье. Он очень походил на попика именно деревенского, каких когда-то, еще в молодости, знавал Алексей Петрович, — тихих, застенчивых и погруженных в самих себя, бережно носящих в себе от сохи и скотного двора немилостивого бога.
Слева, но в ближнем ряду, сидели две женщины лет этак под сорок, в одинаковых черных шалях с кистями. Задонов видел их недоуменные лица, когда они оглядывались по сторонам, не понимая, что происходит, и мелко крестили себе живот, чтобы это не бросалось в глаза. А еще дальше, ближе к президиуму, бушевала молодежь, освистывая всех, кто пытался заступиться за сторонников бога и религии.
Послушав еще немного и понаблюдав этот бестолковый спектакль, Алексей Петрович тихонечко покинул зал и выбрался на свежий воздух, вдохнул этот воздух полной грудью и огляделся с улыбкой человека, выполнившего свой профессиональный долг.
Мимо сновали озабоченные люди с узлами, корзинами, баулами и чемоданами, кричали носильщики, торговцы пирожками и водой, фыркали лошади и стучали подковы, тарахтели автомобили, громыхали трамваи. За высоким дощатым забором, исписанным похабщиной, которая кое-где проступала даже сквозь краску, коей эту похабщину пытались замазать, ухала паровая баба на строительстве метро, в щели между досками заглядывал любопытный народ.
На площади трех вокзалов кипела жизнь, далекая от того, что в эти минуты происходило в ограниченном пространстве зала Клуба железнодорожников. И там и здесь жизнь именно кипела. Но как эти кипения отличались друг от друга. И не только внешне. В каждом человеке, спешащем через площадь, в дребезжащем трамвае, в ухающей бабе, в ломовой лошади и даже в похабщине на заборе чудилось Алексею Петровичу это странное несоответствие одного другому. Весь мир казался ему огромным муравейником, который время от времени разоряют медведи, а другие странные животные, расположившиеся поодаль, пытаются заманить муравьев в свои ловушки. Но у муравьев откуда-то берутся силы не только возродить свой муравейник, но даже увеличить его размеры. Бога во всем этом не было видно совершенно. Философские построения, занимавшие воображение Алексея Петровича последние сутки, казались ему теперь жалкими и никому не нужными. Даже себе самому. И если что-то изумляло его, так это разнообразие человеческих пристрастий, увлечений, предметов и способов приложения своих сил и способностей. Вот ведь странность: одни безудержно рвутся в некую прекрасную даль, гонят и тащат за собой в эту даль целые народы, другие, наоборот, упираются рогами и копытами, цепляются за кусты, деревья и заборы, отталкивая от себя тех, кто вольно или невольно отдается во власть бурного течения истории. И все это буквально на глазах — стоит лишь приглядеться.
В эти минуты Алексей Петрович был даже благодарен Кунцеву за то, что тот загнал его против воли на этот диспут, иначе бы мимо него, писателя Задонова, прошла такая часть жизни человеческого общества, о которой только и можно узнать, лишь прикоснувшись к краям ее мрачных одежд, узнать на том водоразделе, где происходит сцепление и распадение частиц исторического потока.
Рядом кто-то сдержанно кашлянул и произнес тихим, просительным голосом:
— Простите бога ради, если я отрываю вас от ваших размышлений…
Алексей Петрович оглянулся и встретился с маленькими умными глазками, похожими на две крохотные весенние лужицы. Перед ним стоял недавний старичок-сосед и смотрел на Алексея Петровича так, будто они были давно знакомы, и надо лишь вспомнить, как кого зовут.
— Да, я вас слушаю, — произнес Алексей Петрович, с любопытством разглядывая старичка: в зале он не присматривался к нему и теперь пытался понять, встречался ли он с ним когда-нибудь, или нет. И хотя такие старички не редки среди священников, этого Алексей Петрович видел впервые: такие старички, если вдруг встречаются в жизни, запоминаются надолго, если не навсегда.
— Я заметил, — заговорил старичок все тем же виноватым голосом, — что вы тоже не в восторге от того бесовства, которое вершится в зале. Мне показалось, что вы оказались в этом зале не случайно…
— Да, вы правы, — согласился Алексей Петрович, стараясь быть серьезным и не улыбаться, потому что старичок этот, чистенький и аккуратненький, казался каким-то ненастоящим и этим вызывал невольную улыбку. — Мне действительно показалось все это не слишком интересным. Но, с другой стороны, это, как вы изволили выразиться, бесовство, определенным образом характеризует эпоху, без этого действа она выглядела бы неполно.
— Я должен с прискорбием согласиться с вами, — качнул старичок своей аккуратненькой головкой, покрытой потертой меховой шапкой-ушанкой. — Ересь всегда сопутствует истинной вере и в определенные периоды человеческого бытия берет верх над верой. Но человек не токмо смертен еси, но и отходчив. Побузив, он непременно вернется в лоно церкви, припадет к ногам господа нашего Иисуса Христа.
— Вы — поп? — спросил Алексей Петрович, чувствуя возрастающий интерес к старичку.
— Священнослужитель, с вашего разрешения. Отец Иона, бывший настоятель церкви Преображения Господня.
— Задонов… Алексей Петрович. Служащий. — И, помолчав, добавил: — Атеист.
Последнее признание почему-то особенно обрадовало отца Иону, он всплеснул маленькими ручками, распустил по лицу благодушные морщины:
— Очень рад познакомиться, Алексей Петрович. Признаться, с иным атеистом интереснее иметь дело, чем с праведником, — стянул с правой руки меховую рукавицу и протянул детскую ладошку Алексею Петровичу.
— Вот как! — удивился Алексей Петрович, осторожно пожимая руку отца Ионы, и предложил: — А не посидеть ли нам с вами где-нибудь, отче?
— С превеликим удовольствием. Я, видите ли, недавно из больницы. Тиф. Когда все болели тифом, меня бог миловал, а теперь вот решил наказать за прошлые прегрешения мои… Но это так, к слову. А живу я здесь рядышком, если не побрезгуете моим гостеприимством, то милости прошу, буду весьма рад и признателен. Чаем напою. Чай у меня травный, весьма приятен и полезен для здоровья.
— А что! — решительно тряхнул головой Алексей Петрович, загораясь и думая, что из этой нечаянной встречи он непременно почерпнет для себя нечто полезное. Может, даже рассказ получится. — Очень даже не побрезгую вашим приятным и полезным чаем!
Глава 7
Двухэтажный, рубленный из толстых сосновых бревен дом стоял в глубине тупичка, отходящего от Ольховской улицы, перегораживая этот тупичок и отделяя дома от обширного сквера с замерзшим прудом посредине. Комната отца Ионы находилась в первом этаже, ее единственное окно подслеповато таращилось на густые кусты сирени, затканные в искристую снежную бахрому. В желобке между двойными рамами на слежавшейся вате стояли фарфоровые солонки с крупной серой солью, а поверх всего путаница из золотых и серебряных нитей елочной канители создавала ощущение забытого праздника.
Возле двери пыхал теплом изразцовый бок голландки, за ситцевой занавеской виднелся угол железной кровати с никелированными шарами, посредине старинный стол, у стены шкаф, под окном сундук, окованный бронзовыми полосами в виде ромбов, еще маленькая кушеточка, бог весть как втиснувшаяся между сундуком и шкафом, а в углу, в трепетном свете лампадки, дюжина разномастных икон в окладах и черные лики, неотрывно следящие за каждым движением людей большими печальными глазами.
— Это все, что осталось от церкви, — пояснил отец Иона, кивнув на иконы. — Все разворовали, растащили, осквернили. Но не святое место, а душу свою. Сам товарищ Ярославский, Миней Израильевич, командовал уничтожением святыни, радовался, когда падали колокола и стены, аки безумный. Бог ему судия…
Высвободившись из старенького зипунишки, под которым оказалась черная подотканная под кушак ряска и большой бронзовый крест на массивной цепи, повесив зипунишко на вешалку, туда же шапку, разувшись и оставшись в шерстяных носках, отец Иона прошел в угол, на ходу выпрастывая ряску из-под кушака, несколько раз перекрестился, кланяясь до самого пола, и только после этого, засуетившись, стал ухаживать за своим гостем, помогая раздеться, потом, придерживая за локоть, провел к кушетке, усадил, посмотрел, довольный, склонив набок круглую голову, и сообщил:
— Сейчас чай приготовлю, потом побеседуем. Очень давно я ни с кем не беседовал, дорогой мой Алексей Петрович, душа истосковалась по разумному человеческому слову.
И тут же засеменил детскими ножками и исчез за дверью.
Чай действительно оказался вкусным, с приятным запахом ранней осени. К чаю пришлось брусничное варенье, творожные ватрушки и отменная черносмородиновая наливка, какой Алексею Петровичу пробовать не доводилось. Отец Иона с благостной улыбкой на чистеньком лице следил за тем, как смакует его гость наливку, но сам лишь пригубил свой бокал старинного стекла, и все говорил и говорил тоненьким просительным голосом:
— Людям без бога никак нельзя, и власть это, слава богу, начинает понимать, хотя и с прискорбными оглядками. Шутка ли сказать — тыщу лет Русь жила во Христе и вдруг все разом порушить — дело совершенно невозможное.
— Почему же невозможное? — спросил Алексей Петрович. — Ведь дело-то не в новой власти, она лишь закрепляет достигнутое. Я, например, стал атеистом еще в молодости. Да и среди моих тогдашних знакомых что-то не припомню ревностных приверженцев религии. Разве что пожилые женщины. А Чехов, Антон Павлович, изволили как-то выразиться, что интеллигент, верующий в бога, вызывает у него недоумение.
— Ну, это среди интеллигентов. А среди простого народа бог жил и живет всегда. И это я не понаслышке знаю.
— Согласен с вами, отче. Но какой бог?
— В этом вся и беда: истинный бог уходит из сознания человека без церковного попечительства, остается бог не истинный…
— А по-моему, всякий бог для верующего истинный, — отставляя в сторону фарфоровую чашку, произнес Алексей Петрович, вспомнив все, что он передумал за минувшие сутки, решая, вывалить эти свои размышления на голову отца Ионы или не нужно. Ему даже показалось на миг, что отца Иону судьба подбросила ему именно для этого, и он, все более воодушевляясь, заговорил, пока еще издалека, но постепенно подбираясь к своим идеям.
— Дело не в боге, — говорил он, — а в желании во что-то верить. Люди осуществляют это желание по-разному. И это их право. Да и… Вот в Евангелии от Иоанна, если мне не изменяет память, записано: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И… Как там дальше? «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И далее: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков…» Так, отче?
— Истинно так.
— Так из чего, если признать, что бог существует, он мог сотворить землю, солнце, звезды и прочее? Только из самого себя. А уж потом Адама — из глины, Еву — из ребра Адамова. Следовательно, все, что мы видим, все, что нас окружает, и мы сами — все есть частицы бога. И камни, и птицы, и звери, и вода, и огонь, и воздух, и сам человек — всё частицы бога! Отсюда вывод: чему бы человек ни поклонялся, даже самому себе, он поклоняется все тому же богу.
— Все это суесловие. Христос затем и приходил на землю, чтобы указать людям, кому следует поклоняться, кто есть бог истинный и предвечный, — со снисходительной улыбкой возразил отец Иона и сложил на груди маленькие ручки.
— Ну, приходил он или не приходил, мы этого не знаем, — горячился Алексей Петрович, пытаясь пошатнуть заскорузлые основы отца Ионы. — Легенды еще не есть доказательство. В конце концов, бог мог явиться и в виде птицы: древние египтяне поклонялись ибису. Евреям он явился в виде огненного куста. Да мало ли кем и чем мог явиться бог! Ведь получается, что до Христа он не являлся человечеству ни в каком виде. А почему? И почему «В начале было слово и слово было у Бога»? Не следует ли из этого, что бог до этого «начала» был бессловесен? А коли бессловесен, то и безмыслен. А по существу — до этого «слова», которое было в начале, не было и самого бога. Либо над одним богом, богом земным, существует другой, более вместительный, галактический, над другим — третий. И так до бесконечности. Этакая иерархия богов. Вроде русской матрешки.
Алексея Петровича так увлекли софистические упражнения в этом направлении, что он разволновался, вскочил, выбрался из-за стола и принялся вышагивать в тесном пространстве между сундуком и дверью. Ему казалось, что в его рассуждениях о боге есть что-то новое о бытии Вселенной, что-то огромное и неизведанное им дотоле. Пусть даже это рассуждение дилетанта, так ведь о боге только дилетанты рассуждать и могут: Вселенная бога есть всего лишь ощущение, нечто кажущееся, мир бога лежит за пределами реального, овеществленного, а богословская ученость есть ученость внушения и самовнушения — тоже из мира мистики и ирреальности, но перенесенная на практическую почву.
Сам Алексей Петрович, давно ни в какого бога не веря, слишком хорошо помнил свое «верующее» детство, в котором божественное переплелось со сказками, вытравливать из памяти которые было бы кощунством. Можно не верить в бога, но не верить в сказки невозможно. И, колеся по стране, Алексей Петрович с болью смотрел на разоренные церкви, запущенные и загаженные монастыри. Это было тем более печально, что подчас на всем безбрежном пространстве глазу задержаться не на чем, как на одинокой церквушке, в создание которой человек вложил так много своей души и стремления к совершенству, как ни во что другое. Наконец, это была часть культуры его народа, создаваемой веками, культуры, которую с такой неистовостью уничтожали ярославские-луначарские-кагановичи-бухарины-кунцевы и им подобные.
Ну, да что ж теперь-то…
— Но если это так, то есть если бог един или многозвенен, что практически одно и то же, если он создал мир из самого себя, — продолжал Алексей Петрович, — то бог не может быть ни человеком, ни его образом, ни чем-то вообще конкретным. То есть Бог — это Вселенная, или даже больше, чем Вселенная — Вместилище Вселенной. Другими словами, бог есть преображение метафизической сущности в сущность материальную. И наоборот.
Отец Иона попытался что-то сказать, но Алексей Петрович остановил его движением руки: ему хотелось исчерпать божественную тему до дна, быть может, потом она уже никогда не взволнует его так, как нынче.
— Главное в любой вере — определенный набор моральных установлений, которым следует определенное человеческое сообщество. Чем сложнее установления, тем выше сообщество на ступенях цивилизации. Отдельный бог нужен отдельному народу или государству, или сообществу народов или государств, противостоящих другим народам или государствам со своими отдельными же богами. Вершина — полное отрицание Бога и возвеличивание Человека. Или, наоборот, полное слияние Человека с Богом — все с большой буквы. Ибо каждая женщина, собирающаяся стать матерью, зачинает Бога, его частицу из частицы Бога же. Если это не так, то Бога нет. Но если он есть, то обращаться к нему с молитвами-просьбами бессмысленно: Богу все равно, в какой форме он существует — в форме живого или мертвого, ему все равно, любят его или нет, славят его или нет. Создав мир, он не может его уничтожить и изменить. Он дал ему способность к самоуправлению и саморегулированию. Если есть Бог, то нет смерти, потому что переход живого в неживое и наоборот есть форма существования Бога. Признание Бога есть отрицание его.
— И, наконец, Иисус Христос! — воскликнул Алексей Петрович, останавливаясь напротив отца Ионы. — Если Бог послал своего Сына на землю в виде Христа, то он как бы послал частицу самого себя. Утверждение, что Бог един в трех ипостасях есть инстинктивное — изначальное — представление о единстве Бога и Мироздания. Посылка частицы самого себя в виде Христа к частицам самого себя в виде людей еще не значит, что это первое (и единственное) пришествие — лучше сказать: явление — Бога людям. До этого, как я уже говорил, Бог являлся людям то в виде птицы, то зверя, то еще кого-нибудь или чего-нибудь, в зависимости от потребностей самого человека видеть бога в том или ином обличье.
— Чем больше человек старается доказать существование Бога в виде человека же, бессмертного и всемогущего, как и в любом другом виде, — вдохновенно продолжал Алексей Петрович, подстегиваемый доброжелательностью своего слушателя, — тем меньше он в это существование верит. Невежество людей, которое не зависит от образования и рода занятий, с одной стороны, и посредничество любой церкви между человеком и богом, посредничество, которое есть та же власть и нажива, является той или иной формой существования Бога. Бога рождает страх. Напугайте хорошенько людей и пообещайте им избавить их от этого страха — и они в ваших руках. Или я не прав, отче? — остановился Алексей Петрович, посмотрел на отца Иону смеющимися глазами и плюхнулся на сундук. — Фу! — сказал он, улыбаясь. — Давно я так не философствовал. Сами виноваты, отче: чай у вас волшебный, а наливка — так и просто божественная, у кого угодно язык развяжет.
— Все в руках божиих, — смиренно произнес отец Иона и осенил крестом висящий на шее большой бронзовый крест. — Не вы первый, кто произносит подобные словеса, кто мудрствует на том же самом месте, на котором мудрствовали другие. Еще в начале века сего в Питере, в Москве и в Киеве собирались писатели, философы, ученые люди и служители церкви и рассуждали на тему, что есть бог и что есть человек. Дело не в том, как вы представляете себе бога, а в том, что Вселенная великая тайна есьм, великая и неразрешимая для человеков тайна, дорогой Алексей Петрович! — воскликнул отец Иона, задрав вверх бородку. — Бог есть душевное состояние человека, нечто идеальное и надмирное, в ком человек ищет разрешение смысла своего существования. А представляется он в виде человекоподобного существа или птицы, не суть важно. Важно, чтобы человек почаще заглядывал в свою душу и спрашивал у себя, зачем он пришел в этот мир и как мировой идеал соотносится с его, человека, существованием. Ваши рассуждения — суть рассуждения буддиста. Буддист отрицает бога; во всем, что происходит в мире, он видит причинно-следственную связь и неразрывность бытия. Для него важно самосозерцание и отказ от природы вещей, — с лукавой улыбкой заключил отец Иона.
— Так тем более! — воскликнул Алексей Петрович. — Если я, ничего не зная о верованиях буддистов, прихожу к тем же выводам, то в этом есть некое рациональное зерно. Разве не так? Но если бы мне пришлось выбирать между Христом и Зевсом, я выбрал бы Зевса с его детьми и родственниками. Это были боги, с которыми можно было разговаривать, спорить, которым можно было противоречить. И не удивительно, что древние греки создали столь восхитительную культуру, уничтоженную христианством и магометанством, до которой мы все еще никак не можем подняться…
Отец Иона сокрушенно покачал детской головой, точно ему было жалко заблудшего в трех соснах человека.
— Вот и ваш батюшка, Петр Аристархович, царство ему небесное, тоже все философствовал, философствовал… А за год до кончины стал приходить ко мне на исповедание и очень печалился своему неверию, своему душевному разладу. Царство ему небесное: с богом в душе преставился раб божий.
— Вы знали моего отца? — изумился Алексей Петрович.
— Вот там же, где вы сидите, сиживал и ваш батюшка. Большого ума человек был. Очень большого ума.
Алексей Петрович большого ума за отцом не числил, но вдруг увидел своего отца за этим столом, представил, о чем могли здесь говорить, и подумал, что, может быть, отец и был великого ума, но перед домашними не спешил этот свой ум демонстрировать. Он вспомнил снисходительную усмешку отца, слушающего споры молодежи, и только сейчас догадался, что отец слишком хорошо понимал, что его увещевания ничего не изменят, что молодые сами должны доходить до своих основ.
— Вы рассказывайте, рассказывайте, отче, — произнес Алексей Петрович взволнованным голосом. — Отец никогда не упоминал о встречах с вами, о своих поисках бога.
— И правильно делал: времена-то, сами знаете, какие. Да и что мне вам рассказывать-то? И не нужно ничего рассказывать: вы настолько похожи на своего батюшку, что я слушал вас и поражался, как вы во всем похожи друг на друга. Вот братец ваш, Лев Петрович, он другой породы, он в матушку вашу. Греха в том нету. Так господу нашему было угодно. Надеюсь, все живы-здоровы?
— Спасибо. Пока, слава богу, все живы-здоровы.
— И слава богу! И слава богу! — закрестился широкими махами руки отец Иона. При этом глаза его вдруг стали отсутствующими, засветились каким-то странным светом, так что у Алексея Петровича невольно дрогнула рука и потянулась было совершить крестное знамение, но остановилась, едва оторвавшись от стола.
— А вы заходите ко мне, заходите, Алексей Петрович, — вновь заговорил отец Иона, точно вернувшись откуда-то издалека. — На чаек, на наливочку. Или выговориться захочется — я всех слушаю. Может, умишком своим скудным присоветовать дельное не смогу, так ведь совет и не всегда нужен.
Алексей Петрович поднялся, сконфуженный. Стал прощаться. У двери запнулся, не зная, целовать ли ему руку священника, или просто пожать, но отец Иона сам обхватил его руку обеими своими детскими ручонками, потряс, а потом, привстав на цыпочки, поцеловал Алексея Петровича в щеку. И прослезился.
Прежде чем завернуть за угол, Алексей Петрович оглянулся на старый дом, перегораживающий переулок, изумленно покачал головой: надо же такому случиться! Он поразился той странной череде случайностей, начиная от встречи в коридоре редакции с Кунцевым, которая привела его в этот переулок, в тесную квартиру отца Ионы.
«Да, действительно, дело не в мудром совете, а в желании одних высказаться и в умении других выслушать», — подумал Алексей Петрович, чувствуя в душе своей успокоение и мир.
И пошагал по узкой тропинке, вытоптанной в снегу через сквер, пытаясь вспомнить, был он когда-нибудь в этих местах или не был. Здесь жива еще была та старая Москва, которую он помнил с детства, с ее деревянными домами, липовыми аллеями вдоль небольших прудов и зарослями сирени.
Глава 8
Перед майскими праздниками часть залов Русского музея Ленинграда была отдана под выставку картин современных художников. На эту выставку Александр Возницин представил два больших полотна: «Весенний разлив на Северной Двине» и «Майская демонстрация трудящихся на Дворцовой площади». В обеих картинах общим был именно разлив — разлив реки и разлив человеческой массы. Даже краски Возницин использовал близкие по тональности: высокое синее небо, красные сосны и красные флаги — и все это связано в единый неудержимый поток: поток воды среди деревьев и поток людей между домами.
Александр был доволен этими своими полотнами, в них удалось преодолеть замкнутое пространство, вырваться на простор и связать природу с человеком. Он отметил, что и некоторые зрители заметили это внутреннее сходство и, поскольку картины висели рядом, смотрели на них как на единое целое, продолжение друг друга.
Но главное было не в этих двух картинах, даже вполне удачных, а в том, что после общей выставки почти на тех же площадях должна состояться его персональная выставка, как итог десятилетней работы.
Картины уже были собраны в одном из помещений Русского музея, просмотрены выставкомом и одобрены им — вопреки всем опасениям Александра. А опасения имели под собой почву: вдруг и, казалось, ни с того ни с сего развернулась на страницах газет и журналов критика его творчества, пошли всякие разговоры. Возницин даже представить себе не мог, что объявленная выставка его картин может вызвать такое брожение в среде художников, что возникнут какие-то группировки, которые будут активно противодействовать этой выставке, что по инициативе этих группировок в газетах и журналах станут печататься статьи, высмеивающие, порочащие его, Возницина, картины, его художественный метод, выбор сюжетов, манеру письма, что его станут обвинять в отходе от соцреализма и революционности, что, наконец, даже тот факт, что он стал наследником мастерской умершего четыре года назад художника Ивана Поликарповича Новикова, кем-то будет рассматриваться как жульничество и попрание партийной этики.
Занятый исключительно работой и почти не принимающий практического участия в деятельности Союза художников, Возницин имел весьма смутные представления о том, какие в недрах этого союза существуют группы, течения и направления, и даже не предполагал, что они при случае могут обрушиться на него всей своей объединенной мощью. И ведь не столько даже сами художники, сколько какие-то писатели, которых он никогда не читал, партийные деятели, о которых он ничего не слышал. Даже учителя одной из Ленинградских школ почему-то вдруг решили, что все творчество его никуда не годится, вредно для дела социализма и воспитания подрастающего поколения.
Были минуты, когда Александр, отчаявшись, готов был отказаться от выставки, лишь бы не мешали ему работать, заниматься любимым делом. Ну, выставляется он наравне с другими и вместе с другими, получает заказы, картины его покупают музеи, он с семьей не бедствует и ни на что не претендует, — ему и этого хватает выше головы. И ведь не сам он полез в соответствующие инстанции с идеей собственной персональной выставки, у него даже в голове ничего подобного не возникало: какая такая персональная выставка, когда и картин-то кот наплакал, а хороших, таких, чтобы по большому счету, и вообще всего-то несколько штук, и чтобы с этим идти на выставку… Но предложили в Ленинградском отделении Союза, настаивали, и стоило ему поддаться уговорам, согласиться, как все и началось, точно специально для этого была выдумана идея персональной выставки художника Возницина — охаять и унизить его в глазах всего честного народа.
Если бы не Аннушка, Александр наверняка запил бы, как это бывало уже в прошлом. Но Аннушка, то ли потому, что не понимала всей опасности возникшей травли своего мужа на страницах Ленинградской прессы, то ли настолько верила в талант его, что могла с презрением относиться ко всему, что пыталось этот талант унизить, но только она одна давала Александру силы выдерживать все наскоки, которые обрушивались на его голову. Аннушка в этом смысле как бы заняла место Варвары Ферапонтовны Верновской, которую в прошлом году выслали из Ленинграда как бывшую аристократку и неблагонадежный элемент в Кировскую область, в город Лысьву. Аннушка, утешая своего мужа, подбадривая его, даже говорила знакомыми словами и выражениями Варвары Ферапонтовны, — и не мудрено: связь Варвары Ферапонтовны с Аннушкой не прерывалась, они писали друг другу письма, Аннушка подробно рассказывала об успехах и неудачах своего мужа, о ленинградских новостях, о своих детях.
Письма Варвары Ферапонтовны из ссылки были в основном откликами на письма Аннушки. О себе бывшая княгиня писала скупо, не жаловалась, судьбу не кляла, наоборот, выказывала удовлетворение оттого, что живет в исконно русской глубинке, работает на ниве просвещения и очень этим счастлива. Была ли она счастлива на самом деле или «держала марку», а только письма ее дышали оптимизмом, содержали массу полезных советов и очень помогали Аннушке хоть как-то ориентироваться в мире людей, причастных к искусству своего мужа.
Незадолго до майских праздников шумиха по поводу персональной выставки картин художника Александра Возницина разом оборвалась, будто этой шумихи и не было, точно где-то кто-то сказал грозное: «Хватит!» — и все шавки сразу же поджали хвост. Более того, пошли звонки с поздравлениями — и опять же по случаю выставки. Александр ответил на пару таких звонков, но больше к телефону не подходил, предоставив это деликатное дело Аннушке: та знала — или чувствовала, — кому что говорить, а кому вообще ничего говорить не надо. И это было самое лучшее для Александра, потому что чаще всего звонили и поздравляли как раз те же самые люди, которые недавно охаивали художника Возницина и клеветали на него; сам он не мог заставить себя разговаривать с ними так, будто ничего не случилось.
Теперь все это осталось в прошлом, но в прошлом не слишком далеком, оно продолжало царапать душу острыми колючками едва скрытой чужой неприязни и зависти, или еще чего-то большего.
Уже были разосланы персональные приглашения друзьям и коллегам, прочим весьма известным и влиятельным людям, которые могут обидеться, если их не пригласить. Впрочем, приглашения готовил и рассылал не сам Возницин, занимался этим выставком, а там знали, кого приглашать. От Александра требовалось лишь подать список тех людей, кого бы он сам желал видеть на открытии. Все остальное было не его заботой.
У художника Возницина это была первая персональная выставка. Не случись шумихи по ее поводу, он бы не так волновался и мучился. Но теперь, когда все стихло, ему уже самому казалось, что была какая-то доля правды во всей этой шумихе, были какие-то основания, тем более что не святой он, небезгрешен и как человек, и как художник.
Александр извелся, плохо спал по ночам, даже поссорился с женой, которая очень хотела видеть на открытии выставки всех своих бывших подруг со «Светланы», объясняя свое желание тем, что как раз для них-то, простых работниц и рабочих, он, Александр, и пишет свои картины, а вовсе не для своих завистливых коллег, для критиков и прочих типов, от народа своего оторвавшихся или никогда к народу не принадлежавших.
Увы, количество приглашений было ограничено, Александр для жены выделил всего лишь двенадцать штук, а на них не пригласишь не то что свою бывшую бригаду сборщиц «лампочек Ильича» в полном составе, но даже половину ее, потому что почти все девчонки повыходили замуж, а Зинаиду Ладушкину, например, неловко приглашать только с мужем, без его родителей, людей интеллигентных и разбирающихся в искусстве.
Поразмыслив, Аннушка вернула мужу пригласительные билеты.
— Ты знаешь, Саша, я думаю, что моим девчонкам и их мужьям будет совсем не интересно слушать речи твоего начальства. Да и тебе не до них будет. Лучше пригласить их не на открытие, а на ближайшее воскресенье. Им интереснее просто собраться вместе, показаться со своими мужьями и родственниками, поговорить, а заодно и посмотреть твои картины. Ты им расскажешь, что и как, если их что-то заинтересует. А не заинтересует, так ты на них не обижайся: они в этом не виноваты. Зато, что вполне возможно, пробудишь в ком-то из них если не любовь к искусству вообще, к живописи — в частности, то хотя бы простое любопытство.
— Да я не умею рассказывать-то, радость моя. Какой из меня рассказчик!
— Хорошо, хорошо! Им просто будет приятно встретиться с тобой. Они ведь и есть народ, для которого ты творишь. Только они остались где-то там — и не внизу, а как бы в стороне. Для них ты — небожитель. Ведь кроме своего надоевшего им мастера да изредка начальника цеха, они ни с кем не встречаются, всех остальных видят лишь за столами президиума да на трибунах. А таких, как ты, так и вообще не видят.
— Да я разве отказываюсь? Я — пожалуйста!
На этом согласие между супругами было восстановлено, и Александр, старавшийся отгородить Аннушку от всех дрязг своего весьма специфического мира, где этих дрязг, казалось бы, не должно быть, с нежностью смотрел на свою жену, располневшую и раздавшуюся вширь, мало похожую на ту Аннушку, с которой он несколько лет назад писал картину «Работница со „Светланы“». Ту Аннушку напоминали лишь большие серые с прозеленью глаза, застенчивая улыбка да широкие крестьянские ладони, в которых так уютно и спокойно чувствует себя недавно родившийся ребенок. А их уже трое, и, похоже, дело идет к четвертому. Но как выросла она за эти годы, как изменилось ее мышление, кругозор, восприятие мира, сама речь!
И Александр привлек к себе Аннушку, обнял ее за полные плечи и уткнулся лицом в ее пахучие волосы. Было так покойно чувствовать тепло ее тела, знать, что в любое время дня и ночи она рядом с ним, что в любую минуту с готовностью подставит свое плечо, протянет навстречу свои большие рабочие руки.
Глава 9
Нераспечатанный конверт лежал на столе, наверняка положенный туда свекровью. Зинаида Огуренкова, вернувшись с работы, некоторое время с недоумением смотрела на этот конверт, читала и перечитывала написанный на нем адрес, свое имя и новую фамилию. Конверт был тяжел и плотен, и Зинаида вертела его в руках, полагая, что тут произошла какая-то ошибка, потому что письма на свое имя она получала редко и только из деревни от матери, конвертики бывали тощенькими, содержание писем можно было пересказать, не распечатывая конверта: обычные поклоны от родственников да жалобы на худое житье, что было равнозначно просьбе о присылке денег.
Распечатав конверт и вытряхнув на стол красочные приглашения на персональную выставку художника Александра Возницина, Зинаида не сразу сообразила, почему вдруг ей такая честь. Заглянув в одно из приглашений, она нашла там записочку от Аннушки, с которой когда-то работала в одной бригаде и жила в одной комнате заводского общежития.
«Дорогая Зиночка, — писала Аннушка аккуратным почерком, — я буду очень рада, если ты со своим мужем и его родителями посетишь выставку моего Саши в указанный в приглашении день. Такие же приглашения я разослала всем нашим девчонкам со „Светланы“, и если мы все вместе соберемся на выставке, то это будет здорово. Надеюсь, ничто не помешает вам воспользоваться этим приглашением. До встречи в „Русском музее“. Твоя Аня».
На выставку Огуренковы собирались тщательно. Тщательность эта вызывалась разными причинами. Для старших Огуренковых, Ксении Капитоновны и Спиридона Акимовича, посещение выставки не было чем-то необычным. Необычным была предстоящая встреча с бывшими подругами Зиночки и их мужьями, то есть с людьми из народа, причем с тем поколением народа, которого они практически не знали. Ну, дети — они дети и есть во все времена, сословные различия здесь мало заметны, а старшие Огуренковы привыкли иметь дело исключительно с детьми, и если приходилось общаться с их родителями, то опять же на знакомой почве воспитания и обучения, на которой они стояли прочно и неколебимо. А тут предстояло окунуться в атмосферу совершенно незнакомую, и старики очень боялись чем-то выделиться и произвести на рабочую молодежь невыгодное — буржуазное — впечатление. Особенно боялась этого Ксения Капитоновна после того, как из Питера были высланы две ее подруги по причине непролетарского происхождения. Правда, ходили слухи, может быть, и вздорные, что высылка бывших аристократов производилась вовсе не поэтому, а исключительно для того, чтобы освободить жилплощадь для новых переселенцев из западных местечек. Кто его знает, не придет ли властям в голову выслать из Питера и ее, бывшую дворянку, и ее мужа, тоже никогда не знавшего физического труда.
— Спиридон Акимович, — говорила Ксения Капитоновна, глядя на мужа, повязывающего галстук. — Может быть, ты обойдешься без галстука? Может, косоворотку? А? Не хорошо, если мы с тобой будем выглядеть там этакими белыми воронами. Подумают, что мы ведем себя вызывающе.
Спиридон Акимович стащил галстук и с сомнением оглядел в большое зеркало свою плоскую и долговязую фигуру. То, что жена обратилась к нему по имени-отчеству, говорило о значении, которое она придавала предстоящему событию. Он и сам понимал, что это событие не рядовое, знал, что нынче всякое слово и поступок — и даже выбор галстука — имеют политическую окраску, но именно это знание и заставляло его поступать наперекор некоему общему установлению. Он всю жизнь вел себя на манер ежа, выпускающего колючки при всяком мнимом или действительном посягательстве на его внутреннюю свободу. И сейчас, даже против своей воли, Спиридон Акимович выпустил все свои невидимые, но хорошо ощущаемые его женой колючки: поджал губы, насупил лохматые брови и, запрокинув назад голову, надменно глянул вниз с высоты своей долговязости.
— Косоворотку? Почему же только косоворотку? А лаптей к косоворотке у тебя не найдется, душа моя? — язвительно спросил он, скептически оглядывая теперь уже свою жену. — По-моему, радость моя, тебе бы пошел сарафан твоей бабушки. И кокошник. Тем более если учесть, что власть после стольких лет гонений на истинно русскую культуру и историю все более поворачивается лицом к этой великой культуре и к великой же истории государства Российского. Она даже казакам разрешила носить лампасы и старорежимные фуражки и папахи. Так что кокошник был бы вполне современен, оценен по достоинству и очень тебе к лицу, — заключил Спиридон Акимович ворчливым голосом.
— Ах, боже мой! — воскликнула Ксения Капитоновна и всплеснула руками. — Ты вечно язвишь, а я тебе дело говорю. Ты посмотри, в чем ходят сегодня люди! Вспомни наконец: Киров носил косоворотку, Бухарин носит косоворотку, даже твой обожаемый Орджоникидзе носит все ту же русскую косоворотку…
— Э-э, милая моя женушка, я не уверен, что косоворотка есть русское изобретение. Это, во-первых. Что касается товарища Бухарина, так косоворотка — это все, что осталось от его русскости. Если хочешь знать, сей выходец из русского учительства более жидовизирован, чем был энглизирован известный тебе Павел Петрович Кирсанов из Тургеневских «Отцов и детей», у которого от русскости оставалась лишь пепельница в виде мужицкого лаптя. И вообще, должен тебе заметить, носить нынче косоворотку есть признак дурной политики. А я не политик, я учитель, поэтому должен быть современен, но не в дурном, а в лучшем смысле этого слова. Да-с! И не спорь со мной…
— Воля твоя, но я бы оделась как-нибудь попроще, — не сдавалась Ксения Капитоновна. — Вот хотя бы этот пиджак… Он не так бросается в глаза… А рубашку, если ты против косоворотки, вот эту, черную. Она, правда, несколько потеряла вид, но на это никто не обратит внимания. Вспомни, в чем к тебе в школу приходят родители твоих учеников…
— Можно подумать, что вот этот вот, с позволения сказать, фрак сильно отличается от потертого пиджака, — заперхал Спиридон Акимович. — По-моему, ты, душа моя, скоро превратишься в домашнего комиссара… Вот уж радости-то нам всем будет!
В дверь постучали, заглянул Иван Спиридонович.
— Вы скоро?
Спиридон Акимович сердито воззрился на сына, но вдруг длинное лицо его распустилось, затем собралось в гармошку, он присел, хлопнул себя ладонями по ляжкам и разразился таким невозможным клекочущим и перхающим смехом, что Иван Спиридонович в недоумении замер в дверях и принялся торопливо ощупывать себя руками, решив, что отец обнаружил в его костюме какой-то невозможный беспорядок.
Ксения Капитоновна, увидев на своем сыне новый, справленный к свадьбе шевиотовый костюм, белую рубашку и синий в полоску галстук, махнула рукой и произнесла с обидой:
— Ах, да надевайте на себя, что хотите! Я, видно, окончательно перестала понимать, что надо нынче надевать, а что нет. Бог с вами.
К изумлению Ксении Капитоновны пролетарии были одеты даже лучше, чем они с мужем. Во всяком случае, не хуже Ивана и Зиночки. Все молодые мужчины при галстуках, иные в тройках, и никого в косоворотке и в сапогах. О женах их и говорить нечего: шляпки, вуалетки, шелковые блузки и тонкие чулки, укороченные юбки из чистой шерсти, модные жакетки и туфли, дешевые брошки, серьги и перстеньки, может, не всегда по фигуре и в тон, но вполне свежо и модно, то есть как раз то, что совсем еще недавно выдавалось за проявление махрового мещанства и даже контрреволюционности.
Конечно, на работу они в этих костюмах не ходят, наверняка это единственное, что у них есть нарядного и нового, и надевают они эти свои наряды, может быть, раз в месяц, но в данном случае это не имело никакого значения, а имело значение то, что эти рабочие и работницы смотрят на мир несколько не так, как те, кто повзрослел в годы гражданской войны и нэпа, и себя тоже видят другими.
«Господи, — подумала Ксения Капитоновна, вглядываясь в молодые оживленные лица, — мы не успели привыкнуть к одному, как надо привыкать к другому. Надолго ли?»
Собирались в фойе «Русского музея». Светлановцы, как бывшие, так и продолжавшие работать на заводе, каждую новую пару встречали шумно, радостно, поцелуями, объятьями, слезами. Поначалу обязанность встречать лежала на одной Аннушке Вознициной, затем к ней присоединялись другие.
Мужчины, познакомившись, отделялись от своих жен и подруг. Они устроили свой кружок, обсуждали последние события. Всех интересовало, будет или не будет в этом году на Западе война — особенно после вступления немецких войск в Рейнскую область и расторжения Германией Локарнского договора; объявят ли в Испании и во Франции советскую власть после победы тамошних Народных фронтов на парламентских выборах; выстоит ли Эфиопия против вторжения итальянских войск… Но больше всего разговоров было о том, почему рабочий класс Германии допустил приход к власти Адольфа Гитлера и скоро ли он этого Гитлера свергнет.
И много еще чего интересовало молодых мужчин, так что Спиридон Акимович, присоединившийся было к их не менее шумной, чем женская, компании, только хмыкал по поводу их такой непосредственной заинтересованности в далеких от них событиях. Сколько Спиридон Акимович помнит свою молодость, мужчин его круга интересовало совсем другое — нечто оторванное от постылой реальности, этакое воспарение над мерзкой обыденностью… — толком даже и не вспомнишь теперь, что именно имелось в виду, над чем ломали копья, над чем плакали и чему молились.
В женской половине о политике не говорили. Здесь все разговоры вертелись вокруг детей, мужей, свекров и свекровей, болезней и выздоровлений, пеленок, чулок, причесок и прочих всяких интересных и полезных для женского сердца вещей.
Зинаида стояла рядом с Аннушкой, которую не видела больше года, и снисходительно слушала щебетание бывших и нынешних своих подруг. Иные и сегодня работают на сборке электрических лампочек, иные вместе с ней собирают радиолампы, некоторые, выйдя замуж и обзаведясь детьми, стали домохозяйками. Слушая это щебетанье, Зинаида искоса поглядывала в сторону мужчин, на возвышавшегося над всеми свекра, на Ивана, увлеченно спорящего о чем-то с русоволосым парнем; потом она переводила взгляд на небольшое сообщество пожилых женщин и затерявшуюся среди них свекровь. Вместе с тем Зинаида искоса следила и за входной дверью.
Часы над дверью показывали без пяти минут четыре, а Марии и Василия Мануйловых все не было, — и это почему-то тревожило Зинаиду.
Но тут Аннушка, посветлев лицом, глянула чуть в сторону, Зинаида обернулась и увидела Александра Возницина, спускающегося по мраморной лестнице. Все тоже, хотя и не враз, посмотрели туда же — и шум прекратился.
На Александре был свитер домашней вязки, коричневые вельветовые брюки и парусиновые башмаки. Широкое лицо его казалось еще шире от улыбки, неудержимо растягивающей губы, волосы были спутаны, на левом плече белое известковое пятно.
Аннушка быстро подошла к мужу, взяла его под руку, произнесла, смущенно помаргивая большими серыми глазами:
— Это мой муж, художник Александр Возницын. Просто Саша. — Повела рукой, представляя другую сторону: — А это твои, Саша, гости.
Возницын слегка наклонил голову.
— Здравствуйте. Очень рад, что вы пришли на мою выставку, — заговорил он глуховатым голосом. Показав рукой на лестницу, ведущую на второй этаж, пригласил: — Милости прошу.
И все, сразу же посерьезнев, стали подвигаться к лестнице, но ступить на нее пока никто не решался.
Аннушка, стоя рядом с мужем, отчищала платком его плечо и тихо корила:
— Ну где ты успел так вымазаться? Горе ты мое!
И тут Зинаида, оглянувшись, увидела Василия Мануйлова. Василий стоял позади всех рядом с высоким носатым парнем и смотрел на Зинаиду каким-то странным взглядом, то ли не узнавая ее, то ли пытаясь что-то вспомнить. Наткнувшись на этот взгляд, Зинаида тут же отвернулась, почувствовав, как болезненно сжалось ее сердце. «Что же это он… без Мани-то?» — подумала она и крепко прижала к своему боку руку Ивана.
— Ты чего? — склонившись к ней, тихо спросил Иван Спиридонович.
— Нет, ничего, — ответила Зинаида и упрямо тряхнула красивой своей белокурой головкой: — «И правда, чего это я? Все в прошлом. Да и в прошлом ничего не было… — Но что-то подсказало жалобным голоском: — А ведь могло быть».
До самого закрытия толпой ходили по двум залам от картины к картине, возвращались назад, спрашивали у Александра, почему он выбрал именно эти сюжеты и темы, а не другие, почему нет почти ничего о рабочем классе, о тех переменах, что происходят в жизни каждый день и каждую минуту? Спорили, шумели, смотрительницы музея неодобрительно поглядывали на этих необычных посетителей, и только присутствие среди них известного художника удерживало их от решительного вмешательства: музей все-таки, а не базар какой-нибудь.
А Возницин, отвечая на вопросы и тоже иногда ввязываясь в спор, с тихой радостью думал, что как же все-таки хорошо, что он художник и что его творчество нужно вот этим людям. Он вспоминал открытие выставки, хмуро-неодобрительные взгляды одних, сочувственные других, снисходительные третьих — и как все переменилось, когда на выставке неожиданно появился Жданов, — неожиданно даже для устроителей выставки. И точно так же, как когда-то Киров, постоял у одной картины, у другой, скупо похвалил:
— Очень нужное, очень полезное дело делаете, товарищ Возницин. Мы, большевики, заняты реальным социалистическим строительством, нам нужно искусство, которое бы реалистически отражало дела партии и народа. — Пожал руку и ушел, едва пробежав глазами вторую половину выставки.
Все повторилось, как и при Кирове: лица просветлели, губы растянулись в улыбки, зазвучали восклицания, охи и ахи, чужие руки восторженно трясли его руку, но все это уже не радовало, а потом, когда официальная часть закончилась, Возницин долго в служебном туалете мыл с мылом руки, и все казалось, что кожа еще не чиста, что слипаются пальцы и под ногтями застряла невыводимая грязь.
Когда переходили из одного зала в другой, Зинаида улучила момент и повернулась лицом к Василию Мануйлову, которого все время чувствовала за своей спиной. Иван Спиридонович в это время, отпустив руку жены, о чем-то разговорился с Вознициным, а свекор со свекровью ушли вперед.
— Здравствуй, Вася, — произнесла Зинаида, протягивая руку Василию. — Ты что же это… без Мани?
— Да вот… — замялся Василий, бережно обнимая пальцами теплую ладошку Зинаиды, и посмотрел на своего спутника, будто ища у него поддержки. — Сынишка приболел, температурит. Говорят, зубы лезут… — И, спохватившись: — А это мой товарищ, Дмитрий Ерофеев. Работаем на одном заводе.
Зинаида мельком глянула на Ерофеева и почувствовала себя неуютно под тяжелым пристальным взглядом его пасмурных глаз. Однако и ему протянула руку, и когда их ладони встретились, невольно поежилась: рука Ерофеева была сухой, как дубовая кора и такой же грубо шершавой. Высвободив руку, Зинаида отвернулась от Ерофеева, кивнула головой в сторону Ивана Спиридоновича:
— А это, Васенька, мой муж. Он учитель. — И тут же, вспомнив: — Ты-то учишься?
— Пока нет, — нахмурился Василий, но объяснять, почему не учится, не стал.
Зинаида смотрела на него сбоку. Она заметила незнакомую ей жесткость скул и линии рта, резко очерченную горбинку вислого носа, а на виске несколько серебряных нитей ранней седины. Подумалось: видать, жизнь у Васьки не медом мазана, если он до времени седеть начал. И сердце у Зинаиды защемило жалостью.
Глава 10
— Что, бывшая любовь? — спросил Ерофеев, когда они с Василием шли по набережной Фонтанки в сторону Невы.
— Кто? — не понял Василий, вспоминавший в эти минуты Зинаиду: ее глаза, голос, улыбку, фигуру, тепло ее ладони.
— Ну, эта… Зинаида.
— А-ааа. Н-нет. Бывшая подруга жены. Вместе работали, жили в одной комнате общежития.
— Красивая, — после продолжительного молчания заключил Ерофеев и бросил недокуренную папиросу в неподвижную воду канала.
Шли молча, глядя прямо перед собой. Молчание не тяготило их нисколько.
Над Ленинградом висело прозрачное светлое небо, говорящее о близости белых ночей. Со стороны Финского залива слышались протяжные гудки пароходов и короткие рыки буксиров. Дребезжали трамваи, нетерпеливо вякали клаксоны редких автомобилей.
Прощаясь, Ерофеев задержал руку Василия в своей руке, спросил:
— Как ты думаешь, Вась, почему женщины так… такие непостоянные?
Василий посмотрел Димке в глаза — в них было ожидание и тоска.
— Ты поссорился с Любашей?
— Нет, не поссорился. Но с ней что-то происходит. Она отдаляется.
— Она не беременна?
— Н-не знаю. Вроде нет, — замялся Димка. — Ты думаешь…
— Предполагаю. Женщины всегда отдаляются, когда в них зарождается другая жизнь, — с убежденностью произнес Василий. И, озаренный нечаянной догадкой, добавил: — Тащи ее в загс, Дмитрий. Даже если она будет сопротивляться. И тогда все разрешится само собой. Ведь вы же любите друг друга, так чего ждать? Если хочешь, я помогу.
Димка кивнул головой, но не столько соглашаясь с Василием, сколько своим мыслям, повернулся и, сунув руки в карманы плаща, пошагал на противоположную сторону улицы.
Стоя на задней площадке трамвая, Василий долго еще видел его сутулую фигуру, постепенно растворяющуюся в дымке прямого, как струна, проспекта.
Два дня назад уполномоченный госбезопасности Курзень вызвал Ерофеева в свой кабинет, спросил, едва тот переступил порог:
— Что это за парэнь, с который ты фодишь друшба?
— Какой парень? — глянул Димка сузившимися глазами на Курзеня.
— С который ты имеешь фстреча на проходной.
— А-аа… Это Василий Мануйлов. Модельщик. А что, нельзя?
— Почему нелзя? Фсе мошно. Ты долшен иметь сфой информатор. Много информатор. Там, тут — фезде. Чем ни есть болше, тем ни есть лучше. Софетска фласть долшен знать фсе. Ты мало слушаешь, мало знаешь. Это не есть хорошо. У меня есть подозрений, что ты не имеешь шеланий помогать софетска фласть ф ее борба с фнутренний фраг. Это не есть хорошо.
— Я слушаю. Смотрю. — Ерофеев пожал широкими плечами. — Рабочие… Какие из них враги?
— Ты тоже есть рабочий. Ты имел заблушдений на счет софетска фласть. Кто имеет заблушдений, тот имеет быть фраг. Так говорит товарищ Сталин.
— Я не имел заблуждений насчет советской власти, — выдавил из себя Ерофеев, невольно подстраиваясь под нерусскую речь Курзеня.
— Фот, почитай, — протянул Курзень Ерофееву бумагу, вынутую из серой папки.
Димка взял листок, стал читать. Запись была короткой: «Мануйлов (настоящая фамилия Мануйлович) Василий Гаврилович. Русский (на самом деле — белорус). 1912 года рождения (на самом деле — 1913). Происхождение — из крестьян-бедняков (на самом деле сын мельника-кулака, осужденного за антисоветские выступления). Был исключен из кандидатов в члены ВЛКСМ. Дважды исключался с рабфака. Работает модельщиком высшей квалификации. В антисоветских высказываниях и деяниях не замечен».
Димка положил листок на стол, уставился в жестокие глаза Курзеня своим неподвижным пасмурным взглядом.
— Ну и что? Я это знаю.
— Откуда?
— Он сам сказал.
— Он тебе доферяет — это есть очень хорошо. Будешь с ним работать.
— А что я ему скажу? Что я ваш секретный сотрудник?
Курзень долго смотрел в Димкины неподвижные глаза, не выдержал их провальной пустоты, опустил голову, принялся перебирать бумажки в серой папке.
— И потом… у Мануйлова чахотка, — промолвил Ерофеев, продолжая все так же неподвижно смотреть на Курзеня.
Этот взгляд, ничего не выражающий и ничего не видящий, появился у Димки за те дни и ночи, что он тащил на себе в лагерь комвзвода охраны Павла Кривоносова, тащил по тайге, все более затягиваемой дымом пожаров, голодный, искусанный комарами и мошкой, тащил, надрываясь, из последних сил. Веки, опухшие от укусов насекомых, оставляли для зрения лишь узкие щели, зато щели эти не закрывались ни днем ни ночью. Димка даже спал с открытыми глазами, и если бы его зрение не приспособилось как бы ничего не видеть, то он бы наверняка ослеп или сошел с ума. Но с тех пор так и остался у него этот неподвижный, ничего не видящий взгляд.
Самому же Димке было все равно, как он смотрит и куда, но еще никто этот его взгляд выдержать не мог.
— Чахотка? — переспросил Курзень после долгого молчания. — Это есть поменять дело. Но ты иметь обязанность перед софетска фласть, перед партия и рабочий класс. Ты долшен этот обязанность исполнять через фесь сфоя сила.
Глава 11
После обычного в начале июня похолодания в Москве установилась жаркая погода, с парной духотой, с неистовыми грозами и ливнями.
То ли время подошло, то ли погода подействовала, а только Алексей Максимович Горький к вечеру почувствовал себя особенно плохо: нечем стало дышать, изъеденные чахоткой легкие не принимали воздуха, не насыщали кровь кислородом, они судорожными толчками втягивали душный воздух в себя и тут же, с хрипом и сипом, выталкивали наружу. Сам себе Алексей Максимович казался рыбой, выброшенной из воды. Рыба бьётся на песке, широко раскрывает рот, топорщит бесполезные жабры, глаза ее все более затягивает пелена смерти.
И однажды Алексей Максимович отчетливо почувствовал приближение Смерти. Он почувствовал ее не только физически, но и как-то еще. Она, Смерть, едва лишь приблизившись, уже обволакивала душу, туманила мозг, отнимала способность и волю к борьбе за жизнь, делала его все более равнодушным ко всему, что его в этой жизни окружало. Она стояла у его изголовья смутным призраком, покачиваясь в душном и неподвижном воздухе, от нее несло холодом, точно открыли дверь в зиму, и Смерть вошла в избу вместе с холодным морозным облаком.
«Неужели никто не может закрыть дверь? — думал Алексей Максимович с тоской. — Неужели никто не чувствует этого холода?»
Кто-то, будто услыхав его безмолвную мольбу, приблизился к постели, укрыл его вторым одеялом, положил к ногам грелку, и Алексей Максимович забылся.
Ближе к полуночи разразилась гроза. В темном окне то и дело мерцал холодный белый свет, гулко перекатывались грозовые раскаты из одной части неба в другую, по жестяному подоконнику горохом рассыпались капли дождя, шумно вздыхали под ветром деревья. Но все эти звуки разбивало, дробило назойливое дребезжание какой-то полуоторванной от крыши железки, не давая Алексею Максимовичу отрешиться от опостылевшей действительности.
А действительность властно вторгалась в его сознание, но не столько грозой и дребезжанием железки, сколько отдельными картинами минувшей жизни, которые то возникали, то исчезали, спугнутые грозовыми раскатами.
Вот он, Горький, сидит на открытой веранде за круглым столом. Напротив — Сталин. Над ними шумят магнолии, сосны и кипарисы, издалека доносятся пушечные удары разбивающихся о берег штормовых волн.
«Да, жестокость необходима, — говорит Сталин, вращая время от времени погасшую трубку на полированной поверхности стола. — Я всегда относился к Каменеву с уважением. Я многому у него научился. И Каменев мог быть полезным в качестве председателя совнаркома в строительстве социалистической экономики, в созидании новой культуры. Или хотя бы в должности наркома той или иной отрасли. Но он шел на поводу у Зиновьева, а Зиновьев, хотя и выступал против Троцкого в борьбе за власть, внутренне поддерживал придуманную им перманентную революцию. И куда бы мы пришли? Мы бы пришли к гибели советской власти. Были они виноваты в смерти Кирова? Напрямую — нет. Но всеми силами поддерживали оппозицию, толкая, таким образом, отдельных ее представителей к террористическим актам. И чем дальше, тем больше втягивая людей, недовольных мелочами нашего еусироенного бытия»…
Новая вспышка за окном, сухой треск, затем пушечный удар и долгий прерывистый раскат грома… На этот раз Горький видит себя на трибуне. В огромном зале сотни и сотни лиц с напряженным вниманием слушают его, Горького, выступление. Оторвавшись от напечатанной речи, он говорит:
— Я уверен, что доблестные чекисты, которыми руководит замечательный товарищ, прекраснейший человек, верный ленинец-сталинец Генрих Григорьевич Ягода, не позволят врагам революции повернуть историю вспять, похоронив мечту человечества о справедливом обществе, где каждый может проявить свои способности в созидании его, воспитывая и перевоспитывая с помощью труда тех членов этого общества, которые не осознают величие начертанных на знаменах великой партии великих лозунгов…
Новая, но очень бледная вспышка света в окнах, далекий пушечный удар и затихающие раскаты грома.
И снова что-то возникает в голове перед закрытыми глазами, что-то расплывчатое, непонятное и пугающее…
Прошло еще какое-то время, ветер стих, гроза то ли ушла, то ли притаилась на какое-то время. Однако дышать стало легче. Алексей Максимович открыл глаза, увидел что-то смутное, смежил веки. Ему никого не хотелось видеть из тех, кто в последнее время назойливо опекает его слабеющую плоть. Ему хотелось куда-то уйти, уйти хотя бы мысленно. Куда-нибудь в степь, на берег моря или большой реки. И чтобы горел костер, переливалось огнями звездное небо, летели вверх искры, и теплый ветер раскачивал бы его невесомое тело на ласковой волне…
Боже мой, неужели когда-то был он молодым, сильным и смелым, настолько смелым, что не побоялся в одиночку пуститься в странствие по такой огромной и такой непонятной стране! Мало ли бродяг находили поутру в канавах с ножевой раной в груди, с раскроенной топором головой! И ему доставалось не раз, но — бог миловал — остался жив и много чего увидел и понял, много чего полюбил и возненавидел. Но разве это было самым главным? Разве это нужно писателю? Не заслонила ли от него изнанка жизни своими невзрачными подробностями то огромное в огромной стране, что он обязан был разглядеть еще в молодости, но так, судя по всему, не разглядел и в зрелости?
Ну да что ж теперь… Поздно…
Мысль о далеком прошлом родила картины из прошлого же. Одни существовали когда-то в реальности, другие он выдумал и перенес на бумагу, но все были настолько живыми, точно часть существа его отделилась и, соединившись с прошлым, зажила самостоятельной жизнью. Даже дыхание стало ровнее и тише, а тело действительно стало покачиваться на теплом ветру, простершись от горизонта до горизонта, а неясная тень Смерти скукожилась и отступила в темноту.
И увидел он ночь, берег моря, старуху-цыганку, похожую на ведьму, то появляющуюся из мрака в зыбком пламени костра, то отодвигающуюся во мрак. И яркие звезды над головой увидел отчетливо, и небо густого ультрамарина, услыхал плеск ленивой волны, накатывающей на песок…
Вдруг в наступившей тишине послышался сиповатый голос Сталина:
— Нам очень нравится ваш рассказ «Девушка и смерть», — прозвучало откуда-то издалека. И Нечто, похожее на Сталина, опустилось на стул возле кровати больного. Затем приподнялось вытягиваясь в дымную струю. — Не могли бы вы почитать нам этот рассказ? — спросило Нечто, склоняясь над постелью.
Подошел кто-то в белом, закатал рукав, вколол двойную порцию камфары.
И Горький стал читать. Поначалу задыхаясь от нехватки воздуха. Но затем голос его окреп, и концовка прозвучала почти вдохновенно.
И костер разгорелся, рассыпая искры в звездном небе… И Сталин куда-то исчез. Зато стало слышно, как кто-то приближается, шурша росистой травой и что-то напевая в полголоса…
И точно: в свете костра, точно ночная бабочка, возникла девушка с бесстыдно обнаженной грудью… Вкруг розовых сосков ее пылали следы горячих поцелуев. Она остановилась, глядя вдаль, никого не замечая.
Горький попытался позвать ее — язык онемел. Он попытался дотянуться до нее руками — руки оказались такими тяжелыми, что не нашлось сил даже пошевелить ими. А ему так хотелось прикоснуться к ее молодому телу, припасть губами к ее груди, вдохнуть запах волос!
Девушка постояла немного, покачивая простоволосой головой, то ли жалея кого, то ли сожалея о чем. Затем повернулась и пошла прочь, постепенно растворяясь в темноте ночи под неистовый звон цикад, под крики перепелов и хорканье коростелей…
И столько в движениях ее было грации, полноты жизни, так легко скользила она над степью, будто действительно была легкокрылой бабочкой, случайно залетевшей на огонек. Вон и звезды мерцают в распущенных волосах ее, и узкий серп месяца цепляется за светящиеся голубым пламенем локоны…
Девушка еще не скрылась из глаз, как вдруг из мрака вылепилась Смерть в белом капюшоне, с пустыми глазницами, оскаленными зубами. Она глянула на Алешку Пешкова черной пустотой и, не задерживаясь возле костра, быстро зашагала вслед за девушкой. В изогнутом лезвии косы на плече ее светилось отражение звездного неба.
И хочется ему остановить Смерть, удержать ее, не дать догнать девушку, но — страшно: а что как обратит она свой взор на него самого, Алешку Пешкова, у которого вся жизнь еще впереди? Уж лучше не дразнить ее, не искушать судьбу. И не шелохнулся он, глазом даже не моргнул, пока Смерть не исчезла в темноте ночи, хотя силы у него были, были силы-то, были…
И тогда, проводив Смерть равнодушным взглядом, заговорила старуха. Голос ее хрипл и скрипуч, глаза такие же пустые, как и у Смерти, высохшие пальцы тонких рук перебирают оборки цветастой юбки. Голос ее назойливо ввинчивается в голову, вытесняя звуки ночной степи, возвращая к опостылевшей действительности:
— Кризис вполне возможен… Будем ждать кризиса…
— Надо бы попробовать новые препараты из Бельгии…
— Что ж, можно попробовать…
— Попытка не пытка…
— Легочная недостаточность…
— Ничего удивительного…
«Это она обо мне», — с досадой думает Алексей Максимович о старухе, не открывая глаз. Ему хочется вновь вернуться в молодость, увидеть уходящую вдаль девушку. Если он отважится догнать ее и попытается защитить от Смерти, — ему теперь-то уж все равно, — тогда, быть может, девушка снизойдет до него, старого и немощного. Да и что из того, что стар и немощен? Разве в этом дело? Разве ей так уж трудно коснуться лица его своею теплой ладонью? Ему бы совсем немного тепла… женского… девичьего… Ему бы только вспомнить что-то очень и очень важное…
Но девушка и Смерть давно растворились в темноте ночи, а он, Горький, больной и старый, остается у костра, не в силах оторвать взгляда от трепещущего пламени. И теплится в нем надежда, что девушка еще вернется… Хотя — что толку? Вот Моисея… перед смертью… обложили голыми девами, не знавшими мужа, — и никакого толку: помер… И все-таки… и все-таки… хотя бы еще час-другой, хотя бы минуту еще пожить и подышать теплым воздухом южной ночи. Пусть бы маленькой теплой ладошкой… одним нежным пальчиком дотронулась до его щеки — а больше ничего и не нужно.
Но вместо девушки с открытой нацелованной грудью возле костра неожиданно возникла знакомая фигура Сталина. На нем серый френч и серые же брюки, заправленные в сапоги, на голове фуражка с матерчатым козырьком, в зубах потухшая трубка. Он останавливается и оценивающе, как барышник захудалого коня, разглядывает Алексея Максимовича. Отблески пламени колеблются в его рыжих зрачках.
— Вы так и не поняли, товарищ Горький, почему я давеча упомянул римского диктатора Суллу, — говорит Сталин голосом старухи-ведьмы. И усмехается: — А еще инженер человеческих душ… А я лишь хотел, чтобы вы объяснили своим писательским языком то, о чем мое положение не позволяет мне говорить прямо и открыто: пожертвовать частью — единственный способ в создавшихся политических и экономических условиях сохранить целое…
— Но ведь больно же, Иосиф Виссарионович, — робко возражает Горький. — Кухонным ножом — и в печень. Страшно больно, товарищ Сталин. Вы такого не испытывали. Вот.
— Для подобных испытаний существуют другие люди, — презрительно роняет Сталин. Затем берет светящийся уголек из костра, подносит к трубке, долго раскуривает ее, и кажется Горькому, что Сталин сейчас скажет что-то еще, что-то настолько значительное, что эти слова перевернут всю путанную-перепутанную жизнь не только Максима Горького. Но Сталин, раскурив трубку, бросил уголек в костер, повернулся и пошел — пошел вслед за Смертью в ночную степь. И вскоре тоже исчез совершенно, лишь крупные звезды продолжали мерцать в той стороне, но мерцать испуганно, можно сказать, панически. И было отчего: даль в той стороне стала затягиваться дымкой, и звезды начали исчезать одна за другой.
А рядом все вздыхает и кряхтит старуха-ведьма, и что-то бормочет на своем языке. И костер тоже бормочет, и перепела в густой траве, и легкий прохладный ветерок в колючих кустах — все что-то бормочут свое, невнятное и вечное.
Вдруг старуха вскидывает голову и хрипло смеется, распугивая ночное бормотание степи. И выкрикивает чьим-то ужасно знакомым голосом, проглатывая «р»:
— А вы, батенька мой, совсем плохо выглядите! Да-с! Айхиплохо выглядите, батенька мой! А ваши ученые — завзятые контъеволюционейы! Да-с! И поэты! И писатели! Все они — гнилая интеллигенция-с! Мы и без них постъёйим общество, в котойём всем будет хойёшо. Пьи том непьеменном условии, йязумеется, что наша коммунистическая бюйёкъятия нас не погубит окончательнейшим объязом.
Алексей Максимович уверен, что это не старуха, а кто-то другой, о ком он стал позабывать, кто давно превратился во что-то ужасно огромное, похожее на облако, внутри которого затерялось нечто, и это нечто никто ни в состоянии ни отыскать, ни назвать определенным именем.
Алексей Максимович пробует заглянуть старухе в лицо, но свет догорающего костра настолько слаб, что ничего не разглядишь. А старуха отстраняет его безвольную руку и начинает читать тоненьким голосом Евангелие от Луки:
— «Придут дни, в которые из того, что здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено. И спросили его: — Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? — Он сказал: — Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем моим, говоря, что это Я; и это время близко. Не ходите вслед их…»
Помолчав немного, старуха произносит петушиным голосом:
— И-иии, люди-курицы! А меня-то как би-или-иии — стра-асть! Господь смотрел сверху — пла-ака-ал. И-ии-э.
Сквозь плотные шторы на окнах и закрытые веки вновь проник яркий пульсирующий свет близкого грозового разряда — и тотчас же по крыше дома, по береговым скатам покатились в Москву-реку огромные валуны, сшибаясь и раскалываясь на мелкие части.
Снова по жестяному подоконнику забарабанили крупные капли, несколько раз хлопнула форточка. Ровный гул дождя стал давить на уши, грудь, закрытые глаза.
Сквозь ливень, прикрываясь огромными зонтами, прошли мимо Ленин, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский, Сталин, еще кто-то… еще… и еще…
«Не ходите вслед их! Не ходите вслед их!»
Но — поздно: толпа бежала вслед им, размахивая руками, что-то крича разверстыми ртами. Однако звук голосов тонул в шуме морского прибоя и шорохе степных трав…
Толпа бежала и бежала мимо, туда, куда ушла полуобнаженная девушка с нацелованной грудью, куда ушли Смерть и все остальные…
Костер погас. Становилось все тише и тише. Все темнее и темнее. В голове комариным писком затих последний звук…
* * *
Человек в белом, с острой бородкой клинышком, подошел к распростертому телу Горького, взял его высохшую руку, подержал, согнул в локте и положил на впалую грудь, укрытую одеялом. Тихо произнес:
— Все.
И пошел из комнаты вон.
Еще несколько человек, один за другим, сохраняя некую очередность, прошествовали мимо покойника, с любопытством заглядывая в его неподвижное лицо.
В соседней комнате люди в белом столпились вокруг человека с бородкой клинышком. Человек, сидя за столом, быстро писал на листе бумаги неразборчивым почерком, каким пишут врачи и писатели. Закончив писать, подумал несколько мгновений, затем вывел, нажимая на перо: «18 июня 1936 года, Горки», расписался длинными завитушками, встал из-за стола, давая место другим. Другие молча прочитывали написанное, затем ставили свои завитушки. Когда расписался последний, человек с бородкой клинышком взял бумагу и удалился из комнаты. Так ничего более и не сказав. Похоже, к остальным он относился свысока.
Его проводили угрюмыми взглядами.
Едва закрылась дверь, заговорили все разом. Разобрать, о чем они говорили, было трудно: почти сплошная латынь. Однако по выражениям лиц можно понять, что оставшиеся в комнате очень недовольны человеком с бородкой клинышком.
— Дмитрий Дмитриевич слишком много на себя берет, — произнес Виноградов, еще сравнительно молодой врач, когда с латынью было покончено.
— Считает себя светилом, а нас недоумками, — пробурчал Гельштейн, тоже не слишком старый.
— Конечно, у него опыт и все прочее, однако… — неуверенно поддержал коллег Зеленин…
— Однако мы тоже не лыком шиты, — не без сарказма докончил за него более решительный Коган. — Эти консерваторы старой школы доведут советскую медицину до полного упадка. Горького еще можно было продержать…
— Это уж вы слишком, коллега, — усмехнулся Виноградов. — Без легких долго не протянешь, а у Горького они практически отсутствуют.
— Я думаю, коллеги, наши взгляды на методы лечения профессора Плетнева надо изложить в особом мнении, — предложил Гельштейн. — И довести это мнение до сведения Цэка партии. И товарища Ягоды.
— Вы уверены… — начал было неуверенный Зеленин, но его, как всегда, прервал не сомневающийся Коган:
— Мы уверены, что НКВД так или иначе станет разбираться в этом вопросе и нам так или иначе придется высказывать свое мнение. Так лучше это сделать заранее.
Все переглянулись, никто не возразил.
Через несколько дней глава НКВД Генрих Ягода получил письмо за несколькими подписями виднейших московских врачей. В письме сообщалось, что профессор Плетнев осуществлял лечение Горького «вредительскими методами». Ягода, прочитав письмо, убрал его в сейф: в ту пору ему было не до врачей.
Письмо извлек из сейфа Николай Иванович Ежов, сменивший Ягоду на посту наркома внутренних дел. Он не сразу дал ход этому «делу», подождал, соображая, кого еще из врачей можно пристегнуть к Плетневу.
Плетнева и еще несколько человек арестовали на следующий год. Дмитрия Дмитриевича приговорили к 25 годам тюремного заключения. Он сидел в Орловском централе, лечил там заключенных и тюремщиков. Его расстреляли незадолго до взятия города немцами в 41-м году.
А подписантов арестовали через 11 лет — практически за то же самое.
Права русская пословица: не рой другим яму, сам в нее когда-нибудь угодишь.
Глава 12
Совещание начальников ведущих отделов НКВД и Госбезопасности проходило, как обычно, в кабинете наркома. Сам нарком, Генрих Григорьевич Ягода, сидел за своим рабочим столом, в своем рабочем кресле и, положив руки на стол, следил глазами за солнечным бликом, перемещающимся по полированной глади стола то влево, то вправо, то медленно и плавно, то резкими толчками, и пытался понять, откуда этот блик и с чем связаны его перемещения. Скорее всего, с колебанием портьеры на ближайшем окне, решил он и, для того чтобы проверить это предположение, повернул голову, принявшись внимательно разглядывать портьеру. И точно: в одном месте портьеры чуть разошлись, в образовавшуюся щель проник тоненький лучик солнца, в котором весело мельтешили золотые пылинки.
Слева скрипнул стул под тяжелым телом Прокофьева. Ягода недовольно глянул на своего второго зама и снова, опустив глаза к столу, стал следить за солнечным зайчиком.
Поблизости от наркома, по правую и по левую руку от него, но за длинным приставным столом, располагались его заместители, Агранов и Прокофьев, далее сидели начальники ведущих отделов, по пять человек друг против друга, а за отдельным столом, чуть в стороне, две стенографистки, низко склонив головы, строчили свои закорючки.
Получалось, если не считать стенографисток, тринадцать человек вместе с самим наркомом. Тут Ягода вспомнил, что включил в список приглашенных на совещание еще двоих, но оба не пришли: один, как доложили, оказался болен, другой в командировке. Потом Ягода позабыл, зачем ему понадобились эти два человека, и вспомнил только сейчас: чтобы не было этого несчастливого числа тринадцать, с которым связаны несколько неприятных совпадений в его жизни.
«Ну да что уж теперь, — подумал он обреченно. — Одной неприятностью больше, одной меньше — никакой разницы…» Но мутный осадок между тем лег на душу и потихоньку давил ее, мешая сосредоточиться на чем-то определенном.
Агранов, первый заместитель наркома, читал доклад, отпечатанный на машинке. В тишине кабинета, где слышался даже шорох карандашей стенографисток, тихий и вкрадчивый голос Агранова звучал назойливо и непозволительно громко. Впрочем, Ягода не слушал докладчика: Генриху Григорьевичу и без того было известно содержание доклада, он еще вчера прочитал его и внес кое-какие исправления. Знал он, что и остальные слушают Агранова вполуха: обычный ежемесячный доклад, в котором ничего не содержалось нового ни для кого из присутствующих. Потом этот доклад ляжет на стол Ежову, с некоторых пор председателю Комитета партконтроля и куратору НКВД, тот добавит в него что-то свое, сожмет до двух-трех страничек и положит на стол Сталину. Было важно, чтобы в докладе, который сейчас читал Агранов, не проскользнуло ничего такого, что бросило бы тень на работу наркомата.
Генрих Григорьевич следил глазами за солнечным бликом, но видел в то же время и всех своих подчиненных.
Как, однако, преобразила людей новая форма, а больше всего — звезды на рукавах и в малиновых петлицах, рубиновые ромбы, новенькие ордена Ленина и Красного знамени, значки и прочие атрибуты власти! С ноября прошлого года и в ведомстве введены звания, приравненные к воинским, но сохранившие аромат революции и гражданской войны. Сам Ягода теперь Генеральный комиссар госбезопасности, а поставь его рядом с Ворошиловым или Тухачевским, не отличишь: все — маршалы, только называются по-разному. Да и остальные соратники наркома внудел — комиссары первого, второго и третьего ранга — по форме своей не отличаются от армейских командармов первого и прочих рангов. Впечатляет!
И все-таки, несмотря на благополучие в его наркомате и в самом положении наркомата во властных структурах страны, Ягоду не отпускает странное ощущение, что все эти внешние атрибуты власти, вся эта красно-малиновая мишура, которая так льстит его подчиненным, задумана Сталиным не для того только, чтобы поднять авторитет органов госбезопасности, а еще и с какой-то далеко идущей целью. Искушенный в политических интригах мозг Генриха Григорьевича по многим признакам угадывал, что Сталин задумал большую чистку, не похожую на все предыдущие, и для этого всякими отличиями подготавливает органы к такой работе, которая потребует чего-то большего, чем преданность коммунизму и мировой революции. Остается понять, чем грозит ему, Ягоде, задуманное Сталиным дело.
Впрочем, один конец цепочки нагнетания страстей нарком крепко держал в своих руках, однако другой ее конец терялся в полумраке сталинских расчетов, которые далеко не всегда поддаются логическому предвидению и объяснению. Более того, если судить по внешним признакам, то власть самого Генриха Григорьевича в последнее время все более упрочивается и расширяется. А после «Кремлевского дела», которое было раздуто из обычной бабьей болтовни кремлевских уборщиц и библиотекарш, болтовни и сплетен о жизни верховных лиц партии и государства, после падения секретаря ВЦИКа сластолюбца Авеля Енукидзе, свойственника и старого товарища по партии самого Сталина, на которого все это свалили, охрана Кремля и членов Политбюро перешла в ведение НКВД и товарища Ягоды, и, таким образом, было ликвидировано последнее независимое от НКВД звено госбезопасности. На другом конце цепочки маячил лишь Ежов со своим партконтролем, но он редко вмешивается в деятельность НКВД и его наркома, а если иногда и вставляет палки в колеса, то, разумеется, не по своей воле, а по воле Хозяина…
В любом случае надо быть предельно осторожным и осмотрительным.
Голос Агранова пресекся шелестением бумаг, звяканьем стакана о поднос. Забулькала вода из графина, стало слышно, как Агранов пьет мелкими глотками, как освобожденно заскрипели стулья под начальниками отделов. Но продолжалось это недолго. Вновь осторожное звяканье стакана, робкий шелест бумаг, вновь тихий, вкрадчивый голос заполнил тишину кабинета, вернув в него рабочую атмосферу.
Генрих Григорьевич воздел брови вверх, сложив гармошкой лоб и опоясав этой гармошкой лысину, отчего лицо вытянулось и покривилось еще больше, прошел взглядом по сидящим за столом комиссарам. Всех он знал, как облупленных, знал, кто чем дышит, что говорит и даже думает. Во всяком случае, был уверен, что знает.
Вот, например, комиссар госбезопасности первого ранга Прокофьев Георгий Евгеньевич. Дворянин, из чиновничьей семьи. Самый образованный из всех, кто сидит в этом кабинете, то есть с законченным университетским образованием. Юрист. Однако звезд с неба не хватает. Но именно такой заместитель наркома из русских и нужен Генриху Григорьевичу. Поставь на его место столь же грамотного, но более умного, начнет интриговать, совать нос не в свои дела. А Прокофьев — он весь на виду, и даже то, что связан с Ежовым, известно всем и каждому.
Далее вслед за ним сидит комиссар госбезопасности второго ранга Карл Паукер, большой плут и хитрован, известный наушник Сталина, недавний его брадобрей и шут. И вместе с тем в нем, австро-венгерском еврее, еврейства куда больше, чем в евреях русских, то есть понимания необходимости сплоченности евреев перед лицом окружающей враждебной среды.
Рядом с Паукером, в том же звании, Лев Григорьевич Миронов, за ним, рангом пониже, Израиль Моисеевич Леплевский, далее главный разведчик Абрам Аронович Слуцкий и начальник ГУЛАГа Матвей Давыдович Берман. Все, кроме Паукера, выходцы из украинских и белорусских местечек, многие начинали с еврейского Бунда, иные с сионистов, в лучшем случае — с эсеров или меньшевиков, потом переметнулись к большевикам. Свои люди. Из них разве что начальник московской милиции Израиль Леплевский не вызывает особого доверия: он в центре недавно, до этого был одним из руководителей Украинского НКВД и очень старается перетащить в Москву своих людей. Честолюбив, с ним ухо надо держать востро, иначе предаст и продаст. И даже не поперхнется. Ясно, что Сталин пересадил его из Киева в Москву исключительно для того, чтобы создать в центральном аппарате НКВД дух соперничества и неустойчивости. У Сталина любая спевшаяся на том или ином деле группа людей вызывает подозрение, и он всегда готов к любым перетасовкам, лишь бы такую спетость разрушить…
Что ж, Сталина понять можно. Но и самому Генриху Григорьевичу не следует зевать, он должен создать впечатление у Леплевского, что условия для его честолюбивых помыслов вполне созрели — пусть раскроется, заспешит и на этом сломает себе шею. Затем вернуть его в Киев, где без него уже сложилась новая спайка, которая в борьбе за власть его и доконает. Или еще куда-нибудь. Страна большая, мест много, и везде свои кланы, чужаков встречают с подозрением и стараются от них отделаться любыми способами. При этом русского выдвиженца рассматривают в еврейской среде как проявление антисемитизма Сталина, а еврея в русской, украинской и любой другой — как наушника Кремля и укрепление еврейского засилья. И хотя борьба с подобными настроениями ведется давно, результатов почти никаких. Особенно в Закавказье и Средней Азии. Нужны меры глобального характера, решительные и жестокие. Правда, существует опасность, что такие меры могут привести к полному развалу системы и к анархии. Так что лучше не спешить и не пороть горячку…
Ну и… Сталин. Неизвестно, что хочет Сталин, какие у него планы.
Справа, вслед за Аграновым, комиссары госбезопасности второго ранга: главный милиционер страны подтянутый Лев Николаевич Бельский, за ним виднеется неподвижная физиономия начальника отдела кадров Якова Марковича Вейнштока; особоуполномоченный ЦК ВКП(б) при НКВД СССР Фельдман хмуро пялится в лежащие перед ним бумаги; тучный Михаил Фриновский, руководитель погранохраны, свое еврейство почему-то решительно скрывает. Последним сидит Георгий Молчанов — русский, харьковчанин, из официантов, сменил в 31-м Агранова на должности начальника секретно-политического отдела, особым умом не отличается, зато пашет день и ночь, даже непонятно, когда ест и спит. А в заместителях у него еврей Люшков. И тоже связан с Ежовым.
Практически все эти люди начинали в глубинке рядовыми чекистами, быстро росли и продвигались вверх, в их послужном списке борьба с контрреволюцией, заговорами, «красный террор», работа в политорганах и ревтрибуналах. Все они отлично понимают стоящие перед ними задачи, ни у кого не дрогнет рука в борьбе с контрреволюцией, оппозиционерством и антисоветчиной в любых проявлениях. И за свое место под солнцем они тоже умеют драться, не щадя живота ни своего, ни, тем более, чужого.
Впрочем, сейчас ни на кого нельзя положиться целиком и полностью. Зараза всеобщей подозрительности поразила все структуры НКВД снизу доверху. С одной стороны, это хорошо: все и каждый под перекрестным вниманием своих сослуживцев, ни влево, ни вправо шагнуть не дадут; с другой — плохо: не знаешь, кому можно довериться, как воспримут твои собственные самые обычные слова, какими немыслимыми пируэтами вывернут их наизнанку и выставят эти же самые слова в совершенно другом свете.
Вряд ли кто-нибудь сможет определенно сказать, когда все это началось, потому что всеобщая подозрительность среди революционеров существовала всегда, зародившись еще в подполье, а больше всего — в эмиграции, и то усиливалась, то ослабевала в зависимости от политической ситуации.
Нынешнее обострение всеобщей подозрительности связано со смертью Кирова. При этом для многих было бы желательным, чтобы эта смерть оказалась случайной, без всякой политической подоплеки, но общее настроение не давало такому желанию проявиться, а более углубленный взгляд на сложившиеся внутри страны обстоятельства заставлял полагать, что ничто не может быть случайным, что видимые случайности связаны цепочкой закономерностей.
Да и сам Генрих Григорьевич чувствовал всеобщее настроение неуверенности и подозрительности каждой клеточкой своей кожи. Но более всего — по изменившемуся лично к нему отношению Сталина: отношение это стало сдержанным, точно Сталин уже получил на Ягоду донос и теперь прикидывает, дать ли этому доносу ход или повременить.
Поведение Сталина напомнило прошлое, далекую молодость. Случалось, придет покупатель в аптеку и смотрит с подозрением на те порошки и капли, которые ты ему выставил на прилавок: а те ли это порошки и капли, что записаны в рецепте, не отраву ли всучивает ему пархатый жид? И вскидывает вверх руки хозяин аптеки, и бьет себя в костлявую (или жирную) грудь, и клянется страшными клятвами, чтобы умаслить покупателя, загасить в нем зародившуюся бог весть отчего подозрительность.
Вот и перед Сталиным тоже приходится вертеться и доказывать вновь и вновь свою преданность. А все потому, что он, Генрих Ягода, в декабре тридцать четвертого просчитался, решив, что дело Зиновьева-Каменева можно спустить на тормозах: все-таки, как ни крути, люди-то свои, вполне могут пригодиться. А Сталин… А что — Сталин?
И сколько можно — все Сталин и Сталин?
Оказывается, все можно и можно.
Теперь приходится доказывать, что он, Ягода, не то чтобы ошибся, а проявил всего лишь халатность и благодушие. Но вовсе не потому, что будто бы потерял бдительность или воспылал сочувствием к заговорщикам, а более всего потому, что устал, отдыхать приходится редко: все работа да работа, но непременно наверстает и исправит. Пришлось в спешном порядке пересматривать дело «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра», добавлять его участникам новые сроки заключения, но не похоже, чтобы это умаслило Сталина, изменило его отношение к своему наркому. И даже последовавшее вслед за тем дело о кремлевском заговоре не удовлетворило Сталина…
Генриху Григорьевичу все труднее понимать, какие еще «дела» нужны его Хозяину, какие заговоры мерещатся ему бессонными ночами.
Заговоры, к тому же, не требуют особых доказательств: коли заговорщик, стало быть, враг. Форма заговора позволяет притягивать к «делу» — вдобавок к определенной группе неугодных людишек — кого угодно. С формальной стороны заговор — это сговор, разговор на запретные темы — тоже сговор, и даже молчание в присутствии такого разговора есть соответствующая форма сговора и заговора. Наконец, принадлежность к определенному слою или социальной группе есть, в свою очередь, питательная среда для расширения заговора. Если различия и существуют, то замечать эти различия или не замечать есть воля определенных обстоятельств.
Ягода и его соратники ни одну собаку съели на фабрикации заговоров против советской власти. Борьба с ними сплачивала людей, власть представляющих, делала их бдительными, излечивала от благодушия, повязывала кровью.
Заговор командующего Южным фронтом Сорокина, потом комкора Думенко, потом начдива Щорса. А еще заговоры эсэров в Москве и Питере, в Ярославле и Поволжье, заговор послов, питерской интеллигенции, саботаж чиновников, что тоже равносильно заговору. Да и Зиновьев с Каменевым были в заговоре со Сталиным против Троцкого, а Троцкий — в заговоре против них. И сам Генрих Григорьевич примыкал к тому или иному заговору. Разумеется, тайно и, разумеется, в зависимости от обстоятельств…
Или взять то же «Шахтинское дело», «Дело Промпартии», аграрников, историков… Что, не было саботажа и вредительства? Что, историки не роптали против забвения русской истории? Как говорится, имело место быть. Разумеется, можно разделить народ на саботажников и вредителей, на просто недовольных и случайных попутчиков. Но зачем разделять? Кому это нужно? Разве саботаж не равноценен при определенных обстоятельствах террору и вредительству?
А куда девать старых спецов, писателей, поэтов, ученых и прочих буржуазных интеллигентов, откровенно критикующих диктатуру комиссаров, брюзжащих по своим квартирам и кабинетам на коммунистов, советскую власть и жидовское засилье? Идеологическое разложение масс и подрыв в их глазах принципиальных основ соввласти — это ведь тоже заговор. Свести всех в одну кучу и прихлопнуть одним ударом — какой эффект, какой политический резонанс, какой моральный удар по всем колеблющимся! Нет, что ни говори, а преступление в форме заговора имеет все преимущества перед другими преступлениями и не имеет их недостатков. Заговор легко объясним еще и тем, что старое не может не сопротивляться новому, что чем успешнее продвигается вперед новое, тем отчаяннее сопротивляется старое, то есть с продвижением к социализму классовая борьба усиливается. Азбука марксизма.
Наконец, заговор — это нечто цельное, всеохватное и вполне понятное даже неграмотному крестьянину, в то время как сведение преступлений против власти к злой воле отдельного лица ведет к помутнению неразвитого сознания под давлением однообразных актов, к привыканию и равнодушию, ведет, наконец, к распылению сил и средств, к сужению пропагандистского эффекта.
Нет, заговор и только заговор! Другого попросту не дано. Другое пошло и мелко.
Агранов уже с минуту как закончил читать свой доклад, а нарком сидит все в той же неподвижной позе, уставившись глазами в стол, и его неправильное страдальческое лицо выражает такую муку, будто у Генриха Григорьевича страшно разболелись зубы. Да только все давно привыкли именно к такому выражению лица наркома и знают, что в эту минуту лучше его не трогать и терпеливо ждать, когда оно примет более-менее нормальный вид.
Один лишь Паукер нагло ухмыляется, но никто не знает, что ухмыляется он оттого, что в голову его пришло сравнение этого заседания с собранием Малого Синедриона в древнем Иерусалиме, на котором решается вопрос: что делать с отступником древней иудейской веры Иешуа из Назарета. Разница лишь в том, что в этот Синедрион, называемый Коллегией Наркомвнудела, затесалось двое-трое неевреев. А вопрос все тот же: кто сегодня будет выбран отступником веры. Закон Моисеев требует побития отступника каменьями. Слово за Синедрионом.
Генрих Григорьевич поднял голову, обвел мутным взглядом своих подчиненных, встретился с нагловатыми глазами Паукера, облизал сухие губы, спросил хриплым, будто со сна, голосом:
— Какие будут мнения?
— Принять за основу, — предложил Фриновский и шумно выдохнул из широкой груди воздух.
— Какие будут дополнения, изменения?
По кабинету прошел легкий шорох осторожно шевелящихся тел и медленно поворачивающихся голов, но никто ничего не предложил.
— Принять в целом, — это уже нетерпеливый Паукер.
И опять никто не возразил. Голосование не имело смысла.
— Хорошо. Можете быть свободны, — отпустил Генрих Григорьевич своих людей и, когда они, хрустя новенькими ремнями и сапогами, потянулись к выходу, негромко бросил: — Товарищей Агранова, Паукера и Вейнштока прошу остаться.
Глава 13
Карл Паукер руководил в системе госбезопасности оперативно-розыскным отделом. Это был один из важнейших отделов, и самый многочисленный. Наружное наблюдение, розыск уклоняющихся от правосудия лиц, сбор компромата, арест подозреваемых, предварительный допрос и следствие — все это лежало на сотрудниках как центрального отдела, так и многочисленных его отделений по всей стране. Разумеется, Паукер работал в тесной связи с другими отделами и был в курсе любого затеваемого наркоматом «дела». Работать он умел и любил с размахом. За его отделом числилось огромное количество секретных сотрудников, привлеченных или пришедших к нему по зову сердца или партийного долга, и он мастерски управлял своим огромным аппаратом. За его отделом числились десятки тысяч арестованных, осужденных, поставленных к стенке или отправленных по этапу.
От Паукера зависело многое. В том числе количество подозреваемых и арестованных по тому или иному делу, а подчас и возникновение самих дел, потому что фантазией бывший парикмахер будапештского театра оперетты обладал невероятной.
Тем боле что все признаки указывали: на просторах этой огромной варварской страны происходят какие-то странные подспудные процессы, не учитывать которые, если хочешь остаться у власти, непростительное легкомыслие. Эти процессы влекут вчерашних вождей-соратников в смертельную борьбу за власть, — и уже не столько ради мировой революции и коммунизма, и даже не столько ради удовлетворения своего безбрежного честолюбия, сколько из опасения перед тем таинственным, что зреет в толще народных масс и надвигается на саму власть неумолимой лавиной. Паукер был еще более чужим этим народным массам, чем все остальные, сидящие в этом кабинете, но, быть может, именно поэтому более остальных чувствовал приближение этой страшной лавины.
Сидящие в этом кабинете казались Карлу Паукеру сплошь дураками, не понимающими, что народу, как той голодной собаке, надо время от времени бросать крупную мозговую кость, иначе несдобровать. Иначе, случись какая-нибудь заварушка, народ может просто отвернуться и равнодушно смотреть на то, как некие темные силы рвут на куски нынешнюю власть, не щадя ни правого, ни виноватого.
— Придвигайтесь поближе, — пригласил Генрих Григорьевич Паукера и Вейнштока, когда за последним комиссаром госбезопасности закрылась дверь кабинета.
Паукер подошел вразвалку, сел, стул скрипнул под его тяжелым, располневшим телом. Положив на стол перед собой неизменную красную папку, в которой лежали всякие нужные при посещении начальства бумаги, он откинулся на спинку стула и уставился нахальными выпуклыми глазами на Генриха Григорьевича. Его все еще близкие отношения с генсеком Сталиным давали Паукеру право и на такой нахальный взгляд, и на непринужденную позу, и на снисходительную усмешку, и даже на то, чтобы противоречить наркому, дерзить и фамильярничать.
Вейншток приблизился торопливо, сел тихо и замер, склонив набок гладко обритую голову. Человек он исполнительный, пунктуальный и точный, как немецкий арифмометр. На кадрах в НКВД сидит третий год, знает людей не только центрального аппарата, но и периферийных, в отличие от Паукера умеет молчать подобно египетским пирамидам.
Генрих Григорьевич закурил папиросу. Глубоко затянувшись дымом, выпустил его через нос, почувствовал легкое головокружение, устало прикрыл глаза.
Остальные закурили тоже. Сосредоточенно молчали. Чувствовали, что остались для важного разговора. Агранов поглядывал поверх головы Паукера с чуть приметной детской улыбкой, щурил девичьи глаза. Он, в отличие от других, знал, зачем Ягода оставил их в кабинете. И хотя Яков Саулович уже предвидел близкий конец своего шефа, он не собирался топить его раньше времени. Топить — не его дело. Но и помогать утопающему выплыть тоже не входило в расчеты Якова Сауловича.
— Давай, Яков Маркович, выкладывай свои соображения, — произнес Генрих Григорьевич, смяв окурок в пепельнице, и мучительная гримаса сострадания ко всему человечеству исказила его угловатое лицо.
Вейншток поправил очки на своем кривом носу, заговорил глухим картавым голосом:
— В УНКВД Северо-Кавказского края сложилась ненормальная практика подбора и расстановки кадров. Старые чекистские кадры, проверенные временем, заменяются руководством УНКВД новыми, из местных работников, зачастую, на наш взгляд, исключительно по национальным признакам. В крае, где не выветрился дух старого казачества, растут антисемитские настроения, с которыми не только не ведется никакой борьбы, но налицо явное поощрение этих настроений…
— Ваш взгляд можете оставить при себе, — буркнул Генрих Григорьевич. — Выводы — не вашего ума дело. Вашу докладную записку я читал. Меня удивляет лишь одно: почему вы так долго тянули с этой запиской?
— Я, товарищ нарком, проверял поступавшие ко мне сигналы тамошних кадровиков…
— Долго проверяли, товарищ Вейншток, — слегка пристукнул Генрих Григорьевич кулаком по столу и мучительно покривился. — Ладно. С вами все ясно. Можете быть свободны.
Вейншток поднялся, сунул папку под мышку и, на ходу снимая очки и пожимая узкими плечами, семенящей походкой направился к двери.
Все молча ждали, когда он выйдет.
— Что новенького у вас, товарищ Паукер? — скосил глаза в сторону начальника Оперода Генрих Григорьевич.
— А что, Генрих, в нашей конторе может иметь новенького? — шутовским движением вскинул вверх жирные плечи Карлуша Паукер. — Впрочем, мы иметь новый анекдот… — Усмехнулся, помолчал, стал рассказывать, лениво растягивая слова: — Приходить русский Иван в НКВД иметь желание на работа. Спрашивает: «Вам Иван работать нужны?» Из окошка имеет высовываться Абрамович и спросить: «Иван, ты свое родственник помнить?» — «Найн, не помнить», — отвечает хитрый Иван. «Тогда ты уже не есть Иван? Нам с прошлый год очень нужны Иван, которы помнить свое родственник». Как вам нравиться дизэ анекдот?
— Хороший анекдот. Но я предпочел бы услышать нечто более существенное. — Генрих Григорьевич поморщился, но тона не сменил: он знал, что, несмотря на шутовство, Паукер в делах — верх серьезности и расчетливости, а Генриху Григорьевичу очень нужно, чтобы Паукер рассказал об этом разговоре Сталину, а потом бы передал Генриху Григорьевичу, как Хозяин воспринял рассказ о странном поведении партийных и чекистских органов в Северо-Кавказском крае. Не исключено, что Паукер и сейчас уже знает это мнение, потому что Сталину идет информация не только по линии НКВД, но и по партийной и советской линиям.
А вдруг антисемитские настроения поощряются самим Сталиным? — пришло неожиданно в замороченную голову Генриха Григорьевича. — Тогда как же поступать ему, наркому НКВД? Конечно, этого не может быть: Сталин знает, что без интернациональной поддержки он долго на своем посту не продержится. Он не может не знать, что выступления Сырцова, а затем Рютина в известном смысле базировались и на антисемитизме. Ведь в воззвании Рютина прямо сказано, что власть захватили карьеристы, далекие от марксизма-ленинизма, то есть вчерашние бундовцы и эсеры, меньшевики и даже кадеты, и все — от имени рабочего класса. И эти «вчерашние», за исключением бывшего кадета Кирова, в большинстве своем евреи. Но Рютин и самого товарища Сталина причислил к захватчикам, так что дело не только в евреях и даже в Рютине, а в чем-то еще, что пока себя не проявило в полную силу, не сбросило покрова таинственности.
Да, времена меняются — и зачастую в худшую сторону. Что-то происходит в стране, чего Генрих Григорьевич понять никак не может. Он не может понять и Сталина, не понимает, что ему, наркому внутренних дел, делать в нынешней обстановке, куда направлять энергию огромного аппарата.
«Кремлевское дело» кончилось, всех, кого надо, посадили. Кроме Енукидзе. Но не останавливаться же на достигнутом. Всякая остановка или даже заминка в разоблачении врагов народа и соввласти подозрительна и, по самой логике непрерывности движения, неизбежно оборачивается против тех, кто допустил остановку или замедлил движение. Генрих Григорьевич понимает: нужны новые «дела», доказывающие, что органы не спят, что они бдят день и ночь, что люди, их возглавляющие, необходимы советской власти и даже незаменимы, что большинство руководителей на местах идут в ногу со временем, с тем же рабочим классом, по его примеру принимают и выполняют соцобязательства по раскрытию и пресечению. Большинство, но далеко не все. Поэтому-то последние пленумы ЦК делали упор на ошибки в расстановке партийных кадров на местах, и Генрих Григорьевич решил практически доказать, что он понимает озабоченность Сталина по этому вопросу. А то ведь, чего доброго, и самого тебя обвинят в преступной халатности в работе с кадрами. «Кадры решают все!» — когда-то провозгласил Хозяин. «Кадры, овладевшие техникой!» — добавил Он совсем недавно. Из этого и надо исходить.
Паукер смотрел на шефа невинными глазами и едва заметно ухмылялся чему-то толстыми губами. При всей своей болтливости он отлично понимал, когда надо что-то сболтнуть, а когда не надо. Тем более что Хозяин ничего не говорил о своем отношении к секретарю Северо-Кавказского крайкома Шеболдаеву, с которым у Ягоды весьма натянутые отношения именно по линии расстановки чекистских кадров в подконтрольном Шеболдаеву крае. Генрих Григорьевич, разумеется, предпочитал иметь там своих людей, Шеболдаев настаивал на своих, обе точки зрения сходились у Ежова, а решал Сталин — и далеко не всегда в пользу наркома НКВД. Теперь, судя по всему, Ягода решил доказать, что Шеболдаев не прав, а он, Ягода, прав. Тут все ясно, как божий день. Но поддержит ли Сталин эту инициативу наркома?
— Нечто более существенное? — переспросил Паукер. — Существенное есть факт, что информацион из мест поставлен, как говорить русская мудрость, из рук плохо по всем рукам. Мы должен иметь центрум нах информацион, как то иметь западный полицай-комиссариат. Мы не иметь анализ фактов, который приходить с мест, мы не знать, что есть срочно, что не есть срочно. Вейншток не виноват, что он сегодня иметь сигнализировать, что есть факт много время назад. Мы иметь опаздывать принятием мер. Мы будем иметь всегда опаздывать. Дас ист и есть существенное, — заключил Паукер.
— Информационный центр — дело будущего, — и мученическая гримаса искривила лицо наркома. — Нас интересует, что делать сегодня.
— Сегодня делать — посылать в край комиссия наркомат, — пожал плечами Паукер с таким видом, словно говорить об этом было ниже его достоинства. — Все помнить, какой иметь шум писатель Шолохов nach всех руководитель край три год раньше. Товарищ Сталин помнить этот шум.
Это было как раз то, что и хотел услышать Генрих Григорьевич, уже решивший для себя не только вопрос с комиссией, но и с тем, кто эту комиссию возглавит. Поскольку комиссию предложил Паукер, то из этого следовало, что Карлуша знает наверняка, что Хозяин не будет против вмешательства наркома внудел в кадровую политику в Северо-Кавказском крае.
— Кого пошлем? — спросил Генрих Григорьевич, искоса глянув в сторону Агранова.
— Я думаю, надо послать Люшкова, — негромко произнес Яков Саулович.
И Паукер понял, что его разыграли.
Глава 14
Ранним июньским утром тридцать шестого года во двор тюрьмы Лефортово въехали три новехоньких автофургона с надписью на бортах «Хлеб», — видать, только что с завода. Из кабины одного из них бодренько соскочил на булыжную мостовую двора интендант второго ранга. Был он высок и худ, лобаст, носаст и лыс, носил пенсне на длинном шнурке. На нем габардиновая гимнастерка и бриджи без единой морщинки, хромовые сапоги блестят, пряжка ремня и бронзовые пуговицы — тоже, малиновые петлицы со шпалами и треугольники на рукавах горят пролитой и еще не спекшейся кровью.
Это был начальник административно-хозяйственного отдела Управления НКВД по Москве и Московской области Исай Давидович Берг, известный в своем кругу изобретатель. Оглядевшись по сторонам, он обошел автофургоны развенчанной походкой, любовно дотрагиваясь до матовых кузовов ладонью, заглядывая под днища и что-то там тоже трогая.
Через несколько минут во двор вышел начальник тюрьмы, низкорослый, с выпирающим брюшком, с жирными губами. Он что-то дожевывал на ходу. Подойдя к Бергу, дружески поздоровался с ним, спросил:
— И куда это ты собрался их везти, Исай Давыдыч? Уж не на хлебзавод ли? И почему только три авто? Не поместятся в три-то.
— Куда прикажут, — уклонился от ответа Берг и поинтересовался: — Люди-то готовы?
— Люди готовы… согласно разнарядке. Завтракают.
— Как — завтракают? — удивился Берг.
— Как-как! Вот так и завтракают, — в свою очередь удивился столь глупому вопросу начальник тюрьмы. И лаконично ответил: — Положено.
Автофургоны стояли, выстроившись в ряд, похожие на отдыхающих бегемотов. В кабинах, положив руки на рули, дремали шоферы. Из открытых окон пищеблока доносился запах кислой капусты и ржаного хлеба, слышались резкие металлические звуки открываемых и закрываемых котлов и бачков. В пищеблок и обратно тянулись заключенные с бачками и носилками. Бачки — для чая, носилки — для хлеба.
На крыше галдели вороны и галки: они всегда приходили в волнение, когда кормили заключенных.
Берг нервно потер руки и ткнул пальцем в тонкую дужку пенсне. Глянул на ручные часы, нетерпеливо передернул узкими плечами. Начальник тюрьмы тоже глянул на часы, вынув их из кармана галифе.
— Значит так, — нервно заговорил Берг. — По тридцать человек в каждую машину. Стоя. Коридор из охраны. Пропускать по одному человеку. Бегом.
— Знаю, не в первый раз, — обиделся начальник тюрьмы и сыто рыгнул.
Через несколько минут за воротами послышался сигнал автомобиля, ворота разъехались, и во двор один за другим вползли три черных легковушки. Остановились. Захлопали дверцы. Из первой выбрался нарком НКВД Генрих Григорьевич Ягода и его первый заместитель Яков Саулович Агранов, из второй — начальник ГУЛАГа Матвей Давидович Берман, начальник тюрем Яков Маркович Вейншток, из третьей — замнаркома по милиции Лев Николаевич Бельский. Скрип сапог, ремней, блеск малиновых звезд, орденов и значков.
Берг развенчанной иноходью подлетел к наркому, изогнулся, кинул ладонь к фуражке, доложил:
— Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности! Автомобили специального назначения готовы для демонстрационного использования по прямому назначению! Доложил интендант второго ранга Берг.
Вслед за ним наркому о готовности осужденных к транспортировке по назначению доложил начальник тюрьмы.
— Приступайте, — приказал Ягода и болезненно покривился угловатым лицом.
Начальник тюрьмы махнул рукой — и тотчас же из дверей караульного помещения по одному выбежали охранники с винтовками и примкнутыми к ним штыками, выстроились в две цепочки от дверей тюремного корпуса к одному из автофургонов, взяли винтовки «на руку».
Берг сам открыл ключом висячий на двери фургона замок, несколько раз повернул винтовой запор, распахнул непомерно толстые двери, и все увидели внутренность фургона, довольно тесную, выделанную листовым оцинкованным железом, без единого уступа, чистую и гладкую, как внутренность штофной бутылки.
— Да они у тебя тут задохнутся, — негромко произнес начальник тюрьмы Бергу, но в то же время так, чтобы слышал нарком Ягода: все-таки люди были его, начальника тюрьмы, людьми, тем более что неизвестно, сколько фургоны проторчат во дворе, а никакой вентиляции или там отдушины не видно.
Однако на его слова никто не обратил внимания. Все прибывшие столпились за спиной наркома, смотрели на фургон с равнодушием людей, для которых в жизни не осталось ни одной тайны, а фургон это или еще что, не имеет никакого значения.
Двое дюжих охранников принесли лестницу из четырех ступенек, сбитую из толстых досок наподобие рассеченной пополам самой древней египетской пирамиды, поставили к двери фургона, встали по сторонам, с любопытством кося глазами на высокое начальство.
Открылись двери тюремного корпуса, показался первый заключенный, высокий, тощий, с седыми короткими волосами, руки за спиной. Он на мгновение замер и зажмурил глаза от льющегося в тюремный двор яркого солнца, но его подтолкнули сзади его же товарищи, и он, неуклюже перебрав ногами по ступеням лестницы, засеменил к фургону по узкому коридору из опущенных на уровень груди штыков. За ним, почти вплотную друг к другу, семенили остальные, чем-то похожие друг на друга и отличающиеся разве что ростом.
Их подстегивали команды охранников, зловеще поблескивающие штыки:
— Смотреть прямо!
— Не оборачиваться!
— Не задерживаться!
— Шевелись!
Они не оборачивались, но видно было, как затравленно бегают по сторонам их глаза, как жмутся они друг к другу, будто в этом лишь и была их надежда на спасение.
Заключенные долго взбирались бы на высокие ступени, но Берг (или начальник тюрьмы) предусмотрел это затруднение и возможное замедление движения: два дюжих охранника с боков подхватывали под руки — и люди без задержки взлетали наверх и устремлялись внутрь фургона.
— Уплотняйсь! Руки опустить!
— Лицом вперед! Не оглядываться!
— Тесней становись!
Когда последний, тридцатый, заключенный поднялся в фургон и встал, как и все остальные, спиной к дверям, Берг произнес с некоторым удивлением:
— Можно было бы еще человек пять. — И, обернувшись к наркому: — Прикажете добавить, товарищ нарком?
Генрих Григорьевич недовольно поморщился и ничего не сказал.
Берг испуганно дернулся, вскрикнул фальцетом:
— Закрывайте! — и нетерпеливо взмахнул длинной рукой. Он так долго ждал этого момента, так много ему пришлось обить порогов различных кабинетов, столько часов провести в спецмастерских НКВД, столько раз откладывалось испытание его детища, что он панически боялся любой случайности, которая могла помешать осуществлению его дерзкой идеи.
Охранники захлопнули массивные двери, сбросили в пазы тяжелые стальные полосы, до упора повернули штурвал винтового запора. Берг вставил в отверстия дужку амбарного замка, повернул ключ.
— Давайте следующую партию! — приказал он, перебегая ко второму фургону.
— Нет, положительно они там передохнут от тесноты и духоты, — проворчал начальник тюрьмы и неодобрительно посмотрел на суетливого Берга.
Через несколько минут все три фургона были заполнены заключенными. Высокое начальство расселось по легковым автомобилям. Охранники с винтовками исчезли за дверями караулки. Разошлись железные ворота, заворчали двигатели автомобилей, кортеж из трех легковушек и трех фургонов выехал с территории Лефортовской тюрьмы и покатил в сторону Ярославского шоссе.
Караульщик на воротах долго смотрел вслед удаляющимся фургонам: он готов был поклясться, что из них ему послышался глухой стук и приглушенный, но какой-то невероятно дикий, истошный вой многих людей, какого ему не доводилось слышать ни разу в жизни. Он почувствовал, как от этого воя у него по телу прошла волна рвотной судороги, точно его опустили в воду, кишащую скользкими омерзительными тварями.
Легковые авто далеко обогнали фургоны с заключенными. Километров через тридцать они свернули на проселок, минут двадцать ехали то среди густого ельника, то корабельного сосняка, переваливаясь на корневищах и ухабах. Но вот деревья несколько раздвинулись, открылась просторная поляна, стоящий на опушке грузовик, свежевырытый ров посредине и с трех сторон груды красноватого суглинка.
Комиссары госбезопасности во главе с наркомом Ягодой выбрались из автомобилей, сошлись у первой, закурили, оглядываясь по сторонам. От грузовика тяжелой рысью приблизился капитан госбезопасности, доложил наркому, что взвод отдельного батальона НКВД выполнил приказ по отрытию рва и ждет дальнейших распоряжений.
— Вот к нему, — указал пальцем нарком на начальника тюрем СССР Вейнштока, и капитан еще раз повторил свой доклад уже Вейнштоку.
Вейншток отвел его в сторону, что-то долго объяснял, после чего капитан потрусил к грузовику, возле которого его ждали выстроившиеся в две шеренги красноармейцы.
— Да, в каждый бы лагерь да по парочке таких спецавтомобилей, — мечтательно произнес начальник ГУЛАГа Берман, не выпуская из зубов черенка короткой трубки, — и проблема ликвидации была бы решена полностью и без особых моральных издержек.
— Какие моральные издержки ты имеешь в виду? — спросил Бельский.
— Я имею в виду процедуру расстрела. Все-таки, что ни говори, действует на психику.
— Ты так говоришь потому, что сам не расстреливал, и тебе кажется, что те, кто расстреливает, мучаются угрызениями совести. Ничуть не бывало. У меня в Восьмой армии был в комендантском взводе отделенный Кавун, с Правобережья. Так он приговоренных трибуналом к вышке либо рубил шашкой, либо закалывал штыком. — Бельский решительно раздавил каблуком окурок папиросы и заключил: — Для иных типов процедура умерщвления человеческого материала такой же нормальный акт, как для меня, скажем, сходить в сортир. Конечно, и собственное дерьмо попахивает, но попробуй-ка прожить недельку без этого естественного акта.
— Все, товарищи, зависит от воспитания и национального характера, — вмешался в разговор Агранов. — Какой-нибудь Ванька-вертухай никогда не читал стихов Блока, не слышал музыки Равеля, не видел картин Левитана или Малевича. Да и в сортир он ходит исключительно в общий, от которого воняет за версту. Такому застрелить себе подобного ничего не стоит. Более того, это поднимает его в собственных глазах. А эти спецфургоны лишают его возможности самоутверждения. Одно дело всадить пулю в затылок или вогнать штык между ребрами, и совсем другое — нажать кнопку, даже не видя своей жертвы. Уверен, царь Давид не принял бы эти спецфургоны. Он предпочитал свои жертвы распиливать ручной пилой, живьем совать в обжигательные печи и дробить им головы молотками.
— А что, вы, пожалуй, правы, — оживился Вейншток, решивший, что пришел его черед высказать свое мнение по обсуждавшейся проблеме. — Вот Вышинский… Он не расстреливает, но, как прокурор, требует приговора о расстреле. Такова его профессия. И это тоже один из способов самоутверждения личности.
— Сравнили тоже — Вышинский! — хохотнул Берман. — Да Вышинский с двух шагов в человека не попадет. Он и револьвер-то в руки брать боится. Уж я-то знаю.
— Интересно, откуда? — поинтересовался Вейншток.
— Да уж не из личного дела управления кадрами, — опять хохотнул Берман, намекая на то, что Вейншток совсем недавно был начальником этого управления.
Вейншток не остался в долгу:
— Я велю внести в личное дело Вышинского этот прискорбный для него факт.
— Смотри, Вейншток, как бы он не поимел на тебя зуб, — с детской улыбкой произнес Агранов, и все дружно расхохотались.
Генрих Григорьевич Ягода, расхаживавший среди сосен чуть в стороне от остальных, остановился, услыхав этот смех, недовольно поморщился. Он собрал своих ближайших помощников по наркомату исключительно затем, чтобы разделить с ними ответственность за испытание спецфургона, который, как ему доложили, уже успели окрестить душегубкой. До сих пор работы по созданию фургона велись исключительно по личной инициативе наркома внутренних дел. Но после сегодняшних испытаний на живом человеческом материале Генрих Григорьевич намеривался доложить об изобретении интенданта Берга самому Сталину, зная, как Сталин любит всякие технические новинки, особенно те, которые дают скорый эффект и не требуют существенных затрат. Генрих Григорьевич подаст это изобретение как совместное с Бергом. Не исключено, что Сталин присудит за него премию. Тут суть вопроса даже не в деньгах, а в том, чтобы лишний раз показать Хозяину свою нужность для общего дела. А то в последнее время… К тому же неизвестно, сумеет ли полураздавленная оппозиция устранить товарища Сталина. Разве что военные…
Вдалеке послышалось подвывание моторов, и среди сосен показались автофургоны, тяжело переваливающиеся на ухабах.
В стороне прозвучали команды. Красноармейцы двумя цепочками стали вытягиваться с двух сторон от рва, образуя широкий коридор.
«Действительно, — подумал Генрих Григорьевич с тревогой, — откроют двери, а там все живехоньки. Да еще с дуру попрут кто куда… Ну, тогда я этого изобретателя… Я его самого в этот фургон запру — на недельку…»
Фургоны остановились на опушке, не глуша моторов. Берг, выбравшись из кабины переднего, стал командовать — фургоны развернулись и стали задом пятиться ко рву.
Генрих Григорьевич зашагал на противоположную сторону рва. Туда же потянулись и остальные. Фургоны остановились метра за два до края рва. Берг повернулся лицом к наркому, глянул вопросительно:
— Прикажете открывать, товарищ генеральный комиссар?
Генрих Григорьевич вяло махнул рукой: мол, чего же еще? — и, чтобы лучше видеть, взобрался на вал выброшенного из рва красноватого суглинка. Теперь его отделяло от фургонов не более шести метров.
Вслед за ним полезли на вал остальные.
Берг, отдав необходимые приказания, пристроился сбоку от высокого начальства. От волнения и жары лицо его было красным и лоснилось от пота. Он то и дело вытирал его грязным платком, оставляя на лице серые полосы. Впрочем, в конечном результате эксперимента Берг не сомневался нисколько: выжить в атмосфере выхлопных газов у людей из фургона не было ни малейшего шанса. Тут и двух минут хватит, чтобы убить любого, а они в этой атмосфере находятся более часа. Другое дело, закончится ли все этим экспериментом на девяноста душах или войдет в практику широкого применения? В мечтах своих Берг видел тысячи таких автофургонов, по одному, по два при каждой тюрьме и в каждом лагере. Какая экономия боеприпасов! Какая экономия рабочих человекодней!
Шесть охранников с расстегнутыми на всякий случай кобурами и торчащими из них ребристыми рукоятками наганов, по два на каждый фургон, одновременно подошли к их дверям и стали открывать замки. Лязгнули откинутые на шарнирах железные полосы, медленно и тяжело поползли двери, обнажая таинственную темноту.
То, что открылось взорам высокой комиссии и всех остальных, на какое-то время парализовало даже самых стойких и видавших виды. Первое ощущение — люди живы: они стоят. Правда, стоят как-то нелепо, никто не шелохнется, не издаст ни звука. Но первое ощущение сменилось другим: это уже и не люди, а масса человеческих тел, уплотненная, разбухшая, сплетенная друг с другом самым невероятным образом, заполнившая собой все пустоты. Эта масса не вывалилась наружу после открытия дверей, она казалась нерасторжимым целым. Потом стали различаться раскрытые рты, вывалившиеся языки, вылезшие из орбит глаза, разорванные губы и невероятно вывороченные шеи. И все, с ног до головы, облиты кровавой блевотиной, точно она-то и склеила их в единый ком грязи.
Пахнуло рвотной вонью.
Не выдержали нервы стоящих у дверей охранников: отвернулись, качаясь и содрогаясь, припали к матовым бокам фургонов, блевали на траву и колеса.
Первым с кучи суглинка скатился Вейншток; обхватив руками живот, упал на колени, скорчился в судорожных позывах рвоты. Затем на четвереньках, враскорячку, боком отвалил в сторону и уткнулся лицом в траву.
За ним почти то же самое проделали Берман и Бельский. Агранов остался стоять, но лицо меловое, рот плотно сжат, глаза остановились, только руки жили отдельной от тела жизнью, то сминая, то разглаживая подол гимнастерки.
Генрих Григорьевич Ягода медленно повернул голову и посмотрел на Берга, окоченевшего на краю рва.
— Кончайте с этим, — хрипло выдавил нарком и на негнущихся ногах сошел на траву и пошел к автомобилям.
Сзади звучал истерический голос Берга:
— Багры! Где багры, мать вашу! Я же сказал, чтобы были багры! Идиоты! Вот теперь своими руками! Руками! Руками!
Крики Берга били по голове, вызывая в ушах трескучий звон, как от жестяного коровьего ботала.
Предупредительный адъютант распахнул дверцу, но Генрих Григорьевич лишь качнул головой:
— Там у тебя должно быть, — произнес он бесцветным голосом. — Налей полстакана.
Адъютант ловко выхватил из бардачка бутылку с коньяком и стакан, зубами выдернул пробку, поспешно налил и протянул стакан наркому. Генрих Григорьевич запрокинул голову, выпил коньяк двумя большими глотками, отвел в сторону руку адъютанта с бутербродом, забрал бутылку.
— Нальешь остальным, — велел он. — Да, и еще этим… по пол-стакана водки. Всем. Я пойду. Догонишь. — И пошел по следам, оставленным автомобилями на земле, усыпанной хвоей.
Он шел, неся свои руки на отлете, точно они были испачканы чем-то, что могло пристать к его обмундированию, время от времени поднося бутылку к губам и отпивая из нее по нескольку глотков. Генрих Григорьевич умел отвлекаться, выдавливать из себя ненужное, сосредоточиваться на чем-то другом, даже если это другое нечто обыденное и по своему воздействию на психику стоит несравненно ниже только что пережитого потрясения. На сей раз у него ничего не получалось: вид слипшихся и опустившихся, смятых тел стоял перед глазами, в нос шибало омерзительной смертью.
«Это потому, — сказал он себе, — что их много и в таком непривычном положении. Да, именно в непривычном. А когда привыкнут… — Генрих Григорьевич имел в виду тех, кто будет обслуживать автофургоны. — Так вот, когда привыкнут, тогда, собственно, никаких препятствий не возникнет. Главное, целесообразность и практичность. Сталину должно понравиться».
Глава 15
Секретарь председателя комитета партконтроля, молодой человек не старше тридцати лет, с гладким ухоженным лицом, о котором трудно что либо сказать определенное, встал из-за стола, одернул габардиновую гимнастерку и произнес голосом, лишенным всякой интонации:
— Товарищ нарком, товарищ Ежов просили вас немного подождать: у них совещание. — И, выдержав короткую паузу, добавил доверительно: — Минут через десять они закончат.
Ягода кивнул благодарно головой, пошарил глазами по сторонам и выбрал себе стул у окна, чуть в стороне от двух военных, сидящих у самого входа и вскочивших при появлении Генерального комиссара госбезопасности.
Еще совсем недавно Ежов не позволял себе томить наркома внутренних дел в своей приемной даже и одну минуту. Но с некоторых пор обнаглел, ведет себя так, будто он пуп земли, а все остальные шавки, не представляющие никакой ценности для советской власти. А ведь у товарища Ягоды расписана каждая минута, тоже ведь, как говорится, не груши околачивает, такая ответственность, такие масштабы… А главное, всего лишь час назад звонил Ежову по прямому проводу, и тот сказал, чтобы приезжал к двум, будет ждать. А у него, оказывается, совещание… Неужели решили списать в тираж? Неужели вышел из доверия? Бессонные ночи, до краев наполненные работой дни — и все это коту под хвост? Из-за одной-то всего неловкости с делом Зиновьева-Каменева? И какая разница, сколько им припаять лет — пять или десять? Нет, Сталину важно, чтобы его желания угадывали за год вперед, хотя сам он вряд ли знает, какие желания появятся у него через неделю… Ну и черт с ними! Уйду на покой, буду заниматься травами, изучать тибетскую медицину…
Дверь в кабинет Ежова распахнулась, один за другим вышло четыре человека, Ягоде совершенно не знакомых. Гуськом, с каменными лицами прошествовали через приемную и скрылись за дверью.
Секретарь Ежова вскочил, кинулся в кабинет своего шефа, оставив дверь не прикрытой, через минуту вернулся, пригласил в кабинет… увы, не товарища Ягоду, а двух военных, старший из которых имел звание всего лишь комбрига.
Генрих Григорьевич дернулся было встать при появлении секретаря, уверенный, что пришел его черед, да так и замер в полуприседе, даже дыхание остановилось от обиды и унижения.
Военные скрылись за дверью, секретарь посмотрел на Генриха Григорьевича, виновато пожал плечами. Сел.
Только через двадцать минут Ежов соизволил принять наркома внутренних дел. Правда, встретил его в дверях, растягивая на неподвижном сухом лице узкие губы в улыбке, стал оправдываться:
— Извини, Генрих, что заставил ждать. Сам понимаешь: товарищи с мест, ехали черт знает откуда, заставлять их околачиваться в приемной — ронять авторитет советской власти. А мы тут, наверху, люди свои, друг друга понимаем, нам обижаться друг на друга нельзя… Или обиделся? А, Генрих? — И, заглядывая снизу вверх в черные глаза Ягоды своими серыми малоподвижными глазами, в которых не заметно было ни грана сожаления, разве что одно любопытство, повел под локоток к отдельному столу, усадил в кресло, сел напротив.
— Ну, рассказывай, Генрих, какая туга-печаль привела тебя на Старую площадь.
Ягода умел скрывать свои чувства. К тому же знал наверное, что Ежов ведет себя так неспроста, следовательно, выказывать свою обиду — тешить мелкую душонку Николая Ивановича. А что она у него именно мелкая, Ягода не сомневался. Ничего, можно и перетерпеть. Зато потом, когда Ежов споткнется на чем-нибудь, вот тогда-то настанет время отыгрываться на этом сером валенке, вот уж когда Ягода потешит свою душеньку, уж он-то ему припомнит все-все-все, собственное дерьмо жрать заставит…
— Да ладно тебе, Николай, — страдальчески покривил свое лицо Генрих Григорьевич. — Что я не понимаю, что ли? Все я отлично понимаю. Сам иногда какого-нибудь лейтенантишку принимаю вне очереди, заставляя ждать в приемной комиссара госбезопасности первого ранга. Интересы партии и советской власти — превыше всего. — Раскрыл принесенную с собой папку, выложил из нее несколько скрепленных листов бумаги с машинописным текстом, с прямоугольным штампом «Совсекретно» на каждой странице. Пояснил: — Тут наши соображения по поводу упущений… я бы сказал, преступных упущений в расстановке кадров в Северо-Кавказском крае… Ты это потом почитаешь, а я тебе в двух словах поясню, в чем тут дело…
— Можешь не пояснять, — остановил Генриха Григорьевича Николай Иванович. — Я тамошнюю обстановку знаю. Какие у тебя предложения?
— Обсуждали вопрос в узком кругу: Агранов, Паукер, Вейншток. Паукер предложил создать ответственную комиссию наркомата и послать в Ростов для комплексной проверки. Агранов выдвинул кандидатуру Люшкова. Я полагаю, что кандидатура вполне подходящая: комиссар ГБ третьего ранга, в центральном аппарате с тридцать первого года, проявил себя твердым ленинцем-сталинцем, к врагам советской власти непримирим…
— Значит, говоришь, Паукер предложил, Агранов выдвинул? А сам что же? Сам в стороне? Ах, Генрих, Генрих! — вновь остановил Николай Иванович Генриха Григорьевича и укоризненно покачал головой. — А Люшкова я хорошо знаю: работал с ним по убийству Кирова. Кандидатура действительно подходящая. Только почему — комиссия? Почему опять только полумеры?
Николай Иванович встал из-за стола, одернул гимнастерку, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по кабинету, явно подражая Сталину. И заговорил также медленно, с длинными паузами и еле слышно. Генриху Григорьевичу даже почудилось, что в слегка шепелявом голосе Ежова проскальзывает знакомый грузинский акцент:
— Что говорит нам товарищ Сталин? — спросил Николай Иванович, останавливаясь напротив Ягоды, и сам же ответил: — Товарищ Сталин говорит, что полумеры хуже, чем никаких мер. Полумеры говорят нашим врагам о нашей растерянности, неуверенности в собственных силах, об отсутствии единства. Полумеры, подчеркивает товарищ Сталин, придают нашим врагам сил и наглости, они уменьшают силы и уверенность у наших друзей. Нет, дорогой Генрих, не комиссию! — воскликнул Ежов, не выдержав ни тона, ни темпа своей речи. — Люшков должен встать во главе УНКВД края и с этих позиций начать решительную перетряску тамошних кадров.
Он говорил теперь и громко, и торопливо, и менее складно, и глаза его горели, и рот кривился от ненависти, обнажая верхнюю десну и кривые зубы, — и это была безусловно классовая ненависть, святая во всех своих проявлениях.
— Зажрались! Дачи развели! Прислугу подай-принеси! У каждого дюжина любовниц! Взятки берут! Круговую поруку устроили, как у бандитов! А под боком контра развелась! Вредительство! Шпионаж! Терроризм! Агитками Троцкого пересылаются! Народ ропщет! Письма… тысячи писем в КПК ежедневно! Помогите! Защитите! Примите меры! Истинных партийцев травят, сажают в тюрьмы, издеваются. Сам товарищ Шолохов, великий, можно сказать, советский писатель современности, пишет товарищу Сталину о безобразиях, которые имеют место на Дону. Или для этого революцию делали? Для этого лучших сынов рабочего класса клали в штыковых атаках? Для этого тонули в гнилых водах Сиваша? И это коммунисты! И это чекисты! И это советская власть! — выкрикивал Николай Иванович, брызжа слюной, топая ногами и размахивая кулаками.
Генриху Григорьевичу стало страшно, но не от слов, произносимых Ежовым, не от выражения лица его: слова не были новы, он и сам умел говорить такие же слова, и выражением лица удивить его тоже было нельзя — всяких лиц нагляделся за свою жизнь, а страшно стало оттого, что именно Ежов говорит с ним, Ягодой, таким тоном.
Генрих Григорьевич сглотнул слюну и облизал пересохшие губы.
— Ты прав, Николай, — произнес он, тоже вставая. — Я имел в виду, что Люшков приедет на место, выяснит вопрос, докладная в Центр, и, как следствие, назначение его на должность начальника УНКВД края. Такова практика…
— К черту старую, обветшавшую практику! — вскрикнул Николай Иванович высоким петушиным голосом и впился бешеным взглядом в лицо Генриха Григорьевича. — Новая расстановка сил требует новых форм борьбы с врагами советской власти. Время не ждет! Враги не дремлют! Комиссии, подкомиссии, совещания, заседания! К черту! Вы там, в своем наркомате, закисли! Мелкие шлепки! Щелчки! Булавочные уколы! Интрижки! Вон Гитлер — одним махом всех своих врагов: раз — и нету! И нам, нашей партии нужна беспощадная решительность в борьбе с врагами!
Прошелся туда-сюда несколько раз, дергая головой, остановился и, клонясь вперед маленьким своим телом, произнес тихо, еле слышно, со свистом:
— Это не я тебе говорю, Генрих. Это не моя воля. Это воля товарища Сталина. А наше с тобой дело — выполнять эту волю неукоснительно. — И еще раз повторил по слогам: — Не-у-кос-ни-тель-но! — Быстро протянул руку, энергично тиснул кончики пальцев Ягоды. Заглядывая в лицо, почти шепотом закончил: — Каждую неделю подробнейший отчет ко мне на стол. Под-роб-ней-ший! Все! Желаю удачи. — Резко отвернулся, сунул руки в карманы галифе, зябко передернул плечами.
На душе Генриха Григорьевича было смутно. Шагая по коридору, он пытался понять, чего хотел от него Ежов, а точнее сказать — чего хочет от него сам Сталин. Ясно было одно: нужен погром, нужно что-то такое устроить в этом чертовом Северо-Кавказском крае, чтобы у всех волосы встали дыбом. Иначе погром могут устроить тебе самому.
«Фигляр! Жук навозный! — думал Генрих Григорьевич о Ежове с ненавистью. — Под Гитлера работает. Перед Сталиным выслуживается. А где был этот Ежов в восемнадцатом году, когда кадеты зажимали нас со всех сторон? У бабы под юбкой сидел в Царском Селе? У-у, сиволапые!»
На лестнице Ягоду догнал секретарь Ежова. Запыхался, бежал, видать, а бегать не привык.
— Товарищ нарком, Николай Иванович просят вас вернуться, — произнес он, сдерживая дыхание. И добавил, понизив голос до шепота: — Звонил товарищ Сталин.
Ежова встретили идущим навстречу. Отослав секретаря, он сообщил:
— Ты только вышел, звонит Поскребышев, спрашивает, не у меня ли Ягода? Говорю, мол, только что вышел. А он: товарищ Сталин велел вместе с тобой сейчас же прибыть к нему «на уголок»… Ты не знаешь, зачем? — спросил Николай Иванович, и Генрих Григорьевич уловил в его голосе тревогу.
— Нет, не знаю.
До самого кабинета Сталина ни Ежов, ни Ягода не проронили больше ни слова.
Глава 16
Поздоровавшись за руку, Сталин показал на стол для заседаний кривым чубуком трубки.
— Садытэсь.
Подождал, пока прибывшие сели, спросил:
— Что обсуждали?
Вскочил Ежов, четко, по-военному, стал докладывать:
— Обсуждали меры борьбы с искривлениями линии партии в кадровой политике УНКВД Северо-Кавказского края, товарищ Сталин. Там сложилась ненормальная обстановка в этом вопросе.
— Только там? — негромко уточнил Сталин.
— Никак нет, товарищ Сталин, — чеканил Ежов. — В других управлениях тоже. Но в Северо-Кавказском обстановка особенно нетерпимая. Мы с товарищем Ягодой решили направить туда товарища Люшкова для наведения революционного порядка.
— Люшков… Это тот Люшков, который работал по делу об убийстве Кирова? — спросил Сталин.
— Так точно, товарищ Сталин.
— Помню… Очень старался… Что ж, я не возражаю против кандидатуры Люшкова… Пусть будет Люшков, — раздумчиво говорил Сталин, прохаживаясь вдоль стола для заседаний и искоса поглядывая на сидящих.
Казалось, что он советуется сам с собой: Люшкова или не Люшкова? Посоветовался, решил: Люшкова. Остановился напротив Ежова, несколько секунд смотрел ему в глаза, кивнул головой, произнес:
— Садысь. Чего вскочил? — Подождал, и опять, будто советуясь сам с собой: — Что ж, Люшкова посылать надо. Но лишь тогда, когда он вместе со следователем Шейниным закончит дело по «Объединенному троцкистско-зиновьевскому центру». Доведет его до суда. А судить их должен Ульрих. Прокурор — Вышинский. Чтобы ни у кого не возникло подозрения, что Зиновьева и Каменева преследуют исключительно по причине их национальности. А то за границей думают, что мы тут преследуем евреев. И Троцкий об этом же пишет во всех газетах.
Сталин прошел вдоль стола, вернулся, уперся взглядом теперь уже в Ягоду.
— У меня вопрос к наркому внутренних дел… — Помолчал, провел чубуком трубки по усам. — Скажи, Генрих, ты уже не хочешь быть наркомом внутренних дел? Или не можешь им быть?
Теперь вскочил Ягода.
— Я прикладываю все свои силы, товарищ Сталин, для выполнения решений съезда партии и ваших личных указаний…
— Может быть, Генрих, у тебя осталось мало сил? Или ты стал жалостливым к врагам советской власти?
— Я не понимаю, товарищ Сталин…
— Вот видишь, Генрих, ты даже товарища Сталина перестал понимать так, как понимал раньше. Может быть, ты позабыл основной закон революционной борьбы?
Генрих Григорьевич молча смотрел на Сталина, медленно поворачивая голову вслед его невысокой фигуре.
— Вот видишь, Генрих, ты даже позабыл основной закон революционной борьбы. А что гласит этот закон? Этот закон гласит: никакой пощады врагам революции. А ты все возишься с врагами революции Зиновьевым и Каменевым. Или они обещали тебе более высокий пост после свержения советской власти и устранения товарища Сталина?
Лицо у Генриха Григорьевича помертвело, на лбу выступил пот.
— Идет следствие, товарищ Сталин, — произнес он сиплым голосом. Тихо кашлянул в кулак. — Выявляются новые обстоятельства, новые соучастники…
— Какие такие обстоятельства? — Сталин снова остановился напротив Ягоды, смотрел не мигая.
— Выяснена еще одна подпольная типография. На этот раз в Ленинграде. Нащупываются связи с Киевом и Дальним Востоком. Есть подозрение о существовании связи с командованием Красной армии. Все это надо проверять, разрабатывать, подводить доказательную базу…
— Наши враги не станут подводить под нас доказательную базу, — перебил Ягоду Сталин. — Случись им свергнуть советскую власть, они подведут нас под виселицу. И тебя, Генрих, тоже. Не надейся на снисхождение.
— Я и не надеюсь, товарищ Сталин… — глухо проговорил Генрих Григорьевич, глядя в лицо Сталину глазами, исполненными глубокого страдания. Но вдруг вскинул голову, воскликнул звенящим голосом: — Никто не может сказать, что я когда-нибудь, — хоть одним словом! — дал основание сомневаться в моей преданности партии и лично товарищу Сталину!
— Не надо кричать, товарищ Ягода, — тихо произнес Сталин. Сделал несколько шагов к дальнему концу стола, повернулся, повел перед собой рукой с зажатой в ней трубкой, будто прислушиваясь к наступившей тишине. — Товарищ Сталин не глухой. Товарищ Сталин не сомневается в твоей преданности. Но одной преданности мало. Нужны действия. Нужны решительные действия, товарищ Ягода. И сразу на всех направлениях, а не только на одном или двух, где допускается преступная халатность в подборе и расстановке кадров… Надеюсь, что вы оба это понимаете…
Ежов вскочил, вытянулся рядом с Ягодой.
— Так точно, товарищ Сталин, понимаем, — почти в один голос произнесли оба.
— Это хорошо, что вы понимаете товарища Сталина. Нужны действия, а не только понимание.
— Разрешите, товарищ Сталин, — снова выступил Ягода. — У меня есть предложение… у нас есть предложение, — поправился он, — товарища Вейнштока перевести с кадров на другой отдел. Товарищ Вейншток слишком долго руководит кадрами, он потерял чутье. Мы предлагаем его на тюрьмы.
— А кого на кадры? — спросил Сталин.
— На кадры есть предложение поставить… — Генрих Григорьевич замялся и глянул на Ежова.
Николай Иванович думал не долго:
— Я предлагаю Литвина, товарищ Сталин. У него есть опыт…
— Кандидатуру Литвина мы обсудим потом, — перебил Ежова Сталин. — Как и по поводу перемещения Вейнштока. Все это не главное. Я никак не могу понять, почему в предстоящем процессе Троцкому отводится как бы второстепенная роль? Только потому, что Троцкий сидит в Париже, а не на Лубянке?
— Троцкого на днях высылают в Норвегию, товарищ Сталин, — решил показать свою осведомленность Генрих Григорьевич. — Из Парижа его выслали. По линии Наркоминдела на правительство Норвегии оказывается давление…
— Вот видишь, Генрих, Троцкий уже собирается в Норвегию… Спрашивается, куда уходят народные деньги, которые выделяются Инотделу НКВД для борьбы с врагами советской власти?
— Троцкий окружен нашими людьми, товарищ Сталин, — ответил Генрих Григорьевич, мучительно морща лоб. — Его сын, Лев Седов, который находится в Париже и руководит оттуда троцкистским движением, тоже окружен нашими людьми. Мы знаем о каждом их шаге.
— Знать мало, товарищ Ягода. Мало отслеживать каждый шаг наших врагов. Надо делать все, чтобы они вообще никуда не шагали. Надо показать всему миру, что Троцкий всеми силами борется не с товарищем Сталиным, а с первым в мире государством рабочих и крестьян, оплотом революционных сил всего мира. Надо показать, что Зиновьев и Каменев не имеют самостоятельного значения, что они лишь агенты Троцкого.
— Так точно, товарищ Сталин!
— Будет сделано, товарищ Сталин!
— Садытэсь, — вяло махнул Сталин рукой с зажатой в ней потухшей трубкой. — Раскричались, будто на параде. А Троцкий не кричит, он действует и заявляет во всеуслышание, что в Советским Союзе существует самая большая секция его Четвертого Интернационала. Но если существует секция, должны существовать и ее руководители. Кто эти люди? У меня нет ни малейшего сомнения, что это Зиновьев и Каменев. Именно они в октябре семнадцатого выдали Временному правительству план восстания против этого правительства. Именно они в двадцать седьмом выступали вместе с Троцким против построения социализма в СССР. Именно они наиболее полно выражали троцкистские взгляды на политику партии в деле индустриализации и коллективизации. Разве это так трудно понять? Партия не для того назначила товарища Ягоду руководить НКВД, чтобы он не замечал этой секции и ее руководителей. Партия была уверена в обратном. Что может сказать партии товарищ Ягода в свое оправдание?
— Мне нет оправдания, товарищ Сталин, — снова вскочил Ягода. — Но я заверяю партию, что приложу все свои силы…
— Хорошо, — остановил Сталин наркома. — Поверим товарищу Ягоде еще раз. Учитывая его заслуги перед партией. Но это будет последний раз, товарищ Ягода.
— Так точно, — товарищ Сталин.
— Хорошо. Какие будут просьбы к товарищу Сталину? Какие предложения?
— Если позволите, товарищ Сталин… — Генрих Григорьевич на мгновение замялся: мысль рассказать Сталину об изобретении Берга пришла в голову неожиданно, хотя это был не самый лучший момент для такого рассказа. Но хоть что-то должно же лечь на пустую чашу достижений его наркомата. И он, вскинув голову и глотнув воздуху, заговорил:
— Докладываю: следуя вашим указаниям, товарищ Сталин, на всемерную экономию и бережливость, в наркомате внутренних дел разработана принципиально новая система приведения в исполнение приговоров врагам народа к высшей мере пролетарского возмездия. Суть системы заключается в использовании специального автофургона с герметически устроенным корпусом, в который подаются выхлопные газы от работающего мотора автофургона…
Генрих Григорьевич перевел дыхание, облизал губы. Сталин стоял к нему боком, почти спиной, раскуривал трубку, водя над нею горящей спичкой. Лицо его оставалось спокойным, невозмутимым. И Генрих Григорьевич продолжил свой доклад:
— В фургон помещается до тридцати человек, двери закрываются и фургон отправляется к месту погребения. На это место он привозит уже трупы… Мы проверили спецфургоны в действии: эффект превзошел все ожидания. Ни стрельбы, ни долгой процедуры приведения приговоров в исполнение — все решается как бы между делом. Я полагаю, что за этой системой приведения приговоров в исполнение большая будущность, товарищ Сталин.
Сталин молча пошел к окну. За ним тянулся легкий шлейф дыма. Постояв у окна, повернулся лицом к Ягоде и Ежову, произнес:
— Можете быть свободны.
Первым к двери шел Генрих Григорьевич. За ним семенил Ежов. Оба, почти не оборачиваясь, обратили внимание на сидящего в самом углу приемной несколько полноватого лобастого человека лет пятидесяти, в строгом сером костюме. Человек этот приподнялся и проводил большое начальство долгим взглядом сквозь стекла круглых очков. И не сразу расслышал тихий голос Поскребышева:
— Товарищ Вышинский! Товарищ Сталин ждет вас.
А Ягода и Ежов шли по кремлевским коридорам друг за другом, не обмолвившись ни словом. И только на площади, стоя возле открытой дверцы своей машины, Николай Иванович бросил:
— Слыхивал я о твоих душегубках, Генрих. Зря не пригласил меня на испытания.
Сел в машину и захлопнул за собой дверцу.
Генрих Григорьевич лишь пожал плечами.
Две машины выехали из ворот Спасской башни. Одна свернула в сторону, другая покатила дальше.
Глава 17
Лобастый человек среднего роста, прямой, точно проглотивший аршин, — человек, которого Поскребышев назвал товарищем Вышинским, шагнул в кабинет Сталина и задержался на несколько мгновений в дверях: окна были зашторены, в люстре горели всего две лампочки, да еще одна на столе, и в этом полумраке виднелся силуэт, в котором вошедший не сразу узнал Сталина — так тот изменился с тех пор, как они виделись последний раз.
И произошло это в 1908 году.
Тогда они сидели в общей тюремной камере по обвинению в подстрекательстве рабочих к забастовке и свержению законной власти. До этого иногда встречались на нелегальных квартирах в Баку или Тифлисе. Тогда большевики и меньшевики принадлежали к одной и той же партии — РСДРП. И когда сходились вместе, спорили до хрипоты и кулаков. Зато Вышинский привлек внимание Джугашвили-Кобу-Сталина своим доскональным знанием уголовного права и прочих достижений человечества в этой области, логикой своего мышления, помог ему добиться смягчения наказания за антиправительственную деятельность, но затем, освободившись, пропал из виду. А Джугашвили-Коба-Сталин отправился в Сибирскую ссылку.
С тех пор миновало много лет. Каждый шел своим путем. Вышинский закончил юридический факультет Киевского университета, из которого его выгнали семь лет назад за антиправительственную пропаганду, работал на Украине, затем снова в Баку, пытаясь выбиться в адвокаты, в 1915 году перебрался в Москву, где случай свел его с известнейшим в то время адвокатом Малянтовичем, защищавшим в суде Троцкого, Воровского, матросов с восставшего крейсера «Азов», отсудившего для большевиков сто тысяч из наследства миллионера Саввы Морозова.
После Февральской революции, встреченной Вышинским с восторгом, он занимался поставками продовольствия в действующую армию, затем был назначен комиссаром Якиманского отделения милиции города Москвы, выбран главой Якиманской управы. Октябрьский переворот, совершенный большевиками в Петрограде, захват ими же власти в Москве и других городах, казалось бы, положили конец удачной карьере Вышинского. Но помогли старые, еще бакинские связи, — и Вышинский снова привлекается к решению продовольственных вопросов: сначала в масштабах Москвы, куда перебралось советские Правительство, затем и всей России. Вскоре, однако, он покидает продовольственное поприще и переходит к работе по своей специальности: становится преподавателем юриспруденции в Московском университете. В то же время Наркомат юстиции частенько привлекает Вышинского к исполнению роли обвинителя на судебных процессах, где рассматриваются громкие дела высокопоставленных коррупционеров, скорее всего как человека нейтрального и ни в чем не замешанного. Почти после завершения каждого дела Вышинский выступает со статьей, в которой производит подробнейший разбор этого дела: полезно и для его студентов и для семейного бюджета. Но не только об этом. В 1924-25 гг. выходят его «Очерки по истории коммунизма»; 1925 — «Суд и карательная политика советской власти»; 1927 — «Курс уголовного процесса». 1928 г. — книга «Уроки шахтинского дела». Вместе с тем он поднимается все выше по ступенькам служебной лестницы: 1923–1925 — он прокурор уголовно-судебной коллегии при Верховном суде РСФСР. 1931–1933 — заместитель наркома юстиции РСФСР. И так далее, все вверх и вверх.
Но еще решительнее вверх поднимался Сталин.
А ведь когда-то Вышинский даже представить не мог, что Сталин, человек не слишком развитой, с трудом владеющий русским языком, медлительный и всегда держащийся в тени более речистых соратников, однако наделенный цепкой памятью, с жадностью поглощающий всякое знание, взлетит так высоко. Как не могли этого представить и все прочие, знававшие Сталина в другие времена.
Вышинский и сейчас до конца не может поверить, что перед ним тот самый Коба, с которым они спорили в камере Баиловской крепости, хотя часто печатающиеся в газетах его портреты свидетельствовали в пользу превращения Кобы в Сталина.
Они встретились посреди кабинета. Сталин протянул руку, вглядываясь в лицо посетителя.
— Здравствуйте, товарищ Вышинский, — заговорил он, не отпуская руки старого знакомца. И замолчал в ожидании ответа.
— Здравствуйте, товарищ Сталин… — воспользовался Вышинский предоставленной паузой. Он еще хотел сказать, что рад встрече, но Сталин тут же перехватил инициативу:
— Рад вас видеть, товарищ Вышинский. С удовольствием читаю отчеты о судебных заседаниях, на которых вы выступаете в качестве обвинителя… — он отпустил руку Вышинского, взял его под локоть, повел к дивану, усадил, продолжая говорить, тщательно подбирая слова: — Взять хотя бы судебный процесс по поводу гибели нефтеналивного парохода «Азербайджан». Судя по вашей обвинительной речи, вы хорошо изучили все обстоятельства этого дела. Капитана буксира расстреляли. Это правильно. Сбежать на своем буксире с места аварии и не помочь гибнущим в огне и воде морякам, есть тягчайшее преступление, равное дезертирству с поля боя. Но, как мне кажется, чиновники, которые должны были отвечать за безопасность плавания судов по Каспийскому морю, отделались лишь небольшим испугом. А именно с них и начинаются все наши беды. Сидят люди в своих кабинетах, получают деньги, и не малые, а пользы от них практически никакой. Вреда больше, а не пользы. Время от времени мы снимаем таких бесполезных для дела людей с должности, иногда выгоняем из партии… И что же? Проходит немного времени, они возникают в другом месте, иногда на более ответственных должностях. У нас имеются отделы кадров, обязанные следить за подбором и движением по служебной лестнице каждого чиновника. Есть контролирующие органы. Мы за годы советской власть провели несколько чисток партийных рядов от примазавшихся к партии. Но положение с кадрами меняется к лучшему очень медленно. В иных местах даже не в лучшую сторону… Кстати, не попросить ли нам, чтобы принесли чаю? — спросил вдруг Сталин, откинувшись на спинку дивана. — Как вы, товарищ Вышинский, не против?
— Нет, товарищ Сталин.
— Вот и прекрасно. Разговор у нас будет длинный.
Сталин поднялся с дивана, вскочил и Вышинский.
— Сидите! Сидите! — остановил его Сталин. — Вы мой гость, я здесь хозяин, мне и командовать. А вы пока подумайте над тем, как нам изменить положение с кадрами. И в самое кратчайшее время…
Сталин подошел к своему рабочему столу, склонился над ним, произнес:
— Товарищ Поскребышев! Попросите принести нам чаю. Ну и… чего-нибудь еще.
Вернувшись к дивану, но не садясь, спросил:
— Ну и как? Надумали?
— Это очень сложный вопрос, товарищ Сталин. Его с кондачка не решить.
— Это понятно, — кивнул головой Сталин. И вдруг, склонив голову набок, заговорил мягким тоном: — Я очень хорошо помню, как в камере предварительного заключения один молодой человек мечтал о том времени, когда все люди станут совсем другими: добрыми, грамотными, снисходительными к невинным слабостям ближнего. Тогда, помнится, этот молодой человек полагал, что отпадет надобность в полиции, тюрьмах, в мерах принуждения. Признаться, я с некоторым скептицизмом слушал эти мечтания. Вы, что же, по-прежнему стоите на этой точке зрения?
— Нет, товарищ Сталин. Уже не стою. Однако полагаю, что правосудие, наказывая преступника, должно иметь в виду нечто подобное. А именно: исправление человека, возвращение его обществу совсем в другом качестве.
— Ну, капитана буксира уже не вернешь ни в каком качестве, — усмехнулся Сталин. — Мечтать не вредно. Но, сталкиваясь с реальностью, надо иметь холодную голову и поступать в соответствии с практической необходимостью.
— Совершенно с вами согласен, товарищ Сталин… — начал было Вышинский, но Сталин остановил его движением руки.
— Вам в своей практической работе в качестве обвинителя разве не приходило в голову, что в этом вопросе мы топчемся на одном месте?
— Приходило, товарищ Сталин, — заволновался Вышинский, опасаясь, что Сталин не даст ему высказаться. — Иногда сталкиваешься с такими бюрократическими завалами, пробраться через которые очень трудно. А подчас и невозможно. Дело, на мой взгляд, в том, что старые кадры не поспевают за стремительностью процессов, совершающихся в нашей стране. А не поспевают они потому, что отстали от времени и технически, и теоретически. Тут нужны скорости аэропланов, а они все еще не слезли с телеги. К этому следует добавить несовершенство наших законов, в которых много лазеек для всяких проныр. По-моему, все разрешится в течение ближайших десяти-пятнадцати лет, когда им на смену придет образованная молодежь…
— Десяти-пятнадцати лет… — качнул головой Сталин и, повернувшись, медленно двинулся к двери. Там постоял, вернулся к дивану, спросил: — А вы уверены, что мы за эти десять-пятнадцать лет получим то, что нам необходимо? Не забывайте, товарищ Вышинский, что старые кадры постоянно оказывают разлагающее влияние на молодых специалистов, еще не окрепших морально и идеологически. Они не дают им развернуться, проявить себя в деле. А почему? Да потому что боятся: всем станет ясно, что эти старые кадры ни на что не годны. Старые кадры цепляются и будут цепляться за любую возможность, чтобы продолжать жить по-старому. Без решительного избавления от старых кадров мы будем и дальше трястись в телеге по российским дорогам, — продолжал Сталин нанизывать слова, не меняя тона, на только ему известную нить, протянувшуюся во времени, лишь в глазах его все чаще вспыхивали огоньки нетерпения. — Впереди нас ждет война. Мировой империализм не может смириться с существованием государства, в котором решающую роль играет рабочий класс… Правда, нашему рабочему классу тоже расти и расти. Но у него есть прочная база для такого роста. Это, прежде всего, марксизм-ленинизм. Это единство партийных рядов. Оздоровление партии есть решающий фактор в борьбе за доверие рабочего класса. Только на такой основе возможно стремительное усиление индустриального и военного могущества нашей страны.
— Я целиком и полностью согласен с вами, товарищ Сталин, — подхватил Вышинский, воспользовавшись паузой в речи Сталина. — Но как это сделать? Работа наших карающих органов тоже далека от идеала. Здесь тоже решающую роль играют старые кадры, которым не так уж плохо живется. Иногда дела о растрате или стяжательстве рассыпаются под влиянием властных структур, которые всякий раз ссылаются на то, что ущерб де не такой уж и большой, а политически дело может принести больше вреда, чем пользы. Мы, мол, сами тут разберемся и все уладим.
— Да, я читал о ленинградском процессе над жуликами и растратчиками народных средств. Вы там себя показали с наилучшей стороны. — Сталин остановился, спросил, глядя в глаза Вышинскому: — А что, такое часто случается?
— В Центре не так уж и часто, но на периферии довольно часто.
— Вот видите! А вы говорите: десять-пятнадцать лет. Да за эти десять-пятнадцать лет бюрократия так окрепнет и усилится, так воспитает молодое поколение, что оно, это поколение, с пеленок будет считать, что иначе не может быть… потому что, как говорила одна из героинь рассказа Чехова, потому что не может быть никогда, — заключил Сталин.
Вышинский все более узнавал в нем того человека, которого звали Кобой, с его неспешной речью и маятниковым движением от двери к стене тюремной камеры и обратно. Только обстановка изменилась, да оратор несколько постарел и обрюзг, но русский язык освоил, можно сказать, в совершенстве.
Сталин отошел к своему столу, принялся набивать табаком трубку.
Вышинский тоже молчал, теряясь в догадках о том, какую роль в этой борьбе со старыми кадрами, а не только с оппозицией, отводит ему Сталин.
Принесли чай.
Так и не закурив, Сталин пригласил Вышинского к отдельному столику.
Сели напротив друг друга.
Сталин разливал чай по чашкам.
Отпили по паре глотков.
Сталин заговорил снова:
— Вот был процесс над Зиновьевым-Каменевым и другими руководителями подпольного центра. Присудили им по пять-десять лет. Но ведь они составляли лишь головку оппозиционного движения. Остальные остались на свободе, продолжают ту же самую деятельность по подрыву советской власти. При этом молятся, как на икону, на осужденных. Законспирировались. Вредят, где могут и как могут. Сами же видели, когда выступали обвинителем на процессе о вредительской деятельности на некоторых электростанциях. Плюс шпионаж… Или шпионажа не было? — спросил Сталин, вприщур уставившись на Вышинского.
— Как же не было? Был! — воскликнул Вышинский. — Под прикрытием Английской электрической компании английские специалисты шпионили напропалую, не очень-то стесняясь, уверенные, что мы до них не докопаемся.
— Вот видите! А я уверен, что докопались вы не до всех… Впрочем, это не ваше, прокуроров, дело. Для этого существует контрразведка. И не в ней, по большому счету, дело. А в тех наших людях, которые с легкостью идут на шпионаж. А почему они идут? Во-первых, потому, что им не нравится советская власть. Во-вторых, кое-кто из них когда-то жил припеваючи, работая на тех же самых англичан, французов, немцев и прочих разных шведов. Те и теперь им платят. Не так много, как раньше, но платят.
— Но ведь не все же, — попытался Вышинский смягчить категоричность Сталина.
— Да, не все, — согласился Сталин. — Но одна паршивая овца все стадо портит. Старая истина. А у нас этих паршивых овец еще очень много. И не каждую разглядишь, какая она — паршивая или нет. В любом случае мы должны работать на опережение. Согласны со мной?
— Согласен, товарищ Сталин.
— Так где же выход? С одной стороны — бюрократия. С другой стороны — оппозиция. С третьей — остатки затаившейся контрреволюции. С четвертой — жулики и мздоимцы. Все это питательная среда для шпионажа, диверсий, терроризма, роста недовольства народных масс… Ждать десять-пятнадцать лет, чтобы все образовалось само собой? — спросил Сталин, пристально вглядываясь в собеседника.
— Надо усиливать работу наших органов… — начал было Вышинский.
— Это не выход, — оборвал его Сталин. Посмотрел на Вышинского вприщур, закончил: — Выход может быть только один: избавиться от старых кадров физически. На аэроплане, как вы заметили, им места нет.
— Вы полагаете…
— Полагаю. Исторически необходима большая и решительная чистка партийных, советских и прочих рядов от старых кадров. Эти кадры поднялись на революционной волне. В ту пору достаточно было знать несколько революционных лозунгов, чтобы соответствовать политическому моменту. НЭП отравил эти кадры вседозволенностью. Вспомните, что говорил Ленин: «Опасность для советской власти кроется в самой советской власти, в тонком слое революционеров». Но это одна сторона дела. А поддельные съестные продукты, которыми травятся люди, поддельные лекарства? А наркомания, захватывающая молодежь в больших городах? Разве это не есть терроризм против советского народа? Разве благодушное отношение к подобным преступлениям не есть попустительство и пособничество терроризму? Я уж не говорю о диверсиях на промышленных объектах. И с чего-то надо же начинать Большую чистку по всем направлениям? С чего? — спросил Сталин и сам же ответил, вложив в свой голос железные нотки: — Чистку надо начинать с головки оппозиции: Зиновьев, Каменев и прочие, — закончил Сталин решительным голосом.
— Но их уже осудили! — воскликнул Вышинский.
— Да, осудили! Но что это за осуждение, если они и в заключении продолжают свою вредительскую политику? Только избавившись от них, мы сможем начать большую чистку наших «авгиевых конюшен». — Сталин помолчал, раскуривая трубку. Затем продолжил тоном, не терпящим возражения: — Мы не этого ждали от главного прокурора РСФСР. Надеюсь, что на будущих процессах вы в полной мере используете и свои знания и свое красноречие.
— Позвольте, товарищ Сталин, но в чем же их обвинять на этот раз? — заволновался Вышинский, начиная догадываться, чего хочет от него Сталин. — Ведь большинство из них виноваты лишь в том, что не умеют или не способны делать то, что им поручено. Конечно, есть и такие, кто ведет свою работу во вред государству вполне сознательно. Вернее сказать, исходя из своих шкурных интересов. В том числе и методом производства недоброкачественного продовольствия и лекарств. Но таких не так уж много. И нельзя же дважды за одно и то же деяние… И потом… Я писал на имя Цэка записку, в которой указал, что признательные показания подозреваемого не могут расцениваться судом в качестве безусловного доказательства вины. На этом стоит вся правовая база судопроизводства. Тем более что признания зачастую добываются следствием противозаконными методами…
— Я читал вашу записку, товарищ Вышинский. Ее положения хороши в государстве с устоявшимися нормами общественного сознания. Нам до этого еще далеко. История не отпустила нам времени на то, чтобы разбираться, кто не способен работать хорошо, а кто способен вредить сознательно, — продолжал Сталин тихим, но твердым голосом. — Сознательно или бессознательно, а вред от их так называемой работы слишком велик, чтобы мы и дальше могли терпеть такое ненормальное положение. По существу, мы уже начали Большую чистку. Нам надо провести лишь несколько громких процессов над теми, кто занимает большие должности, кто у всех на слуху. Пора судить по революционным законам не только капитанов буксиров, но и тех, кто им покровительствует. Судить как вредителей, террористов, предателей, врагов революции и народа. Судить как шпионов, пособников Троцкого, фашистских приспешников. Совершенно неважно, в каком качестве окажется бюрократ и бездельник на скамье подсудимых рядом с действительными террористами и шпионами. Он должен оказаться там как один из заговорщиков против советской власти. Вот что нам нужно. Вот что нужно нашему народу, который в значительной степени стал работать на бюрократию, жуликов всех мастей и оттенков, а не на социализм. Нам не хватит ни времени, ни судей, если мы каждого бюрократа, каждого контрреволюционера-троцкиста, каждого жулика будем судить по отдельности. Да и народ перестанет поддерживать нашу вялую борьбу с его врагами. Он просто устанет от мелькания одних и тех же лиц. — Сталин помолчал, произнес жестким голосом: — Я жду от вас ответа, товарищ Вышинский.
— Позвольте, товарищ Сталин, но вы не оставляете мне выбора…
— Да, не оставляю. Или вы берете на себя ответственность в качестве главного обвинителя этих кадров… не всех, разумеется, а ее верхушки, или… или мы обойдемся без вас.
Вышинский снял очки, протер их тонкой замшей, водрузил на нос, посмотрел на Сталина, разжал плотно сжатые узкие губы.
— Я согласен, товарищ Сталин.
— Другого ответа я от вас и не ожидал, — удовлетворенно кивнул головой Сталин.
Глава 18
Ближе к полудню над Парижем пронеслась гроза — быстрая, шумная, веселая. Таковой она показалась Льву Давидовичу Троцкому, который все те полчаса неистового ликования природы простоял у окна, глядя на потоки воды, свергающиеся с неба, на кипящие пузырями лужи, на случайных прохожих, спешащих куда-то под дождем, но тоже весело и беззаботно.
Беззаботность парижан всегда раздражала Троцкого. В то время как во всем мире зреет революционная ситуация, в то время как под боком у Франции Германия бряцает оружием и Гитлер грозится изгнать из Германии всех евреев, именно парижане, некогда совершившие несколько революций, изменивших если не весь мир, то мир всей Европы, и больше всех пострадавшие от немцев же, сегодня самые беспечные на земле люди, предающиеся удовольствиям и праздности, как будто победа в Первой мировой войне обеспечила им вечный покой и процветание. И никакие даже самые ужасные обстоятельства не могут изменить их беспечного отношения к действительности. Хотя в Испании и Франции к власти пришли представители Народного фронта, а во главе правительств встали социалисты, положение от этого нисколько не изменилось, ибо социалисты — те же прислужники капитала, только более розовые, чем все остальные. К тому же именно социалисты идут на поводу у Сталина, отказывая Троцкому в проживании в своей стране, именно они нарушили все принципы демократического гостеприимства, которым отличалась Франция в прошлую эпоху. Хорошо, что хоть Норвегия соглашается дать прибежище бедному изгнаннику, но и там Сталин, судя по всему, не оставит в покое своего врага, единственного из всех революционеров, разгадавшего его предательскую сущность, единственного, кто неустанно разоблачает его в глазах международного пролетариата.
Разумеется, победа Народных фронтов в некоторых странах еще не революция, но в ней прозревает ее начало: спячка заканчивается, пробуждение рабочего класса Европы налицо. На повестку дня встает вопрос о взятии власти рабочим классом, о создании Союза советских социалистических республик Европы. Главное — сдвинуть первый камень, а там лавина покатится сама собой, по инерции, не останавливаясь и не щадя никого. И… да здравствует Мировая Революция!
Сегодня он, Лев Троцкий, призывает ее очистительные ураганы и бури на города и селения мира из своего жалкого убежища в нищем квартале Парижа, завтра он возвестит ее приход с вершины Эйфелевой башни… Нет, из Версальского дворца! Нет, с некоего надмирного пьедестала, который возведут ему пролетарии всех стран из банковских сейфов, набитых никому ненужным золотом. И это будет, это непременно будет!
И… И прочь все личное! Не Троцкому жаловаться на превратности своей судьбы. Пока бьется сердце, он будет бороться за победу Мировой Революции, за установление Советской власти в мировом масштабе.
Вожделенные представления распрекраснейшего завтра затуманили взор Льва Давидовича, и он уже не видел ничего из того, что творилось за окном. Огромный бронзовый монумент с гордо поднятой головой, вознесенной к самым облакам, виделся ему сквозь туман. И монумент этот будет стоять вечно, потому что вечна будет власть рабочих над миром, вечна будет коммунистическая форма существования человечества…
Сумасшедший удар грома над самой крышей дома заставил Льва Давидовича вздрогнуть и вернуться к постылой действительности.
За окном с ровным гулом, разбавляемым лишь клекотом в водосточных трубах, хлестал ливень. Прямые струи дождя стояли вертикально в неподвижном воздухе, паром курились карнизы и крыши домов, перегретый асфальт и камни мостовой.
Молодая женщина, без зонта, держа в руках туфли, семенила босиком по тротуару противоположной стороны улицы. Женщина промокла до нитки, шелковое платье плотно облепило ее стройную фигуру, все части тела проявились с бесстыдной откровенностью, но это нисколько не смущало молодую парижанку. Более того, она, похоже, чувствовала на себе алчные взгляды мужчин из каждого окна, и это заставляло ее двигаться под дождем с той утонченной грацией, с какой не выступают на великосветском балу даже признанные красавицы…
Молодая парижанка вынудила Троцкого вспомнить свою постаревшую жену, ее морщины, расплывшиеся формы и тяжелую походку, он вздохнул и вернулся к своим мыслям.
Сталин, конечно, серость, тупость, дурость. Но азиатски хитер. Именно этой его хитрости Лев Давидович в свое время и не учел. Но и Сталин — с его азиатской хитростью — не учел того факта, что Троцкий — везде Троцкий, а не только в России. Выгнав его из СССР, Сталин своими руками сотворил себе такого врага, который станет его, Сталина, могильщиком.
Вообще-то говоря, можно даже быть благодарным Сталину за изгнание: оказавшись в новых условиях, Лев Давидович открыл в себе доселе неизвестные ему качества вождя мирового масштаба. Без изгнания он так бы и не узнал, что способен на большее, чем быть просто одним из руководителей русской революции. Разумеется, именно русская революция и близость к Ленину обогатили его опытом руководства огромными массами людей, но, как теперь выясняется, поле его деятельности не какая-то одна страна, а весь мир. И это символично: евреи и не должны замыкаться на частностях, они не должны выступать прямыми руководителями чуждых им народов, ибо это спокон веку вызывало у всех народов подозрение к евреям и реакцию их неприятия. В России их массовое участие в руководстве революцией и страной породило грузина Сталина, в Германии — австрийца Гитлера. Судьбе было угодно рассеять евреев по всему миру для того, чтобы подтолкнуть аборигенов изменить этот мир до неузнаваемости, перестроить его на новых началах. Именно он, Лев Троцкий, войдет в историю как выдающийся деятель мирового масштаба, с кого началась новейшая история мира…
Женщина на противоположной стороне улицы свернула за угол. Без нее улица стала пустынной, а ливень и гроза ненужными, бессмысленными. Небо, точно догадавшись об этом, просветлело, луч солнца пробился сквозь облака, прямые струи дождя вспыхнули в этом луче золотыми нитями — и сплошная завеса дождя оборвалась, последние раскаты грома прозвучали издали, выглянуло солнце, — и засверкали мокрые крыши домов, роскошная листва каштанов и граненые шпили католического собора.
Да, вот так вот: грозы, ливни, ураганы, а над ними Солнце, единственное и недосягаемое. Можно проклинать бури и ураганы, но бессмысленно проклинать солнце, порождающее эти бури и ураганы.
Подергивая кудлатую бородку и мурлыча легкомысленную мелодию из оперетки Кальмана «Фиалка Монмартра», на которой свихнулся весь Париж, Троцкий отошел от окна и вернулся к письменному столу. Сев в кресло, взял в руки книгу, любовно погладил ее обложку трепетными пальцами. Книгу принесли сегодня утром прямо из типографии. Она потребовала усилий нескольких лет. В ней он попытался осмыслить русскую революцию, свою в ней роль и тот поворот к Термидору, который волею случая возглавил Сталин…
Ну, да черт с ними — с Россией, Сталиным, дураками Зиновьевым, Каменевым и другими евреями, которые, поддавшись гипнозу громких революционных фраз, перестали видеть то, что творится у них под носом, позволив сбить себя с истинного пути! Черт с ними!
Увы, в русском гнилом болоте сам бог Саваоф утратит свои святые ризы и превратится в ленивого отшельника, лишь на людях питающегося акридами и отвергающего мирские соблазны.
Только здесь, в центре цивилизованной Европы, можно и должно вершить всемирную историю, проявлять свои способности и сочетать еврейскую устремленность к господству вообще с устремленностью к господству всемирного пролетариата, ибо сами по себе желания или нежелания евреев играть решающую роль в мировом движении народов ничего не значат; желания их могут что-то значить лишь тогда, когда они сомкнутся с желаниями других народов. В таком случае евреи становятся той пуговицей на вселенском мундире, которая не даст ему расстегнуться. А если мундир все-таки понадобится сменить, то пуговица на новом мундире должна оставаться той же самой.
Глава 19
В это же утро сын Льва Давидовича, Лев Львович Седов (фамилия матери), которому недавно исполнилось тридцать три года и которого все, знавшие его, называли Левушкой, вошел в одно из небольших кафе на Монмартре, занял столик у окна, заказал кофе с рогаликами и принялся пробегать глазами утренние парижские газеты. В газетах не было ничего интересного. Даже сообщение по радио о мятеже генерала Франко в Испании не успело попасть на их страницы. Зато там много о жизни высшего общества, о разводах и свадьбах знаменитостей, о супружеских изменах, о скачках и футболе, об изысканных туалетах дам из высшего света, о том, у кого из них на сколько миллионов франков навешано драгоценностей, об их яхтах и новых автомобилях, о пьянстве среди офицеров армии и флота, о том, что дети средних классов не хотят одевать военный мундир, откупаются или отлынивают от службы под любым предлогом, что танки разваливаются на ходу, корабли сталкиваются, самолеты падают без видимых причин, что в колониях неспокойно, а соответствующие меры не принимаются. И общий тон всех газет: живите, пользуйтесь случаем разбогатеть, ловите удачу и не стесняйте себя никакими рамками буржуазных условностей.
Левушка Седов глянул на часы: половина девятого.
И тотчас же дверь кафе отворилась и впустила невысокого господина лет сорока, худощавого, с коническим лицом, одетого в вельветовую блузу и такие же штаны, похожего на не слишком преуспевающего художника. Однако наметанный глаз Левушки уловил его настороженный взгляд из-под надвинутого на самые брови большого коричневого берета, так не соответствующего костюму. И насторожился. Потому что человек, назначивший ему встречу в этом кафе, в телефонном разговоре назвался сторонником Троцкого, который желал бы активно помогать знаменитому революционеру в его борьбе за всемирное братство, а кроме этого подозрительного господина, он не заметил среди немногих посетителей кафе никого, кто мог бы оказаться звонившим ему человеком.
И точно: вошедший, оглядевшись, сразу же направился к столику, за которым сидел одинокий посетитель, остановился в шаге от него и, будто ощупывая глазами карманы Левушки, спросил:
— Вы не возражаете?
— Возражаю. Я жду приятеля.
— Приятель, которого вы ждете, это я. — Выдвинул стул и сел, положив руки на стол.
Некоторое время они бесцеремонно разглядывали друг друга. По мнению, сложившемуся у Седова в результате этого разглядывания, человек был похож на офранцузившегося еврея, который, быть может, и не служит в полиции, но наверняка с нею связан. Если, разумеется, это не агент Кремля. Особой опасности он пока не представляет, но у него могут быть сообщники, поджидающие где-то рядом. На этот случай и Левушка тоже подготовился: двое из его службы безопасности сидят за столиками в разных углах небольшого зала, еще один ждет в авто, стоящем на углу, а у него у самого за пояс заткнут бельгийский браунинг.
— Итак, я вас слушаю, — произнес он, когда молчание перешагнуло некоторую черту приличия.
— Да, конечно, — заговорил господин несколько в нос, точно у него был насморк. — Видите ли, Лев Львович, я действительно, поклонник вашего отца. Хотя и не самый активный его сторонник. Мне… как бы это вам сказать? — не хватает решительности. И потом… у меня семья, налаженное дело, не очень большое, но меня вполне устраивает. Так что к пролетариату я имею прямое отношение лишь в качестве работодателя. Более того, признаюсь вам, терпеть не могу, когда этот пролетариат требует прибавки к жалованию и прочих благ, не положенных ему от бога… Ну и… Германия, Австрия, Венгрия — наши с вами соплеменники слишком много там наследили со своими революциями, так что евреям во Франции приходится дышать в тряпочку, как говаривали у нас в Одессе. Да и атмосфера, сами видите какая: никому ни до чего нет дела…
Принесли кофе.
Левушка, сделав первый глоток, с усмешкой подбодрил своего собеседника:
— Надеюсь, мое кофе не помешает вам продолжить свои гениальные рассуждения. Было бы желательно, чтобы в них появилось нечто конкретное.
— Извините, но… как умею. Да, так вот. Я, собственно, не от себя лично. Мне поручили проинформировать вас о некоторых вещах, имея в виду, что мы с вами все-таки соотечественники… При этом я вполне сознаю всю щекотливость своей миссии… — Человек оглядел зал, нахмурился, достал сигареты, закурил. Затем продолжил: — Я понимаю, вы опасаетесь за свою безопасность. Здесь, в этом кафе, наверняка есть ваши люди. Я бы не хотел, чтобы вы сделали поспешные выводы из моих дальнейших слов. А главное — чтобы вы не посчитали меня провокатором… Ну и все остальное.
— Нельзя ли, наконец, ближе к делу? — нетерпеливо заметил Левушка и посмотрел на часы.
— Да-да, конечно. Собственно говоря, дело не в словах, а… Я сейчас покажу вам один документ. Вернее, его факсимиле. Как меня уверяли, оно произведено с оригинала. Если вы правильно отреагируете на этот документ, с вами встретятся другие люди, имеющие более широкие полномочия.
И с этими словами человек полез в боковой карман, заметив, что в его сторону направлен пистолет, прикрытый салфеткой.
— Не волнуйтесь, у меня нет оружия. И я не агент Кремля. Скорее, наоборот, — произнес человек, достал из кармана конверт и, положив его на стол, подвинул в сторону Седова кончиками пальцев.
Левушка некоторое время смотрел на конверт, затем велел, не убирая пистолета:
— Вскройте.
— Вы боитесь, что он отравлен? Напрасно, честное слово! Но если вы настаиваете… — и с этими словами человек придвинул к себе конверт, вскрыл его, достал листок бумаги, сложенный вдвое, и положил перед Левушкой.
Левушка убрал пистолет, взял листок. Развернул и сразу же узнал почерк отца, хотя и на английском языке. Внизу подпись: «Лев Троцкий (Бронштейн)». И далее: «Дано собственноручно в Лондоне, в 1901 году от р.х., августа 27 дня».
Еще не прочитав ни слова, Левушка почувствовал, как по его телу от головы прошла холодная волна и растеклась по ногам: это было короткое обязательство его отца сотрудничать с английской разведкой Интеллидженс сервис.
Какое-то время он не испытывал ничего, кроме опустошенности. Он хорошо знал принципы своего отца: не брезговать никакими средствами для достижения цели. При этом под целью понималась Мировая Революция. Но даже зная это, никак не мог свести концы с концами: его отец, лидер мирового коммунистического движения и — одновременно с этим — заурядный шпион.
Вспомнилось, как отец однажды в минуту откровенности признался, что очень «помог России проиграть войну Японии». Правда, тогда России «помогали» многие: и либеральные журналисты, и революционеры всех мастей. Каждый по-своему. Спрашивать у отца, как именно «помогал» он лично, не имело смысла. Теперь Левушка связал это с поездкой отца по Транссибу, о которой рассказывал, когда он, его сын, подрос и стал кое в чем разбираться. Вспомнились еще какие-то факты, упоминаемые вскользь. Осталось лишь связать с приведенной в факсимиле датой: 1901 год. Видать, не зря отец совершил это путешествие незадолго до войны, не зря делал что-то еще, приближая революцию 1905 года, как потом приближал последующие революции. И все это можно было бы понять, если бы не эта ничтожная бумажка, связывающая отца и сына с ролью примитивного доносителя.
Когда состояние отупения прошло, Седов поднял голову и посмотрел на человека, принесшего копию документа, тяжелым взглядом. А тот встретил этот взгляд с любопытством и с явным изумлением. Из этого можно было заключить все, что угодно: и что он не знает о содержании документа, и что знает — тоже. И первая мысль: этот человек опасен. Вслед за нею другая: надо встретиться с теми, кто дал ему документ, потому что… потому что они и рассчитывают на это, в противном случае разоблачение и все ужасные последствия для отца, его последователей и, разумеется, для его сына.
— Где? — выдавил из себя Левушка и сам не узнал своего голоса: таким он был хриплым и неживым.
— А! — засуетился посредник. — Тут рядом! Мы выйдем вместе с вами и пойдем… Я покажу, куда именно. То есть, я вас провожу и представлю. Тут совсем рядом, — еще раз уверил он.
Седов сунул злополучный листок в боковой карман пиджака, встал, все еще ощущая холод в ногах, и решительно направился к двери.
Действительно, дом, возле подъезда которого они остановились, находился в трех минутах ходьбы от кафе. Левушка оглянулся и сделал знак подойти одному из своих малоприметных людей, следовавших за ними на некотором расстоянии.
— Проводите меня до дверей, — велел он. — Останетесь там. Если меня не будет через… через полчаса, действуйте по обстоятельствам. На всякий случай установите наблюдение за окнами.
Человек молча кивнул головой.
На звонок посредника дверь открылась сразу же: видимо, там ждали и даже, возможно, следили. Скорее всего, окна (или окно) выходит на улицу.
Открывший дверь человек был рослым, несколько полноватым, с большими залысинами и совершенно невыразительным лицом. Он молча пропустил Седова и посредника в помещение и, будто не заметив остановившихся на лестничной площадке двух человек, закрыл дверь. Щелкнул английский замок.
Все трое прошли в комнату с двумя окнами, где стоял стол, четыре глубоких кресла и еще какая-то мебель. Седов сразу же подошел к окну, отодвинул гардину: точно, из окна вся узкая улица просматривалась до самого кафе. Но никого из своих людей он не увидел и вернулся к столу.
— Прошу, господа, — произнес полный человек и первым опустился в кресло.
За ним, как ни странно, уселся в кресло и посредник, которому, казалось бы, делать здесь было нечего. И только после этого Левушка сообразил, что убивать его не станут, что он им нужен живой и невредимый.
— Итак? — повернулся к Седову хозяин квартиры, — или кто он там на самом деле? — и, поскольку Левушка промолчал, решив не проявлять никакой инициативы, продолжил: — Итак, вы ознакомились с документом, господин Седов. Что вы на это скажете?
— Ничего, — ответил Левушка. — Не для того же вы заманили меня сюда, чтобы интересоваться моим мнением. Говорите, зачем я вам понадобился?
— А вы не догадываетесь?
— Я предпочитаю факты и аргументы.
— Хорошо. Будет вам и то и другое. Сначала факты. С 1901 года ваш отец является нашим агентом в России. Действующим агентом, хочу я подчеркнуть особо. Правда, после того, как его сослали в Алма-Ату, мы потеряли с ним связь. И, по здравому рассуждению, решили эту связь пока не восстанавливать. Мы потеряли ценного агента по независимым от нас и от него обстоятельствам. Между тем на счета вашего отца в швейцарском банке продолжают поступать определенные суммы, и господин Троцкий время от времени пользуется честно заработанными им деньгами. Но нужна отдача, а ее нет. Господин Троцкий и вы, господин Седов, выступаете против Сталина и его режима. В этом мы с вами сходимся. Как сказал ваш Маркс: временные попутчики. Но с некоторых пор наши пути с господином Троцким начинают расходиться. Господин Троцкий хочет иметь мировую революцию. Пусть, это его личное дело. Таковы факты. Теперь аргументы. Нам мировая революция не нужна. Нам нужна Россия, но такая Россия, которая бы следовала в русле европейской политики. Вам, как я понимаю, тоже. У вас есть связи со своими людьми в Москве: военные, дипломаты, министры, партийные функционеры. Они присылают вам информацию. У вас есть связи с некоторыми людьми, которые служат России здесь, на Западе, в советских посольствах, консульствах, торговых представительствах. Служат, но не любят Сталина. Они тоже дают вам информацию. Вы должны делиться с нами этой информацией. За это мы будем платить — теперь уже вам. Наши деньги пойдут на вашу борьбу со Сталиным. Или куда-то еще — по вашему усмотрению. По-моему, это хорошая сделка, господин Седов. Как говорят в России: и овцы целы, и волки сыты, — улыбнулся одними губами хозяин квартиры. — В противном случае… Впрочем, вы умный человек, господин Седов, и не мне объяснять вам, какие шаги последуют с нашей стороны, если вы не согласитесь. У вас нет выбора. К тому же, как нам хорошо известно, вы любите красивую жизнь. И это очень понятно, имея в виду вашу молодость и ваши таланты.
Лева закурил сигарету. Мысли выскакивали самые разные и разбегались в разные стороны. Но самая первая выскочила на кончике сигареты: «А этого одессита надо будет убрать… если он, конечно, одессит и действительно лишь посредник». Другие мысли на мысли не тянули, рассыпаясь перед стеной, которая стояла где-то в недоступном месте, а ее копия лежала в кармане, оттягивая его многопудовой гирей.
В комнате стояла такая тишина, что тоже ощущалась как некая стена, через которую не перепрыгнешь. И две пары глаз неотрывно пялились на него, точно два ствола маузера.
И Левушка, вдруг успокоившись, почувствовал себя как бы растворенным во всеобъемлющей тишине, что даже усмехнулся тому, как быстро состояние опустошенности сменилось состоянием равнодушия… нет, понимания ситуации. Значит, внутренне был готов к такому повороту событий: сидело это в нем с тех давних пор и только сейчас встало во весь рост.
И Левушка Седов произнес своим обычным ленивым голосом:
— Я согласен.
Глава 20
Троцкий ждал своего сына, обещавшего быть к десяти утра. Однако время уже к полудню, а его все нет: на аккуратного Левушку это не похоже. Неужели что-то случилось?
Левушка приехал только в полдень. Он стремительно вошел в кабинет, высокий, светловолосый, весь в мать, крепко пожал руку своему отцу. Вот только взгляд его был не столько, как обычно, почтительным, сколько откровенно любопытным, словно нашел в своем кармане использованный презерватив, спрятанный туда отцом.
— Правительство социалиста Блюма не идет ни на какие уступки, папа, — заговорил Левушка возбужденно. — Они даже не разрешают тебе вернуться на побережье. Они требуют твоей высылки в сорок восемь часов. Все, чего я смог добиться, это отсрочить высылку до окончания переговоров с правительством Норвегии о предоставлении тебе политического убежища. Но Норвегия настаивает на том, чтобы ты не использовал ее территорию для враждебной деятельности против государств, с которыми у королевства существуют дипломатические отношения. Имеется в виду, разумеется, Советский Союз.
— Проклятье! — в сердцах воскликнул Лев Давидович и забегал по кабинету. — Эти французишки… Лучше иметь дело с Гитлером, чем с этими прохвостами, называющими себя социалистами. Они еще пожалеют, да будет поздно!
— Успокойся, папа, еще не все потеряно, — произнес Левушка, опустился в кресло, закурил, разогнал дым рукой. — Французы — непредсказуемый народ: сегодня они беспечно веселятся, завтра схватятся за ножи и пойдут резать буржуев. Наше дело — приближать это завтра. Тогда без тебя им не обойтись.
Что может быть прекрасней, когда сын не столько идет по стопам отца, сколько рядом с ним, набираясь опыта, знаний и умения не повторять чужие ошибки! Что может быть прекрасней подобной преемственности поколений, над утверждением которой ломают головы буржуазные человековеды всех народов и стран! Ни-че-го!
Лев Давидович остановился, более внимательно глянул на сына, с которым что-то произошло. Левушку, его правую руку, его надежду и опору в революционной борьбе, словно подменили. И дело не в непогоде, не в тех известиях, которые он принес, потому что никакие известия о неожиданных событиях в мире, никакие самые ужасные бури и шторма не могли так подействовать на него за те два дня, что они не виделись. Да, сын его не силен в теории революций, зато у него сильна практическая хватка, которой обязано троцкистское движение своими первыми успехами на политическом поле Европы и всего мира. Но если даже что-то сдвинулось в нем в сторону… не самостоятельности, нет, потому что без отца, без его имени никакая хватка не принесла бы ему — и не принесет в будущем! — и сотой доли успеха на тернистом революционном пути, но если даже и сдвинулось, то, скорее всего, в этом замешена женщина, способная оказывать на него сильное влияние. Кремль вполне мог подбросить Левушке такую женщину, используя его пристрастие к слабому полу. И это очень опасно.
Лев Давидович нервно передернул плечами и тоже закурил.
— По-моему, за нами следят… Это уж точно, — произнес Левушка, выпуская дым изо рта, продолжая поглядывать на отца внимательно прищуренными глазами. — Во всяком случае, за твоим домом.
— Ну и пусть следят! — воскликнул Лев Давидович, презрительно вскинув вверх свою острую бородку. — Разве это мешает нам делать свое дело? Я за свою жизнь привык к тому, что за мной либо следят, либо охотятся. Но мы с тобой сейчас достигли той вершины известности не только в мировых революционных кругах, но и в правительственных сферах европейских государств, когда нас тронуть никто не посмеет без риска оказаться втянутым в крупный политический скандал. Даже Сталин остерегается подобного шага, хотя его ГПУ без колебаний расправляется с перебежчиками из советского рая.
— Возможно, папа. Но пренебрегать опасностью — не лучший способ избавиться от нее.
— А никто и не призывает пренебрегать опасностью. У тебя есть контрразведка, у тебя есть люди в ГПУ — наступи Сталину на хвост, покажи ему, что мы сильны и не позволим ему вести себя в Европе так же разнузданно, как он ведет себя в России.
— Я именно так и делаю, папа, — мягко успокоил отца Левушка. — Хотя возможности наши весьма ограничены. Но шел я к тебе не затем, чтобы сообщить о слежке. Это так, к слову пришлось.
И Левушка улыбнулся материнской все понимающей улыбкой, в серых материнских глазах его зажегся и потух странный огонек, всегда пугающий Льва Давидовича своей неопределенностью: то ли Левушке все равно, что думает о нем отец, то ли это отголосок каких-то других желаний, никак не связанных с великим революционным делом. Сегодня огонек упрятан в изучающем прищуре глаз — и это было что-то новое.
— Ты, конечно, еще не слушал радио, — продолжил Левушка с мягкой иронией в голосе.
— Разумеется, — нетерпеливо передернул плечами Лев Давидович, которому эта ирония очень не нравилась.
— Вот именно. А радио сегодня передало, что в Испании генерал Франко начал путч против правительства Народного фронта. Передали, что колонны войск движутся на Мадрид, практически не встречая сопротивления со стороны республиканцев. Французское правительство социалиста Блюма пока не сделало никаких заявлений на этот счет. Я принес тебе проект заявления нашего движения по поводу мятежа. Вот, посмотри.
— Какое сегодня число?
— Восемнадцатое.
— Восемнадцатое июля… Мда. Ровно месяц назад умер Горький… Говорят, мог бы еще жить, — задумчиво говорит Лев Давидович, поглаживая бородку. — А что Сталин? Молчит?
— Сталин молчит. Нам надо опередить реакцию правящей верхушки СССР и подвластного ей Коминтерна. Именно мы должны первыми бросить клич к мобилизации всех революционных сил на борьбу с фашистским мятежом. Всех истинно революционных сил, — поправился Левушка. — Мятеж в Испании может сыграть нам на руку, папа. Мы должны заставить Блюма оказывать республиканцам Испании военную и всякую иную помощь. Необходимо усилить агитацию в этом направлении по всем каналам не только нашего движения, но и других партий. Надо взбудоражить Францию, всю Европу, весь ее рабочий класс, всю сочувствующую нам интеллигенцию. Это выдвинет нас в безусловные лидеры, за нами пойдут массы, и тогда Франция будет принадлежать нам.
— Да-да, сын, я это понимаю, — пробормотал Лев Давидович, сквозь очки вчитываясь в принесенную Левушкой бумагу. — Надо предостеречь испанцев от сотрудничества с Москвой, надо призвать наших сторонников к мобилизации, созданию боевых отрядов и вербовке волонтеров… Нам надо первыми придти на испанскую землю, захватить место за дирижерским пультом, — бормотал Лев Давидович, делая пометки в тексте. — Весь рабочий класс пришел в движение. Эти гигантские массы не остановить словами. Борьба закончится либо полной победой, либо самым страшным поражением. Завтра… Нет, сегодня же собери пленум Цэка, надо все обсудить и начать действовать. Впрочем, действовать надо начать сейчас же, немедленно…
— Я уже распорядился в этом отношении, — вставил Левушка. — Разослал телеграммы во все наши отделения. Разумеется, за твоей, папа, подписью. Но сегодня, конечно, пленум не созвать. Дня через три разве что…
— Да-да! Разумеется! Да-да-да! Ты прав. В тебе есть эта моя жилка. В России я не ждал, когда все почешут затылок и придут к единому мнению, — заговорил Лев Давидович, все более возбуждаясь. — Я не ждал даже решения Ленина. У меня был свой штаб, свои люди, которых я привез с собой из Америки. Других набрал уже в России. На меня работали талантливые люди. Бабель, например. Горожанин. Кольцов. Слуцкий. Сегодня они превозносят Сталина, но в душе, я уверен, они остались верными Троцкому. Из подобных людей состояла моя личная разведка и контрразведка, своя Чека. Это были настоящие революционеры. Никакого разногласия, никаких споров. Действие и еще раз действие! Я действовал на опережение. Ты не можешь себе представить, Левушка, каково это было в России. Всеобщая тупость, лень, говорильня, оглядки на моральные и нравственные ценности, авось да небось, как бы чего не вышло, море анархии и безвластия на Российских просторах — все это я отметал и шел напрямик, не оглядываясь по сторонам, как Моисей через пустыню, без меня бы…
Лев Давидович вскинул голову, оглядел кабинет возбужденным взором, зашарил руками по столу в поисках спичек.
Всякий раз, вспоминая прошлое, он приходил в это крайнее возбуждение и терял чувство меры. Ему казалось, что еще не все потеряно, что надо лишь найти какое-то заветное слово, ухватить нужную мысль, — и все повернется вспять, чтобы повториться, но уже на других основаниях. Втайне он не верил в успех затеянного им дела, но остановиться не мог, потому что дело, которому он себя посвятил, не терпит остановки, как невозможно остановиться путнику, поднимающемуся в гору, пока он не достигнет перевала. Только с высоты можно увидеть те дали, которые открываются… открываются… Неважно, что там открывается, важно само движение вверх. Тем более что прошлое не может повториться, что там, в проклятой им России, он достиг некой вершины, откуда началось его скольжение вниз, которое можно лишь задержать на короткое время… а впереди новые вершины, более высокие и более значительные.
«Странно, — думал Левушка, наблюдая за своим отцом. — Странно, что в нем уживается так много самых неожиданных и противоречивых личностей. Конечно, он в те давние времена не мог представить себе нынешнего времени, не мог представить своей судьбы. Конечно, он метался и хватался за все, что подвернется под руку, не брезгая ничем. А теперь им движет инерция. Да и кем бы он был, если бы отошел от той роли, которая выпала на его долю? Никем. И ты сам движешься вместе с ним в потоке, в который он потянул тебя за собой. Но верит ли он в те догмы, которые проповедует?»
— Джон Рид в своей книге «Десять дней» совершенно справедливо… — частил словами Лев Давидович, стараясь не встречаться взглядом с изучающими глазами сына.
Он не впервой говорит ему одно и то же и боится увидеть в его глазах нетерпение, осуждение или, что еще хуже, снисходительное понимание. А Льву Давидовичу это повторение необходимо: всякий раз, говоря вроде бы об одном и том же, он находил в своем прошлом что-то новое, какие-то такие штрихи, которые оставались незамеченными ранее; из этих найденных штрихов получались сами собой новые выводы, помогающие лучше понять настоящее, внушающие оптимизм. Без этого повторения вслух он что-то терял, — или не находил, — что-то, невосполнимое другими методами и перед другой аудиторией; ему постоянно нужно было взбадривать в себе неутоленную ненависть к своему прошлому, чтобы сильнее любить будущее. Ко всему прочему, Лев Давидович чувствовал необходимость в том, чтобы взбадривать эту ненависть и в своем сыне, в котором замечал иногда одно лишь чиновничье усердие, как бы подстегиваемое возможной прибылью от принадлежащего ему пакета высоко котирующихся на Лондонской бирже акций. Это чиновничье усердие сына пугало Троцкого. Увы, он и в других своих сподвижниках находил то же самое.
Наконец, ему нужно было защитить себя от себя же, то есть от человека, для которого революция всегда была и оставалась лишь средством к достижению некой цели, поставленной перед ним, Львом Троцким, людьми, для которых революции и контрреволюции есть, в свою очередь, одни из многих средств управления мировыми процессами, которыми движут финансовые потоки, регулируемые принадлежащими им банками и биржами. Именно им он должен доказать, что способен еще на многое, что в России он если и потерпел поражение, то исключительно потому, что они, эти финансовые воротилы, посчитали, будто с России в ближайшие годы взять больше нечего, что Троцкий, находясь на вершине власти, отдал им все, что мог: русское золото, драгоценности, произведения искусства, концессии на природные богатства, права на беспошлинный сбыт залежалых товаров и продовольствия. Но длилось это недолго. Теперь они приглядываются к Сталину, ищут подходы к нему, но в новых условиях с ним у них вряд ли что-нибудь получится. И если они терпят его, Троцкого, то исключительно в надежде, что он сумеет свалить Сталина.
Чиркнув нервно спичкой, Лев Давидович закурил потухшую папиросу, жадно затянулся дымом.
— Так вот, Джон Рид… он совершенно справедливо отдает именно мне пальму первенства в руководстве октябрьским переворотом… Но я бы не смог выполнить свою миссию, если бы не понимал, в какой среде мне приходилось действовать, не понимал, что без опоры на своих людей я бы ничего не смог сделать. Я всегда имел информацию через своих людей о любом человеке в Совнаркоме, в ЦК и Политбюро. Даже о Дзержинском и его ближайшем окружении. И, разумеется, о Сталине. Я знал, где надо пригасить свое еврейство, где, наоборот, выставить его в качестве громоотвода. Я не рвался в первые лица, но без моего участия никакие вопросы принципиального характера не решались. С Лениным я всегда находил общий язык, хотя он не прочь был противопоставить мне кого-нибудь из того же Политбюро. Чаще всего именно Сталина… Впрочем, Ленин, надо отдать ему должное, был начисто лишен русской непрактичности. Скорее всего потому, что в нем текла — помимо прочего — еще и еврейская кровь. А Сталин… этот… этот Каин… Я напишу со временем книгу об этом ничтожестве, я покажу всему миру его истинное лицо, разоблачу его мнимую революционность, очищу его от громких евангелических фраз, и он предстанет перед миром голым королем… Даже без фигового листа!
Голос сорвался на фальцет от переполнявшей Льва Давидовича ненависти, и Левушка нетерпеливо шевельнулся в своем кресле. Лев Давидович, заметив это шевеление, проглотил слюну, облизал сухие губы, заговорил спокойнее:
— Сталин сегодня переписывает историю под себя. В этой истории уже нет места Льву Троцкому, зато там есть место Джугашвили, этой серости с рыжими глазами и речью паралитика… Гитлер и Муссолини по сравнению с Джугашвили — гении!
Всплеснул руками, откинулся на спинку кресла.
— Это надо же до такой степени извратить марксизм-ленинизм, чтобы приписывать ему то, чего там отродясь не было! До такого предательства революции дойти, чтобы возрождать казачество, вернуть царские звания для командного состава Красной армии! Надо опуститься до самого дна мелкобуржуазного мещанства, чтобы восстанавливать семью — эту ячейку и основу буржуазного мира! Они там начали в школах изучать историю царской России! Они там празднуют новый год с елкой! Они заговорили о советском патриотизме! Хах-ха-ха! Ох-ха-ха-ха! — затрясся Лев Давидович от нервного смеха, подавился дымом и закашлялся.
Кашлял долго и под конец — явно без всякой нужды. Успокоившись, вытерев слезы и уголки рта измятым платком, некоторое время сидел молча, лишь отряхивался и ощупывался, точно на его домашнюю куртку поналипла всякая дрянь. Папироса потухла, он чиркнул спичкой и опасливо покосился на сына.
Левушка сидел к нему вполоборота, курил, неподвижно смотрел прямо перед собой. Его высокий лоб с ранними залысинами белел на фоне золотистых корешков книг. В выражении его лица, даже позе сквозило что-то новое, незнакомое Льву Давидовичу. «Да, что-то случилось», — подумал он, опасливо поглядывая на сына и не решаясь спросить, зная, что если Левушка сам не сказал, то и не скажет. Лучше подождать…
А Левушка думал о превратностях своей судьбы и о том, как ему приноравливаться к новым обстоятельствам. Своим людям он сказал, что на встрече в кафе и на квартире речь шла о пожертвованиях троцкистскому движению, но поскольку были поставлены неприемлемые для них условия, он отказался.
— Я к чему все это говорю, — устало подвел итог своим эмоциональным высказываниям Лев Давидович. — Я к тому говорю, что нам с тобой предстоят новые битвы, по своим масштабам превышающие все, что знала история, и мы не должны эти битвы проигрывать. Непозволительно в политике наступать на одни и те же грабли дважды и трижды: убьет. Мы должны быть чертовски осторожны, но, вместе с тем, не должны позволять себе нерешительности и медлительности там, где требуется… где требуется воля и… и…
— Папа!
— А? А-ааа, да-да! Извини, сын. Итак, за дело! За дело! Сегодня вечером — пленум… Нет? Ну да все равно: на пленуме решится все…
— Я уже отдал необходимые распоряжения…
— Да-да! У тебя моя хватка, сын.
— Кстати, — закуривая новую сигарету, заговорил Левушка и повернулся лицом к отцу. — Из Москвы пришло сообщение, что Зиновьева с Каменевым снова привлекают к суду. Готовится открытый процесс. Судя по всему, Сталин никак не может успокоиться, пока они живы. Сообщают, что нарком Ягода противодействует стремлению Сталина расправиться с оппозицией его руками, понимая, что и сам может оказаться в их положении. Я подготовил открытое письмо к членам ВКП(б), ко всем сознательным рабочим СССР, в котором раскрываю истинную суть готовящегося процесса… К тому же, я думаю, надо направить отдельное письмо к евсекции ВКП(б), ко всем евреям СССР. В нем со всей откровенностью показать, что процесс этот имеет антисемитскую направленность и что евреям СССР не по пути со Сталиным…
— Думаю, что сейчас эти письма преждевременны, — перебил сына Лев Давидович. — Пусть будет процесс. Нам все равно его не остановить. О сути этого процесса будем писать и говорить здесь, раскрывая глаза европейским приверженцам Каина-Джугашвили на его истинную — термидорианскую! контрреволюционную! — сущность. Письма потом, когда процесс даст необходимые результаты. Я уверен, что нож гильотины уже повис над головами оппозиции сталинскому режиму. Так пусть свершится суд истории над теми, кто вместе со Сталиным травил и гнал твоего отца! — воскликнул Лев Давидович и снова с тревогой глянул в задумчивые серые глаза сына.
* * *
Через два часа, договорившись о деталях с отцом и отобедав с родителями, Левушка покинул их дом и сел в поджидавшее его на углу авто с личным шофером и телохранителем, дагестанским евреем с арабским именем Муса, когда-то служившим в «Дикой дивизии» под командованием генерала Шкуро.
— Ничего не заметил, Муса?
— Подходили двое, заглянули, просили подвезти до Эйфилевой башни. Оба — евреи. У одного одесское произношение французского. Я уже их где-то видел. От них за версту разит ГПУ. Прикажи, Лео, я посажу их на шампур.
— В этом нет никакой необходимости. Если бы хотели убить, не стали бы светиться. Возможно, что это эмигранты. В Париже много всякой русской швали.
— Они — евреи.
— Не имеет значения. Одни евреи служат Сталину, другие — революции, третьи — Маммоне, четвертые просто существуют.
— Плохо. Евреи должны быть сообща.
— Библейские времена миновали, Муса. Ты вот мусульманин. Я — атеист. А делаем одно дело. Главное — дело. Все остальное должно помогать делу: женщины, деньги, искусство, религия. Мировая революция — это… это как женщина: чем дольше живешь с этой женщиной, тем сильнее хочется другую, моложе и красивее. Жить надо сегодня — в этом вся штука.
— Твой отец не одобрил бы твои мысли, — равнодушно произнес Муса, но за этим равнодушием чувствовалось упрямое несогласие.
— Мой отец не дурак! — усмехнулся Левушка. — Он и сам любит и умеет жить на широкую ногу. Во всяком случае, ни одной юбки не пропустит. К тому же он догадывается о моих мыслях. Но, во-первых, я его сын; во-вторых, я ему нужен. В-третьих, никогда его не предам. Наконец, революция — это тоже дело, и очень интересное дело: оно щекочет нервы, оно возбуждает, как молодая и красивая женщина, как хорошее вино. Оно, это дело, не мешает просто жить. Между тем время революционной романтики миновало, Муса. С этим ничего не поделаешь. На Парижской бирже революция котируется ниже номинала. Да и буржуа начинает понимать, что рабочим надо создавать сносные условия жизни, иначе везде к власти придут Джугашвили. Русская революция их кое-чему научила.
Миновали мост через Сену.
— За нами хвост, — произнес Муса, поглядывая в зеркало заднего вида.
— Давно?
— От самого дома.
— Сверни на Елисейские поля, там сейчас безлюдно. Приготовь оружие. Если это хвост, он или потянется за нами, рассчитывая на свое превосходство, либо отвяжется, понимая, что это грозит ему неприятностями…
С минуту ехали молча.
— Отвязался, — с сожалением произнес Муса, останавливая авто и убирая в потайное отделение тяжелый маузер. — Жидкий оказался.
— Вот видишь, — усмехнулся Левушка, ставя на предохранитель пистолет. — В этой игре со смертью тоже есть своя прелесть.
* * *
Поздней ночью из Гавра отошел небольшой пароходик. Помимо шести человек команды, на нем находились Лев Давидович Троцкий и его жена Наталья Ивановна. Пароходик взял курс на пролив Па-де-Кале. Скитание Троцкого в поисках пристанища продолжилось. О Мировой Революции если и думалось, то уже не с прежним энтузиазмом. Во всяком случае, Версальский дворец и Эйфелева башня остались далеко позади. О величественном бронзовом монументе мечтать, тем более говорить, было как-то не с руки. Надо было работать, зарабатывать деньги — жить.
Лев Давидович стоял на корме пароходика, смотрел на берег Франции, постепенно погружающийся в темноту. Вот так вот, наверное, стоял когда-то на корме корабля свергнутый с престола Наполеон Бонапарт. Только корабль тот шел на юг, а этот пароходик — на север, но оба — от берегов Франции.
Конец восемнадцатой части
Часть 19
Глава 1
Вот уже несколько часов после оглашения приговора суда Лев Борисович Каменев проводит в одиночной камере внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке. Камера небольшая, изученная до последней трещинки на бетонных стенах, пять шагов от окна до двери, стол да кровать, да окно, забранное щелястыми жалюзи, сквозь которые едва пробиваются узкие полоски света.
Ужин принесли вполне приличный, дали папиросы, свежие газеты, лежать не запрещают. Но никаких свиданий, посылок и писем, никакого общения с внешним миром. Тюремщики молчаливы, угрюмы, на вопросы не отвечают, просьбы если и слышат, то неизвестно, передают ли своему начальству. И все-таки это лучше, чем пытки бессонницей, ярким светом и унижениями, какими подвергался Каменев во время следствия. Он признал все, что от него требовали. Назвал все имена, которые ему подсовывали. И даже сам все расширял и расширял круг лиц, якобы замешанных в так называемом «Объединенном троцкистско-зиновьевском террористическом центре», включив в него и самых близких к Сталину лиц: Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Кагановича, Буденного — пусть повертятся. Он готов был назвать даже имя своего главного мучителя, следователя Льва Шейнина, в числе своих сообщников, если бы в этом была какая-то польза. Но Шейнину, похоже, не нужны были другие имена, хотя он что-то там и записывал в протокол следствия. А Каменев надеялся, что те, кто прочитает этот протокол, поймут: люди, которых он назвал, не могут быть врагами советской власти уже хотя бы потому, что никогда не испытывали симпатий к Троцкому и Зиновьеву, что сами же представляют эту власть, что, наконец, все это дикость, абсурд, следовательно, и он, Лев Каменев, тоже не враг.
Судебное разбирательство показало, что никакой логики в обвинениях не было, что все было решено заранее, еще до суда. Впрочем, это не стало неожиданностью для Льва Борисовича. Этот судебный процесс практически ничем не отличался от предыдущего, разве что еще большей озлобленностью и оголтелостью. Неожиданностью был приговор: смертная казнь. До сих пор подобные приговоры членам партии большевиков не выносили. Еще при Ленине было решено не судить членов партии за политические разногласия и не допускать вынесения этих разногласий на суд широких масс. Зато за уголовщину судили более жестоко и решительно, чем беспартийных. Неужели Сталин переступит и эту ленинскую заповедь?
То потрясение, которое Каманев, как и все остальные подсудимые, испытал после оглашения приговора, постепенно прошло, в душе осталось лишь чувство недоумения и ощущение нереальности всего происходящего. А еще теплилась надежда, что спадет пропагандистская кампания борьбы с уклонистами, все успокоится, осужденных подержат-подержат в узилище и тихо выпустят на волю, отправив в какую-нибудь Тмутаракань. Ведь не за что, собственно говоря, лишать жизни тех, кто делал революцию, кто не щадил…
А может быть, как раз за это? Да нет, не может быть! Чепуха! Расстрелять невинных людей — это… это, знаете ли… Это вам не Франция восемнадцатого века, это хоть и Россия, но век-то уже и не девятнадцатый даже, а двадцатый.
Лев Борисович тяжело поднялся с постели, взял со стола газеты. Свежие, сегодняшние: «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Гудок»… — те же самые, какие он и на воле читал по утрам. Главная тема — обсуждение проекта новой Конституции СССР. Проект поддерживают, одобряют, вносят в него коллективные поправки, и в каждом газетном столбце — Сталин, Сталин, Сталин! Особенно старается «Правда». Говорят, будто Мехлис, еще будучи личным секретарем Сталина, сказал ему однажды, что, мол, недостаточно только ругать оппозицию и изобличать врагов народа, надо еще создать у народа представление, что все достижения советской власти связаны лишь с одним именем — именем Сталина. Будто бы Мехлис привел в качестве примера Моисея, которого левиты, выдвинутые им в привилегированное сословие среди народа Израиля, обязаны были восхвалять его наравне с самим богом и тем поддерживать в народе непререкаемый авторитет своего вожака и право единолично вершить суд и расправу над любым человеком. Говорят, именно после этого разговора Сталин назначил Мехлиса главным редактором «Правды» и дал ему неограниченные права в реализации предложенного плана.
Да, Мехлис, судя по страницам газеты, старается на совесть. В его старании ярко выражены еврейская страстность и предприимчивость. Но более всего он привнес в создание культа Сталина культ богоизбранного народа Израиля, культ его бога и Библии, как единственного источника мудрости и истины для всего человечества. Понимает ли Мехлис, какую разрушительную силу он взлелеявает своей неистовой пропагандой исключительности Сталина? Ведь подобная же пропаганда и внушенное чувство исключительности привели когда-то к гибели государство Израиль, к рассеянию его народа по всему миру. Не обернется ли возвеличивание Сталина против его возвеличивателей? Диктаторам не ведомо чувства благодарности, они на добро чаще всего отвечают злом.
Каменев отложил «Правду», поднялся и несколько раз прошелся по камере от окна к двери и обратно. Потом снова взялся за газеты. Увы, редакторы их были разными, но писали они об одном и том же. И почти одним и тем же языком. Впрочем, наблюдение это было не новым и не вызвало у Льва Борисовича никаких особых чувств. Одно лишь подействовало весьма неприятно — погромные статьи Карла Радека, Михаила Кольцова и других, менее знаменитых журналистов, извергающие фонтаны лютой ненависти к осужденным, да отклики с мест на завершившийся судебный процесс: единодушное проклятие и требование немедленной смерти преступной клике Зиновьева-Каменева.
И вдруг, в колонке официальных сообщений газеты «Известия» — маленькая заметка, в которой говорится, что Президиум ЦИК СССР отклонил ходатайство о помиловании осужденных к высшей мере пролетарского возмездия членов преступной банды «Объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра» и что приговор приведен в исполнение.
Каменев еще и еще раз перечитывал заметку, но смысл ее все более и более затемнялся в его сознании: «приговор приведен в исполнение», а он, Лев Каменев, все еще жив. Так может, и не будет никакого «исполнения»? Того же Авеля Енукидзе осудили, раздраконили на Пленуме ЦК, а потом тихой сапой восстановили почти во всех правах и обязанностях. Правда, всю мелкую сошку — всех этих кремлевских библиотекарш и уборщиц, из дочерей которых Енукидзе создал свой гарем, а также охранников и дворников, этот гарем обслуживающих, — загнали «за Можай», так ведь без этого и нельзя, кто-то ведь должен отдуваться за длинный язык, за перемывание косточек членов Цэка и правительства, кто-то же должен стать примером для назидания остальным. К тому же мелкой сошке не привыкать жить «за Можаем»…
Или взять процесс по так называемому делу подпольной диверсионно-террористической организации «Промышленная партия», будто бы возглавляемой профессором и директором Теплотехнического института Рамзиным, куда — опять же будто бы — входили и многие другие видные ученые. Дело это состряпали не по политическим соображениям, а, как было доподлинно известно Льву Борисовичу, исключительно для того, чтобы освободить кафедры и должности для своих людей, которым не терпелось эти кафедры занять немедленно, а не после дождичка в четверг, то есть после всяких конкурсов, аттестационных комиссий и испытательных сроков. Сегодня Рамзин на свободе и снова возглавляет тот же институт, а его нетерпеливые гонители ожидают решения своей участи в Бутырках и уже никуда не спешат.
То же самое и с видными историками, философами и юристами «старой школы», к осуждению которых приложил руку сам Бухарин, возжелавший стать академиком в области истории и философии, а «старики» выступили против, — «стариков» осудили, сослали, а потом — по прошествии нескольких лет — вернули к прежним должностям и званиям. Тех, кто остался жив, разумеется. Но не потому, что они такие хорошие и пострадали зря, а потому что Сталину и его клике понадобились люди, способные возродить империю.
Так, может быть, и с ними, зиновьевцами-каменевцами, поступят точно так же? Или хотя бы с ним, Каменевым: как ни как, а все же со Сталиным они довольно длительное время шли рядом, хотя друзьями так и не стали. Наконец, совсем недавно те же самые Радек и Кольцов требовали смерти Рамзину со товарищи и, захлебываясь от восторга, писали, что дети этих врагов народа отрекаются от своих отцов, требуя для них только расстрела.
Вспомнив эти неистовые писания газетчиков, Лев Борисович вспомнил и свою семью. Они-то как там? Тоже отреклись от него или все еще держатся? И каково им среди всеобщей ненависти и презрения? Каково, когда на тебя показывают пальцем? Впрочем, сын, скорее всего, отрекся, ибо привык жить за счет денег и авторитета отца. Только поможет ли ему это?
Ах, как все они, стоявшие у истоков советской власти, мечтали, что новое поколение будет нетерпимо к любым проявлениям буржуазности с ее моралью и традициями, что новые поколения будут едины в своей ненависти к старому миру. Казалось, что это случится так не скоро. А минуло всего лишь неполных два десятка лет — и вот эти мальчишки и девчонки требуют смерти своим отцам, матерям и братьям, не задумываясь даже над тем, виноваты ли их отцы, матери и братья в том, в чем их обвиняют. Что ж, с исторической точки зрения это их поведение вполне закономерно и служит на пользу Мировой Революции. Но каково ему, Льву Каменеву, представлять, что и его дети в эти самые минуты проклинают своего отца?
И сказал Моисей: «Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего».
Все повторяется, все повторяется и движется, подобно солнцу, по своему извечному кругу. Прав Екклесиаст, говоря: «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Но каждому представляется, что время, в котором он живет, небывало трагическое, в истории человечества исключительное, что он идет путем нехоженым, и только на пороге смерти, оглянув пройденное, делает человек вывод, который сделал когда-то и сам Екклесиаст, — тоже, поди, на том же самом пороге.
В двери тускло засветился глазок и снова потемнел, прикрытый недремлющим оком надзирателя. Все-таки хоть кто-то еще интересуется им, Левой Розенфельдом, — и это даже успокаивает…
Каменев безостановочно вышагивал по камере, голова его как никогда была ясна, мысли выстраивались в четкие порядки, связываясь бесконечной цепью минувших событий. Он будто отстранился от самого себя и увидел из этой отстраненности свое прошлое совершенно по-другому, чем виделось оно раньше, и даже за месяц или неделю до сегодняшнего дня. Он видел, как его устремления и устремления тысяч его товарищей то и дело заходили в тупик, из которого приходилось выбираться ценой чужих жизней и чужой крови. И ни разу сожаление не тронуло его душу, ни разу он не оглянулся и не прислушался к стонам, раздававшимся за его спиной, — ни он, ни его товарищи по партии, по устремлениям, для которых партия была лишь удобным инструментом, как для сапожника — шило и молоток, для аптекаря — весы и мензурки, а сами устремления светлы и прекрасны. Теперь Лев Борисович сам оказался в числе тех, кто остается позади. И никто из уходящих вперед не слышит, уже в свою очередь, его стонов. В этом есть что-то такое… какая-то злая ирония или даже насмешка: вот, мол, каждому — по делам его.
И память вернула его в девятнадцатый год. Каменев тогда был чрезвычайным уполномоченным Реввоенсовета республики на фронтах гражданской войны. С чрезвычайными, разумеется, правами. Вспомнился бывший царский генерал, которого обвинили в измене делу революции и приговорили к расстрелу. Доказательств измены никаких, но дела на фронте шли из рук вон плохо, везде чудилась измена, а бывших царских генералов и полковников сам бог послал для того, чтобы изменять и быть за это наказанными. Какие тут нужны доказательства? Никаких! Правда, несколько дней назад Каменев беседовал с этим генералом… — никак не мог он сейчас вспомнить его фамилию! — о положении на фронте, и суждения генерала показались ему, ничего в военных делах не смыслящему, вполне здравыми. Но это было несколько дней назад. А вчера тройка приговорила генерала к расстрелу, и приговор должен утвердить чрезвычайный уполномоченный РВС, то есть он, Лев Каменев. И он его утвердил. Почти не читая: спешил встретить прибывающую на станцию дивизию, чтобы обратиться к ней с пламенным большевистским призывом.
Деникин подходил к Орлу, конница Мамонтова громила тылы красных, времени было в обрез, дивизия должна была заткнуть одну из зияющих брешей в лоскутном фронте Красной армии…
Каменев будто воочию увидел заваленный листовками стол, лежащую на нем бумагу с приговором «тройки». Вот он берет ручку, обмакивает в выцветшие чернила перо и, между двумя глотками чая, размашисто этот приговор подписывает. Потом допивает чай, одевается, сбегает (тогда он еще мог сбегать) по ступеням крыльца вниз к своему автомобилю и видит того генерала, выходящего из сарая в сопровождении нескольких китайцев с винтовками наперевес и человека в кожаной куртке и штанах.
Генерал, в распахнутой солдатской шинели, идет, высоко вскинув непокрытую седую голову, заложив за спину руки. Его пару раз подтолкнули, чтобы шел быстрее (на юго-востоке погромыхивает артиллерия белых, человек в коже нервничает и оглядывается по сторонам), но генерал не изменил своего неторопливого, размеренного шага. Под его ногами звонко поскрипывает снег…
Ни малейшего сожаления при виде идущего на казнь генерала Каменев не испытал. Тем более что этот генерал не первый и не последний, судьба которого решилась простым росчерком пера. Правда, Льву Борисовичу приходилось подписывать подобные бумаги не так уж часто. Другое дело Дзержинский, Сталин или тот же Зиновьев. На совести последнего великие князья, просто князья и много еще кого. Считалось высокой привилегией — приложить руку к судьбе российской элиты. И каждый старался по мере своих возможностей.
Нет, картина идущего на казнь генерала не вызвала никаких чувств. Каменев плюхнулся на сидение автомобиля, запахнулся медвежьей полстью, приказал: «Поехали!» и тут же позабыл о бывшем генерале. Какие там генералы, когда все может рухнуть в одночасье, когда в Москве под парами стоят несколько эшелонов для вывоза советского правительства за рубеж, когда сам не знаешь, будешь ли жив через полчаса…
И вот миновали годы. Ты сам оказался на месте бывшего генерала. Ты сам — тоже во всех отношениях бывший: бывший революционер, бывший предсовнаркома, бывший член партии и ее ЦК, и много чего еще. Вспомнят ли о тебе или забудут даже имя твое, как ты сам забыл свое истинное имя и имя того генерала, наверняка ни в чем не повинного? И что думал тот генерал в свой последний час? Что видел он перед собой, шагая в сторону леса, темнеющего за окраиной села?
Только сейчас Каменев задумался над этим, а тогда думать приходилось совсем о другом. Но и сейчас воспоминания о генерале не вызвали в нем никакого сожаления. Лев Борисович даже не знает, почему именно генерал вспомнился ему в эти минуты. Вспомнился — и все тут. Мог вспомниться и кто-то другой. Мало ли. Существовала в те поры определенная революционная необходимость, если хотите — закономерность, — вот и гибли всякие генералы и князья. А нынче? Может, и нынче действует все та же неумолимая закономерность? Троцкий в одной из своих книг, написанных и изданных за границей, утверждает, что, да, такая закономерность существует. И, действительно, разве кончился бой? Нет, бой еще не кончился. Тогда незачем рвать на себе волосы? Жить, конечно, хочется. Хочется посмотреть, как оно будет дальше. Хотя бы одним глазком. Но… Но осталась партия, осталась советская власть — главное завоевание Октября. Чего же еще?
Лев Борисович поймал себя на мысли, что думает расхожими фразами, что где-то подспудно он давно не верит ни в партию, ни в советскую власть, ни в Маркса, ни в Ленина. Все поглотила рутина выживания и борьбы за власть. Какие там к черту принципы, идеи, возвышенные цели! Власть — это жизнь, и такая жизнь, какая тебе представляется правильной, интересной, достойной. Безвластие — это смерть. И что-то даже похуже смерти. Безвластие — это невозможность защитить себя, свою жизнь, свои представления об этой жизни. Власть — безвластие… Жизнь — смерть… Все остальное пошло и бессмысленно.
Глава 2
В коридоре громко и не в лад загромыхали по цементному полу подкованные сапоги. Вот замерли возле двери, лязгнул засов, дверь распахнулась, на пороге возникла смутная фигура человека, за ней темнели другие.
— Выходи! — прогремел в тишине резкий, как лай дворового пса, голос. — Руки за спину!
— С вещами? — еще на что-то надеясь, спросил Лев Борисович, не узнавая своего безжизненного голоса.
— Налегке! — рявкнуло в ответ.
Кто-то изумленно и коротко хохотнул.
Сердце ухнуло вниз, грудь охватило холодом, в ушах зазвучал концерт мириадов цикад, так что показалось: мозг сейчас вскипит от этих истерических звуков и прольется через глаза и уши. Но мозг не вскипел и не пролился.
Каменев с трудом сделал первый шаг на ставших вдруг чужими ногах. Затем второй. Ноги донесли-таки его до ступенек, подняли по ступеням вверх, люди расступились, пропуская его вперед, кто-то грубо подтолкнул.
— Двигай давай, контра недорезанная!
И он двинулся, шаркая подошвами по цементному полу, ничего не видя перед собой, кроме качающейся, как маятник, чьей-то широкой спины. Затем, на повороте, будто сквозь туман прорисовалась мешковатая фигура Карла Паукера, с которой было что-то связано, но что именно, Каменев вспомнить не смог. Фигура исчезла, коридор, истертые ступени вниз, все сильнее запах сырости и плесени, все теснее сходятся стены. И — тупик.
— Стоять!
Команда дошла, будто сквозь толстый слой ваты.
Лев Борисович остановился за шаг от стены. Переступил ногами, расставил их как можно шире.
Так, бывало, в камере, еще в царской тюрьме, вставали, играя в «жучка». Только руки не назад, а скрещены на груди, и левая ладонь под мышкой. Удар в ладонь, ты оборачиваешься и пытаешься угадать: кто? Грелись…
Широко распахнутыми глазами он уставился в неровную поверхность стены…
От стены пахнуло чем-то знакомым, душновато-приторным. Так пахло от только что зарезанной свиньи. В детстве он любил жареную картошку со шкварками и домашнюю колбасу. Из детства же долетел запах паленой щетины, деловитые и радостные голоса взрослых, разделывающих тушу, подвешенную к перекладине за задние ноги. Из тумана выплыло озабоченное славянское лицо матери, вечно чем-то недовольное, заросшее черной бородой семитское лицо отца. Истинный иудей не должен есть свинину… и все-таки ели. Значит, были не истинными. Впрочем, тогда он об этом не думал.
Почему-то вспомнились картины из эмигрантской жизни: бесконечные споры, грызня, заснеженные просторы Сибири, снова бесконечные споры, споры, грызня… И так — до недавнего времени. А вершина всего — суд. В центре — окорокоподобное лицо судьи Ульриха… Желчное лицо прокурора Вышинского, обвинительные приговоры которого против казнокрадов, жуликов и всяких проходимцев, пролезших в партию, так — тоже недавно! — нравилось читать в газетах Льву Борисовичу.
Все было мерзко — все! Судьи, подсудимые, их жалкий лепет. И сама жизнь, которая привела в Никуда. Мерзко и ничтожно в сравнении с тем безгранично огромным, что открывалось в эти мгновения внутреннему взору Льва Розенфельда. Там оглушительно звенели цикады и вращались в бешеном вихре пространства и миры.
За спиной слышался шорох и чье-то дыхание.
Чего они возятся? Скорей бы… Наверное, это совсем не больно, если точно в мозжечок. Промахнуться они не должны…
А вдруг они ждут, что принесут бумагу, а на ней: приговор отменить, выслать на жительство в Сибирь… или еще куда-нибудь. Пусть. Согласен на все: и на Сибирь, и на куда-нибудь. Только бы жить. Пусть десять лет, пусть год, пусть…
Пристально вглядываясь в бесконечное Нечто остановившимся взором, Лев Борисович крепко сжал пальцы сведенных за спиною рук, судорожными глотками набрал в легкие побольше воздуху, точно собирался прыгнуть в ледяную воду: сейчас или прочитают отмену, или…
Замер, ожидая и выстрела, и чего-то другого… Без ужаса, без чувств…
— Именем Союза советских социалистических республик… — прозвучало откуда-то издалека.
Выдохнуть не успел.
* * *
Зиновьев метался по камере. Он не притронулся ни к пище, ни к газетам. Лишь папиросы смолил одну за другой, жадно затягиваясь едким дымом, кашляя и отплевываясь тягучей слюной на пол, на стены, на двери, норовя попасть в глазок: нате вам, нате! Иногда, обессиленный, присаживался на кровать и бессмысленно пялился в темный угол широко распахнутыми, обесцвеченными ужасом глазами. В голове ни одной мысли, лишь разрозненные картины из прошлого мелькали в воспаленном воображении, не задерживаясь и не вызывая ничего, кроме новых приступов все того же ужаса перед тем, что вот-вот должно неотвратимо случиться.
На несколько мгновений дольше задержалась перед ним картина еврейского шинка, отдельная кабинка за тяжелыми шторами, плюгавый старикашка с опущенными в брезгливой гримасе губами, в уголках которых скапливалась белая пена слюны. А еще бритоголовый Голиаф со сложенными на груди могучими руками, который должен был сопровождать Кирша Апфельбаума-Радомышльского всю его жизнь, следя, чтобы Кирш ни одним своим поступком не предал бессмертное дело Великого Израиля. И что же? Где этот всемогущий Голиаф? Почему он не спешит на помощь своему подопечному? Увы! Это был фарс, гнусный фарс и ничего больше. А он-то, Григорий Зиновьев, почти всю свою жизнь провел в уверенности, что Голиаф стоит где-то за его спиной и стережет каждое его движение. Ему временами казалось даже, что он слышит его близкое дыхание и ощущает запах потного тела.
Боже! Великий боже Израилев! Ведь мне всего пятьдесят четыре года! Пятьдесят четыре — это так мало! Моисей прожил почти вдвое дольше. Какие-то ничтожные Морганы, Нобили, Рокфеллеры живут до глубокой старости, а я… Ведь во мне еще столько нерастраченных сил, столько возможностей и дарований! Еще столько женщин не было моими любовницами и никогда ими не станут. Они достанутся каким-нибудь засмыканным тупицам, которые… которых… Да что женщины? Грязь!
По коридору загремели, нарастая подобно обвалу, тяжелые шаги нескольких человек. Григорий Евсеевич замер, чувствуя, как холодный пот выступает у него на груди, спине, течет по животу и ногам.
Шаги затихли, не достигнув его камеры. Он слышал, как лязгнул засов, прозвучал невнятный, но резкий командный голос. Какое-то время стояла томительная тишина. Затем зашаркало, кто-то грубо бросил: «Двигай давай!» — и грохот подкованных сапог стал удаляться, удаляться, сопровождаемый лязгом открываемых и закрываемых коридорных решеток, пока не провалился в какую-то дыру, откуда не доносится ни единого звука.
Зиновьев медленно поднялся, стал озираться. Что-то он должен сделать такое, чтобы предотвратить неизбежное… Хотя, если оно неизбежное, то… Нет, все это чепуха! Должен быть какой-то выход. Не может не быть… Ведь где-то сейчас идет нормальная жизнь, люди укладываются спать, кто-то ляжет в постель с красивой и молодой женщиной, будет ласкать ее тело, совершенно не думая о том, что совсем рядом гремят по бетонному полу железные подковы и звучат грубые и злобные голоса… О-о! Этого бы счастливчика да на его, Зиновьева, место! Да он бы эту равнодушную мразь собственными руками… душил бы, резал на кусочки…
А где-то и сам Сталин… и тоже, может быть… А уж его-то, этого… это коварное ничтожество… он бы… О-о, великий бог Израилев! Услышь твоего несчастного, заблудшего сына!
Снова издалека стал нарастать уверенный и неумолимый грохот нескольких пар подкованных сапог.
Зиновьев замер — и вновь его тело взмокло от пота. Шаги оборвались возле двери его камеры… Лязгнула задвижка, дверь отворилась…
— Выходи!
— Не-ет! Не пойду-у! Уби-и-йцы! Жанда-армы! О-о!
Ворвались в камеру, били кулаками, ногами, вывернули за спину руки, поволокли…
По гладкому цементному полу. По лестничным ступеням за ними тянулась мокрая дорожка… Среди глухих стен метались протяжные вопли, переходящие временами в животный визг…
Глава 3
Генрих Самойлович Люшков, комиссар госбезопасности третьего ранга, лицом, шевелюрой, усишками-кляксами и даже ужимками напоминающий Чарли Чаплина, хотя остепенившегося и весьма раздобревшего, выехал из Москвы на другой же день после суда по делу «Объединенного террористического центра». Вместе с ним ехали его ближайшие помощники по Секретно-политическому отделу старший лейтенант госбезопасности Михаил Каган и капитан госбезопасности Григорий Винницкий. Все трое службу в Чека начинали на Украине, хотя и в разное время: там были их корни. Они еще не остыли от только что законченной работы, каждый по-своему переживал ее и оценивал свое в ней участие.
Едва поезд отошел от перрона Казанского вокзала, Люшков расстегнул ворот гимнастерки, на которой рядом с двумя значками «Почетный чекист» красовался новенький орден Красного Знамени, посмотрел на своих товарищей, усмехнулся и предложил:
— Ну что, хлопцы? Давайте все, что есть, на стол. Поработали мы с вами добре, можно и расслабиться. Особенно если иметь в виду, что впереди нас ждет работенка тоже не из легких.
Хлопцы стали извлекать из сумок жареных цыплят, вареные яйца, помидоры, огурцы, зеленый лук, хлеб. Все это раскладывалось на газете, резалось, чистилось, разрывалось на части. Миша Каган сходил к проводнику, взял у него стаканы, Гриша Винницкий разлил в них водку. Конечно, они могли бы пойти в вагон-ресторан, но там совсем не то: не расслабишься на всю катушку, надо держать марку и блюсти честь чекистского мундира. А тут — сами по себе, оглядываться не на кого, дуй до горы, под гору само понесет.
— Давайте, хлопцы, выпьем-таки за новое назначение, за удачу на новом месте, за все хорошее, — предложил Люшков, поднимая свой стакан. — За то, щоб дома не журылысь, щоб, як говорят у нас в Одессе, хохол у жида гуску не стибрил.
Хлопцы скупо улыбнулись шутке своего начальника, которая отдавала старорежимным душком, выпили, стали закусывать. Они еще были несколько скованы непривычной близостью к комиссару ГБ третьего ранга, боялись лишний раз открыть рот, хлеб не кусали, а отщипывали маленькими кусочками, и хотя были голодны, старались ни в чем не перегонять своего степенного начальника. Однако через полчаса Гриша с Мишей тоже расстегнули ворот своих гимнастерок, глаза их замаслились, губы то и дело растягивались блаженной улыбкой, молодые зубы смачно вгрызались в жирных цыплят, огурцы и лук звучно перемалывались за тугими щеками, спелые помидоры брызгали соком.
— Здесь я вам не комиссар госбезопасности третьего ранга и не начальник, — говорил Люшков, обтирая жирные губы бумажной салфеткой, — а просто Генрих Самойлович. Так что без церемоний. На службе — другое дело. А служба нам предстоит, скажу вам по секрету, очень и очень не простая. Инструктировали меня и нарком товарищ Ягода, и предпартконтроля товарищ Ежов. Наше дело — навести революционный порядок в Северо-Кавказском крае как в партийных инстанциях, так и в самих органах. Много всякой белогвардейской сволочи пролезло в наши ряды, надо всех выявить и вымести железной большевистской метлой. Опыт у нас есть, будем использовать его на всю катушку.
Люшков далеко не все поведал своим помощникам о разговоре с Ягодой и Ежовым. Он умолчал о том, что Ежов, напутствуя его на новую должность, поведал ему: дни Ягоды сочтены, не сегодня-завтра будет снят с поста наркома внутренних дел, следовательно, с задачей, поставленной им перед Люшковым, можно повременить, дело сводится пока к сбору компромата на всех руководящих работников края без всякого исключения, а что компромат имеется, в этом нет ни малейшего сомнения. Но эта предварительная работа — для будущего, а будущее наступит в ближайшие месяцы.
Впрочем, помощникам знать все и не обязательно. Их дело — выполнять приказы своего непосредственного начальника, а почему он отдает им такие приказы, это его заботы.
— Да, работенка нам предстоит не легкая, — повторил Люшков и пояснил: — Край, сами знаете, казачий, там все пронизано духом средневековья и опричнины, там нас, евреев, не любят и до сих пор называют жидами… Так что обстановка, сами понимаете…
— Мы это понимаем, Генрих Самойлович, — заверили Люшкова Гриша с Мишей. — Мы вас не подведем.
Но Мише показалось этого мало, и он решил дополнить своего начальники:
— Жидами нас называют не только казаки, но и все остальные.
И тут же получил локтем в бок от Гриши.
А Люшков глянул на Мишу оценивающе: того ли взял с собой? — однако замечание делать не стал, заметив назидательный тычок Гриши. Поэтому и заговорил так, будто ничего не случилось:
— Не сомневаюсь. Свое умение и преданность партии вы доказали делом. Кандидатур на ваше место было много, а выбрал я вас. Ценить надо.
— Мы ценим, Генрих Самойлович! — вскричали оба, а Миша так значительно громче своего товарища.
— Ну, то-то же… Конечно, в предыдущем деле у нас были кое-какие недочеты и упущения, мы слишком миндальничали с подследственными, иногда не проявляли достаточную инициативу и настойчивость. В результате подследственные искали и находили себе лазейки для оправдания своей враждебной деятельности, пытались сбить следствие с истинного пути. Но мы преодолели этот, так сказать, порог, вышли на новый рубеж и успешно его освоили. В этом ключе будем действовать и дальше… Кстати, Гриша, ты сопровождал Каменева в подвал… Как он вел себя?
— Нормально вел, Генрих Самойлович. Нижнюю губу закусил, шел уже как слепой, но ни звука. А Зиновьев — тот визжал, как свинья! — с гадливым восторгом воскликнул Гриша Винницкий, преданно глядя в выпуклые черносливовые глаза Люшкова. — А потом уже как заорет: «О, бог израилев! Слышишь ли ты меня?» Мы чуть со смеху не попадали… Привели уже в бокс… вернее, приволокли, лейтенант Евангулов приставил ему наган к затылку, нажал спуск — осечка! А Зиновьев уже падает и опять же визжит, будто он уже на том свете и задом на горячую сковородку сел. Все уже так и замерли. Евангулов нажал второй раз — ну, слава богу! — выстрел. Поверите ли, Генрих Самойлович, у меня аж ладони вспотели… Потом выяснилось, что если нажать сильно на спуск, собачка не доходит до бойка и совершает возвратное движение. То ли пружина очень сильная, то ли там какая деталь сработалась…
— Да это что! — поторопился поделиться своими впечатлениями Миша Каган. — Я сопровождал Рейнгольда, Дрейцера, обоих Лурье и Тер-Ваганяна. Еще на лестнице Дрейцер запел «Интернационал». Пришлось дать ему по голове рукояткой нагана. Тер-Ваганян ругался по-армянски. Плевался. Черт его знает, чего он там говорил! Под конец тоже запел «Интернационал». Остальные пребывали в полнейшей прострации.
— Значит, Дрейцер и Ваганян до самого последнего момента верили, что могут быть помилованы, — раздумчиво заметил Люшков. — Могли предполагать, что имеется такой приказ: если перед смертью станут проклинать советскую власть — стрелять, запоют «Интернационал» — помиловать. Вот и надеялись.
— А Вышинский-то! — вскинул курчавую голову Гриша Винницкий. — Чесал уже как по писаному! Вот это я понимаю — прокурор! Такой уже никому спуску не даст. Говорит: «Расстрелять всех, как бешеных собак».
— А Ульрих? — подхватил Миша Каган. — Ульриху прокуроры не нужны! Он сам и судья, и прокурор. Настоящий большевик!
— Генрих Самойлович, а вы читали в «Известиях» статью Радека? Нет? Здорово написана! — воскликнул Гриша Винницкий. — Называется: «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и ее гетман — Троцкий»… — и осекся под тяжелым взглядом Люшкова.
На помощь своему товарищу поспешил Миша Каган:
— Кстати, в сегодняшних «Известиях» опубликовано заявление Вышинского о том, что дано распоряжение начать расследование деятельности Пятакова, Бухарина, Рыкова, Муралова, Сокольникова и самого Радека. Представляете? — И глянул выжидательно на Люшкова, но, не разглядев в выпуклых глазах комиссара госбезопасности ничего, кроме холодного равнодушия, поторопился выказать свое полное согласие с происходящим: — Даже жаль, что мы уезжаем. Мне, например, Бухарин давно не нравится.
— А Рыков? — многозначительно хмыкнул быстро сориентировавшийся в неожиданно возникшем положении Гриша Винницкий. — Тоже гусь уже тот еще. Все они контрики, все на содержании у Троцкого и Гитлера. Про Рыкова еще Ленин говорил, что он уже комобыватель. А это уже все равно, что фашист, — решительно заключил он.
Опорожнили еще одну бутылку.
— Вот вы, Генрих Самойлович, — приставал к Люшкову совершенно окосевший и потерявший всякую осторожность Миша Каган. — Вы ведь в гражданской войне участвовали, ранены были, вот вы скажите, почему некоторые люди сегодня думают одно, а завтра совсем другое? Я понимаю, что Зиновьев был ближайшим помощником Ленина… А мог он Ленина, скажем, ну, это самое? А? Или еще что?
Люшкову, ровеснику века, недавно исполнилось тридцать шесть, его товарищам еще не было тридцати, но он казался им старым человеком, умудренным жизнью, к тому же близко стоящим к вершине власти. Немногословный, подтянутый, всегда занятый делом, он был воплощением идеала чекиста, воспетого поэтами революционной волны. Вместе с тем Гриша с Мишей мерили людей еще и своей мерой, библейско-талмудистской, и по этой мере Люшков значился где-то на пятом-шестом месте после Моисея. Эта мера была едва ли ниже меры партийной и любой другой, потому что всосалась в их сознание вместе с молоком матери, и ни пионерское, ни комсомольское прошлое не могли эту меру из их сознания вытравить. Однако то, что осталось в их сознании, уже не было верой в Великий Израиль, а лишь смутным отголоском ее, который покрывался новыми голосами. Зато в избранность своего народа верили свято. И тот факт, что они сидят в этом купе, что им поручена такая важная задача, им, евреям, а не кому-то другому, лишь подтверждал и укреплял эту веру.
— Зиновьев? — переспросил Люшков и уставился тяжелым взором на Мишу Кагана.
От кого-то Генрих Самойлович уже слышал подобный вопрос, с ним навечно связалась в его душе не гаснущая тревога, говорящая о смертельной опасности. Люшков напряг память, сквозь пьяную муть с трудом пробилось воспоминание давнего разговора с Аграновым, и в этом разговоре тоже что-то было о Зиновьеве и его близости к Ленину. Тогда он, Люшков, сумел как-то выкрутиться, обезопасить себя с этой стороны. Но вот как? И не является ли Мишка Каган человеком Агранова? Эти молодые… они совсем из другого теста, их не посещают сомнения, в них почти нет местечковой ограниченности, свое место в госбезопасности они уже не рассматривают как служение революции, а просто как работу, дающую им власть над людьми и обеспечивающую приличное существование. Они еще не чужды еврейской солидарности, но обязанности перед своей нацией не чувствуют, даже наоборот: сама принадлежность к этому народу сковывает их и смущает.
— Зиновьев…
И тут Люшков вспомнил, что именно он ответил когда-то Агранову. Этот ответ не утратил своего значения и сегодня, хотя правды в этом ответе не больше, чем в обвинении Троцкого в предательстве делу мировой революции. И Генрих Самойлович повторил те же слова, что говорил когда-то Агранову:
— Зиновьев, хлопцы, был скрытым врагом советской власти, тщательно законспирированным и замаскировавшимся настолько хорошо, что понадобилось много лет, чтобы раскрыть его вражескую сущность. У шпионов это называется консервацией агента до подходящего случая. Но подходящего случая он так и не дождался, поэтому пакостил советской власти по мелочам. У меня таки есть подозрение, что покушение на Ленина в восемнадцатом году осуществилось не без его участия.
В голосе Люшкова звучала такая убежденность, а глаза смотрели так сурово и правдиво, что хлопцы и сами посуровели и подтянулись.
— Врагов у нас, к сожалению, много, слишком много, — продолжал Люшков своим убедительным голосом. — Иной человек даже и не подозревает, что и в нем самом сидит этот враг и руководит всеми его поступками… Может, Миша, и в тебе он сидит тоже…
— Во мне? — Миша Каган даже рот раскрыл от изумления и мгновенно выскочившего откуда-то страха. — Вы шутите, Генрих Самойлович. Это очень нехорошая шутка, — пробормотал он с кривой улыбкой на побледневшем лице.
— Наливай по последней, — вместо ответа приказал Люшков. — И, склонившись к Мише Кагану, погрозил ему пальцем: — Я могу шутить как угодно, хлопец, но ты не шути такими вопросами. Такие вопросы говорят о шаткости сознания, неустойчивости идеологической базы. Такие вопросы заставляют думать, что в решительный момент ты окажешься способен перейти на сторону врага. Понял? Никогда не шути такими вопросами.
— Понял, Генрих Самойлович. Есть не шутить такими вопросами.
Рука у Миши Кагана, когда он подносил ко рту стакан, дрожала мелкой безостановочной дрожью, и он, чтобы стакан не стучал о зубы, вылил его содержимое в широко раскрытый рот, закашлялся и принялся забивать этот предательский кашель всем, что попадало под руку. Миша Каган был почти уверен, что Люшков специально напоил его, чтобы выявить истинные взгляды, и теперь неизвестно, что из этого последует. А какие такие у него, у Миши Кагана, истинные взгляды? Он и сам не знает про свои взгляды ничего определенного. Но, может, это-то как раз и есть самый нехороший взгляд?
Медленно пережевывая во рту ставшую безвкусной пищу, Миша тупо смотрел прямо перед собой, тело его одеревенело, в голове издевательски отдавался перестук вагонных колес, сквозь который пробивалась лишь одна навязчивая мысль: «Неужели это все? Неужели это конец?»
Рядом смачно жевал Гриша Винницкий и сочувственно поглядывал на Мишу Кагана. Напротив, уставившись в окно сузившимися глазами, курил Генрих Самойлович. Докурив папиросу, он смял ее в пепельнице, с усмешкой оглядел своих подчиненных.
— Вот так-то, хлопцы, а вы говорите, что у крысы хвост облезлый. А он у нее от рождения такой. Так что забирайте объедки и катитесь в свое купе. Я спать буду. Если смогу, до самого Ростова. Не будить. Понадобитесь, сам позову.
Когда хлопцы вышли, Генрих Самойлович разделся, лег на чистую простыню, укрылся тонким одеялом, упрятанным в хрустящий от крахмала пододеяльник, закрыл глаза. И тотчас же яркая вспышка света, возникшая откуда-то изнутри и вызвавшая острую боль, точно глаза запорошило песком, заставила глаза раскрыться и уставиться на покачивающуюся и дергающуюся решетку вентилятора. Но внутренний свет не погас, он пробился наружу и засветил решетку вентилятора, как засвечивается фотобумага: на месте решетки появилось лицо Зиновьева с висящей на нем сине-фиолетовой кожей, его затравленные, полные животного ужаса глаза. Куда подевались былая спесь и высокомерие бывшего председателя Коминтерна, каким Люшков еще помнил Зиновьева в один из своих приездов в Москву в середине двадцатых. Это был уже и не человек даже, а лишь его жалкое подобие. Оно, это подобие, не вызывало в душе Люшкова даже элементарного сострадания, а лишь болезненное любопытство.
Разумеется, Люшков знал, как знал это и главный следователь по делу «Объединенного центра» — следователь по особо важным делам Лев Шейнин, как знали это Ягода и Агранов, Вышинский и Ульрих, как знал это сам Сталин, что подследственные не являются фашистами, агентами гестапо, немецкой, польской и других разведок, что они не убивали Кирова и вряд ли готовились убить Сталина, Кагановича, Ворошилова, Косиора и многих других. Но они знали также, что Зиновьев, Каменев и их подельники действительно выступали с критикой Сталина, а иные даже требовали его отставки с поста генсека партии, что если вменить им в вину исключительно лишь эти их выступления, дело вновь затянется на годы и годы, что этими проволочками не только не искоренишь оппозицию курсу Сталина на построение сильного государства, но даже поощришь ее на новые действия. Вопрос мог ставиться только так: оппозиции не должно быть. В любом виде. Но чтобы ее искоренить раз и навсегда, нужны веские основания. Их нет? Надо создать. И Люшков ревностно следил, чтобы Шейнин и его помощники такие веские основания создали. И никакие сожаления и сомнения никого по этому поводу не посещали. Ибо высокая цель оправдывает любые средства. А в достижении этой высокой цели у Люшкова в общем строю имелось свое законное место, которое его вполне устраивало.
Вскоре Люшков задремал. Ему привиделся отец-портной, склоненный над швейной машинкой Зингера, и бесконечная вереница разнообразных штанов, висящих на бельевой веревке, протянутой под потолком поперек комнаты. Сквозь дрему наплывали новые видения и новые мысли. О том, например, как ему, юному Генриху, не хотелось идти по стопам своего отца. Да и многим молодым евреям в те смутные времена не хотелось походить на своих отцов. Революция — это было так заманчиво, сулило такие перспективы. В результате революции можно было сбить спесь со всех этих хохлов и кацапов, с разного косорожего быдла, заставить их плясать под свою дудку. И когда революция свершилась, никакая кровь не могла остановить еврея, вышедшего на дорогу свободы и лучезарного будущего. Многие бундовцы и сионисты качнулись к большевикам, оставаясь в душе бундовцами и сионистами, полагая, что новая кожа их временна. На худой конец, полагало большинство из них, со временем можно будет превратить большевизм в дочернее отделение сионизма или бунда. Ведь дело, в конце концов, не в названии, а в глубинной сущности.
Но большевизм оказался столь динамичным, что смёл всё и вся, подчинив себе и душу и тело своих нечаянных сторонников. Какой там сионизм! Разве что в отдаленном будущем…
Люшков открыл глаза. Смутно качались предметы купе в неверном свете керосинового фонаря. Пахло дымом и водкой. И вообще все смутно и непонятно. Ясно лишь одно: власть Сталина сродни власти Моисея над Израилем, вышедшим из Египта. Ну, если не Моисея, то Иисуса Навина. Им остается либо идти за Иисусом до конца через муки и страдания, либо…
Увы, выбора у Люшкова не было. Получилось так, что, поднимая Сталина на самую вершину пирамиды власти, они — и он в том числе — создали вместе с ним и нечто такое, что приковало их к Сталину крепче всяких цепей. Оставалось либо лезть по этим цепям все выше и выше, либо на них же и удавиться. Люшкову давиться не хотелось. Он был уверен, что выкрутится, докажет свою постоянную нужность, свою незаменимость, что без него пирамида рухнет под собственной тяжестью. Вот только Каган и Винницкий… Как долго они будут терпеть над собой Люшкова? Как быстро они захотят оказаться на его месте? И, уже засыпая, вспомнил все, что говорилось в этом купе, и подумал: «Вот так же, небось, и Сталин смотрит на свое окружение и думает: кто следующий за мной, чтобы столкнуть меня в пропасть?»
— Не бзди, Мишка, — успокаивал Кагана Винницкий, когда они, вымыв руки, заперлись в своем купе и закурили. — Люшков человек с мозгами. Мы от него зависим почти так же, как и он от нас. Но в следующий раз не вякай и к начальству с пьяными вопросами не приставай. Заруби это себе на носу.
Миша Каган кивал, соглашаясь со всем, что ему говорил Винницкий. Он кивал лохматой головой, глядя в темный угол, и думал, что как только все это закончится, он подаст рапорт с просьбой отпустить его учиться, а выучившись, пойдет в адвокатуру: там спокойнее. Во сне он всхлипывал, вскрикивал и что-то бормотал по-еврейски. Гриша Винницкий отрывал свою голову от подушки, прислушивался и, ничего не разобрав в перестуке колес и дребезжании вагона, снова ронял голову, проваливаясь в тяжелый похмельный сон.
* * *
На вокзале в Ростове-на-Дону Люшкова с товарищами встретил сам начальник УНКВД Северо-Кавказского края комиссар ГБ третьего ранга Петр Григорьевич Рудь, здоровенный кубанский казак с кирпичным лицом и кривыми ногами кавалериста. Рудь был назначен на должность главы УНКВД края с подачи секретаря крайкома Шеболдаева, с благословения самого Ежова и потому чувствовал себя вполне уверенно. Да и в телеграмме, которую он получил накануне из наркомата за подписью самого Ягоды, говорилось, что комиссар третьего ранга Люшков направляется в край для помощи местному руководству по налаживанию работы с кадрами в соответствии с новыми указаниями ЦК и товарища Сталина.
Однако Ягода Ягодой, а Ежов совсем недавно, накануне процесса над Зиновьевым-Каменевым, вызывал в Москву Петра Григорьевича и намекнул ему, как перед отъездом намекнул Люшкову, что Ягода долго не продержится, что дни его сочтены и что его распоряжения надо выполнять не слишком ретиво. А еще знал Петр Григорьевич, что у главы НКВД товарища Ягоды свои счеты с некоторыми партийными руководителями Дона и Кубани, особенно с Евдокимовым, пришедшим на смену Шеболдаеву, которого в начале тридцатых прочили на место Ягоды. Петр же Григорьевич считал себя другом Евдокимова и полагал, что если в эту дружбу Ягоде с помощью Люшкова удастся вбить клин, пострадают многие. В том числе и сам Рудь.
«Ну что ж, — думал Петр Григорьевич, глядя на медленно подползающий к платформе устало пыхтящий паровоз и теснящиеся за ним зеленые вагоны. — Для помощи, так для помощи. А только это вам не Москва, где жид на жиде сидит и жидом погоняет. Это казачий край… Слава богу и товарищу Сталину, казаков притеснять перестали, разрешили и лампасы, и чубы, и само звание казацкое. Здесь мы хозяева и всяким там Люшковым воли не дадим, возьмем на короткий повод и пусть ходят по кругу, как тот конь на выездке. А взбрыкнет, дадим укорот. Да еще нагайкой под самое брюхо».
И Петр Григорьевич, скривив губы в самодовольной ухмылке, привычным движением расправил свои запорожские усы, выпятил широкую грудь и сделал два шага по направлению к вагону, в дверях которого уже виднелось знакомое круглое лицо под шапкой спутанных волос, с несколько выпуклыми черносливовыми глазами и усишками-кляксой под носом. Лицо это светилось радостью, как будто товарищ Люшков разглядел в Петре Григорьевиче своего кровного брата, о встрече с которым мечтал многие годы, и вот наконец мечта эта сбылась, и он может заключить этого человека в свои братские объятия.
И они действительно по-братски обнялись и трижды расцеловались на глазах у всех приезжих и встречающих, а потом, похлопывая друг друга по плечу, направились к машинам, ожидающим их на пыльной и многолюдной привокзальной площади. Однако каждый из них знал истинную цену и этим объятиям, и поцелуям, и похлопываниям по плечу.
* * *
Генрих Самойлович Люшков еще не успел как следует развернуться, изучить местные кадры, как пришла секретная телеграмма о смещении товарища Ягоды с поста наркома внутренних дел и о назначении на его место Николая Ивановича Ежова. И сам Люшков и Рудь приняли это сообщение за благо, но каждый видел это благо по-своему, и теперь, ничего не предпринимая, ждали новых указаний из Москвы.
И такое указание пришло: Рудь снимается с должности и передает дела Люшкову, а сам отправляется в Москву за новым назначением, Люшков же продолжает начатую работу по наведению порядка в вопросах расстановки кадров, исходя из решения предыдущего съезда партии и указаний товарища Сталина.
Глава 4
Стояли жаркие, безветренные дни. Им на смену приходили душные, томительные ночи. Николай Иванович Бухарин уже несколько дней ночевал в своем кабинете, и когда жена пыталась привлечь его в общую для них спальню, начинал суетиться и нести околесицу относительно жары, духоты и собственного храпа, все более ожесточаясь и переходя на крик, чего за ним раньше никогда не водилось. Он не мог ей признаться, что даже рядом с ее всегда для него привлекательным молодым телом не чувствует себя мужчиной, что мысль об обладании этим телом кажется ему кощунственной и даже отвратительной на фоне политической обстановки в Москве, что день и ночь, с тех пор, как в его же собственной газете «Известия» выпускающим редактором по звонку свыше было опубликовано сообщение генерального прокурора Вышинского о начале следствия по подозрению в контрреволюционной деятельности Томского, Рыкова, Бухарина и других известных политических деятелей, он не знает ни минуты покоя, пытаясь понять, что нужно от него Сталину, почему, почему, почему он решил расправиться и с ним, с Бухариным? Ведь совсем недавно Сталин предоставил молодоженам просторную квартиру в самом Кремле, выделил новую дачу и даже намекал о возможности возвращения Николая Ивановича в состав Политбюро. И разве последние годы Николай Иванович не делал все для того, чтобы еще и еще раз доказать Сталину свою лояльность, свое безоговорочное ему послушание? Именно так — послушание и согласие со всем, что ни скажет или ни сделает Хозяин.
И что же он получил взамен от товарища Сталина? А взамен товарищ Бухарин получил от товарища Сталина новую оплеуху, да такую, что в голове полный разброд и ужас перед неотвратимым будущим. Напрасны были унижения, напрасно он в угоду Сталину отказался от своих принципиальных взглядов на историю России как страны неисправимых обломовых, напрасно приветствовал поворот политики партии в сторону русской же державности, напрасно клеймил Зиновьева с Каменевым на страницах своей газеты предателями и фашистами, напрасно бросил во всеуслышанье ставшую крылатой фразу: «Что расстреляли собак, страшно рад», хотя не был не то что рад, а, скорее, наоборот: чувствовал, чувствовал всеми фибрами души своей чувствовал, что Сталин на этих девятнадцати не остановится, что он закусил удила и пошел напролом. Зачем? Зачем? И как далеко он пойдет? И что же делать ему, Николаю Бухарину, чтобы избежать участи Зиновьева и присных его?
Была еще слабая надежда, что прокурор Вышинский переусердствовал, что на Старой площади не разобрались, что, наконец, имя Бухарина попало в список подозреваемых в контрреволюционной деятельности случайно, что тут вообще имеют место какие-то сугубо трагические стечения многих случайностей: Сталин в отпуске, Калинин в отпуске, Ежов будто бы в командировке, Ягода на звонки не отвечает, потому что, как слышал Николай Иванович, уже практически отстранен от дел, а кто вместо него, никому не известно. Но ведь опровержения нет, а Сталин, хотя и находится в Мацесте, газеты наверняка читает и сообщение Вышинского не мог пропустить. Правда, никто еще Николая Ивановича не трогал, на допросы не вызывал, от редакторства «Известий» не отстранял, да и без решения ЦК его, члена ЦК, привлечь к ответственности не могут. Все это так. Но все это не имеет ни малейшего значения, ибо шеей и всеми частями тела ты чувствуешь повисший над тобою топор, его холодное безжалостное лезвие.
Но самое страшное, чего Николай Иванович никак не ожидал, — это вдруг образовавшаяся вокруг него пустота. Тот же Радек, заведующий заграничным отделом газеты, в тот же день, как появилось сообщение, ворвался в кабинет Николая Ивановича, остановился напротив стола и молча уставился на главного редактора своими умными и наглыми глазами, чудовищно увеличенные очками. И ни звука. Так они смотрели друг на друга с минуту, показавшуюся Николаю Ивановичу вечностью, не в силах раскрыть рта и произнести несколько роковых слов, которые вязли на языке и скрипели в мозгу несмазанными шестернями изношенного механизма. И это молчание больше любых слов сказало им обоим, в каком положении они оказались.
С этой минуты Николай Иванович возненавидел Радека. Он возненавидел его за лохматую шевелюру, за шкиперские бакенбарды на узком, каком-то мелкотравчатом лице, за большие круглые очки, за длинный франтоватый френч с накладными карманами, за стек, с которым тот не расставался даже в своем кабинете, — все в облике этого австрийского еврея раздражало Николая Ивановича, было ему отвратительно. Но более всего тот несомненный факт, что Карл Радек являлся и является ярым приверженцем Троцкого. Более того, он не скрывал этого и даже щеголял этой приверженностью, хотя в своих статьях всячески поносил и проклинал своего кумира.
И вот теперь его, Бухарина, ставят с этим Радеком и другими на одну доску, вменяют ему в вину одни и те же преступления перед партией и советской властью. Большей дикости нельзя себе даже вообразить. Но эта дикость, увы, стала фактом.
Молчание перехлестнуло через край. Радек повернулся и вышел. Николай Иванович безучастно наблюдал, как тот покачнулся в дверях и, ухватившись обеими руками за косяк, несколько мгновений стоял, согнувшись и дергая ухоженной головой. Для Радека, следовательно, он, Николай Бухарин, отныне пустое место. А сам Радек для Николая Ивановича? Тоже не более того. Обычный, хотя и способный, шелкопер. А Рыков? А Томский? Разве не они предали когда-то Бухарина, поддержав предложение Сталина об изгнании Николая Ивановича из Политбюро? Разве не они тщательно выискивали его прегрешения перед советской властью, а по существу — перед Сталиным? Не рой яму другим…
Боже! Что же делать, что делать?
Мучила бессонница, в голову лезли совершенно дикие мысли — вплоть до самоубийства.
Николай Иванович спустил ноги с дивана на пол, нашарил в темноте тапочки, подошел к столу, достал из пачки папиросу, закурил, глотнул полными легкими дым. Во рту стало противно, кашель сотряс все тело, липкая мокрота хлюпнула в горле — Николай Иванович быстро вышел в коридор, открыл туалет, прокашлялся, долго отхаркивался. Затем прошлепал на кухню, достал бутылку коньяку, пошарил глазами по сторонам в поисках стакана, обреченно встряхнул головой и приставил к губам холодное и липкое горлышко бутылки. Терпкая влага пролилась внутрь, обожгла пищевод, желудок, протекла дальше, наполняя тело тупым безразличием и усталостью.
Вошла жена, остановилась в дверях, прислонившись к косяку, молча смотрела большими, налитыми жалостью и тоской глазами.
— Коля, — прошептала она, протягивая к нему руки. — Коленька-ааа! Не надо! Ради бога — не надо!
— Что — не надо? — голос Николая Ивановича хрипл и сварлив. — Я спрашиваю тебя: что-не-на-до? — по слогам выдавил он и вновь приложился к бутылке. — Ты понимаешь, что мозг сохнет, тело сохнет от непонимания, от ужасного ощущения неотвратимости Термидора, что Революция — гибнет, что она, погибая, пожирает своих… своих сынов… да, именно и сугубо тех, кто ее, Революцию, вознес… нет, не вознес, а… а… то есть… Впрочем, какое это имеет значение! Это все равно что… все равно что родить здорового ребенка, а потом побоями, изуверством довести его до животного состояния, сделать калекой и еще не знаю кем… Ведь я! — понимаешь ли ты? — Я! и многие другие отдали этой Революции самих себя без остатка… Да-да! Не смейся!
— Я и не смеюсь, милый…
— Кому-то кажется, что мы, заслуженные революционеры, — хрипло выкрикивал Николай Иванович в пустоту, не слыша и не видя своей жены, а видя лицо Сталина и слыша его медлительную речь, — наслаждаемся плодами своей деятельности, что мы живем как у Христа за пазухой, а на самом деле мы едва существуем… мы, если хочешь знать, самые нищие на всем свете, ибо у нас нет ничего своего. Ни-че-го!
— Ради бога, потише!
— Что — потише? — Николай Иванович вскинул голову и уставился незрячими глазами на жену. — То есть как потише? Разве мы живем при Николае Палкине? Так ведь и при нем можно было говорить почти все… И не только на кухне, но и на площадях! И не шепотом, а во весь голос! А нынче? Ах, неужели ты не понимаешь? Боже, во что они превратили великую идею!
Николай Иванович тяжело опустился на табуретку, обхватил голову руками, стал раскачиваться из стороны в сторону и что-то бормотать бессвязное, так что жена разбирала лишь отдельные слова: «Ленин… Сталин… марксизм-ленинизм… партия… пролетариат… долг…»
— Нет, я тоже виноват в этом! — воскликнул он, вскинув голову и озираясь. — Да, виноват! Хотя моя вина значительно меньше некоторых… Но это не имеет значения… Я шел вместе со всеми, шел, не оглядываясь на жертвы, которые оставались позади нашего шествия… и трупы наших врагов, и трупы наших товарищей… Идея всемирного братства трудящихся — вот что нас вело в прекрасное будущее… Разве я виноват, что мне некогда было остановиться и оглядеться?… И вот теперь, когда, казалось бы, мы, партия Ленина, стоим на пороге грандиозных свершений, когда мировой империализм… а тут… какая-то нелепость, нелепость, нелепость!!!
Голос Николая Ивановича стал затихать, голова клониться и вздрагивать — точь-в-точь как совсем недавно у Радека в его кабинете, и он всхлипнул по-детски и закрыл лицо руками.
Жена тихо приблизилась к мужу, распахнула халат, прижала его голову к своей обнаженной груди: раньше это на Николая Ивановича действовало сильно, заставляя забывать обо всем, но сейчас, едва его обросшее колючей щетиной лицо коснулось ее груди, он вдруг рванулся, вскочил, глянул на нее дикими глазами, прохрипел почти с ненавистью:
— Уйди! Уйди! У тебя одно на уме… Одно! Оставь меня! Оставь! Оставь! Оставь! — и отталкивал ее слабыми руками, как, может быть, Христос отталкивал от себя в пустыне являвшихся ему по ночам прелестных совратительниц.
Жена тихонько вышла, а Николай Иванович проглотил еще несколько больших глотков коньяку, проглотил с отвращением, точно назло себе и своей жене.
«Что-то все идет не так, — подумал он с запоздалым сожалением и побрел в кабинет. — Надо взять отпуск, поехать в Крым… Надя давно просила… И пусть все катится без меня. Сталин одумается… Он не может не одуматься… Надо вот только написать какую-то статью… большую программную статью, в которой обосновать с марксистско-ленинских позиций происходящие события… Может, эти события действительно имеют под собой… э-э… диалектические обоснования. Большое видится издалека… Кто это сказал? Впрочем, неважно… Да, так что я должен сделать? Поехать в Крым… Зачем в Крым?… Нет, что-то другое… Ах, да — статью!»
И Николай Иванович кинулся к выключателю, зажег все лампочки в люстре, и стал перебирать тома Ленина, заглядывая на страницы, заложенные полосками бумаги.
Ленинские строчки мелькали перед его глазами, мелькали… а ответа не было. Поставив последний том на место, Николай Иванович медленно перевел свой взор на красные тома сочинений Сталина «К вопросам ленинизма». Рука осторожно коснулась твердой обложки последнего тома, потянула книгу на себя. Книга будто сама раскрылась на нужной странице, глаза заскользили по подчеркнутым строкам: «Какие задачи стоят сегодня перед нашей партией? Наша партия должна, во-первых, очиститься от балласта. Что это за балласт? Это люди, которые проникли в наши ряды, преследуют определенные цели. Что это за цели? Это корысть. Это вредительство. Это шпионаж, терроризм и диверсии. Что должна наша партия сделать во-вторых?…»
Да-да! Именно так! Такие люди не могут не быть. Еще Ленин указывал: правящая партия и, как следствие… Их должно быть очень много, этих примазавшихся. А как отличить примазавшихся от подлинных коммунистов, если все они с пеной у рта прославляют советскую власть и мировую революцию? А примазавшиеся — так особенно громко и яростно. Может быть, есть диалектическая необходимость и неизбежность в том, чтобы вместе с примазавшимися под топор попадали и честные коммунисты? Любая борьба не обходится без жертв с обеих сторон. Это как в открытом бою: гибнут не только враги, но и товарищи. А борьба с примазавшимися врагами есть тот же бой. И не на живот, а на смерть. Вот она диалектическая необходимость: за все надо платить жизнями преданных революции борцов. «Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Надо только самому оказаться сугубо во главе диалектического процесса. Не сугубо сторонним наблюдателем, а сугубо… Тьфу ты, черт! Впрочем, это не так уж и важно…
Николай Иванович схватил лист бумаги, карандаш, уселся за стол и принялся лихорадочно строчить передовицу в газету «Ивестия». «Главное, — думал он вместе с тем, — это дать понять всем, что сообщение генерального прокурора тебя совершенно не касается, что это ошибка, если не провокация, — и ничего больше».
Через неделю из отпуска вернулся Сталин. Николай Иванович неожиданно встретил его в коридоре, куда выходили жилые квартиры высшего партийного и советского руководства. Сталин шел по коридору своей скользящей походкой и, увидев Николая Ивановича, широко улыбнулся и даже расставил руки, как бы пытаясь обнять Бухарина. И обнял-таки.
— Как поживаешь, Бухарчик? — все с той же приветливой улыбкой спросил он, радушно похлопывая Николая Ивановича по плечу. — Как жена? Как дети? Что новенького в стране и в мире?
Николай Иванович почувствовал стеснение в груди, точно ее спеленали тугими бинтами, прерывающимся голосом произнес:
— Коба… ты… объясни мне, что это значит? Какое расследование? Что за чепуха?
— А-а, ты об этом сообщении Вышинского? — хохотнул Сталин. — Брось! Не принимай, дорогой, близко к сердцу. Генеральный прокурор переусердствовал. Это с ним случается. А тебя, Бухарчик, мы в обиду не дадим. Ты еще нужен партии, советской власти. — И, убрав улыбку под усы, произнес обычным размеренным голосом: — Все мы солдаты партии. Наш долг — жить и умирать за ее дело. Разве не так?
— Я с тобой совершенно согласен, Коба, — засуетился Николай Иванович. — В своей последней статье… Я собирался дать короткую передовицу, но размахнулся… Да, так вот, в своей статье о кадровой политике партии я дал развернутое диалектическое толкование борьбы партии за чистоту своих рядов, потому что народ смотрит на партию, как на некий идеал… как на великую силу… созидающую силу, идущую в огонь и в воду с пением «Интернационала», со словами великой правды…
Сталин предостерегающе поднял руку, останавливая поток слов Николая Ивановича, который и сам не знал, где он может остановиться. И даже боялся этой остановки.
— «Интернационал» — это хорошо. Но как мне докладывали, некоторые наши враги тоже пели «Интернационал» перед заслуженной смертью… Как нас учили когда-то в семинарии: «Не поминай имя господа всуе». Правильно, между прочим, учили, товарищ Бухарин… Статью я твою читал. Хорошая статья. Эмоциональная. Я бы сказал, излишне эмоциональная. — Помолчал немного, заглядывая в лицо Николаю Ивановичу табачными глазами, произнес без всякого перехода: — Тебе, Бухарчик, надо отдохнуть. Поезжай в Крым. Там сейчас хорошо. Подумай на досуге. Думать никогда не мешает. — Еще раз похлопал по плечу растерявшегося Бухарина и пошел по коридору дальше — мимо застывшей у дверей охраны, и скрылся за поворотом.
Николай Иванович встрепенулся, потер ладонью лоб, подумал с изумлением на свою невнимательность: «Как же я не заметил, что со вчерашнего дня охрана увеличилась почти вдвое? Значит, он уже два дня в Москве… Ну, что ж, не заметил и не заметил. Эка важность, в самом деле! Не это главное». Вздохнул с облегчением: подозрение снято — вот это и есть самое главное. Значит, еще повоюем. Но сперва — в Крым, в Крым, в Крым! И пошло оно все к чертовой матери! И даже дальше! Вместе со Сталиным и прочими, и прочими! Море, солнце, горы… Жена. Остальное — к черту, к черту, к черту! Каждый баран должен висеть за свою ногу… Ах, зря я не спросил, что мне делать с Радеком… Выгнать? А вдруг и его тоже по ошибке? А если нет? А если и меня — тоже нет?
В голове, где-то в затылке, возникла острая, как игла, боль. Боль разрасталась, ширилась, вот она перекинулась на виски, зазвенела в ушах, надавила на глаза. Николай Иванович качнулся, пошарил по стене руками, с трудом удержался на ногах. К нему подошли, подхватили под руки, повели на квартиру, которая располагалась буквально за ближайшим углом длинного и запутанного коридора. Такой же длинной и запутанной казалась Николаю Ивановичу его собственная жизнь.
Глава 5
В тот же день после разговора с главным редактором «Известий» Бухариным — и даже в тот же час, заместитель главного редактора тех же «Известий» Карл Собельсон, он же Радек, вернувшись в свой кабинет, сел за стол и, взлохматив свою и без того лохматую шевелюру, прочитал еще раз сообщение в газете о начале расследования по подозрению в заговоре, остановился на своей фамилии, замер и уставился в букву «Р»: Радек, Рок, Репрессии, Расправа, Революция, Россия… А перед буквой «Р» в русском алфавите идет «П» (Предательство и Провокация), а вслед за ней «С» (Сталин и Смерть). Fatum!
Конечно, надо что-то делать, что-то предпринимать, и немедленно, потому что… потому что никто за него, Радека, австрийского еврея, не заступится в этой дикой стране, с ее диким народом, не ставшим более цивилизованным в результате революции. Даже Бухарин — и тот в растерянности, и тот не знает, что делать, как себя защитить, и тот, конечно, отречется от своих товарищей, если припечет. Ну да черт с ним, с Бухариным! В конце концов, это его страна, и если он и ему подобные делают что-то не так, то есть во вред самим себе, не зная или не понимая своего народа, то туда им и дорога. Но он, Карл Собельсон, он-то тут при чем? Он приехал в Россию исключительно потому, что здесь ему открывалась возможность осуществить мечту… нет-нет, увидеть, стать свидетелем осуществления извечной мечты человечества о справедливой жизни, устройстве такого общества, которое бы… Да нет, все это ерунда! Он приехал сюда в поисках приключений, он надеялся именно здесь поймать за хвост золотую птицу удачи. Он рассчитывал написать книгу о русской революции, такую же и даже лучше, чем Джон Рид о революции мексиканской, при этом глядя на эту революцию со стороны беспристрастным взором летописца.
Увы, он, Карл Собельсон, не удержался и влез обеими ногами в чужую драку. Так, казалось ему, удача будет еще весомее, она осыплет его не только золотым, но и бриллиантовым дождем. И все шло к этому. Более того, реальность оказалась прекраснее мечты: он стал одним из ведущих советских журналистов, политиков, вождей, его избрали членом ЦК партии большевиков, он занимал одну из ведущих должностей в Коминтерне, то есть стал большим человеком, обладающим не только бойким пером, но и властью, неограниченными возможностями. Правда, он не рассчитал и слишком плотно прилепился к Троцкому. Но не он один: почти все евреи стояли за Троцкого. И не только евреи, но и многие русские и всякие другие, поднявшиеся на гребне революции к высоким должностям. Они чуть ли не молились на него, как на новоявленного Моисея, и это был такой поток, который не мог не захватить и Карла Радека. И он его захватил. Со временем, увы, этот поток как-то незаметно стал разбиваться на ручьи и ручейки, иные слились с другими потоками, вовсе не еврейскими, иные кончили свой путь в грязной луже, из которой не было выхода. Он, Карл Радек, тоже чуть не окончил свой путь в грязной луже, то есть в ссылке, изгнанный из ЦК, из партии — отовсюду. Но все-таки спохватился, покаялся и вернулся в Москву. И все, казалось, вернулось на круги своя. И вот…
Так что же делать?
Радек потер виски, закурил папиросу, обвел свой небольшой кабинет глазами, зацепился взором за потайную дверцу в книжном шкафу, и ему почему-то вспомнился анекдот, рассказанный комиссаром госбезопасности Карлом Паукером: мол, едет еврей в поезде, напротив хохол пьет горилку, закусывая салом с чесноком. Потекли у еврея слюньки, достал еврей сушеную воблу. Стал грызть. «Укусно?» — спросил хохол. «Ни, — ответил еврей. — Зато дюже полезно для мозгов: чоловик умнее становится». «Давай поменяемся, — предложил Хохол. — А то моя Параська як шо, так на мени дурень тай дурень. И ни як иначе». Еврей поломался для вида, но все-таки поменялся. Сидят, едят: еврей пьет горилку, закусывает салом с чесноком, хохол грызет воблу. Грыз, грыз, затем говорит: «И все ж таки сало вкуснее». «Ось! — воскликнул еврей. — Ты ще усю воблу не зъив, а вже поумнел».
Карл Паукер! Как же это он забыл!
И Радек стал накручивать ручку телефона.
Долго не соединяли. Затем молодой голос произнес:
— Вас слушают. Назовите полностью ваше имя, отчество, фамилию…
— Карл Радек-Собельсон. Журналист. Газета «Известия». Мне, пожалуйста, товарища Паукера.
— Минуточку.
В трубке послышался стук: ее положили на стол. Адъютант — или кто там у них? — явно справляется у Паукера, что ответить товарищу Радеку-Собельсону… Что-то уж слишком долго справляется… Шорох…
— Вы слушаете?
— Да-да! Конечно!
— Товарищ Паукер занят: у него совещание. Оставайтесь на месте — вам позвонят.
Радек положил трубку на рычажки.
Дверь приоткрылась, заглянул редактор международного отдела, уставился на Радека испуганными и, одновременно, любопытствующими глазами. Протиснулся в щель, спросил:
— Тут корреспонденция Шемберса из Испании… будете читать?
— Шемберса? Какого Шемберса? А-а… Из Испании… И что там?
— Ничего особенного. Путчисты идут на Мадрид… Марроканцы во главе с генералом Франко… Бомбардировки с помощью самолетов… Много жертв и разрушений… Троцкисты кричат, что испанскую революцию предали…
— Троцкисты? При чем тут троцкисты? А-а… Понятно. Троцкистов вычеркни. Остальное давай.
Редактор тихонько прикрыл за собою дверь.
Прошел час, другой, третий…
Радек достал бутылку коньяку, плеснул в стакан — мало! Долил до половины. Выпил. Отдышался. Закурил трубку. Выпил еще…
Нет, эдак можно сойти с ума. Ни коньяк, ни трубка с болгарским табаком не действуют. Да и в бутылке ничего не осталось… И Бухарин молчит… И вообще такое ощущение, будто редакция вся вымерла: все понимают, что если главный редактор попал под подозрение, то и другие могут пойти вслед за ним. Мелкая сошка… Небось дрожат, но дело свое делают… Холопы… И тебе тоже надо что-то делать. Не век же сидеть и предаваться отчаянию. Надо написать статью… О чем? Неважно, о чем. Важно другое: ты вместе с партией, вместе со всеми. Что он там говорил о троцкистах? Что они кричат? Значит, так: развернутую статью о предательстве Троцким интересов испанского рабочего класса, о предательстве республики… — о предательстве, одним словом. «Ave Caesar! Morituri te salutant!»
А от Паукера ни слуху, ни духу.
Часов в пять, когда Радек уже перестал ждать, в его кабинет постучали. Вслед за стуком вошел молодой подтянутый еврей в серых штанах и белой футболке, бегло обежал взглядом кабинет, произнес:
— Вас ожидают внизу.
— Кто? — спросил Радек помертвелыми губами.
— Вы же звонили…
— А-а… Да-да, конечно. Иду-иду.
По привычке схватил фуражку; стек покрутил в руках и бросил на стол.
Молодой человек ждал, смотрел на хозяина кабинета мертвыми глазами. Именно мертвыми. И у Радека по спине побежали мурашки. Он выбрался из-за стола, пошел к двери на негнущихся в коленях ногах. «Ave Caesar! Morituri te salutant!» И пока шел, фраза эта не отпускала его, стучала в голове копытами лошадей похоронного катафалка.
Молодой человек, выйдя из подъезда, пересек сквер, остановился, поджидая, возле черной «эмки», открыл заднюю дверь. Радек подошел, заглянул, увидел на сидении Карла Паукера. Паукер ухмыльнулся одними губами, похлопал рукой по сидению рядом с собой. Пригласил:
— Садись, Карл, покатаемся.
Ехали недолго, но не на Лубянку, а сперва по улице Горького, затем свернули в один из переулков, еще поворот, темная арка, просторный двор, встали возле обшарпанного подъезда четырехэтажного дома. С первого сидения ловко соскользнул молодой человек, открыл дверь со стороны Паукера, свою дверь Радек открывал сам. Паукер поднялся на ступеньки подъезда, поманил Радека пальцем. Далее была темная лестница, грязные стены, шаткие перила. Паукер сам открыл ключом выкрашенную суриком дверь квартиры с узкой щелью для писем, пропустил вперед Радека. Сзади слишком громко щелкнул английский замок… Затем потише щелкнул выключатель. Длинный коридор проступил из мрака мрачно-зелеными стенами и обитыми коленкором дверьми. Еще раз повернулся ключ в замке — и Радек вошел в довольно просторную комнату, обставленную весьма приличной мебелью. Догадался: комната для тайных свиданий.
— Располагайся! Можешь курить, — разрешил Паукер.
Радек сел на один из венских стульев. Закурил. Паукер достал из шкафа початую бутылку коньяку, рюмки, нарезал дольками лимон. Все это молча, лишь иногда многозначительно поглядывая на Радека.
— Что, перетрусил? — спросил по-немецки со снисходительной ухмылкой, опуская полное тело на другой такой же стул.
— А ты как думаешь? — вопросом на вопрос ответил Радек. — Главное — ни за что.
— Это как раз и не главное. За что — всегда найдется. Помнишь наш разговор в двадцать шестом? Помнишь?
— Помню.
— Вот то-то. Что я тебе тогда говорил? Я говорил: держись Сталина. А ты что? А ты: Троцкий, Троцкий, Троцкий. Вот тебе и Троцкий.
— Сталин в ту пору не производил впечатления надежного человека. Вообще никакого впечатления.
— Многие думали точно так же, — усмехнулся Паукер. — И прогадали. Впрочем, в этой России сам черт не разберет, на кого нужно ставить сегодня, а на кого завтра. Отвратительная страна… Давай выпьем.
Выпили. Положили в рот по дольке лимона.
Паукер спросил:
— Как там Бухарин?
— Полные штаны.
— Дурак! Мы с тобой — чужие, а он — русский, должен был разобраться, что к чему.
— Так это серьезно? — Радек даже перестал дышать.
— А ты как думаешь? Постановление съезда читал? Большая чистка… Это тебе, как говорят русские, не лаптем щи хлебать. Ежов шутить не станет.
— Но против кого? Заговоры, троцкизм, шпиономания — все это слова. Одни слова. Нет, есть, конечно, но не в таких же масштабах. А тут только на Дону, случайно узнал, сотни человек. И это, говорят, только начало.
— Дон — это казачество. Там все может быть, — оттопырил Паукер нижнюю губу. — Кнут и пряник. Кто против — кнут, кто за — пряник: лампасы, папахи, нагайки…
— Так что же делать?
— Попросись в Испанию… Так, мол, и так: желаю быть в гуще революционных событий нашего времени.
— Не отпустят. Особенно после сообщения в «Известиях».
— Ты — журналист. Тебе карты в руки. Пиши так, чтобы Сталина проняло до самой селезенки: он любит.
— А я что — не писал?
— Значит, писал, да не так, писал, да не то. Ты не дурак, не мне тебя учить… Давай еще по рюмашке…
— Мы им не нужны, — канючил через некоторое время Радек. Он совсем раскис, коньяк его доконал. — Нас позвали: «Интернационал! Дружба народов! Пролетарии всех стран…» А на самом деле никакого интернационала, никакой дружбы, никаких пролетариев. Для русских все мы — враги. Особенно — евреи. Они нас всегда ненавидели. Они хотят нашей крови. Как в Англии во времена Кромвеля…
— А чего ты хотел? — кривился Паукер. — Чтобы они нас на руках носили? Антисемитизм никуда не денется. Он сидит в каждом гое с утробы матери. Нам всегда надо об этом помнить и не зарываться. А многие из наших зарвались. Вот и получайте. Я и сам не знаю, усижу ли. Сейчас никто ничего не знает. Но я знаю Сталина: он не любит пришлых. Ясно только одно: чтобы удержаться на поверхности, надо под себя подстилать других. Тут как при эпидемии оспы или сибирской язвы: обложись огнем, и всякий, кто захочет войти в твой круг, должен сгореть. Только так можно выжить.
— Черт дернул меня ехать в эту Россию!
— Австрийская тюрьма не лучше. После венского восстания могли и к стенке поставить. Запросто.
— Надо было двигать во Францию.
— Что надо было делать в те времена, мы с тобой сделали. Скулить бесполезно. И вредно. И учти… — Паукер впился почти трезвыми глазами в холеное лицо Радека. — И учти, красавчик, если ты кому-нибудь скажешь о нашей встрече, я намотаю твои кишки на твою шею… по-дружески, так сказать, как земляк земляку. А еще отрежу тебе яйца и загоню в твою глотку… и твой пенис тоже. — И заколыхался всем телом в беззвучном смехе.
— Не считай меня недоумком.
— Тогда легкая смерть, мой милый Карл, тебе обеспечена.
— Типун тебе на язык.
* * *
Ночью в квартиру Радеков позвонили. Жена прошлепала по коридору, спросила, вернулась в спальню.
— Карл, там тебя спрашивают, — сказала она, зевая.
— Кто?
— Не сказали. Ты же сам велел никому не открывать.
Радек вылез из-под одеяла, накинул на пижаму халат. Он был почти спокоен: это не НКВД, оно ведет себя не так.
— Кто? — тихо спросил он, прижимаясь ухом к двери.
— Вам телеграмма из Саратова за номером пятнадцать.
Это был пароль.
Радек открыл дверь, впустил невысокого человека в сером плаще и серой же шляпе, надвинутой на глаза. Человек велел:
— Зажгите свет.
Радек включил свет, человек внимательно посмотрел на него, достал из-за пазухи «вечное перо», протянул, произнес:
— Можете не возвращать. Ответа не нужно. Всего доброго.
Открыл дверь, выглянул, послушал и заскользил вниз, не производя ни малейшего шума.
Радек подумал: «У него специальные подошвы». Затем прошел на кухню, свинтил у ручки колпачок, вынул тонкую трубочку из папиросной бумаги, аккуратно развернул, стал читать машинописный текст, близко держа бумагу перед очками.
В письме «оттуда» сообщалось, что анализ поступающих из СССР сообщений дает основание полагать, что Сталин взял крутой курс не только на уничтожение плодов революции, но и самих революционеров, которые могут в той или иной степени помешать ему установить ничем не ограниченную диктатуру черносотенного типа. Рекомендовалось, пока не поздно, сплотиться и, опираясь на рядовых членов партии и рабочий класс, дать решительный отпор поползновениям Сталина и сталинистов на завоевания Октября, на марксизм-ленинизм и диктатуру пролетариата. Если оппозиция этого не сделает сейчас, она, скорее всего, будет уничтожена физически в ближайшее время.
Подписи под текстом не было, стояла лишь буква S. Но Радек и без того узнал сероватый стиль сына Троцкого Льва Седова, и подумал с горечью: «Им там, в Париже, хорошо анализировать и рекомендовать, а попробовали бы сами на нашем месте. У самих в свое время не очень-то получилось… Стратеги, мать их в душу», — по-русски выругался Радек и, спустив письмо в унитаз, побрел в спальню.
Глава 6
Исаак Эммануилович Бабель вместе с женой и дочерью в конце августа вернулся из Крыма, где проводил отпуск на правительственной даче в Форосе среди таких же, как он сам, писателей, среди композиторов, артистов, музыкантов, среди руководящих партийных и советских работников. Если бы дочери не идти в школу, можно было бы оставаться в Крыму до самого ноября: море, горы, чистый воздух, фрукты-овощи — живи, не хочу. А главное, никаких особенных забот. Одно слово — писатель.
Но, с другой стороны, когда в стране происходит нечто, не похожее на всё предыдущее — необъяснимое ничем гонение на руководящие кадры и старых революционеров, — просто необходимо быть на виду: забудут, чего доброго, и какой-нибудь Ванька, даже и не читавший Бабеля, вставит его в списки, а попадешь в списки, пиши — пропало.
Поэтому, едва переступив порог московской квартиры, Исаак Эммануилович сел на телефон и принялся обзванивать нужных людей, справляться о здоровье и делах, выказывая к одним свое искреннее расположение, к другим — не менее искреннюю любовь, но более всего — свою непоколебимую уверенность в завтрашнем дне.
Начал Бабель с людей незначительных: просто редакторов издательств и журналов, не занимающих больших должностей, просто журналистов и писателей, просто сотрудников аппарата ЦК, которые уж точно обрадуются его звонку, теплым словам и дружеским чувствам. Глядишь, на радостях и сболтнут чего-нибудь, чего не узнаешь ни из газет, ни от лиц куда более значительных.
Сделав десятка полтора звонков и выяснив, кто чем дышит, а главное, что почти все действительно обрадовались звонку, при этом никто не проявил ни малейшей опаски при разговоре, хотя и не сболтнул ничего лишнего, Бабель принялся названивать лицам более значительным. Более значительные лица были скупы на слова, но тоже не проявили ни малейшей заминки, узнав, кто им звонит. С более значительными лицами Исаак Эммануилович и разговаривал другим голосом, но все о том же: как здоровье, как отпуск, как жена-детишки и нельзя ли будет встретиться в удобное для значительного лица время?
Последним был звонок в Правление Союза писателей. Так, на всякий случай. Потому что главных управленцев литературы там еще не могло быть: кто в Крыму или в Сочи жарится на солнце, кто в Кисловодске лечит застарелый гастрит. На месте оказался лишь поэт и член Правления Ицек Фефер, секретный сотрудник ГПУ, теперь — НКВД.
— Ицек, ты почему уже не в Одессе? — удивился Бабель, услыхав в трубке малороссийский говорок Фефера, который это время года всегда проводил в Одессе среди своих многочисленных родственников.
— Ах, какие таки отпуски, когда столько уже всяких дел! — вскричал на другом конце провода неугомонный Фефер. — Кстати, Исак, тут для тебе оставили-таки записку из хозотдела Союза. Прочитать?
— Конечно, Ицек, какой уже может быть вопрос!
— Уже таки читаю. — И Фефер стал читать загробным голосом, смакуя каждое слово: — «Бабелю… срочно… по приезде… позвонить… в Кремль… Поскребышеву… Абрамович». — Выдержал паузу, спросил не без ехидства: — А, как тебе это уже нравится, Исак?
У Исаака Эммануиловича на миг остановилось сердце, — так ему, во всяком случае, показалось, — а потом стало биться в ребра, как только что пойманная птица бьется в железные прутья клетки. А казалось, с чего бы пугаться? Разве ему впервые звонить Поскребышеву? Опять же, если что-нибудь не так, звонить бы не просили. Но время-то, время какое — вот в чем штука.
Бабель с трудом проглотил слюну, вдруг заполнившую рот, спросил, не узнавая своего голоса:
— Поскребышеву? Зачем — Поскребышеву? Ты ничего не путаешь, Ицек?
На другом конце провода раздался радостный смех.
— Исак, когда Ицек Фефер что-нибудь уже путал? Интересуюсь знать, чего ты так напугался? Или в Крыму ты поимел удовольствие посягнуть на невинность жены самого Авербаха? Но тогда бы тебе велели позвонить в приемную самого Михалваныча.
Сердце Исаака Эммануиловича при последних словах Ицека забилось ровнее: этот Фефер вечно со своими идиотскими шуточками.
— Не валяй дурака, Ицек, — сердито прокричал в трубку Бабель. — Говори уже, в чем таки дело!
— Только по большому таки секрету, — продолжал куражиться Фефер. — Тебе уже не надо менять штаны, Исак? Если не надо, тогда уже слушай. Как тебе известно, на днях таки шлепнули бешеных собак из «объединенного центра». После одной из собак, а именно Каменева Льва Борисовича, осталась дачка… Так себе дачка, скажу тебе: восемь комнат, верандочка, банька, садик, прудик. Эту дачку хотят уже предложить тебе, Исак. Я так соображаю — за большие таки заслуги перед пролетарской литературой. Я думаю, Исак, что ты не такой уже придурок, как Ленька Леонов, и не откажешься от такого подарка судьбы. Этот Леонов корчит из себя чистоплюя. А всем давно известно, что у некоторых граждан чистоплюйство заменяет чистоплотность. Так что звони-таки Поскребышеву, Исак. С тебя бутылка армянского коньяку.
— Ты же не пьешь…
— Зато при случае смогу-таки угостить большого советского писателя Исаака Бабеля… Кстати, Исак, от тебя что-то давно нет выхода. Тут как-то на Правлении говорили, что некоторые писатели почили на лаврах и перестали писать. Называли и твое имя. Так что учти, Исак: ты на крючке у Авербаха.
— Я работаю. Работаю над большой вещью.
— Интересуюсь-таки знать, что это за вещь такая уже большая?
— Пьеса.
— О-о! Ну, так дай тебе наш извечный бог, чтобы эта твоя новая пьеса, Исак, увидела-таки свет рампы.
Бабель положил трубку, перевел дыхание: с этим идиотом Фефером инфаркт заработаешь. И тут же, спохватившись, набрал прямой телефон Поскребышева.
Фефер не соврал: бывшую дачу бывшего предсовнаркома Каменева действительно решено передать Бабелю. И ни кем-нибудь решено, а самим Сталиным. Нет, не зря он, Исаак Бабель, не скупился на яркие эпитеты, метафоры и даже гиперболы при упоминании имени вождя всемирного пролетариата. Не только воздух сотрясли его слова, но и сердце потрясли великого горца, обернувшись пользой, да еще какой: чтобы сам Сталин — и лично ему, Бабелю, дачу! Одно портило торжество Исаака: дачу-то поначалу предложили не ему, а Леньке Леонову, и только когда тот отказался…
Впрочем, этот факт известен очень немногим, так что…
Нет, что ни говори, а жизнь прекрасна и удивительна, особенно если она преподносит нам такие приятные сюрпризы!
Через несколько дней, в воскресенье, Бабель вместе с женой осматривал дачу. Здесь все было перевернуто и вывернуто во время обыска, кое-как собрано и рассовано куда попало, но в целом — ничего не тронуто, все осталось, как и при Каменеве. Уж кто-кто, а Исаак не раз бывал в гостях у Льва Борисовича, когда тот был еще в силе, не раз в спорах о прошлом и будущем литературы засиживались до петухов. И вот он, Бабель, — обладатель этой дачи. Прекрасная обстановка, еще более прекрасная библиотека. Да и сама дача — загляденье.
Сам факт говорил о многом: о прочности положения в обществе, в литературе, о приближенности к сильным мира сего, о больших перспективах. Когда вдумаешься в этот факт, дух начинает захватывать от восторга, но уже не гибельного, а от восторга полноты жизни, и хочется воскликнуть вслед за Гоголем: «Ах, черт бы вас всех побрал!» Или что-нибудь в этом роде.
Нет, великое это счастье — быть писателем в стране победившего пролетариата! А ведь когда-то юного Бабеля в русскую гимназию приняли не с первого раза. Где теперь те, которые не приняли? Ау!
Что касается товарища Каменева, так тут ничего не поделаешь: не усидел на коне, не удержался ни за гриву, ни за хвост, не на тех поставил, проявил недальновидность, недооценил товарища Сталина. Многие недооценили. Теперь расплачиваются. Жизнь есть жизнь.
Глава 7
Стояла погожая пора поздней осени. Правда, в самом начале октября перепали дожди, но на второй неделе потеплело, небо разъяснилось, и в вечернем воздухе стала особенно отчетливо слышна тревожная перекличка летящих над Москвою к югу бесконечных птичьих стай.
Бабель стоял у раскрытого окна своей московской квартиры и провожал глазами неровный колеблющийся треугольник гусей, величественно скользящий в прозрачной голубизне вечернего неба. «Га-га! Га-га!» — падало на землю, крыши домов, мостовые, проникая в окна, сжимая душу и вызывая желание куда-то ехать, ехать и даже бежать.
Властно потянуло на дачу. На даче лучше пишется, там никто не мешает полету мысли своею мышиной возней. На даче чувствуешь себя не только независимым от кого бы то ни было, но и более значительным. Это — от одиночества, когда не с кем себя сравнивать, разве что с бесконечностью и тенями великих предшественников. Вот только писать, увы, не о чем.
О коллективизации — не получилось: ведь не станешь описывать, как на твоих глазах расстреливали украинских крестьян, как отнимали у них последнее, как голод косил людей тысячами и тысячами, хотя люди эти — твои враги и враги твоей власти. Кровь, смерть, ненависть и отчаяние — все это правда Революции, правда Истории, но не отдельного человека, даже если этот человек — талантливый писатель. Такую книгу не только не напечатают, но ты не успеешь от редакции дойти до своего дома, как за тобой придут — и не станет писателя Исаака Бабеля. И в этом тоже необходимая правда Революции.
Не получается и о чекистах. И тоже по тем же причинам: действительные герои-чекисты, сделавшие чекистскую работу своим призванием, отдающие ей душу, наполняющие ее высокой страстью, можно сказать — поэзией, такие как Софья Гертнер или Яков Меклер, не могут — увы — стать героями ни романа, ни повести, ни даже рассказа. Обыватель не поймет этих героев, обыватель привык мерить человеческую страсть своими жалкими мерками, где все расписано от и до, он с ужасом отвернется от этих людей, от их великих деяний. К сожалению, и власть нынче все больше поворачивается в сторону обывателя, она вводит в норму закона именно его представления о жизни, о человеческих отношениях в обществе и семье, его заскорузлые мерки, ограничивающие революцию рамками «от сих до сих». С этим приходится мириться скрепя сердце, но от этого насилия над собой нет настоящего полета ни мысли, ни фантазии.
И ни о чем другом писать тоже не получается: «Внутренний редактор» безраздельно властвует в сознании — похлестче шефа жандармов и начальника Третьего отделения Его Императорского Величества Тайной Канцелярии Александра Христофоровича Бенкендорфа. «Внутренний редактор» диктует свои условия, выстраивает поэзию жизни по своим неумолимым законам.
Что ж, он не так уж и не прав, этот «Внутренний редактор». В конце концов, поэзия творчества призвана служить поэзии жизни, а разве первую мы призываем не для того, чтобы наслаждаться второй? Это лишь сифилитик Мопассан мог находить усладу в своих фантазиях: так безногий наслаждается своими представлениями о том, каким бы он был могучим и пленительным, если бы имел ноги. А когда у человека есть все, ему хочется чего-то запредельного, чего-то такого, от чего сердце билось бы сильнее и вопль животного ужаса гармонично сливался бы с криком гибельного восторга.
Дома никого. Жена на службе, дочка в школе. Бабель отошел от окна и мрачно поглядел на чистый лист бумаги, которого так и не коснулось «вечное перо».
Может, позвонить «веселой вдове» Тимоше Пешковой? Правда, за бывшей невесткой Максима Горького увиваются и Ягода, и Тухачевский, и еще бог знает кто, но зато она, при всей своей видимой легкомысленности, многое знает, а в постели выделывает такие штучки, что забываешь, кто ты и где находишься.
Надежды Алексеевны Пешковой дома не оказалось: еще не вернулись с юга: бархатный сезон. Дети в школу пошли, а ей все трынь-трава. Легко живет «веселая вдова».
Пораздумав, Бабель решил позвонить еще одной своей любовнице — Евгении Соломоновне Хаютиной, жене председателя Комитета партийного контроля товарища Ежова. Женька в кремлевских делах осведомлена даже побольше Пешковой. А в постели жадна до любовных утех, как жаден бывает постоянно голодающий человек. Да и то сказать: Колька Ежов не балует свою супругу мужским вниманием: всем известно, что Ежов больше склонен к мальчикам с женскими попками. Да и молоденьких сотрудниц своего ведомства он не обходит стороной. Так что ему не до жены.
Но и Евгении Соломоновны тоже не оказалось в Москве. Домработница Ежовых сообщила, что та еще не вернулась из Одессы.
После двух неудач судьбу в третий раз испытывать не хотелось. Бабель заставил себя сесть за стол и приняться от уныния за очередную пьесу, которая, в отличие от предыдущей, наконец-то потрясет все московские подмостки.
Итак, пьеса. Название… Название придумаю потом. Действие пьесы происходит в середине двадцатых годов. Маленький городок на юге… А почему, собственно, маленький? И почему на юге? И почему в середине двадцатых? Не лучше ли дать некую промышленную стройку, что-то вроде Кузбасса или Днепрогэса? Правда, я не имею понятия, чем и как жили эти стройки, даже не знаю, что там и как называется. Бывал, заглядывал, но не вникал. А если просто борьба нового со старым в психологии людей? Как-нибудь связать с борьбой партии с вредительством, терроризмом и прочими вещами… Победа коммунистической морали над старыми традициями и буржуазными условностями… Пожалуй, это будет лучше. Итак, промышленный город середины тридцатых годов… Отдел НКВД. Сотрудник… Нет, сотрудница. До исступления преданная революции. Фамилия, разумеется, русская, но с известным «душком». Скажем, Смоленская или Варшавская. Имя тоже русское, а отчество… отчество: Львовна или Борисовна. Сотрудник — наоборот, типичный русак, но себе на уме. Оба работают по разоблачению, но если он спустя рукава, то она… Здесь основа конфликта. Далее завод или фабрика. Там примерно то же самое. Противостояние…
Бабель увлекся и даже не заметил, как подошло время обеда.
Обед подавала домработница, девка лет тридцати, криворожая и рябая: жена специально подобрала такую, чтобы у мужа не было соблазна. На первое украинский борщ, на второе жареная картошка с салом. Ну и… пара рюмок водки.
После обеда — мертвый час, растянувшийся на два с половиной. Проснувшись, лежал, смотрел в потолок, блаженствовал. Потом снял с полки последнюю свою книжку, стал читать, увлекся: хорошо написано, черт возьми! Умею.
Вернулась со службы жена. Принесла новости: кого-то арестовали, кто-то ждет ареста. Поговаривают, что Ягоду снимают с поста наркомвнудела, а вместо него прочат то ли Ежова, то ли Кагановича, то ли Хрущева. Сталин вернулся из Сочи, ожидаются перемены…
Звучал голос жены, за окном возились воробьи, слышались близкие звуки работающей паровой «бабы», забивающей в землю сваи. Эти звуки били по голове, отвлекали… Надо все бросить и ехать на дачу… Но жена работает, дочь ходит в школу… Прислуга — ее еще надо найти. Пока ищешь, «баба» заколотит последнюю сваю, а воробьи думать не мешают.
Бабель отметил про себя: с Ежовым знаком хорошо, можно сказать, друзья; с Кагановичем тоже, а вот с Хрущевым знакомство шапочное, надо бы упрочить. Лучше всего через того же Кагановича. Надо будет встретиться с Аграновым, с Паукером: эти люди многое знают, к тебе относятся с пиететом.
Дочка вернулась с музыкальных занятий. У нее новости из той же пьесы: чей-то папа арестован, кого-то из одноклассников не досчитались на первой же школьной линейке, а теперь выясняется, что и у них папы вранары и каэры. Вот так вот — уже пригвоздили к стене короткими и хлесткими словечками. Новояз! Народное творчество! Почти о том же пишут газеты. Но «враги народа» и «контрреволюционеры» еще не влезли в новые сапоги экономического размера.
Незаметно подкрался вечер. Вместе с ним по жестяному подоконнику забарабанил осенний дождь. По радио передавали последние новости из Испании. В Испании Кольцов… Может, и самому попроситься туда же?
Глава 8
Унылые мысли Бабеля прервал звонок в дверь. Из кабинета было слышно, как жена пошла открывать. «Иду, иду!» — говорила она, проходя мимо кабинета своего мужа.
Почти сразу же вслед за ее «иду, иду» послышались раскатистые, уверенные мужские голоса.
«Кого бы это черт принес на ночь глядя?» — с досадой подумал Бабель.
Оказалось, что черт на ночь глядя принес Ефима Григорьевича Евдокимова и Леонида Михайловича Заковского. Он принес жизнь.
С Заковским Бабель, проходивший под чекистской кличкой Лютов, когда-то служил в ВЧК-ОГПУ еще в Питере, потом встречался в Одессе в середине двадцатых, когда Леонид был там начальником ОГПУ. Евдокимова знавал по Северному Кавказу, где тот занимал высокие посты в том же ОГПУ, прославился расказачиванием на Дону и Кубани, на Тереке и Сунже, усмирял бунтовавших горцев. Старые друзья-товарищи, проверенные временем. Нынче они высоко сидят, далеко глядят. Заковский, комиссар госбезопасности первого ранга, начальник УНКВД по Ленинграду и области, осел там после смерти Кирова. «Ленинградский контрреволюционный центр» — это в основном его дело. Евдокимов поднялся еще выше: с чекистской работы перешел на партийную, теперь он секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) и член ЦК партии. Поговаривали, что с Ягодой он не в ладах, что одно время Ефима даже прочили на место Генриха-отравителя, и тот постоянно строил всякие козни своему сопернику.
Бабель облегченно вздохнул и вышел к нежданным гостям, широко улыбаясь толстыми губами, разводя в сторону короткопалые руки.
Обнялись, по-русски трижды ткнулись губами в колючие щеки, хлопали друг друга по плечам.
— Собирайся, Исак! — велел Евдокимов после первых охов и ахов, бестолковых вопросов и ответов. — Поедем с нами, отметим встречу. Машина ждет.
— А может, у меня? — несмело предложил Исаак и посмотрел на жену.
— Брось! Чего зазря напрягать твою хозяйку! Мальчишник — великое дело. Давай по-военному. — И, понизив голос до шепота: — Нас уже ждут в одном весьма тепленьком местечке. Скажи хозяйке, чтоб не беспокоилась.
Тепленьким местечком оказалась большая квартира в старом особняке на Пушкинской, принадлежащая НКВД. Их действительно ждали: ждал накрытый стол, а за столом три весьма миловидные женщины — не старше тридцати. Умеет же, черт побери, старая гвардия красиво проводить свободное от работы время! Да и то сказать: все дела да дела, зато если выпадает случай, так непременно загул на всю катушку.
— Ну что, писатель, — похохатывал широкий Евдокимов, — вспомним молодость? А?
— Вспомним, Ефим, — блаженно улыбался Бабель, оглядывая застолье и разбитных девиц затуманившимися глазами. А в голове звучало облегчающее: — «К черту все раздумья, сомнения и колебания! Не пишется? Не беда! Все писатели, даже великие, время от времени переживали кризис в своем творчестве. Пройдет месяц-другой — и Муза вновь сойдет с небес и усядется за твоим плечом, станет нашептывать тебе сладкие видения, от которых будет захватывать дух. Ты еще молод, у тебя все впереди…»
Ели, пили, тискали девиц и, распалив себя, шли в соседнюю комнату и там, на широкой тахте, гасили священный огонь любви сладким совокуплением.
Ближе к полуночи Бабель вспомнил о своей даче и предложил ехать туда. Поглаживая ножку своей белокурой дамы, сидящей у него на коленях, на которой кроме коротенького халатика ничего не было, говорил с чувством:
— Затопим баньку, попаримся… Там у меня и веники заготовлены, и хмель, и мята…
— Так какого черта ты раньше молчал… про дачу-то? — хлопнул его по плечу Заковский. — Экий ты, Исак…
— Забыл, — честно признался Бабель. — Прямо из головы вон. А как раз перед вашим приходом думал: «На дачу бы…»
Собрались, втиснулись в просторный «оппель-адмирал», покатили. Отдыхать, так отдыхать!
Хотя вроде бы и не сезон, однако дачный поселок, принадлежащий партийной, советской и всякой прочей элите, продолжал жить своей особой жизнью: во многих домах светились окна, слышались шепелявые, тонкие, надрывные голоса певцов, извлекаемые из патефонных пластинок, поющих о надорванных любовью сердцах и прочих буржуазных материях. По соседству с дачей Бабеля расположена дача известного дипломата. Оттуда шум веселья вонзался в чернильную, пронизываемую осенним дождем тьму, особенно полнозвучно и взрывообразно.
— Что это у них там? Свадьба, что ли? — спросил Евдокимов, оглядываясь в ожидании, пока Бабель откроет калитку.
— Да у них там чуть ли ни каждый день свадьбы, — хихикнул Исаак. И пояснил: — Там частенько собираются студенты ИФЛИ, наша, так сказать, смена. Хорошие ребята и девчата, а главное — без всяких буржуазных предрассудков относительно так называемой любви.
Из соседнего дома, в окнах которого маячили тени танцующих, из открытых форточек выплескивались наружу пронзительные девичьи визги и раскованный мужской гогот, свидетельствующие о той степени возбужденности, когда визгом и гоготом только и можно выразить эту степень.
— У нас, между прочим, то же самое, — подтвердил Заковский. — В Питерский ИФЛИ набирали только своих, преподавательский состав — тоже. Тридцать лет назад сказали бы: высший свет, золотая молодежь, опора трона, а нынче — передовой отряд рабочего класса, плоть, так сказать, от плоти… — и хихикнул, довольный своим остроумием.
— А вот в Ростове институт философии, литературы и истории создать не разрешили, — проворчал Евдокимов.
— И правильно сделали, — воскликнул Заковский. — Откуда бы вы набрали столько способных студентов и преподавателей? С Северо-Кавказского края на четверть института не набралось бы. А нам нужны не абы кто, а, во-первых, талантливые; во-вторых, широко и глубоко образованные; в-третьих, преданные нашей идее люди.
— Тебе-то откуда знать, набрали бы мы или не набрали? — рассердился Евдокимов. — Еще неизвестно, кого набрали вы сами. Талантливые, образованные, преданные — хотел бы я посмотреть…
— Да уж знаю, какие у вас в Северо-Кавказском крае кадры. Казачьё да скрытая белогвардейщина.
— Много ты знаешь, — напрягся Евдокимов. — Зато я точно знаю, какие кадры у тебя в Питере.
— Товарищи! Друзья! — воскликнул Бабель, справившийся наконец с замком и почувствовавший, что друзья-товарищи вот-вот поднимутся и до более крепких выражений, в чем они особенно образованы по роду своей деятельности. — Прошу к нашему шалашу! Девочки, девочки! Не отставайте! И не забывайте о своих обязанностях!
Девочки, спохватившись, повисли на Заковском и Евдокимове, заворковали, едва наметившийся конфликт был потушен в зародыше.
Шофер принес в дом сумки с провизией и бутылками, вернулся в машину и, зная по опыту, что это надолго, устроился на заднем сидении, укрывшись полушубком.
Пока девицы накрывали на стол, мужчины растапливали баню. Растопкой руководил Бабель. Вспыхнула береста, охватило огнем щепки, загудело в трубе. Старые друзья сидели на лавке в предбаннике, смотрели на огонь, курили. Бабель развлекал их сплетнями из литературно-театральных кругов: кто с кем живет, кто с кем развелся или сошелся, что пишут некоторые поэты и прозаики и что пишут и говорят о тех, кто пишет прозу или стихи, сочиняет музыку или играет в театрах. Звучали фамилии известных писателей, поэтов, композиторов, актеров и режиссеров.
— А что у вас говорят о Шолохове? — поинтересовался Евдокимов.
— Всякое, — воодушевился Бабель. — Говорят, что источник его плагиата иссяк восстанием на Дону, и он не имеет уже понятия, как завершать свой «Тихий Дон». Поэтому и перекинулся на «Поднятую целину»…
— А что, мне лично нравится и то и другое, — вступился за Шолохова Евдокимов, поскольку это был как бы его писатель, проживающий на подвластной ему территории, а не московский или питерский. Но на него посмотрели с явным недоумением, и Евдокимов счел необходимым пояснить: — Писатель он талантливый, ничего не скажешь, а человек дерьмовый, партиец некудышный. Строчит на всех доносы, жалуется самому товарищу Сталину на деятельность райкома и даже крайкома, будто мы проводим неправильную политику по отношению к казакам. Из-за него пострадали многие наши товарищи, в том числе бывший первый секретарь крайкома Шеболдаев. А из-за чего пострадали? А из-за того, что своими решительными действиями в казачьих хуторах и станицах способствовали выполнению указаний Цэка и лично товарища Сталина по усилению работы колхозов. Но мы держим господина писателя под контролем. Нам известно, что Шолохов якшается со всякой швалью, в том числе и с бывшими беляками. Мы много раз предупреждали его, внушали, что ты, мол, человек у нас заметный, тебя сам товарищ Сталин принимает, на тебя смотрят и тому подобное, а ты, дорогой товарищ, ведешь себя неподобающим образом… Нет, не действует. Он думает, что раз он великий писатель, значит, ему все сойдет с рук…
— Да какой он великий! — воскликнул Бабель возмущенно. — Таких великих в Москве под каждой подворотней по два и даже по три. Его величие есть величие местного масштаба. Да.
— Исак! Ты никак завидуешь? — хохотнул Заковский. — У нас в Питере к Шолохову относятся более благожелательно, чем в Москве. Хотя мы, разумеется, уже не столица и поем как бы вторым голосом…
— Какая разница — первые-вторые? Главное — мировоззрение! — воскликнул Бабель. — А оно у Шолохова сугубо белогвардейское. Достаточно уже внимательно прочитать «Тихий Дон», как всё встанет на свои места.
— Ничего, разберемся со временем, — пообещал Евдокимов. — И все ему припомним: и кляузы, и Гришку Мелихова, беляка и бандита, которого он сделал своим героем, и многое другое. — И повторил многозначительно: — У нас каждый его шаг под контролем, и если бы наверху его не защищали…
В дверь бани постучали.
Евдокимов оборвал свою речь, все трое с неудовольствием глянули на дверь, Бабель крикнул:
— Ну кто там? Входите! Открыто!
Дверь чуть приоткрылась, показалась всклокоченная голова молодого человека. Голова кашлянула, испуганно уперлась взглядом в Заковского, одетого в мундир со всеми своими звездами и шевронами, и произнесла неуверенным голосом:
— Простите… э-э… здравствуйте… я хотел… мы хотели… Исаак Эммануилович…
— А-а, Лева! Входи, входи! Не бойся! — призывно махнул рукой Бабель.
Молодой человек протиснулся в щель, будто дверь шире открыться не могла, встал у порога и, прижав длинные руки ладонями к бедрам, согнулся в приветственном поклоне, и заговорил, с каждым словом все клонясь и клонясь вперед:
— Я не знал… я думал, что вы одни. Смотрим: машина, свет в окнах… — И заспешил: — Мы тут собрались: день рождения у двоих… у наших… у сокурсников, вот и… мы и подумали уже, что если вы одни…
— Это Лева Копельман… — опередил молодого человека Бабель. — Один из ифлийцев. Способный малый…
— Копелев, товарищ Бабель. Моя фамилия Копелев, — подсказал молодой человек и еще чуть согнулся в пояснице и подался вперед длинным телом, не сходя с места, так что дальше сгибаться было некуда, дальше можно только падать.
— Проходи, парень, чего встал? — прозвучал властный голос Евдокимова. И когда Копелев продвинулся вперед еще на три шага, спросил: — Так, говоришь, Копелев? Из ИФЛИ?
— Так точно, товарищ… — споткнулся молодой человек и посмотрел на Бабеля ищущим взглядом своих черных глаз, но тот на помощь не пришел: он железной кочергой шевелил в топке березовые поленья, и красноватые отблески огня метались по его одутловатому лицу.
— И что? — спросил Евдокимов. И еще раз: — И что, что ИФЛИ?
— То есть… простите… не понял… Я говорю, что мы тут, а вы… мы же не знали… хотели пригласить… все были бы очень рады…
— Ну что, Исак, пойдем, посмотрим, что это за молодежь такая? Что это за смена нам растет? — И опять к Копелеву: — А девки-то у вас как? Ничего?
— Да-а, очень даже! — обрадовался тот. — А вы разве без… без девок?
— Ну, наши девки — это наши девки, а ваши…
— Тоже наши, — хохотнул Заковский, потирая руки. И напустился на Евдокимова: — Ну чего ты, Ефим, пристал к парню? Видишь, он от страха скоро в штаны наложит. Пойдем глянем, что у них там за девки. Интересно все-таки: смена.
И все трое поднялись с лавки, качнулись, выровнялись, гуськом выбрались во двор и гуськом же последовали за Копелевым на соседнюю дачу.
Глава 9
Перед верандой Заковский что-то шепнул Евдокимову и, опередив всех, решительно поднялся на крыльцо, отодвинув в сторону Копелева, открыл дверь — и из нее пахнуло спертым воздухом, табачным дымом, винными парами, скулением патефона, взвизгиванием девиц и рокотом мужских голосов.
Заковский встал в освещенном четырехугольнике двери — и почти сразу же все стихло, лишь патефон доскуливал голосом Вертинского о муках неразделенной любви. Все танцевавшие и просто сидевшие и стоявшие вдоль стен: полураздетые девицы, иные в коротких рубашках и чулках, такие же полураздетые парни, а одна — так и совсем в чем мать родила — замерла на небольшом круглом столе в позе древнегреческой богини Дианы, — и все они уставились на комиссара госбезопасности первого ранга, на красные звезды на рукавах и воротнике, на синие галифе и высокие хромовые сапоги с тем ужасом, который помутняет сознание и отнимает всякую способность соображать.
Заковский оглядел зал своими пронзительными глазами, не предвещающими ничего хорошего. Затем, не двигаясь с места, заговорил, все накаляясь и накаляясь — до крика:
— И это советская молодежь! И это комсомольцы! И это наша смена! Да по вас Магадан плачет! Да я вас на Колыму закатаю! Да вы у меня землю жрать будете! Кровавым поносом удобрять ее будете!
Помолчал немного, переводя дух и наслаждаясь немой сценой, — почти по Гоголю, — и вдруг рявкнул:
— Встать, мать вашу растак! Мужчины — налево, женщины — направо! Бего-ом арррш!
Зашуршали подошвы, послышались сдерживаемые стоны, всхлипы и скуление. Девицы на ходу пытались натянуть на себя хоть что-нибудь, голая богиня прикрылась скатертью, посредине зала образовалась толчея: многие от страха забыли, в какую сторону бежать. Но наконец все стихло и замерло, и даже патефон затих, отшипев и отскулив свое голосом Вертинского. И только после этого Заковский переступил порог и вышел на середину зала. А вслед за ним вошли Евдокимов и Бабель. Лишь Копелев выглядывал из темноты половиной лица, не зная, на что решиться.
— Ну что, перетрухнули? — спросил Заковский с садистской улыбкой на тонких губах. И, оборотившись к своим спутникам: — Исак, ты говорил, что они все контрики, что они составили заговор против советской власти, имеют сношения с Троцким, состоят в агентах у Гитлера, у микадо и еще черт знает у кого! — и посмотрел на Бабеля, тоже застывшего истуканом в двух шагах от порога с замершей улыбкой на окаменевшем лице.
— Я — говорил? Я нич-чего такого н-не говорил, — произнес Бабель заплетающимся языком.
— Чего теперь отпираться? Слово не воробей, — гнул свою линию Заковский. — А я вот смотрю и думаю: нет, не все тут каэры и вранары, не все шпионы и заговорщики. Есть, конечно, есть. Не без этого. Но не больше половины. Я этих гидр мирового империализма насквозь вижу, как черноморскую медузу. У них на лбу еще при рождении клеймо выжжено: каэр и вранар. Таких сразу же топить надо, как щенков. К сожалению не я принимал их роды, а то бы… А другая половина… другая половина, напротив, представляет очень даже преданные революции кадры. Хотя, разумеется, проверка необходима. Особенно вот этой вот потаскухи… Как фамилия? — рявкнул Заковский, останавливаясь напротив низенькой и плотной девицы лет двадцати, в шелковой короткой рубашке, под которой, похоже, не было ничего.
— Фридд-мман, — прошептала девица, лицо которой настолько побелело от страха, что, казалось, еще немного — и она грохнется в обморок.
— Не дрожжи! Смотри прямо! Нашкодила? Забыла, что живешь в стране победившего пролетариата? Продалась империалистам? — Заковский двумя пальцами приподнял рубаху, открылись голые бедра, скудная растительность на лобке, впалый живот. — Эт-то что такое? — рявкнул он, ткнув пальцем в живот. — Это есть разврат и похабщина в голом виде! — Отпустил рубашку, сделал еще пару шагов вдоль строя, остановился напротив богини. — А ты кто такая? А? — и, взяв двумя пальцами ее за подбородок, потянул с нее скатерть, и та упала на пол, а девица прикрыла одной рукой маленькие груди, другой рыжеватый лобок. — Чего молчишь? Язык проглотила?
— Ях… Ях-нов-ва.
— На каком курсе?
— На т-треть-тьем.
— Неуды есть?
— Нет-ту. Од-дна пос-средственно.
— По какому предмету?
— П-по д-диамат-ту.
— Что ж это ты, милая, так? А? Голым задом вертеть — это у тебя на отлично с плюсом, а диамат — посредственно? Поедешь на Транссиб. Там охранникам бабы ой как нужны: маются мужики без баб, просто беда. И заключенные тоже. Без баб, как выяснили наши ученые, падает производительность труда. Так что собирайся, голубушка.
— Дядечка! Миленький! Я больше не бу-уду-ууу! — взвыла Яхнова и, бухнувшись на колени, обхватила сапоги руками, сотрясаясь в беззвучных рыданиях.
— Ефим! Хватит! А то, сам видишь, напугал до смерти, — зарокотал спасительный голос Евдокимова. — Расслабьтесь, ребята. Шутка! Ха-ха-ха!
И ребята зашевелились, заулыбались все еще одеревеневшими серыми губами, захихикали, а Яхнова продолжала стоять на коленях, обхватив сапоги руками, явно не понимая, что произошло.
И тут будто прорвало: вся компания разразилась хохотом, хохотом истерическим, с подвыванием, всхлипами, с икотой, слезами и корчами.
И сам Заковский хохотал во все горло, лапая девиц за что попало, целуя взасос, царапая их своими значками и орденами.
Снова заскулил патефон, зашаркали подошвы, веселье накатило с новой силой и понеслось, отбрасывая молодых людей к длинному столу в соседней комнате, уставленному бутылками и закусками, точно все хотели напиться до такой степени, чтобы забыть только что пережитый ужас.
В баню студенток набилось штук восемь: Заковский отбирал самолично. Да еще три привезенных с собой. Мылись, парились, бултыхались в бассейне, здесь же и совокуплялись как придется и с кем придется, меняясь и считая, кого на дольше хватит. Визг, хохот, вольные телодвижения, смелые позы…
После бани девицы, не выдержав нагрузки, ушли спать. Евдокимов, Заковский и Бабель сидели в предбаннике, пили коньяк, зажевывали лимоном, запивали квасом, курили, разговаривали. За окном быстро светлело.
— Мы сейчас стоим как никогда крепко, — говорил Евдокимов, поворачивая голову то к Бабелю, то к Заковскому и упираясь в их лица своими неподвижными глазами на красном опухшем лице. — А когда разделаемся с остатками оппозиции, истребим всю свою «пятую колонну», тогда наше положение станет вообще непоколебимым. Товарищ Сталин это хорошо понимает, он свой выбор сделал. И не только идеологически, в принципе, так сказать, но и среди окружающих его людей. Так что ты, Исак, можешь спать спокойно.
— А я и так сплю совершенно спокойно. Даже снов не вижу, — качнулся Бабель, коротко хохотнув. — На днях звонил товарищ Сталин, спрашивал, как работается, что пишу, посоветовал написать пьесу о борьбе с врагами народа. Вот думаю… думаю, как это сделать, чтобы проняло до самых это… до печенок, — сочинял он вдохновенно.
— Придем на премьеру, — заверил Заковский, кивая головой, затем стал разливать по рюмкам коньяк, расплескивая янтарную влагу по столу. — За твое здо… здоровье, Исак. За успех твоей пьесы. За то, чтобы ты жил долго и счастливо!
— Спасибо, друзья! И вы тоже! И вы тоже! — до слез расчувствовался Бабель. И пригласил, точно пьеса уже была написана и принята к постановке: — Непременно приходите. Непременно.
Коньяк Бабеля уже не брал, в голове было не то чтобы ясно, но как-то легко и просторно, и казалось, что все возможно: и пьеса, и роман, и многое другое.
Глядя на уткнувшегося лицом в сложенные ладони Заковского и мотающуюся из стороны в сторону голову Евдокимова, Бабель думал: «Какие славные люди! Какие прекрасные товарищи! Нет, надо собраться и написать-таки книгу о чекистах. Это будет великая книга». — Но тут же вспомнил о слухах, которые принесла жена, ткнул Евдокимова в бок, спросил:
— А что, Ефим, правду говорят, что Ягоду по боку, а вместо него то ли Кагановича, то ли Хрущева?
Ежова Бабель не назвал умышленно, чтобы не дать повода для насмешек над собою двух старых приятелей.
Не помогло.
— Это от кого же ты узнал такие новости? — спросил Евдокимов, выпрямившись и подозрительно разглядывая Бабеля. — Уж не от Женечки ли Хаютиной? А? Признавайся, старый троцкист и контрреволюционер!
Вскинул голову Заковский.
— Кто… контр…тррр… ер? Зас-стрелю!
— Вот он, — показал на Бабеля Евдокимов пальцем.
— А это кто? Баб-ель-мандепский пролив? Зас-стрелю!
— Да нет, что вы, ребята! Москва слухами полнится…
— Тогда выпьем еще, — предложил Заковский и опять уронил голову на сложенные руки.
— А ты думаешь, почему мы оказались в Москве? Догадываешься? Нет? — заговорщицки подмигнул Евдокимов на барашковую шевелюру Заковского, откидываясь к бревенчатой стене и сразу же будто бы преображаясь, только глаза оставались такими же неподвижными. — Меня, например, вызвали на пленум Цека, Заковского — знакомиться с новым наркомом внутренних дел. На пленуме Генриха-отравителя перевели руководить наркоматом связи, на его место поставили Ежова. Начинается Большая чистка, Исак. Сталин решил избавиться от всякой нечисти. Что касается Женечки Хаютиной, так о твоей с ней связи говорят не только в Москве. У нас в Ростове даже анекдот ходит: Ежов, мол, контролирует партию, жена контролирует Ежова, а писатель Бабель контролирует его жену. — Хлопнул Бабеля по голой коленке тяжелой пятерней, предостерег: — Высоко летаешь, Исак, смотри, не опали крылышки.
— Да ты что, Ефим? Я — так только, с краешку, — стал оправдываться Бабель. — И с Николай Иванычем мы друзья.
Опять поднял голову Заковский.
— Вы думаете, я сплю? Шиш вам. Я и во сне все слышу. Должность обязывает. Кстати, Бабелю не привыкать: он с Ягодой и Тухачевским делил Тимошку Пешкову и ни разу в ее прихожей не столкнулся ни с одним из них. Так что по части Хаютиной у него соперников нет: Колька Ежов только рад, что его жену кто-то ублажает.
— Жизнь пресна, если в нее не добавлять перцу, — широко раздвинул толстые губы в улыбке Исаак.
— Ты только не заглядывайся на жену командарма первого ранга Кулика, — сделав страшные глаза и погрозив пальцем, громким шепотом произнес Евдокимов и огляделся по сторонам с наигранным испугом. — Узнает Хозяин и прикажет насыпать тебе в штаны такого грузинского перцу, что всю жизнь чесаться будешь.
Все трое радостно заржали и потянулись к рюмкам.
Через несколько дней, окончательно протрезвев, Бабель писал своему приятелю: «В Москву прибыли Евдокимов и Заковский. Грядут события. Свободного времени нет. Почти все оно уходит на моих друзей, людей удивительных и настоящих революционеров. Расслабляемся по полной. Лишь под утро добираюсь до постели. В полдень уже будят. Писать совершенно некогда. Но едва они уедут, сяду за роман о чекистах…»
Глава 10
В сентябре тридцать шестого года старшего лейтенанта госбезопасности Артемия Дудника неожиданно перевели из Константиновки в Ростов-на-Дону, в Управление краевой госбезопасности. Но перед этим была поездка в Харьков по срочному вызову, где его наградили знаком «Почетный чекист». В представлении Артемия к награде было сказано, что он проявил себя знающим, инициативным и преданным партии большевиков чекистом, раскрывшим в Константиновке змеиный клубок украинских национал-фашистов, вредителей и террористов. Были отмечены и недостатки чекиста Дудника — ограниченность проникновения в сущность политических явлений и узость взгляда на различные аспекты террористически-подрывной деятельности врагов советской власти. Дудник, по мнению начальства, не полностью раскрыл шпионско-диверсионную сеть в Константиновке, не выявил всех рядовых агентов и исполнителей, поторопился с арестом руководящего ядра.
Знало бы начальство, что Дудник и не старался выявлять мелкую сошку, полагая, что без руководства эта сошка опасности для советской власти не представляет. Более того, покидая Константиновку, Дудник решительно изменил формулировки в характеристиках некоторых своих секретных сотрудников, как не представляющих для госбезопасности никакой ценности по причине неспособности контактировать с людьми, излишней доверчивости и моральной неустойчивости. Он выбрал именно такие психологические особенности для характеристики их характеров, которые не влекут за собою уголовного преследования, хотя главным было то, что их явно тяготила тайная деятельность, которую им навязали. Среди таких будто бы неспособных и бесполезных секретных сотрудников были учительница, врач, медсестра и два инженера. После чего папки с их делами были сданы в архив. Петр Стапанович Всеношный оказался одним из этих инженеров. Правда, никого из них Артемий не посвятил в произошедшие перемены в их судьбе, и они еще многие годы спустя все ждали со страхом вызова в отделение милиции, где помещался отдел госбезопасности.
Сдав дела своему приемнику, Дудник затолкал в чемодан бельишко, а что в него не поместилось, сунул в вещмешок, и вечером, ни с кем не простясь, сел на проходящий через Константиновку московский поезд и утром был в Ростове-на-Дону. В тот же день ближе к вечеру его принял новый начальник краевого УНКВД комиссар госбезопасности третьего ранга Генрих Самойлович Люшков.
— Садись, старший лейтенант, — глуховатым голосом произнес Люшков, выслушав рапорт Дудника, внимательно разглядывая его бесхитростное лицо и мальчишескую фигуру. Кивнув на лежащую перед ним серую папку, нахмурился, заговорил короткими фразами, четко отделяя слова друг от друга, как говорят иностранцы: — Твое личное дело. Ознакомился. Что ж, звезд с неба не хватаешь, но работать умеешь. Хвалю. Мне такие люди нужны. Предстоят большие дела. Враги пробрались во все щели и дыры, созданные подрывной деятельностью троцкистов и зиновьевцев. Нам предстоит выявить этих врагов и заткнуть эти щели и дыры преданными партии и товарищу Сталину чекистами… — И вдруг вопрос: — За что разжаловали из капитанов?
— Хотел вернуться на границу.
— Где служил?
— На Дальнем Востоке.
— Партии нужны преданные люди везде. В том числе и в госбезопаности. Надо служить там, куда посылает партия.
— Так точно, товарищ комиссар третьего ранга.
Люшков болезненно поморщился: ему не нравилось, когда слишком часто напоминали о том, что он всего лишь «третьего ранга», в то время как многие из тех, с кем начинал службу в Чека, поднялись значительно выше. Вынув из ящика стола несколько тощих серых папок, он подвинул их по полированной поверхности в сторону Дудника, произнес:
— Вот тебе несколько дел… Впрочем, это еще и не дела. Это лишь некоторая информация. Надо эту информацию проверить, расширить, установить связи, если они имеются, выявить ядро заговорщиков. Может, не все втянуты в заговор, но что заговор существует, это нам известно доподлинно. Ты должен выявить причастность этих людей к заговору. Я думаю, две недели тебе хватит. Все ясно?
Дудник вскочил, вытянулся.
— Так точно, товарищ комиссар третьего ранга!
— Где остановился?
— Пока нигде.
— Найди себе квартиру в районе Нахичевани. Там живут и твои подопечные. Легче будет отслеживать их передвижения. О задании никому ни слова. Докладывать лично мне. Связь через капитана Винницкого. Обратись к старшему лейтенанту Кагану: он выделит тебе отдельный кабинет. Действуй!
— Есть действовать!
Дудник повернулся кругом и, провожаемый угрюмым взглядом Люшкова, вышел в приемную, где за дубовым канцелярским столом сидел молодой секретарь с тремя кубарями в петлицах гимнастерки.
Люшкову Дудник не понравился. И не только своей анкетой, в которой было зафиксировано разжалование из капитанов в старшие лейтенанты, понижение в должности и выговор по партийной линии. Люшков, обращаясь к своим коллегам по УНКВД Украины, с которыми проработал с девятнадцатого по тридцать первый год, просил их прислать ему человек двадцать, ничем не связанных с проживающим на Дону и Кубани населением, тем более с местными партийными и чекистскими кадрами. Дудник вроде бы и не был связан, но Рязанская губерния, где он родился, примыкает к степи, и с давних времен ее население давало пополнение казачьим станицам Дона и Кубани. Тут не исключены взаимные симпатии, которые могут проявиться весьма некстати.
Люшков на практике познал ту простую истину, что интернационализм интернационализмом, а татарин или даже хохол, не говоря о прибалтах и евреях, русского придавит с большим удовольствием, — а уж казака — и говорить нечего, — чем это сделает русский по отношению к тем же татарам и прочим нацменам. У этих великодержавных москалей в крови благодушно-снисходительно-покровительственное отношение к нацменам, и даже к тем, которые русских не любят именно за это их к ним отношение. Однако русский готов терпеть всякие от них пакости, как терпят родители мелкие шалости своих детей. По отношению к евреям — это даже хорошо, но, скажем, к тем же казакам, которые когда-то секли ногайками русских же в их столицах и городах, как и покровительствуемых ими нацменов, это очень и очень плохо. А Дудник оказался не хохлом, как представлялось по его фамилии, а рязанским кацапом, к тому же, как следовало из характеристики, с узостью взгляда «на различные аспекты террористически-подрывной деятельности врагов советской власти». Похоже, что под этой узостью взгляда писавший характеристику некий Штокман и подразумевал национальные особенности старшего лейтенанта госбезопасности Дудника.
А с другой стороны, широкие взгляды для предстоящей работы рядовым сотрудникам вовсе ни к чему: начнет задумываться, то ли делает или нет, тому ли служит и чем все это может закончиться, станет ловчить, страховаться, а в итоге может предать свое начальство в самую неподходящую минуту. Чем человек проще, тем проще задачи ему ставить, тем проще ему же их выполнять, не вдаваясь в подробности и не страдая раздвоением личности.
«Ладно, посмотрим, что покажет этот коротышка на практике», — подумал Люшков, убирая в сейф личное дело старшего лейтенанта Дудника.
Глава 11
Первую ночь Артемий провел на кожаном диване в своем новом кабинете, а с утра, позавтракав в столовой управления НКВД и прихватив с собой лишь вещмешок, отправился в Нахичевань искать квартиру. Он доехал на трамвае до строящегося драмтеатра, своей архитектурой напоминающий гусеничный трактор, которые собирается выпускать завод «Ростсельмаш». Дальше отправился пешком.
Нахичевань показалась ему средневековым городом с мощеными улицами, круто сбегающими к Дону. За глухими заборами теснились в основном саманные одноэтажные дома. Жизнь в них совсем не видна, лишь по улицам взад-вперед носились стайки чумазых армянских ребятишек, босоногих и очень крикливых. Иногда пройдет, держась тени и переваливаясь с боку на бок, коротконогая и полнотелая пожилая армянка в мешковатой одежде, или прогремит подвода, запряженная тяжеловесным битюгом, с восседающим на ней обросшим черной щетиной армянином, или пройдет степенной походкой молодая армянка, пряча лицо от постороннего взора за концом черного головного платка, или протопают тяжелые башмаки степенного мужчины, бородатого или давно не бритого, или встретится на перекрестке улиц кучка парней и проводит подозрительным взглядом забредшего в их район чужака.
Предки этих армян, принявшие православную веру задолго до крещения Руси, лет двести назад бежали в Российскую империю от постоянных преследований безжалостных турок-мусульман, в ту пору безраздельно господствовавших в Малой Азии и на Балканах, то и дело разорявших Закавказье, воевавших с Австрией, Польшей и Россией. Императрица Екатерина Вторая, вняв слезным мольбам беженцев, поселила их на Дону. С тех пор армяне обжились, вросли в Донскую землю, занимались в основном торговлей, и о них поговаривали, что один армянин перехитрит трех евреев. Евреи же и говорили, смиренно потупляя головы. То же самое они говорили и о хохлах. Жили армяне в Ростовской Нахичевани замкнутым сообществом, советские порядки с трудом проникали за их высокие заборы.
Уже через час поиск квартиры в этом районе показался Артемию делом практически бесполезным. На него смотрели с удивлением, а в одном месте прямо так и сказали:
— Слушай, русский, иди ищи квартиру к русским. — И добавили с угрозой: — Иди по-хорошему.
Но Артемию не столько нужна была квартира, сколько высмотреть, где и как живут его подопечные, список которых остался в сейфе его нового кабинета. Адреса Артемий запомнил, как привык запоминать все, не доверяя бумаге, но начал он издалека, постепенно все приближаясь и приближаясь к тем двум улицам, называемым «линиями», на которых жили главные подозреваемые. Улицы эти лежали на стыке двух районов, и население их было смешанным.
Дом начальника райотдела НКВД, старшего лейтенанта ГБ Гургена Азаряна, был двухэтажным: первый этаж кирпичный, второй деревянный. Дом выделялся среди других своей основательностью и ухоженностью: свежевыкрашенный зеленой краской высокий глухой забор, крыша, крытая оцинкованным железом, голубые наличники и ставни. В недавние времена такой дом говорил о достатке и сравнительно высоком общественном положении семьи. Такой дом мог тянуть и на купца второй гильдии. О том, что дети этих купцов каким-то образом умудрялись становиться революционерами, пролезать в партию большевиков и даже на высокие посты в советской власти, Артемий знал слишком хорошо и относился к таким перевертышам с подозрением: как волка ни корми, он все в лес смотрит.
Улица была пустынна, лишь возле неказистого домишки сидел на лавочке старик в черной шляпе и курил трубку. Артемий направился к нему, на ходу вынимая из кармана кисет.
— День добрый, дедушка, — вежливо поздоровался он со стариком, приподняв двумя пальцами потертую кепку из клетчатой материи. — Огонька не одолжишь?
— Зачем так говоришь? Огонька не жалко, — не слишком дружелюбно ответил старик.
Артемий присел на краешек лавки, стал скручивать из газеты цигарку. Делал он это не спеша, аккуратно, не просыпав ни крошки махры.
— Вот уже часа три хожу, никак не могу приискать себе квартиру, — пожаловался он старику. — Нет и нет, говорят. Прямо беда.
— Зачем беда? Нет никакой беда, — подал голос старик и махнул рукой в сторону центра. — Туда искать надо квартир. Там русский живет, там тебе сдадут.
— Да я уж догадался, что здесь не сдадут. Да только там далеко: собираюсь устроиться на судоремонтный, здесь было бы рядом.
— Что умеешь делать?
— Плотничать могу, столярничать, клепать могу, жестянщиком могу… — говорил Артемий, прикуривая свою цигарку от дедовой трубки.
Дед смотрел на него теперь не так неприязненно, как минуту назад. Лохматые, сросшиеся на переносице брови его приподнялись, открыв черные, еще молодые глаза, светящиеся детским любопытством.
— Зачем судоремонтный? Строитель надо. Дома строить надо. Хорошие деньги получать будешь. А на заводе что? А! — И махнул пренебрежительно морщинистой рукой.
— Завод — это коллектив, — убежденно возразил Артемий.
— Артель — тоже коллектив, — не согласился дед и опустил брови.
— Ну, хоть бы и артель, — пошел на попятную Артемий. — А жить все равно где-то надо. Вот этот дом, — кивнул он в сторону двухэтажного дома Азаряна, стоящего напротив. — Там что, не найдется места для одного человека?
— Места для одного человека везде найдется, — проворчал дед, старательно повторяя русскую речь Артемия. — Хозяин хороший надо.
— А там что — плохой хозяин?
— Большой начальник, — многозначительно поднял дед заскорузлый палец. И пояснил: — ГПУ.
— Ну, это уж ты врешь, — притворно усомнился Артемий. — Начальники ГПУ живут поскромнее.
— Зачем врешь? Спроси каждый человек: когда врал старый Аветис? Каждый скажет: правда говорит. Не знаешь, не говори.
— Извини, отец, если обидел, — приложил Артемий ладонь к своей груди и покаянно сморщил лицо. — У нас в России в таких домах жили купцы да буржуи.
— Здесь тоже жил купец. Уехал Греция. Азарян стал большой начальник, дом взял себе. Сам живет, жена живет, три дети живет, мать жена живет, баба русский живет: вода принеси, двор подмети, помой-постирай, кушать вари. Больше никто не живет. Большой дом, мало люди живет. Рыбак — рыба давай. Свинья резать — мясо давай. Свадьба — деньги давай. То давай, это давай. Околоточный был — давай. ГПУ — тоже давай. Очень нехорошо. Где советский власть? Вах!
— Ты тоже даешь?
— Что давать? Нечего давать.
Старик пожал плечами, принялся выбивать о край лавки свою кривую прокуренную трубку.
— Не может быть, чтобы в ГПУ все были такими, как этот твой начальник. У меня дружок был, работал в ГПУ — хороший человек был.
— Зачем был?
— Бандиты убили.
— Хороший человек — жалко, — вздохнул старик. — Хороший человек жить надо.
— Вот я и говорю: не все в ГПУ плохие, как этот ваш начальник.
— Зачем все? Есть один хороший начальник ГПУ. Атлас зовут. Вениамин. Еврей. Соседняя линия живет. Бедно живет. Дают — не берет. Азарян с ним вот так, — столкнул старик два своих черных морщинистых кулака. — Какая беда — люди Атлас идут. Хороший человек.
Артемий поднялся.
— Пойду дальше, поспрашиваю. Может, пустит кто.
— Иди. Помогай бог.
На следующей линии, где жил лейтенант НКВД Вениамин Атлас, заместитель Азаряна, возле одного из домов толпилось человек двадцать мужчин. Чуть в стороне держалась кучка женщин. Галдели на каком-то гортанном языке.
Артемий приблизился. Взору предстал покосившийся забор, покривившийся на одну сторону домишко, точно ему тяжело держать черепичную крышу; ставни закрыты наглухо. Номер дома восемнадцать — как раз тот, где должен жить этот самый Вениамин Атлас.
Высокий старик в черном, в черной шляпе, с черной окладистой бородой и длинными завитыми прядями волос, свисающими на впалые щеки, стучал суковатой палкой в калитку и что-то кричал, гневно вращая выпуклыми черными глазами.
Дудник остановился поблизости. Сперва ему показалось, что это армяне, но вглядевшись, понял, что нет, не армяне, а евреи. Впервые он видел евреев в таком количестве, собравшихся вместе по какой-то своей надобности. Вспомнил, что говорил о лейтенанте Атласе старый Аветис, и решил, что евреи пришли к своему единоплеменнику в поисках помощи или защиты.
На Артемия подозрительно оглядывались. Вот от толпы мужчин отделились двое и решительно направились к нему; тоже в черном и с бородами, но молодые. Один, остановившись в двух саженях, произнес очень вежливо на хорошем русском языке:
— Проходите, товарищ, очень уже вас просим, — и уставился на Артемия неломким взглядом.
Дудник развел руками:
— Да я так просто, шел мимо… А что здесь происходит?
— Идите уже дальше себе, товарищ… Пожалуйста, — не отвечая на вопрос, посоветовал бородатый парень с явной угрозой.
В это время еще сильнее загалдели женщины, и все враз повернулись в одну сторону — к Дону, куда спускалась мощеная булыжником улица. Парни тоже повернулись в ту же сторону и, похоже, забыли про Артемия.
Вверх по улице бежал трудной рысью человек в черной милицейской шинели и в фуражке с голубым околышем. Саженей за двадцать он перешел на шаг. На его худом лице с узкими губами и вислым носом выступил крупный пот, рот кривился в злой ухмылке, руки беспокойно дергали ремни портупеи. Артемий узнал в этом человеке Вениамина Атласа, фото которого было пришпилено к тощей папке, переданной ему Люшковым.
Решительно врезавшись в толпу бородатых евреев, Атлас схватил двумя руками старика за плечи и легко отшвырнул его в толпу. Встав к калитке спиной, оглядел всех налитыми кровью глазами, вскрикнул фальцетом:
— Я вам говорил, что сына обрезать не дам! Говорил? Так какого черта вы приперлись к моему дому? Пошли отсюда к такой матери, пока я вас… пока я вам не обрезал бороды и пейсы…
Толпа бородатых черных евреев, отступившая было под его неистовым напором, теперь надвигалась на него, что-то крича на своем языке, в котором Артемий иногда разбирал явно немецкие слова, но смысла уловить не мог: и учил немецкий не слишком долго, и давался он ему с великим трудом. Двое парней, что пытались выпроводить отсюда Артемия, стояли теперь лицом к лицу с Атласом, на руке одного из них, прижатой к бедру, Артемий заметил узкую полоску кастета.
Дело, похоже, принимало нешуточный оборот. Артемий сунул руку за пазуху и, охватив ладонью горячую рифленую рукоять браунинга, на несколько шагов приблизился к толпе.
Но в это время Атлас вырвал из кобуры наган и, вскинув его вверх, дважды пальнул в воздух.
— За-сс-стре-люууу! — взвизгнул он, распластываясь всем телом своим на досках калитки и переводя ствол с одного бородача на другого. — Раз-зой-дииись!
Толпа неохотно подалась назад.
В это время из-за угла вывернула бричка с тремя милиционерами, запряженная парой разномастных лошадей, и, гремя ошинованными колесами по булыжной мостовой, стала стремительно приближаться к толпе. Один из милиционеров стоял в бричке, весело орал что-то и нахлестывал лошадей концами вожжей.
Женщины с визгом кинулись вверх по улице, вслед за ними побежали и мужчины.
— Катцелю всыпьте! Всыпьте ему, сукиному сыну! — восторженно кричал Атлас, потрясая наганом.
Бричка догнала высокого еврея с завитыми пейсами, прижала его к забору, и видно было, как милиционер-кучер с плеча, приседая, машет ременными вожжами по согбенной спине и рукам, которыми старый еврей пытался защищать свою голову.
— Хватит, Охрименко! — выкрикнул Атлас, убирая в кобуру наган. — Отпусти его к черту. — И, снова срываясь на визг: — Еще раз приведешь к моему дому свою банду, Авраам, всех перестреляю!
Снял фуражку, принялся серой тряпицей отирать пот с раскрасневшегося лица. Волосы у Вениамина Атласа оказались огненно рыжими, словно им передалось возбуждение их обладателя.
Глава 12
Дудник нашел себе квартиру на одной из немощеных окраинных улиц, примыкающих к Нахичевани. Улица круто падала к Дону, настолько круто, что в треугольных цоколях ее домов помещались кухни, из окон которых веяло запахами жареной рыбы и кукурузной каши. Середина улицы напоминала овраг, размытый дождями, с лебедой и полынью у заборов, с узкими кирпичными и булыжными тротуарами поверху, с густыми вишенниками, уронившими свои перепутанные ветви с бордово-зеленой листвой на заборы и свесившие их на улицу, будто предлагая редким прохожим полузасохшие, исклеванные воробьями черные ягоды.
Внизу, под обрывом, теснились в ленивой протоке разномастные суда, все больше баржи да буксиры; многие, отслужив свой век, тихо ржавели, приткнувшись к берегу, сонно заглядывая в воду мертвыми глазницами иллюминаторов. За протокой лежал длинный остров, поросший высокими тополями и раскидистыми ивами, за островом искрилась под солнцем стремнина Дона, краснели поплавки бакенов, тянулся белый след за баржей, груженой песком, толкаемой буксиром. А до самого горизонта простиралась ровная степь с купами ив и камышовыми зарослями вокруг не просыхающих после паводка мелководных озер. Там, где серое небо сливалось с серой дымкой, застилавшей степные дали, виднелись темные крыши Батайска и две дымящие кирпичные трубы. Где-то за этими трубами лежало море, которого Артемий никогда еще не видел: в гражданскую войну его полк, преследуя отступающих беляков, не дошел до Черного и даже Азовского морей, на Дальнем Востоке Артемий не доехал до Тихого океана.
С хозяином квартиры, армянином лет пятидесяти, портовым грузчиком Геворком Гаспаряном, сторговались за сорок рублей в месяц. Артемий дал Геворку задаток, оставил в своей каморке, единственное окошко которой выходило на улицу, вещмешок и спустился к Дону. Каморка его имела отдельный выход, и это особенно подходило к суетной, но скрытной жизни Артемия.
Вблизи река оказалась совсем другой — мутной и неряшливой. Щепки, желтые и бурые листья медленно плыли по ее поверхности, возле берегов сбиваясь в грязные полосы. Иногда взгляд привлекало что-то белое; когда это белое течением проносило мимо, оказывалось, что это перевернутая вверх брюхом дохлая рыба-глистянка.
С мертвых барж и буксиров, с лодок и просто с берега мальчишки и старики удили рыбу. В сонной воде чуть покачивались пробочные или перьевые поплавки. То там, то сям взмахивали удилища, сверкала на солнце выдернутая из воды рыбешка.
Сверху пронзительный женский голос протяжно взывал к кому-то или чему-то:
— Авети-иии! Ори-уза-ааа! Ча-бу-ууу!
По наплавному мосту Артемий перешел через протоку, тропа повела его сквозь заросли ивняка, еще зеленого, не растерявшего листвы, в глубь острова. Пронзительный женский голос постепенно растворился в теплой тишине, наполненной шорохом травы под ногами, скрипом белого песка и суетливым попискиванием птиц.
Вдруг кусты и деревья расступились, и перед Артемием открылась стремнина Дона, сверкающая на солнце веселой волной. Вспомнилась Ока, росные луга вдоль ее берегов, утренние туманы и голос кукушки в ближнем бору, то ли зовущий куда-то, то ли о чем-то предупреждающий. Скоро уж двадцать лет, как он не был в родном краю…
На песчаной косе рыбаки тянули невод; их товарищи на двух лодках держались у поплавков и звонко шлепали по воде веслами. В окруженной неводом воде плескалась рыба. Шевелились темные рубчатые спины и серповидные хвосты осетров, замшелым бревном колыхалась белуга.
Артемий потолкался среди рыбаков и повернул назад. Отсюда, с острова, город казался огромной толпой разномастных чудовищ, замерших на крутом обрыве перед непреодолимым препятствием. Там, где темнела громада собора и светились на солнце его купола, был центр этой толпы, ее мозг и сердце. Оттуда веяло чем-то властным, требующим от Артемия действия, действия и еще раз действия. Он встряхнулся и ускорил шаги.
В пяти минутах ходьбы от его новой квартиры жили все четверо чекистов, работающих в Нахичиванском райотделе милиции, подробности жизни которых, не раскрывая самого себя, он должен был выяснить в ближайшее время. В серых папках-скоросшивателях, которые ему выдал Люшков, имелось по нескольку анонимок на этих чекистов. В анонимках все они обвинялись в одних и тех же прегрешениях: мздоимстве, жизни не по средствам, в моральном разложении. Намекалось также, что каждый из них может состоять в некоей подпольной организации. Или в разных организациях, но все равно — антисоветских. В папках же имелись подробные характеристики райотдельцев, их биографии и данные об их ближайших родственниках. Но из биографий дела не сошьешь, нужны железные факты.
Папки, после детального изучения, Дудник запер в сейф в своем маленьком кабинете, теперь только от него зависело, чем эти папки наполнятся. В кабинете же он оставил все, что могло раскрыть его профессию, если вдруг хозяин, либо кто-то еще, заглянет в его вещмешок: военную форму, награды, грамоты, партбилет, наградной наган с бронзовой пластиной на рукоятке и даже удостоверение личности, оставив при себе лишь браунинг да ничего не говорящую справку: мол, проживал в Новгородской области, выехал на юг в связи с рекомендацией врачей сменить климат на более теплый и сухой. Так он и Геворку отрекомендовался, и этот неразговорчивый грузчик с короткими кривыми ногами, широким, квадратным туловищем и толстой шеей, на которой сидела черная от волоса, почти без просветов круглая голова, лишь мыкнул что-то и, приняв от квартиранта деньги, тщательно завернул их в грязную тряпицу, а тряпицу сунул за пазуху. Похоже, Геворку было все равно, кто такой его квартирант, лишь бы деньги платил исправно и не путался под ногами у хозяев. А семья у Геворка, судя по многочисленным голосам за стеной, большая и шумная, состояла, судя по тем же голосам, из одних женщин самых разных возрастов.
Две недели Артемий Дудник крутился в своем районе, то подыскивая работу, то нанимаясь к армянам на временную, то просто шатаясь по улицам Нахичевани и присматриваясь к жизни ее населения. Он дважды побывал в районном отделении милиции якобы по поводу прописки на новом месте жительства.
В коридорах райотдела народу толпилось много, как в иной медсанчасти по случаю эпидемии гриппа, возле каждого кабинета по десятку человек, в основном женщины. Иногда милиционеры кого-то приводили или уводили, из иных кабинетов слышались крики, женский плач, матерная ругань.
Начальник отделения Ашот Азарян, человек лет сорока, угрюмый и непреступный, оба раза появлялся часов в десять, проходил стремительной походкой коридором к своему кабинету, ни на кого не глядя, ни на чьи приветствия не отвечая. Народ с испугом жался к стенам, пропуская грозного начальника. Скрывшись за дверью, Азарян больше из кабинета не высовывался.
Его заместитель, рыжий Вениамин Атлас, напротив, то и дело выскакивал из своего кабинета, торопливо протискивался сквозь толпящийся в коридоре народ, на ходу отвечая на чьи-то вопросы, заглядывая в чьи-то бумаги, сунутые ему в руки. Вид у него тоже был не из радостных, зато весьма деловитый.
Артемий вовсе не стремился попасть в чей-то кабинет. Для него важно было потолкаться среди народа, послушать, о чем говорят. Но посетителями были в основном армяне, говорили они на своем языке, лишь иногда разбавляя его русскими словами, так что Артемию никакой информации из их разговоров почерпнуть не удавалось. Однако, подсаживаясь к русским мужчинам и женщинам, ожидающим разрешения каких-то своих забот, он составил себе некоторое представление о существующих здесь порядках.
Увы, порядки эти весьма напоминали старорежимные, о которых Артемий знал, правда, понаслышке, поскольку из деревни своей никуда не выезжал до восемнадцатого года, то есть пока не попал в Красную армию. Впрочем, местные порядки ничем существенно от константиновских не отличались: та же волокита, то же нежелание или неумение вникнуть в человеческие нужды и заботы. Подчас это происходило оттого, что люди, которых набирали в милицию и госбезопасность, призвания к этому делу не имели, чаще всего вынуждены были служить по долгу члена партии, мобилизованного в органы, иные шли туда из каких-то личных интересов.
С другой стороны, — и это Артемий знал слишком хорошо, — органы были завалены такими делами, которые могли бы разрешить советские, партийные или профсоюзные организации, но те боялись брать на себя ответственность, когда в деле хотя бы чуть-чуть попахивало — или им это только казалось — политикой, и спихивали такие дела на НКВД. Наконец, личные дела отдельных граждан вообще рассматривались как нечто несущественное, не идущее ни в какое сравнение с делами государственными и мировыми; представлялось, что жалобщики не только путаются под ногами у занятых людей, но и тормозят ход государственных и мировых дел. Не исключено, что вполне злонамеренно.
Глава 13
Через две с небольшим недели на стол капитана ГБ Винницкого лег обстоятельный рапорт старшего лейтенанта ГБ Дудника о проведенном им негласном расследовании служебной деятельности и личных обстоятельств четверых должностных лиц Нахичеванского райотдела НКВД. Из этого рапорта следовало, что обвинения, выдвинутые в анонимных заявлениях граждан против означенных лиц, полностью подтверждаются относительно начальника отделения Ашота Васгеновича Азаряна, двух участковых, как выяснил Дудник, состоящих с Азаряном в близком родстве, и совершенно не подтверждаются относительно лейтенанта Вениамина Давидовича Атласа.
Еще через несколько дней Дудника вызвал к себе Люшков. На его столе Артемий увидел свой рапорт, поверх него лежал толстый красный карандаш. В карандаше, острием своим направленным в его сторону, Артемию почудилось что-то зловещее.
— Я внимательно прочитал вашу бумагу, лейтенант, — начал Люшков, не глядя на подчиненного, не предложив ему сесть, не утруждая себя присовокуплением слова «старший» к званию лейтенант, но обращаясь на этот раз к Дуднику на «вы». — Из этой бумаги следует, что никакой подпольной организации в Нахичевани не существует, что все дело в дурных наклонностях означенных лиц. — Поднял голову, смерил Дудника презрительным взглядом выпуклых глаз, бросил резко, не скрывая своего недовольства: — Вы не выполнили свое задание, лейтенант. — И замолчал, продолжая буравить Дудника неподвижным взором.
Артемий почувствовал, как кровь приливает к его лицу, как враз стало сухо во рту и пусто в животе.
— Я не утверждаю, что подобной организации там не существует, товарищ комиссар третьего ранга, — тихо заговорил Артемий, четко произнося каждое слово, держа руки по швам. — Но для того чтобы выявить подпольную организацию, надо в нее внедриться или, по крайней мере, иметь в ней своих людей. За две недели, отпущенные мне, путем лишь наружных наблюдений такую работу провести практически невозможно. Тем более в одиночку. Тем более в такой замкнутой национальными рамками среде. Как я отмечаю в своем рапорте, лейтенант Атлас тоже стеснен этими же рамками. Как и немногие русские сотрудники, не знающие армянского языка.
— Разве вам не передали связи с осведомителями по интересующему нас району? — удивился Люшков.
— Нет, товарищ комиссар, не передали.
— Странно. — Люшков пожевал губами, постучал ухоженными пальцами по рапорту. Красный карандаш, лежащий на бумаге, нетерпеливо и радостно запрыгал. Скосив глаза куда-то в угол, спросил: — А вы уверены в честности и преданности советской власти лейтенанта Атласа?
— Так точно, товарищ комиссар третьего ранга.
Люшков удовлетворенно кивнул головой.
— Хорошо, можете быть свободны, — произнес он несколько примирительным тоном. — Новое задание получите от капитана Винницкого. Отныне поступаете в его распоряжение.
Дудник вышел в коридор, постоял у окна, пытаясь понять, где начальник УНКВД края был искренен, а где притворялся. Ведь не мог же он не понимать, что за такой короткий срок невозможно сделать то, что от Дудника требовалось. А если поручил такое дело, зная наверняка, что оно не обеспечено должным образом, тогда зачем вся эта комедия?
Впрочем, искать ответ на этот вопрос не имело смысла: у начальства свои резоны.
Из окна, возле которого стоял Артемий, открывалась панорама на перекресток улицы Энгельса и Буденновского проспекта. Сновал взад-вперед народ, дребезжали трамваи, тарахтели телеги, франтоватый милиционер-регулировщик в остроконечном шлеме крутился на круглом постаменте, размахивая полосатым жезлом. За окном ключом била жизнь. Но Артемий чувствовал себя настолько оторванным от этой жизни, что и народ этот, и трамваи, и даже дома, как и покорно ожидающие зимы деревья представлялись ему чем-то враждебным и непонятным.
Странно, но до этого он подобного чувства не испытывал. «Нечего хандрить, — сказал себе Дудник. — Будут придираться еще, опять подам рапорт о переводе в погранвойска». И, оправив привычным движением гимнастерку, зашагал по коридору в сторону кабинета капитана Винницкого.
Хотя Артемий за минувшие две недели бывал в управлении всего лишь дважды, однако он успел заметить, что оно полнится новыми людьми, прибывающими, судя по выговору, с Украины. И, как показалось ему, в большинстве своем евреями.
Ну, это-то как раз понятно: сам Люшков еврей и на своих у него надежды больше. Но этот факт говорит еще и о чем-то, что лежит в темной глубине событий, которые все более принимают направление очередной чистки. Именно в этом случае, как уже не раз замечал Дудник, начальство подбирает в когорту первых чистильщиков наиболее преданных и проверенных людей. Так было в свое время в Саратове, на Дальнем Востоке, в Твери, где Дудник в той или иной роли принимал участие в подобных делах.
Что ж, чистка так чистка. От Азарянов надо освобождаться — это верно. Как и от некоторых Ивановых. А таких полным-полно, куда ни посмотри. И вокруг них свои люди, вполне спевшиеся и сросшиеся в единый комок грязи. Это, конечно, не контрреволюционный заговор, но по своим последствиям ничуть не лучше. Увы, портится народ, особенно когда дорвется до власти. И не только армяне, но и всякие другие.
Вот только не по душе Дуднику работа чистильщика! На границе — совсем другое дело. Может, подать рапорт сейчас, не откладывая в долгий ящик? Опасно: сам можешь попасть в разряд вычищаемых. А тогда одна дорога — на Соловки или на строительство канала «Москва-Волга».
Артемий остановился возле кабинета Винницкого, постучал, открыл дверь.
— Разрешите?
— А-а! Дудник? Входи, — расплывшись в радостной улыбке, пригласил Винницкий. — Садись. Рассказывай.
— Только что от Люшкова. Приказал поступить в твое распоряжение, — сухо доложил Дудник.
Радостная улыбка на лице Винницкого погасла.
— Знаю. Думаю, сработаемся. Сейчас формируются группы, которые отправляются в районы для проверки работы местных отделений НКВД. Ты включен в одну из таких групп. А Нахичеванью займутся другие. Мы не учли своеобразия тамошней среды, специфики района. Теперь это положение исправляется. Пока подключись к группе капитана Рогозина. Она занимается фактами вредительства на Ростсельмаше. Я скажу Рогозину, чтобы он тебя особенно не загружал: ваша группа сформируется буквально через несколько дней. И тотчас же поедете на место.
Артемий покинул кабинет Винницкого успокоенным: все-таки его ни в чем не обвиняют. И то слава богу. Что ж, а работа — она везде работа.
Остановившись возле своего кабинета, Артемий полез в карман за ключом. Из задумчивости его вывел чей-то уверенный, громкий голос, показавшийся знакомым:
— Батюшки! Кого я вижу! — воскликнул этот голос, кругло выговаривая слова, но Дудник обернулся на него лишь тогда, когда голос зазвучал рядом и на плечо легла чья-то горячая рука.
Перед ним стоял бывший начальник райотдела ГПУ Константиновки, капитан госбезопасности Соломон Абрамович Жидкой, которого он сменил на этой должности два года назад, малый лет тридцати пяти, круглоголовый, почти полностью лысый, с негритянскими вывернутыми губами, с маленькими блестящими глазками под жидкими бровями и носом-пуговкой.
— А-аа, Соломон, — произнес Артемий, стараясь быть приветливым, пожимая руку Жидкому. И, показав глазами на петлицы, где вместо двух кубарей появилась одна шпала, добавил: — Растешь?
— Растем! — довольно гыкнул Жидкой. И пропел: — Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка…
— Ну-ну, заходи. Хвастайся, — предложил Артемий, пропуская Жидкого в кабинет.
— Я рад, что встретил тебя, — начал тот, усаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу. — Вдвойне рад, что ты включен в мою команду по проверке деятельности Таганрогского УВД.
— Постой! Люшков сказал мне, что я определен в группу Рогозина…
— Ха! Так я и есть Рогозин! — хохотнул Жидкой. И пояснил: — Взял себе фамилию жены: она у меня русская… А что, не нравится? — и глянул, подозрительно сощурив глаза.
— Почему? Очень даже хорошая фамилия. Но… как бы тебе это сказать? — прежняя тебе больше шла.
— Ну, больше-меньше — это ерунда, — осклабился Жидкой-Рогозин. — Дело не в фамилии. Вот у тебя фамилия Дудник — от дудки, значит. А у меня от слова рогоз, камыш то есть. А из чего дудку делают? То-то и оно. Соображаешь? — и захохотал, довольный. Оборвав смех, заговорил серьезно: — Я о твоей работе в Константиновке наслышан. Ты хорошо распутал тамошних контриков. Я читал твой рапорт по этому делу. Жаль, что тебе не вернули звание. Но у нас так заведено: потерять легко, а назад вернуть трудно. Что у тебя еще новенького?
— Ничего существенного, — пожал плечами Артемий.
— Не женился?
— Не до того было.
— А я подженился в Харькове. Уже пацана успел сострогать, — самодовольно сообщил Рогозин-Жидкой. — Хороший пацан, весь в меня.
— Поздравляю.
— Спасибо. Теперь о деле. У меня подбирается группа в двенадцать человек. Хлопцы все проверенные, дело свое знают. Надо этим казакам показать, что хозяева тут не они, а мы, что с их порядками пора кончать. Они тут снова решили развести свою вольницу, наплевать на партию, насадить везде атаманов. Подавятся. Я Люшкова знаю: у него не забалуешь. Твердый партиец и чекист. За ним, как за каменной стеной, — говорил Соломон, отбивая такт ладонью по круглой коленке. — Ты, Артемий, держись наших хлопцев. Кто с нами, тот наверху, кто против, тот внизу. Мы своих не сдаем. А всех остальных — к ногтю.
Глава 14
Почти до самого нового года Артемий вел кочевую жизнь: сначала Таганрогский район, затем Новочеркасский, потом другие, уже на Верхнем Дону. Копались в документах, которые везде велись из рук вон плохо — в основном по неграмотности, допрашивали и расспрашивали людей, вороша события аж десятилетней давности, особенно те, что связаны с коллективизацией и раскулачиванием. Картины открывались жуткие. Получалось, что дров тут наломали так много, что разгрести эти завалы обломков и обрубков не было никакой возможности, зато озлобленность и неопределенность остались, тлели подспудно и ждали своего часа. Но главные заводилы, то есть те люди, которые на коллективизации и раскулачивании слишком замазались в чужой крови, постепенно выяснялись и ставились в очередь в ожидании звонка, который должен был раздаться из Центра.
Представить себе масштабы надвигающихся событий никто не мог, зато каждый чувствовал грозовую наэлектризованность окружающей обстановки и лихорадочно искал для себя ту нишу, которая окажется вне разрядов молний.
Артемий и сам испытывал на себе давление обстановки, поэтому работал вместе со всеми день и ночь, почти не отдыхая, неся, как пчела, в общую копилку полученные сведения, которые кем-то сортировались, обобщались и отправлялись в Москву, где готовился очередной Пленум ЦК партии. Эти сведения касались не только работников милиции и госбезопасности, но и советской власти, партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, хозяйственных и промышленных органов и даже воинских частей. Все подшивалось к делу, всякая мелочь учитывалась, и даже кто с кем спит и каких имеет родственников.
Бесхозяйственность, безответственность, некомпетентность, разгильдяйство, кумовство и откровенное жульничество били в глаза. Страшно подумать, как люди живут в таких условиях, как мирятся с такими порядками. Создавалось ощущение, что вот-вот наступит конец Света, и каждый, кто дорвался хоть до какой-то власти, старается, как может, насытиться напоследок жизнью, не брезгуя ничем.
Все ждали Пленума ЦК ВКП/б/, ждали как начало крутого поворота в сторону порядка и справедливости. Одни боялись, другие надеялись. О том, что Пленум будет очень важным для партии и всей страны, оповещали заголовки газет, захлебывающиеся голоса радиодикторов: страна строится, выбивается из сил перед неминуемой угрозой военного нашествия с Запада, а всякие недобитки, перерожденцы, приспособленцы и вконец обюрократившиеся, почившие на лаврах былой славы так называемые ветераны партии вставляют палки в колеса «нашего паровоза», летящего вперед и вперед, к сияющим вершинам коммунизма. А им поддакивает, подпевает часть творческой интеллигенции, вконец разложившейся на формалистическом, безыдейном копании в грязном белье, а это иногда пострашнее диверсий и террора, потому что заражает микробами гниения трудовую молодежь, отвращая ее помыслы от великих идей и устремлений.
Поток разоблачений захватил Артемия, не оставляя ему времени, чтобы оглядеться и вдуматься в происходящее. Он глотал события, как голодный, но слишком куда-то спешащий человек глотает горячую пищу, обжигаясь, захлебываясь, почти не жуя и не насыщаясь, а лишь наполняясь отрыгивающейся тяжестью и едкой изжогой. Подчас он не слышал возражений и доводов допрашиваемых и опрашиваемых, злился, когда не находил того, что искал, не задумываясь над тем, могло оно там быть или нет. Коль он искал, но не находил, означало лишь то, что искомое старательно от него прячут, втирая ему мозги, будто того, что он ищет, на самом деле нет и не может быть. Но коли существует этот всеохватывающий бардак, значит, не может не быть и того, что этот бардак создает, не может не быть людей, этим бардаком пользующихся к своей выгоде. В этом-то Дудник был убежден неколебимо, как и в том, что среди этого бардака трудно удержаться честному партийцу и просто человеку: заклюют, сожрут и даже не поперхнутся.
Большинство дел по линии НКВД и госбезопасности стряпались именно бюрократической и нечистой на руку властью против ее оппонентов. В районах в этом отношении дело доходило до тайных убийств честных партийцев, комсомольцев и сочувствующих, активистов, рабкоров и селькоров. Честные партийцы изгонялись из партии в первую очередь. Страх и неуверенность — до полного разочарования в советской власти — составляли душную атмосферу на местах. Куда подевались те отчаянные хлопцы из его взвода конной разведки, которые за Мировую Коммуну клали свои молодые жизни в этих продутых ветрами полынных степях, которые всеми фибрами своей души ненавидели ложь и неправду и готовы были изничтожать ее повсюду, в каком бы обличье она не выступала? То ли постарели те отчаянные хлопцы и омещанились, то ли поддались на соблазн сладкой жизни, то ли стушевались под напором тех, кто ждал своего часа, хоронясь за бабьей юбкой, и когда этот час наступил, выползли из всех щелей, и оказалось их так много, что хоть начинай новую гражданскую войну. Но с кем? Каждый из них, если послушать, готов костьми лечь за ту же Мировую Коммуну, каждый смотрит тебе в глаза, не краснея и не отводя правдивого взора своего, и клянется, что он всю свою жизнь… за коммунизм… за товарища Сталина… за народ…
О, про-кля-тье!
* * *
Начало декабря на Дону в 1936 году выдалось холодным и метельным. Артемий Дудник, закутавшись в тяжелую овчину, полулежал на сене в приземистых розвальнях. Рядом с ним примостился Вениамин Атлас, которого прислали для усиления их спецгруппы, и без того выросшей с двенадцати человек до двадцати шести.
Возница, пожилой милиционер из иногородних, в овчинном тулупе и бараньей шапке, сидел впереди, лениво покрикивал и почмокивал на заиндевелую лошаденку, бегущую неспешной рысью по переметенному и едва наезженному санному пути. Они ехали со станции Чертково в станицу Машковскую…
Вокруг расстилалась холмистая степь, изрезанная глубокими оврагами и балками, края которых курились снежной пылью. Куда ни посмотри — белое да серое, и ни души, ни человеческого жилья, разве что раздерганные сиротливые стога соломы, серые полоски леса, да одинокая кошара на горизонте то появляется, то пропадает из глаз — и почти все время на одном и том же месте. Лишь вороны растрепанными небольшими стаями тянут на север: видать, к оттепели; да мелькнет у стога соломы огненный хвост лисицы, да заяц сорвется с лежанки и прострочит стремительным бегом по белой скатерти поля и пропадет из глаз среди сиротливых кустиков бурьяна.
Когда-то Дудник воевал в этих местах, он помнил эти балки, в которых таились казачьи засады, серые редколесья, где скрывались батареи белых. Он и сейчас, лишь прикроет глаза, слышит визг шрапнели над головой, чувствует под собой вытертое до блеска казачье седло и потную спину дончака, а в опущенной руке, налитой тяжелой кровью, зажатую до белизны в пальцах рифленую рукоять шашки. И гулкий топот сотен копыт, и несущуюся под копыта выжженную июльским солнцем степь, и белесое небо, и ненависть, и упоение от слитности со своими товарищами, и ужас перед надвигающейся, дробящейся на солнце смертью, — все это живо возникает перед глазами Артемия, и он поводит головой по сторонам, точно и сейчас из глухой балки вот-вот вырвется на простор конная лава и станет расти, расти, захлебываясь топотом, визгом и разбойничьим свистом…
— Товарищ Дудник, — окликнул его Атлас, приподнимаясь на локте и отворачивая воротник бараньей дохи.
Артемий встряхнулся, повернул голову. Рыжие усы, обросшие сосульками, сизый нос и блестящие глаза Атласа выглядывали из заиндевевшего воротника, как какая-нибудь зверушка из своей норы.
— Я что у вас уже хотел спросить, товарищ Дудник, — заговорил Атлас дребезжащим от холода голосом. — Вы знакомились с делами членов районной тройки… Как вы думаете, мы не зря едем в Машковскую? Я слыхал, что членов этой тройки лишь недавно назначили в должность, что они вряд ли успели там спеться и наломать уже дров. Меня интересует знать, не зря ли мы уже туда едем?
— Приедем — разберемся, товарищ Атлас, — ответил Артемий и утопил голову в тулупе.
Ему не хотелось разговаривать, тем более при вознице, не хотелось предвосхищать события, не хотелось думать о том, что ждет их в станице Машковской. Начнешь думать о предстоящем, мысли невольно обернутся вспять, а позади ничего, кроме ожесточения и пустоты. Лучше не думать. Все идет так, как должно идти, иначе бы их не собрали вместе и не послали искать чужие прегрешения. За собой Артемий прегрешений не знал, разве что случайные связи с женщинами, которые не накладывали на него никаких обязательств. Как и на самих женщин. А если и было что-то, так исключительно потому, что он добросовестно выполнял приказания своего начальства. А приказы, как известно, не обсуждаются.
Глава 15
В Машковскую приехали поздним вечером. Усталая лошаденка, фыркая и отдуваясь, остановилась возле дома, вознесенного на высокий каменный фундамент, над железной крышей которого полоскался на свежем ветру флаг, черный в тусклом свете ущербной луны.
Станичная власть их ожидала, предупрежденная телефонограммой.
Председатель станичного совета Антип Гуртовой, здоровый казак с вислыми запорожскими усами, с задубелым на солнце, морозе и ветру квадратным лицом, первым представился приезжим, крепко потискал их закоченевшие руки своей огромной горячей пятерней и отошел к столу.
Секретарь местного партбюро, Колодченко, явно из иногородних, был мелок ростом и круглоголов, лицо бритое, бабье, рука вялая, мокрая. Представившись, тоже отошел в сторону.
Начальник станичного отделения милиции по фамилии Шлаков, бывший шахтер, был нелюдимо угрюм и немногословен. Он твердо глянул в глаза Дуднику из-под лохматых бровей, как бы оценивая его возможности и спрашивая взглядом, что значит их приезд.
Члены тройки: один, присланный из Ростова, молодой, почти мальчишка, еврей; другой, лет пятидесяти, из местных хохлов; третий, казак из Вешенской, — держались вместе. В их глазах стыло недоумение и растерянность.
— Вот, — неодобрительно произнес председатель станичного совета, показывая листок бумаги с телефонограммой. — Получили сегодня утром, что едете, чтобы встретили и создали условия… Если насчет переночевать, так тут у нас есть Дом для приезжающих. Насчет поесть, так мы тут сообразили в соседней комнате. С дороги треба поисты и сугреться. Вы какое имеете к этому дилу расположение?
— Самое благоприятное, — произнес Артемий, стараясь растянуть еще не согревшиеся губы в приветливой улыбке и чувствуя, что лицо его не слушается. — Промерзли до костей, — пояснил он свою гримасу, и пошутил: — А проголодались так, что штаны сваливаются.
— Ну, тоди зараз все организуем, — засуетился председатель, и лицо его несколько смягчилось.
Смягчились и лица остальных представителей станичной власти: приезжие не кичатся своим положением, речь их проста, не претендует на ученость, гостеприимством не брезгают.
После второго стакана самогонки языки развязались. Особенно у партийного секретаря. Трусоватый в состоянии трезвости, по пьяному делу Колодченко был хвастлив и не воздержан на язык.
— Что касаемо казаков, то они посля тридцать пятого году вспряли и почуялы, шо совецка власть им не чужа. Товарищ Сталин — он дюже правильно понимает казачью жизню, потому как казак тыщу лет на энтой земле проживает и еще тыщу лет проживать буде… Правильно я гутарю, товарищ Дудник? — И сам же себе ответил, встряхнув плешивой головой и грохнув по столу кулаком: — Пр-равильно! Если б в восемнадцатом годе Троцкий с казаком погутарил по-товарищески, по-партийному, как на то его наставляли товарищи Ленин и Сталин, если б не притеснял казака, то никаких восстаниев не було б и казаки усе поголовно встали б за совецку власть. Пр-равильно я гутарю, товарищ Дудник?
Дудник кивал головой, изображая из себя в дым пьяного.
Колодченко, однако, ответ не требовался: он и сам знал, что отвечать.
— Пр-равильно! И ты, Гуртовой, на меня глазьми не зыркай, не зыркай! — грозил он согнутым пальцем председателю станичного совета, который был на голову выше, а в плечах настолько шире, что Колодченко перед ним выглядел мальчишкой. — Я твоих зырьканьев не боюсь, — хорохорился Колодченко. — Я завсегда гутарю одну голую партийную пр-равду.
Артемий мог пить сколько угодно и не пьянеть. Разве что лицо наливалось кровью и хотелось куда-то идти или бежать, а лучше — парить над землей, как парят орлы или коршуны, упиваясь холодными струями воздуха и свободой. Но это лишь тело просило у него такого полета, а голова была ясна, мысли в ней сквозили ясные и твердые, и не сами по себе, а исключительно в связи с тем, что говорили другие.
Вот, например, этот секретарь станичной парторганизации… странные очень ведет речи относительно казаков и советской власти. Иногородний, он явно подлаживается под казаков, льстит им. Ну, там кому-нибудь мозги пудрил бы — черт с ним, а уж ему-то, Артемию Дуднику — это уж шиш! Он-то, Артемий Дудник, с этими казаками вот так вот — грудь в грудь, клинок в клинок — ему ли не знать, что такое казак и чем он дышит. Ну да пусть говорит. Пусть… А вот Атлас-то, Атлас — ха! — совсем окосел. Чего он там несет насчет тех же казаков?
— Дело уже не в Троцком, — горячился Атлас, налегая грудью на стол и оглядывая присутствующих горящими глазами. — Троцкий — это явление определенного периода. Период кончился, кончился и Троцкий. Дело в исторических реалиях. Дело в том ускорении, которое к тому времени уже набрала революция и ожесточение классовой борьбы… Сегодня мы вступаем уже в новый этап этой борьбы, в новый этап революционного ускорения…
— Пей давай, товарищ Атлас, — всовывал ему в руку стакан Гуртовой. — За революцию, за новый этап, за то, шоб на новом этапе нам самим не прийшлось итить по этапу…
— Да я, вообще-то говоря, не пью, — вяло отбивался Атлас. — Но если за революцию, если за новый этап… — Вдруг вскинулся, налился кровью до кончиков рыжих волос, вскрикнул пронзительным фальцетом: — А они сына моего обрезать! Не дам! Я — коммунист! Да! И никаких уже национальных перд… перд… перд-рас-судков! Вот! — Храбро выпил самогон, закашлялся, хватая широко раскрытым ртом спертый, продымленный табаком воздух, полез пятерней в миску с квашеной капустой и жевал ее с такой отвагой и яростью, словно ему вот сейчас идти на смертельно опасное дело.
Члены тройки сидели за столом рядышком, глаза их, поначалу как бы одинаковые, теперь у каждого по-своему таращились то на одного, то на другого, всякий раз останавливаясь на Дуднике, точно спрашивая у него, все ли тут правильно и правильно ли они сами ведут себя за столом?
«А на моей погранзаставе уже утро, — думал Артемий, вслушиваясь в усиливающийся гул голосов. — Интересно, кто там остался из старичков? Наверное, никого: столько лет прошло, столько лет… Да, что там говорит этот… этот дурак?» — прислушался он к пьяным разглагольствованиям партийного секретаря.
— А почему урожай низкий? Потому шо колхоспник не заинтересован. Шо низкий, шо высокий, а трудодень один. Вот вы передайте там свому начальству, товарищ Дудник, шо цэ дило треба решать. Може, товарищ Сталин и не знае, шо воно есть такэ…
— Ты шо, Степан, дурак? — набросился на него Гуртовой. — Товарищ Сталин и без твоих указок усе знае. То ж товарищ Сталин, понимать треба! То ж тебе ни той бык, шо без хворостины шагу не ступит…
— А мы энтих, которые почили на энтих… на лаврях… мы энтих к ногтю, к ногтю… — бубнил станичный участковый, вращая налитыми кровью глазами и щелкая, один о другой, железными ногтями.
«Нет, ничего интересного, — слово за словом медленно проплыла в сознании Артемия вполне ясная мысль. — Все хотят показать, что они самые преданные и самые идейные, а в окружкоме партии и отделе НКВД на них столько жалоб, что в мешок не вмещаются. Но начать разведку надо с секретаря. Он завтра и не вспомнит, что говорил. Можно так его прижучить, такие слова приписать, что со страху расскажет все. И даже чего нет. Потом взяться за милицейское начальство. Гуртовой — напоследок. Этот себе на уме. Ни трезвый, ни пьяный лишнего не скажет».
Артемий выбрался из-за стола. Покачнулся, пошел, стараясь идти по прямой, но то и дело натыкаясь на какие-то предметы. «Эк, меня развезло», — подумал он, чувствуя, как раскачивается пол под нетвердыми ногами. Вдохнул всей грудью, стиснул зубы, приготовившись оторваться от края стола,
— Вы куды, товарищ Дудник? — подозрительно уставился на него Гуртовой.
— До ветру.
— А-а. Ну, это туточки, за углом…
— Найду как-нибудь, — отмахнулся Дудник и решительно шагнул к двери.
Скрипнула и хлопнула за спиной дверь. В ноздри неразведенным спиртом ударил морозный воздух, защипало в глазах, схватило за уши, пробралось под гимнастерку, освобождая тело от хмеля. Половицы крыльца завизжали под сапогами. Чья-то тень отделилась от темного угла. Дудник лапнул кобуру.
— Не боись, товарищ начальник, — зазвучал тихий, испуганный женский голос. Я вас туточки уже два часа дожидаюсь: дело у меня до вас.
— Какое дело?
— Мужа моего, Андрея Капустина, бригадира колхозного, в холодную заперли, как узнали, что вы приезжаете. Чтоб, значит, правду вам не сказал. Велите его выпустить, товарищ начальник. Муж мой ни в чем не виноватый. За правду страдает, — торопливо говорила женщина, поблескивая черными глазами из-под припорошенного снегом платка.
Сзади, в сенях, забухали чьи-то неуверенные шаги. Женщина отпрянула за угол, и Дудник услыхал, как под ее сапожками повизгивает промороженный снег.
За углом дома, между двумя сараями, куда завернул Артемий, открывалась сизая даль. Ветра не было, все стыло в тусклом свете ущербной луны, вокруг которой мерцал, переливаясь зеленовато-голубым мехом, пушистый воротник. В звонкой тишине перебрехивались собаки, откуда-то из сизой дали приплыл заунывный волчий вой.
Возвращаясь в дом, Артемий в темных сенях чуть не столкнулся с каким-то человеком.
— Кто здесь? — тихо спросил он, уже привыкший к тому, что его частенько пытаются перехватить где-нибудь в стороне от людских глаз и посвятить в местные тайны.
— Это я, товарищ Дудник, член чрезвычайной тройки Иосиф Фридман. Я б уже хотел поговорить с вами наедине, так сказать, конфиденциально, — торопливо шептал испуганно вздрагивающий голос.
— Но не здесь же, товарищ Фридман. Давайте завтра… То есть сегодня, но днем.
— Да-да, разумеется! Я только хотел предупредить, чтобы вы не верили ни одному слову местных товарищей. Особенно товарищу Гуртовому. Он тут у них за главаря. Типичный троцкист и каэр!
— Разберемся, — пообещал Артемий.
— Вы идите, товарищ Дудник, а я еще тут побуду, чтоб не вместе, — доверительно предложил Фридман и даже чуть тронул рукой Дудника за плечо, как бы посвящая его в сообщники.
Вернувшись к столу, Артемий налил полстакана самогонки, выпил, захрустел соленым огурцом. На душе было тошно и так тоскливо, что хоть бери и подвывай степному волку.
— Ладно, на сегодня хватит, — решительно произнес он, оглядывая застолье. — Помогите товарищу Атласу кто-нибудь, а то он сам до койки не доберется.
— Это мы мигом, — трезвым голосом пообещал участковый.
— А вас, товарищ Дудник, если не возражаете, товарищ Колодченко проводит до своего куреня. У него и заночуете. Если не возражаете… А товарища Атласа я заберу до себя. А то у нас в доме для приезжих дюже холодно.
Артемий возражать не стал.
Глава 16
Дудник открыл глаза, вспомнил все, что было вчера и нынешней ночью, сбросил с себя толстое стеганое одеяло, спустил ноги с мягкой перины, нашарил штаны, стал одеваться. В комнату, в которой он спал, едва пробивался свет сквозь плотно закрытые ставни. Но то, что на дворе уже день, не требовало доказательств: за ставнями пробудившаяся жизнь перекликалась разнообразными голосами, впрочем, не имевшими к Артемию никакого отношения.
Одевшись, Артемий вышел в горницу. За столом возле окна сидел старик и подшивал валенок.
— Здравствуй, отец, — приветствовал его Артемий.
— Ась?
— Здорово, говорю!
— Слава богу.
Из соседней комнаты вышла миловидная круглолицая молодуха с высокой грудью и широкими бедрами, в длинной сборчатой юбке и расшитой кофте.
— Доброго утречка, — напевно приветствовала она гостя. — Как почивали?
— Спасибо, хозяйка, спал как убитый. Мне бы умыться…
— А вы в сени проходьте. Там рукомойник у нас, и рушник чистый для вас повесила. А я вам пока поснидать соберу. — И, глядя ему в спину, спросила с лукавством в напевном голосе: — Вы опохмеляться будете, чи ни?
— Нет, спасибо, хозяюшка. Крепкого чаю, если есть. Или рассолу…
— Усе имеется, спасибо совецкой власти, — произнесла молодуха слащавым голосом. — И чай, и рассол.
Артемий умылся ледяной водой, вытерся расписным рушником, помял щетинистый подбородок, но заводиться с бритьем не стал. Решил, что на первый раз сойдет и так. И еще решил, что надо будет сегодня же перебраться в Дом для приезжих. Удобств там, конечно, поменьше, но и разговоров в станице поменьше будет тоже.
Позавтракав пшенной кашей с топленым молоком и чаем, предварительно выпив кружку крепкого рассола для прочистки мозгов, поблагодарив хозяйку, Артемий оделся, вышел на крыльцо и огляделся.
Утро выдалось солнечное, морозное, ликующее. Над станицей торчком стояли белые дымы; в центре, над церковными маковками и не снятыми крестами базарили вороны и галки. Воздух был свежий, ядреный, чистый, но в нем уже чувствовалась оттепельная волглость, идущая от навозных куч, соломенных крыш и на глазах съедаемого солнцем инея на глянцевых ветвях густого вишенника.
Застегнув крючки полушубка, Артемий зашагал к станичному совету. Там все были в сборе и занимались своими делами. Или делали вид, что занимаются делами.
Атлас сидел в кабинете участкового милиционера, время от времени тер опухшее лицо ладонями и страдал с перепою. К нему жался Фридман, что-то говорил Атласу, вывернув голову и заглядывая в его глаза.
При появлении Дудника все встали. Пожав руки, Артемий спросил участкового, какое им отвели помещение для работы и попросил его проводить в это помещение.
— Да какое помещение? — удивился участковый. — В моем кабинете и работайте.
— Нет, так не пойдет, — спокойным и бесцветным голосом отказался Дудник. — Нам нужны две комнаты: рабочая и приемная. А здесь мы только будем мешать друг другу. Еще нам нужно два человека, лучше — милиционеры, чтобы вызывать нужных людей. И еще… — Дудник внимательно посмотрел на участкового и продолжил тем же бесцветным голосом, не допускающим никакой фамильярности, а лишь исключительно официальные отношения, голосом, напрочь отметающим вчерашнюю попойку: — А еще мы с товарищем Атласом будем жить в Доме для приезжих. А вы, товарищ лейтенант, позаботьтесь, пожалуйста, о трехразовом питании по нормам наркомата обороны для командного состава. Деньги на эти цели вам будут перечислены по существующим правилам.
— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил участковый и растерянно глянул на Фридмана.
Дудник знал, что требование его насчет питания практически невыполнимо, что кормить их с Атласом будут как и везде — на убой, но ему нужно было показать перед тем же Фридманом, что они сюда приехали не прохлаждаться и отдыхать, а делать государственное дело, и обстановка вокруг этого дела тоже должна быть государственной.
С помощью Гуртового рабочие помещения были определены в Доме для приезжих, где все равно никто не жил. Из них убрали койки, в одну комнату поставили два стола и четыре стула, в другую лавки для ожидающих приема. Атлас сел за один стол — вести протоколы, Дудник за другой — допрашивать и расспрашивать. Но больше все-таки расспрашивать: права на арест и допросы у них не было, да и вообще арестовывать пока никого не предполагалось. Пока — это до особого распоряжения из Ростова. Ну, а оттуда могли дать такое распоряжение, лишь получив соответствующую команду из Москвы, где вот-вот должен начать работу Пленум ЦК.
Лишь во второй половине дня в холодных комнатах Дома для приезжих стало теплее от топящихся двух голландок, так что можно было снять полушубки, и чернила уже не мерзли в чернильнице, и пальцы не надо было согревать своим дыханием, прежде чем перевернуть очередную бумажку.
Пообедали тут же, в кабинете, теплыми щами со свининой и пшенной кашей на сале, принесенными пожилой неразговорчивой станичницей. Выпили по кружке крепкого чаю с сахаром и творожниками. Все это, если переводить на армейское довольствие, стоило раза в два-три дороже, но вряд ли кому пришло бы в голову считать разницу, зато придраться нельзя. А что и на них могут накатать жалобу, сомневаться не приходилось: катали уже, и не раз.
Закончив обедать, покурили. После чего Дудник дал двум милиционерам, совсем еще молодым парням, недавно отслужившим срочную в территориальных формированиях, список из трех десятков фамилий, подчеркнув тех, кого надо вызвать сегодня. Все это были люди, писавшие жалобы на местные власти либо в краевое управление НКВД, либо в крайком партии, либо в другие инстанции. Но больше всего было анонимок, на исследование которых Дудник с Атласом потратили почти целый день. Правда, факты, приводимые в анонимках, совпадали, как правило, с фактами жалоб, так что искать анонимщиков не было никакой нужды. Но проверять требовалось всякую мелочь обязательно. На этом особенно настаивал Люшков, напутствуя комиссии на многотрудную деятельность. Страховался.
Одним из первых в списке значился Андрей Капустин, который, если верить его жене, сидел сейчас в холодной.
— А Капустина нету, — тыча пальцем в список, сказал один из милиционеров.
— Как так нету? — удивился Дудник.
— А так что уехал куда-то по делам, — не моргнув глазом, ответил милиционер. — Если прикажете, я спытаю у председателя колхоза. Но, слышно, надолго уехал: вроде как теща у него захворала в станице Обливской. Это в низовьях Чира. Далековато будет, товарищ старший лейтенант.
— Вы берете на себя ответственность, заявляя, что Андрей Капустин действительно уехал из станицы, а не сидит сейчас дома или еще в каком-нибудь месте? — глядя сузившимися глазами в светлые и правдивые глаза парня, ледяным тоном спросил Дудник.
Лицо у парня дрогнуло, глаза забегали из стороны в сторону. Он замялся, переступил с ноги на ногу.
— Да нет, товарищ старший лейтенант! Какая ответственность? Слыхать слыхали, а чтобы доподлинно… Станица-то большая, за всеми не уследишь.
— Вы тоже слыхали? — обратился Дудник ко второму милиционеру.
— Н-не, я н-не слыхал, товарищ старший лейтенант.
— В общем, так, товарищи мои дорогие, — кривя губы в презрительной усмешке, заговорил Дудник. — Если через полчаса бригадир Андрей Капустин не будет здесь, я заведу на вас дело и передам его на рассмотрение чрезвычайной комиссии по чистке личного состава НКВД. Полчаса — и ни минутой больше. Можете идти.
Милиционеры, топоча сапогами, двинулись к двери, но на пороге, переглянувшись, замерли, в растерянности уставились на Дудника.
— Дык, товарищ старший лейтенант… ключи от холодной у товарища участкового…
— Вы приказ слышали? Выполняйте!
Глава 17
— А баба евоная, — говорил пожилой казак в шароварах с лампасами, комкая в землистых ладонях барашковую папаху с красным верхом, — в колхозе не труждается, а трудоднёв ей записуют поболе, чем другим колхозникам. А еще товарищ Гуртовой, когда почали возвертать скот колхозникам в личное пользование, взял себе лучшую корову, а свою бросил. И казаков спаивал, когда выбирали председателя совета, чтоб его, Гуртового, обратно председателем выбрали. И секретарь партийной ячейки у него на кукане: что Гуртовой скажет, за то он и агитирует через своих партийцев. Об всех энтих безобразиях я писал в крайком партии три раза, за что и был исключен из партии как элемент, который приверженный бывшему товарищу Троцкому. А какой я троцкист, прости господи? Один наговор — да и только.
Вторым привели Андрея Капустина, мужика лет сорока, щуплого, с резкими чертами лица и маленькими черными глазками, близко посаженными к переносице и упрятанными под кустистые брови. Люди такого типа, как заметил Артемий Дудник, если упрутся во что-то, то с места их сдвинуть совершенно невозможно, они только все более и более озлобляются, перенося свое озлобление на весь мир, не входя ни в какие объективные обстоятельства. Артемию не нравились такие люди: их правда неприятна и чаще всего вызывает раздражение даже у тех, кто придерживается одного с ними взгляда на жизнь и текущие события. Такие упёртые люди только портят все, и правда из-за их упёртости становится как бы и не правдой, а чем-то совсем наоборот.
— За что вас посадили в холодную? — спросил Дудник, перебирая бумажки, чтобы не встречаться взглядом с ненавидящими глазами Капустина. «И как только с ним баба живет?» — подумал он, вспомнив закутанную до глаз женщину и ее мелодичный голос.
— А ни за что. Как получили телефонограмму, что приезжает комиссия НКВД, так и посадили. Шлаков, участковый наш, мне так прямо и сказал: посиди, говорит, для своей же пользы, пока комиссия не уедет.
— И все-таки причина какая-то была?
— Была, товарищ следователь. Как не быть. А причина в том заключается, что нынешние станичные властя хотят пустить по миру колхоз и самих колхозников, а я везде выступаю против такой их политики. Они самые настоящие контры, товарищ следователь, и враги трудового народа.
— В чем же проявляется их контрреволюционность?
— Как в чем? За какие шиши Гуртовой построил себе дом? А председатель колхоза? Они даже Шлакова, этого бывшего шахтера, под себя подмяли, задобрили, оженили его на председателевой дочке, и он у них, как бык взналыгаченный, куда цоб, куда цобе, туда и тащится. И в Вешках у них своя рука имеется, и в Миллерово, и в Ростове. Все опутали, все под себя подобрали, товарищ следователь. Никакого житья от них нету и никакой пользы советской власти. Один сплошной вред. Жируют, как атаманы при царе, а кто супротив пикнет, того в кутузку или на выселки. Месяц тому тройку полномоченных прислали для наведения порядка, так они и тройку умаслили и сбили с партийного пути: развели мужиков по квартирам вдовушек, какие особо известные в станице вертихвостки, они их в постелю позатягали, кормят, поят да еще телесные удовольствия с ними справляют. Даже жидка молодого… извиняюсь, товарищ следователь, товарища Фридмана, и того с панталыку сбили, подсунув ему самую прожженную нашу станичную вертихвостку Верку Паничеву. Баба красивая, в теле — вот он, товарищ то есть Фридман, и не уберег свою партийную и мужскую честь и совесть.
— И давно все это началось?
— Что началось? — переспросил Капустин.
— Все эти безобразия.
— Так с тех самых пор, как осенью тридцать второго года посадили все станичное правление за невыполнение плана хлебозаготовок. Тогда и прислали новых: секретаря партийного, начальника милиции и других. А Гуртовой — он местный, счетоводом был. Он как-то выкрутился и взял над всеми верх. Когда нам товарищ Сталин прислал помощь зерном по причине голода… спасибо товарищу писателю Шолохову, что вступился за простой народ и написал товарищу Сталину о наших безобразиях… так вот, когда помощь эта пришла, Гуртовой зерно распределял среди колхозников и на этом возвысился, а потом, поскольку за ним никакого контроля не было, стал жульничать, и кто против выступал, тех он и… это самое… и меня тоже, как я уже вам докладал…
Ни в первый день, ни во второй Дудник так и не смог заполучить для беседы партийного секретаря Колодченко: тот как уехал с утра в Вешенскую, так и пропал. А на другой день в Дом для приезжих стали приходить казаки и бабы, — помимо тех, что вызывали, — и рассказывать, какие Гуртовой и все остальные руководители станицы правильные и чуткие люди, как пекутся они о благе трудового народа и всех колхозников, как мало заботятся о себе самих и своих семействах, так что жены их вынуждены ходить по соседям и просить то того, то этого для пропитания и поддержания своего существования. Обеляя Гуртового со товарищи, люди поносили того же Андрея Капустина и других жалобщиков, выставляя их как бездельников и воров. Ясно было, что ходатаев этих направляет одна рука, чтобы запутать следствие и пустить его по ложному пути.
Стали отказываться от своих писем и сами жалобщики, ссылаясь на то, что черт, мол, попутал, потому и оклеветали зря хорошего человека.
И так день за днем, день за днем, день за днем… Однажды Атлас, терпеливо и обстоятельно записывающий все, что говорилось в кабинете, взмолился, потряхивая онемевшими пальцами:
— Уж не собираетесь ли вы, товарищ Дудник, опросить таким образом всю станицу? По-моему, тут все настолько ясно, что и доказательств не требуется. У нас, в Нахичевани, практически то же самое. А если в этой среде и появляется честный человек, так его тут же стараются сжить со свету. Вот и пишут люди… А что еще, интересуюсь знать, им остается делать? Одна уже надежда на Пленум. Я слышал, товарищ Сталин дюже недовольный таким положением дел. Ягода, хоть он и еврей, а тоже, видать, заелся и попускал врагам советской власти у себя же под носом. Потому его и сняли. Может, товарищ Ежов выправит положение…
Артемий рассчитывал на то же самое. Но у него был приказ Соломона Жидкого… то есть Рогозина, копать как можно глубже, не ограничиваясь только станичным руководством, но обязательно проследить его связи дальше, куда потянется ниточка. А еще Жидкого почему-то интересовал писатель Шолохов, и хотя на его счет никаких распоряжений отдано не было, однако проверить, не связан ли он с троцкистами или, скажем, с какими-нибудь казачьими самостийниками, или, чем черт не шутит, с националистически-черносотенным движением, Жидкой Дуднику рекомендовал весьма настойчиво.
— Этот Шолохов — та еще птица, — говорил Жидкой, наставляя Дудника. — В нем так и чуется махровый националист, монархист и черносотенец. И свои книжки он пишет для того, чтоб натравить на советскую власть отсталое казачество, которое верой и правдой служило царю-батюшке, а в гражданскую воевало с Красной армией. Надо будет копнуть поглубже этого перекрасившегося типа, чтоб всем стало видно его прогнившее нутро. Чую, Артемий, что там есть что копать. Главное — тонкость нужна и факты. Раздобудешь мне факты — доложу, чтоб вернули тебе звание и сняли партвыговор.
Артемий ничего, из написанного Шолоховым, не читал: не до чтения было, на входящие-выходящие бумаги времени не хватало, а чтоб книжки читать, это уж извините. Но о писателе Шолохове слышать доводилось: одни его хвалили, другие, наоборот, поругивали, иные утверждали, что он и не писатель вовсе, а жулик, укравший книгу у какого-то казака, а самого казака будто бы убил, подговорив на это дело притаившуюся контру.
— А ты что, Вениамин, — после продолжительного молчания спросил Дудник у Атласа, — боишься, что без тебя сына твоего обрежут?
— Да нет, этого-то я как раз уже и не боюсь. А домой хочется: семья все-таки, товарищ Дудник.
— Да-а, семья… — пробормотал Артемий, никогда семьи не знавший, все детство, почти с рождения, проживший в людях. Лишь став взрослым, время от времени прилеплялся к иным женщинам, но подолгу возле них не задерживался. Однако тоска по настоящей семье в нем жила постоянно.
— Давно хочу тебя спросить, Вениамин, — заговорил он снова, отрываясь от чтения какой-то бумаги. — Ты писателя Шолохова читал?
— Читал.
— Ну и как?
— Мне нравится. Рассказы у него интересные, роман «Тихий Дон», правда, еще не законченный, но тоже интересно написан. Ну и «Поднятая целина» — тоже полезная книга.
— И о чем эти книги?
— «Тихий Дон» — это про казаков, как они жили до революции, потом воевали с немцами в империалистическую войну, потом революция… Я и говорю, что роман еще не законченный. Говорят, сам товарищ Сталин попросил Шолохова написать о коллективизации, и будто он же, товарищ Сталин, и название придумал — «Поднятая целина»… Неужели не читали, товарищ Дудник? — изумленно вскинул рыжие брови Атлас.
— Не довелось.
— Обязательно почитайте.
«Да уж, — подумал Артемий, — если время укажет. А вдруг и правда этот Шолохов связан с какими-нибудь элементами? Тогда его в кутузку, а книжки в огонь. Эти писатели… или поэты — они такое могут понаписать, что ни в какие ворота…»
Дудник с одним таким поэтом имел дело: тот стихи писал на матерном языке, хотя вид имел вполне приличный и, когда разговаривал, матерными словами не бросался. А каково молодежи читать такие стихи! Артемий с ним долго спорил, но переспорить не смог: поэт в университете учился, а Дудник что? — ликбез да погранучилище, где политграмота заменяла все: и литературу, и русский язык, и прочие науки. Но чтобы понять, какие стихи нужны советской молодежи, а какие вредны, особой грамотности не требуется. Поэт этого понять никак не хотел. И Дудник пристегнул его к троцкистско-террористической группе. Для лагерников стихи этого поэта — самое то. Пусть там и сочиняет.
Но дело не только в том, что Артемию попался такой поэт. Если бы попался какой другой, вряд ли он отнесся к нему по-другому. Дудник, прочитавший в своей жизни лишь несколько случайных книг, часто без начала и конца, выдранных на самокрутки, полагал, что писатели и поэты — это как раз те самые мелкобуржуазные элементы, которые только и знают, что вредить советской власти, а чтобы понимать жизнь трудящегося человека — на это их нет. Наверняка и Шолохов такой же. Но уточнять у все знающего Вениамина Атласа, кто такой Шолохов, не стал: почему-то был уверен, что тот скажет совсем не то, что должен сказать настоящий чекист.
И все-таки Артемий был рад, что ему в напарники достался Атлас, а не кто-то другой. С Атласом он легко находил общий язык: он не кичился своими знаниями, был прост и по-своему честен. С другими людьми из группы Жидкого-Рогозина Дудник так и не сошелся, он постоянно чувствовал их отчужденность и нежелание впускать его в свой обособленный мирок. Конечно, и Атласа Жидкой приставил к нему в качестве приглядывающего, но Вениамин к такой роли явно не годился…
Хотя… черт его знает: соли они вместе съели — и на солонку не наберется, так что о том, чтобы душа нараспашку — и думать нечего.
Глава 18
Закончив следствие в станице Машковской, собрав материал, Дудник вместе с Атласом поехали в Вешенскую. В Вешенской в ту пору работала комиссия крайкома, ей Дудник и передал все «дела». Рогозин-Жыдкой, входивший в эту комиссию, о Шолохове не напомнил: видать, сам занялся этим писателем и дознался всего, что было нужно. И, как говорится, баба с возу — кобыле легче.
— А что, Артемий, — предложил вдруг Атлас, когда они вечером, завершив свои дела, сидели в отведенной им комнате в доме для приезжих. — Давай сходим к Шолохову.
— Зачем? — с удивлением уставился на него Дудник.
— Да как же: такой писатель! — воскликнул Атлас. — Когда еще выдастся такой случай!
— И что мы ему скажем? А главное — что он о нас подумает?
— Как что? Скажем, что читали, что очень нравится. Спросим, когда выйдет окончание «Тихого Дона»… А что еще? Ничего он не подумает.
— Ну, ты, положим, Шолохова читал, а я-то… Я-то ведь не читал, — недоумевал Дудник, которому никогда бы в голову не пришло идти к какому-то писателю, или артисту, или еще к кому, хотя бы и трижды знаменитому. — Я-то что ему скажу?
— Да ничего говорить не надо! Вот чудак! Я сам скажу, а ты… ну, послушаешь, посмотришь: интересно все-таки.
— Ну, так и сходи сам. Я-то тебе зачем?
— Да как-то одному неловко, — замялся Атлас. — Вдвоем лучше было бы.
— Ладно, пойдем, — согласился Дудник после недолгого раздумья, решив, что Атлас имеет в виду свое еврейство, а про Шолохова поговаривают, будто он евреев недолюбливает. Опять же, Атлас — он какой-то странный человек, хотя странности его не вызывают подозрения или неудовольствия, а скорее удивление и даже некоторую симпатию… Что ж, можно и сходить. Его, Дудника, от этого, как говорится, не убудет.
И едва смерклось, они отправились к дому Шолохова.
В довольно большом двухэтажном доме свет горел почти во всех окнах. Дорожки перед домом очищены от снега, под козырьком высокого крыльца горит фонарь. Едва Дудник и Атлас приблизились к калитке, во дворе залаяла собака, но не злобно, а как бы предупреждающе. Дудник пошарил по калитке рукой, просунув ее в выемку, нащупал и сдвинул засов, открыл калитку. Собака залаяла громче. В тускло освещенном окне первого этажа появилась тень человека, тень придвинулась к стеклу, затем отпрянула будто бы даже с испугом.
— Еще людей напугаем, — проворчал Дудник, приблизившись к крыльцу.
Открылась дверь, кто-то вышел в накинутой на плечи кацавейке, а кто — не разберешь: фонарь освещал ступеньки и пространство перед крыльцом, оставляя в тени само крыльцо и человека, остановившегося перед ступеньками.
— Здравствуйте, — произнес Атлас, и Дудник подивился той удивительно теплой интонации, какой еще за Атласом не замечал. — Извините, пожалуйста. Мы из Ростова, в Вешенской оказались по делам, хотелось бы повидаться с товарищем Шолоховым… — И с этими словами Вениамин достал из-за пазухи книгу, показал ее человеку и пояснил: — Автограф, если можно…
— Шолохов — это я и есть, — произнес человек и пригласил: — Заходите, — и отступил к двери.
Атлас впереди, Дудник за ним поднялись на крыльцо. Человек, назвавшийся Шолоховым, отворил дверь, шагнул в освещенные сени, в сенях обернулся — и гости увидели перед собой молодого человека невысокого роста, плотного, с высоким чистым лбом и внимательными серыми глазами. Человек стоял и смотрел на них ожидающе.
Атлас спохватился:
— Вы извините, товарищ Шолохов, может, мы не во время… мы тут на два дня всего, завтра уезжаем… А приехали из Машковской, проверяли там состояние кадров, ну там… — и Атлас сделал неопределенный жест рукой. Затем торопливо, под испытующим взглядом Шолохова, чуть отступил в сторону и представил: — Это вот товарищ Дудник, старший лейтенант госбезопасности, а я лейтенант милиции… Но вы не подумайте чего! — воскликнул Атлас и даже руку выставил вперед, как бы защищаясь от возможных действий или слов писателя. — Мы читали ваши книги, очень нам понравились, вот и решили воспользоваться случаем…
Во все время, что Атлас объяснял Шолохову причину их посещения, сам хозяин не проронил ни слова, лишь иногда кивал головой, как бы соглашаясь с тем, что ему говорили.
— Что ж, проходите, — произнес он почти равнодушно и открыл дверь, пропуская гостей в довольно просторное помещение, где светилась под потолком простенькая люстра о три лампочки и топилась печь-голландка.
Гости вошли и остановились у стола.
— Так говорите, из Машковской? И что там? — спросил он, не предложив ни раздеться, ни даже сесть.
— В Машковской-то? Да что там может быть? Как и везде: кадры, мало пригодные к требованиям времени, — ушел от прямого ответа Атлас и, подвинувшись к столу еще, положил на край его книгу.
— Так уж все кадры? — усмехнулся Шолохов.
— Ну-у, не все, конечно, есть и вполне честные и квалифицированные. Но в основном — очень и очень слабые… Впрочем, в нашу задачу входило составление характеристик, а выводы… выводы будут делать другие.
Шолохов взял книгу, повертел в руках, снова положил на стол, затем предложил:
— Вы посидите, а я пока схожу за ручкой. — И скрылся за одной из дверей.
Дудник тут же плюхнулся на лавку, стоящую у стены, стал осматриваться. В квартирах писателей, тем более таких знаменитых, каким ему представлялся Шолохов, он не бывал ни разу. Ему казалось, что и жить они должны как-то не так, как обычные люди, а как-то по-особенному. И обстановка в доме тоже должна быть особенной. А тут лавки, табуретки, стол, этажерка с немногими книгами — все явно не фабричное, сделанное, скорее всего, местными мастерами, но добротное.
Атлас тоже осматривался, продолжая стоять, и видно было, что он явно взволнован.
— Садись, Вениамин! Чего стоишь? — с усмешкой предложил Дудник. — Сам знаешь: в ногах правды нет. Или ждешь, что тебя чай пить пригласят?
— Ну что ты, Артемий! Вовсе не жду, — не сразу откликнулся Атлас, но все-таки присел на краешек скамьи рядом с Дудником.
Вернулся Шолохов, сел за стол, открыл книгу, стал писать. Писал быстро и недолго. Написав, подышал на написанное, закрыл книгу, положил на стол. Только после этого спросил:
— И как вам представляется, чем должен закончиться «Тихий Дон»?
Атлас дернулся, но Шолохов остановил его рукой, продолжил:
— Я имею в виду главного героя «Тихого Дона» Мелехова. Как с вашей, чекистской, точки зрения вы смотрите на это?
— Лично я смотрю так, что такие люди, как Мелихов, — заспешил Атлас, — да еще с таким прошлым, с советской властью помериться не могут. Я читал критику в некоторых журналах, там вас ругают, что вы своим героем сделали беляка, который должен либо удрать за границу, либо раскаяться, либо… Я понимаю, что все это досужие домыслы, что перед вами множество вариантов, вам и выбирать…
— Что ж, очень неплохо сказано, — одобрил Шолохов. — Чувствуется, что вы читали вдумчиво… А товарищ Дудник? — и посмотрел на Артемия, прищурив глаза.
— А товарищ Дудник, извините товарищ Шолохов, ничего из того, что вами написано, не читал. Признаться, я вообще читал очень мало. Но обязательно прочитаю… как выдастся свободное время, — ответил Артемий.
— Что ж, и это не плохо, — кивнул головой Шолохов и поднялся.
Поднялись и гости.
Атлас начал было раскланиваться и благодарить, но Шолохов покачал головой, останавливая гостя.
— Благодарить меня не за что. Это я должен вас благодарить, что читаете мои книги… или будете читать. Без читателей не бывает писателей, как без верующих не бывает бога. Или богов.
— Да-да! — соглашался Атлас, пятясь к двери.
Уже в сенях Шолохов пожал им руки и, задержав руку Дудника в своей, произнес с усмешкой:
— А я, грешным делом, подумал: уж не арестовывать ли меня пришли… Оказывается — нет. Значит, еще поживу и, бог даст, допишу то, что мне положено дописать.
— И я вам желаю того же, — сказал Дудник, в свою очередь крепко сжав руку писателя. И добавил: — Но береженого, как говорится, бог бережет.
— Да-да, вы правы, — кивнул Шолохов головой.
Атлас и Дудник вышли на улицу, до самого Дома для приезжих шли молча. Уже в комнате, раздевшись, согревая ладони кружкой с кипятком, заваренным донником и липовым цветом, Дудник, с усмешкой поглядывая на Атласа, пребывающего в заоблачных высях, спросил:
— Ну и что тебе написал Шолохов?
— А-а… Да вот, можешь посмотреть, — и Атлас протянул ему книгу.
Шевеля губами, Дудник прочел: «Товарищам Атласу и Дуднику с большевистским приветом и пожеланиями успехов в установлении истины и восстановлении правды. М Шолохов. Ст. Вешенская, 16 декабря 1936 года».
Глава 19
Комиссара госбезопасности третьего ранга Генриха Люшкова, хотя он и не был членом ЦК ВКП/б/, пригласили на декабрьский Пленум ЦК, где он должен был отчитаться за проделанную работу по наведению порядка в деле расстановки кадров в Северо-Кавказском крае. Приехав в Москву, Люшков сразу же отправился к новому наркому внутренних дел Ежову.
Ежов встретил его в том самом кабинете, где ни раз бывал Люшков еще при Менжинском, а потом и при Ягоде. И при Ежове здесь ничего не изменилось: те же столы, стулья, портьеры, те же портреты Ленина и Дзержинского. Новым здесь был лишь сам Ежов — маленького роста, с мелкими чертами лица, уже приобретшими ту высокомерную значительность, какую приобретает лицо и фигура артиста средней руки, неожиданно получившего заглавную роль в праздничном спектакле.
— Садись, Генрих, — произнес Ежов усталым голосом, подавая Люшкову через стол свою маленькую руку. — Рассказывай давай, что сделано, с чем придем с тобой на Пленум.
Люшков развязал тесемки большой кожаной папки, стал перебирать бумаги.
— Ты мне не по бумаге, а своими словами, — велел Ежов недовольным голосом. И пояснил: — Товарищ Сталин страсть как не любит, когда читают по бумаге. Товарищ Сталин любит, чтобы коротко и ясно: кого, когда и за что? Понял?
— Так точно, товарищ нарком.
— Вот и давай.
— Значит, так, — заговорил Люшков, тщательно подбирая слова. — Чрезвычайные комиссии, созданные при краевом управлении НКВД из специально подобранных чекистов, верных советской власти и коммунистической партии, проверили сверху донизу расстановку кадров не только по линии НКВД, но и по партийной, советской, профсоюзной, административно-хозяйственной и комсомольской линиям. Выявлены вопиющие недостатки в кадровых вопросах… в смысле проникновения во все эшелоны власти подрывных троцкистско-зиновьевских элементов. Члены комиссий…
— Подожди, — остановил Люшкова Ежов, болезненно поморщившись. — Во-первых, подрывные элементы требуется усилить выявлением проникновения в наши ряды агентов вражеских разведок. В основном польских и германских. Возможны и другие варианты. Во-вторых, акцент надо делать на террористическую деятельность, направленную на истребление ведущих руководителей партии и правительства. В-третьих, в круг их подрывной и террористической деятельности необходимо включить и армию. Только тогда картина будет полной и всеохватывающей. Понял?
— Так точной, товарищ нарком.
— Вот и жми по этой линии. Но главное — цифры и факты, цифры и факты: кто, где, когда и сколько? Чтобы впечатляло.
Николай Иванович задумался на минутку, потер ладонью высокий лоб, будто что-то вспоминая, затем уточнил:
— Вообще-то, доклад на Пленуме предстоит делать мне, а ты, если понадобится, дополнишь его деталями. Но не исключено, что товарищ Сталин может сразу же предложить тебе отчитаться о проделанной работе. Товарищ Сталин знает о твоем задании: я ему докладывал. Товарищ Сталин любит конкретику.
И еще битых два часа Ежов с Люшковым отрабатывали детали и формулировки той части предстоящего доклада на Пленуме ЦК, которая касалась Северо-Кавказского края, стараясь выдерживать общую линию и не перепутать главные направления со второстепенными. Оба волновались перед завтрашним днем, оба были уверены, что от предстоящего Пленума зависит не только укрепление их служебного положения, но и сама жизнь. Да и вся их деятельность при новой власти доказывала им на каждом шагу, что за свое место под солнцем надо драться, не щадя никого из тех, кто может оттеснить тебя на задний план. Связав свою жизнь со Сталиным, они усвоили себе то простое правило, что только поддержка Сталина и его политики, далеко не всегда им понятной и совпадающей с их представлениями о том, что полезно, а что вредно для создаваемого ими государства, — что только такая линия поведения может упрочить их положение и пошатнуть положение их противников. Хотя оба иногда чувствовали, а иногда знали наверняка, что не все Сталин делает правильно, а вместе с ним и они сами, однако инерция движения в заданном направлении была сильнее их минутных сомнений и опасений, с тем большим рвением они продолжали делать то дело, которого от них ждали и на которое их толкали созданные и постоянно создаваемые непрестанной борьбой обстоятельства.
Уточняя детали завтрашнего доклада и возможные неожиданности, подстерегающие их при обсуждении этого доклада членами ЦК, стараясь предугадать оценку Сталиным их работы, его тайные планы и желания, они говорили на том условном языке, который был наиболее понятен всем, кто будет этот доклад слушать и обсуждать, кто будет принимать решения, ибо и они будут выражать свои тайные мысли и желания на этом же самом условном языке. Оба знали, что говорить ясными и простыми словами, называя черное черным, а белое белым, они не могут, не имеют права, потому что основная масса народа и партии привыкла к условному языку, считает этот язык единственно верным, поскольку именно на этом языке, на котором говорил Ленин, только и можно называть черное черным, а белое белым.
Ежов и Люшков свято верили: террористическо-подрывные организации не могут не существовать, что не раз и не два доказывалось проверенными и перепроверенными фактами, что членами этих организаций может быть кто угодно, потому что в роли кого угодно выступали когда-то и сами революционеры, и теперь, переродившись, поддавшись всяческим обывательским соблазнам, они не могут не повторять своего пройденного пути, не могут не пользоваться своим опытом. И даже если никакой тайной организации нет, она может возникнуть при определенных обстоятельствах. Наконец, сами они, Ежов и Люшков, тоже составляют некую тайную организацию, скрываемую от чужих глаз и ушей, потому что не всем дано знать, как они собираются бороться со своими врагами. И даже товарищу Сталину не обязательно знать все подробности и тонкости их работы.
— Главное для нас с тобой, Генрих, это выявить со всей очевидностью троцкистскую, контрреволюционную, шпионскую, террористическую направленность деятельности всей этой сволочи, — откинувшись на спинку кресла, подвел итог обсуждения предстоящего доклада Ежов. — А там пойдет само собой — только подставляй-знай. — И облегченно рассмеялся дребезжащим смешком. Однако серые глаза его оставались неподвижными, выдавая его незатухающую тревогу и неуверенность.
Но Люшков не был столь проницательным и наблюдательным, чтобы подмечать всякие тонкости, потому-то ничего в глазах своего шефа не заметил и принял его слова за чистую монету. Он тоже облегченно вздохнул и скромненько хихикнул. Его сейчас более всего занимало, успеют ли до окончания работы Пленума ЦК его люди выявить все детали для неминуемо предстоящей чистки партийных и всяких других рядов в подведомственном ему крае. Но даже если и не успеют, он, вернувшись в Ростов, сам развернется там так, что всем чертям станет тошно. Лишь бы дали ему на это полную волю и неограниченную власть.
Уезжая, Люшков отдал приказ начать аресты выявленных врагов советской власти. Пока велел остановиться на количестве двести человек. Сейчас в Ростове Винницкий и Каган сортируют этот народ по разным направлениям контрреволюционной деятельности. На этих хлопцев можно положиться полностью: родную мать не пожалеют, а приказ выполнят. Лишь бы не переборщили. Лишь бы не схлестнулись с людьми секретаря крайкома Евдокимова, сменившего на этом посту Шеболдаева, или заместителя наркома внутренних дел Фриновского, которому будто бы покровительствует сам Сталин.
Люшков рассматривал затеваемую Сталиным компанию, как очередную чистку партии от примазавшихся чуждых ей элементов, от всяких перерожденцев и оппозиционеров. Эта чистка вряд ли будет сильно отличаться от всех предыдущих чисток, хотя партийная пропаганда из кожи лезет вон, чтобы доказать, будто эта чистка наконец-то железной метлой выметет всех, кто стоит на пути государства рабочих и крестьян к светлым вершинам социализма и коммунизма. Но без такой пропаганды обойтись никак нельзя. Тем более что народ привыкает ко всему, что повторяется более-менее регулярно. И к чисткам тоже. В народе даже сложилось мнение, что чистки эти ничего не дают: как воровали, так и будут воровать, как была бестолковщина при царе, она же и при большевиках продолжается с тем же успехом.
Но что там в народе говорят, не самое главное для Люшкова. Для того чтобы в народе говорили нечто противоположное, имеется отдел пропаганды при ЦК партии, газеты, радио и прорва всякого языкастого народа. Для Люшкова главное — самому всегда быть выше всего этого и обязательно впереди, обязательно опережать события, не плестись в хвосте у этих событий, — и тогда всегда будешь на коне. Ягода презрел это правило — и остался с носом. Люшков с носом оставаться не хотел.
Не хотел с носом оставаться и Ежов, хотя он-то не только понимал, но и знал, что эта чистка будет похлеще всех предыдущих, что теперь не ограничатся одними исключениями из партии и снятиями с должности, что судьба Зиновьева и Каменева со товарищи проложила смертный путь и для многих других. Именно аппарат КПК, недавно подчинявшийся Ежову, готовил материалы к предстоящей чистке, это здесь, в отличие от НКВД, возглавляемого Ягодой, давно поняли, что обычные чистки стали малоэффективными, что через какое-то время после очередной чистки все возвращается на круги своя, что как партаппарат, так и разные советские и государственные инстанции вполне приспособились к периодическим чисткам и научились выходить сухими из воды, что дело не в оппозиции, не в разных там уклонах, а в той порочной системе управления страной и партией, которая вызрела за годы советской власти.
Догадывался Николай Иванович, что он понадобился Сталину для страшной кровавой работы, в которой и сам может сгореть без остатка, ибо такая работа не может продолжаться вечно, а для другой работы находят других исполнителей. Но выбора у Ежова не было, а надежда, что Сталин оценит его преданность и рвение, введет его в круг лиц, без которых нельзя обойтись, — такая надежда жила и даже крепла.
Глава 20
Когда Генрих Григорьевич Ягода вошел в зал Большого Кремлевского дворца, где вот-вот должен открыться Пленум ЦК, здесь уже присутствовало большинство цекистов и приглашенных. Там и сям, сбившись в кучки, люди о чем-то оживленно беседовали или просто слушали кого-то, кто, по существующей партийной иерархии, занимал ведущее среди них положение и, следовательно, в большей степени был посвящен в тайны кремлевской политики. С самого сентября, когда Ягоду сняли с поста наркома НКВД и назначили на должность наркома связи, он не был в Кремле, почти не встречался с руководством партии и страны. Нынешняя должность его была чем-то вроде политической ссылки. Но Генрих Григорьевич еще надеялся, что ссылка эта ненадолго, что его опыт и знания будут востребованы. Пусть не в наркомате НКВД, где Ежов уже наводит свои порядки, решительно освобождаясь от бывших сослуживцев своего предшественника и насаждая везде своих людей. Но и не в наркомате связи, где можно зачахнуть от тоски, перебирая бесполезные бумажки, как чахнет цветок, выросший на клумбе под открытым небом, пересаженный в горшок и поставленный на подоконник за двойные стекла.
Снятый с должности, Ягода, между тем, не был исключен из состава ЦК, не был лишен звания Генерального комиссара госбезопасности. Однако на Пленум он явился в скромном цивильном костюме, не желая ни выделяться среди других, ни привлекать к себе внимания.
Увы, он все-таки привлек к себе внимание, но выразилось оно в том, что его вообще старались не замечать.
Генрих Григорьевич шел на то место, где обычно сидел нарком связи, и у него было ощущение, что он движется по какому-то зеркальному стеклянному тоннелю: он видит всех, а его не видит никто. Даже когда он уселся в свое кресло и повернулся к соседу, наркому водного транспорта, тот резко отвернулся от него и стал что-то оживленно говорить соседу справа, будто слева от него никого нет и не будет.
Генрих Григорьевич передернул плечами, сложил на столе руки, сцепил пальцы и уставился на них, не поднимая головы, но исподлобья он видел все, что происходило в зале, видел своих давних недругов: секретаря Северо-Кавказского крайкома партии Евдокимова и наркома внутренних дел Украины Балицкого, когда-то претендовавших на пост наркома внутренних дел СССР. Он отодвинул их обоих, а они — вот они, оживленные, веселые, уверенные в себе. И уж точно — не преминут воспользоваться его униженным положением.
Эх, надо было тихо и незаметно отправить их на тот свет, чтобы никто не подкопался. А теперь… близок локоть, да не укусишь.
Собственно говоря, у Генриха Григорьевича в этом зале и не могло быть друзей, а одни лишь недруги: какие могут быть друзья у наркома внутренних дел? А уж у бывшего — тем более. Но именно для подкопа под Евдокимова, заменившего Шеболдаева, всего лишь четыре месяца назад он посылал на юг Люшкова. И слухи о том, что Люшков, утвердившись в Ростове на Дону, продолжает копать в том же направлении, доходили даже до наркома связи. Следовательно, ничего не изменилось со сменой наркомов внутренних дел. И это было непонятно и почему-то страшило.
Ба! А вот и сам Люшков. Эка он как вытянулся и прогнулся в спине, будто ему предстоит принимать парад войск на Красной площади. Видать, крепко спелся с Ежовым. А может быть, и с тем же Евдокимовым. А вот Шеболдаев подавлен и насторожен. Похоже, что и он сейчас находится как бы под стеклянным колпаком, да только одни не видят этот колпак, другие видят, но не понимают, что этот колпак означает…
Разом задвигались стулья, по залу прошел плотный шорох встающих на ноги людей, с остервенением забили ладони: в зал вошли члены Политбюро, и впереди всех — Сталин.
Генрих Ягода поднялся вместе со всеми, вместе со всеми яростно отбивал свои ладони. На миг он позабыл, кто он и что он, был лишь один Сталин, от воли которого зависели все и вся, и была некая магическая сила, исходящая от его низкорослой, но плотной и уверенной фигуры, сила, заставляющая напряженно вглядываться в эту фигуру и терять способность к рассуждению и к холодной оценке происходящего. Может, Сталин действительно обладает некой магнетической силой, о которой с такой убежденностью говорят тибетские свитки, добытые в далеком горном краю специальной экспедицией НКВД, побывавшей там несколько лет тому назад по его, Ягоды, распоряжению. Эх, надо было более тщательно изучить эти свитки, может быть, тогда он смог бы понимать и предупреждать каждый последующий ход Хозяина. А он остыл к этим свиткам, едва лишь они легли ему на стол, бегло пробежал глазами перевод, да и то с пятого на десятое, ничего не понял и велел сдать свитки в архив.
С докладом выступал Ежов. Хотя имя бывшего наркома внутренних дел СССР не было произнесено, однако Генрих Григорьевич ясно видел, что стрелы доклада направлены и в него.
Ежов много места уделил кадровой политике на юге, где усилиями комиссара третьего ранга Люшкова раскрыта разветвленная сеть троцкистов, террористов и подрывных элементов, агентов германской и польской разведок, и что самое страшное — многие из этих подрывных элементов проникли в органы НКВД и госбезопасности, а это уже следствие преступной халатности и близорукости как бывшего руководства НКВД, так и краевой партийной организации.
— Более двухсот человек! — воскликнул Ежов, потрясая пачкой машинописных листов и оглядывая зал горящими от возмущения глазами. И еще раз повторил, как бы пытаясь вбить в головы присутствующих эту огромную цифру и заставить их ужаснуться: — Более двухсот человек уже арестованы специальными следственными группами в Ростове-на-Дону, в Таганроге, Новочеркасске, других городах и станицах края! Вдумайтесь в эту цифру, товарищи! Под носом у партийной организации, у органов безопасности действовали десятки проникших в них врагов народа, а наши честные — в кавычках! — благодушные и доверчивые коммунисты и чекисты точно ослепли все разом, ничего не видят, ничего не слышат, ничего не знают. Можем ли мы поверить в подобную куриную слепоту? Нет, не можем. Здесь явный сговор, явное предательство дела коммунизма, дела Ленина-Сталина. Выводы делайте сами.
Генрих Григорьевич почувствовал, как сердце его сжалось и долго-долго не могло разжаться, наливаясь тупой болью. Он дернул галстук, оглядел стол в поисках воды. Бутылки с «Боржоми» и «Нарзаном» стояли слишком далеко — не дотянешься. Попросить кого-то — было совершенно исключено. Он с трудом вдохнул в грудь побольше воздуха, и еще раз — и лишь тогда что-то в груди всхлипнуло, сердце дернулось и торопливо забилось в ребра. На лбу выступил обильный пот.
Генрих Григорьевич не видел — не до того было — бывшего секретаря крайкома партии Шеболдаева, сидящего почти рядом, не видел Евдокимова, не видел, как побелел и склонился над столом Шеболдаев и откинулся на спинку стула Евдокимов. Зато Шеболдаева, Евдокимова и самого Ягоду хорошо видели другие и восприняли их реакцию как проявление страха перед разоблачением своей если не подрывной, то преступно халатной, безответственной работы.
Ропот возмущения прокатился по залу, стал расти, будто каждый старался доказать, что он тут ни при чем, что у него-то уж точно все в порядке, все в соответствии с уставами, инструкциями и указаниями товарища Сталина, а посему никакие враги не могут сунуться в подведомственною ему организацию.
— Позор! — вскричал секретарь Киевской парторганизации Постышев, сидящий напротив, и гневно потряс огромными кулачищами.
— К ответу ротозеев и шкурников! — вторил ему Косиор, первый секретарь ЦК Украинской КП(б).
— К стенке этих выродков! К стенке! — захлебывался в яростном крике первый секретарь Московского городского и областного комитета партии Никита Хрущев, поблескивая в свете множества ламп своей круглой, редковолосой головой.
Вскоре трудно было понять, кто что кричит: кричали все.
Сталин, во все время доклада ходивший за спиной докладчика, теперь, под этот ураган возмущенных, негодующих криков, отошел к окну, чуть сдвинул рукой тяжелую гардину, стал смотреть, как густо кружатся снежинки, а курсанты кремлевского полка, с криками и беспечным хохотом, гоняют по брусчатке деревянными лопатами рыхлые валики снега. После них оставались широкие серые полосы, которые белели на глазах…
Сталин хмыкнул и невольно сравнил эти тщетные попытки курсантов очистить площадь под непрекращающимся снегопадом с той чисткой партии и различных органов от бюрократии, которую он начал. Конечно, много лишней работы, много лишних жертв. Но и не чистить никак нельзя. Иначе не проедешь, не пройдешь. Аксиома. Что ж, начало положено, необходимо чистить дальше. И до тех пор чистить, пока вся площадь не станет… Серой? Нет, чистой. В этом все дело.
Сталин слушал зал, стоя к нему спиной. Он ощущал его как нечто целое, как именно ту бюрократическую силу, которая родилась за годы борьбы за власть. В этом зале не было небюрократов. Все дело лишь в том, кто из них проявит больше рвения в борьбе со своими… как бы это точнее сказать? — кровными братьями по духу. Молотов? И он в качестве предсовнаркома создал свою бюрократическую пирамиду власти, в которой глохнут многие начинания… если послушать иных наркомов, недовольных жестким и неуступчивым Молотовым. Ворошилов? Под его командой военная верхушка, более чем любая другая, поражена бюрократической заразой: там постоянно идет грызня между группировками, вместо того чтобы всем вместе укреплять боеготовность армии. Каганович? Он не может быть не бюрократом, потому что безграмотен, берет лишь энергией и напором, часто растрачивая ее попусту именно из-за своей неграмотности. Хрущев? Этот в Москве и области создал такую бюрократическую иерархию, что сам уже не знает, что он может, а что нет, но он все-таки растрачивает свою энергию не впустую, добиваясь весьма заметных результатов. Кто еще?… Да все! Даже Ежов начинает борьбу с бюрократией бюрократическими же методами. И когда он расправится со старой бюрократией, — или, по крайней мере, с основной ее частью, — придет и его черед.
Но понимает ли хоть кто-нибудь из них, что именно сейчас своими возмущенными криками они подписывают себе смертный приговор? А если кто-то из них и понимает, как поведет себя, в какую сторону направит свою энергию?
Сталин задернул гардину, повернулся к залу лицом — и зал стал стихать и усаживаться.
Ежов вопросительно посмотрел на Сталина.
— Продолжайте, товарищ Ежов. Мы думаем, что вы на правильном пути. С врагами революции надо бороться по-революционному, по-ленински — без всякой пощады.
И Ежов продолжал.
Сталин не ошибся: мало кто из сидящих в зале представлял себе масштабы начавшейся чистки. Слово «бюрократия» произнесено не было, оно даже не подразумевалось, потому что бюрократом могли назвать любого из них. И сами себя они иногда — не без иронии — называли бюрократами. Но более привычными были словосочетания, родившиеся в огне революции и гражданской войны и лишь впоследствии дополненные другими, им подобными: контрреволюционер, антикоммунист, монархист, черносотенец, террорист и — враг народа, диверсант, шпион, троцкист, как отражение нового времени. Но к ним-то, членам ЦК и Политбюро, самым передовым строителям нового мира, эти ругательные слова относиться никак не могут. Это все где-то там, по отношению к кому-то другому! А они-то, избранные, сами определяют, кто есть кто, кого казнить, а кого миловать, ибо за ними сила, за ними славное прошлое. Это они устанавливали в стране советскую власть; это они, не зная жалости и пощады к врагам этой власти, осуществляли «красный террор», защищали ее в гражданскую войну; это они беспощадно боролись с кулаками и подкулачниками, ставя основную массу крестьян на рельсы коллективизации; это они создают индустрию в отсталой России и борются с мировым капиталом по всему миру. На кого еще может опереться Сталин в этой борьбе? Только на них и больше ни на кого.
Однако кое-кто все-таки понимал, что речь идет о чем-то большем, чем означают все эти привычные ярлыки.
Среди тех, кто это если еще и не понимал, то догадывался об истинных целях начинающейся чистки, был и Никита Сергеевич Хрущев, менее двух лет как возглавляющий обком и горком московской партийной организации. Он почти с первых же ожесточенных фраз доклада сообразил, что эта чистка будет особенной, что Сталин, переступив через трупы Зиновьева и Каменева, на них не остановится, пойдет дальше. Хрущев своим холопским чутьем распознал запах большой крови. Он только еще не знал, как себя вести в новых условиях: самому ли начать такую же чистку в Москве и области, или ожидать команды. Пока ясно было одно — кричать о поддержке Сталина как можно громче, авось да пронесет.
— Партийная организация Москвы — с вами, товарищ Сталин! — выкрикнул он, когда все остальные уже затихли. — Партийная организация Москвы и области беспощадно расправится со всеми врагами партии и советской власти, товарищ Сталин! Смерть предателям дела социализма и мировой революции! Да здравствует наша родная коммунистическая партия! Да здравствует марксизм-ленинизм! Ура товарищу Сталину!
И вновь крики и аплодисменты взорвали благоговейную тишину величественного зала Кремлевского дворца.
— Вставай проклятьем заклейменный! — не столько запел, сколько выкрикнул Постышев.
— Весь мир голодных и рабов! — вторил ему Ягода высоким голосом.
— Гремит наш разум возмущенный! — подхватили остальные и дальше пели так, точно им отсюда, из этого великолепного зала, идти на виселицу.
Глава 21
Хрущев ехал в горком партии, хотя время перевалило за полночь и делать там было совершенно нечего. Но ехать домой, где не дадут уединиться и хорошенько осмыслить происходящее, не хотелось, а в своем кабинете ему никто мешать не будет. Да и Сталин закончит свой рабочий день только под утро, следовательно, может позвонить, как уже ни раз случалось. Так что не до отдыха.
Велев принести себе чаю покрепче и бутербродов, Никита Сергеевич уселся за стол, сцепил на зеленом сукне руки и уставился в дальний угол, куда не достигал свет настольной лампы.
Итак, что же произошло?
А произошло то, что в Северо-Кавказском крае Люшков, руководимый Ежовым, перетряхивает весь партийно-административный аппарат, то есть убирает тех, кто дорвался до власти в результате революции и гражданской войны, красного террора и коллективизации. Никита Сергеевич очень хорошо знал этих людей, потому что сам был одним из них, потому что сам, неожиданно для себя и многих, менее чем за шесть лет шагнул так высоко, что если глянуть вниз, то голова начинает кружиться и хочется себя ущипнуть: не сон ли это? Давно ли он ехал в Москву с одним единственным желанием — набраться знаний управления промышленностью, занять место директора какого-нибудь завода и как можно дальше стоять от политики, потому что в этой политике сам черт ногу сломит, а ходов-выходов все-таки не сыщет. Но дело повернулось таким необъяснимым образом, что понесло его в гору, заставляя прыгать через ступеньку и две, и вот допрыгался: уже два года, как возглавляет — шутка сказать! — столицу СССР Москву и область с прилегающими к ней землями бывших Тверской, Тульской, Рязанской и Калужской губерний — целое, можно сказать, государство! Но самое главное! — на глазах самого Сталина. Тут любое слово, любой шаг влево-вправо — и, не успеешь оглянуться, а тебя уже волокут под микитки в подвалы Лубянки. Тут одними криками в поддержку Сталина и его подчас непредсказуемых решений не обойдешься. Тут надо не просто работать, а землю рыть носом и всем, чем угодно, лишь бы доказать, что ты необходим именно для практического воплощения мудрых решений мудрейшего вождя.
Итак, Сталин решил избавиться от бюрократии, но в первую голову — от «тонкого слоя революционеров», который оказался неспособным и неготовым к практической работе. А почему неспособным? Потому, что образовался на ненависти к прошлым российским порядкам, возник на волне разрушения этих порядков. А почему неготовым? Потому что полагал, что ему никаких других знаний и умения не нужно, что все образуется само собой на основе марксизма-ленинизма, стоит лишь отдать рабочим заводы, фабрики и прочие средства производства, а крестьянам — землю. Но и с крестьянами вышло значительно сложнее, чем предполагалось, и с рабочими не просто: работать за голую идею желающих оказалось не так уж много. Да и то сказать: и есть хотят все, и в революцию пошли именно потому, что надеялись избавиться от нищеты и бесправия. А чтобы там «весь мир насилия» и тому подобное, так этого хотели немногие и как раз те, кто ничего, кроме разрушения, не умеет. Вот, собственно говоря, и вся революция, как ты ее ни крути и ни наряжай в заморские платья. И вся политика тоже. Потому что жизнь есть жизнь. А она требует строительства новых заводов, фабрик, электростанций, организации колхозов-совхозов… А еще метро, канал Москва-Волга, генеральный план реконструкции столицы, развертывание народного образования, медицинского обслуживания, повышение жизненного уровня… И Сталин требует того же, то есть умения все это проектировать и строить, всем этим руководить. Но ему этого мало, ему надо, чтобы все руководители знали марксизм-ленинизм как «Отче наш еже еси на небеси…» И даже лучше. А когда учить этот марксизм-ленинизм? От текучки продохнуть некогда. Жена вон — и та вздыхает: придешь домой, похватаешь чего-ничего и в постель, едва коснулся головой подушки — уже спишь. Какая тут, прости господи, любовь! Одни мечтания.
Впрочем, как выяснилось, и работать, так сказать, по-сталински, тоже надо с умом. Взять хотя бы того же Кагановича. Уж он-то перед Сталиным разве что ужом не извивался. Нет, мало, оказывается, извиваться. Надо еще и помнить, кто ты, а кто Сталин. А вот про это-то Лазарь Моисеевич как раз и забыл, решив, что, раз он второе лицо в партии и тянет всю практическую работу как в орготделе ЦК, так и в Москве и ее окрестностях, то без него Сталин уже и не Сталин вовсе, а так себе — не пришей кобыле хвост. Возгордился Лазарь Моисеич, занесся. Сталина поминает все реже, себя выпячивает все чаще. Мог бы, например, отказаться от того, чтобы его именем назвали Московское метро, проявить настойчивость в присуждении ему имени Сталина. Нет, не проявил. Значит, считал, что наиболее достоин. А в результате лишился должности главы Москвы и окрестностей, стал наркомом желдортранса. Тоже, конечно, должность важнейшая, но — не то. И может так случиться, что и Лазарь Моисеича пристегнут к троцкистам и врагам народа. А заодно и товарища Хрущева, который еще недавно за Кагановичем тянулся, как нитка за иголкой. Попробуй угадай, что у Сталина на уме. Мозги свихнешь, а не угадаешь. Отсюда вывод…
А какой такой вывод отсюда? Надо самому начинать Большую чистку в масштабах Москвы и области. Чтобы Сталин понял, что товарищ Хрущев на его стороне не только теоретически, но и практически. И при этом не снижать темпов строительства жилья, реконструкции площадей и улиц, прокладки новых линий метрополитена, развития производства товаров народного потребления… О боже! Если продолжать список всего, что нужно, и не завтра, а сегодня, сейчас, то и слов не хватит.
Тихо задребезжал звонок прямой связи с Кремлем.
Никита Сергеевич дернулся, высвобождаясь из плена полудремы-полубодрствования, схватил трубку.
— Хрущев слушает, товарищ Сталин.
— Не спишь, Микита?
— Разве уснешь, товарищ Сталин!
— Ну, раз не спишь, приезжай в Кремль — поужинаем вместе.
Никита Сергеевич еще какое-то время держал возле уха трубку, в которой раздавались короткие гудки. Затем положил ее на рычажки аппарата, нажал кнопку дежурного, велел подать к подъезду машину.
Еще через пять минут машина неслась по улице Горького, разгоняя ревом клаксонов зазевавшихся прохожих. А у Никиты Сергеевича мысли текли уже в другую сторону: поужинать со Сталиным — такое приглашение он получает впервые, следовательно… следовательно, он до сих пор все делал так, как того хотел Сталин — и это главное. Все остальное — ерунда. В том числе и марксизм-ленинизм. То есть не то чтобы окончательная ерунда, а в том смысле, что он, Хрущев, как бывший рабочий, чует этот марксизм-ленинизм своим нутром, пролетарским, так сказать, инстинктом. В таком духе, стало быть, надо действовать и дальше.
* * *
Бессонный страж своего хозяина Поскребышев молча кивнул головой в сторону двери кабинета, и Никита Сергеевич, внутренне пребывая в нервном напряжении до дрожи в руках, стремительно пересек «предбанник», где сидели два майора кремлевской охраны, вошел в кабинет Сталина и, увидев открытую дверь, о существовании которой знал от Кагановича, направился к ней, мысленно моля господа, чтобы все обошлось благополучно.
В небольшой комнате стоял длинный стол, вокруг которого сгрудилось с десяток человек. От волнения Никита Сергеевич в первые мгновения не мог даже разглядеть, кто именно. Зато Сталина разглядел сразу же. Тот стоял в дальнем конце стола, что-то накладывал на тарелку большой ложкой.
— А вот и Микита, — произнес Сталин, положив ложку в большое блюдо. — Ты что же, Микита, удрал и даже не попрощался с товарищами? Нехорошо. За это тебе штрафную. Налей ему Лазарь, — велел он Кагановичу, стоящему рядом.
За столом загудели. И в голове у Никиты Сергеевича несколько прояснилось. Он разглядел тут и Молотова, и Ворошилова, и Калинина, и Ежова, и всех остальных сталинских апостолов. Только он, Хрущев, среди них один был всего лишь членом ЦК, да и то неполных два года, то есть к апостолам не принадлежал.
— Ну, чего ты там замер, Микита? — донесся до Хрущева насмешливый голос Сталина. — Иди сюда, вот здесь твое место. Подвинься, Лазарь, — велел Сталин Кагановичу и даже слегка толкнул его в плечо.
Никита Сергеевич встал рядом со Сталиным, принял от Кагановича бокал с водкой. Оглядел стол. Все ели и, казалось, не обращали на него никакого внимания.
— Так, друзья! — воскликнул Каганович. — Давайте наполним наши бокалы и выпьем…
— И выпьем за здоровье нашего гостя Микиты Хрущева, — перебил Кагановича Сталин. — Выпьем за то, чтобы он превратил Москву в город-сад, лучшую столицу мира. Чтобы при этом не зазнавался и не хвастался достижениями, а всегда помнил о недостатках. Потому что недостатки вечны, а достижения временны и относительны. Твое здоровье, Микита! — И Сталин коснулся его бокала своим, с красным вином.
Тонкий звон стекла божественной музыкой отозвался в голове Никиты Сергеевича.
— Спасибо, товарищ Сталин, за добрые пожелания, — ответил он. — Я постараюсь сделать все, чтобы оправдать ваше доверие и ваши пожелания. Со своей стороны…
— Со своей стороны — это потом, — остановил Хрущева Сталин движением руки. — А то мы будем не столько пить и есть, сколько раскланиваться то в одну, то в другую сторону. Пей, Микита! И ни о чем не думай.
Никита Сергеевич выпил водку одним духом, взял с тарелки соленый огурец, захрустел. Он вдруг почувствовал себя вполне своим человеком среди этих людей, которых еще недавно считал небожителями, до которых, представлялось, ему так далеко, что и не видно. Оказывается, это лишь одно воображение, что стоит лишь… Но здоровый инстинкт подсказал Никите Сергеевичу, что слишком высоко в своих мыслях возноситься опасно — и он тут же опустился на грешную землю, взял чистую тарелку и стал накладывать на нее все без разбору, чутко вслушиваясь в голоса сотрапезников.
Конец пятой книги
Май 2000 — ноябрь 2017 гг.

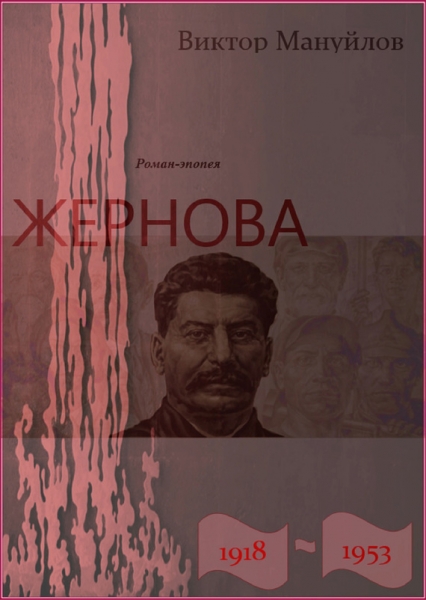
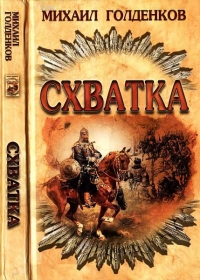


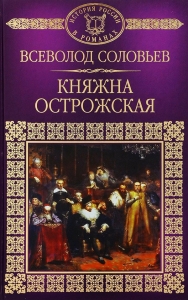



Комментарии к книге «Жернова. 1918–1953. Старая гвардия», Виктор Васильевич Мануйлов
Всего 0 комментариев