Ганнибал-Победитель
БАСНЯ О ПТИЦАХ
I
И одной луны не минуло с тех пор, как мы выступили из Нового Карфагена[1]. Нам предстоит дерзкий и рискованный поход по пути, проделанному в своё время богом Мелькартом, поход в Рим, где Мелькарт[2] — о чём известно всему свету — умертвил великана Какуса, это отвратительное огнедышащее чудовище, которое обитало в пещере на Авентине. Так, во всяком случае, рассказывает наш ратный жрец Богус.
В пылу выступления, посреди всеобщего восторга и предвкушения подвигов, я едва ли понимал, что оставляю позади. Ведь меня тоже захватило это грандиозное событие, я тоже странным образом заразился мечтами о том, какое будущее уготовано нам, карфагенянам, в их числе и мне. Лишь позже я начал постигать, что утратил в этом походе я, и только я.
Что бы там ни говорили про Новый Карфаген, несомненно одно (и я подтверждаю это собственным свидетельством): выступив в поход, мы отвернулись от цивилизованного мира, в котором можно вести утончённый и весьма приятный образ жизни и в котором сам я мог посвящать покойные утренние часы своим увлечениям, как делал это и в Александрии, и дома, в Карфагене, и в Сиракузах, и в греческих городах помельче. До Афин — этой жемчужины вселенной, пусть даже обнищавшей и утратившей былое могущество, но неизменно прихорашивающейся и изобретательно игривой, этого средоточия легкомыслия и ветрености, этой живописной ярмарки лжи, от самой коварной до самой невинной, а потому не менее болтливой, чем прежде, — в общем, до Афин я так и не добрался. Зато мне впервые в жизни довелось столкнуться с тяготами военного похода и муштры, не говоря уже о диких нравах и неотёсанной речи в придачу («Отец, посмотри, как я здорово со всем справляюсь!» — не раз думал я, хотя прекрасно понимал, что отец никогда не оценит моего участия в сей кампании и тем более не захочет похвалить меня).
Своё мнение обо всём этом я скоро научился держать при себе.
Ибо что происходило в противном случае?
Меня высмеивали и забрасывали колкостями, в мою сторону строили гримасы, меня жгли косыми взглядами, сыпавшимися на моё не чаявшее подвоха лицо, словно искры из открытого очага. А ведь я сидел в кругу людей, с которыми мне предстояло бок о бок жить и совместно трудиться на протяжении неизмеримо долгого времени. (Ганнибал, вероятно, рассчитывает мгновенно покончить с Римом, но кто знает, сколько продлится наш поход). Мы завтракали, и веки почти у всех были ещё набрякшие ото сна. Мои намёки на то, какие невзгоды и трудности я испытал накануне, в некотором смысле рассеяли остатки сонливости, устранили вялость, развязали отяжелевшие языки.
Иными словами, все были рады накинуться на новичка, не знакомого ни с их жаргоном, ни с правилами, принятыми в среде этих писцов, которые вообще-то составляли одно из привилегированных сословий, куда входили люди наиболее образованные и просвещённые, почему им доверялось составление самых сложных и деликатных бумаг.
Заводилой был, по обыкновению, архигрек Силен[3] (который родился на Сицилии, когда та ещё была под властью Карфагена!). Сначала он пофыркивал, затем начал громогласно хохотать и прямо-таки ржать от удовольствия и, наконец, стал сморкаться, крайне неаппетитно зажимая то одну, то другую ноздрю своего малоблагообразного «насуса». Само собой разумеется, остальные последовали его примеру. Эти мерзопакостные звуки, внезапно ударившие мне в уши и на некоторое время заключившие меня в кольцо неблагозвучия, не поддаются передаче: используй я для этого «аххх-ви-укх», «аххх-ву-икх» или выдумай какие-либо другие гортанные сочетания, они ничего вам не скажут. К счастью, убыток всегда можно обратить в прибыток — как в случае с роем пчёл, от которых, сверх всякого ожидания, можно получить пользу в виде мёда. Так что берегитесь, достопочтенные так называемые коллеги!
Приведу маленький пример их более членораздельного выражения недоброжелательства.
— Будь любезен, дорогой Йадамилк, прибереги своё нытье до тех пор, пока мы не переправимся через Ибер[4]. Там оно будет куда более к месту! Там у тебя могут появиться реальные поводы, тогда как здесь жалобы звучат оскорбительно и для нашего слуха, и для слуха богов. Где-нибудь на той стороне реки тебя могут ждать поистине жестокие испытания. Вообразим самое страшное для тебя. Скажем, на твои великолепные одежды попадёт несколько капель крови, или твоей нежной щеки коснётся пролетевшая мимо стрела, или ты увидишь вдалеке наёмника, которому размозжило голову точным попаданием камня из пращи. Но здесь, посреди умиротворённой нами Испании, твоё поведение смехотворно, здесь ты, Йадамилк, рядишься в тогу шута. А такая простота, сам знаешь, хуже чего...
«Это вы натягиваете на меня такую тогу! — хотелось возопить мне. — Ведь на слова, которые я говорю безо всякой задней мысли, можно отозваться тысячью разных способов: не заметить их и промолчать, дать ненавязчивый совет или добродушно толкнуть в бок... — Вы сами делаете из меня шута горохового!» (Как я понял впоследствии, это было наблюдение, исполненное глубокого философского смысла). Но я прикусывал язык.
Насмешки же продолжали лавиной сыпаться на меня.
— Ты извини, что мы смеёмся, — говорили мне, — на самом деле нам бы всем надо плакать, тебе с нами, а нам с тобой. Ой-ой-ой, какие уже пошли жалобы! Одним богам известно, что за стенания ожидают нас впереди, в глухих отрогах Пиренеев или на переправе через Родан[5]... Ходят слухи, эта река не только широка, как озеро, но и бурлива, она ревёт и скачет на стремнинах. Может, прикажешь нам стать няньками и вытирать твои сопли? А уж как тебя затрясёт перед Альпами, вершины которых не только достают до небес, но и проникают дальше (или выше), в Эмпирей... Если, конечно, ты ещё будешь с нами, Йадамилк. Так-то вот, наш сверхпривилегированный придворный поэт и походный бард!
Эдакие речи (и хуже того) приходилось мне выслушивать, и в конце концов голова у меня пошла кругом, ибо такая враждебность и глумление вызвали озлобленность, которая поколебала, а затем и вовсе свела на нет почти всегда мне присущее спокойное доверие к людям. Тело моё окаменело, сведённое судорогой; глаза зажмурились. Язык распух и застрял во рту. Между двумя ударами сердца нежная утренняя заря сменилась лижущими небосвод языками закатного пожара, со следующим ударом землю придавило мраком ночи.
Когда я снова распахнул взгляд, то уже не смотрел ни на кого. Проглотив обиду и язык, я зарёкся когда-либо отвечать на обращённые ко мне слова.
Но действительно ли я проглотил сей позор? Нет, говорю я, что явствует и из изложенного далее. После непродолжительного головокружения, преобразившего мой зрительный мир, я изобрёл способ развлечь себя этими воспоминаниями и заложил дорого вставшее мне брюзжание товарищей в просторную урну памяти, как мать семейства закладывает мёд в горшок и потуже завязывает его. Зачем? Разумеется, чтобы освободить себя от мыслей об этих диких пчёлах и насладиться их атакой на меня при более удобном случае. Я ведь прекрасно знал им цену. Сим особям предстояло всю жизнь оставаться теми же взаимозаменяемыми и довольно неинтересными писцами, которыми они были сейчас. Я же собирался со временем приобрести иную осанку, иную манеру держаться: мои жесты и голос должны были выражать непререкаемую властность в сочетании с раскрепощающим чувством гармонии. Всё, что теперь таилось в глубине меня, должно было когда-нибудь выйти наружу и явить себя окружающим.
В основе моей потаённой жизни лежит тихий, сдержанный восторг. Остальные чувства приходят и уходят, хотя кое-какие из них иногда всерьёз захватывают меня (нет нужды перечислять эту ерунду, все эти мимолётные настроения, посещающие любого смертного), тем не менее они быстро отступают, глядишь — их и след простыл. Сидя между своими насмешниками, я вдруг услышал неторопливые, размеренные взмахи широких крыльев, которые как бы заслонили меня и от чужих нападок, и от собственного уныния. Со мной снова был Орёл Ганнибал Барка[6]. Я вздохнул полной грудью и почувствовал, что напряжение спало. Вскоре я уже погрузился в воспоминания о том, как Ганнибал впервые принял этот образ и стал для меня Орлом. Я могу, ни минуты не колеблясь, точно назвать время и место сей фантастической метаморфозы.
Произошла она после первой беседы наедине с нашим юным Главнокомандующим (мы с ним почти ровесники... впрочем, я на пару лет моложе). Моё самое сильное впечатление? Упомяну лишь самое главное — исходивший от Ганнибала вызов. Сначала этот вызов едва не сокрушил меня, потом я всё-таки обрёл внутреннее равновесие и даже увидел для себя будущее вне рамок войны и связанной с ней неопределённости. Речь Ганнибала течёт, словно поток света, и наделена способностью открывать новые пути. Слова его преображают обстоятельства и раскрывают вам глаза на новый мир, который вполне можно создать усилием воли.
Ганнибал не просто могущественный гражданин Карфагенской республики, каким его пытаются представить многие у нас на родине. Здесь, в Испании, он государь и предводитель, царь и вождь. Природа наградила его взглядом и харизмой героя. Благодаря разнообразным талантам и проницательному уму он может со знанием дела предсказывать грядущие события, иными словами, он истинный прорицатель. Ганнибал наделён гением, и его охраняют добрые гении, поэтому он не станет ни греческим тираном, ни восточным деспотом, ни тем более обожествляемым монархом, преемником Александра Македонского. Что, собственно, представляют собой все эти диадохи[7] и эпигоны, а также их многочисленные отпрыски? Ничего — они столь же взаимозаменяемы, как те, кто составляет писарскую братию. Век бы не видать миру их самих и их преступных деяний!
Ганнибал уникален и невозместим. Вот почему ни его поступки, ни сам необъяснимый факт его существования среди нас не могут привести к созданию каких-либо институтов. Нет-нет, никаких придворных церемониалов, тайных камарилий[8], разросшейся бюрократии, всё более исступлённой гонки по лабиринту параграфов, один из которых исключает действие другого (чему способствует зараза разночтений и хитроумных толкований), пока донельзя распространившиеся взятки не подавят своей весомостью крючкотворов, которым останется лишь соглашаться и кивать, соглашаться и кивать.
По своим убеждениям и целям Ганнибал (да позволено мне будет так выразиться) — антимонарх. Его оригинальность нельзя продемонстрировать с помощью знаков различия и прочих атрибутов. Подобно еврейскому Яхве, любое его изображение будет обманчивым, даже бессмысленным. Ибо Ганнибал воздействует на образ мыслей, на политическую и культурную обстановку, на то, что люди ценят в жизни. Он даёт формально свободным мужам подлинную свободу действия. Когда минует война, это станет ясно всему известному миру. Я же пришёл к такому выводу во время своего приватного разговора с Ганнибалом.
Я тогда осмелился похвалить его за недавнее распоряжение, согласно которому из храма бога Мелькарта было вынесено изваяние Александра: много лет назад этого идола с детской непосредственностью заказал и определил для него место сам Ганнибал. Теперь статую поставили среди других фигур в Ганнибаловых садах, так что якобы имевшего божественное происхождение македонянина спустили к нам, прочим смертным. Конечно, он был весьма неординарным человеком... кто же спорит? Но не правильнее ли было бы раз и навсегда заклеймить его проклятием? Ведь Александр разрушил Тир[9], откуда ведём своё происхождение мы, карфагеняне, и вдобавок развратил восточных финикиян, за что мы по сей день думаем о них с чувством стыда и неизбывной горечи.
Здесь я сумел сделать удачную вставку. У меня в запасе оказалась правдивая история, которой Ганнибал никогда раньше не слышал.
Дело обстояло следующим образом: Александр собирался снять осаду Тира и мчаться дальше, за добычей полегче. Македонянин был разгневан и расстроен тем, сколько времени ему пришлось потерять из-за упорства защитников города. Он уже решил снова выступить в поход, однако накануне выступления ему приснился сатир, танцующий на щите, в котором Александр узнал свой собственный. Эта выходка потрясла полководца до глубины души. А надо сказать, что Александр всегда окружал себя сонмом предсказателей. Один из них, по имени Аристандр, и прославился изящным толкованием сего сна. Лично я предпочитаю называть этого толкователя Словоборцем. Ведь что он сделал? Он просто-напросто разорвал греческое слово «сатирос», и у него получилась фраза: «Са тирос». А «Са Тирос» означает не что иное, как «Тир — твой». Пророчество сбылось. Тир покорился Александру.
Ганнибал слушал меня с горящим взором. Я имел успех. Мне пела хвалу сама Жизнь. Засим я покинул дворец в Новом Карфагене, равного которому по величественности, красоте и роскоши не было даже в старом. Жизнь не умолкала. Мне не оставалось ничего иного, как застыть на месте и прислушаться к её словам.
«Ты, Йадамилк, проживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым. Через тебя произойдут великие дела».
Вот как сладостно пела Жизнь.
«Что же такое произойдёт через меня?» — с улыбкой вопрошаю я и, словно за руку, хватаюсь за дольчатый лист с ближайшего куста и слышу откуда-то сбоку, позади себя, звенящее журчание невидимого источника или фонтана.
«Что? Ты и сам знаешь, Йадамилк, — пением отзывается Жизнь. — Ты уже давно нашёл ответ на этот вопрос и только что подтвердил его, представ перед царственным ликом Ганнибала».
«Когда я слушал Ганнибала, я вдруг словно уменьшился, сделался ему по колено; потом я как будто обратился в малую птаху».
«Значит, ты мог бы взлететь к его устам, к его прекрасным бровям... мог бы сесть ему на макушку», — насмешливым голосом продолжает петь Жизнь.
«Я переживу Ганнибала, — шепчу я. — Стану, старшим из нас двоих. Мне предстоит увидеть конец его трудов, а не ему — моих».
В этот миг мной овладевает желание оглянуться на возвышающиеся сзади фасады дворца, суровая внушительность которых призвана отпугивать тех, кому нет входа в эти палаты, а великолепие и роскошь — умерять раздражительность и скептицизм посторонних: дескать, у нас, карфагенян, хватит сил остаться тут на вечные времена, так что смотрите, иберы[10], и мотайте на ус, что мы, «скаредные купцы», можем позволить себе, когда нам этого хочется.
Но я не оборачиваюсь. Я стою в саду, вдыхая аромат гвоздик и слыша журчание воды. Я счастлив. Жизнь по-прежнему поёт мне осанну.
«Ты не заносчив, Йадамилк. И это хорошо. Продолжай в том же духе. Тебе, как и многим другим, идёт такая скромность. Впрочем, тебе особенно. Тебя ожидают великие свершения, но в своё время, когда и ты и мир созреете для этого».
«В самом деле?» — переспрашиваю я поющую Жизнь.
И тут взгляд мой почему-то тянется ввысь, к небу. Там, в жалящей сердцевине зенитного солнца, я различаю Ганнибала Барку в виде Орла.
«Благодаря ему, но выше и независимо от него?» — тихонечко спрашиваю я.
«Ты и сам знаешь. Сам знаешь», — поёт Жизнь, и шелестенье её голоса напоминает шорох пронёсшихся мимо птиц.
А ведь считается, что из всех живых существ один только Орёл в состоянии смотреть прямо на солнце. Сейчас он, распростёрши крылья, парит под Гелиосом[11]. Его несут ветры, поющие осанну великому надзирателю. Сам же он широкими кругами направляет свой полёт в вышину. Взор Орла устремлён вниз. Его тянет всё выше и выше, чтобы охватить как можно больше из лежащего под ним. Орла отличает щедрость натуры. Про него говорят, что он оставляет другим птицам половину добычи, причём делает это, даже если не насытился сам.
А здесь, за моей спиной, журчат прозрачные воды источника. Я сжимаю лист с куста, как сжимают руку женщины. Может, это бог держит за руку мечтательного смертного? Во всяком случае, я стою счастливый и растроганный.
«Почему бы не предположить, что ты держишь в руке перо?» — поёт Жизнь.
«Чем всё это обернётся?» — напрямик спрашиваю я.
«И это тебе уже известно».
«Как известно?» — еле слышно шепчу я.
«Конечно, известно. Подумай сам. Что переживёт всех вождей и героев, все народные собрания, партии и олигархии?»
«Карфаген!» — мгновенно откликаюсь я.
«Ты уверен?»
«Нет! — так же быстро, но более честно отвечаю я. — Мы, финикияне, возводим свои города на островах или на мысах, выпирающих в море и создающих для нас удобные гавани. Но города эти раз за разом уничтожаются завистниками. С незапамятных времён мы переселяемся с острова на остров и с мыса на мыс, отстраиваем на голых скалах свои города, отправляем в море суда и принимаемся за торговлю».
«Значит, из всей современной действительности тебя вовсе не обязательно переживёт именно Карфаген, — наставляет меня Жизнь. — Ты не раз и от отца, и от других людей слышал рассказы об опустошительных набегах греков и римлян, о восстаниях наёмников, которые едва не привели Карфаген к гибели[12]. Тогда ещё был жив наш спаситель, отец Ганнибала, Гамилькар Барка. Однако он не захватил власть и не стал карфагенским тираном. Нашим государством никогда ещё не правил тиран».
«Но если ты имеешь в виду не Карфаген, то это наш язык, — чуть слышно шепчу я. — В этих переселениях с острова на остров, с мыса на мыс, с одного голого утёса на другой, в этих переходах из одной эры в другую выжил только наш язык».
«Ты уже не впервые говоришь это, — поёт Жизнь, делясь своей мудростью. — Обладатели власти — люди случайные и взаимозаменяемые. Если они на некоторое время отказываются от своей выгоды, ничего страшного. А вот если народ откажется от своего языка, он будет уже другим народом. При смене языка меняется человеческая сущность. Без языка от тебя остаётся один обрубок. Так уж повелось, что родной язык сеется нам в ухо каждое мгновение нашей жизни, а потом наступает пора жатвы. И жатва эта идёт беспрерывно и растягивается на долгие годы. Здесь никогда не бывает неурожая. Питательный хлеб языка даётся постоянно и каждому. Так что ты прав: в веках останется твой финикийский язык».
«Мой язык!» — возглашаю я, отпуская листок.
Всё это время я следил взглядом за небесным полётом Орла. Теперь он превратился в крохотную точку. Ещё немного — и он растворится для меня в лазури. Тогда я продолжу свой путь. А пока Жизнь продолжает петь мне:
«Ты доживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым. Имя твоё будет звучать с детских уст через много лет после твоей смерти. Люди будут распевать твои песни».
Вскоре я убедился, как мне необходимо присутствие Орла. В виде неспешных взмахов крыльев у меня за спиной. В виде точки, за которую можно зацепиться взглядом, когда Орёл забирается уж слишком высоко. В виде беспощадного выговора. В виде охранителя, когда я мог причинить себе вред. В виде мудреца, который делится своими знаниями и суждениями. Какой это дерзкий и расточительный хищник! Он бросает мне кусок за куском, будь то внезапные озарения или тщательно продуманные планы. Стоит ему повести гордо посаженной головой, и тон разговора меняется.
«Бери, Йадамилк, не стесняйся. Думай над тем, что я сказал. Не торопись, переваривай всё тихо и спокойно», — клекочет он и, взмыв ввысь, растворяется в доступной лишь ему, но неведомой, невидимой и неохватной для меня сфере. Его взору открыт весь известный мир, а его приказы движут огромными армиями.
«Считайте это иносказанием», — промямлил однажды в моём присутствии обшарпанный учитель мудрости в ответ на сомнения, высказанные компанией юнцов. Дело было в Александрии, и ответ его вызвал взрывы хохота, которые докатились даже до залов Мусейона[13]. «Что тут такого смешного?» — помнится, удивился я про себя. Конечно, я понял, что старый болтун оскандалился. В нужный момент (кайро́с) ему следовало бы заменить слабое, мало подходящее слово более уместным. Слово (логос) заразительно. От этой заразы рождаются суждения и мнения (доксай). Но сей разгильдяй не был силён в риторике. В трудную минуту он заменил неудачное слово ещё менее подходящим.
Но почему все смеялись так дружно и едва ли не добродушно, почему этот день стал днём смеха для целой Александрии? Я не переставал задаваться сим вопросом, пока не уяснил для себя, что об Александрии и обо всём, что в ней происходит, можно сказать теми же словами: «Считайте это иносказанием, друзья мои!» Везде и повсюду люди заменяют менее уместное слово на (по их разумению) более подходящее. Однако на самом деле все слова неуместны.
Это относится и к усыпальнице Александра Великого, и к астрологическим выкрутасам в Серапионе, храме Сераписа[14]. Это относится к дворцу, театру, ипподрому, гаваням и к колоссальной библиотеке, в которой каждый новый главный библиотекарь собирался заново систематизировать её полмиллиона книжных свитков[15]. Это же касается и чуда света на острове Фарос[16] — воздвигнутого из мрамора маяка высотой в восемь этажей. О неудачности этого сооружения вопиют сами бесценные мраморные глыбы: «Что нам здесь делать? Простой камень был бы тут куда уместнее». Это касается всех районов Александрии и пригородов со всеми его жителями: греками, евреями, арабами, сирийцами, персами, египтянами (которых всегда упоминают последними), а также саранчой налетевшими туда космополитическими искателями приключений и алкателями знаний. А в первую и в последнюю голову это относится к династии Птолемеев, начиная с её основателя, который взял себе прозвание Сотер[17], а отца которого звали Лаг, что значит Заяц (нечего сказать, подходящее имечко для воина!), и далее через Филадельфа, который женился на своей сестре Арсиное (этой блеваке, которую непрестанно рвало), и через Евергета к Филопатору[18]. Всем им хочется крикнуть: «Считайте это иносказанием, только не говорите слов! Они сплошь неподходящие!»
Фактически люди смеялись над собой, над плодами собственного труда, над богатствами, которые рекой стекались сюда и утекали отсюда, над чем-то окутывавшим сей город, разнося о нём такую молву, что туда устремлялся каждый сектант в надежде получить достаточно высокую трибуну или, по крайней мере, взобраться на котурны[19], которые хотя бы самую малость приподняли его над толпой. Несмотря на присущий многим фанатизм — а может быть, именно благодаря ему, — всё это перемалывалось, перемешивалось и превращалось в оказывающуюся всем по зубам кашу, и народ смеялся: «Какая чудовищная парабола!»
Любой карфагенянин от такого только гневно побагровел бы.
Насколько иначе обстоят дела в Карфагене да и в наших испанских владениях, насколько всё-таки исключителен Ганнибал! Конечно, его реплики иногда царапают меня не хуже орлиных когтей, а его вразумления несколькими взмахами хищных крыльев загоняют меня в угол, где я ещё долго пытаюсь отдышаться. Самое странное, что после каждой такой взбучки я ловлю себя на том, что к моим плечам словно приросли крылья Орла, теперь я всё чаще облекаю его мнения собственными словами и оборотами. Мы срастаемся — Царь и я, Главнокомандующий и его «придворный поэт и штаб-бард», как предпочитает аттестовать меня гиперкичливый грек Силен, имея в виду мою роль в Испании и здесь, в воинском строю.
Вообще-то я попал в Испанию по личной просьбе Ганнибала и с нерешительного согласия отца. Ганнибал заинтересовался мной благодаря моему скромному вкладу в пунийскую литературу. Говорят, ему на глаза попался некий опус, которого он никак не ожидал от карфагенянина, и его обуяли изумление и восторг. Мне по сей день неведомо, какой из своих непритязательных работ я обязан этим восхищением. Тем не менее я прибыл сюда, исполненный желаний и планов. Мне многое хотелось предпринять, в частности, открыть свободную Академию или Ликей[20], основать независимую библиотеку.
Интеллектуальная жизнь финикиян всегда и везде протекает под эгидой храмов. О том, чтобы получить одобрение своих радикальных идей в Карфагене, нечего было и думать. В нашей же варварской колонии, в недавно возникшем Новом Карфагене, добиться согласия было бы вполне возможно, если только убедить в пользе дела Ганнибала. Рассуждая так, я с самого начала принялся ратовать за свои прожекты, подробно расписывая их и упирая на то, что задуманное мною не может уместиться ни в цирюльне, ни в винном подвальчике, ни в дальнем углу какого-нибудь не самого людного торжища. Мои свободные учреждения должны были получить одобрение высших инстанций — хотя бы неофициальное. Карфагенянам тоже пора было получить возможность на время покидать храмовые дворы и вдали от Аргуновых очей[21] и тысячепарных ушей священнослужителей приобщаться к чистому знанию, учиться новому мышлению, овладевать началами (архе) диалога, а также искусством спора с предъявлением доказательств — осваивать всё это и многое другое, причём не таясь, при свете дня и полной поддержке имперских властей. В этом случае никто не мог бы заподозрить меня в посягательстве на нашу веру, в распространении безбожия, в сеянии вражды и смуты среди нас, карфагенян.
И влиятельные люди действительно прислушивались ко мне, за исключением, пожалуй, Ганнибалова братца Гасдрубала[22]. Но всё это осталось позади. Разразилась война, и мы идём походом на Рим. Ганнибал повелел мне — «Архомай» («Я повелеваю»), сказал он по-гречески — присоединиться к своему сонму писцов, и я подчинился его приказу как ради Орла, так и ради собственного будущего. О том, что Ганнибал и вправду навострил уши и с большим интересом слушал мои речи ещё в Новом Карфагене, а затем, утешая меня, в Гадесе[23], я расскажу в своё время.
Теперь же пришла пора снять с полки памяти что-то другое, а именно горшочек с верещаньем и зубовным скрежетом недругов, дабы поближе познакомить вас с тем, как они портили мне по утрам аппетит.
— У тебя двое рабов, которые моют твои ноги и следят за твоим платьем, — наперебой говорят мои коллеги. — Твоя поклажа тяготит не твой хребет, а их. Мул у тебя тоже идёт тяжело гружённый. Что ж ты не чуешь неладное? Неужели не понимаешь, что в любую минуту может прийти служитель из солдат, который потрясёт твой личный обоз, так что у тебя не останется ничего из того, что ты наскрёб себе в дорогу?
Вот какие речи мне приходилось выслушивать, какие глупости терпеть. Словно Орёл уже не определил мои привилегии. Словно сам я не нёс те ценности, которые невозможно доверить рукам и спинам рабов. Ничего, уговаривал я себя, моё время ещё придёт, то время, когда вам останется только заткнуться. Час спустя меня больше всего удивляло одно: нападая на меня, никто из этой братии не принимал во внимание и даже словно не понимал, насколько я отличаюсь от них по рангу. Кто из богов внушил им эту забывчивость? Или её следует отнести на счёт уравниловки, которая возникает на войне внутри каждой боевой единицы? По-моему, такая уравниловка объясняется смятением перед лицом опасности, когда кажется, что твоя жизнь в руках соратника: стоит ему протянуть руку, и ты спасён, если же он не подаст помощи, твоя жизнь пропадёт ни за грош. Не на этой ли морали зиждется армия? Невидимые узы такой взаимозависимости, несомненно, уравнивают и объединяют.
Но мои, так называемые, коллеги не солдаты, а писцы!
Не успел я описать все эти досадные глупости, как уже жалею, что занёс их на бумагу. Вернее, слово «глупости» пускай остаётся, оно тут с умыслом. Но жалеть я всё-таки жалею. Про раскаяние я тоже пишу с умыслом — пусть здесь стоит, что я раскаиваюсь. Со мной так часто бывает: о том, что меня ждёт в будущем, я рассуждаю вдохновенно и с тайной надеждой, тогда как повседневное и пошлое раздражает меня и вызывает зуд по всему телу. Когда впереди маячит совершенно определённая великая цель, трудно быть снисходительным ко всяким глупостям и пустякам, которые, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни, приходится шаг за шагом преодолевать, а иногда просто-напросто изничтожать на месте.
Помнится, сходная история приключилась со мной, когда я поступил учиться на писца. Зачем было прилежно корпеть над всеми этими словами и буквами? Почему нельзя было сразу дать мне писать связные тексты? Я ведь делал это дома с младых ногтей. И почему было не дозволить мне доступ к нашим древнейшим сокровищам — священным стихам и молитвам, героическим эпосам, повествующим о деяниях богов и подвигах праотцев? Я ведь был начитан и наслышан, я многое запомнил и мог в любую минуту повторить — слово в слово, с соответствующим выражением и преклонив голову перед своим ничтожным наставником, а если бы потребовалось, и перед самим Великим когеном, первосвященником.
Такая моя планида. Из-за слабости характера, которая преследует меня уже много лет, я не всегда заставляю умолкнуть того, кто подло язвит на мой счёт. Я лишь записываю неприятные инциденты. Это входит в ритуал... как и раскаяние, которое иногда жжёт не хуже высокого пламени костра.
II
Самое значительное из событий последнего времени — это, конечно, полный сбор колоссального войска Ганнибала Барки, которое теперь раскинулось биваком вдоль правого берега Ибера. Только до этой реки, но не далее на север, позволено продвигаться нашей армии согласно оспариваемому договору с Римом[24]. Я почти уверен, что сам Ганнибал уже переправился на тот берег и во главе отборного корпуса проник вглубь страны. Где ему ещё быть, если его нет среди предводителей войска? Хотя время и поджимает, всем ратникам дан отдых на один день и две ночи. Только благодаря отсутствию Ганнибала я могу посвятить сегодняшний день личным запискам — я давно собирался засесть за них, но до сих пор у меня не было для этого ни времени, ни даже сил.
Поскольку мне необходимо уединение, я посылаю своего верного слугу принести завтрак прямо в палатку. В ожидании его я откладываю в сторону последний вариант столь благоприятного для нашего похода сна, который приснился Ганнибалу в Онуссе[25] и который, передаваясь из уст в уста, распространился по всей рати и внушил уверенность военачальникам, вызвал восхищение у командиров рангом пониже и ликование у склонной к сентиментальности солдатской массе (которая, естественно, лишь частично поняла его), но, увы, породил конфликты и препирательства из-за деталей среди нас, писцов, которым приказано было подготовить письменный текст провидческого сна по меньшей мере на трёх языках.
Ганнибалов сон примечателен не только своим величием и смелостью. Бесподобно выдержана линия сюжета, отчего слушателей просто бросает в жар. Каждый эпизод, что называется, попадает в яблочко. Как неоднократно указывал наш сицилианский грек Силен, ничего подобного не отыскать во всех снах «Анабасиса»[26]. Вероятно, нравоучительные сны, которые составляют репертуар Ксенофонта, годились для подбадривания или сдерживания десятитысячного отряда греков[27], спасавшихся от персов и беспощадных горцев, однако они и в подмётки не годятся сну Ганнибала. Ни один из них не обладает такой насыщенностью и плотностью. Что Ганнибалов сон имеет власть над умами людей — будь то тонкие стратеги или суеверные наёмники, тщеславные карьеристы или доверчивые крестьяне, — уже доказано.
Ганнибал в очередной раз выступает в виде харизматического лидера, способного объединять и исцелять, увлекать и восхищать. Общеизвестно и общепризнано, что Баловень Судьбы бывает открыт для непредсказуемых озарений. Когда же он, в свою очередь, делится тем, что ему открылось, с другими, происходят удивительные вещи. Карфагену безумно повезло, что у него есть предводитель, обладающий столь ценными качествами. Обратите внимание, что Ганнибаловы духовные озарения — если не называть их правильным именем, то есть прорицания (возможно, здесь я противоречу сам себе, но мною движет стремление к правде, а похоже, действительность именно такова), — исходят от человека, тщательно рассчитывающего свои действия. Он весьма деловит и с беспримерной проницательностью взвешивает все возможные варианты. Прибавьте к этому его карфагенское наследие, которое выступает у Ганнибала в крайне изысканной форме: умение заключать выгодные сделки, практичность и способность распознать действительно необходимое, умение приспособиться к людям самого разного склада — чтобы одержать над ними верх или убрать их с пути, приручить или отвергнуть их, проявить к ним щедрость или прижимистость.
Так что Ганнибал мгновенно сообразил, что онусский сон таит в себе политические и военные последствия, выходящие далеко за рамки воздействия на разношёрстную солдатню, которую он набрал и которую теперь вынужден любыми способами сплачивать. Это своё тайное оружие Ганнибал и поручил заботам нас, писцов: мы должны отшлифовать текст, придав ему наивозможную чёткость и ясность. Мы ведь не зря числимся филологами и стилистами. Разумеется, Ганнибал наметил общий план и направления работы, которыми мы и руководствуемся, однако пока что нам не удалось угодить Главнокомандующему и он отказывается официально признать хотя бы один из вариантов.
Между тем нас, писцов, охватывает всё большее недовольство, раздражительность и злость друг на друга. Мы не можем договориться ни о каком важном повороте сюжета в онусском сне.
Конечно, сам Ганнибал знает, чего добивается. Рим должен быть опозорен и примерно устрашён. Грекам нужно польстить, чтобы они соблазнились тоже вступить в войну. Карфагенян хорошо бы поддержать, а заодно вдолбить им мысль о традиционном величии их государства. Об испанских властителях можно в данном случае особо не думать: они уже и так привлечены к хитроумной системе кнута и пряника и через определённые промежутки времени то воспаряют к небесам, то начинают стонать и плакать. Что касается кельтов, которым отводится важная роль в нашей борьбе против Рима, они не придают ни малейшего значения чужим снам, предпочитая собственные видения (чтобы вызвать у себя по-настоящему содержательные сны, они ведут себя самым странным образом, с одной стороны, умерщвляя плоть, с другой — объедаясь), так что их варварским языком нам заниматься не приходится, хотя в нашем распоряжении было бы много прекрасных толковников.
Вчера вечером я получил дополнительное задание — из уст самого Ганнибала. Он не впервые почтил своим присутствием мою палатку, однако впервые потребовал от меня сохранения полной тайны, притом что речь шла всего лишь о его престарелой матери. Ей тоже нужно было послать версию онусского сна. Само собой разумеется, я поклялся блюсти строжайшую секретность, хотя смысл сего распоряжения оставался для меня загадкой. Разве Анна Барка не стоит в стороне от так называемой политики? Разве она в настоящее время не лишена какого-либо влияния и власти? Однако Ганнибал, по неведомым мне причинам, настаивал на своём. Мне ни при каких обстоятельствах нельзя было никому на свете показывать вариант текста, который повелел мне изготовить Ганнибал. Чем он должен был отличаться? В нём следовало непременно упомянуть богиню Танит (ту, что называют «ликом Баала»), во всяком случае, её символы[28], ибо символы Танит Главнокомандующий точно видел во сне.
— Ясно? — требовательно спросил он, желая убедиться в том, что его поняли.
— Разумеется, — не совсем искренне ответствовал я.
— Завтра утром я взгляну на то, что у тебя получилось.
Итак, нужно было срочно приниматься за дело. Всё сказанное Ганнибалом я, конечно, запомнил от слова до слова, но чего он добивается, не уразумел. И вообще — как прикажете сочинять, если ещё нет одобренной версии?
Ганнибал с улыбкой смотрел на меня.
— Мой юный карфагенский Пиндар[29], — к своему удивлению, услышал я. — Скажи, с тобой было так же, как с ним: налетел рой диких пчёл и пролил мёд на уста спящего отрока?
— Терпеть не могу Пиндара! — вспылил я.
— Терпеть не можешь? Ай-ай-ай! Почему? Потому что он иногда говорит, что посылает свои песни, «как финикийский груз через седую соль»[30]?
— Ерунда! — фыркаю я. — Меня бесит другое: в одном месте он молит Зевса о том, чтобы боевой клич карфагенян и этрусков[31] навсегда смолк после поражений при Гимере и Кумах[32].
— При Гимере и Кумах? — едва ли не шепчет Ганнибал. — Это было давно. Очень давно.
Пристально уставившись на меня, он внезапно делает шаг назад. В его взоре я читаю нежность и в то же время жёсткость.
— Не ты ли с месяц назад утверждал, что Карфагену сейчас больше всего нужен мир?
— Это было прежде, чем Рим объявил войну.
— А теперь? Что больше всего нужно Карфагену?
— Победа! — мгновенно откликнулся я.
— Верно.
Больше Ганнибал не произнёс ни слова. Только на несколько мгновений, уже спиной ко мне, задержался у распахнутого полога палатки. Я заметил, как он выпрямился и подтянулся, — вылитый Орёл. По телу его пробежала лёгкая дрожь. Вот он собрался с силами и взмыл вверх. Я поспешил на его место у входа в палатку — и увидел, как Главнокомандующий ускакал во тьму с несколькими приближёнными. А может, охранниками? Меня охватила тоска, томление, кручина, которые словно тянули куда-то прочь... или ввысь... Подумать только, что творят с человеком грусть и печаль! Но куда они меня тянут? Туда, где нет противоречий, к покою и миру, к борьбе за просвещение и свободу дискуссий? На эти вопросы невозможно ответить. Надо послушно садиться за работу над онусским сном.
И вот наступает утро без Ганнибала. Я узнаю, что в стане его нет. Значит, он не прочтёт прямо с утра новый вариант текста, в который я аккуратно вписал полумесяц Танит (за бушевавшей во сне непогодой Ганнибал ясно видит сияющий в вышине символ богини). Хотя я просидел вчера допоздна, я просыпаюсь слишком рано и чувствую себя не в своей тарелке.
Ночью мне явился бог или демон: я тоже видел весьма знаменательный сон.
Пусть мой сон не имеет политического значения, зато он интересен своей глубиной, ибо наглядно демонстрирует положение, сложившееся в нашей культуре. Сон потрясает меня, как потряс бы любого карфагенянина, который, подобно мне, гордится своим греческим образованием, гордится и в то же время полон сомнений: что мы выиграли, чего добились сим приобретением? Мы (под этим «мы» я подразумеваю влиятельную элиту) страдаем от неуверенности и колебаний. Мы раздвоены и обеспокоены своей принадлежностью к меньшинству. Нас терзает сопротивление, с которым приходится сталкиваться. Мы подозреваем, что тут есть наша вина, что мы прилагаем недостаточно усилий, что нам не хватает убедительности. К тому же мы живём и жизнью большинства, а это накладывает свой отпечаток. Как и все прочие, мы связаны с финикийским Древом Жизни, и нам делается страшно, когда по этому Древу начинают бежать трещины, когда они доходят до корней, где ощущаем боль мы, но не все прочие. Нас охватывает ужас от сознания того, что ждёт человека без корней. Нет ничего легче, чем предвидеть его судьбу: беззащитность, опустошённость, утрата всякого смысла жизни — за исключением того, что придаёт ей мучительное наказание, например, когда из человека делают козла отпущения, когда его выбрасывают в виде падали, которой охотники приманивают крупного зверя.
Вот что ожидает человека, отказавшегося от наследия, пожелавшего отсечь собственные корни. «Тебя ждёт смерть на чужбине с вывороченными корнями» — так (по дошедшим до меня слухам) предрёк Ганнибалу один старик. В теперешнем, потрясённом, состоянии мне мерещится ещё худшая судьба: ещё большие беды, а затем и гибель для всех.
Карфагеняне, как и все западные финикияне, сумели сохранить свою самобытность, а вместе с ней и могущество, прежде всего благодаря тому, что никогда не отрекались от прошлого. Они никогда не отказывались ни от своей религии, которая существовала изначально, ни от своего языка, который они получили в дар от богов, — даже та горсточка финикиян, что была заброшена на западные мысы, где оказалась в окружении если не враждебных, то, по крайней мере, недружелюбных народов, говоривших на звериных языках и придерживавшихся фантастических обычаев и нравов. Основная масса карфагенян не даёт соблазнить себя эллинскими изысками. Не препятствуя нашему увлечению ими, она, однако, пристально следит за нами. И позорный столп уже установлен и дожидается нас.
«Ты говоришь, греческий стал вселенским языком? Как же, как же! Не от тебя первого слышу, но наш ответ будет прежний: враки, самые натуральные враки. Что это за глупости — вселенский язык? Можно подумать, кругом не звучат тысячи других языков, хотя бы тот же отвратный, топорный язык римлян, который не понимают даже италийские народы».
Карфагеняне подвергают распятию своих неудачников, тех, кому не повезло и кто пал духом. Нас клеймят перед всем честным народом, а потом, облачённых в изысканно-скромные греческие одежды, подвешивают на дереве и прибивают гвоздями.
Слова, которые я сейчас вывожу, смущают мой разум, что вполне естественно. Тем не менее рука моя не дрожит, ибо я готов написать и не такое.
«Дорогие карфагеняне, проклятые торгаши! — продолжаю я. — Возлюбленный Ганнибал, мой Орёл и моя Путеводная Звезда! И ты, достопочтенный отец, ты, незадачливый негоциант и барышник! Настала пора вам всем узнать, к чему стремится моя душа. Я хочу превзойти язык, который сейчас пользуется самой высокой репутацией во всей ойкумене. Я хочу сделать финикийский общепризнанным языком, чтобы когда-нибудь о нём говорили: с точки зрения карфагенян, это вселенский язык. И конечно же я хочу поднять престиж всего, о чём напрочь забыли вы, купцы и противники наступательных действий: престиж поэзии, науки, образованности».
«Слушайте и дивитесь! — твёрдой рукой вывожу я. — Я, Йадамилк, собираюсь создать эпос, который превзойдёт поэмы Гомера. Весь мир истосковался по первоклассной эпике. Куда бы ни заносила меня судьба, везде я ощущал эту свербящую тоску по широкому эпическому полотну. В Александрии уже устали от лирики и обрубленных эпиллиев, «маленьких эпосов». Там, словно вшей, вычёсывают из головы Каллимаха[33] и иже с ним, отплёвываются от набившего оскомину тезиса «мега библион мега какой» («большая книга — большое зло»). Все ждут не дождутся спокойного повествовательного тона с глубоким дыханием и сменой картин».
«Послушайте меня, карфагеняне, ибо я говорю правду!» — заострёнными финикийскими буквами пишу я.
Но дело в том, что я даже Ганнибалу не рассказал бы о своём намерении, о своём тщательно оберегаемом, хранимом в глубокой тайне замысле.
Неудивительно, что я проснулся испуганный и в то же время осмелевший, со стеснённой грудью и в то же время с ощущением свободы. Палатка стала мне тесна, и я вышел посмотреть на Ибер, на саму реку и её берега, вообще вышел оглядеться по сторонам. Поначалу я шёл крадучись, хотя и надеялся, что писарская братия ещё почивает. Мне нужно было разобраться в своих отношениях с этим и иным миром. Ни в Карфагене, ни тем более в Новом Карфагене я бы никогда не поверил в возможность того, что со мной происходит сейчас: что меня, новоиспечённого эллина Йадамилка, вдруг настигнет усвоенная в детстве вера предков, которая станет искушать меня, а я буду не только сам искать её, но ещё призывать к овладению мною.
Конечно, чисто внешне я никогда не порывал с карфагенской религией. Однако суть дела не в этом: во время похода я ежедневно получаю подтверждение того, насколько верно наши отцы представляли себе людей и всё мироздание. Вот почему мне кажутся столь убедительными все эти толки о могуществе и воле богов, об их требованиях к нам и способности то одаривать, то обманывать, а также о презрительном равнодушии, которое они иногда выказывают к людям.
Так что, стоя на берегу реки, я размышляю именно о мироздании, о бытии и небытии.
Сегодня я видел во сне мать. Я услышал звавший меня голос, а потом меня ввели в помещение, заполненное тёплой и ласковой, как бывает вода, тьмой. Кромешной тьмой.
«Открой глаза, дружок! Под каждым камнем скрывается скорпион», — предупредил меня голос.
Но мне не было видно ни камней, ни чего-либо другого. В моём сне поначалу вообще не было картинок. Я только всем телом ощущал замкнутость в некоем ненадёжном пространстве со сгущающимся воздухом.
«Выведите меня отсюда!» — резко потребовал я.
На это не последовало никакой реакции, только опасность задохнуться стала ещё реальнее. Внезапно холодный голос провозгласил:
«А вот и твоя мать».
Передо мной действительно очутилось некое видение, и одновременно спёртый воздух вокруг стал постепенно разжижаться. Я увидел освещённую факелами птичью маску, огромную, с искажёнными чертами, ярко-красным клювом и горящими глазами. Маска миражем висела в воздухе и свободно передвигалась в нём. Её отвратительный клюв пытался достать меня. Она бросала в мою сторону взгляды то завлекающие, то неприязненные. Маска раскачивалась взад-вперёд и вправо-влево, и её телодвижения, которые с самого начала казались двусмысленными, вскоре стали, как ни неприятно мне об этом писать, явно фривольными.
«Уберите это путало! — прокричал я. — Я уже насмотрелся на него!»
«Зачем же я буду убирать твою собственную мать?» — отозвался голос.
«Не болтай ерунду!» — рявкнул я.
«Раз ты осмеливаешься так разговаривать с нами, значит, у тебя хватит храбрости познакомиться с тем, кого я хотел бы тебе представить».
Из голубоватой дымки на меня выплыл верховный жрец: безбородый, с гладковыбритой головой в островерхой шапке. Его прозрачное одеяние было сверху донизу отделано вышивкой с символами Танит. На руках он нёс маленького мальчика. Неужели сейчас начнётся МОЛК — жертвенное всесожжение ребёнка? И что это? Кажется, у младенца мои черты...
Я заорал так, что этот похожий на вой волка безумный вопль резанул мой собственный слух.
«Неужели страшно?» — засмеялся голос.
Видение жреца с жертвой пропало. Вместо них появился гигантский голубь, который лежал на спине со сложенными впереди огромными крыльями, прикрывавшими живот и лапы. Голубь лежал не шелохнувшись, словно высеченный из мрамора.
«Поздоровайся со своей матушкой», — призвал голос.
«Нет и ещё раз нет!» — воскликнул я, отрицая какое-либо сходство птицы с мамой.
«Тем не менее это она», — настаивал голос, обладатель которого по-прежнему оставался мне невидим.
И тут я вдруг разглядел торчащие из-под голубиных крыльев женские лодыжки и ступни. Они шевелились и были вовсе не мраморные. Пав во сне ниц, я взмолился:
«Мама, скажи хоть слово, я сделаю всё, что ты велишь».
Голубка не издала ни звука, голос же приказал мне внимательно следить за тем, что будет дальше.
Я с трепетом поднял взгляд. Если бы я мог сам распоряжаться собой, я бы отвернулся, спрятался куда-нибудь, исчез. Но неумолимая сила заставила меня обратить лицо в определённом направлении. Как бы иначе я решился смотреть на это? Чудовищная голубка поднялась (женские ноги обнажились до самого паха), воздела крылья над головой и встряхнулась, взбив свой наряд из перьев. Затем, словно этого было мало, крылья голубки отделились от туловища, причём, на что я сразу обратил внимание, отделились без посторонней помощи, и, взмыв в воздух, унеслись прочь. Не успело закончиться сие действо, как бесчисленные перья и пух голубки высвободились из своих гнёзд и закружились по помещению. Ошалев от плотного вихря пуха и перьев, я стал звать маму, стал отчаянно выкрикивать все уважительные и ласковые имена, которыми я в своё время наделил её.
«Мамочка, где ты?» — рыдал я, не в силах успокоиться, пока страшные видения не начали гаснуть и в конце концов не потухли совсем.
Я всё ещё пребывал во сне, в окружении всё той же тёплой, едва ли не нежной на ощупь тьмы. И вдруг из этой непроглядной пустой тьмы к моему истерзанному страданием лицу протянулись мамины руки. Какая отрада! Я сразу узнал эти осторожные поглаживания, эти трогательные ласки, которые могли быть только мамины, и ничьи больше. Воспоминания, сохранённые моим телом, мгновенно подсказали мне, кто это, а сердце подтвердило: «Да, это мама, я помню её именно такой, моя кожа не может ошибаться!»
Итак, в то утро я пошёл на берег Ибера. Мои рабы спали рядом с палаткой. Писарская братия тоже ещё не проснулась. Неужели вся Ганнибалова рать была погружена в сон? Естественно, нет. Посреди этого неохватного полчища там и сям виднелись люди, проснувшиеся и принявшиеся за дела. Но они не привлекали моего внимания. Я и так знал, чем они могут заниматься. В моём теперешнем настроении ни конкретные люди, ни мои собственные дела не возбуждали у меня любопытства. Я искал абстракций, искал единства Бытия и Небытия. Мы, карфагеняне, вообще смотрим на человека с отвращением, считаем его созданием крайне несовершенным, всего лишь орудием или инструментом. Если этот инструмент плох, если он не годится для работы, его нужно уничтожить, причём уничтожить с позором.
Передо мной воды реки. Я отмечаю слабое течение вдали, рассматриваю растительность по берегам. Постепенно до меня доходит, что я уже тысячу раз видел за время похода подобную картину: какой-то деформированный пейзаж, мир, к которому применимы слова «больной» и «страждущий», земля, изобилующая уродствами. Всё какое-то недоделанное, недоношенное, местность, в которой ландшафт за ландшафтом силился превратиться во что-то стоящее, но так и не сумел, попытки вырваться из глубин наталкиваются на злобное противодействие сверху, любое стремление к чему-либо плодотворному сводится на нет сопротивлением, и из всего этого получается один пшик или нагромождение безобразий. Похоже, ни растения, ни животные здесь не взывали к богам или не нашли времени, дабы прислушаться к ним; также и горы, и река, и неухоженные земли... Похоже, ни одно существо, рождённое от женщины, тоже не получило благословения богов — либо даже не просило о нём через жертвенные дары.
Карфагенянин никогда не найдёт общего языка с миром. Человек и мир не могут прийти к согласию. Да и что хорошего может выйти из соединения одного несовершенства с другим? Отвращение, которое испытывает карфагенянин и к себе, и к миру, преодолимо лишь на время, и то с помощью богов: если человек слышит своего бога и получает от него благословение. Ничто земное не обладает жизненной силой, присущей богам. Животворная энергия, которая у греков называется «энергейа» и «динамис», есть только у Верховных Супругов, а уже от них — у всех божеств-помощников, которые передают сию силу и энергию дальше, тем, кто удостоился благодати.
А кого именно удостоили благодати — это отнюдь не тайна за семью печатями, её не нужно искать, бубня заклинания или выводя с помощью абстрактной логики. Посмотрите на Баркидов, взгляните на Ганнибала! По ним с первого мгновения видно, что они благословенны. Удостоенное благодати не скрывается при свете дня, оно видимо и ощутимо каждому. Возьмём, к примеру, то, чего карфагеняне добились и продолжают добиваться здесь, в Испании, и сравним с тем, чем обладают сами иберы. Разница огромна. Эта широкая, разбившаяся на рукава река, эти заболоченные земли... — что сделали с ними люди? Ничего. Проклятие богов распространяется вширь, как река, и вглубь, как заболоченность.
Где здесь собирают смоквы, где тут апельсины, где гранаты, в кожуре которых, словно в шкатулке с драгоценностями, переливаются рубиновые зёрна? Благорасположение богов настолько очевидно, что само бросается в глаза. То же и с проклятием. Чего бы оно ни коснулось, это сразу видно.
Все знают Карфаген. Но давайте ещё раз подойдём к нему с моря и полюбуемся на сей богато разукрашенный корабль, бросивший якорь у берегов обширной Африки! Восхитимся благосостоянием, красотой и изобилием, которые отличают карфагенские края. Особого внимания заслуживает Прекрасный мыс, ибо на нём сосредоточено множество чудесных даров и созданий рук человеческих. Юные карфагеняне не представляют себе, как там всё выглядело, прежде чем наши отцы решили кусочек за кусочком и область за областью скупать землю. В своих стихах я не раз прославлял жизнь в этой благословенной стране (тогда как политическим болтунам из Бирсы[34] здорово доставалось в моих эпиграммах).
Торговля, мореплавание и земледелие — вот три звена золотой цепи, которые с годами становились всё массивнее и тяжелее. Мне ничего не стоило обратить в благоухание резкий запах навоза, смешанного с виноградным суслом, поскольку такое удобрение идёт на пользу лозам, винограду и в конечном счёте вину. Фруктовые сады и плантации олив, луга с тучными стадами и полновесные колосья злаков в долинах Баграда[35] — всё это я превозношу в своих стихах. Давайте вместе погуляем среди цветущего миндаля. Пройдёмся к финиковым пальмам, а там по-обезьяньи вскарабкаемся по длинным верёвкам наверх и поможем опылить соцветия. Постоим утром распахнутые, как наши лоджии, и примем в свои объятия солоноватый морской бриз, а когда наступит полдневная жара, давайте поднимемся в башню, чтобы насладиться там прохладой. Приоткроем одежды. Пусть веющий с гор ветер будет нашим опахалом.
О, мужчины Хаммамата и Сукры, неужели вы смеете роптать? О, женщины Сахэля и Джерида, принесите жертвы богам, и чрева ваши станут влажными, как долины Бизация, и сушь пустыни минует вас, так что мужья ваши, приблизившись, ощутят сладостный аромат оазиса.
«Я знаю, чего я сейчас хочу больше всего на свете», — бормочу я себе под нос и, полуослепший от слёз, принимаюсь писать дальше. «Да иссохнут воды Ибера и перед нами, точно в иссякшем источнике, обнажится его дно...»
«Я знаю, что я когда-нибудь скажу Ганнибалу!» — гневно думаю я.
Возможно, в глазах других Карфагену вообще не стать великой и могущественной державой. В моих же глазах он обретёт подлинное величие, лишь когда боги снова благословят нашу поэзию. Каталоги кораблей, договоры, торговые соглашения, перечни жертв, пакты, приказы, отчёты о полученном приплоде, прививке черенков и скрещивании — всего этого мало. Недостаточно также молитв и гимнов былых эпох, священных мифов или словесного мусора великих теологов — необходимо что-то более серьёзное. Нам нужны новые песни, нужна новая, плодотворная поэзия, нужен непревзойдённый эпос.
И я хочу написать его. «Я сочиню великий эпос, славящий твои победы, Ганнибал!» — думаю я, и сердце моё переполняется радостью с привкусом горечи.
«Ганнибал-Победитель, Ганнибал-Победитель», — шёпотом повторяют мои губы.
III
И тут кто-то окликает меня. Я быстрым шагом, словно ничего не слыша, иду дальше. Однако вскоре меня нагоняет спартанец Сосил[36], которого Ганнибал иногда зовёт Геласином, то есть Хохотуном, потому что он почти никогда не смеётся.
— Ты уже был у шлюх? — запыхавшись, произносит он у меня за спиной.
Я резко останавливаюсь.
— У кого? У шлюх? Что ты хочешь сказать?
— Что, если ты ещё не был, поторопись. Когда на каждую девку по двести человек, сам понимаешь, сомнительное удовольствие попасть к ним под конец.
— Я совершенно не понимаю, о чём ты.
— Разве ты не слышал, что всех потаскух выталкивают взашей? «Досюда, но не дальше», — заявил Рим о нас, ратниках. «Досюда, но не дальше», — заявляет теперь Ганнибал об обозе со шлюхами и вообще обо всех особах женского полу. «Торговать севернее Ибера вы можете, — говорит Рим. — Но если вы переправите на другой берег солдат, на вас обрушатся наши легионы». — «Насиловать местных на левом берегу — пожалуйста, — говорит Ганнибал. — Но если вы попытаетесь протащить туда хоть одну женщину отсюда, будьте готовы к жёстким дисциплинарным мерам, а то и к трибуналу».
— Ты ещё долго собираешься нести эту белиберду? — угрожающе спрашиваю я.
— Нет, ты только посмотри. Да не на меня, а вон туда, дай я тебе покажу один из наших борделей. Вон он, милый Йадамилк. Нет-нет, подвинься в сторону и чуть поверни голову, тогда увидишь.
Схватив за плечи, он силой поворотил меня туда, куда указывал.
— Не задерживай. Сейчас же отпусти!
— Взгляни на очередь. Эти выстроившиеся в ожидании воители напоминают свиней, которые набили себе пасти желудями, но ещё не проглотили их. И настроение у всех препоганое. Удовольствие ведь кратковременно, тогда как похоть гложет постоянно. Они это знают и тем не менее ни свет ни заря приволоклись сюда. Простым солдатам приходится стоять в очереди, чтобы трахнуть девку, и я полагаю, в соседнем борделе творится то же самое. К вечеру над растянувшимся на много стадий лагерем повиснет душный запах спермы и влагалищных соков. Воздух уже теперь начинает пропитываться ими, а ты, Йадамилк, ещё не побывал там!
— Придурок! От твоих слов разит гнилью!
— Может, у тебя в эфебах раб? Парнишка, который ведёт мула с поклажей, очень даже ничего, а?
— Твои речи пристали не спартанцу, а какой-нибудь аттической сволочи.
— Ты, Йадамилк, куда менее учен, чем тебе кажется. Мы, спартанцы, не гнушаемся никем...
— Перестань меня задерживать. Недосуг с тобой болтать, да и руки чешутся...
— Ах, вот как ты себя ублажаешь...
— Чешутся стукнуть тебя! — реву я и наконец-то могу продолжить путь.
Но спартанец, бывший наставник Ганнибала в ратном деле, идёт следом и дышит мне в затылок.
— Подобное распоряжение неслыханно. «Чтоб ни одной бабы, пока не перевалим через Альпы» — так звучит твёрдый приказ Ганнибала. Ни один главнокомандующий в мире не осмеливался требовать такого.
Я пускаюсь бежать, только бы отделаться от докучливого Сосила. И он таки отстаёт. Сейчас, когда я пишу, у меня перед глазами стоят его омерзительные ноздри: две Глубокие алчные дырки, заросшие чёрной щетиной. Раньше я не замечал их. Ещё вчера я относился к спартанцу со скрытой симпатией, вероятно, более всего потому, что он много знает про Ганнибала и охотно рассказывает разные эпизоды из прошлого, так что мне не приходится пытать его. На сей раз он здорово завёл меня, лишив привычной рассудительности, о чём свидетельствует мой вопрос к Силену (именно его, проснувшегося и уже вставшего, я обнаружил у входа в свою палатку):
— Неужели нам предстоит перебираться через Ибер в этом заболоченном месте?
— Кто тебе сказал?
— Никто.
— Да нет, кто-то сказал.
— Кто же?
— Ты сам, — вмазывает мне Силен.
Однако я не успокаиваюсь и спрашиваю дальше:
— Ганнибал небось уже на той стороне?
— Вовсе нет, — отвечает Силен. — Он там, где царица Имилке.
— А она где? — тупо раскрыв рот, интересуюсь я.
— В двух часах отсюда, если верхом.
— То есть обратно, на юг? — продолжаю я выказывать свою тупость.
— Более точный ответ должен включать формулу «К востоку от солнца, к западу от луны». Но почему ты смущён, Йадамилк? Ганнибал пришвартован у тихой пристани, в брачном чертоге, а следующая возможность бросить якорь в сей гавани, видимо, представится не скоро. Видишь ли, брачный чертог...
— Почему тебе нравится повторять это выражение?
— Это цитата из Софокла[37], — с напускным достоинством произносит Силен.
— Едва ли.
— А вот и да! Могу совершенно точно сказать, в какой трагедии упоминаются эти замечательные метафоры — и «тихая пристань», и «брачный чертог».
— В какой же? — невольно спрашиваю я.
— Конечно, в «Антигоне».
— Прямо-таки «конечно»?
— Да.
— Не помню такого.
— А я помню. Удачные находки, крупицы чистого золота, которые может выловить из языкового потока лишь превосходный поэт. К тому же они стали достоянием всех греков: люди подкрепляют их, используя в речи и получая от этого удовольствие. Метафоры освободились от трагедии и перешли ко всем на уста. Такое случается не каждый день! Тебя, милый штаб-бард, можно было бы поздравить, если б ты совершил нечто подобное.
Я покидаю Силена с ощущением, что меня опозорили или, по крайней мере, опозорили бы, задержись я тут на лишнюю секунду. У меня перед глазами возникает Александрия, одна из её гаваней под названием Эвност, что значит «Счастливое возвращение». Я понимаю, что Эвностом моей жизни может стать только завершённый эпос. «Сколько времени он займёт? — вздыхаю я. — И вообще — сумею ли я? Я ведь ниоткуда не получаю поддержки. Напротив, меня со всех сторон бьют и давят. Боги, даруйте несчастному барду волю и горячее желание свершить задуманное!»
Теперь перед моим взором возникаю я сам: я впервые бреду через роскошный квартал Брухейон к знаменитой на весь мир Александрийской библиотеке. Не стану утверждать, что гнев и необоримая ненависть охватили меня в тот же день. Нет, не в тот же день, но они пришли! На меня нахлынули негодование и злоба, которые поселились во мне, отравив мою душу. Даже в эту минуту, когда я держу в руке перо, во мне оживают те мучительные чувства. Мне делается стыдно, стоит только подумать: где в этой колоссальной библиотеке представлены мы, карфагеняне? Где собраны книжные сокровища финикиян? Сколько полок занято папирусами на финикийском языке? Может быть, они хранятся среди редких книг? В помещениях за семью замками, куда не допускают посторонних? Ведь, клянусь всеми богами, рукописи на родном языке карфагенян должны считаться самыми важными и бесценными...
Ничего подобного. Их вообще нет. Ни одной.
Само собой разумеется, я знал об этом ещё до приезда в Александрию. Но однажды сия мысль ударила меня, словно обухом по голове, и я вскипел от гнева. В тот вечер я напился и буянил, переходя из кабака в кабак. Никто не слушал моих негодующих речей. «Мальчишка просто мелет вздор», — сказал один. «Поезжай лучше в Карфаген — выплакаться на груди у мамочки», — посоветовал другой. «Говори по-гречески и молчи на своём родном языке», — раздражённо молвил третий. Конечно, они правильно делали, что не слушали меня: в тот раз я был почти невменяем. Но разве моя идея не была ясна как день? Нет, в Александрии истину предпочитали считать заблуждением и пустым звуком. Она оставалась сокрытой от всех, кроме меня, который пытался показать её.
Друзья притащили меня домой — предварительно наложив повязку на мои уста. Я вёл опасные речи, в частности, политические: о Птолемеях, о том, что их власть зиждется на мародёрстве. Дескать, усыпальницу Александра Великого нужно снести, а его золотой саркофаг отправить туда, где ему самое место, то бишь в Македонию, в Пеллу; бедным египтянам, которых все презирали, в которых не видели людей, в особенности так называемым «царским крестьянам», я советовал поднять мятеж, изгнать деспотического правителя с его придворными, посадить весь этот сброд на их увеселительный корабль, который не в состоянии плавать. «Топите его! Топите! — шумел я. — Очистите Александрию от скверны!» Мы, финикияне, всегда ценили достойную уважения культуру Египта и его древнее государственное устройство. Неужели никому не известно, что новый Птолемей, тот, кого называют Филопатором, вытатуировал себе на теле лист плюща — в честь Диониса — и что весь его двор предаётся вакханалиям?
По-видимому, никто, кроме меня, не замечал изначальных заслуг финикиян перед высокой культурой. Сия истина ускользала от всеобщего внимания. Ни единой фразы, ни единого слова от тех, кто выиграл за счёт нашего изобретения. Разве беда, что наша литература не заняла сколько-нибудь достойного места? Этому горю могли бы помочь настоящее и будущее, могли бы помочь мы сами, современные карфагеняне, — только бы нам выпал шанс, только бы была создана благоприятная культурная обстановка, только бы к нам проявляли больший интерес, большую восприимчивость, только бы на нас снизошла благодать. Недостатки можно устранить, упущения — исправить, раны — залечить. Однако всем на свете необходимо знать нижеследующее (причём без моих напоминаний, будь то мучительно-страстных или выдержанных в спокойном тоне).
Если бы финикияне не изобрели алфавит, не было бы ни книжных свитков, ни библиотек, ни десятков тысяч читателей в разных концах ойкумены; уверяю вас, все рукописи остались бы ненаписанными, а все их мысли — невысказанными, ибо не существовало бы букв. Попробуйте-ка и дальше высекать в камне иероглифы и выжимать на глиняных табличках слоговые клинышки, посмотрим, много ли вы успеете. Разбудите бардов, приманите рапсодов, позовите гистрионов и комедиантов, посадите всех детей за зубрёжку, и вы обнаружите полную невозможность удержать в памяти созданную к сегодняшнему дню колоссальную литературу. Хранящиеся в библиотеках толстые, солидные труды, которые были созданы благодаря нашей звукобуквенной письменности, ни в коем случае не могли бы передаваться изустно. Иными словами, эти труды вообще не могли бы появиться на свет. Вероятно, мы бы ещё не вышли из пелёнок, уповая на богов.
Откуда же тогда всеобщее закоренелое упрямство?
Ганнибал меня понимает. Он сразу понял меня.
— Тут нам, карфагенянам, похвалиться нечем, — признал он в Гадесе. — Мы даже не пробовали, были заняты другим. Но коль скоро в свитках заключено столько красоты и учёности, не следует игнорировать уже созданное. Напротив, нужно овладеть этим богатством.
— И приумножить, и превзойти его.
— Хорошо бы. Ты, конечно, прав, Йадамилк. Желательно было добиться больше того, что мы имеем. Однако не поздно начать и теперь. Время ещё не вышло. Мир поддаётся изменениям. У Рима положение будет похуже нашего, правда? Ты когда-нибудь обнаруживал хоть один свиток с римской рукописью?
— Я не искал. Впрочем, даже если бы искал, то ничего не нашёл бы. О Риме в тех краях вообще не упоминают.
— Вот видишь. Значит, мы не самые плохие. Рим просто-напросто выскочка. По части культуры от него ещё воняет волчицей и козами, так что никакого другого запаха он пока распространять не может.
— Браво! — воскликнул кто-то.
— Чтобы превзойти Афины и Элладу, Карфагену нужен длительный мир, — решился сказать я.
Неужели я и впрямь решился на такое? Или я спутал место и время? Нет, я действительно произнёс эти слова. И именно в тот раз, в Гадесе, в присутствии сыновей из многих аристократических семейств. Да, именно тогда я осмелился высказать мысль о «длительном мире»! Вот как обстоятельно ответил Ганнибал на мою дерзость:
— Или же крепкая власть. Вы, учёные...
— Пожалуйста, не причисляй меня к учёным, — взмолился я. — Я слишком мелкая сошка.
— Вы, учёные, — продолжал между тем Ганнибал, — а также коммерсанты и судовладельцы, ремесленники и крестьяне или, скажем, женщины... никто из вас не понимает сути дела... В этом вы напоминаете мне свиней, которые не подозревают, что их откармливают на убой, и только на убой, а потому уписывают за обе щеки помои и радуются своей покойной и удобной жизни. Мало кто из вас, людей цивильных, сознает, что самые что ни на есть мирные занятия немыслимы без власти, без государства, а зачастую и без насилия. Но рядом с женщиной, которая чешет шерсть у дверей учёного, вроде бы не должен стоять воин с обнажённым мечом?.. И барда как будто не надо защищать копьями? Его оберегает Муза. И ремесленнику, чтобы продолжать свой полезный труд, не требуется вербовать наёмников? Так по привычке любите рассуждать вы, штатские!
Молчал ли я, стоя в кругу своих сверстников рядом с Ганнибалом? Во всяком случае, я отчётливо помню, как он продолжал:
— Мы, карфагеняне, долго платили дань за землю, на которой воздвигнут наш город, даже за Бирсу — холм, на котором он основан. Как бы обернулось дело, если б мы отказались платить? Естественно, ливийцы вторглись бы в Карфаген и уничтожили всех беззащитных граждан — жрецов и учёных, коммерсантов и ремесленников, женщину с её гребнем и крестьянина с его вилами. Народы, рядом с которыми мы жили, всегда проявляли подозрительность, а более отдалённые — угрожали нам. Так что мы ежегодно вносили дань за позволение жить и существовать в городе, который построили для себя собственными руками. Лишь сравнительно недавно мы перестали платить эту дань. На что это указывает? На то, что мы ослабели и обнищали? Отнюдь нет! Напротив, мы были сильны и богаты. Наше воинство охраняло нас и на суше, и на море. Между военными и политиками не было разлада. В Карфагене царило согласие.
— Как теперь, — вставило сразу несколько голосов.
— На протяжении многих веков нас, западных финикиян, сплачивали язык, который мы принесли с востока, и религия, которая по своему происхождению также была восточной, причём древнее Тира и Угарита. Как бы далеко мы ни забрались от своей прародины, мы понимали, что придаёт смысл нашему существованию и поддерживает его. Прежде всего мы воздвигли храм и устроили пантеон, и наш город стал городом Мелькарта. Мы не имели ничего против греков. Мы торговали и с ними — к их удовольствию и собственной выгоде. Даже когда они следом за нами распространились в разные стороны (какая, однако, ручища была одно время у этого великана-сеятеля!) и начали строить города по соседству с нашими факториями, мы и тут не стали чинить им препоны. Греки не воспринимали нас как настоящих варваров, хотя мы были родом с востока и не знали их языка[38]. Не у одного Аристотеля, наставника Александра[39], были веские причины написать: «Карфагеняне не варвары». Но стоило грекам превратиться в пожирателей земель, какими теперь являются римляне, как они начали угрожать нам и обзывать нас ориентальцами и корнем всех зол. Тогда уж мы сплотились всерьёз. Мы даже объединились против общего врага с этрусками. Это давняя история. С тех пор нам и приходится год за годом сражаться, притом не на жизнь, а на смерть, ради жрецов и учёных, ради коммерсантов и матрон.
Ганнибал раскрыл руки, словно предоставляя слово всем желающим.
— Наша борьба с западными греками продолжалась много веков, — произнёс высокий юноша.
— Мы всегда вели оборонительные войны, — подхватил другой.
— Совершенно верно, — согласился Ганнибал. — Война против Рима тоже оборонительная.
— Однако Рим распускает слухи о том, что мы сами выбрали войну.
— Римляне умеют передёргивать факты.
— Им верят одни глупцы.
Сыны знати всё прибавляли и прибавляли реплики, пока их не набралось порядком, хотя сами молодые люди были равнодушны к предмету разговора. Ганнибал нетерпеливо тряхнул головой, которую венчала диадема.
— Я хочу вернуться к тому, с чего начал. Преуспевающим гражданам не стоит обольщаться на собственный счёт, если они не считают власть необходимой предпосылкой для своей деятельности.
— Клянёмся, что мы...
Ганнибал жестом отмёл их возражения.
— Про вас и так всё ясно!
— И наши родители тоже, — добавил одинокий голос.
— Послушайте. Если удобная система письменности служит предпосылкой как для великой, так и для мелкой поэзии, как для значительных учёных трудов, так и для никуда не годных, то и власть обусловливает всю гражданскую жизнь, как повседневные дела, так и великие свершения. Ты мне не веришь, Йадамилк?
— Конечно, верю. Ты давно убедил меня. Ради меня не стоило даже начинать...
— Минуточку. Ты слишком быстро сдаёшься. Естественно, люди более или менее наслышаны, что первый алфавит, сделавший письмо простым и лёгким, изобретён нами. Однако требовать после этого признания следующее — что все крупные труды, заполняющие сегодня библиотеки, не существовали бы без содействия наших предков, — это уже слишком, по крайней мере сегодня. Слова и истина должны быть подкреплены властью. Справедливой властью, Йадамилк. Иначе нами будут помыкать все, кому вздумается.
— Значит, мы сошлись во мнении, что искусство слова способствует возвышению конкретного народа и придаёт ему больший вес в глазах других?
— Интересно, кто призвал тебя сюда, если не я?! — рассмеялся Ганнибал.
И сверкнул зубами. У него совершенно великолепная голова... Как у священного змея. К тому времени Ганнибал ещё не стал в моих глазах Орлом. Теперь я знаю, что его профиль обладает суровой красотой Орла. Прямая спина и величавая посадка головы придают этой птице силу и делают удар клюва смертельным.
— Мы многому научились у греков, — продолжал Ганнибал. — Даже я, не говоря уж о Йадамилке. Однако есть одна вещь, которой они, видимо, научили нас на свою погибель: жадность до земель! Мне нелегко откровенно признаваться в этом, хотя мы, Баркиды, всегда старались умерить сей аппетит. Итак, в своё время карфагеняне перестали платить дань. Это стало возможно благодаря нашей силе и кое-чьей алчности к благородным металлам. Не столько монеты, сколько сила способствовали тому, что мы начали скупать земли за стенами нашего города. Из года в год у нас собиралось всё больше собственной земли. Но я не был бы Баркидом, если бы вдруг принялся убеждать всех: нам надо бросить свои замечательные посадки, свои оливковые рощи и пшеничные поля, своих превосходных лошадей, овец и быков и снова запереться за городскими воротами!
Теперь юные львы[40] молчали, не произносили ни слова и присутствовавшие при разговоре некарфагеняне.
— Между тем положение таково, — повёл речь далее Ганнибал, — что именно плодородные земли, жирный чернозём соблазнили греков напасть на нас. Мы даже — в виде предупреждения — лицезрели их на своих городских стенах! Но им нужен был не город Карфаген, а поля, приносившие обильные урожаи. Мы же, если бы нам того захотелось, могли занять страну ливийцев и нумидийцев от края до края. Однако мы вовсе не стремились к созданию огромного государства, вроде Египта или Персии, а потому не делали таких попыток. А если какая-нибудь карфагенская партия принималась настаивать, на неё всегда находился Баркид. Зато мы создали империю городов, империю, существующую уже много веков. Посмотрите, насколько прочнее наше государство по сравнению с тем, которое построил Александр! Он пронёсся ураганом, бешено летящим вперёд суховеем. Все застонали — и целые страны либо полегли к императорским ногам, либо были обращены в пепел. Так называемая Римская держава будет ещё более недолговечной. Мы ненавидим пожирателей земель. Где бы и как бы они ни объявлялись, они посягают на нашу жизнь. Испания не принадлежит нам. Мы образовали здесь содружество, союз свободных государств. Дальше этого мы никогда не пойдём. Как вам известно, войска выбрали меня своим предводителем, и их выбор утвердил не только Карфаген, но и сход испанских правителей.
Я пишу, а у самого в глубине души шевелится мысль: когда я успею записать всё, что просится на бумагу? И тут я вспоминаю сад в Новом Карфагене, где Жизнь пела мне: «Ты проживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым». Отсюда, с берега Ибера, где стоит лагерем наше войско, достижение этой цели кажется неизмеримо далёким. Сейчас я вовсе не тот, о ком мне поёт Жизнь. Я не ограждён даже от непристойностей Сосила или наглости Силена. (Неужели Софокл действительно пустил в ход столь слащавые выражения? Да ещё где — в «Антигоне»... невероятно!) А совсем недавно я рвал и метал у себя в палатке, обращаясь с грозными словами к Орлу — могучему, но отсутствующему Орлу, который не в состоянии защитить меня от ударов из-за спины и притом лишает возможности испытать прилив сил от размеренных взмахов его крыльев, когда мне это особенно необходимо.
Мы, карфагеняне, совершаем такое же кощунство по отношению к языку, как в своё время совершали по отношению к богам, протягивая для МОЛКа детей рабов — вместо перворождённых младенцев знатных родителей. Тогда это худо обернулось для нас. Солнце в небе померкло. Под покровом тьмы на берег высадился грек Агафокл и стал угрожать нашей империи ратью[41]. Тогдашние карфагеняне плутовали со священными жертвоприношениями, в результате чего были поколеблены основы государства. Мы были бы сметены с лица земли, если б не одумались и не постарались исправить прежние огрехи и легкомыслие. Дабы предотвратить полную катастрофу, наши аристократы отдали на всесожжение пятьсот детей — в виде жертвы Верховным Супругам, Баал-Хаммону и Танит-Пене-Баал.
— Из всех, кого я хорошо знаю, ты, конечно, самый дерзкий. Неужели ты хочешь, чтоб мы снова пожертвовали сотнями младенцев — а может, теперь тебе подавай тысячу?! — с одной-единственной целью: ради славы карфагенской литературы, ради того, чтобы мы своим эпосом переплюнули греков?
Я сглатываю и чувствую, как тяжело стало дышать.
— Отвечай же! — требует Орёл.
— Мы допустили уйму промахов, — выдавливаю я из себя, прежде чем Орёл успевает стукнуть меня жёстким папоротком крыла. — Финикийский язык испорчен. Он пришёл в упадок, выродился. Он заражён таким количеством заимствований от варваров, что теперь страдает самыми разными болезнями. Наши уста порождают уродов и ублюдков. При обсуждении серьёзных тем мы тужимся, точно рабы, когда они пытаются сказать что-то своё. И получается переливание из пустого в порожнее, только и всего. Красноречие не более досягаемо для нас, нежели затонувшая Атлантида.
Когда я дохожу до этого места, меня настигает удар.
— Сколько же жертв ты требуешь принести для удовлетворения твоего эпического тщеславия?
Но я не сдаюсь. Под угрозой ударов когтей и клюва я продолжаю:
— Карфагенская молодёжь тоже ждёт эпоса в высоком штиле, эпоса, который бы дышал покоем, как море, мерно колышущееся волнами и в то же время готовое в любую минуту показать свой норов, море, бьющееся об утёсы и вдребезги разносящее незадачливые суда, — эпоса с подводными течениями, которые проявляют свою силу, выныривая из языкового потока у самой поверхности и подхватывая вас, подобно рукам божества. Уверяю тебя, Ганнибал, что это так, я точно знаю: у молодых людей, принадлежащих к разным средиземноморским народам, одно и то же желание. Лишь очистительное вымачивание в эпосе может закалить и укрепить нас, говорят все, кто требует от поэтов прежде всего подвергнуть язык дублению. Нам нужны не красильни, а дубильни!
Ты, Ганнибал, навязываешь мне скоропись. Слова мои прыгают горными козами и в беспорядке, обвалом скатываются вниз. Будь уверен, что греческие юноши надеются напрасно. Впрочем, ими владеют скорее сомнения, нежели надежды. Выработанные золотым веком убеждения не позволяют им баюкать себя безмятежными упованиями. Устав от Гомера, они действительно говорят о нарождающейся современной эпике. Появилась «Аргонавтика» Аполлония Родосского[42]; поначалу она вызвала пламенные восторги, но затем они потонули в обрушившихся на неё со всех сторон Эгейского моря язвительных насмешках и зубоскальстве. Уверяю тебя, Ганнибал, что в Элладе новых сил на подходе нет. Возможности греческого языка истощены, оригинальность и свежесть испарились с этого чудесного луга, некогда радовавшего глаз необыкновенными цветами. Обновление должно прийти из других краёв. Представь себе, что нас обгонит Рим!
Орёл ударил безжалостно и сильно, теперь уже обоими крылами, которые объяли меня столь навязчиво и крепко, что мне показалось, будто он не только может, но и хочет удушить меня. Я вынужден выпустить из пальцев перо. Рука моя повисает плетью, словно у новопреставившегося. Однако я быстро прихожу в себя.
— Моя аналогия была глупа, — шёпотом признаю я. — Нельзя ставить на одну доску детей рабов и испорченный язык. Естественно, я не хочу, чтобы мы снова в широком масштабе прибегали к МОЛКу — разве что того потребуют боги. С моих губ тоже срываются убогие слова. Вот до чего довело нас смешение языков. Но согласись, что метафора Софокла, если она всё-таки принадлежит ему, малоудачна, тенденциозна и попахивает сентиментальностью. «Тихая пристань» звучит филистерски: крестьянин, ратник, гребец постесняются выговорить таксе. В устах знати это выражение тем более немыслимо. Оно может подойти разве что для пугливых мытарей, которые при малейшем изменении конъюнктуры запирают окна и двери и, стеная, призывают к себе жену и детей, дабы совместно предаться воплям и жалостливым утешениям. Сам ты, Ганнибал, конечно, безупречен. Твои воины это понимают, за что и восхищаются тобой. Они чувствуют, что ты отдаёшь им все свои силы. Как и подобает предводителю, ты женился по политическим соображениям: нужно было задобрить иберов. Говорят, им польстил твой выбор, и в карфагенских верхах наступило спокойствие. Баркиды не приросли за счёт ещё одного могущественного семейства. Что касается твоего решения отослать обоз с потаскухами, тебе подсказал его твой стратегический гений. Гипергрек Силен злословит по этому поводу. Ну и пусть катится отсюда с этой сворой женщин. Здесь от него разит гноищем.
IV
От долгого писания я весь одеревенел и выдохся. Если бы теперь рядом оказался Ганнибал собственной персоной, едва ли я сумел бы говорить с ним достойным образом — живо и смело. Сейчас бы мне подвигаться, причём подвигаться как следует. Скажем, выступить в состязаниях по бегу или, того лучше, борцов. Я бы с удовольствием заставил какого-нибудь увальня потерять опору, чтобы он некоторое время посучил ногами в воздухе, прежде чем я уложу его на лопатки. А уж поставить ногу на лоб побеждённого грека и объявить его своим рабом — тут моей радости не было бы предела. Увы, всё это невозможно, что я прекрасно понимаю.
Чем же заняться? Меня уже начинает беспокоить, что я ничего не знаю о происходящем вне стен палатки, посему я призываю своего верного слугу и хочу послать его разведать обстановку. Он несколько раз заглядывал ко мне и что-то бормотал. Бормочет он и теперь. Однако, поскольку я раньше не давал ему говорить, я снова затыкаю его и выталкиваю прочь со словами:
— Пойди разнюхай, что делается в соседних палатках. Только тихо. Придёшь — расскажешь.
Раб скоро вернулся, и на этот раз я вооружился терпением, чтобы выслушать его.
— Всё как обычно, господин. Мне нечего сказать, кроме того, чего ты не дозволяешь.
— Что ты опять городишь?
— Палатка. Твоя драгоценная палатка, господин.
— Палатка? Что с ней такого?
— Она поставлена неправильно. Против господина строят козни.
Я покатываюсь с хохоту. Слово «козни» в устах моего служителя звучит странно и нереально.
— В таком случае я ничего не заметил, — наконец произношу я. — А ведь должен был бы, потому как много часов просидел над своими записями.
— Я ещё с утра говорил хозяину, как она стоит. Но он каждый раз велел мне молчать.
— Как ты мог говорить мне, если тебе с самого начала велели молчать? Выражайся разумно, тогда я стану тебя слушать. И вообще, я сегодня выходил раньше всех и ничего подозрительного не заметил.
— Мог бы и заметить. Палатка стоит не так, как надо. Тут строят козни. Кто именно и сколько человек, не знаю. Вчера вечером было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь подозрительное. Но мне почудился вдали крик совы и показалось, что он не к добру. А потом в голове у меня всё завертелось, и я ничего не мог с этим поделать, пока не заснул.
— Завертелось?
— Ну да. Звёздное небо было как перевёрнутое. Вот что сделали с хозяином.
— Со мной?! Мы же говорим про палатку!
— Палатка хозяина и сам хозяин едины и суть одно и то же.
— Совсем рехнулся!
Я заливаюсь хохотом пуще прежнего.
На своего слугу я смотрю редко. Во всяком случае, не смотрю ему в глаза — это не положено. Хорошее правило, ведь он мой раб. Он уже давно прислуживает мне, несколько лет сопровождал меня и когда я ездил учиться. В целом я им доволен. Если я заболеваю, он ухаживает за мной и может, скрестив ноги, просидеть рядом целую ночь. Измождённый жаром, я часто заглядываю ему в глаза, иногда даже благодарю и треплю по руке, а бывает, дело доходит до того, что — при всей неуместности подобных действий — я глажу его по плечам, по груди. Застань нас кто-нибудь в это время или подслушай, мне бы посоветовали тотчас продать служителя. Рабов портит благодарность, которую им выражает хозяин, и тем более портят чувственные ласки. Отношения между рабом и господином регулируются крайне просто. Раб обязан признавать безраздельную власть хозяина и понимать, кто его кормит. Господину не нужно признавать ничего о своём рабе, кроме того, что он раб и полностью зависит от хозяина.
Однако я не стал ни прогонять, ни продавать слугу. Он, со своей стороны, никогда не позволял себе никаких вольностей. На меня не раз находили приступы острого одиночества. Отец испытывает ко мне лишь презрение и жалость. Я не гожусь на ту роль, в которой он хотел бы меня видеть. Он сам отрешил меня от жизни, которую считает единственно полноценной для сына знатного человека. Мой раб — негр и принадлежит к племени, которое мы называем: «люди с обожжёнными лицами»[43]. Теперь мне удобно иметь его при себе, ибо он знаком с моими привычками и складом характера. Мне не надо без конца отдавать ему приказания. Достаточно намёка — и он уже знает, чего я хочу.
Этого иссиня-чёрного раба, эту прямоходящую тень, этот кусочек тёмной ночи подарил мне отец: на пути к свету знаний меня должен был сопровождать ночной мрак. Это был один из многочисленных способов отца подчеркнуть своё мнение о сыне. Не скажу, чтобы он сильно задел меня. Я уже привык к тому, как отец словом и делом выражает своё отношение ко мне. Мать подарила мне несколько отрезов пёстрой ткани, из которой раб делает на моей голове тюрбан. Лик служителя светится, подобно звезде, и я стал в избранных случаях называть его этим именем. «Астер (что на нашем языке означает Звезда)! — громко или шёпотом зову я. — Сделай то-то и то-то». И он мгновенно всё исполняет. При звуке ласкательного имени глаза и губы раба исполнены такой же преданности, какую выказывает собака, если держать у неё перед носом кусок мяса.
Коль скоро Ганнибал не объявляется, я, хотя у меня сегодня туго со временем, выскакиваю из палатки посмотреть, что с ней стряслось. Как ни маловразумительны были речи раба, они разволновали меня, и я не сразу обнаруживаю, в чём дело. Меня окликают несколько писцов, то ли чисто по-дружески, то ли с намерением подразнить. Я вздрагиваю, но стараюсь не придавать значения их окрикам. Слышу, слышу, карфагеняне Табнит, Палу и Манги, видите, как я машу вам, показывая, что занят?.. Больше всего я боюсь появления Силена. Мне не хочется быть втянутым в спор о каких-либо подробностях Ганнибалова сна в Онуссе. Не привлекают меня и возможные насмешки Хохотуна над тем, что я, собственно, суечусь около палатки: может, всё-таки соблазнился прелестями борделя и намылился туда? Ох уж эти непритязательные непристойности! При всей их грязности такие остроты удручают прежде всего своей банальностью.
Побегав вокруг своей и других палаток на манер ходулочника (птицы, глядя на которую всегда кажется, будто у неё вот-вот отвалятся ноги), я снова скрываюсь к себе и опускаю полог. В палатке я застываю на месте, словно окаменев.
— Ты видел, как нам переменили звёздное небо, господин?
— Помолчи, — только и могу выговорить я.
Я крайне обеспокоен. Мою палатку поставили совсем не так, как мне положено по рангу. Вчера я не заметил этого из-за усталости, сегодня утром — из-за возбуждения. У меня есть все основания для обиды. Впрочем, я не собираюсь подавать жалобу. Есть способы и получше. Разумеется, я настою на своём праве. Я им этого не спущу. Ведь если не заартачиться, недолго превратиться в игрушку, в объект злых шуток и проказ сначала для более или менее равных, а там и для низших чинов.
Не стану утверждать, будто собственная палатка есть у одного меня, но моя, несомненно, самая дорогая и солидная из всех, что стоят вокруг. Большая часть писцов вынуждена ночевать в общих палатках, по четыре-пять человек в каждой. Так что же произошло с моим шатром? Насколько я понимаю, кто-то из моих так называемых коллег подкупил прислужников, которые, следуя квартирмейстеровой схеме, устанавливают и личные и общие палатки. Несмотря на вскипающий во мне гнев, вернее, на досаду и злобу, я осознаю, насколько опрометчиво было бы обращаться с жалобой к начальству. Не стоит также отвечать на одну взятку другой, более крупной. Нет-нет, от меня им не дождаться ни денежного вознаграждения, ни лукавой лести, ни притворного доброжелательства. При первом же удобном случае наши верные подможники получат от меня разнос, который они не скоро забудут. Нечего лишать меня того, что мне положено. Ганнибал всегда должен знать, где меня найти.
Но как Главнокомандующий сумел обнаружить мою палатку вчера?
Мысль об этом вновь распаляет меня. У него было важное дело. Ганнибал сам понимал его неотложность. Конечно, Анне Барка необходима своя версия онусского сна.
Прервав собственные записи, я принимаюсь искать эту сугубо секретную версию с богиней Танит и, найдя, берусь снова перечитывать текст. Однако вскоре меня отвлекают мрачные раздумья. Прежде всего, я вспоминаю брошенные мимоходом слова Палу: дескать, нас, писцов, по какой-то причине должны перевести на стоянке подальше от штаба, вблизи которого мы обычно по праву располагались. Затем меня одолевают мысли о том, грозит ли моему личному «обозу» чистка, на которую мне уже неоднократно намекали. Вдруг у меня прямо тут, на берегу Ибера, отнимут обоих рабов, а с ними и мула? Вдруг я буду лишён отдельной палатки?
На той стороне реки начинаются серьёзные дела, начинается война. Там нас ждёт противник, который, возможно, уже сидит в засаде; нам будут мять бока и кусать за пятки, пока мы не перевалим через Пиренеи, где есть надежда встретить благорасположение кельтов.
Что я знаю про военные действия? Ничего. Какие жестокие схватки ожидают нас уже завтра? Понятия не имею. У меня никогда не было с Ганнибалом конкретных разговоров о походе, к которому он соблазнил меня присоединиться. Мне неведомы даже ближайшие его планы. Я знаю только, что Ганнибал — или кто-то другой — отодвинул нас, писцов, чуть ли не на задворки лагеря, к самым болотам, раскинувшимся столь широко, что о переправе здесь нечего и думать. Не мудрено, что писцы воспользовались шансом задеть моё самолюбие проказами с палаткой.
«Наши ударные силы явно стоят очень далеко, — размышляю я. — А где высшее командование, штаб? Мы, писцы, должны находиться в пределах досягаемости для него. Или теперь, у порога кровопролития, нас решили перевести в более безопасное место? Что же, связь со штабом будет померживаться через быстроногих гонцов?»
«Как следует понимать все эти знаки? — спрашиваю я себя. — Может, меня поселят в одной палатке с другими? Ну уж нет, лучше буду спать на голой земле! Неужели у меня отнимут собственный угол и возможность спокойной работы, причём теперь, когда подвергаются суровой проверке мои способности к сочинительству, а меня ещё тянет писать своё? Нет, так нельзя, это недопустимо! Мне совершенно необходимо сохранить палатку и хотя бы Астера. Как я иначе буду справляться? Да и мула! Я не забыл, что мне запретили покупать нумидийского коня. Мне, видите ли, положено идти на марше пешком. Но если у меня отнимут всё, мне, по крайней мере, нужен конь. Коня, коня, дам эпос за коня! Нет, не эпос, а эпиллий, — спешу поправиться я. — Конь большего не стоит».
Постепенно я успокаиваюсь. Меня угомонили и умиротворили широкие взмахи могучих крыл, которые я слышу у себя за спиной. Будут слишком притеснять — обращусь к Ганнибалу. Он защитит меня и обеспечит все условия для моей безопасности. Если бы я в своё время обратился к нему, у меня уже был бы резвый скакун. Я ведь прекрасно езжу верхом. Это мне говорили многие, даже отец. А Ганнибал никогда не видел меня на коне. Сам он отличный наездник. Можно сказать, выдающийся. Но это, естественно, никого не удивляет.
Даже здесь, в Испании, никого не удивляют многочисленные таланты Ганнибала. Все воспринимают любое его достижение как должное. То, что ещё минуту назад считалось нереальным, вдруг становится действительностью, в которую верит каждый, — стоит лишь Ганнибалу заикнуться об этом, только что для всех немыслимом. На него смотрят так, словно он сам воплощает в своём лице лучшие стороны существования: блистательные победы, богатую добычу, высокое жалованье, весёлую жизнь, отсутствие смертей, приятное насильничанье и не знаю что ещё. Ветераны ликовали, когда Ганнибала выбрали начальствовать над войском. Для солдат он — Баловень Судьбы. На голове у него сияет шлем, и это сияние зажигает каждого ратника. Стоит Ганнибалу раскрыть рот, как он очаровывает всех. Его харизма, а также любое из его высказываний распространяются по войску, точно сладостный аромат тинктуры[44]. Каждого словно обволакивает фимиамом. И все будто ждут этого. Сначала у них от изумления спирает дыханье, но они делают глубокий вдох — и потом им уже дышится легко и свободно. Воздух оказывается напоен чем-то необыкновенным, и все воспринимают это как нечто само собой разумеющееся.
Ох-ох-ох! Всё невиданно, неслыханно, необычайно и в то же время совершенно естественно и осенено благословением богов. Кто может отрицать реальность происходящего? Ох-ох-ох! Вторгнуться в земли варваров, взойти на Пиренеи и Альпы, напасть на Рим со стороны суши и победить его — это нечто необыкновенное, удивительное, особенное, чудесное и в то же время совершенно естественное и богоугодное. Ведь с нами Ганнибал, он начальствует и повелевает!
«Да, на этом берегу Ибера, — подпускаю я гадкую мыслишку. — Посмотрим, как они будут ликовать на том».
Тут мысли мои перескакивают на другое. Безо всякой связи с общим ходом рассуждений я вдруг нападаю на прозвище, которым хотел бы впредь величать Силена: Птичья Глотка! Исключительно подходящее для него имя. Как это будет на языке Гомера? Я не ломаю себе над этим голову, а принимаюсь торопливо писать: «Видел ли кто птиц, пережёвывающих пищу? Я, во всяком случае, такого не наблюдал. Все они мгновенно заглатывают свою добычу».
Что делает и Силен. Гурманство ему неведомо. Он запихивает в себя еду и проворно глотает всё, что напихал. Правда, он хвастается изысканным чувством языка. Он берёт в рот фразу и тщательно взвешивает её, смакует какое-нибудь избранное слово, перебирает союзы, причмокивает на окончании, словно это лакомство вроде змеиного хвоста. Неофициально Силен назначен историком Ганнибалова похода и время от времени с важным видом удаляется написать очередную страницу хвалы нашему полководцу.
«Он у меня ещё получит за своего слащавого Софокла! Я напущу на него Аристофана[45]!»
Теперь ликую я. Насколько я помню, «Ламо» буквально значит «глотательница». Перечислив части её тела, Аристофан приходит к выводу, что не все они женственны. «Лаймос» — это «глотка». Почему бы не наречь Силена Лаймом или Ламией? Я останавливаюсь на Ламии — это прозвище привлекает меня своей двусмысленностью[46].
V
Ох уж этот Силен, этот кичливый грек, родившийся даже не в самих Сиракузах, а в какой-то дыре, чуть ли не пещере под ними! Хотя языком римлян он не владеет, за что я, впрочем, не могу винить его... (До последнего времени язык Рима был практически неизвестен за пределами этого захолустного города волчицы, да он и по сей день остаётся несформировавшимся, неровным, несущим в себе отголоски архаической эпохи, иногда ещё пахнущим зверем, как свежая убоина, — надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, Ганнибал. И этот непричёсанный, дефективный, пришепётывающий язык римляне теперь навязывают привыкшим к изящным звукам италийцам, они силой, принуждением понукают их пользоваться своим мужицким языком...) Итак, Силен — новонареченный Ламия...
Когда я предложил назвать неземной красоты юношу, которого видел во сне Ганнибал, этруском, — по крайней мере в римском тексте, — Силен ничего не понял. Он был не в состоянии разглядеть безжалостное жало, коварный коготь, сокрытые мной в этом образе. Но если нужно объяснять каждую мелочь, жизнь делается безумно тоскливой. А Силен, сей отвратительный Ламия, вынуждал меня именно к подобным объяснениям. Что в греческом тексте юношу следует назвать греком, я, так и быть, не возражал, хотя при общей запутанности обстановки готов был предложить македонянина или уроженца Микен — последний вариант пробудил бы отзвуки очень давних времён. Ладно, пускай Силен радуется своему красавчику греку, но в римской редакции молодой человек должен быть этруском. Это сообразили все.
«Замечательная находка! — просиял Ганнибал и заверил: — Решено: по-римски будет этруск!»
Мы знаем, как Рим обошёлся с этрусками. Сами способные лишь на проявления ханжества и мужицкой неотёсанности, а также на закоренелый формализм, римляне терпеть не могут этих любителей искусства, людей, живущих утончёнными идеями и имеющих развитую систему правления. Сначала Рим просто-напросто использовал их, высасывая все соки и обдирая как липку. Затем он согнал их с высших должностей и, наконец, фактически уничтожил сей народ как носителя собственной культуры. Да, Рим в неоплатном, кровном долгу перед этрусками, и, насколько мне известно, Ганнибал рассчитывает вобрать в своё войско остатки этого народа — когда мы перевалим через Альпы и углубимся в италийские земли.
На нашем языке юноша, естественно, будет карфагенянином, чистой воды финикийско-пунийским уроженцем Карфагена. Да и кем ему ещё быть в карфагенском тексте? Как бы проэллински ни был настроен Ганнибал, он не осмелится бросить вызов Мелькарту, покровителю нашего города, а впрочем, и других финикийских городов. Мелькарту поклоняются очень широко, он есть даже у греков и римлян, хотя и под другими именами. Баркиды издавна были высокими поспешествователями этого бога.
Кстати, неотъемлемый символ Мелькарта — палица, изображён на монетах, которые Баркиды распорядились отчеканить в Иберии. Это был дерзкий и рискованный политический шаг, крайне отрицательно воспринятый карфагенскими гражданами. Чеканка монет в провинции, к тому же по распоряжению Баркида, преступала все границы дозволенного и была нарушением порядка и законности, не говоря уже о традициях и правах граждан. Так что Баркидам был устроен нагоняй. Они пытались отговориться финансовой необходимостью, но у них ничего не вышло. Чеканка монет относится к области внутренней политики, а за проведением оной в Карфагене следили особенно строго. Чтобы их не заклеймили как врагов империи, Баркидам пришлось прибегнуть к подкупу и поднять на ноги народ.
Бури бывают самого разного свойства. Бывают в стакане воды, а бывают те, что известны под названием «ведьмин котёл». Каждое дошедшее до Карфагена известие о чеканке вызывало в городе именно такую бурю. В ведьмином котле начинали барахтаться все политические деятели. Ураган бушевал во дворцах и в домах частных граждан, проносился по улицам и площадям, врывался в залы Бирсы, чтобы затем вырваться наружу и снова вломиться внутрь. Даже храмовые дворы были наводнены кипящими от злости властителями. «Баркиды поместили на монетах собственные изображения! Неужели они свалятся нам на голову в виде тиранов?» — «Мы всегда пожалуйста», — смеялись Баркиды и в самых крайних случаях призывали народные массы утихомирить кипящие страсти.
Но вернёмся к онусскому сну!
Тщательно продумав наиболее подходящее происхождение юноши, мы стали на все лады обсуждать фразу: «Только не вздумай оборачиваться!»
Совершенно очевидно, что тема эта была крайне деликатной.
Во сне Ганнибал обернулся. Тут уж ничего не поделаешь: что было, то было. Но обязательно ли всем знать об этом? Стоит ли включать сию подробность в тексты, предназначенные для всеобщего распространения? Не совершим ли мы серьёзный промах, который сведёт на нет воздействие сна в его письменном варианте? Божественной красоты юноша карфагено-греко-этрусского происхождения говорит спящему Ганнибалу:
«Меня послал Баал-Шамем, чтобы я лучшим путём довёл тебя до самых стен Рима. Только не вздумай оборачиваться!»
Всем известно, какие роковые последствия влечёт за собой оборачивание, если оно запрещено посланцем богов. Несколько писцов, и карфагенских и греческих, предупреждали Ганнибала и просили его разрешения выпустить этот кусок. Если исходящему от него запрету не подчиняются, божество обычно нарушает своё обещание. Однако Ганнибал в данном случае проявляет твердолобость и начинает цепляться к словам.
— О каком, собственно, божестве речь? Я видел всего-навсего юношу...
— Он был посланцем бога, а это значит, что запрет...
— Минуточку! Вам не кажется, что вы путаете сон с реальностью?
— Предсказания бывают реальнее...
— Совершенно верно, — не моргнув глазом, меняет свою позицию Ганнибал. — Так вот: мне никто не давал чёткого приказа. Я даже не могу назвать это призывом. Речь идёт исключительно о дружеском совете. Юноша хотел избавить меня от страшного зрелища за моей спиной. Но я не мог воспользоваться подобным великодушием. Неужели Баркиду слабо посмотреть, что ему показывают во сне? Ну уж нет! Я взял и обернулся. Баста!
Разумеется, Силен уже приводил в пример легенду об Орфее и Эвридике. Аид оставил у себя возлюбленную Орфея, потому что фракийский певец обернулся и таким образом нарушил закон подземного царства, гласящий, что никому нельзя видеть тех, кто попал в мир теней. Если такое случится, не помогут никакие песнопения: нарушение закона освобождает всех от данных ранее обязательств. Эвридику снова отзывают в царство мёртвых.
Я внёс свою лепту, обратившись к древнееврейской литературе. (Евреи с презрением относятся к нам, финикиянам, хотя наши праотцы помогли царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма[47], и не только в этом. Они также не хотят признать, что без нашего содействия их священные книги остались бы ненаписанными). Когда были уничтожены Содом и Гоморра[48], расположенные на берегу страшного моря смерти, Асфальтового моря, и все его жители погибли от серы и огня с Небес, успели спастись четверо, которых предупредили заранее. Это был Лот с женой и двумя дочерьми. Несмотря на запрет, Лотова жена, движимая любопытством, обернулась — и была мгновенно обращена в соляной столп.
Ганнибал, когда того пожелает, делается просто солнечным: единственное сияющее лицо из всего окружения. Когда это происходит, блекнут звёзды на небосводе. Однако на этот раз он внезапно помрачнел и стал загадочен, как сфинкс или герма[49], которая посвящена неизвестному божеству, а потому не имеет черт лица. Всё же Ганнибал поднял, голову и, не размыкая губ, улыбнулся. Чему? Нашим речам, нашему переливанию из пустого в порожнее? Нет, не может быть. Я ещё никогда не видел его таким красивым, таким серьёзным, таким исполненным жизненных сил.
— Я обернулся во сне, чтобы посмотреть на происходящее у меня за спиной.
— Разве во сне оборачиваются? — решился спросить кто-то.
— Не я, который спал, а я, который был во сне, — парировал Ганнибал.
Ему не нужно было снова повторять: «Баста!» Голос его звучал чисто, словно флейта.
Как же пристально я вглядываюсь в это неповторимое лицо! Конечно, перед мной Ганнибал-Победитель собственной персоной. Но что это за Победитель? В чём заключается его Победа? В каких областях он достиг её уже теперь, так что всё его существо кажется осиянным Победой? Я вижу, что он смакует её в глубине души и разума... но по какому праву? Где уже одержана Победа? В Сагунте[50]? Она слишком незначительна, чтобы оправдать чувство непобедимости, которое столь наглядно и убедительно демонстрирует Ганнибал.
Он не прислушался к юноше и обернулся. Станет ли от этого его Победа ещё замечательнее?
Ганнибал умудряется покончить на месте даже с моими мыслями.
— Уважаемые господа! — язвительным тоном произносит он. — Вы перестали шевелить своими прекрасными мозгами. Вы рассуждаете о реальной жизни, тогда как я говорю о своём сновидении. Я повернулся во сне. Уверяю вас, что наяву я ни в коем случае не сверну с нашего пути на город Рим.
Меня часто охватывает чувство зависти к Ганнибалу, зависти к его образу жизни, к его духу, к благородному вину, которым наполнены его — но не мои — мехи. Как бы я ни приближался, мне никогда не разделить с ним эту жизнь, эту брызжущую через край энергию. Я всего лишь сторонний её наблюдатель, жонглирующий словами спектограф, медиум муз. Я готов вывернуться наизнанку, готов на манер флюгера вращаться из стороны в сторону ради хорошей точки обзора. И я всегда вижу всё как нечто определённое и конкретное. Только в этом случае я обретаю дар речи, который безмерно радует меня. Пока это нечто остаётся чётким и понятным, язык мой может живописать лишь сие нечто, и ничего помимо него... Такова моя натура! Ганнибал же...
Он Победитель. Победа приходит к нему нагая, nue á nu! И Победитель, и его Победа оба нагие. «Как же иначе!» — с присущей ревности саркастической проницательностью думаю я.
Главнокомандующий бравирует отсутствием вёсел. Но фактически в этом нагота, беззащитность самого Ганнибала и его Победы.
Вёсла, тысячи вёсел, свыше сотни спущенных на воду судов, тысячи гребцов — доведи их до десятков тысяч, сделай суда выше и быстроходнее, посади гребцов по трое-четверо-пятеро в ряд! Вечно воюющий, самый могучий флот Средиземноморья веками служил защитой финикийскому народу, его мужам, жёнам и детям, в том числе жителям Карфагена, первого среди равных городов. Наша держава представляет собой талассократию[51]: вопросы власти всегда решаются на море. На протяжении трёх столетий эти вёсла, гребцы и суда обеспечивали безопасность Карфагенской империи, даруя её подданным благосостояние, удобства, мир и покой. Однако примите во внимание, что наши корабли как раньше, так и теперь строились и строятся не только для войны: в основном это торговые суда, а также суда, предназначенные для опасных путешествий по неизведанным морям в неизведанные страны.
Однажды римляне тоже вышли в открытое море. Крестьяне обратились в мореходов. Многие карфагеняне только посмеивались над ними. Наши моряки плевали против ветра, но вскоре им пришлось засучить рукава и плевать на ладони. Римляне стали прочёсывать наши воды и жечь разбросанные по берегам опорные пункты для мирной торговли. В своё время греки попросили финикийцев научить их искусству мореплавания, и то немногое, что им известно о заморской торговле, они почерпнули от нас. Лишь спустя десятилетия греки осмелились, потеряв из виду берег, выйти на морской простор. Римляне же не стали просить у нас помощи. Они просто нагло бороздили моря и океаны.
Но самое страшное было впереди.
Что, собственно, они выхватили в тот раз из наших рук? Не земли. Земли эти никогда не принадлежали нам. Проклятые римляне выхватили у нас весло, нашу надежду и защиту, а выхватив, подняли его вверх и разломили надвое.
Почему Гамилькар-Гасдрубал-Ганнибал прежде всего не построили для нас, карфагенян, сильный флот, чтобы можно было загнать римлян в крысиные норы гаваней, а там покончить с ними огнём и мечом? Может быть, они руководствовались политическими соображениями? Может, им мешало наше государственное устройство? Может, они не хотели становиться тиранами на тот период, который потребовал бы напряжения всех сил? А может, Баркиды просто-напросто сухопутные крабы?
Ганнибал-Победитель остался без вёсел. И, тем не менее, опьянён Победой. Может, его Победа пуста? Пуста, как месть, в которой он поклялся ещё ребёнком[52], как зеркальная поверхность моря, которую ничего не стоит нарушить легчайшему бризу? Подобно мести, Победа должна быть наполнена активными действиями, подкреплена выигранными битвами и множеством поверженных врагов; Рим необходимо поразить в самое сердце и уничтожить. Может ли голая уверенность Ганнибала в победе или его жажда мести принести пользу Карфагену? О чём он думает: о своём народе или об отце? Не станет ли отмщение радостью только для его давным-давно почившего отца?
В сей ответственный момент, под моим критическим и нелицеприятным взором, Ганнибал со всей своей исключительностью, а с ним и сама Победа заколебались и едва не опрокинулись. «Я повернулся, — упорно утверждает Главнокомандующий. — Но повернулся во сне, а не наяву». Это добавление про явь призвано уничтожить нас как мыслящие существа. Я уже в третий раз слышу эту фразу, и мне на ум приходят выхваченные откуда-то слова: «Все мы покидаем сей свет с ощущением, будто только что родились». К Ганнибалу это не относится. В нём уже теперь присутствует великая Победа, его триумф, его окончательное торжество. Ганнибал родился отнюдь не вчера. Он приближается к вершине. Для него не существует ни дней, ни лет, ни времён года. Он постоянно и неколебимо живёт в состоянии Победы.
Зависти как не бывало. Перед моим взором — Ганнибал в облике Орла. Он сидит, вцепившись когтями в утёс на краю пропасти, и гордо, бесстрашно смотрит вниз.
А я? Что делать мне? Я решаю по-прежнему всё запоминать и, буде возможно, записывать свои непосредственные впечатления. Я убеждён, что под началом Ганнибала мне предстоит стать свидетелем удивительных событий. Речь идёт не просто о сокрушении Рима. Под водительством Ганнибала и Карфагена преобразится мир. На всей территории новой империи наступит благоденствие. Так, как сейчас живётся на нашем обожаемом Прекрасном мысе, заживут по всему земному шару.
Вот какие слова я пишу теперь, хотя совсем недавно твёрдый образ Победы чуть не опрокинулся, а сам я испытал горькую зависть к той таинственной жизни, которой проникнут, которой светится Ганнибал.
На слегка негнущихся ногах он выплывает из окружения нашей писарской братии — подобно Орлу, который, сделав два царственно-подтянутых шага, покидает широкое гнездо на вершине утёса, чтобы броситься с его края в Никуда, расправить в кромешном мраке крылья и, чуть склонив голову, вглядываться в бездну, где над демонами Неопределённости властвует Небытие.
Мы же, писцы, продолжаем свои споры.
Вот я и дошёл до имени божества. Оно ведь тоже должно быть самым подходящим для каждого языка. На том, что Зевс будет само собой разумеющимся выбором для греков, а Баал-Шамем — для нас, мы сошлись довольно скоро. Дело в том, что в нашем случае имя бога может варьироваться. Баал-Либанон означает Владыка Гор, и некоторые финикийцы предпочли бы его. Мелькарт, бог Тира и Гадеса, произведён многими в божество Солнца, а потому тоже был бы нелишним в тексте. Труднее всего нам далось имя римского бога, притом что эта редакция, как мы понимали с самого начала, была наиболее важной. Мы довольно плохо знали римский пантеон — его только-только ввели. Не правда ли, замечательное свидетельство отсталости и позднего пробуждения Рима? Несмотря на некоторую неуверенность, мы пришли к выводу, что лучше всего подойдёт Юпитер.
Почему? Да потому, что сам Рим торжественно провозгласил Юпитера своим покровителем и защитником. В нашем тексте он превращается в свою противоположность, то есть в бога наказания и мести. В онусском сне Юпитер Оптимус Максимус (то бишь Наилучший и Величайший) обращается к заклятому врагу Рима, карфагенянину Ганнибалу Барке, и заранее отдаёт Победу в его руки. Как поведут себя жрецы Юпитера, дабы отвратить сей ошеломляющий приговор? К чему они вынудят римлян, чтобы умиротворить своего разгневанного покровителя? Сколько тем придётся совершить сложных ритуалов? Сколько принести жертв? Какими их обложат налогами и податями?
В кратком пересказе Ганнибалов онусский сон звучит следующим образом.
Перед погруженным в сон Ганнибалом является юноша божественной наружности. Прекрасный юноша говорит, что послан Юпитером показать Ганнибалу кратчайшую дорогу на Рим. Ганнибалу остаётся лишь следовать за ним. Ему нельзя спускать глаз с юноши и нельзя оборачиваться, каким бы трудным ни оказался путь. Ганнибал всё же оборачивается и видит огромного змея, который ползёт следом, не разбирая дороги и круша всё на своём пути. По обыкновению богов, Юпитер взял себе в услужение отвратнейшее чудовище и ещё призвал на подмогу грозовую тучу, которая низвергает молнии по сторонам этого чудища.
«Что оно значит? Истолкуй мне сие знамение», — просит Ганнибал.
Юноша отвечает:
«Ты видишь перед собой разорение Италии, видишь муки и разрушение италийской земли. Продолжай свой поход туда, где всё это должно произойти, и ни о чём более не спрашивай».
Точка.
Я вымотан от бесконечного писания и сейчас с удовольствием бы вышел прогуляться. Но я воздерживаюсь. На землю уже опустилась тьма. Двое моих рабов целый день обхаживали меня и выполняли все мои желания. Трижды разные люди пытались проникнуть в мою палатку. От всех троих удалось отделаться. Одного прислужника мы с Астером выкинули вон, так что он плюхнулся носом в землю. Я отказываюсь принимать гонцов, которых посылают с распоряжениями или какими-то сообщениями для меня. Если военачальнику нужно что-нибудь передать мне, пускай будет любезен прийти сам.
Перо совершенно утратило резвость, иначе я записал бы ещё кое-что из беседы с глазу на глаз, которой удостоил меня Ганнибал в Новом Карфагене.
(Внимание! Если Судьба предоставит мне такую возможность, я основательно переработаю сии торопливые записи. Естественно, я не собираюсь при обработке устранять следы импровизации и прочие стилистические особенности, которые обожают читатели. Читатели, и наилучшие и наихудшие, предпочитают во время индивидуального или совместного чтения и по ходу воспоминаний испытывать ощущение непосредственного присутствия рядом с автором. Кто я такой, чтобы лишать их этого удовольствия? Нет, я не собираюсь обманывать их надежды и потребность в иллюзии. Я хотел бы по мере сил соблюдать то, что греки называют стилистическим каноном, то есть определённые нормы. А это значит, что слова мои должны дышать сладострастием и телесным жаром, фразы — нести дыхание Жизни, а сам текст — наряду с изображением решающих событий — раскрывать картины природы, на фоне которых они происходят. Слова мои не должны ни обгонять важные происшествия, ни отставать от них. Движение сюжета должно раскрывать перед читателем первоначальные, то есть наиболее истинные, побуждения героев, передавать ритм и пульс их поступков.
Данное предупреждение не случайно, а сознательно помещено именно здесь, так же как ранее я отнюдь не случайно подчеркнул преднамеренность упоминания о своём раскаянии и обо всех неприятностях).
В Новом Карфагене мои политические воззрения подверглись серьёзной корректировке, если не сказать коренной перемене. Ганнибал заставил меня совершенно иначе взглянуть на происходящее в мире, он также нарисовал мне новую картину будущего. Ганнибал не просто смотрит и видит. Он не станет таращиться на разные бессодержательные «нечто» и «некто». Так же, как и я, он всегда и во всём видит что-то конкретное, поэтому ему есть что сказать. Я обязательно вернусь к этой нашей в высшей степени интересной беседе. Сегодня я слишком устал.
Пока я сижу, не решаясь поставить точку, мне вдруг вспоминается, как Ганнибал иногда говорит мне:
«Сиди, сиди! Именем твоего отца заклинаю: не вставай, когда я вхожу к тебе в палатку».
VI
Именем моего отца! Я вижу его перед собой и не знаю, какими словами было бы правильно воздать ему должное и выразить своё сыновнее почтение. Перед моим взором предстаёт интриган с длинным мягким носом и быстрыми, близко посаженными глазками. Он трусоват и склонен к брюзжанию. Я бы попал в Испанию гораздо раньше, если бы отец раз за разом не взвешивал приглашение Ганнибала на своих замысловатых весах, имя которым — крайняя подозрительность и хитроумнейшее закулисное политиканство. Почему нужно использовать меня в политических целях?
Мой отец — член совета старейшин. Всю свою жизнь он стремился занять всё более и более высокое положение. Некоторое время он входил в Совет тридцати[53], опору карфагенской олигархии, в лидерах которой нередко бывал сухопутный пират Ганнон Великий[54]. Проводимая советом политика почти всегда противоречит финансовым интересам отца. На самом деле ему следовало бы поддерживать активную экспансию, которую отстаивают Баркиды. Основные занятия старика — торговля с заморскими странами и судостроение — только выиграли бы, поддержи он это семейство. Однако сие идёт вразрез с его убеждениями. Ему по сердцу чистой воды консерватизм, так что вся слава и популярность Баркидов в политическом отношении зиждется по большей части на демократических слоях народного собрания. Вот такая история.
Некоторое время тому назад властолюбивое тщеславие отца нацелило его на судилище под названием Совет ста четырёх, который осуществляет надзор за политическим правопорядком и ещё совсем недавно обладал полномочиями приговаривать к распятию неугодных генералов (теперь их снимают с должности и более не допускают к власти). Пробиться в этот совет отцу так и не удалось. Тогда он направил свои усилия на другие органы. Различные административные управления возглавляются у нас комиссиями из пяти человек. Время от времени он не мытьём, так катаньем проникает в одну из них.
Впрочем, теперь, на склоне лет, вожделенной мечтой отца стало попасть в суффеты, которые вообще-то избирались народным собранием, но которых выдвигали и утверждали высшие должностные лица. Суффетами назначали двух «мудрецов» сроком на один год. Для отца это означало: многие годы подряд сплошное расстройство и разочарование. Он с удовольствием берёт на себя власть де-юре и завидущими глазами посматривает на Баркидов, обладающих властью де-факто.
Итак, он не принадлежит к партии Баркидов, а впрочем, нельзя сказать, чтобы он безусловно принадлежал и к какой-либо иной партии. В этом он схож со многими другими представителями нашей знати. Ведущие политические деятели никогда не могут быть уверены в твёрдости своей, дорогой ценой доставшейся должности. Им приходится постоянно помнить о своей зависимости и прилагать большие усилия для того, чтобы отстоять что-то своё.
Как видите, отец всю жизнь мучится стремлением к недосягаемому. Его называют Претендентом на Высокую Должность, хотя в Карфагене есть сотни людей, достойных такого прозвища. Его частые перебежки из одного лагеря в другой и от одной властной группировки к другой объясняются тем, что боги очень рано стали наносить ему раны. Его склонность поддаваться на подкуп ни о чём не говорит, коль скоро все влиятельные личности многократно поддаются на подкуп, не испытывая при этом, в отличие от отца, сколько-нибудь серьёзных внутренних осложнений. Когда я вспоминаю про свежие раны отца и замечаю рубцы, оставшиеся от старых, меня конечно же охватывает сострадание. Но я ни разу не сумел показать его отцу. Можно подумать, старик принял бы утешение от единственного сына! Он отвергает сопереживание как в горе, так и в радости.
Кому боги наносят раны, явствует из жизненных перипетий, а также из лихорадочных попыток обижаемого задобрить богов. Я не раз наблюдал, как отец перетасовывает свой пантеон — фигурки божеств, стоящие у нас на домашнем алтаре. В этих случаях он, будучи истым торговцем и политиком, пораскинув умом, переоценивает ранг и могущество пенатов. По этим перемещениям божков можно вычислить, от кого он ждёт выгоды в ближайшее время. Случается также, что отец, стеная, повергает себя в прах перед богами, однако он редко проявляет при этом подлинное смирение, скорее просто плачется и ропщет, что преходяще, или выказывает более стойкие горечь и злость. Его дух всегда поднимает жажда реванша, желание вновь помериться силами, способность изобретать новые уловки и обходные пути. Больше всего отцу нравится, попав в некий лабиринт и совершенно заплутавшись в нём, вдруг отыскать выход. Такое положение подзадоривает его, и он хочет остаться наедине со своим азартом.
Как преданный сын, я должен признать, что отец всегда обладал и, возможно, до сих пор обладает смелостью торговаться. Конечно, о карфагенянах по всему миру идёт и хорошая и дурная слава за их способность заключать сделки, выгодные только для себя. Между тем следует подчеркнуть, что, скажем, обмен товара на товар всегда сопряжён с некоторой долей риска. Так же и обмен товара на деньги. Подумайте, во что обходится перевозка, как многое зависит от капризов моря и судна, от свирепствующих вокруг пиратов — часть этого огромного ущерба мы и пытаемся возместить, в открытую выгадывая себе барыш. (Из песни слова не выкинешь).
Однако заключать сделки можно и при полной неопределённости. Случается, так поступает мой отец, и это свидетельствует о его мужественности (по-гречески такое качество называют андриа, что на наш, карфагенский, слух звучит слишком высокопарно — во всяком случае, непривычно для тех, чьё полиглотство ограничено формулами вежливости, да купеческим жаргоном, да несколькими словесными безделушками). Повторяю, мой отец — человек мужественный, ибо неудачи никогда не лишают его решимости, разве что на короткое время. Когда он переставляет фигурки пенатов, это значит, что он готов заложить новый фундамент для себя и своей семьи — пока не подойдёт пора очередной перемены!
Отец первым прознал о том, что Ганнибал хочет видеть меня рядом. Как уже упоминалось выше, я тогда находился в Александрии, где учился и, будучи сыном своего отца, обделывал кое-какие делишки. Разумеется, это не были серьёзные сделки: во-первых, я для них не гожусь, а во-вторых, он бы никогда не доверил их мне. Я занимался по мелочи тем, что, с одной стороны, доставляет ему радость и удовлетворяет его тщеславие, а с другой — относится к области его противоречий с богами. Он считает меня способным справиться с приобретением папирусных книг, рукописных копий как высокого, так и низкого качества. Первые он по большей части оставляет себе, последние — перепродаёт таким же тщеславным людям, как он сам, выбирая тех, кто не умеет читать по-гречески, а потому не в состоянии оценить ни подлинность свитка, ни степень его ценности.
На сии предметы роскоши находится много охотников и в финикийских городах, и среди ливийцев, нумидийцев и мавров. Это может показаться странным, но даже знатные варвары соблазняются чарами и престижностью папирусных свитков, в которые можно с гордостью заглядывать и которыми можно производить впечатление на друзей.
Иногда отец заваливал меня поручениями, превосходившими мои возможности.
Ещё когда я был маленький, у отца собралась довольно приличная библиотека. Хотя его я никогда не заставал за чтением чего-либо, кроме каталогов кораблей, торговых соглашений или политических документов, мне он весьма рано — во всяком случае, как только стал подозревать во мне способности к высокому полёту — позволил читать столько, сколько было угодно моей душе. И я быстренько добрался до запретных свитков. Попали они под запрет по причине своей ценности или неприличности, этого я так и не узнал, но подозреваю, что дело было в цене. Как бы то ни было, я всем сердцем полюбил учёбу: не только потому, что искал в ней прибежища, хотя и по этой причине; не только ради самих знаний, хотя и ради них; не только для того, чтобы блистать в разговорах с немногочисленными друзьями и многочисленными сёстрами, хотя также и для этого.
Всё это затмевалось увлекательностью, наслаждением, которое я получал от чтения: Какую бережность и осторожность выказывали мои не слишком ловкие мальчишеские руки, снимая с полки очередное сокровище, ценность которого заключалась в глубокомыслии и блистательности содержания, но была заметна уже внешне, по изящной вышивке на полотняном футляре и каллиграфической чёткости письма. Стоять перед непрочитанной папирусной книгой — всё равно что стоять под затянутым облаками небом. По мере чтения облака как бы сдуваются к краю небосклона. Когда я, свёртывая правой рукой свиток, подхожу к его концу, надо мной раскрываются чистейшие небеса. На меня нисходит головокружительная ясность.
Теперь мне хотелось бы рассказать об одной долго скрывавшейся тайне. Во время чтения я не раз, причём на очень ранней стадии моего приобщения к нему, испытывал странную взволнованность. Взволнованность эта действовала на меня раскрепощающе, ибо сулила примирение с неприятностями повседневной жизни. И когда моя увлечённость перешла от тихой радости к очарованности, а затем переросла в азарт, тут я и дал себе неоценимый зарок: когда-нибудь я тоже стану поэтом! Терпение, проявленное мною в пору смятения и тревог, явно говорит о том, что во мне, недостойном, поселилась Муза, вернее, ещё не поселилась, а приготовила себе место, в котором она со временем найдёт приют. Подняв взгляд от рукописи, я словно видел мелькнувшую вдали Эрато[55] и, кажется, даже слышал мягкое треньканье лиры...
Как и следовало ожидать, отец принял приглашение Ганнибала не на мой, а прежде всего на собственный счёт. «Ганнибалов замысел прост, — рассудил старик. — Он хочет таким образом купить мой голос в совете!» И втихомолку занялся хитроумным обдумыванием-взвешиванием. Я в мгновение ока стал его самой большой драгоценностью: и по каратности, и по весу я здорово потянул его чашу весов вниз. «Йадамилк, мой единственный, обожаемый, высокоодарённый и высокоумный сын, на образование которого, положа руку на сердце, я истратил целое состояние, — не отдавать же мне тебя Баркидам даром! Я должен поиметь с этого хорошую должность и кучу монет».
К тому же столь важные для меня события разыгрывались в период, далеко не самый благоприятный в политическом отношении. Ганнибал, стоя у ворот Сагунта, требовал их открытия и присоединения города к нашим испанским владениям. Однако сагунтские воротилы проявляли несговорчивость, причём им удалось переманить на свою сторону весь народ под тем предлогом, что Рим, дескать, обещал им защиту и ограду. Посему город был обложен нашими войсками, и против него начали применять всё более грозную машинерию. Однако месяц проходил за месяцем, а объявить о победе всё не представлялось возможности. Через некоторое время стало очевидно, что на карту поставлена репутация юного Ганнибала, а с ней и его пост главного военачальника.
Каждое утро и каждый вечер отец пробирался в Бирсу, чтобы разузнать последние новости из Испании и вынюхать, куда склоняется изворотливое общественное мнение.
Ганнибал ранен, слышал он, Ганнибал сдался, Ганнибал собственноручно пробил брешь в стенах Сагунта... нет-нет, Ганнибал отправился в провинции вербовать дорогих наёмников, победа Ганнибалу не светит, Рим наконец-то собрался прийти на выручку своему союзнику, теперь нам крышка, теперь наш испанский жеребец скинет нас, лишив богатых рудников Сьерры-Морены. Дался Ганнибалу этот Сагунт!
И вот однажды отец вновь подтвердил своё мужество. Не знаю, принял он это решение перед домашним алтарём или нет, но я почти уверен, что он обеими руками закрыл уши, — есть у него такая привычка, когда он не хочет больше слушать. Отец решил игнорировать ходившие по городу вести из Испании. От них он и обезопасил себя, заткнув уши.
С первой же оказией он послал в Александрию гонца, велевшего мне возвращаться домой.
Роль посланца выпала на долю капитана одного из отцовских судов. Этого мрачного человека, известного под кличкой Смышлёный, превозносили за то, что он обычно не мешкая приступал прямо к делу. Отец уже давно почти безоговорочно полагался на него, тогда как мне Смышлёный никогда не был по вкусу. В моём отрочестве он выполнял одно довольно странное поручение — каждый раз, когда его корабль заходил в карфагенскую гавань, случалось, что и зимой. Я невысок ростом, и Смышлёный мерил меня, соотнося с собственным телом. Он выполнял эту процедуру молча, а затем, плоско поставив ладонь на уровне моего роста, прикидывал расстояние до полу и качал головой. После этого он бросал только одну фразу:
— Демонов знак!
Мне даже не разрешалось самому обнажать спину. Это всегда делал Смышлёный. Я чувствовал, как он меряет длину пядями, чувствовал, как он царапает ногтями родимое пятно, которое Огненным Драконом ползёт у меня вдоль всего хребта и преклоняет голову на левой лопатке.
Смышлёный должен был докладывать отцу, насколько я вырос с последнего раза и не заметно ли каких изменений в демоновом знаке. По моему глубокому убеждению, отец чуть ли не до моего двадцатилетия надеялся, что я вытянусь, а пятно — либо уменьшится, либо, ещё лучше, совсем пройдёт. Вероятно, он молился об этом чуде и в храме, и перед домашним алтарём. Но я так и остался коротышкой с въевшимся в спину демоновым знаком. Больше всего я не любил у Смышлёного руки. Не столько разговором, сколько этими руками он допускал интимность в обращении со мной. Я холодел, если он только задевал меня кончиками пальцев.
Почему я завёл эту тему? И матери и сёстрам отец запретил заговаривать с ним о моём теле.
Смышлёный привёз мне в Александрию грустные вести. Ни слова о Ганнибале, который ищет встречи со мной; речь шла исключительно о том, как плохи у отца дела, какие средства ему приходится тратить на меня, как безумно дорого стоит прилично выдать замуж моих многочисленных сестёр. Мне следует немедля прекращать свою праздную жизнь и свёртывать книжные покупки (которые, собственно, полностью оплачивали мои здешние расходы). Смышлёный пробубнил всё это, словно по бумажке. Ему было также велено сделать мне внушение.
Как я могу столь бездумно тратить свои годы? Неужели я не чувствую ни малейшей ответственности за отца, за Карфаген или за мать, которая, покинув семью, удалилась служить в храм, снедаемая тоской по поводу того, что одарила мужа целым выводком дочерей и лишь одним сыном, к тому же отмеченным огненной печатью?
Я был готов немедленно ехать домой, поскольку соскучился по Карфагену, соскучился по отцу с матерью и по сёстрам и мне любопытно было взглянуть на своих зятьев, которых я знал только по именам — впрочем, имена эти были достаточно известные, чтобы я понимал, что породнился отнюдь не с самыми последними людьми в городе.
— Когда отплываем? — радостно вскричал я.
И тут я вижу, что отец нацарапал мне записку с повелением не оставлять Александрии, пока не приобрету трёх нижеперечисленных книг. Я ещё раз пробежал глазами названия. Боги, за кого меня принимает отец?! За Ясона, добывшего золотое руно в кромешной тьме[56]?
Потрясающий, неисправимый старик!
Из диалогов Платона мне нужно было привезти отцу непостижимого «Тимея», в котором, как я слышал, помимо прочих странностей утверждается, будто наш мир создан демиургом[57], который также привёл его в состояние непрестанной изменчивости, — всё это идёт вразрез с финикийскими верованиями.
Из израильских рукописей заказ касался насквозь лживого сочинения грозного пророка Иезекииля, предпочтительно на иврите.
Последним номером стояли басни Эзопа[58].
В третий раз перечтя название платоновского диалога, я рассмеялся; я также понял, сколько потаённой радости доставят моему старику пророчества иудея — он будет чувствовать себя вроде ценного дерева, которое не горит в огне, а, аллилуйя, всего лишь покрывается испариной. Но взять в толк, зачем ему понадобились басни, я не мог. Басни обычно живут в свободной форме, на устах матерей и кормилиц, в кухнях, детских и бессчётном числе прочих помещений.
«Это должно быть хорошее собрание, куда бы входили все басни», — написал отец.
«Что за вздор! — подумали. — Хорошее собрание найти можно, но полное, как он это себе представляет? Кто в Александрии или где угодно ещё возьмётся сказать, все ли басни собраны в данной книге, если они постоянно множатся и, похоже, способны к самовоспроизводству?»
— Так когда отплываем? — повторяю я свой вопрос.
— Когда я справлюсь со всеми делами.
— Мне тоже надо справиться с делами.
— Гм...
— Что ты разгружаешь?
— Стекло. Наше стекло самое лучшее.
— А грузить что будешь?
— Папирус и ткани. Наши ткани самые лучшие.
— Зачем же тогда везти их отсюда?
— Дешёвка.
— Какие успехи у Ганнибала в Испании?
— Плохие.
— Тебе нечего больше сказать про Ганнибала?
— Ганнибал — это не Гамилькар.
Я видел по его взгляду, как он презирает меня хотя бы потому, что на мне был хитон греческого фасона, оставлявший обнажёнными руки и ноги. Смышлёный был на традиционный карфагенский манер одет в долгополую тунику с длинными рукавами. На голове у него была наша конусообразная шапочка вроде камилавки. Он стоял, нетерпеливо притопывая ногой. Ни единого личного слова от Ганнибала не нашлось у него для меня. Зато всем своим поведением он подсказывал мне, что лучше переодеться, прежде чем вступать на борт корабля, где начальствует Смышлёный.
На другой день я отправился искать требуемые книги. По своему обыкновению, я не пошёл торными путями, которые чаще всего оказываются самыми дорогими. У меня есть собственные методы. Я посоветовался с другом-библиотекарем, и он обратил моё внимание на то, какими деталями должна отличаться хорошая рукопись «Басен», после чего я принялся тщательно изучать сии тонкости. Надо сказать, что мне повезло, и я уже через день купил прекрасный экземпляр. Хуже обстояло дело с Платоном, и совсем плохо — с излияниями лжепророка. Мои сложности стали походить на Леоновы. Однажды я прямо с утра направился в перенаселённые еврейские кварталы города, где в трудах и уважении друг к другу живёт самое большое скопление евреев в мире.
Карфагенские студиозы знали понаслышке кое-какие куски из Иезекииля и иногда декламировали его филиппики, от которых нас трясло радостной дрожью. Отчасти древнее пророчество сбылось благодаря полководческому гению Александра (если не ранее), но всё же оно, вероятно, было подделано более поздними авторами, которые наполнили его политическим оппортунизмом. Кто знает?..
«Ты, сыне человечий, подними плач о Тире, — блеяли мы на родственном наречии. — Строители твои усовершили красоту твою».
Затем, например, шёл следующий кусок:
«О Тир! Ты рекл еси: «Аз есмь совершенство красоты». Ты, поселившийся на морстем входе, торгующий с народами от островов многих, пределы твои в сердцы морстем. Ты рекл еси: «Аз есмь бог, аз восседаю на седалище божием, в сердцы морстем». Се, аз на тя, Тир, и подниму на тя языки многи. И обвалят стены Тира и разорят столпы его, и развею прах его из него и дам его во гладок камень, местом для сушения мрежей будет. И снидут с кораблей своих все гребцы...»
И так далее и тому подобное. Потом мы, возможно, бормотали что-нибудь вроде:
«Ветр восточный сокрушил тя среди моря; и силы твои и мзда твоя, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все мужи твои, какие у тебя были, и весь сонм твой падут в сердце морстем в день падения твоего».
Конечно, Тир, матерь Карфагена, не выходил у нас из головы, мы думали о его судьбе как под властью Александра, так и прежде того. Честно признаться, восточные финикийцы заставляли наши сердца обливаться кровью, а нас самих — испытывать чувство стыда. Мы не были достаточно сильны, чтобы спасти их от унижения. К сожалению, они поддались чуждому владычеству не только чисто внешне, но и глубоко внутренне. Языки и божества смешались у них в такую кашу, от которой нам делалось не по себе. Если в былые времена они служили для нас светлым примером, то теперь мы уже давно отворачиваемся от них.
Среди иудеев мои предложения не находили ни малейшего отклика. Никто не соблазнялся на них, хотя я не один раз ходил в их кварталы и переговорил со множеством людей. Может быть, я держался надменно, а в тоне моём сквозило пренебрежение? Трудно сказать постфактум. Однако помню, что меня подвергали форменному допросу. Кто такой? Откуда родом? Как зовут моего отца? Куда я направляюсь? Для чего мне или тем, кто послал меня, творение великого пророка, внушённое ему Яхве? И прочая, и прочая, всё в том же настырном духе.
Я встал напротив синагоги. Там мне тоже дали от ворот поворот, хотя я заверял всех, от большого ума или от дурости:
— Нет же, я не из Серапиона. Я карфагенянин.
Почему Серапион? Просто у меня засел в голове этот необычный птолемеевский пантеон, и его название само сорвалось с моих губ. Сие культовое сооружение было построено по всем правилам астрологии, и ночные ритуалы совершались там в направлении Регула из созвездия Льва, а дневные проводились так, что в заданное время лучи солнца падали на божественные уста. Оставалось лишь чуть растянуть молитвословие или ускорить его, и тогда достигалось полное совмещение.
Нет, достать Иезекииля на иврите не представляется возможным. А что я думаю об иудеях александрийской диаспоры?
— Что они, в отличие от карфагенян, отвергли родной язык, — с горделивой запальчивостью произнёс я. — Вы говорите только по-гречески. Вы даже забыли, что наши языки состоят в близком родстве и что без финикийцев книжные свитки вообще не появились бы на свет. Только благодаря нам, пунийцам, я сейчас стою и выпрашиваю у вас книгу на иврите. А меня ещё охаивают и гонят взашей.
— Многие из нас знают иврит, — услышал я в ответ.
— Но не ты! И не многие. В противном случае зачем вам было бы переводить священные книги на греческий?
Я снова настроил людей против себя и решил впредь быть осмотрительнее. Больше я уже не справлялся об Иезекииле по-древнееврейски. Теперь я стал спрашивать исключительно греческий текст и очень быстро наткнулся на него. Однако цену за книгу заломили несусветную. Мой едва ли не кровный родственник ласково спросил: неужели я не понимаю, какая это редкость — Иезекииль по-гречески? Взбешённый, я повернулся и ушёл. Мои поиски всё больше напоминали выклянчиванье милостыни. Иезекииль на иврите был столь же немыслим в моих руках, как лики богов в синагоге.
В ушах у меня звенели слова:
«Ваши боги — истуканы, сотворённые нечистыми человеческими руками, все они ложь, ибо в них нет духа, они отбрасывают густые тени, которые движутся за солнцем. Как может что-либо бессмертное осквернять землю тенью и бездушным мраком?»
«О, Великий Мелькарт, о вы, Небесные Супруги, помогите мне!» — воскликнул я про себя. Однажды, сумеречным вечером, я таки удовольствовался Иезекиилем на греческом, выговорив неплохую уступку в цене и попытавшись успокоить себя, хотя так и слышал колкости, которые мне достанутся по этому поводу от отца.
На следующее же утро я напал на след высокопарного и скучного творения Платона. Я ведь нацелил на его поиски своего друга библиотекаря и кое-кого ещё, пообещав им награду за труды. Но это скорее был не след, а следок величиной с горчичное зёрнышко — там не за что было уцепиться. «Дайте мне что-нибудь более весомое, — взмолился я, — или хоть ниточку, но с достаточно сильным запахом!» И что вы думаете? Нежданно-негаданно я получил не ниточку, а целый клубок, причём весьма запутанный; от него разило за версту, и хлопот с ним оказалось будь здоров.
Ко мне в дверь влетела безумно говорливая пожилая особа, которая первым делом схватила меня за руку и осыпала её бесчисленными поцелуями. Ну конечно, у неё есть рукопись «Тимея», подлинный бич и проклятие, которое «свело в могилу» её «бедного старика».
— Я сама из-за неё чуть не протянула ноги! — вопила женщина, распуская нюни не хуже заправской плакальщицы. — Ты только посмотри на несчастную старуху! Вот до чего довела меня сия анафемская...
Она снова кинулась целовать мне руки, щекоча тыльные их стороны отвратительными чёрными усиками. «В её дряблых щеках скрываются скулы величиной с грецкий орех», — отметил про себя я.
— Не иначе как двести бочек масла извёл он на сей труд, цельную жизнь просидел, пытаясь истолковать то, что не поддаётся толкованию. Ребёночка ни одного мне не подарил. Каково теперь мыкаться старухе, которая не может опереться ни на одно дитё?!
Живот у неё отвисал, словно бурдюк с водой. Она, можно сказать, находилась в состоянии платонической, или, если хотите, духовной, беременности. Сим плодом философских трудов она несколько раз задевала меня по коленям: несчастная женщина ходила, не перепоясав чресел.
— А эти его фигуры и цифры! — навзрыд, задыхаясь, продолжала она. — А пять Платоновых тел, особенно пятое, которое называется додекаэдр и сродни сферическому образу Единого. Ой-ой-ой, сколько я наслушалась за это время! Только словесами никого не оденешь и не накормишь. Всё это и доконало моего старика.
Я не решался один идти с этой мегерой в её логово. Она не переставала рыдать и не умеряла своих размашистых движений. Напротив, женщина расходилась пуще прежнего: вскоре она стала похожа на амазонку с самым разнообразным вооружением. В этой разгорячённой и агрессивной атмосфере от неё во все стороны разлетались пики и дротики. Не помогало и то, что я зажмурился и пробовал отбиваться руками.
«Вполне вероятно, что в её истории нет и слова правды, — размышлял я. — Старуха не успокоится, пока не сбагрит мне свёрнутое трубкой вонючее исподнее, которое она выдаёт за Платона».
По счастью, ко мне пришли двое друзей, которые как раз и навели меня на след этой женщины и её сокровища. Они отправились со мной в подвал, где обитала бесноватая вдова. После не менее чем двухчасовой торговли сделка была заключена. Так отец обзавёлся «Тимеем», а знакомый библиотекарь, тщательно изучив сию драгоценность, не знал, какими словами расхваливать мою удачу. Ни в одном из свитков он не обнаружил потёртостей и большого износа.
— Этого следовало ожидать, — объяснил я. — Если верить старухе, её муж за всю жизнь высидел трёх «Тимеев». Перед нами самый последний экземпляр. Окончив его, старик взял да умер. Она предлагала мне в придачу его многочисленные записи, но я отказался.
— И напрасно, — отозвался библиотекарь. — Иди и забери их! Никогда не известно, сколько такой «светильник праведных трудов» способен зажечь не зарниц, а настоящих молний.
И он рассмеялся своей шутке.
VII
Наконец-то я вернулся! Стоя на носу корабля, я смотрел, как встаёт из воды мой Карфаген, и чувствовал себя превосходно. Город колыхался на волнах, пришвартованный к Африканскому континенту посередине между восточными и западными странами. Открывшийся мне вид затронул сердце, и оно подсказало: да, на земле есть-таки утолок, который я просто обожаю. Нечто похожее я испытал и войдя в отцовский дом. Моя любовь поднялась из таких потаённых, тёмных глубин, что я принуждён был закрыть глаза. Я едва дышал. Знакомый запах, анфилада комнат, дневной свет, в одних местах просачивавшийся сквозь портьеры, в других — отгороженный ставнями, — всё это уже жило во мне: ароматы, звуки, прикосновения возникали из глубины моей собственной души. Меня охватила любовь, слепая и непритворная любовь. Я был на грани помешательства.
Я изо всех сил постарался овладеть собой. К отцу я подошёл с напряжённым телом и непроницаемым лицом. Он тоже поначалу вёл себя крайне принуждённо. Тем не менее он раскрыл объятия и заключил меня в них. Попытался улыбнуться. Вероятно, усилием воли заставил себя посмотреть мне в глаза. Я же смотрел на его пухлые губы, губы знатного карфагенянина, которым всегда плохо давалась улыбка.
Сразу после приветственных слов выяснилось, что отец пребывает в крайне угнетённом состоянии, а потому энергичнее, оживлённее и подвижнее обычного.
— Ты не видишь угрозы, Йадамилк. Но она висит над нами.
Таковы были его вступительные слова. Мы уже сидели друг против друга, я с опущенными ресницами, поскольку огонь, полыхавший в глазах отца, жёг мне глаза. Это тоже было узнаваемо. Никому не дозволялось быть активнее него, лучше находить слова, испытывать более сильную печаль, возлагать более крепкие надежды, чем он.
— Народ набивает себе утробу не сутью, не сердцевиной, а мясом, мякотью, лежащей вокруг косточки, так что во всех мировых религиях толпа падка прежде всего на сытное и жирное, вроде свинины. В данном случае я имею в виду теологию победы. Да разверзнется земля и потянет меня за полы вниз! Я отказываюсь перепоясывать бёдра. Так и запомни, сын мой!
До чего же я узнавал его... До чего хорошо знал, что меня ожидает: путаный, перескакивающий с пятого на десятое разговор, который, однако, ведётся человеком с чёткими взглядами и твёрдой волей. Мне оставалось лишь погрузиться на дно, затонуть в его бессистемной болтовне, дабы нащупать внизу твёрдую почву.
— Так было всегда, и всегда речь шла исключительно об этой отвратительной жирной свинине. Иными словами, о мякоти около косточки. Я слышал, иноземцы воротят нос от собачины, которую мы, родовитые карфагеняне, предпочитаем мясу остальных четвероногих. Впрочем, горный козёл тоже бывает неплох, а у барашка и детёныша газели есть восхитительные части, которые просто тают во рту, — конечно, если их хорошо приготовить! Скажу тебе честно, в последние годы я больше всего из мясного люблю язык — разумеется, не поганый свиной. Его я наелся на всю жизнь ещё в детстве. Язык можно называть членом? Я, во всяком случае, иначе его про себя не называю. Ты, кстати, видел сию хреновину у борова? Я видел, когда был маленьким, и она навсегда отвратила меня от этой скотины. Итак, язык должен быть приготовлен совершенно определённым образом. Увы, мне нечасто доводится едать его в том виде, в каком хотелось бы, то есть приготовленным со всем возможным тщанием. Твоя мать отсутствует, сёстры заняты собственными семьями, за моей прислугой некому приглядеть. А что ты думаешь? Твоя тётка всего не успевает. Ткани и материи, ткани и материи! Ни о чём другом здесь нет и речи. Шитьё, вышиванье, рюшечки-оборочки — в моём злосчастном доме они заполонили всё и вся. Так что ты думаешь о наших зятьях?
В эту самую минуту отец энергично высморкался в огромный платок, целиком закрывший его лицо и шею. Если бы я что-нибудь и сказал, он всё равно не услышал бы моего ответа. Впрочем, его никогда не интересует, что я скажу. Из-за его высокомерия между нами пролегла на полу пустыня. Начни я излагать свои мнения, они всё равно впитаются в разделяющие нас пески и бесследно исчезнут.
— Вообще-то я стал равнодушен к мясу. Стариковскому животу больше подходят фрукты, хлеб и потроха. Однако я не об этом хотел поговорить со своим сыном, который через столько лет соблаговолил переступить порог отцовского дома.
Я понял, что лукавый старик всё время присматривался ко мне, испытывая при этом разные степени отвращения.
— Отцу было угодно поговорить о...
— Молчать, тебя никто не спрашивал! Итак, наша тема — твёрдая основа и рыхлая мякоть религий. Не стану отрицать, что горстка людей ещё охраняет самое важное, то есть сердцевину. Разгневанная Анат нападает на божьего сына Мота и побеждает его, который сам — бог смерти, а потому может сказать: «Куда бы я ни шёл, везде люди утрачивают дух жизни. Стоит мне появиться в красивейших местах на свете, и они обращаются в пустыню, стоит мне прийти в восхитительнейшие уголки земли, и они начинают изнывать от жажды. Если же мне доводится повстречать Баала, я мигом проглатываю его и чувствую нежный вкус барашка. Это по моему велению солнце в засушливое лето сжигает всё и вся». Сего Мота Анат разрубает мечом на куски[59], бросает в огонь, потом на решето, мелет в мельнице и развеивает по полю, иными словами, по хорошо орошаемому чернозёму благословенных храмовых дворов. Или что-то в этом роде. Ну, а за пределами храмов... что происходит там? Как ты сказал? Я бубню? Я ошибаюсь? Ты это утверждаешь, Йадамилк?
— Я молчу.
— И правильно делаешь.
— Но всё это я слышал ещё ребёнком.
— И сразу же забыл.
— Продолжай, отец.
— Ты мне не указ.
Я только ниже опускаю голову. Отец поправляет на себе одежду.
— Так что происходит за пределами храмов? — продолжает он. — Мясо начинает застревать в глотках! Налетают стаи глупой саранчи и земляных блох и нажираются до отвала. Их так называемая вера сводится к одному: к теологии победы. Дети человеков поклоняются только замечательным победам, удаче и благоволению богов. Умение и искусность? Куда там! На кой человеку искусность, если он ждёт удачи? Будущее этих людей уже предсказано: «При всей их власти, Баал жестоко накажет их; при всей их знатности, он обработает их дубинкой; при всей их славе, он повергнет их на землю». А единоборство между Баалом и Мотом, разве эти блохи осмелятся даже подумать о таком? «Они бодались, как дикие быки, кусались, как змеи, сталкивались, как быстроногие звери». Можно говорить что угодно, но греки превыше всех божеств чтут Тихе[60], а в душе у римлян скрываются великие мечты о роге изобилия богини Фортуны. Всеми людьми на земле правит эв-эв-эв...
— Эвдемония, то есть счастье. Счастье считается ближайшей и конечной целью каждого человека, его главным устремлением.
— Охота за счастьем! О злые времена, о злые нравы! Я же задаюсь вопросом: бывает ли счастье, основанное на несчастье других? Можно ли стать победителем без побеждённых? Или человек идёт вперёд, чтобы выхватить удачу у ближнего, с которым только что дрался? Может быть, каждому победителю стоит остановиться и посмотреть вниз, на зловонное отрепье побеждённого? Заглянуть в пустые глазницы Поражения, в его распоротую грудь, в которой коровьим языком трепещется сердце... Это всего лишь поверженный враг! Только когда ты наглядишься разных ужасов, когда убедишь себя, что вид сих неудач не подкосит тебя самого, а, напротив, поддержит и укрепит твои колени, только тогда, Йадамилк!.. Тогда побеждённый и сокрушённый противник первым выкрикнет триумфатору славную истину: «Се Победитель! Лицезрейте добившегося великого Счастия!»
— Я внимаю тому, чему ты хотел бы научить меня, отец.
Но этим его было не умилостивить, и на разделявшем наши тела пространстве разыгралась песчаная буря.
— Мне не по нраву твои фасоны, Йадамилк. Эти новогреческие штучки, которые ты вбил себе в голову... зачем они тебе? У тебя даже голос стал другой. Может, ты надумал вовсе сменить язык и наречие?
— Я запрещаю тебе так говорить со мной. Ты несправедлив.
На этот раз он всё-таки услышал мои слова и расквохтался.
— Благодари судьбу, что ты родился карфагенянином, а не каким-нибудь греком.
— Я взрослый человек, отец! — заорал я, оскорблённый до глубины души.
— Ты взрослый человек! И у тебя язык поворачивается говорить такое!
Я ринулся возражать, но отец не слышал ничего, кроме собственного голоса.
— В Риме, я знаю это из достоверных источников, отцу разрешается не менее трёх раз отдавать своего сына в наем в качестве раба. Разве я когда-нибудь обращался с тобой, как с рабом?
Я не отвечал. Я задыхался от еле сдерживаемого бешенства.
— Возможно, я забыл. Так и быть, уступаю: пусть будет не три, а два раза, и каждая служба сроком, скажем, на три года. Закрой глаза на детали! Не важно, точны они или нет. Во всяком случае, в одном у меня нет ни малейших сомнений: я выполнял все пожелания своего сына. Ему было позволено покинуть мой дом, где он, честно признаться, очень бы мне пригодился, будь он скроен несколько иначе. Ты смог оставить Карфаген и отправиться на все четыре стороны. И там, куда тебе угодно было направить свои стопы, я устилал тебе путь золотом... словно монеты доставались мне даром, фокус-покус — и я извлекаю их из кучи козлиного помёта. Однако я вовсе не об этом хотел поговорить с тобой. Моя речь — про теории побед. Итак, все славословят счастье, благосклонность судьбы и победу, все преклоняются перед ними и вожделеют их. Но внимание, мой так называемый учёный сын, великий поэт и автор обличительных сочинений, сидевший у ног именитых наставников: сейчас ты услышишь нечто, о чём умолчали эти оракулы и до чего ты не дошёл собственным умом.
О, как он откашливался, как он куражился! Да уезжал ли я вообще от отца? Здесь всё было по-прежнему. Ничто не изменилось. Тот же запах, тот же тон, те же речи.
— В былые времена ни победа, ни поражение не были единоличными, какими они стали теперь, они касались всего народа. Вот почему неудачливый предводитель не слишком роптал по поводу приговора или наказания, которому его подвергали за поражение. Нет, он обладал мужеством принять решение суда без отчаянных жестов. Народ — а проигравший тоже принадлежал к народу — понимал положение. Один за всех, и все за одного! Это-то и стали забывать в наши дни. Раньше народ сам был небрежен и греховен, сам был достоин гибели, поэтому многие накладывали на себя зарок, который мог длиться месяцами, годами. Где это видано теперь? Все, как один, одевались в рубище и посыпали голову пеплом. Целая нация собиралась на жертвоприношения: всесожжения, воскурения, молебствия. А уж разгневанным богам приносили жертвы, по теперешнему времени неслыханные. Сегодня все... во всяком случае, сыновья аристократов, такие, как ты, люди с положением, хотя своим положением ты обязан исключительно мне... Так вот, все! — распаляясь, проревел он, сурово и в то же время с глазами, полными слёз. — Сегодня абсолютно все расколоты, а потому стоят в одиночку и в одиночестве. Каждый следует за собственной счастливой звездой и остаётся один на один со своими успехами и трудностями, встречая их как заблудшая в пустыне, дрожащая овца.
Крайнее волнение заставило его умолкнуть. По щекам, путаясь в бороде, текли слёзы.
— Я хочу сказать тебе, отец, — осмелился проговорить я в этой влажной тишине, — что греки, Ye самые греки, которые раньше так гордились своим прямостоянием во время молитвы, когда они только воздевали руки к солнцу... Теперь у них всё по-другому. Я видел десятки и сотни греков, бросающихся во прах, как это делаем мы, пытаясь приблизиться к богам. Прежде греки вели о нас бесстыдные речи, но теперь они сами следуют нашему примеру. Нас поносили за проскинесис, за падание ниц как проявление нашей собачьей натуры. Сегодня они не упоминают хотя бы об этом.
— Замолчи! Ты, кажется, споришь со мной?
— Я просто рассказываю о том, что собственными глазами наблюдал в греческих городах.
— Ты думаешь, я не знаю, что в Сиракузах есть даже квартал, названный именем Тихе!
— В этом городе греки...
— Греки меня никогда не интересовали. А теперь я велю тебе, Йадамилк, ехать в Испанию. Только за этим я и призвал тебя домой.
Я вскочил и схватился за голову, но тут же увидел, как старик меряет меня взглядом, и руки мои опустились.
— Сядь где сидел, — приказал отец.
Я повиновался.
— Нас ожидают потрясающие события, — заговорщицким шёпотом поведал мне отец. — Они уже на подходе, что, возможно, и к лучшему. Я хочу рассказать тебе не о каких-нибудь новомодных затеях! — выкрикнул он, — Это очень древнее поверье, которое с незапамятных времён жило среди нас, финикийцев, давших название Красному морю и научивших прочий мир, на что годятся пурпурные улитки[61]. Сын мой, Карфагену суждено погибнуть! — И, ещё более пронзительным голосом глашатая: — От этого пострадает весь наш народ!
Затем отец снова резко поменял голос. Продолжение его речи было едва ли не мурлыкающим. Двумя пальцами он теребил бороду.
— Ну что ж, хорошо, очень даже хорошо! Тогда мы наконец опять объединимся, станем одним организмом, всеми своими членами ощущающим священную боль церемониальной жертвы. Для начала мы, возможно, переселимся в Испанию. Ты поедешь первым. А мы тебя скоро догоним.
— Неужели все карфагеняне переселятся в Испанию? — спросил я.
— Ты первый, — повторил он.
— Что ты хочешь этим сказать? Уж не ухватился ли ты за план, за который в своё время ратовал Гасдрубал, но который ты тогда отказался одобрить?
Гром и молнии. Сильнейшая гроза.
— Римляне побьют нас. Если мы останемся здесь, мы будем все до единого уничтожены. Карфаген не остров. Нам нужно найти для себя остров, новый Тир.
— Испания не остров.
— Нам нужно найти для себя безопасный и плодородный остров. Остров, лежащий за Мелькартовыми Столпами[62], куда римляне заходить не отваживаются. Остров, который будет легко оборонять и на котором бы, как на Ливанских горах, росли чудесные деревья. Там мы сможем снова построить себе большой и могучий флот. Йадамилк, убогий сын мой, тебя непременно нужно послать в Испанию.
— Я не товар, который можно посылать туда-сюда.
— Я то и дело посылаю караваны на юго-запад, через пустыню, и всегда прошу своих людей, когда они достигнут края моря, высматривать остров.
— Я тоже должен искать сей остров?
— Что ты, что ты! Это не для тебя, Йадамилк! Но ты можешь рассказать нашему молодому кочету Ганнибалу, чего нам не хватает. Кланяйся ему от меня и объясни, что ему следует делать в создавшихся печальных обстоятельствах. Объясни, что, согласно преданию, нам, финикийцам, с самого начала предназначено было двигаться на запад, на запад и на запад. Где-то в Мировом океане есть остров, на котором нам будет спокойно. Он обещан нам Верховными Супругами. От нас требуется только найти этот остров.
— Да-да, слышу, — хмуро пробормотал я.
Отец опять вошёл в раж.
— Что же это такое?! — возопил он. — Неужели Карфаген разучился говорить на языке силы? Я не учитываю так называемых завоеваний, которые приписываются Баркидам. Сагунт пока ещё не пал. И этот Ганнибал называется Главнокомандующим! Уверяю тебя, Йадамилк, наше слово — закон на всём пространстве от залива Сирт до Столпов и далее, мимо Дикса и Золотой реки аж до высокой горы, которую мы нарекли Колесницей Богов. Нам знакомы и прибрежные воды. Мы властвуем над ними, ибо все наши морские пути записаны на папирусе, чего нет ни у одного другого народа. Где-нибудь на безграничных просторах этих вод, подальше от берега, и должен найтись наш чудесный остров. Наплюй на то, что Рим бряцает оружием. Попроси Ганнибала собрать войско и направить его на юг.
Разумеется, мне нечего было сказать по этому поводу. Я ждал знака, когда можно будет откланяться. И тут отец, вновь переменившись, произнёс:
— Как бы то ни было, Ганнибал хочет тебя видеть.
Я поднял взгляд. Отец сидел зажмурившись. Я выждал.
Отец продолжал молчать.
— Что ты сказал? — осторожно переспросил я.
— Может, прикажешь повторять каждое моё слово?
— Ты это, случаем, не выдумал?
— Конечно, это выдумка, только не моя, а Ганнибалова. Мне она вовсе не понятна. И всё же он хочет видеть тебя при своём дворе.
Слово «двор» он проговорил с такой миной, точно у него заболело сразу несколько зубов.
— Неужели это правда?! — воскликнул я, вскакивая с места.
— Правда, но совершенно бессмысленная, — сказал старик, тряся головой и содрогаясь всем туловищем. — Твоя поездка будет разумна, только если ты сумеешь уговорить Ганнибала прислушаться к важному обещанию Верховных Супругов. Нам, карфагенянам, нужен остров, непобедимый и плодородный. Я, конечно, и сам напишу письмо, а ты передашь его нашему Достославному Господину и Повелителю, молодому кочету Ганнибалу. Сядь, Йадамилк, туда, где сидел, и перестань бегать вокруг и пищать, как цыплёнок. Твоя мамочка далеко и не слышит.
— Может, прикажешь у других выспрашивать, чего от меня хочет Ганнибал?
Садиться я не стал. Я топнул ногой и сжал кулаки.
Отец же воздел руки кверху, обратив ко мне бледные ладони.
— Сокровище моё, алмаз моей души, единственный мой сын, моя самая большая драгоценность. Увидевший тебя да поймёт, что я нищ, что я гол как сокол. Конечно, это правда: Ганнибал сам обратился ко мне с нижайшей просьбой доставить ему такое удовольствие, позволив на время позаимствовать мой золотой самородок. Сам он, видишь ли, застрял под Сагунтом, и время идёт, а нам всё не дано лицезреть ни Победителя, ни Проигравшего. При его отчаянной головушке да неопытности Ганнибал подверг себя опасности, из-за чего и был ранен то ли в ногу, то ли в палец. Что мне известно? Только то, что ни один умный полководец не лезет в схватку: ему нельзя терять из поля зрения всё войско. Так вот, теперь Ганнибал лежит в своём шатре, где ему удобно... и тоскливо. И что ты думаешь, он начинает делать, дабы разогнать скуку? Представь себе, читать, он ведь у нас книгочей. И ему попадаешься под руку ты, после чего он, по его собственным словам, приходит в изумление и восхищение.
— Удивление и восхищение! И ты до сих пор молчал об этом!
— Может быть, слова были другие. Я точно не помню. Более сильные или более слабые...
— Так более сильные или более слабые?!
— Во всяком случае, наш молодой кочет даже не поблагодарил меня. А я уже давно отослал Ганнибалу — как бы это получше выразиться — ну, сочинения моего единственного сына.
— Ты, не спросив разрешения, послал Ганнибалу...
— Именно. Благодарности я, как известно, не дождался. Впрочем, что взять с Ганнибала, которого не видели в Карфагене с девятилетнего возраста? Был бы он здесь, уж мы, старейшины, позаботились бы о превращении юного кочета в жирного каплуна, со всеми вытекающими последствиями. Но довольно об этом! Ты, Йадамилк, с первой же оказией отправляешься в Испанию и передаёшь от меня письмо. Тогда, как уже было сказано, твоё путешествие приобретает смысл. Кстати, одновременно я посылаю туда и двух своих людей, из самых верных и преданных.
Он натянуто улыбнулся.
— Я хочу распространить торговые связи на наши испанские владения, поскольку, можно сказать, упустил из виду Испанию, сей Дикий Запад. Впрочем, у меня не было полномочий самому наложить лапу на какой-нибудь богатый рудник в Сьерра-Морене. Пришлось довольствоваться кроличьими шкурками, благо кроликов на побережье хоть пруд пруди.
— Позволь мне прочитать Ганнибалово письмо.
— Я разбил эти черепки.
— Не выдумывай. Ганнибал не мог прислать черепков. Дай мне письмо. Я хочу прочесть его слово за словом.
— Об этом не может быть и речи. Я тебе говорю, сядь на место.
Я и теперь не подчинился. Тогда старик встал с подушки и, заключив меня в объятия, расцеловал. По лицу его катились слёзы.
— Любимое моё убожество, — рыдал он, продолжая целовать меня. — Мне показалось, или ты действительно немножко подрос? Сейчас, когда мы стоим рядом, такое впечатление, будто ты и впрямь повыше, чем я только что тебя представлял.
Он не отпускал меня.
— Послушай, сын мой, послушай! Я одинокий человек, покинутый всеми бобыль, я несу в себе заразу, от которой молодёжь в разных концах мира заболевает греческой лихорадкой. Мне приходится в одиночку встречать превратности судьбы. Всё зависит от звёзд, их расклад определяет мой удел. Каждый из нас изолирован, на беду или на благо... для меня, во всяком случае, на беду. Жители полиса, некогда крепко связанные в один сноп, теперь рассеяны по ветру, и каждый стебель — сам за себя... а на моём стебле к тому же нет налившегося колоса. Итак, Йадамилк, голый утёс моей нужды, поговори с Ганнибалом. Никто не способен освободить его от прошлого, менее всего он сам. Никто также не может избавить полководца от того, что его ждёт завтра. Менее всего это подвластно ему самому. Да, его ждёт Рим. Ему нужно туда, его будущее — там. Но это будущее Ганнибала, а не Карфагена. По крайней мере, не совсем. Не целиком и полностью.
«Неужели отец и вправду произнёс сию речь?» — пишу я, сидя в своей палатке. В таком случае, это было верное пророчество, особенно в части про Ганнибала и Рим. Что отец уже знал о падении Сагунта, я выяснил к вечеру того же дня. Однако объявления войны ещё не было. И никто, кроме отца, пока не думал в этом направлении.
Не выпуская меня из объятий, отец продолжал:
— Вот почему ты обязан, для блага Карфагена, уговорить Ганнибала выслать экспедицию на юг, на поиски чудесного Острова, обещанного Верховными Супругами. Разве Ганнибалу это не под силу? Экспедиция должна превзойти всеми расхваливаемый и действительно достохвальный перипл Ганнона Великого[63]. Нам бы только успеть до вожделенного Острова, и карфагеняне спасены.
Ах, как я люблю тебя, сын мой! Сын мой, в моём сердце бушует пожар — это моя любовь к тебе...
Вместе с отцом заплакал и я. Мы целовались в щёки и никак не могли нацеловаться. Наш плач и наши вскрики, наши громогласные клятвы во взаимной преданности постепенно становились всё тише, всё теплее, всё нежнее, пока мы не застыли в объятиях друг друга, а потом не уселись каждый на своё место. Старый ворчун вытер зарёванные щёки и взял бороду в кулак, словно хотел её выжать. Несколько следующих минут мы провели в некоей глубине, в состоянии, которого не выразить никакими словами.
— Меня призвал Ганнибал, — шёпотом выговорил я, с трудом пытаясь подняться обратно, в сферу языка.
Отец откликнулся в своей привычной манере.
— Это ему дорого обойдётся, — скрипуче молвил он. — Я ведь не отдам тебя за кучку козлиного помёта или даже за партию кроличьих шкурок. Не откажусь я и от посылки своих людей по караванному пути на юго-запад.
«На юго-запад! — пишу я у себя в палатке. — Мы же сейчас держим путь не на юг, а на север. На север, к Риму!»
Вечером того же дня прибыли корабли из Испании с захваченной в Сагунте несметной добычей.
Ганнибал наконец одержал свою Победу.
VIII
Такова правдивая история того, как я попал в Испанию и стал одним из приближённых Ганнибала, и при его дворе, и в штабе. Ночь уже окутала нас своим тяжеловесным мраком. Мне пора спать. Я очень устал. Я массирую затылок и растираю щёки. Снова встаю и выглядываю из-за полога палатки. Вдалеке горит костёр. Ветер утих. Похоже, все спят. Двое рабов, как свернувшиеся собаки, лежат около моих ног.
«Ганнибал, где ты? — спрашиваю я в ночную тьму. — Приходи поскорей, скажи хоть слово», — молю я. Я одинок в своей палатке, да и вообще очень одинок. Люди населяют только мои грёзы и сны. Мне о многом нужно написать. А Жизнь перестала петь мне. Мне необходимо услышать твой суровый напев. Как я ненавижу эти заболоченные тропы у Ибера! Моя стезя, моё устремление к поэзии заводит меня так высоко, что кружится голова. Подними меня на крыло твоего могущества. Там я обрету уверенность и силу, почувствую себя в безопасности перед эпической бездной языка.
Около полуночи, а то и позже, до меня доносится безошибочно узнаваемый звук. Стук копыт! Продолжая сидеть, я наклоняюсь вперёд и прислушиваюсь, куда он направляется. Может, всё-таки?.. Нет! Но что это? Мои рабы принимаются сначала кряхтеть и хрюкать, затем потявкивать. А Ганнибал уже в палатке. Неужели я задремал? Не сразу узнав его, я тем не менее вскакиваю и застываю с почтительно склонённой головой.
— Садись, Йадамилк, — доносится до меня. — Именем твоего отца заклинаю, садись!
Голос, несомненно, принадлежит Ганнибалу. Он собственноручно приготавливает себе место, чтобы сесть.
— Дай посмотреть, что ты насочинял, — говорит он, вытягивая руку.
От этого требования я чуть не начинаю заикаться.
— Ты хочешь посреди ночи читать вариант онусского сна, который я написал для твоей матери? — недоумённо спрашиваю я.
— Конечно, — отвечает Ганнибал.
— Тогда пускай один из моих рабов зажжёт второй светильник.
— Не нужно. Мне хватит твоего.
Я нахожу перебелённый текст и, протянув его Ганнибалу, опускаюсь на ложе. Он читает, а я смотрю на него с каким-то смешанным чувством. Нашего военачальника сегодня не узнать. На нём парик. В свете лампады парик этот кажется розовым, как оперенье фламинго. Лицо Ганнибала раскрашено, по-моему, на египетский манер, а его крупная фигура закутана в плащ пурпурного цвета с белоснежными наплечниками. На мой взгляд, он сейчас больше напоминает портрет, нежели человека из плоти и крови. И тут меня осеняет! Я вижу перед собой портрет Орла. Мне хочется поднести руку и дотронуться до этой иконы. Мой портрет смеётся.
Я перестаю наблюдать за Ганнибалом и поспешно отворачиваюсь. Я жду его суждения. «Тихая пристань» оставлена, отмечаю я про себя.
И тут я слышу:
— Молодец, Йадамилк. Ты прекрасно поработал, я доволен. И знаешь, что я теперь сделаю? Я не стану одобрять ни одного текста, кроме этого, который с нарочным отошлю матери. А ты, Йадамилк, ты и никто другой, передашь моё распоряжение остальным писцам. Я освобождаю вас всех от дальнейшей работы над сновидением. Я просто-напросто устроил тебе и им небольшую проверку, и она пришлась кстати.
Он смеётся совершенно по-мальчишески.
— Но мир нужно оповестить о твоём удивительном сне, — возражаю я.
— Не беспокойся, — отвечает Ганнибал. — У меня есть гонцы и лазутчики. Сон может распространяться кем угодно... изустно. Шёпотом на ушко, зычным голосом во всеуслышание — как получится.
— Понимаю, — говорю я и кланяюсь. — Утром я передам твоё повеление.
Ганнибал не встаёт. Он снова смеётся.
— Кстати, тебе привет от Имилке. Ей очень понравился твой гимн.
— Царица Имилке читает меня?! — изумлённо выпаливаю я.
— С безмерным удовольствием.
— Она понимает по-пунийски?
— Имилке: разве ты не слышишь, что значит это имя на нашем языке?
— Ну конечно! Химилке — «Царская Сестра»! Только теперь она не сестра, а супруга царя.
— Ты действительно считаешь меня царём?
— Естественно.
— Я думал, ты у нас республиканец.
— Я и есть республиканец.
— Как так?
— Это не единственное противоречие моей натуры.
Ганнибал внезапно срывает парик и бросает его себе на колени. Под ним надета царская диадема, во лбу у Ганнибала сияет крупный драгоценный камень, похожий на бабочку, которая только что сложила и снова раскрыла свои многоцветные крылышки. Я зачарованно смотрю на полководца. Хоть я и республиканец, меня тянет кинуться ему в ноги. Ганнибал замечает мой порыв и удерживает меня, мягко отстраняя рукой. На губах его играет загадочная улыбка, в глазах читается удовольствие. Чем он доволен? Недостойный, я трактую этот взгляд и эту улыбку следующим образом: так смотрит на сына отец, когда ему кажется, что сын не просто хорошо развивается, но подаёт большие надежды на будущее. Откуда мне это известно? Ведь я никогда не видел подобного взгляда наяву. Неудивительно, что я, польщённый, тем не менее чувствую себя ничтожным и крохотным, вроде щенка, вроде крохотной пташки, самой мелкой из всех пернатых.
— Тебе пора ложиться, — говорит Ганнибал и, не надевая парика, встаёт. — Мне скоро скакать дальше. Поеду проверить, как там мои войска. На рассвете передовой отряд переправляется за Ибер.
Он исчезает. В самом ли деле Ганнибал был здесь, или это мне приснилось? Может, я всё ещё сплю? Я готов искать подтверждения случившегося у рабов. К счастью, меня удерживает от этого Жизнь, которая опять начинает петь мне:
«Ты проживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым».
К моей великой радости, песнь на этом не кончается. Я усаживаюсь поудобнее, чтобы сполна насладиться ею.
К моему удивлению, она переходит в басню, которую нашёптывают мне на ухо. Мораль сей басни предельно ясна. Мне обещают, что я, Йадамилк, успею раньше всех других, в том числе римлян, сочинить новый эпос, которого с нетерпением ждёт народ и о котором он уже давно напрасно молит.
Итак, слушайте!
Некогда, в незапамятные времена, у птиц с разных концов света возник спор. И спорили они о том, кто из них истинный царь. Среди людей каждая народность имеет своего царя. Так же и среди сухопутных четвероногих. Почему бы и птицам не обзавестись собственным царём? Трудность, по всеобщему признанию, состояла в том, чтобы придумать испытание и выбрать справедливого судью, которые бы выявили покуда скрытого царя. Но, при всём великом множестве пропетых предложений, птицы никак не могли прийти к согласию ни по поводу судьи, ни по поводу испытания.
И тут на помощь им пришёл священный змей.
— Разумеется, вашим царём должен стать тот, кто сумеет выше всех взлететь, — прошипел змей.
И все птицы сошлись на том, что так будет лучше всего.
— А как нам найти справедливого судию? — хором пропели тогда пернатые.
— Судия вам не понадобится, — глухо проворчал змей.
У него словно у самого выросли крылья. Змей стоял на хвосте, вытянувшись во весь рост, шея у него раздулась и быстро колыхалась.
— Как так, как так? — закаркала, запищала и зачирикала птичья стая.
— Дело решится самим состязанием. Тот, кто взлетит выше всех, и покажет себя царём среди птиц.
Все пернатые, каждый на свой манер, пропели согласие со здравым предложением священного змея и, недолго думая, стали состязаться по полётам в высоту. Исход состязания, казалось бы, был предрешён. Но у птиц, так же как и у людей, рассудок нередко затуманен: они плохо представляют себе действительность. К тому же крылатые создания крайне плохо знают самих себя. Большие и маленькие, тяжёлые и лёгкие, водоплавающие и сухопутные, кустарниковые и горные, все они, как одна, взмыли и воздух и устремились ввысь. Кому не хотелось впредь получать поклоны и именоваться Вашим Царским Величеством? Посему окрестности огласились многоголосым птичьим хором, а солнце померкло, заслонённое тысячами трепещущих крыльев.
Змей же спрятал расшалившийся язык и, опустившись наземь, уполз в нору.
О том, что полёт в высоту изнуряет куда больше, нежели на дальние расстояния, что у привычных к далям крыльев строение совершенно иное, нежели у тех, что побеждают на высоте, все благополучно забыли, посему полифонический хор с каждым мгновением утрачивал своё многоголосие. Вскоре голосов в нём осталось совсем немного. Мало-помалу одна птица за другой падала вниз. Донельзя усталые, они опускались на деревья, в кустарник, на луга, поля и озёра. Солнце снова заключило мир в свои лучезарные объятия. Под конец в вышине осталась всего одна птица: орёл. Ну конечно, кому там ещё быть, если не Орлу! Все выбывшие из состязания вперили взгляды в небо. Туда же обратил свой взор и Орёл, дабы удостовериться, что выше него нет ни одного пернатого создания. Никого не увидев, он тем не менее вознёсся ещё ближе к зениту. Ему не хотелось завоевать победу, а с ней и звание царя за малым преимуществом. Он хотел победы достойной, с большим отрывом, победы, которая бы запомнилась на века.
Пташья братия находилась теперь неизмеримо далеко от него. Лишь орлиный взор различал внизу этих его подданных. Им не было числа. И тогда Орёл, издав победный клик, сложил крылья и некоторое расстояние пролетел камнем. Когда он вновь расправил крыла и приготовился снизиться более изящно и красиво, откуда-то сверху до него донёсся щебет. Не веря своим ушам, Орёл скосил голову наверх. Он был поражён при виде того, кто столь самозабвенно чирикал над ним. Это была крохотная птичка, величиной с муху, неприметная, как мелюзга, которая кормилась объедками рядом с его гнездом, — самое миниатюрное создание из всех пернатых. Однако ж птица! Законный соперник в состязании!
Орла передёргивает от гнева. Он понимает, что должен был подняться значительно выше — если, конечно, его не обманывают глаза и уши. И тогда он поддаёт жару своим поникшим крыльям, дабы они снова набрали высоту. Он терпит неудачу, во всяком случае, ему не удаётся взмыть достаточно высоко. Силы его, надо признаться, на исходе. Из чистого пренебрежения проявил он недавно излишнюю ретивость, из чувства презрения к тем, кто живёт под ним. Вот и на его примере мы видим, что заносчивость ведёт к погибели.
А пернатым снизу только и видно, что низложенный монарх кругами идёт вниз, а в вышине как ни в чём не бывало порхает, распевая новую песню, желтоголовый королёк. Произошло нечто неслыханное — maximi admirabilem!
Как стал возможен такой исход? В басне об этом говорится буквально следующее:
«С самого начала состязания при нем присутствовала Муза. Она (возможно, это была Полигимния[64] в своей ниспадающей мягкими складками накидке) и пропела на ушко самой мелкой пичужке:
— Быстренько заберись к орлу на голову и спрячься в перьях.
Королёк не заставил себя ждать. Он мгновенно взлетел орлу на макушку и вцепился коготками в его перья. Орёл ни на секунду ничего не заподозрил. Он был слишком увлечён состязанием.
Вот как случилось, что самый маленький взлетел выше всех и попал в цари. Можно сколько угодно спорить, но так или иначе взлетевший выше всех был царской породы, королёк, причём с ярко-жёлтой короной на темени. И Орёл не мог этого отрицать, хотя, конечно, многих покоробило известие о том, что отныне их царём и господином станет наименьший. Из зависти подданные иногда позволяли себе называть его не как положено, Rex или Regulus, с уменьшительным именем: «Рексик, Рексик!» Что касается стихов и песен, они пользуются неизменным уважением у всех, эпос же просто называют царём поэзии».
Глубокой ночью я продолжаю слышать пение Жизни.
«Ты поставил свою жизнь в зависимость от Ганнибала. Ты сидишь у него на темени, спрятавшись за царской диадемой. Сиди, сиди! Взлетай вместе с ним туда, куда поднимут вас его крылья! Судьба Ганнибала — твоя судьба! Его победа станет и твоей победой! Но этого мало! Когда он низвергнется с высоты, ты вознесёшься над ним на крыльях песни, выводя не слыханные доселе рулады. Кстати, ты обратил внимание на брильянт, который сочетает и себе лёд и пламень? Тебе всегда придётся находиться в опасной близости от него. Так что будь осторожен! Никогда не довольствуйся лёгкими победами или блистательными удачами! Не позволяй ослепить себя, не поддавайся чарам брильянта, который в особо торжественных случаях дрожит во лбу у Ганнибала, меча молнии и одновременно обольщая всех изысканной игрой красок. Эпический певец всегда собран и никогда не теряет головы».
Не знаю, во сне или наяву, но я думаю о своих будущих свершениях. Поскольку тема эта скоро исчерпывает себя, мысли мои плавно переходят на Орфея, на воздействие ого пения, на магию его лиры.
«Ведь правда нужно постараться превзойти всё, что было сказано до тебя? — думаю я. — И правда, что настоящий эпос должен сильнее прежних воздействовать на людей и на весь мир?»
Считается, что, пока Орфей пел для Эвридики, трёхголовый Кербер молчал; Сисиф перестал катить свой камень, а уселся на него и принялся слушать; колесо, к которому был привязан Иксион, застыло на месте; коршуны оставили в покое печень Тития; Тантал забыл про голод и жажду; Данаиды перестали таскать воду для своего дырявого сосуда; Эринии[65] были потрясены, а сам владыка подземного царства расплакался; мёртвые, все, как один, умилённые красотой песни, тоже заливались слезами.
«Хорошо, — думаю я, не выпуская из рук пера, — всё это звучит прекрасно, даже на мой слух. Но что было потом? В Аиде всё вернулось на круги своя. Значит, песнь Орфея следует превзойти. Какой толк с того, чтобы растрогать богов и людей, задеть за живое их сердца? От Аристотелевой теории катарсиса помощи мало[66]. Что муки прекращаются... да какое там! Конечно, сопереживание очищает и приносит облегчение — но облегчение лишь временное... Рассуждения Аристотеля о трагедии и в связи с этим о воздействии поэзии в широком смысле слова поверхностны. Мне нужен результат более глубокий и более длительный. Мой эпос даст людям новое видение мира, которое позволит им добиться в нём более серьёзных перемен. Мой эпос расшевелит народ. Моя доселе не слыханная песнь вызовет к жизни новые небеса и новую землю».
Незаметно для себя я проваливаюсь в сон — убаюканный Каллиопой[67], музой, символами которой выступают восковая табличка и палочка для письма.
БОКОВЫМ ЗРЕНИЕМ
I
Что-то теперь скажет мне Ганнибал — этот решительный, бдительный, перегруженный, предприимчивый, неутомимо деятельный Ганнибал? Однажды он, например, сказал: «Я никогда не отнимаю у детей молоко».
Он подразумевал, что из четвероногих ест только самцов. Впрочем, это не совсем так. В лесах Пиренеев я сам видел, как он вкушал волчатину. Волчицу запекли на костре из пиниевых шишек. Её принесли накануне вечером несколько незнакомцев. Зверюга лежала на боку в тесной клетке, с надетым на голову намордником и лапами, попарно скованными железными цепями. Присущие волкам бурная энергия и хищнические наклонности покинули её. Волчица лежала обмякшая и равнодушная, едва ли не безжизненная — закрыв глаза и не двигая хвостом. Время от времени она ещё пыталась ухватиться за жизнь, но попытки эти были слишком слабы, и прежний, неистовый огонь жизни никак не разгорался в ней. Даже по хвосту было видно, что волчица презирает мир, который более не может предложить ей того, ради чего она появилась на свет.
Впереди носильщиков торжественно выступало трое кельтов, одного из лесных племён. Первым шёл вождь, который в суровой манере, с бесчисленными запинками и повторами, поблагодарил Ганнибала от лица соплеменников за то, что произошло с их заклятыми врагами: кто-то из наших наголову разбил отряд из нескольких народностей, проживавших в плодородном краю у подножия гор, на верху которых мы находились в данное время. «Странно, — подумал я. — Волчица была не единственным их даром, однако обессилевшее и, вероятно, умирающее животное вызвало особое оживление у нашего Главнокомандующего».
Оказалось, но об этом я узнал позже, что Ганнибал сам заказал волчицу, отдав нескольким разведчикам следующий приказ:
— Велите местным жителям изловить для меня волчицу. Она мне нужна живая, а не мёртвая. Горцы знают, как делаются такие дела. Скажите им только, что это будет лучший способ показать своё расположение Главному Военачальнику.
Время года было не самое подходящее для исполнения Ганнибалова желания, однако предприятие удалось, и теперь самка находилась перед нами. Ганнибал тут же подскочил к клетке. Перво-наперво он осмотрел волчицыны лапы. Когти её затупились от времени и были сильно сточены. Признак старости. Малейший намёк на то, что чья-то лучшая пора осталась в прошлом, теперь вызывает у Ганнибала неприязнь, по крайней мере, если речь идёт о ратниках, впрочем, то же касается и оружия. Сейчас он обратил своё неудовольствие против престарелой волчицы. Стоя неподалёку от Ганнибала, я смотрю на него и задаюсь вопросом: с кем его можно в эту минуту сравнить? Пожалуй, с псом, которому после вынужденного купания не дали встряхнуться и просушить таким образом свою мохнатую шубу.
Вовсе не в этих горах хотелось бы сейчас торчать Ганнибалу со своим войском. События, произошедшие к северу от Ибера, задели его чувство собственного достоинства. Он стремился поскорее войти в прежнюю колею, снова стать самим собой: нужно было наконец стряхнуть с себя накопившуюся досаду. Коль скоро обстоятельства этому не способствовали, в нём бушевал дух противоречия, как, например, теперь.
— Римская мачеха, волчица, вскормившая Ромула и Рема, была в расцвете лет, — мрачно проворчал он. — А может, и нет? — тут же выдвинул возражение он. — Разве у молодой суки или у полноценной самки хватило бы терпения на человечьих сосунков?
Он умолк, словно взвешивая, что сказать дальше.
— Во всяком случае, изображают римскую волчицу в самом соку. Я это слышал от многих.
Внезапно уловив собственную непоследовательность, он резко бросил:
— Плевать я хотел на всякие римские небылицы. Мне эта волчица сгодится.
«Сгодится на что?» — задумался я.
Стоял тихий вечер. Наш штаб расположился в пышной каштановой роще. Из-за пересечённой местности лес вокруг вздымался всё более высокими, переливающимися разными оттенками зелёного волнами. В восточном направлении лес образовывал прогал. Там, вдали, серебряной каймой пенились волны морского прибоя. Отсюда шипевшее, бившееся и клокотавшее море казалось беззвучным и безмятежным. На западе высились горы, одна недоступнее другой. Горы были одеты хвойными лесами, которые, однако, во многих местах не добирались до вершин. Перед нами, выгнув к небу зигзагообразные или бугристые отроги, возносились хребты, на которых можно было различить каждый позвонок, каждое рёбрышко, каждую лопатку. Мне уже приходилось видеть подобные горы, поэтому сравнение пришло ненароком, можно сказать, само напросилось ко мне: горы напоминали исполинских быков с вздыбленной шерстью.
Ганнибал ощупал впалую грудь волчицы. Он искал сосцы. И так уже подвергшееся насилию животное почуяло новое притеснение, и в нём мгновенно проснулись хищные инстинкты. Угрожающе зарычав, волчица обнажила под намордником свои страшные клыки. Она рвалась и извивалась, дёргала лапами, билась хвостом о прутья, распушившаяся шерсть животного искрилась, словно по нему пробегал огонь. Некоторое время казалось, будто у волчицы хватит сил вырваться из заточения. Мы подняли крик, испуганные тем, что это может плохо кончиться для Ганнибала. Но он не убрал рук из клетки, оставил их там, за крепкими дубовыми прутьями. Я видел, что у него набухли вены и напряглись жилы на шее. Тут Ганнибал как бы отряхнулся от воды и, сбросив с себя отягощавшие его неприятности, воскликнул:
— Того, кто подкармливает волка зимой, он съедает летом!
И расхохотался, довольный собой. Право слово, необыкновенный человек, как в большом, так и в малом! Несмотря на ярую злобу обитательницы клетки, он нащупал у волчицы каждый сосок и нажал на него пальцем.
— Вымя пусто, титьки сухи, как бородавки, — сообщил нам оживившийся Главнокомандующий.
Скорее всего, она в этом году щенилась, но молоко уже кончилось. Значит, весь выводок теперь пищит или воет, требуя плоти и крови. Это подтверждало опасения Ганнибала о том, что мы опаздываем, что времени у нас в обрез. Возможно, он в очередной раз упрекнул себя: дескать, вышел из Нового Карфагена в последнюю минуту, тогда как важные вести от галлов из долины реки Пада[68] лазутчики вполне могли бы доставить во время сравнительно спокойного марша к Иберу.
Когда Ганнибал вытащил руки из клетки, его довольства как не бывало. «Волка ноги кормят: если он станет пролёживать бока, и его собственная ненасытная пасть, и большой выводок останутся без лакомых кусков», — так, вероятно, подумал он, прикидывая положение на себя и Карфаген. Я перевёл взгляд с Ганнибала на волчицу и обнаружил, что зажёгшийся в ней было огонь жизни вновь потух. Только в уголке глаза тлела узкая полоска былого пожарища. Волчица закрыла глаза. У меня вдруг защемило сердце. Почему? Может, волчица скончалась? Ну и что с того? Какое мне до неё дело?!
Если путь от Нового Карфагена до Ибера, отрезок миль этак в триста пятьдесят, можно назвать грудным возрастом Ганнибалова воинства, то за последующие двести оно перешло с молока совсем на другую пищу: кровь, кровь и ещё раз кровь. Кровавой смертью умирали или ей радовались, её оплакивали или её приветствовали, она наплёскивалась в вопли отчаяния или в ненависть, и так полна за волной. Весь наш путь окаймляли тела. Горы трупов, кучи останков везде, где мы встречали упорное сопротивление. Некоторые из каталонских племён заключили союз с Римом и, вероятно, забыли о судьбе Сагунта, хотя уничтожение его призвано было выжечь клеймо и на лбу каждого каталонца. Даже предупреждённый, Ганнибал оказался застигнут врасплох этим неуёмным сопротивлением. Как ни много ему было доложено заранее, он знал не всё.
Ни одно несчастье не оповещает о своём приближении звоном бубенцов. Оно подкрадывается тихой сапой, точно тень, — и бьёт из-за угла. Так, во всяком случае, гласит древняя мудрость.
А может быть, жители северной Иберии как раз слишком хорошо помнили про Сагунт и больше страшились того, что их ждёт в будущем, нежели тягот сегодняшнего дня? Щедрые посулы Ганнибала они восприняли как пустой звук... или как ветер, который дует куда ему заблагорассудится. Ганнибал наносил резкие, безжалостные удары и с течением времени становился всё беспощаднее. Неужели каждый город, самая распоследняя деревня считали себя равными по силам Сагунту? Воинов своих Главнокомандующий не щадил, по крайней мере наёмных, тем более молодых. До двадцати тысяч наших приказали долго жить и северо-восточной Испании.
Время утекало между пальцев — у целых и невредимых писцов.
Для писарской братии война не сопряжена ни с кровью, ни со смертельными ранениями, ни с увечьями — разве что по случайности, когда кто-то отстанет или заплутает. Для писцов война означает сочинения совершенно определённого толка, с однообразным повторением слов, почерпнутых из сугубо специального запаса. Как дипломатические эмиссары Баркидов способствуют восстанию, который галлы из долины Пада поднимают против Рима (о нём-то и дожидался Ганнибал вестей перед выступлением из Нового Карфагена), так и римские доносчики и подкупщики содействовали отпору нам со стороны иберов.
И всё же: жизнью и смертью распоряжается не Ганнибал, а боги. По их желанию выталкивается на свет божий человечий приплод и по их желанию убирается прочь. Повергнутые в прах люди значат для бессмертных не больше, чем бескровные черви, выгнанные на поверхность земли грозовым дождём, то есть не значат ничего. Ганнибал не может тут ни прибавить, ни убавить.
Наших павших мы аккуратно подсчитывали после каждого победного сражения (а победа рано или поздно всегда оставалась за нами). В штабе цифры эти складывались, но держались в секрете. Сведения обнародовались кучно, подобно голубям или мелким пташкам, которых стаей выпускают из клетки. И согласовывались данные не столько с фактами, сколько с целями и намерениями Ганнибала. Военные события либо преувеличивались, либо приуменьшались. Оккупацию называли добровольным присоединением. Уступки со стороны городских властей преподносились как результат давления взбунтовавшихся граждан. Толпы народа, охваченные отчаянием и горем, превращались в ликующие массы. Предателей называли борцами за свободу, а вредителей — героями. Кара или потворство, резня или снисхождение делались достоянием гласности не в зависимости от них самих, а в зависимости от того, как они могли откликнуться на следующем — и черезследующем — этапе. Римляне, как и в случае с Сагунтом, помощи не слали. Нет, на горизонте не маячило ни одного легиона.
Когда войско наше обступили пиренейские леса, у нас за спиной остались усмирённые земли и не понимавшие собственной пользы покорённые народы. Захваченные города и веси, как побитые собаки, зализывали свои раны. Развороченные валы, гласисы[69] и куртины, разорённые постройки, разрушенные бастионы, повреждённые укрепления и крепости — всё это по нашему распоряжению должно было быть восстановлено. Всё следовало улучшить, укрепить, получше продумать, сделать по возможности неприступным. Под наблюдением наших надсмотрщиков побеждённым предстояло восстановить разгромленное и загубленное.
Иными словами, положение круто переменилось. Защитные сооружения, которые наши солдаты совсем недавно призваны были разрушать, отныне должны были служить для нас больверком — на случай подхода римских легионов, на случай дерзких и наглых мятежей. Предпочтительней, конечно, было мало-помалу обратить земли и народы нам на пользу, как мы сделали по правую сторону Ибера, где испанскими владениями заправлял братец Гасдрубал Барка. В северной Иберии наместником был посажен военачальник Ганнон, на которого возложили ответственность за будущее замирённого края. Ему придано было десять тысяч пехотинцев и тысяча всадников, а также отряд боевых слонов и вся тяжёлая военная техника, как-то: тараны и осадные башни. Весь громоздкий обоз также был оставлен в Испании.
— Эти махины мне больше не пригодятся, — объяснил Ганнибал. — Второму Сагунту не бывать! Нет уж, я не собираюсь никогда более идти по стопам Александра и пробовать то, что я испробовал против Сагунта.
Приметив, что именно оставил Ганнибал, многие ратники сделали собственные выводы. Как выяснилось, раньше не все принимали всерьёз Ганнибаловы планы восхождения на небеса. Но уже когда предгорья Пиренеев опустили ноги в море, каждый уразумел, что ему предстоит. Множество солдат захотело порвать договор о вербовке. Одна только мысль про Альпы приводила их в ужас. Высоты альпийского массива, его слепые долины и гак называемые «драконовы ямы», то есть провалы, стали неотступными кошмарами. Уже Пиренеев хватило, чтобы вызвать у людей страх перед снегами. Значит, вдобавок ещё меняется стратегия?! Теперь, значит, не будет больше осад, а только шагом марш вперёд? Осады нередко превращались в приятное ничегонеделанье. За штурмом следовало разграбление города, во время которого любой расторопный человек мог неплохо поживиться.
Как же поступил в новых обстоятельствах Ганнибал? Естественно, так, как никто не ожидал! Когда ему со всех сторон стали доносить, о чём толкуют между собой воины, Ганнибал не стал ни грозить струсившим, ни успокаивать их. Он предложил им отправляться по домам! Будьте любезны... Ганнибал не какой-нибудь тиран, так и расскажите всем в своей округе; ему не нужны всякие долгоножки... Но о последнем дома лучше умолчать!
Десять тысяч иберов двинулось восвояси. Adios, приятели! Saluto, rustica pubes[70] — сия серьёзная игра для вас окончена! Бросьте жребий, чтобы решить, кто вернётся домой самым богатым; куда бы ни пришли, рассказывайте о наших великих победах и не забудьте прихвастнуть, каким героем был ты, и ты, и ты! Меч годится на всё, только не для того, чтоб на нём сидеть. Так что, господа будущие сидельцы, меч — воинству, кинжал — вам!
У возвращающихся было изъято всё оружие, кроме кинжала. Вероятно, на этом Ганнибал сохранил тысячи две наёмников: уж больно трудно солдату расстаться с дорогим ему оружием.
Несмотря на сокращение рядов, в лесах остаётся ещё целое полчище пехоты и около девяти тысяч всадников. Слонов насчитывается тридцать шесть. Тягловую скотину даже не учитывают, хотя она незаменима в военных условиях: на неё навьючены предметы первой необходимости для всего войска. Нередко этот обоз грабят свои же отряды по пять человек; этих людей, которые пользуются дурной репутацией, высылают вперёд в качестве провиантмейстеров, как только в виду появляется деревня.
— Теперь небось все, кто нас покинул, поют грустные песни, — говорит кто-то.
— И мы поем, — откликается другой. — Только наши куплеты бодрящие, смелые и дерзкие.
Как здесь спокойно, как здесь тихо, как легко дышится... Куда подевались все жители? За три дня ни одного врага. Только деревья и горы вокруг. В лесу крепко спится. И меньше хочется есть, когда не с кем сражаться. Может, каталонцы вызверились на нас, потому что мы пришли сразу после уборки урожая и выхватили у них изо рта кусок хлеба на зиму? Голод, даже сама мысль о голоде доводит людей до белого каления.
Я слышу разговоры об этом и о многом другом. Завожу новые знакомства. Пока что назову двоих: Исаака и Замара. Исаак — иудей, родом из Александрии. Он следует с нами в качестве наблюдателя от Птолемея Филопатора. Ганнибал не очень доволен тем, что Исаак иудей. Ему кажется, что Исаак недостаточно влиятелен и что, прислав именно его, Филопатор придаёт подчёркнуто малое значение Ганнибалову предприятию.
Замар учит нас латыни. Он ещё с Нового Карфагена занимается с нами, небольшой группой добровольцев.
С Исааком мы подружились после переправы через Ибер. Его имя значит что-то вроде «тот, кто смеётся», и Исаак действительно смеётся, но смех его отягощён печалью. Телом и душой он грек, если не сказать афинянин. Не успел я вывести эти слова, как мне вспомнился наш первый разговор. Мы и после часто обсуждали с Исааком языковые вопросы, однако в ту, первую, беседу речь у нас зашла как раз о словах «тело» (сома) и «душа» (психе́). Исаак указал на то, что Гомер всего в двух случаях использует эти слова: «психе», когда душа покидает тело через рот, чтобы постучаться в ворота Аида. Он привёл несколько примеров, в частности из девятой песни:
Душу ж назад возвратить невозможно; души не стяжаешь, Вновь не уловишь её, как однажды из уст улетела[71].В отношении тела он тоже процитировал несколько примеров. Помню, там было одно замечательное место, вот это:
Пал наш Патрокл! и уже загорелася битва за тело; Он уже наг; совлёк всё оружие Гектор могучий!Заковыристая проблема отношений между душой и телом — которая сейчас актуальна для эллинизма — совершенно не затрагивается Гомером, что свидетельствует о его явном простодушии.
— Я много размышлял над этим, — говорит Исаак. — Само собой разумеется, я расспрашивал и александрийских учёных филологов, особенно одного, специалиста по «Илиаде». Ответы я получил весьма разнообразные. Учёного, который пользуется моим наибольшим уважением, зовут Каллиграфом.
— Ты говоришь очень интересные и достойные размышления вещи, — только и мог сказать я.
Впоследствии я нередко думал о проблеме, которую столь скромно и не требуя подтверждения своего мнения, изложил мне Исаак.
Ганнибал охвачен спешкой. Ему приходится подгонять свои полки. «Больше, чем вперёд, воины!» — как выразился один из младших начальников. И тем не менее Главнокомандующий заказывает волчицу. Её косой взгляд жёг не хуже расплавленного золота. Взгляд этот пронзил меня болью.
Время мчится, словно низвергающийся с утёса ручей. Со мной происходят разные перемены — и желательные и нежелательные. Panta rhei, всё течёт — этот Гераклитов закон только злит меня[72]. Поэт во мне стремится продлить каждое мгновение до бесконечности, придать ему некую определённость. Только таким образом я сумею выполнить своё предназначение. Неудивительно поэтому, что меня тянет вмешаться в этот процесс низвергающихся изменений, наполнить поющие уста одним благословенным мгновением, прочувствовать его чистоту и свежесть и сохранить во всей его незабываемости. «Сохранить во всей его незабываемости», — с болью и гневом пою я. Притом, что иногда мне это как будто удаётся (ибо тогда на меня снисходит дарующее благолепие спокойствие, ничем не нарушаемое ощущение полноты), я, к своему ужасу, замечаю, что моя возвышенная безмятежность сугубо поверхностна. Будучи вкраплён в гигантский человеческий оползень, я должен по необходимости нестись имеете со всей этой массой.
«Ганнибал! — рвётся из меня немой крик. — Что ты задумал? Я не могу избежать участия в твоих планах».
Ганнибал деятелен круглые сутки. Так было с самого начала. Он может заснуть когда угодно и где угодно. Точно птица на ветке. Точно ящерица в расселине. Точно сторожевой пёс на земле. Только прикорнул — и уже вскакивает, отдохнувший. Ни одному человеку не требуется так мало сна, как ему. Настроение его волнообразно и непредсказуемо, характер твёрдый, а воля, вроде наконечника у стрелы, неизменно направлена вперёд и вверх. Ганнибал смеётся и шутит в самые неожиданные моменты. Взять, например, тот раз, когда он устроил себе сиесту в чистом поле. Накрыв голову плащом, он рухнул на землю. Ох, как тут забегали его ребята! Быстренько ставить палатку и навес от солнца! Ганнибал выглянул из-под плаща и поинтересовался, что за шум. Подумать только, ребята хотят устроить ему тень! Спать пора, уснул бычок... однако лечь на бочок он должен непременно в тени.
— Я не нанимал в своё войско тень! — кричит Ганнибал. — Ослов я навербовал массу, но без теней.
Тут только вспомнили мы старинную историю о том, как владелец осла поспорил с купцом. Шли эти двое по безлесной степи и были в полном ладу, пока солнце стояло невысоко. Когда же оно принялось печь как следует, дело обернулось иначе. Купец захотел воспользоваться тенью от осла и, скорчившись, улёгся в ней — там было чуточку прохладнее, чем на солнцепёке. А владелец осла остался потеть на жаре. Стал он по мере своего разумения кумекать, как ему быть. И придумал. Прежде всего он стреножил осла, чтобы тот стоял смирно. Затем пригляделся к его тени. Смерил её взглядом. Понял, что двоим в ней не уместиться. И тогда уже сказал: «Вылезай из тени моего осла! Осла ты, может, и нанял, но тень я внаём не сдавал».
Ганнибал завернулся в плащ и погрузился в глубокий сон. А ведь за секунду до этого хохотал во всё горло.
В глубине души я весьма строг со своим господином. Орлу невдомёк, что живёт во мне и, можно сказать, снедает меня. Он не видит, на какой риск я иду ради него. Я заучиваю про себя симметрии своего эпоса, о чём Ганнибал даже не подозревает. Я начинаю снова и снова. Моей бедной головушке редко выдаётся покойная минута. Я то и дело обгоняю продвигающуюся колонну и, паря, зависаю над головами тех, чьей судьбе я, возможно, уделю строку, а то и целую строфу. Я никому не рассказываю о своих полётах. А у Главнокомандующего прошу только одного: дозволения узнать, кто он такой. Познакомиться не с тем, кого он намеренно мне показывает, а с подлинным Ганнибалом. Чтобы речь потекла сама собой, мне нужно видеть его как нечто конкретное, определённое; если он представляет собой загадку, мне надо знать имя этой загадки, дабы с помощью языка изобразить его загадочным.
Что в Ганнибале уживается сразу множество людей, я уже догадался. Ведь чтобы внушать уважение начальнику каждого отряда, нужно показывать себя с разных сторон. Чтобы завораживать целое войско, требуется неординарное чувство собственного достоинства. При самых неожиданных поворотах событий Главнокомандующий должен демонстрировать твёрдость и способность отдавать разумные приказания. Конечно, я изо всех сил стремлюсь понять его. Я не только строг к Ганнибалу. Я распространяю на него свою улыбку. Моё восхищение им должно ласкать, как прикосновение лёгкого крыла. Надежда, которую я питаю как на его, так и на свой счёт, греет не хуже летнего солнца; мне нужно куда-то скрыться, невозможно часами стоять под палящим зноем надежды. С другой стороны, я не упускаю из виду и присущие великому человеку детскость, игривость. Кое-каким пустякам я не даю кануть в Лету. Я примеряю, не найдётся ли и им местечко в моём непрестанном сочинительстве.
Что я, например, услышал сегодня? Карфагенскому военачальнику, который вгрызается зубами в грушу, но тут же выплёвывает её, Ганнибал говорит:
— Лишь в Пунии пунийский плод отыщешь ты.
Годится ли это для моего эпоса? Сомневаюсь. Скорее для шлягера. Эпику пристало очень чутко относиться к словам и пробовать на зуб и их форму, и содержание, то бишь сердцевину.
II
Что мне иногда может сказать Ганнибал? Один из примеров: «Я не отнимаю молоко у младенцев». Он уже заявлял нечто подобное. Теперь притащили чёрного быка для жертвы Баал-Хаммону, а мы тем временем попали в новый ландшафт. Торжественной церемонией руководит верховный ратный жрец Богус. Высоко над нами распростёрся осенний небосвод. У нас кружатся головы. В вышине не за что ухватиться глазу, как, впрочем, и по сторонам. Дует пронизывающий северяк. Священные обряды окутывают наши чувства некоей оболочкой, тогда как ширь небес силится смешать и опрокинуть их. Мы стараемся возможно крепче стоять на ногах.
В каштановой роще всё было иначе. Волчица стала жертвой, призванной умилостивить Волка-Юпитера. Или вовсе не жертвой, а лишь язвительной проказой нашего падкого к выдумкам Ганнибала. Сомневаюсь, чтобы издевательский ритуал проводил кто-либо из наших жрецов. Меня, во всяком случае, на него не пригласили. Однако, когда волчицу изжарили на костре из пиниевых шишек, меня всё же позвали: кто-то вспомнил о моём существовании и решил, что я должен присутствовать.
Итак, я видел обоих жертвенных животных и съел по куску от каждого. В данную минуту эти два эпизода кажутся мне почему-то очень важными. Мне хочется снова и снова писать о них, но я ограничиваюсь тем, что снова и снова перечитываю сии строки.
Я участвую в необыкновенной войне и в смелом походе, в котором мне многое приходится видеть и слышать. Однако из всего этого я ухватываю лишь фрагменты. Многое вовсе ускользает от меня — возможно, самое главное. Мне достался здоровый кус от замечательного чёрного быка и только обрезок от волчицы. Во время торжественной трапезы подали на закуску жареные каштаны. Кто бы до такого додумался: соединить жертвенную бычатину с прочей пищей? Никто, даже Ганнибал. Он карфагенянин, и я замечаю зреющий в нём разлад. Жрецы теперь стали полновластными хозяевами в главном капище, которое одновременно есть святая святых Карфагена. Ганнибал во всём потакает жрецам, всегда примыкает к ним. Как прикажете это объяснить?!
Ганнибалу положено стоять впереди всех, что он и делает. Он стоит впереди, даже когда «примыкает». Возможно, у жрецов лишь видимость полновластия? Конечно! Значит, несправедливо говорить о разладе или, того хуже, раздвоенности в душе Ганнибала? Может, он всегда, в любом положении сохраняет свою цельность? Тогда изменяются обстоятельства и поступки, но не человек, не наш Главнокомандующий. Может, в этом и заключается секрет Ганнибалова ума и способностей? Не нащупал ли я суть его загадки? Обычно важное событие заставляет нас сообразовываться с ним. Ганнибал же идёт навстречу трудностям, чтобы преодолеть их. Он мгновенно ориентируется в обстановке и принимает ответные меры. В результате иногда не он должен сообразовываться с событиями, а они — с ним. Как, например, сейчас.
Что Ганнибал всегда подходит вплотную к алтарю и сам проверяет, какие предупреждающие знаки проступают во внутренностях закланного животного, отчасти объясняется его познаниями и в этой области (в юности его наставниками были жрецы Гадеса), отчасти тем, что он понимает: священнодействие не всегда даёт проникнуть в мировое яйцо. Несмотря на все ритуалы, яйцо противостоит проникновению, отчего жрецы иногда склонны подыгрывать какой-либо партии и участвовать в тайных кознях. Не исключено, что в один прекрасный день устами жреца могут заговорить противники Баркидов. Всё это и многое другое — малодушие, неприязнь, тоска по дому — способно исказить слова прорицателя и, соответственно, превратить священное свидетельство в ложь.
Из всего, что говорит и слышит в походе сам Ганнибал, до меня доходят лишь обрывки. Я беспокоюсь, нередко даже прихожу в бешенство, например, сегодня, когда мне, видимо, в очередной раз придётся провести целый день в собственной палатке. Утром я сел писать — с намерением занести на бумагу наиболее важное из случившегося с нами до сего времени. И тут до меня дошло, что мне известно далеко не всё. Как же я буду записывать самое важное? Если из моего поля зрения выпало что-либо существенное, значит, я в своём невежестве не сумею намыть крупицы действительно значимого. В таком случае в моих писаниях смещаются пропорции. Пустяк может стать главным, а главное — быть отнесено к пустякам.
Как совладать с коротеньким словом «всё»? Стоит его коснуться, и перед тобой раскрывается бездонная пропасть с кружащимися там вперемешку мириадами мелочей и глобальных событий. Мне необходимо очистить это «всё», дабы проявилось самое основное. Как это сделать?
Мысль обо «всём» грозит сокрушить моё перо. Всё или ничего! Ничто перетекает во всё, а всё — в ничто. Я же каждым своим словом, каждым предложением стремлюсь к воплощению целого. Мой эпос спрятан на макушке у Ганнибала — в ожидании, когда будет достигнута окончательная победа. Да, я действительно нахожусь в зависимости от самого активного и бесстрашного человека, какого только видал свет. А в моём распоряжении всего лишь хиленькие коготки королька: только ими я могу удержаться на макушке во время отважных бросков Орла, когда он то круто взмывает ввысь, то столь же отвесно устремляется к земле. Как прикажете полагаться на помощь языка, если даже крохотное словечко «всё» едва не приводит меня в полную растерянность?
Тем не менее язык — единственное доступное мне средство.
Я кусаю ногти. Мысль тонет в омутах языка, иначе говоря, в безъязыкости. Это значит, что я ничего не вижу. Я только пялю глаза, не видя ничего определённого. А я хочу иметь широкий обзор. Хочу, чтобы ничто не ускользало от моего внимания, чтобы ни одна тайна, ни один шёпот от ночных осведомителей не оставались скрыты от меня. Это стремление к полноте охвата, того гляди, вовсе заткнёт мне рот. Но вот мне бросаются жалкие крохи того, что мне в самом деле необходимо знать... и, пожалуйста, утопающий рад ухватиться за соломинку.
Загнанный в угол, я вынужден прислушаться к собственному подозрению о том, что, вероятно, допустил в своих рассуждениях пару-тройку ошибок. Похоже, некоторые слова заняли место, на котором положено было бы стоять совсем другим словам. Эти коварные речевые казусы побуждают меня к поправкам. И всё же сочинитель тут я, я и должен исправлять. Решающая роль принадлежит моим речевым актам. «Значит, теперь нужно всё обдумать заново», — думаю я и записываю также и эти слова.
Склонившись над потрохами закланного животного, Ганнибал внимательно смотрит и в то же время критически прислушивается к тому, что вещает ратный жрец. Чего бояться Ганнибалу? Карфаген единодушно поддерживает его. Наш родной город отклонил постыдные требования Рима о выдаче Главнокомандующего и его ближайших сподвижников для наказания их как военных преступников за разорение богатого Сагунта. А если честно: выдаче и наказании их за страх и ужас, которые внушили Риму Ганнибал и наша власть над Испанией. Мясник, говорят в Риме о Ганнибале. Мясник, и больше никто.
Нужно ли мне ещё раз напоминать, что я ничего не пишу без умысла?
Уверяю вас, моё перо торопит благоприобретённая проницательность. Я понял, что теперь от меня требуется глубокий и оригинальный анализ. Впрочем, первые попытки оного могут показаться первыми шагами младенца. Поначалу, естественно, анализ должен продвигаться вперёд крайне осторожно, затем уже можно браться за метлу, а там дойдёт очередь до крепких ударов и, наконец, до резких, молниеносных бросков и уколов. Таков ход вещей. Сколько раз мне доводилось слышать пространные и тонкие объяснения учёных философов! Поначалу их рассуждения звучат не лучше детского лепета. Они начинают с облизывания-пережёвывания самых что ни на есть очевидностей.
Итак: я не съел быка, а отведал быка. Нас, едоков, было много, поэтому он был съеден. Я не съел волчицу, а отведал крохотный её кусочек. И я ел не один. Что касается войны, в которой я участвую, могу ли я называть её своей войной? И да и нет! Я нахожусь в центре событий, участвуя в ней на стороне одного из противников. У меня есть своя доля. Она незначительна, фактически мизерна. Тем не менее я вовлечён в войну, и мне отведено в ней определённое место. В войне есть противоборствующие стороны. В этом противоборстве враг бывает близок, как друг. На стороне противника в каждой крупной войне тоже привлекаются большие силы. Хотя и враждебно настроенные друг к другу, противники варятся в одном и том же месиве, имя которому — война.
Попытаюсь осветить проблему с помощью примера из мирной жизни. Как будут обстоять дела в этом случае? Я называю Карфаген своей родиной, родным городом, городом своего детства или просто-напросто своим городом. Но Карфаген не принадлежит мне. Захоти я — и любой встречный просветит меня насчёт того, какой микроскопической долей Карфагена я владею. Однако никто не в состоянии отнять у меня сию скромную долю — так было в тот день, когда я впервые увидел свет, так обстоит дело и теперь. О чём, собственно, я веду речь? Не о голом факте, не о том, что поддаётся измерению, что может быть большим или малым. Говоря «мой Карфаген», я имею в виду Карфаген в целом. Я связан не с большей или меньшей частью города, а с ним во всей его целостности, почему я и могу применять к нему слово «мой».
Но как быть дальше, со всеми прочими случаями «моего» или «моей»? Мысль замерла на месте. Я вижу, как ветер подхватывает и кружит в вихре слова и слоги, как скачут солнечными зайчиками предложения, которые вовлекла в этот круговорот lusus ingenii, то есть моя игра ума. Благодаря капризу сей любящей дразниться особы, Lusus, я слышу собственные тяжёлые вдохи и вздохи, а вслед за тем до меня доносится, как трещит от мысленного напряжения моя голова. И тут я кладу этому конец. Слова способны совращать и внушать людям несуществующие права. Они способны порождать цепочки рассуждений, которые мгновенно рассыпаются, стоит только подвергнуть их критическому разбору.
Я чувствую, что мне пора подкрепить себя, иначе недолго и сдаться. Тогда я беру самое простое и говорю себе: мои глаза — мои, а не чьи-то чужие. Все без исключения люди должны говорить о них «его глаза». Нос мой совершенно справедливо называется «носом Йадамилка». Что ещё сказать? Да, сделай из всего этого вывод о том, что решающую роль для правильного понимания играют окончания и короткие словечки. Признай, что у грамматики есть свои слабые стороны и что семантика нередко бывает довольно смутной. Связность же в лучшем случае сообщает чёткость и ясность каждому слову, каждому слогу и каждой точке, хотя так бывает далеко не всегда.
Я видел целого быка, но я не съел его, я лишь отведал его. Боги, помогите мне, мне нужна срочная помощь! Во мне живёт мой Карфаген, и я вижу его дорогим серебряно-сапфировым кубком в розовоперстых руках утренней зари. В следующее мгновение я лицезрею Мелькарта и безошибочно узнаю его жест: он бросает глыбы и камни перед моим городом, дабы защитить его от наступающих с моря волн. Вот как Карфаген обрёл свои прекрасные гавани. Конечно, карфагеняне улучшили Мелькартов дар, достроив всё, чего не хватало для хорошей пристани. Жесты богов для того и делаются, чтобы им подражали. Наши отцы понимали это.
Ганнибала, человека действия, тоже подстерегает непредсказуемое. Он же не видит того, что готовится ему далеко за горизонтом, того, что обрушится на нас всех, метав его врасплох и вынуждая вступить в борьбу. Поставленный перед непредвиденным, карфагенский разумник и мастак принимает собственные меры — как это было в северо-восточной Испании. Причём грандиозные замыслы Орла не всегда осуществляются без сучка без задоринки; дабы они обрели Смысл, нужно время от времени подправлять их, корректировать, перефразировать, придавать им новое значение. Даже Ганнибаловы сведения ограничены и состоят из разрозненных фрагментов, которые ему приходится беспрестанно связывать друг с другом, чтобы всё шло согласно его воле. Его повеления должны быть разумны, только в этом случае они будут иметь вес и двигать нас вперёд.
Теперь я осмеливаюсь продолжить анализ, а потому говорю: об этой войне скажут своё слово многие. Я слышу нарастающий гул: слова-слова-слова. Пишутся тысячи страниц анналов, копятся горы документов, без передышки работают тысячи языков. Но всё это не сплетается в единое целое. Не будем упоминать о бесконечных сплетнях, историях приключений и прочей пустой болтовне — пи свидетельства сжигаются и развеиваются ветром.
В результате обстоятельного анализа я убедился лишь и одном: отныне мне можно оставить разглагольствования о тех или иных конкретных событиях. Моя задача — неотступно думать над эпосом. Здесь мысль моя взлетает высоко. Она возносится над суетным миром вещей и событий, над всем, что по природе своей не обладает и никогда не будет обладать речью. Возьмём самое конкретное для тебя: твоё тело и землю, на которой ты стоишь! Приложись щекой к утёсу, прижми ухо к каменной стене, скажи что-нибудь вслух, прокричи что-нибудь горным вершинам: безъязыкое не даёт ответа на обращённую к нему речь, от него не услышать слов и предложений. У тебя в ушах остаётся лишь эхо собственного голоса, да и оно скоро затухает.
Я додумался до самого удивительного в человеческой жизни: как нечто, находящееся за пределами и абстрактного и конкретного, способно обрести конкретность, а затем — заменить собою жизнь.
Но вернёмся к понятию «всё». Твой монолог о мире никогда не прерывается самим миром. Монолог не превращается в диалог. Безъязыкая действительность не конкретизируется для нас. Тебе приходится самостоятельно реализовывать действительность. Но будь начеку! Люди действия умеют произносить зажигательные речи, глотая малоподходящие слова и выпуская на их место более подходящие, более сильные, а потом и самые сильные. Волнующие речи вдохновляют олигархов и массы на колоссальные перемены. Прекрасно! Но чем это кончается? Рано или поздно всё тонет в безъязыкой материи. Даже подвиги ожидает та же мертвечина. Память берёт на себя задачу преобразовать всё некогда случившееся в воспоминания. Метопа рыщет по гигантскому некрополю прошлого и гиеной роется среди могил в надежде найти свидетельства о нём. Отысканное ею нередко оказывается шоком для молодых людей, которые утрачивают энергичность и решительность.
Тем временем анализ мой достиг коды. Её-то я и хочу теперь послушать — прежде чем перейти к хвалебной песне.
Кто делает реальным то, что было реальным лишь серединка на половинку? Кто по-настоящему переживает то, что довольно односторонне пережили другие? Кто приводит всё в порядок и предлагает точку обзора? Кто определяет и закрепляет значение и ценность? Кто преобразовывает хаотическое многообразие в некое единство, позволяя одним взглядом окинуть то, что ранее поддавалось лишь наблюдению по частям?
Иными словами, кто оказывается в состоянии всё конкретизировать и таким образом придаёт жизни смысл, то есть вносит в неё ясность?
Эпик! Да, именно так обстоят дела у нас, у людей. Только в крупномасштабном эпосе ты обретаешь вожделенную целостность! Рука с пером в тысячу раз ценнее руки с мечом. Эпос дарует тебе всего быка. Волчица тоже безоговорочно становится твоею. Потомки получают редкую возможность познакомиться с монолитным образом войны, чего бывают лишены те, кто был её истинным (!) участником. Эпос вписывает всех и каждого в эпоху, послужившую возвышению рода человеческого. С помощью чего? Рука еле подымается написать: с помощью слов, одних только слов, которые возвышаются над всем, что возвышает наш род. Магнетическая сила эпоса приводит в порядок запутанный язык и возносит его до песни, приобщающей каждого человека к величию и славе.
Йадамилк, который вроде бы видит сию необычайную войну лишь боковым зрением, собирается, копит силы, гнёт спину над рабочей тетрадью — исключительно ради того, чтобы со временем дать цельную картину войны, чтобы каждый мог заново пережить свою человеческую цельность.
Как, однако, распалил меня мой анализ! А мне ещё нужно коснуться загадки поэзии и самого сокровенного пласта поэта. Поэт живёт в окружении отрывочной речи и фраз, которые на самом деле лишь парафразы. Чем больше этого, тем сильнее проявляется власть безъязыких вещей и не достойных упоминания повседневных хлопот. Вокруг чувственного тела эпика собираются бесчисленные абстракции мира. Всё, что не имеет отношения к слову, обращается у эпика в песнь, которая от стиха к стиху ведёт тебя вниз, в бессловесную глыбь, в которой человек, по замыслу богов, и призван обрести свой дом. Так эпос создаёт новую, уже чисто человеческую безъязыкость. И она совершенно конкретна, ибо теперь речь идёт о виде и воплощении человеческой жизни... наконец-то, наконец-то!
Позвольте мне также указать на коренное отличие поэта от учёного.
Когда я жил в Сиракузах, мимо меня несколько раз пробегал Архимед[73]. В первый раз мне ткнули в него пальцем и рассказали много анекдотов, в том числе, как он мчался по улицам с восторженным криком: «Эврика! Эврика!» Что же открыл Архимед? Нечто такое, что происходит всегда, а именно: вытесненная телом вода имеет гот же объем, что и погруженное в неё тело. Вот как, оказывается, сокрыто от нас происходящее всегда. Эпик же выявляет и воспевает то, чего вообще никогда не было.
Через песнь обретает значение и твоя жизнь. Тебе незачем рассказывать о своей натуре: она видна. Душа твоя — кубок, который наполняется вдохновением, внушающим тебе определённые мысли. Тебе не надо самому размышлять, ибо в тебе уже заложено нечто, определяющее твою жизнь, твои оценки и мнения. Ты можешь забыть словесное содержание эпоса. Это не играет роли. Ты уже живёшь жизнью, которую он напел тебе, которую ты подтвердил и таким образом выбрал. Твоя жизнь поёт ту же песнь, что и мой эпос. Так, через конкретную жизнь, воплощается и воспринимается величие нашего существования.
III
Я, целый и невредимый, сижу в своей палатке около Родана. Вчера меня благополучно переправили сюда, на левый берег реки. Мне достаточно отогнуть полог палатки, чтобы увидеть грандиозное предприятие. Организаторские таланты Ганнибала творят чудеса. Целое войско, эта колоссальная военная махина, переправляется через реку (которая здесь хотя и поспокойнее, чем в низовьях, но зато добрых две тысячи футов шириной). Мои руки не призвали для сей трудоёмкой работы, впрочем, толку от них было бы мало. Теперь у меня есть время кое-что записать в рабочую тетрадь.
Думая о получающихся фразах, я иногда уподобляюсь столяру, который строгает доску и говорит себе: такая-то стружка, такое-то дерево. Бывает, что я испытываю неожиданный прилив сил. В этих случаях я, фигурально выражаясь, обеими руками хватаюсь за ветку языкового дерева и что есть мочи трясу его. Мне хочется познать внутреннюю жизнь дерева, собрать все его плоды. Зачастую приходится удовлетворяться их свежим ароматом, но и от него перо бежит быстрее.
Хотя я старался избегать подобных рассказов, придётся всё же упомянуть о досадном происшествии, как нельзя лучше свидетельствующем об отведённой мне в войске роли, по крайней мере, чисто внешне. Разве я не свободный гражданин знатного происхождения? Иногда в это трудно поверить. Не далее как сегодня утром, которое я решил посвятить важным записям, в мою палатку врываются солдаты Ганнибалова племянника Ганнона. Ко мне вталкивают человека невероятной наружности, а рядом с ним возникает Ганнон собственной персоной.
— Тут у нас важная птица с севера, допроси его! — велит он.
— Почему обязательно я? — пытаюсь протестовать я.
— Потому что у тебя нет других поручений.
— А где остальные? Табнит, Палу... Я что, единственный писец на этом берегу Родана?
И с нажимом сам отвечаю на свой вопрос:
— Конечно нет!
Я сержусь и уже перешёл на крик.
— Баркиды не просят, они приказывают.
Так говорит Ганнон, прежде чем покинуть палатку, — Ганнон, который приходится сыном нашему царю Бомилькару. К сожалению, он не успевает увидеть моей сардонической усмешки. Мы, карфагеняне, никогда не ссылаемся на своё происхождение по материнской линии. У нас главная линия — отцовская. Юный Ганнон невольно пролил свет на сложившуюся в Карфагене своеобразную политическую ситуацию. У нас действительно есть царь. Но он ничего не значит. На самом деле Карфаген республика, и всё же там сидит царь, который на пустом месте изображает из себя монарха. А тут, в моей палатке, царский сын изображает из себя Баркида, поскольку его мать приходится сестрой Ганнибалу.
Да, бывает. Таким был и Ганнибалов отец, Гамилькар. В первую очередь опираясь на народное собрание, он, однако, выдал дочь замуж за нашего царя. Для чего? Чтобы позлить старейшин и своих противников среди олигархов? Или же Гамилькар, подобно нам всем, страдал раздвоенностью? И допускал возвращение Карфагена к глубокому прошлому, к священной царской власти? Подобные мысли заложены в гумусе нашей религии.
— Да пребудет с ним Кусор[74], — бормочу я и перевожу внимание на диковинного человека, который теперь дышит одним воздухом со мной.
Сведения о нём у меня самые скудные. И он и я, не отрываясь, смотрим друг на друга. Ничего не поделаешь, придётся разобраться с сим чудаком. «Великие боги, — думаю я, — и это называется важная персона!» По счастью, мне никогда не узнать, какие бесценные строки останутся ненаписанными из-за его появления. Кругом царит беспримерное напряжение сил. Ганнибал превосходит самого себя, да и каждый из его подчинённых старается прибавить к своему росту хотя бы вершок. Естественная преграда в виде Родана не должна помешать нашим планам, её надо преодолеть с наименьшими потерями. А меня усадили за дело, не стоящее выеденного яйца. Я неприязненно кошусь на диковинного вельможу, внешность которого вызывает у меня отвращение. Он весь какой-то розовый, с переходом в красноту и рыжину.
Наверное, надо выкинуть из головы мысли о том, что я теряю? Тогда мне будет проще трезво оценить его. Ну уж нет! Ненаписанные строки не изменят ни розовости его кожи, ни рыжины волос, ни красноватого обвода стеклянно-голубых глаз. От моего сердитого взгляда не побелеют ни его брови, ни ресницы, ни голова с редким покровом пожухлого тонконога.
Тело у знатного господина хилое, с щуплыми конечностями. Я мгновенно заметил, что ростом он ещё ниже меня. Но плечи расправлены, нижняя губа выдаётся вперёд, взгляд прямой и открытый. Пока он бережно устанавливал в палатке свой кожаный мешок, на котором теперь восседает, я обратил внимание, что он ещё и хромает. Вельможа сразу сделал вид, будто поселился у меня и мы с ним живём на равных. Что ещё сообщил мне Ганнон? Что данный фрукт не римского и не кельтского рода, а также что тут не идёт речи о шпионе или лазутчике.
Ага, всё предельно ясно и понятно! Как я сразу не сообразил?! Кто тут у нас катит бочку на Афины? Конечно же Ганнон!
Итак, некий господин диковинного и пока не определённого происхождения отправляется в дальний путь на лодке в сопровождении всего лишь одного раба. К тому же без оружия. Военачальник Ганнон со своим отрядом испанцев натолкнулся на этого недомерка с выпяченной губой во время рейда вдоль Родана, Орлы не охотятся на мух, но Ганнону сие явно неведомо. Он поймал именно муху, хотя и знатную муху, родом из северных краёв.
Имя? Как тебя зовут? Назови себя. Откуда ты? Куда направляешься? С какой целью? Не вздумай утверждать, что с тобой плохо обошлись! Где ты ночевал прошлой ночью и где накануне?
Рутинные вопросы. Надев на себя маску терпеливости, я задаю их на всех языках, которыми владею и которыми не владею. В общей сложности набирается шесть, восемь, девять.
— Куда путь? Цель? Место назначения?
— Рим, — слышу я в ответ.
От удивления я вздрагиваю и чувствую, как нацепленная мной маска начинает отставать. Я отворачиваюсь, не желая показывать своих чувств. Хотя мне самому в жизни крепко доставалось за малый рост и я всегда считал язвительность жестокой и несправедливой, сам я не могу удержаться от колкостей по отношению к пигмеям. Только что я заметил на знатном господине красивый кованый пояс. Вельможа продрог и кутается в длинный шерстяной плащ серого цвета.
Я проявляю любезность и протягиваю ему кружку с вином. Не разжимая рта, он осторожно пригубливает. Я вижу, что вино слишком кисло на его вкус. Оно действительно кислое.
— Значит, в Рим? — наконец переспрашиваю я.
Господин утвердительно кивает. Без задних мыслей или лукавит? Мне по-прежнему неприятна его внешность. Он не похож ни на кого из виденных мною людей. А я всё-таки немало поездил по свету. Впрочем, кого-то он мне напоминает... Ну да! Его травянистые рыжие космы и непреклонный рот вызывают в моей памяти одну потасканную, но неизменно дерзкую на язык и чванливую греческую гетеру. Всё остальное, конечно, не совпадает, однако сравнение далеко не случайно. Всё указывает на то, что странный господин прибыл из уголка земли не только позабытого, но и не пригодного для существования. Иными словами, я имею дело с человеком из-за пределов ойкумены. Как в пустынях живут кочевники, так, очевидно, населяет кто-то и terra nullius, ничью землю, с её вечными снегами.
— Что тебе делать в Риме?
Не отвечает.
— Откуда ты?
Большим пальцем вельможа указывает вверх по течению Родана.
— Это мне уже известно. Сколько времени ты в пути?
— Около ста дней.
После сего неожиданного откровения моя маска снова сдвинулась. Он, как и мы, направляется в Рим. Чтобы добраться сюда, ему потребовалось сто дней; нам тоже.
— Ты двигался только на юг?
Он кивает.
— По одной и той же реке?
Он качает головой, а выпяченные губы впервые за время нашего разговора приоткрываются в ухмылке. Мне становятся видны его зубы. Жалкое зрелище. Зубы его торчат как синие камешки: мелкие, неровные, частью округлые, а частью острые; наверху зияет дыра. Я закрываю глаза. На моё счастье, перед внутренним взором предстают другие картины, которые уносят меня вдаль.
«Почему, — вздыхаю я, — прежде чем мы проследовали к Пиренеям, мне не довелось посетить Эмпорий?» Когда мы шли мимо, я видел этот греческий торговый город, зажатый между скалистыми бухтами с неприступными берегами, возле которых блуждал ещё Одиссей. На меня накатила тоска по всему греческому. Я видел городские стены и закрытые ворота, нагромождение старых домов, храмы Зевса, Асклепия[75] и других божеств. Я видел верфи и склады, пиниевые рощи, оливы и плодородную долину, с которой кормились горожане. Я томился по греческому духу, который проявляется прежде всего в естественном благозвучии и изящной словесной игре этого языка. Мне хотелось немедленно попасть туда.
Увы, это невозможно. Мне нужно следовать за войском. Тогда я не удовлетворяюсь пейзажем, раскинувшимся перед моим взором. Воображение ведёт меня внутрь города. Я позволяю себе задержаться около прекрасной мраморной богини. Кто она? Вопрос повисает в воздухе, поскольку теперь мои пальцы ласкают фигурку Коры, и прикосновение это доставляет мне огромную радость. То, что болтается у меня между ногами, нагло напоминает мне об овладении статуей из слоновой кости, а также о том, что совокупление оказалось возможным благодаря жалости, проявленной богиней любви Афродитой. Чарующую статую высек в старопрежние времена Пигмалион, финикийский царь Кипра, и он настолько пленился своим детищем, что захотел жениться на нём. Охваченный сей безнадёжной страстью, Пигмалион обратился к Афродите, умоляя её помочь ему. Богиня снизошла к его мольбам. Статуя ожила, она даже родила от Пигмалиона детей.
Здесь моя изнывающая от скуки фантазия внезапно покидает меня, и я оказываюсь отрезанным от греческой иллюзии Эмпория. Теперь я чувствую себя скорее Тесеем, которого морская черепаха везёт на своём панцире от скалы к скале. Меня, вкраплённого в тело войска, помимо собственной воли, на негнущихся ногах, несёт с этой лавиной всё дальше и дальше в горы. Пройдёт ещё много дней, прежде чем я снова увижу лазурное море с подсвеченными розовым островами, иногда напоминающими бутоны роз на коленях у богини. Тогда я опять начну запоминать отрывки из сочиняемого в уме эпоса.
Всё греческое для нас закрыто. И Эмпорий, и другие мелкие греческие города обязаны подчиняться основанной фокейцами процветающей и бдительной колонии под названием Массилия[76], принадлежащей к позорному и враждебному греческому союзу, который, в свою очередь, следует каждому слову Рима. Греческие города никогда на нас не нападали. Куда им?! Но они запирали на засов ворота и выставляли стражу. Когда мы проходили мимо, на городских стенах стояло множество греков, которые шумели и били в щиты. Уж не пытались ли они напугать нас? Дудки! Они просто издевались и хотели оскорбить нас. Но мы не тратили на них времени. В этот раз нам было не до Массилии. От самых Приморских Альп и досюда тянется такой ландшафт, что занятие города не принесло бы нам ни малейшей выгоды. Связь его с городами-союзниками осуществляется не по суше, а по морю. Нам нужно было продвинуться дальше на север, найти хорошую переправу через Родан и далее двигаться к тому месту Альп, где есть подходящие перевалы.
Моя тоска по эллинистическому остроумию, легкомысленности и страсти к спорам перешла в неприязнь и отвращение к грекам. Я знал, что все они помчатся по морю в Массилию с донесениями: дескать, они видели нас, неисчислимое Ганнибалово полчище. А уж фокейцы незамедлительно передадут эту весть в Рим. Ожесточение моё было настолько велико, что вылилось в простое и наивное стихотворение, которое, хотя и неплохо отражало политическое будущее Ганнибала, было написано в столь народном, вульгарном стиле, что ничего более высокой пробы у меня на эту тему не получилось.
Примерное содержание куплета таково:
«Прислушайтесь, солдаты! Оглядитесь! Взгляните на греческие города, рассмотрите их один за другим! Вы видите хоть одного сеятеля? Ничего подобного! Вы видите хоть одного человека, который бы убирал урожай? Ничего подобного! Как и римляне, греки добывают себе пропитание насилием и рабством. Они совершают набеги на крестьянские поля и уводят скот. На виноградники грек наведывается, только когда созреет виноград. А раньше — ни-ни. Так-то вот, солдаты».
Надо сказать, что вскоре я услышал, как крестьянские парни распевают мой стишок на известную мелодию. Его пели и на марше, и у бивачных костров. Не задевала ли моя песенка, при всей своей простоватости и грубоватых намёках на крестьян, также и нас, карфагенян? Кое-кто действительно обиделся — но исключительно мои соотечественники. В глазах наёмных солдат карфагеняне — купцы. И точка. Мы даже не держим собственной армии, вернее, армии из своих граждан. Мы всегда покупаем тех, кто согласен сражаться за наше дело... впрочем, для покупаемых наше дело связано прежде всего с высоким жалованьем и богатой военной добычей.
Я открываю глаза. Диковинный господин по-прежнему сидит в моей палатке.
— Как называют твой народ? — продолжаю допрашивать я.
— Свионы.
— А тебя?
— Бальтанд.
— А твоего бога?
Он качает головой, не понимая вопроса. Я переступил границы доступного для него. Однако ответ на мой вопрос фактически вытекает из имени вельможи: «Бальтанд» значит «Зуб Баала». Между прочим, я никогда не слыхал о народе, живущем в северных краях и поклоняющемся Баалу. У нас принято вплетать в имя ребёнка имя божества — это как бы просьба о помощи, обращённая к данному богу. В моём имени, Йадамилк, выражена надежда на то, что самый могущественный из наших богов, Мелькарт, будет покровительствовать мне, защищать и направлять меня по пути успеха и славы.
— Кто твой бог? — повторяю я.
— Солнце, — лаконично отвечает самозваный Зуб Баала.
У меня вдруг сводит правую ногу. Так бывает, если я волнуюсь, — отцовская наследственность. Я смотрю на своего свиона. Он выпучился на меня. Подозреваю, что он не умеет моргать. Во всяком случае, я ещё ни разу не заметил, как он это делает.
— Солнце? — переспрашиваю я.
— Мы, свионы, поклоняемся солнцу.
— Правильно. Мы тоже.
— К нам она благоволит больше, мы живём рядом с ней.
— Она, с ней?! С каких это пор солнце стало женского рода?
— Она всегда была женского.
— В таком случае луна у вас, конечно, мужского рода? — ехидно бросаю я.
— Это видно невооружённым глазом.
— Ах вот как! Это, оказывается, видно!
— Даже одноглазому, — не уступает Бальтанд.
Он безумец и скоро доведёт до сумасшествия и меня. По крайней мере, он несёт сущий бред. Да покарают его за богохульство владыка света и богиня луны! Я умываю руки. С этой минуты я больше не буду записывать его оскорбительные высказывания.
— Далеко отсюда до моря? — спрашивает он.
— Четыре дня быстрого марша, — машинально отвечаю я.
Бальтанд совсем зарвался, а я пошёл у него на поводу.
Он не имеет права пользоваться мной для ориентировки. Мне нужно выведывать сведения у него, а не наоборот. Что он только что сказал? Что его народ живёт рядом с солнцем? Какая чушь! Даже дикарям и варварам непозволительно вести подобные речи. Теперь я наконец разобрался что к чему: он либо заговаривает мне зубы галиматьёй, либо изображает из себя непонимающего. Сей господин не только святотатец, он ещё, говоря по-испански, hacerse sueco, то бишь выдаёт себя за шведа или притворяется глухим: с одной стороны, делает вид, будто понимает вещи, о которых не должен иметь ни малейшего представления, с другой — изображает непонятливого там, где ему всё ясно.
Моё раздражение переходит в злобу.
— Что у тебя в мешке? — резко спрашиваю я.
— Отблески.
— Отблески? Что это значит?
— Отблески бывают лишь у нас, на севере. На границе природы. По соседству с солнцем.
— Дай мешок, я посмотрю.
Он трясёт головой и остаётся плотно сидеть на своём округлом кожаном мешке. Мне бы ничего не стоило отнять мешок, но этот человек неожиданно заинтересовывает меня совсем в другой связи. Будь финикийский вселенским языком, мои сочинения вообще не нуждались бы в переводе. Но коль скоро до этого ещё далеко (несмотря на все Ганнибаловы достоинства и гениальные идеи), было бы неплохо пока перевести меня на какой-нибудь грубый, недоразвитый язык — кстати, не без пользы для самого этого языка. Бальтанд явно общался с образованными людьми. Иначе что бы он делал в этих краях? Пусть он коверкает слова, но худо ли бедно, а объясниться может.
— И ты направляешься в Рим, чтобы распространять там свои отблески?
— Продавать, — безапелляционно заявляет Бальтанд, — У греков и римлян отблески ценятся выше серебра.
— Почему ты так считаешь?
— Потому что знаю.
— А что греки и римляне делают с этими отблесками?
— Украшают себя и своих богов.
Ах вот в чём дело, он торгует янтарём! Наконец-то уяснив для себя, чем занимается Бальтанд, я не вижу более смысла сидеть и выпытывать у него ответы на мои вопросы. Схватить этого недавно странного, но теперь совершенно понятного мне человека было неправильно со стороны военачальника Ганнона. Может, он хотел позабавить Ганнибала? У Ганнибала нет времени на развлечения! Может, он хотел подшутить надо мной? В таком случае я подшучу над Ганноном!
— Почему ты не двинулся по Янтарному пути? — строго спрашиваю я.
— Я ищу приключений.
Этот жалкий человечек комичен в своей самовлюблённости. Лик его в данную минуту невероятно льстит ему, Судя по выражению лица, он сейчас вырос в героя, г храброго и в то же время не лишённого хитрости с её разнообразием непревзойдённых уловок. Однако тело может подвести слишком самонадеянного человека, что и случилось с Бальтандом. Его начинает сотрясать приступ безудержного чиханья. Колени его подпрыгивают, а беспомощно вытянутые руки если не дрожат, то описывают в воздухе широкие круги. Боковым зрением я вижу, как к лицу свиона приливает кровь, как она разливается под нежной кожей, придавая ей более тёмный оттенок. Бальтанд запахивает свой потёртый плащ, чтобы согреться. На ногах у свиона мягкие полусапожки тонкой некрашеной кожи.
— Хорошо иногда прочихаться, — хохочет он.
Я ещё раз останавливаю взгляд на сапожках. Подарок? Скорее доставшаяся по дороге добыча или покупка. Такая обувь должна вызывать у наших зависть, догадываюсь я.
За время похода мы здорово обносились. Как-никак проделали за сто дней около семисот миль, причём по земле, проклятой богами. Плюс жестокие схватки у подножия Пиренеев. А до Рима осталось столько же. Или в десять раз больше. Когда лезешь в горы, нужно рассчитывать, что придётся пройти не кратчайшее расстояние, как летит птица, а во много раз больше. Нам необходима передышка, чтобы отоспаться, привести в порядок снаряжение и заново экипироваться, иначе в долину Пада прихромает орава оборванцев, а вовсе не та армия, на которую рассчитывает Ганнибал.
Разумеется, никто не станет умалять достигнутого Ганнибалом, рассуждаю я. Напротив, хотя до конца похода ещё далеко, уже свершённое заслуживает восхищения. Ганнибал натягивает величайший в мире лук. Во всяком случае, по моему представлению. Лук этот протянулся от Карфагена через наши испанские владения к Родану, и мы постепенно, шаг за шагом, протянем его дальше, через Альпийские горы, примерно до Бононии[77]. Только там можно будет вложить в лук первую стрелу и пустить её. Остриё стрелы будет нацелено в самое сердце римлян — на город Рим. Мы, знающие об этом и к тому же видевшие, какой беспримерной ценой доставался поход, ждём первого выстрела, затаив дыхание. Стрела нанесёт удар, неожиданный, как зимняя гроза, и разрушительный, как тайфун. Но перед этим Геростратовым (читай: Ганнибаловым) выстрелом[78] мы все должны получить отдых, сытную еду и новую одежду.
Обещал ли их Ганнибал?
Пока нет. Ему нет нужды опережать события вестью о предстоящей радости. Ганнибал знает, что войско надеется на него. Я же склонен жить будущим. И мне хочется делиться с другими тем, что переполняет меня. Вот почему я с таким восторгом рассказываю иудею Исааку, «тому, кто смеётся», о гигантском луке, который я вижу натянутым через сушу и море и обретающим всё большую силу с каждым пройденным отрезком пути. Исаак — человек образованный и молчаливый. Мы всегда говорим по-гречески. На каком же ещё языке нам беседовать?! Мне нравятся его ласковые глаза цвета корицы. В этих глазах светится юмор, поправка на который помогает Исааку судить обо всём с чувством меры; иными словами, он обладает качеством, которого не хватает грекам, но о котором они постоянно рассуждают, это качество — «софросине», то есть умеренность.
«Я тоже вижу лук, — говорит Исаак, — и понимаю твою гордость. Ты, а следом за тобой и я, представил себе великанский лук, дуга которого начинается у Карфагена, проходит через Испанию и дотягивается сюда, а отсюда она, изгибаясь и забираясь всё выше, пройдёт над Альпийским массивом, чтобы затем опуститься где-то возле Бононии».
«Это будет исполинский лук! — кричу я. — Новое чудо света!»
В порыве восторга я размахиваю руками, словно пытаясь охватить ими весь мир. И тут Исаак произносит ({зразу, которая заставляет меня всерьёз и надолго задуматься.
«Натянутый лук (био́с) жизни (би́ос) всегда заряжен смертоносной стрелой».
«Пожалуйста, повтори», — прошу я.
Дело в том, что я сначала не понял, как мне реагировать: прийти в восторг или пожать плечами. Что это, философское откровение или всего лишь не известный мне, но общепринятый оборот речи?
Исаак, со своей стороны, покачал головой. Подумав минуту-другую, он произнёс:
«Всё сущее обретает реальность благодаря тому, что не является собственной противоположностью. Огонь — это огонь, а не вода. Вода — это вода, а не огонь. Если огонь устремляется к воде, он тухнет. Если вода устремляется к огню, она испаряется. Ни законы, ни тождественность вещей и явлений самим себе не затрагивают проблемы жизни и смерти. Жизнь и смерть всегда взаимосвязаны. Не случайно говорят о бренности жизни. Теперь ты понимаешь, почему видимая неизменность камня всегда внушала человеку почтение».
Эти слова запечатали мои уста и сковали мои движения. Некоторое время мы с Исааком молча шли друг подле друга; я был отягощён его словами, хотя пока не представлял, насколько тяжким окажется для меня их бремя. Впрочем, вскоре я не удержался и выразил ему своё восхищение.
«Как это возможно, чтобы ты, иудей...»
Мне не нужно было доканчивать предложение. Исаак и так схватил смысл того, что я собирался сказать.
«Мне следовало называться Сифом[79], потому что я занял место другого. Мои приёмные родители были греками. У них не было своих детей, и они взяли меня».
«А уже взрослым, неужели ты не пытался обрести связь?»
Исаак и теперь понял мой загадочный вопрос.
«Конечно, пытался. И не раз. Но у меня ничего не вышло. Я остался безбожником».
Исаак видел, насколько ошеломили меня его слова. Я не знал, что сказать. То, что поведал мне о себе Исаак, должно было находиться под запретом — очевидно, оно и не подлежало разглашению. Конечно, будучи посланцем Птолемея, он вправе открывать карфагенянину любые тайны, решил я и закрыл для себя эту сторону проблемы. Гораздо серьёзнее был вопрос о том, что испытывает человек, считающий себя безбожником. Я искоса взглянул на идущего рядом Исаака и обнаружил, что он более не смотрит на меня. На губах его играла печальная снисходительная усмешка. Я впервые в жизни сталкивался с неверующим. Среди нас, финикиян, вряд ли найдётся хотя бы один. Что неверующие есть среди греков, об этом я читал и слышал от других людей. Но мне никогда ещё не приходилось воочию увидеть человека, отрицающего богов, тем более беседовать с ним, поэтому я пообещал себе при случае расспросить Исаака подробнее.
Вот он вновь обратил ко мне свои ласковые глаза, которые словно пребывали в неведении о том, на что решилось его сердце. Я поспешно отвернулся. Предельно лаконично Исаак сформулировал нечто совершенно неслыханное:
«Я безбожник, потому что наш мир покинут богами. Вселенная представляет собой космос аmех, так что и я — атеист».
Я безумно удивился! Оставшись наедине с самим собой, я даже не стал думать о последних словах Исаака. Я всё-таки не до конца понимал их. Тем с большей неприязнью повторял я на все лады другие его высказывания, пот эти:
«Жизнь и лук называются по-гречески «биос», только с разными ударениями. Натянутый лук жизни всегда заряжен смертоносной стрелой. В отличие от всех прочих пещей в мире, жизнь и смерть неразделимы. Огонь остаётся огнём только в виде огня. Вода остаётся водой только в виде воды. А человек... прислушайся к биению его сердца! Это биение жизни есть одновременно биение смерти».
Хорошо, что, выполняя неприятное поручение, можно думать о своём. (Как явствует из записи в рабочей тетради, я сижу в палатке на левом берегу Родана. В каком углу и на чём, другой вопрос. Во всяком случае, это не имеет отношения к данному сочинению). Бальтанд, который сидит на кожаном мешке, напоминает мне о своём навязчивом присутствии замечанием:
— Отблески — это окаменевший солнечный свет.
— Янтарь — это просто-напросто горная порода, вроде серебра или золота! — отрезаю я.
— Ничего подобного, — возражает Бальтанд. — Отблески не похожи ни на что на свете.
— Кто же спорит? Только не я. Золото — это золото, оно совсем не похоже на серебро. Тем не менее и серебро и золото — горные породы.
Однако сия нехитрая абстракция оказывается недоступной пониманию бедного Бальтанда.
— Отблески вовсе не порода и не имеют к ней никакого отношения. Отблески — это дар солнца, её искупительная жертва, — упорствует он в своём суеверии. — Она откупается от нас за беспокойство, которое причиняет своими восходами и закатами в самое непредсказуемое время.
— Не она, а он, — неумолимо поправляю я. — Какое он причиняет беспокойство?
— Иногда она так задерживается у нас, что только успевает уйти домой, как уже снова пора появляться. Тогда небо у нас ночи напролёт светлое-пресветлое. Звёзды меркнут, и нам совсем не хочется спать. Становятся видимы ночные звери, которые соблазняют выходить на охоту даже посередине ночи. А в другое время солнце так ленится, что, бывает, вообще не встаёт. Тогда мы очень мёрзнем, и нам еле видно собственную руку.
— Нечего рассказывать сказки, — обрываю я его. — Бог солнца прекрасно знает своё дело, в том числе и то, когда выводить на небо упряжку золотых коней. Он сообразуется с временами года. Это давно объяснили и закрепили на бумаге греческие учёные. Если ты грамотный, можешь прочесть длинные сочинения, в которых всё сказано.
— А как греки объясняют жару и то, почему отблески получились такими лёгкими и нежными на ощупь?
— Возьми и прочитай! Кстати, тебе известно, что такое амбра?
— Не-е-е.
— Пища богов, — просвещаю я невежу. — По-гречески её называют амбросией[80]. Так слушай! Янтарь — это «жёлтая амбра». Теперь тебе должно быть понятно, почему греки и римляне украшают твоими отблесками изображения богов. Настоящая же амбра используется для воскурений. И между прочим, амбра гораздо дороже и редкостней твоего янтаря. Так что я предлагаю тебе ограничиться Массилией и выкинуть Рим из головы. Фокейцы — народ тщеславный и больше любят украшать себя, нежели своих богов.
— Нет, мне надо в Рим.
— К сыновьям волчицы!
Этого Бальтанд не понял. Тем не менее он фыркает или, скорее, выдавливает из себя смешок.
— Я ищу приключений.
IV
Состояние рассеяния иногда благотворно. Ускользая от наскучившего тебе, вынужденного присутствия где-то, гы тем более ощутимо уходишь в какую-то более приемлемую для тебя, иногда просто чудесную, обворожительную обстановку. Именно это и произошло со мной. Палатка исчезла. Бальтанд расплылся и тоже исчез, глаза мои словно промылись. Что теперь откроется моим чувствам — посмотрим.
Наше войско вступило в край, забытый богами, истерзанный и проклятый, на землю, которая зыблется под ногами из-за вдающегося глубоко в сушу морского языка. Уж не заблудились ли мы? По Ганнибалу, во всяком случае, незаметно, чтобы мы отклонились от намеченного пути. Он, как всегда, горит энтузиазмом и даже ухитряется воодушевлять нас на преодоление самых необычных препятствий в добром расположении духа.
Пробираясь по такой местности, никогда не знаешь, что тебя ждёт впереди. Невозможно предугадать, далеко ли тянется этот подземный залив. Иногда море выходит на поверхность в виде лиманов, ключей и болот с обширными зарослями тростника, причём тростник этот настолько высокий, что загораживает всякий обзор. Попав в такие заросли, оказываешься в лабиринте, запутанном куда более искусно, чем Дедалов критский лабиринт[81]. А где тут, ходя вавилонами, найдёшь помощницу Ариадну или клубок ниток? Разве что у стаи фламинго? Они чуть что срываются с места и, по моим наблюдениям, летят к ближайшей водной глади. Однако я не тороплюсь следовать за ними. Нервный полёт чувствительных птиц не может служить проводником для человека, не знающего ни где он находится, ни куда идёт. То ли дело небесные звёзды, по которым в тёмную ночь прекрасно находят дорогу мореплаватели! Один ясный день, проведённый в тростниковой чащобе, — и храбрец из храбрецов чуть не сходит с ума. Если мне кажется, будто я остался один, меня начинает трясти от страха, я озираюсь по сторонам, закрываю глаза и стараюсь отдышаться. Людской поток подхватывает меня и несёт дальше.
И как язык больного бывает обмётан белым налётом, так и морской язык, на котором колышется почва, покрывают солончаки размером с карфагенскую гавань, если не больше. Тут уже расстилается солончаковая степь. Воины вынуждены прямо-таки балансировать на зыбкой подложке. Мы выделываем зигзаги и петли, которые, однако, в конечном счёте ведут нас на север. Путь нам указывают дымовые сигналы, подаваемые форпостами.
«Хоть какая-то польза от этого тростника!» — говорят ратники.
Но сей забытый богами край иногда может угостить куда более необычным, редкостным зрелищем. Например, полнолунием...
Как раз в полнолуние я и ушёл, обиженный, от своих собратьев-писцов. Обычные вечерние дебаты мало-помалу приняли неприятный оборот, а затем стали просто невыносимы для меня. От языков без костей — к лязгающим и цапающим зубам! Фразами кидались туда-сюда, словно шмотьями окровавленного мяса. Даже для постороннего слушателя, каким оставался я, это было слишком.
Сначала я попробовал заснуть у себя в палатке. Сон не шёл. Моя бедная голова раскалывалась. Меня окатывало то жаром, то холодом. В надежде обрести облегчение я решил выйти на воздух. Может, поклониться луне? Я пал перед ней ниц, и мне действительно полегчало. Сразу же прошла голова, вскоре я избавился от недовольства, потом с меня были сняты все заботы и огорчения.
Безо всякого моего участия — так мне, по крайней мере, показалось — у меня в голове начали повторяться сочинённые к этому времени строфы эпоса. Я видел, скорее чем слышал, как плетущаяся ткань стиха делает реальным наш мир, объединяя разрозненные и чисто импульсивные поступки и события вокруг чёткой живой основы.
Видел, как под воздействием этого животворного мгновения жизнь выпрямляет свою согбенную спину, приобретая достоинство и величавость! Меня охватило потрясающее чувство свободы от своего привычного «я», отчего и испытал необычайную лёгкость и жгучую, огненную радость.
Я стоял посреди подвижного серебряного сияния: казалось, будто в ярком свете полной луны пляшет сама земля. В северной стороне, насколько хватало глаз, я видел сплошное переливающееся серебро. А совсем рядом, на земле, лежали, одна к одной, мерцающие звёзды. У ног расстилался ковёр из крохотных радужек. Я вытянул руки, и они тут же оделись разноцветьем. Я пришёл в экстаз. Грудь моя наполнилась поющим и пьянящим восторгом. Я пустился бежать. Мне хотелось сиять серебром, как лежащая под ногами земля, которая была полом во внезапно явленных моему взору священных чертогах богов.
О, что за ощущение — видеть, как твои собственные конечности излучают матовый серебристый блеск со вспышками огоньков!
Я испытал это удовольствие. На бегу меня со всех сторон обступили переливающиеся арабески. Их серебристые извивы задевали мои руки и ноги, подсвечивая меня прихотливым мерцающим светом. Внезапно всё словно замерло. В полном упоении я как бы вышел из самого себя, чтобы посмотреть на собственную одинокую светящуюся фигуру.
Вот бы навсегда остаться в этом редкостном состоянии близнецов! Тёмный наблюдатель питает безмерную любовь к своему светозарному брату. Он любит всех и вся, без исключения.
Засим мне больше нечего сказать. Уместных для такого повода слов нет ни в одном из земных языков. Добавлю лишь одно: я медленно и осторожно вернулся в своё привычное состояние и безо всякого испуга обнаружил, что стою на солонцовой коросте, а подо мной в буквальном смысле слова плещется море.
Приободрённый и заново обретший себя, я пошёл бродить дальше в этом поразительном лунном сиянии.
Солью жителя Карфагена не удивить. И ближние и дальние окрестности города перенасыщены ею. Когда задувает крепкий ветер с Атласских гор, соль припорашивает наши одежды и мы заслоняем рот шалью или куском материи. Разумеется, мы используем для своих надобностей естественные водоёмы, где выпаривается соль. Кстати, это мы научили ливийцев бороться с засолением, когда соль образует корку на культивируемых землях, которые могли бы давать урожай злаков и овощей.
Нужно постоянно проходиться по земле с мотыгой, чтобы почва была рыхлой и могла дышать. В более сложных случаях требуются средства покруче. Для них мы изобрели так называемую «финикийскую повозку», борону, заменившую множество рук. И обнаружили невероятную живучесть оливковых посадок, в том числе на тощих и склонных к засолению почвах, где раньше выживали лишь заросли лоха и мастичного дерева[82]. О благодати, которую несут с собой оливковые рощи, мы твердим из века в век. Оливковое дерево даёт не только масло, оно отбрасывает тень на залитую солнцем землю. Путешествующий верхом научился ценить эту дарующую прохладу тень, а тот, кто раньше роптал на бесплодную местность с вылезающими тут и там скалистыми остовами гор, может теперь взять оливковую косточку и показывать её всем как залог своего благополучия.
Во время ночных странствий я дошёл до огромного, вытянутого в длину лимана. Там, на мелководье, стояли, наверное, тысячи лошадей, а на берегу я увидел множество догорающих костров. Часть ратников лежала на земле, кое-кто сидел на корточках над костром и подкладывал в него дрова, остальные были в воде, около своих коней. Нумидийцы, всадники, наша африканская кавалерия! Солёная вода должна была залечить и укрепить лошадиные копыта, берцы и бабки, потому и стояли теперь животные, которых всадники берегли пуще своего глазу, в воде, и спали стоя, с опущенными головами. Хотя кони стояли тихо и безмолвно, словно призраки (тени их походили на отброшенные в сторону чепраки), всадники один за другим просыпались и шли по воде к своим любимцам, гладили их или расчёсывали им руками гриву.
Кстати, у меня теперь тоже есть конь, и я тоже беспокоюсь за его копыта, мослы, берцы и особенно за места под щётками, на которых легко образуются трещины и ссадины. Конь доставляет мне радость, но и заставляет волноваться за каждую частичку своего полного живительной энергии тела. Вот что значит быть владельцем лошади. Моего злобно смотревшего на всех мула пришиб камнем каталонский пращник. Выстрел этот едва ли можно назвать продуманным военным действием, скорее он был сделан наобум, и попадание в мула оказалось чистой случайностью. Мой раб привёл мула на водопой. Мальчишка отделался лёгким испугом, а поклажа и вовсе не пострадала, поскольку мула перед водопоем освободили от всех вьюков. Раба я продал за хорошую цену: только на таком условии мне разрешили приобрести коня. Разумеется, я не стал ради исполнения своего желания доходить до самого Ганнибала. Он загружен более важными делами. Я переговорил обо всём с глуповатым начальником, который ведает нашей писарской братией.
Моего красавца жеребца зовут Медовое Копыто. Он карей масти с отливом в корицу, копыта у него медовые и грива того же нарядного цвета. Мои коллеги даже не поверили мне на слово, когда я рассказал про иссиня-чёрный хвост коня. Они захотели сами убедиться, что это так, и при виде хвоста у них вытянулись лица: длинный, чуть не до земли, хвост действительно был иссиня-чёрный. Когда на коня навьючивают мой багаж, Астер заплетает хвост в косу и подвязывает его. Когда я еду верхом, я предпочитаю, чтобы хвост болтался свободно. Медовое Копыто любит носить меня на спине. Тогда, если верить Астеру, его кроткие глаза загораются огнём, он подбирается и ступает особенно изящно. Грива его вздымается у меня под руками.
Да будет благословен свет луны, окутывающий меня ореолом спокойной созерцательности! Не сама ли Селена-Геката уводит меня прочь от лимана и на распутье трёх дорог[83] направляет к берегу моря? Дойдя дотуда, я опускаюсь на камень. Море на лунной дорожке не шелохнётся. У меня начинает громко, так что хорошо слышно, стучать сердце. Я жду чего-то необыкновенного — сам не знаю, чего именно. Но всем телом ощущаю, что сейчас передо мной должно предстать нечто экстраординарное.
И тут у меня с глаз точно спадает пелена, и я становлюсь свидетелем зрелища в самом деле исключительного. Оказывается, не один я поклоняюсь богине луны. Её чарующий свет завораживает и каракатиц, которые всплыли на поверхность и, ослеплённые и околдованные, качаются на ней, вознеся свои рыбьи взгляды горе. Они почти не шевелят многочисленными конечностями, лишь неторопливо втягивают в себя воду и тонкими струями снова выпускают её. Задом наперёд, они движутся по направлению к берегу и ко мне.
Меня вдруг словно толкнули в бок, я вскакиваю на ноги, здесь же мелко, для каракатиц тут смертельно опасно. На усеянном галькой берегу уже лежит множество их подруг. Они выкачивают из себя остатки воды. Там, куда они попали, их ждёт конец. Они не в состоянии вернуться в ту среду, которая для них единственно животворна. С рассветом все севшие на мель станут добычей птиц.
А может, перед моими глазами разворачивается совершенно иное действо?
Внезапно мне приходит в голову, что это любовное жертвоприношение. Поднимаясь из морских глубин, сии создания приносят себя в дар высшим силам. Не Селена ли подвигла их на это? Не ради ли меня она это подстроила? Возможно, это зрелище призвано чему-то научить меня? Возможно, у Гекаты есть какие-то планы на мой счёт?
Я безумно путаюсь — не столько происходящего, сколько собственных мыслей — и обращаюсь к Танит. Повторяя имя богини, я молю её о защите. Я принимаюсь плакать.
«Пускай трёхликая сгинет! — всхлипываю я. — Нечего ей выводить сюда призраков и демонов! Может, она ещё и мне прикажет пожертвовать собой ради луны и к вящему удовольствию ведьм и прочей нечисти? Прочь её! Спаси меня, о Танит, лик Ваала!»
«Сюда не ведёт с развилки ни одной дороги! — слышу и собственный карфагенский говор, перекрывающий греческое благозвучие Сиракуз и Александрии (которое до последнего пыталось убедить меня в том, что видение каракатиц, приносящих в жертву свои жизни, было явлено мне в качестве примера для подражания). — А луна вовсе не на исходе! — кричу я. — Она полная!!!»
И я припускаюсь бежать к карфагенскому лагерю.
V
Меня тяготит ответственное задание. Я играю важную роль в Ганнибаловом войске. Передо мной сидит изворотливый господин по имени Бальтанд. Он слыхом не слыхал про Баала и знать не знает, что за люди мы, карфагеняне При виде такого чудака я лихорадочно ищу ниточку, которая бы связывала нас с действительностью, и, найдя, спрашиваю:
— Почему ты не выбрал Янтарный путь? Я уже задавал тебе этот вопрос, но ты ничего не ответил.
— Как же не ответил! Я сказал, что ищу приключений.
Мне сдавливает горло. Я принуждён откашляться.
— Ну, хорошо, теперь расскажи, что ты видел по дороге собственными глазами, — приказал я.
— Ничего особенного.
— Особенное или не особенное, решаю я. Что-то ты должен был видеть.
— Мне посоветовали ночью плыть по течению, а днём отсыпаться в укромном месте.
— Ты не слишком усердно следовал этому совету.
— Разве?
— Тебя же захватил военачальник Ганнон со своим отрядом. Почему ты не велел рабу сторожить твой сон?
— Что толку сторожить, когда лемминги устремляются к морю?
— Кто устремляется?
— Да вы, карфагеняне.
Меня одолевает хохот.
— Мы устремляемся вовсе не к морю, а наверх, к Альпам, — сквозь смех говорю я.
Затем я призываю его к порядку.
— Ты говоришь, что получил совет. Когда это было?
— Когда я верхом перебирался от одной реки к другой.
— От какой к какой?
— От Рена к Родану.
— Что это за Рен?
— Северная река.
— Кто тебе дал совет?
— Один гостеприимный народ.
— Что именно тебе сказали?
— Сказали, что вдоль Родана более или менее спокойно, только кавары то и дело дерутся между собой за власть.
— Кавары?
— Они тоже кельты. Или галлы, выражаясь языком сыновей волчицы.
Бальтанд ухмыльнулся, довольный сим добавлением в свой словарь.
— Что тебе ещё известно про каваров?
— Да ничего. Они главенствуют на большой территории вверх по Родану, по эту сторону реки. Я их ни разу не видел, хотя меня они, кажется, заметили. В отличие от вас, они не стали брать меня в плен.
— Ерунда. Ты говоришь: «Ничего». Значит, что-то тебе всё-таки известно. Будь добр рассказать мне. Но безо всяких измышлений о людях, которых ты не видел, но которые видели тебя. Утверждая то, чего утверждать нельзя, человек предаётся фантазиям. Итак, я задаю вопрос: что ты точно видел?
Вскочив с мешка, Бальтанд устроил целое представление. Исполненными пафоса жестами и визгливым голосом он словно разыгрывал некую странную комедию или миму.
— Война, о благословенная война! — вопил он. — Кельтов хлебом не корми — дай поубивать! Чего они только не придумывают, дабы насладиться радостью убийства... Настоящих разногласий между ними нет, поэтому они находят для раздоров разные предлоги. Эти люди берут их из воздуха. Высасывают ссору из пальца.
— Сядь и умолкни, — повелел я.
Он не подчинился. Напротив, разошёлся пуще прежнего. Я не улавливал всех его шуточек, но видел, как он задирает нос, изображая смелость, и сетует, притворяясь побитым и уничтоженным, неся на плечах воображаемое бремя. Очевидно, в основе его лицедейства лежала мысль о том, что труднее всего удовлетворять свою кровожадность племенам, живущим в окружении одних лишь кельтов. (Очень скоро нам придётся убедиться в том, насколько Бальтанд заблуждался на их счёт). Посему братание и дружба с соседним племенем тоже вызывали безмерную печаль. Заключая узы братства, кельты бросались друг другу в объятия и плакали, как бы подразумевая: «Не становись моим другом и братом, ведь тогда я не смогу убить тебя, а этого мне хочется больше всего на свете».
Представление было окончено. Бальтанд сомкнул губы, закрыл глаза и с довольным видом сложил руки на животе — от этой дани искусству вид у него стал довольный и сытый.
— Что ты меня дурачишь всякими глупостями?
Молчание. Бальтанд слишком доволен своим творческим достижением.
— Так ты видел каваров в сражении?
— Я нет, а ты?
— Не нагличай! Говори толком, что ты видел!
— Когда спускался ночами вниз по Родану?
Бальтанд снова ошарашил меня: задрав голову с выпяченной губой кверху, он повёл речь так, словно его слушали оттуда небожители.
— Иногда я видел звёзды и месяц. Видел речные потоки. Большие и малые суда, одни из которых тянули канатами против течения, а другие сами легко плыли вниз. Иногда нам с рабом приходилось туго. Но, так или иначе, я познакомился с берегами и узнал, что по ночам уже начались холода. Похоже, ты и сам мёрзнешь, карфагенянин, а кислое твоё вино не греет кровь.
Мой гнев наконец-то выплеснулся наружу. Подскочив к Бальтанду, я схватил его за шиворот. Видеть не желаю этого типа. Пускай им занимаются другие. Сколько бы я ни отводил взгляд, эта блоха продолжает мозолить мне глаза. Я тебе покажу... С негодующим воплем я вынес его из палатки и уже собирался тащить к шатрам карфагенских писцов, но тут меня отвлекла потрясающая картина. Я опустил барахтавшегося вверх ногами человечишку на землю и сказал:
— Полюбуйся лучше, что умеют карфагеняне.
Бальтанд, ойкая и причитая, копошился у моих ног. Я взял его за плечи и развернул в сторону Родана. Ни одна греческая арена не могла бы предложить более величественного зрелища. Лошади! Подошла очередь переправлять через речной простор коней.
Конечно, их уже немало собралось и на этом берегу, но основная масса пока дожидалась на другом. Дожидалась? Вряд ли такое слово уместно в данном случае. Через ширь реки мне было видно, как лошади кучками вставали на дыбы. Они словно заражались нетерпением; невидимый отсюда, стелющийся по земле пожар заставлял их поднимать копыта и топтаться на месте, скакать и вскидываться на дыбы. Плётками бились хвосты, бешено размётывались гривы. Значительная часть коней уже находилась в реке, причём в самом разном положении. Многие плыли с всадниками на спине, выпрямив шею и задрав голову. Грудью рассекая воду, они оставляли за собой заметную волну, особенно с той стороны, что противостояла течению. Всадник сидел, наклонившись вперёд, голова к голове с конём, явно шёпотом успокаивая его.
Часть лошадей по три-четыре вместе плыли впереди лодок, откуда их держали в поводу: таким образом и воины и кони переправлялись на другой берег без помощи вёсел. Раздобытые Ганнибалом более крупные плавучие средства были поставлены штевень к штевню выше по течению, образуя своеобразный волнолом, призванный уменьшить силу течения. Мера эта явно удалась, поскольку теперь на воду начали сталкивать большие плоты, на каждом из которых стояло с дюжину лошадей, естественно, как-то привязанных, и находились гребцы или люди, толкавшие плот длинными шестами.
— Бесподобно! — заворожённый, прошептал я.
— Теперь я вижу, — донёсся до меня голос Бальтанда, — что вы, карфагеняне, народ богатый. Может, я даже предложу вам купить у меня отблески. Конечно, не все, а столько, сколько будет стоить моя свобода.
— Надо же, чтобы перед глазами было одновременно столько коней, тысячи три, не меньше! — вырвалось у меня. — Удивительно, поразительно, невероятно!
— Мой народ поклоняется лошадям и приносит их в жертву богу...
Я был не в состоянии прислушиваться к варвару. Меня слишком захватило происходящее, за которым я наблюдал боковым зрением. Эта переправа, этот пример решительных действий, как нельзя лучше свидетельствовала о величии Ганнибала и его стремлении к победе.
Вчера я стоял почти на том же месте, но с иными чувствами. Вчера я испугался. Мне впервые довелось увидеть едва ли не всё вытянувшееся в длину войско, и оно предстало передо мной в странно нерасчленённом виде. Я не различал ни людей, ни больших или малых отрядов, которые бы стояли или двигались особняком, отдельно от массы. Точка обзора позволяла мне одним взглядом охватить всё, и это всё составляло единое целое, неразделимое и самоценное: передо мной было гигантское чудовище, которое слепо, ни на что не обращая внимания, ползло вперёд, только вперёд. Всё попадавшееся на пути сметалось, расплющивалось, уничтожалось, дабы сей дракон мог показать свою силу, свою власть, своё могущество. Местность шаг за шагом крушилась, ибо ничему, кроме этого демонического, звероподобного целого, не дозволено было продолжить существование.
Вчерашнее зрелище подействовало на меня угнетающе. Вероятно, нечто подобное видел Ганнибал в Онуссе. Но я не Ганнибал, и представшее передо мной не было сном. К тому же я смотрел открытым взглядом, не так, как обычно смотрю в этом походе — боковым зрением, уголком глаза. А Ганнибал... кем был он, какой облик приобрёл для меня теперь? Lupus in fabula![84] Не успеешь произнести его имя, как он уже тут! Чудовище изрыгает, выталкивает из своей устрашающей пасти одинокую фигуру всадника, который внезапно останавливается и разворачивает коня. Это Ганнибал собственной персоной. «Но остался ли он по-прежнему Орлом? — с дрожью в сердце спрашиваю я. — Нет, — приходя всё в большее возбуждение, думаю я, — теперь он сын волчицы. Ганнибал-Волк ведёт дракона и повелевает им!» Эта метаморфоза произошла прямо у меня на глазах.
Занавес раздвинулся, открыв суть того, что случилось в каштановой роще, во время жертвоприношения волчицы. Оказывается, Ганнибал — новоявленный Ликаон, волкоподобный... да нет же, он сам волк, священный зверь войны.
Чтобы стать Победителем, ему нужно принести жертву Зевсу-Ликеосу и Юпитеру-Лупатусу[85].
Взамен Ганнибал-Победитель коронуется на царство в облике зверя.
Я, королёк, оказался выброшенным из тёплого оперения Орла в воздушный океан. На земле я забрался к себе в палатку и принялся молить богов о возвращении нас всех в прежнее состояние: чтобы Ганнибал был Орлом, а я — крохотной пташкой из басни, греющейся в перьях у него на голове. Жизнь обещала мне, что я доживу до глубокой старости, стану знаменитым и уважаемым. «Только не такой ценой!» — в злобном смятении всхлипывал я. Всё и вся казалось мне настолько страшным, ужасным, душераздирающим, что я молил богов даровать мне более приемлемую для человека реальность.
В ответ на мою молитву мне была тут же нарисована иная картина: прогуливающиеся люди, которые заняты беззаботными беседами, смеющиеся девушки, которые порхают в светлых аркадах, юноши с крепкими обнажёнными телами, которые участвуют в мирных состязаниях, сидящая в амфитеатре публика, которая, затаив дыхание, следит за перипетиями трагедии. Я попытался также призвать к себе всё самое светлое, лёгкое и свободное: мелодию лиры и благозвучие поэзии, состояние мира и нежной влюблённости, спокойный голос разума и чистые откровения мудрости, чувство отдохновения после крепкого сна.
Моё общение с богами сошло на нет, ибо я отказался рисовать образы через сравнения и метафоры с их бесконечными «как» и «подобно». Я снова предался своим страхам, пока, обессиленный, не задремал. Пробудившись, я понял, что жизнь — это болезнь, а сон — лекарство; но единственное средство для излечения свирепой болезни под названием Жизнь есть смерть.
Вот как было дело ещё вчера.
Сегодня меня не испугать ничем. Бьющая через край энергия коней наполнила всё вокруг необыкновенной бодростью и блаженной жаждой жизни. Кто это не хочет жить, когда ему показывают такие зрелища?! Кто это недавно хныкал: дескать, смотреть на жизнь слишком мучительно, нужно чем-то занимать и отвлекать себя, поменьше думать, ни в коем случае не пытаться разобраться в себе. Кто всё это пищал? Только не сегодняшний Йадамилк! И кто бы вы думали сваливается на меня в этот миг? Конечно же Ганнибал! Ганнибал-Победитель, который, проезжая мимо, на полном скаку кричит мне:
— Выкачай из норманна всё, что он знает, Йадамилк.
— Больно трудно выкачивать! — кричу я в ответ.
— Не сдавайся, — доносится до меня. — Завтра утром он мне может пригодиться.
— Как собаке пятая нога! — хнычу я, задыхаясь от досады и отвращения.
Неужели мне никогда не отделаться от этого торгаша? Неужели настоящему Орлу в самом деле интересна сия норманнская муха? Схватив хлюпика за руку, я волоку его обратно в палатку. Он тут же усаживается на свой набитый отблесками мешок.
Я живу в пустоте, среди всеобщего непонимания. Ох, как трудно быть ненайденным сокровищем! До меня доносятся шаги, они приближаются; я слышу и голоса, они тоже приближаются; потребность в сокровище вопиющая. Сокровище хочет закричать: «Я здесь!» Но кричать нельзя. Как бы ни велика была потребность в нём, оно принуждено молчать. Люди сами должны найти и оценить сокровище. Нет-нет, сокровищу ни в коем случае нельзя подавать голос, кричать о своей ценности. Так же обходятся в этом мире и с поэтом. Сие двуногое сокровище высмеют, если оно попытается заявить о себе. Восхищение эпосом не распространяется на его автора!
Ганнибал совершенно не понял меня. Он не понимает, что значит носить в себе созревающий эпос. У эпика происходит смещение горизонта, его поле зрения всё время меняется, поэтому он утрачивает дальнозоркость и вынужден смотреть с точки зрения попавшего в новую обстановку ребёнка. Кроме того, поэту приходится бессчётное число раз возвращаться к одному и тому же. Что я видел тогда, что вижу теперь? Будь проклята забывчивость! Забывчивость — серьёзный порок, можно сказать, слепота! А ведь бывает ещё занудливость, которая заставляет эпика зацикливаться на каких-то подробностях, лишь много позже обнаруживая их незначительность и эфемерность. Каждая стихотворная строка течёт и извивается. Каждое слово живёт и пульсирует. За спиной у эпика остаются затопленные пространства, впереди встают всё новые и новые языковые возможности. Почему бы иногда не разбивать гексаметр ямбом?
Сочинять эпос — всё равно что плыть из Карфагена в Новый Карфаген. На пути туда тебя подстерегают смерчи, которые не только не спешат утихомириться, но налетают со всех сторон, пытаясь засосать корабль в свою воронку. Эпик, совершенно на это не рассчитывая, может оказаться между двух столпов, его может занести туда, где до него не прокладывал путь среди букв и слов ни один кормчий, занести в околоплодные воды, из которых появляется на свет живой язык — среди сонма мертворождённых детищ, лишь будоражащих поверхность чувственного мира, но так и не вырастающих ни во что дельное.
Поэт перемежает своё плавание с полётом. Он снова и снова падает, сменяя крылья на парус, и взмывает ввысь, всё выше, всё круче, всё дальше.
VI
С чувством униженности и полного отсутствия идей я смотрю на Бальтанда, головоломный объект поручения, данного мне в сем великом военном походе. Я понятия не имею, о чём его ещё спрашивать. В другое время я мог бы узнать у норманна, как выглядит его страна и как они там живут, есть ли у тамошних жителей дома или они поступают подобно другому северному народу, о котором я читал, то есть с приходом зимы набрасывают на подходящее дерево одеяло, забираются под него и засыпают, чтобы проснуться уже с наступлением весны. Я мог бы также спросить, кто был его наставником, зажиточная ли у него, по норманнским меркам, семья и есть ли у его народа священные тексты либо интересные светские книги. И так далее, и тому подобное... Но что мне потом делать со всеми этими фактами? Мой мир никогда больше не соприкоснётся с миром Бальтанда.
Я призываю Астера и велю ему принести нам еду и питьё.
— Значит, обычный Янтарный путь для тебя не годился, — за неимением другой темы говорю я. — Ты предпочёл спускаться по рекам.
— Родан — мировая водная артерия.
— Или парадный проспект. Здесь, около Средиземного моря, оживлённое движение как в ту, так и в другую сторону. У самого устья его контролирует Массилия, которая с жадностью прибирает к рукам всё проплывающее мимо. Неужели тебя не предупредили?
— Я умею оберегать себя, — отвечает мой чудак. — К тому же я слышал слишком много бахвальства. Дескать, Родан служит мировой артерией и для людей тьмы, и для людей солнца. Можно подумать, тот же путь не ведёт с юга на север. Так называемые «люди солнца» вполне могли бы, ежели бы решились, прибыть к нам и убедиться, что у нас солнца столько, сколько им и не снилось.
— А тебе не страшно путешествовать по неизведанным краям в темноте?
— Я же сказал, что привычен к темноте.
— И ты никогда ничего не слышал?
— Почему же не слышал? И слышал и чувствовал.
— Ты даже чувствовал?! Что же?
— На закате я слышал, как сторожихи закрывают ворота у границы мира. Утром я ощущал дрожь, которая проходит по земле, когда солнце вновь вступает во владение ею.
Но я уже спрятал глаза в ладонях и унёсся в другой мир, в мир, где мы балансируем на краю топи, что колышется поверх подземного морского языка. Мы идём, полагаясь на чужеземцев — кельтских проводников. Однажды утром забытая богами земля оказывается укутанной толстым, мохнатым покровом тумана. Мы едва различаем что-либо на расстоянии вытянутой руки. Все ориентиры попали в мягкие объятия мглы. Отряд за отрядом охватывают неуверенность и страх. Никто не строится в походные колонны. Никто не хочет выступать. Впрочем, выступления пока и нет. Зычно звучат приказы, вернее, успокоительные новости. В любую минуту может задуть ветер, который рассеет окутавшую войско плотную завесу. Кое-кто сует палец в рот и тут же выставляет его на воздух. Пока что ни дуновения, говорят они, уверяя, что только вихрю под силу унести опустившуюся на нас пелену тумана.
«Почему мы здесь, а не где-нибудь в другом месте?» — с досадой спрашивают многие. Но эти люди не представляют себе местности даже на расстоянии однодневного марша, не знают особенностей рельефа и названий, данных неведомыми народами отдельным местам, которые называются и переназываются на всё новых и новых языках, так что одно и то же место может иметь целый набор имён. Никому не приходит в голову дать собственную кличку месту, заключившему нас в мягчайшую из возможных темниц. Проще всего это было бы поэту. Он ведь приметил много особенностей окружающей местности и углядел кое-что из того, что не было явлено другим. Прислушавшись, он различает доносящееся из тумана мычание.
Здесь чёрными стадами бродят дикие коровы. Мы также видели табуны белых неприручённых лошадей. Наши охотники набили для нас довольно много скота. Мясом так наедаешься, что ощущение сытости остаётся до утра. Белые лошади изумили и восхитили нумидийцев. Они захотели тут же изловить нескольких жеребцов и кобыл, для чего предприняли ряд быстрых атак на них, пытаясь окружить табун. Вчера из этих атак ничего не получилось. Прекрасно зная округу, дикие животные уносились вскачь по такому грунту, на который нумидийские кони отказывались ступать, причём иногда останавливались столь резко, что часть всадников попадала наземь. Белые лошади мчались по топи, перемахивая через кочки и, подобно Пегасу, перелетая через извилистые разводья[86]. Я видел, как один особенно строптивый жеребец стоял на застрявшем в иле, белёсом от воды бревне. Из розовых ноздрей коня рвалось пламя, копыта грозились нанести сокрушительный удар. Жеребец был неописуемо красив. Ещё мгновение — и он, совершив длиннющий прыжок, скрылся в непролазном тростнике.
Нумидийцам оказалось трудно проглотить обиду от бесплодной погони. Вечером они сбились в кучки и стали думать. Они тёрли лбы в надежде пробудить дремавшие мысли, и кого-то осенило. Посмотрим, что у них выйдет теперь. Во всяком случае, сегодня штук сто наших кобыл ночуют — естественно, под надёжным присмотром — вдалеке от лагеря. Нумидийцы надеются, что запах течки привлечёт диких жеребцов, которые и покроют хотя бы нескольких самок.
Время идёт. Туман не развеивается. С ним происходит что-то в высшей степени странное. Он прижимается к земле и уплотняется. Тот, кто сидит, видит ещё менее прежнего — не дальше двух пядей от себя. Такое впечатление, будто земля горит и потому кругом дым. Приподнявшись на цыпочки, я выглядываю из полосы тумана и вижу контуры ближайших деревьев — верхушки чахлых тамарисков и худосочных пиний. Когда я некоторое время спустя повторил свою попытку, то обнаружил плывущие по дымке отрезанные головы. Удивлённо заморгав, я опустился на полную ногу, но сразу же снова встал на цыпочки. Странные видения напомнили мне один текст, в котором говорится: «Из земли торчало множество бесшейных голов, кругом виднелись руки, гулявшие сами по себе, без плеч, и глаза, витавшие в воздухе отдельно ото лбов». Сии отчленённые части тела соединялись друг с другом в самых разных сочетаниях, так что получались, например, двуликие создания. Помню, там была корова с человеческим лицом и человек с коровьей мордой.
Наши охотники прислушиваются к доносящемуся из тумана мычанию чёрных коров и проявляют нетерпение.
Все остальные тоже. Внезапно большинство охотников вскакивает на коней и погоняет их. Намечается большой убой, который и происходит, поскольку кони боятся диких парнокопытных куда меньше, чем своих белых сородичей. Из-за завесы тумана слышатся крики, ржание, мычание и рёв. Не иначе как черномастная скотина ударилась в панику... Я вижу острые хребты с чёрным отливом, которые разрезают густое море тумана. Они напоминают мне стаю дельфинов, которые разрезают воду, игриво выпрыгивая на поверхность.
Это зрелище столь же незабываемо, как ощущение целомудренного счастья, которое входит в твою душу, сначала отражаясь лишь на жизненном настрое и только потом захватывая само сердце. Передо мною разыгрывался спектакль, изящный и изысканный, самобытный и доселе не виданный. Я как сейчас вижу этот поток чёрных спин с их бесконечными прыжками и жете[87]. Вижу и белых лошадей, которые встают на дыбы, выпрастывая из тумана передние копыта — словно жёлтые анемоны, пробившиеся в горах из-под снега.
Я не стал спрашивать, сколько убили скота. Меня, как и других, больше интересовало, когда мы снимаемся с места и выступаем. Даже самое красивое зрелище быстро наскучивает.
Мы с Бальтандом продолжаем молчать. Теперь мы не просто сидим, а едим и пьём. Моргать он, может, и не умеет, зато превосходно умеет хлебать и чавкать.
— Ты видел большие болота? — неожиданно для себя самого спрашиваю я.
— Ещё бы! — отвечает Бальтанд. — И что с того?
— Я слышал одну поговорку, — раздумчиво произношу я. — Не помню точно, но, по-моему, она звучит так: «Если топь не спешит оттаивать, журавль умирает».
— Возможно, поговорка справедлива, — замечает Бальтанд. — А впрочем, какого чёрта! — тут же поправляется он. — У журавля есть крылья, он всегда может улететь с замерзшего болота. Разве что заморожена вся округа... Ну и что? Журавли очень любят мёрзлую клюкву.
— Есть и другая поговорка, — продолжаю я. — «Рано замёрзло болото — рано прилетят журавли на юг».
— Вероятно, она тоже правильна. От кого ты их слышал?
— Не от тебя.
Я слышал их от кельтских вождей.
Когда мы спустились с Пиренеев, Ганнибалу доложили о том, что в каких-нибудь тридцати милях от нас собрались на совет кельтские вожди. Разумеется, они обсуждали наши пожелания, которые Ганнибал через гонцов довёл до их сведения, объяснив намерения войска и предложив договориться, на каких условиях мы могли бы пройти через принадлежащие кельтам земли. Повелев немедля разбить свой роскошный шатёр полководца, Ганнибал послал вождям приглашение в гости и на переговоры. Вожди вместе с царьками прибыли — верхом и в сопровождении свиты. Ганнибал встретил их в нарядных одеждах, с царской диадемой на челе. Он осыпал прибывших подарками и подтвердил свои обещания. Вожди сидели, таращась на дары, многие — с большим пальцем во рту. Занятно, что стоило возникнуть какой-нибудь проблеме, как один из них, явно самый влиятельный среди вождей, заявлял:
«Нам нужно выйти помочиться».
И вся компания снималась с места и трусила вон. Встав неподалёку от шатра, вожди (не выпуская из рук члена) долго судили и рядили об услышанном, взвешивали все «за» и «против». На протяжении переговоров они делали так трижды и в третий раз вернулись весьма довольные. Чем? Ганнибаловыми дарами? Их за это время не прибавилось. Посулами? Они тоже отнюдь не стали щедрее. Зато пока властители и предводители мочились на глазах у честного народа, размышляя и рассуждая о своих делах, их внимание привлёк звук, заставивший всех поднять глаза к небу.
Высоко вверху тянулся журавлиный клин, и вожди, мгновенно забыв о предмете спора, принялись считать птиц. Не успели они сойтись на одной цифре, как; следом появился второй клин.
Необычайно ранний прилёт журавлей позволил Ганнибалу отделаться малым количеством подарков и обещаний. Ему разрешили свободный проход по Родану до нужного места, обязались поставлять фураж и хлебные злаки, обеспечили надёжными проводниками, которые к тому же знали, где среди кельтов тлеет недовольство, а потому можно ожидать вспышек пожара. Но речь идёт лишь об островках своевольных племён в океане кельтского народа, клялись и божились вожди. Эти племена легко будет подавить, подкупить или победить, заверили они Ганнибала.
«Взяв это на себя, ты избавишь от хлопот нас, — радостно подхохатывая, сказали старейшины и перевели разговор на священных журавлей, которые только что подали им неопровержимый знак свыше».
«Спасибо, что никто из них не опрокинул мне на голову зловонный горшок, — сказал после ухода кельтов Ганнибал, обращаясь к нам, писцам. — Вы, конечно, помните, что пришлось выдержать хитроумному Одиссею в драме Эсхила? Кажется, сходный эпизод есть и у Софокла в «Пире ахейцев». Мне только непонятно, почему человеческие отправления вызывают у людей столь безудержный смех».
«Вообще-то тут всё ясно, — ответил Силен, — просто никто не может вымолвить такое даже про себя, не то что вслух».
«Потому что один из присутствующих обычно не в состоянии смеяться над этим?»
«Вовсе не поэтому», — вступил я.
«Сказано с излишней самоуверенностью, — отозвался Силен-Ламия. — Тот, на кого опрокидывается вонючее содержимое ночной вазы...»
«Должен покинуть сцену, — докончил оживившийся Ганнибал. — Я её тоже покидаю. На сегодня с меня хватит. А вы, господа писцы, садитесь за работу. Донесения о нашем сегодняшнем успехе должны как можно скорее прибыть и в Карфаген, и в Новый Карфаген».
Тем не менее Ганнибал вернулся к себе в палатку не один, а с группой военачальников. Всё задуманное как будто исполнялось — если, конечно, можно было полагаться на чужое слово и рукопожатие. Теперь стратегам предстояло наметить новые планы, которые также должны были успешно осуществиться.
До сих пор нам действительно сопутствовала удача, думаю я, сидя напротив Бальтанда. Мы достигли Родана и, можно сказать, уже преодолели ширь реки. По пути сюда мы усиливали форты и укреплённые замки, так называемые оппидумы, оставляли там своих людей. Вся Южная Галлия станет нашим протекторатом. Это пока неточно, но так обязательно будет, если Карфаген прислушается к Голосу Ганнибала. В любом случае наше воинство может не бояться удара в спину и ему обеспечено безопасное отступление. В узловых пунктах, через которые проходил наш марш, размещено двенадцать тысяч пехотинцев и тысяча всадников. Иными словами, единовластию вождей, с которыми вёл переговоры Ганнибал, наступил конец. Сейчас они видят перед собой солдат, которых необходимо снабжать хлебом и солью, одеждой и обувью. Но если положение обострится, они поймут, что солдаты — это сила. А до тех пор пускай поломают себе голову над тем, что везут наши обозы. В этих обозах нам должны доставить вооружение из испанских факторий и ремесленных мастерских.
Итак, у Родана наше войско ещё больше убавится, прикидываю я. Впрочем, ядро ветеранов, на которых Ганнибал может рассчитывать в любую минуту, сохранится. Меня удивляет только одно (ведь приходится думать и об этом): почему Главнокомандующий, хотя мы шли через густонаселённые провинции, не привлёк новых наёмников? Чем мотивировано подобное решение? Я задаю эти вопросы, глядя уже не боковым зрением, а просто искоса. Но ответов доискаться не могу. Мне известно, что среди наёмников заправляют люди, прошедшие огонь и воду. Наёмных солдат интересуют лишь жалованье, военные успехи и грабёж. Им плевать на политические или культурные цели Ганнибала. Они в гробу видели преобразования в системе мировой власти, тогда как именно реформы составляют конечную цель данной войны. Кто для них Ганнибал? Великий полководец, которому сопутствует богиня Удачи. Они связались с ним только потому, что считают его Победителем.
Видение войска, представшего передо мной в образе чудовища, укрощённого и ведомого Ганнибалом, постепенно тускнеет. Однако я не могу совсем изгладить из памяти сию впечатляющую картину. Более того, мне, оказывается, не хочется забывать её. Она может пригодиться, когда мой рассудок будет в более здравом состоянии. Тогда я сумею изобразить увиденное гораздо лучше, подробнее и содержательнее, сумею осветить дальний прицел нашей войны: не разгром конкретного противника, а грандиозные перемены. Для достижения успеха приходится брать в союзники не одну только знать. Даже государь государю рознь. Среди них попадаются и rois faieneants, ленивые монархи. Пускай себе погрязают в праздности. Главное, чтобы Ганнибалу позволено было заниматься вооружениями и войском. А подземные демоны... Что ж, если они могучи и соблаговолят потом скрыться обратно под землю, их тоже можно использовать для высших целей.
Как ни тяжко даются дневные переходы, Ганнибал требует от своей рати большего. Он неустанно проверяет каждый род войск и исправляет то, что считает необходимым. Он экспериментирует, поскольку обычно добивается хороших результатов именно таким способом. Поначалу его требования могут показаться противоречивыми, на деле же у него ни с кем не возникает конфликтов. Требование одновременно большей манёвренности и мощи наносимого удара свидетельствует не о непоследовательности, а о хорошем знании законов войны.
Пехота состоит из фаланг, по четыре тысячи человек в каждой. «Нужно ли так много?» — спрашивает Ганнибал. И сам отвечает: «Разумеется, иногда нужно». Это зависит от боевого порядка противника и от местности. Однако такая масса тяжёлой пехоты не всегда удобна. Воины выстраиваются плечом к плечу в шестнадцать шеренг, по двести пятьдесят человек в каждой. Ганнибал пытается сделать фалангу компактнее и поворотливее. Его разнообразные расспросы про атаки и виды построений приводят в замешательство многих, особенно ветеранов, которым кажется, что уж они-то знают всё. Но разве воинам приходится по многу раз наблюдать Ганнибаловы опыты? Ещё бы, чего стоят одни только его переодевания! Вот он нацепляет на себя снаряжение, положенное пехотинцу, — тяжёлые доспехи, меч и копьё. Всё ли из того, что несёт с собой воин, необходимо ему? Нельзя ли облегчить доспехи или надеть их иначе? Ответ Ганнибал ищет с помощью собственного тела, приспосабливая поудобнее пояс и перевязь, бронзовые пластины, защищающие грудь и спину. Что-то он может выкинуть, что-то надеть по-другому. Он обсуждает с приближёнными новое оружие, которое придумали в оружейных мастерских и которое должно скоро прибыть к войску. Иногда воин слышит из уст Главнокомандующего одну-две строки Гомера на родном наречии, например вот эти:
... и навзничь, шатался, в прах Амаринкид Грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая ...К пехоте относятся также пращники. Все они родом с Балеарских островов и разбиты на корпуса, по две тысячи человек в каждом. Ганнибал и здесь поддаётся своей страсти к экспериментам, хотя делает это осторожно, поскольку пращники особенно гордятся своими профессиональными качествами.
У них в ходу два типа пращей, одна дальнобойная, а вторая — рассчитанная на ближний бой. Меткость попаданий очень высока. Все согласны во мнении, что по ударной силе пращники превосходят лучников. Ганнибал проявляет хитрость или, скажем, педагогические способности. Выбрав из шеренги балеаров двух отменных воинов, он ставит их по обе стороны от себя и начинает учиться обращению с пращой, подбивает их предлагать изменения, просит немедленно опробовать предложенное, сам, как бы невзначай, тоже подбрасывает новшество и примеряет всё к собственному телу.
Какой же род войск у нас наилучший? Конница, не преминут сказать всадники. Наша конница состоит из двух независимых друг от друга подразделений. С одной стороны, у нас есть тяжёлые эскадроны, в основном из испанцев, которые сидят на коне по двое. В бою один из них сражается верхом, а другой — пешим. На них Ганнибал-Испытатель тоже распространяет свою страсть к улучшениям. Стоит открыться перед нами равнине или хотя бы достаточно просторному полю, как конницу вызывают показывать приёмы атаки. Ганнибалу хочется посмотреть стремительный наскок тесной кучкой, которая затем рассеивается и исчезает. Эскадрон должен уметь сжаться до тоненькой полоски — так орёл то распускает крыло во всю ширь, то мгновенно подбирает его к туловищу. Напряжение и расслабление должны величественно и в то же время гибко сменять друг друга.
Но я перечислил ещё не все части тела Дикого Зверя. Самое главное я приберёг напоследок. На мой взгляд, лучше всех в нашем войске нумидийцы. Вооружённые дротиками, они замечательно бьются в самых трудных схватках. Кроме того, они привычны к степям и горам, быстро ориентируются в суматохе боя и принимают верные решения, а также изобретательны по части военных хитростей. Я наблюдал их в действии в Каталонии и надеюсь увидеть снова.
«Но почему Ганнибал не пополняет пехоту молодыми кельтами?» — в очередной раз спрашиваю я себя. Их было сколько угодно с самых Пиренеев.
— А вы, норманны, столь же многочисленны, как кельты? — наугад осведомляюсь я у Бальтанда.
— Не считал, — отзывается он.
Видимо, дело в том, сам додумываю я, что кельты, которые попадались нам в Южной Галлии, стали тяжелы на подъём, окрестьянились и пустили корни. Найдя плодородные земли, они быстро удовлетворились своей жизнью. Жалованьем их больше не соблазнить. Если жестокие времена порождают жестоких людей, то добрые развращают их, развивают жадность и недальновидность. На протяжении двух предшествующих веков кельтов гнало по свету стремление заиметь побольше земель и жратвы. Они наводнили южные области как на востоке, так и на западе. Сколько разных народов кельты либо уничтожили, либо вытеснили, либо сами смешались с ними. Такое впечатление, будто где-то в лесной чащобе спрятана огромная материнская утроба, которая только и делает, что рожает кельтов. Или они зарождаются у неё в ухе и выходят через рот, как, говорят, делают ласки и другие мелкие зверьки и как, между прочим, родился у Алкмены Геракл? Раньше такое же колоссальное материнское лоно было у греков, так что они заполонили собой чуть ли не все острова и побережья. Теперь сие лоно вроде бы угомонилось. Мы, финикияне, если и не малочисленны, то; во всяком случае, никогда не были слишком многочисленны. С незапамятных времён большинство наших мужей отправляется в дальние странствия в разные концы света. Как же тут рожать по ребёнку в год?
Бальтанд уснул на своём мешке. «Спи, искатель приключений, мужественный и чудаковатый человек, — думаю я. — Ты сидишь в палатке поэта, а не дознавателя».
VII
Уйдя от болот, мы попадаем в местность не менее своеобразную. Теперь начальствование переходит к ратному жрецу Богусу. Пейзаж, расстилающийся перед нами, куда ни кинешь взгляд, напоминает пустыню. Бесплодная почва сплошь усеяна красноватым камнем. Этот край тоже едва ли способен вызвать нашу приязнь. Богус рассказывает о том, как сюда попали красные камни, и объясняет, что нам всем надлежит пасть ниц перед ними. Он делает это сам, и многие следуют его примеру. По мере того как рассказ его доходит до дальних шеренг, всё больше и больше воинов падает ниц.
Давным-давно, когда до этих мест добрался бог Мелькарт (которого греки впоследствии окрестили Гераклом, а римляне стали после них называть Геркулесом), его остановил великан по имени Альбион. Великан не желал видеть здесь Мелькарта. Воинственно настроенный, он просто кипел от гнева. Стало очевидно, что он не успокоится, пока не отнимет у Мелькарта жизнь. Тогда наш бог поднял лук, прицелился и выстрелил. Это было всё равно что стрелять в высокий дуб. Стрелы застревали в дубе, тогда как сам он оставался стоять, крепок и прям. Когда Мелькарт расстрелял весь колчан, великан Альбион, целый и невредимый, угрожающе двинулся на него. Тогда Мелькарт призвал на помощь самого Баал-Хаммона. Тот не отказал ему: средь ясного неба на великана обрушился град камней, который и порешил его. Мелькарт получил помощь — посмотрите сами, какая масса камней потребовалась, чтобы прикончить кровожадного злодея Альбиона. И до сего дня камни сохраняют красный цвет его крови.
В связи с этим божественным вмешательством мы принесли в жертву Баал-Хаммону чудесного чёрного быка. После жертвоприношения мы съели быка. Мне достался большой кусок, еле уместившийся в руке. Происходило это ранним утром, при низком солнце и в окружении головокружительных высот. В ушах у нас уже начинал свистеть ветер. Вскоре погода совсем испортилась. Ветер разыгрался не на шутку, одну половину небосвода стало затягивать странного вида тучами. При свете дня перед нами громоздились иссиня-чёрные города и охристо-жёлтые укрепления; они возникли, чтобы тут же исчезнуть, сменившись пропилеями и прочими воздушными сооружениями. Нас отвели на опушку пиниевой рощи, надеясь, что она послужит защитой от набиравшего силу урагана.
Однако мы попали из стихии сумасбродствующей в прямо-таки сбесившуюся. Похоже было, будто в роще растут не деревья, а злобствующие фурии. Каждая пиния обрела собственный страшный голос. В творящемся гвалте эти безумствующие создания подняли такой вой и вопь, что привели в ужас лошадей, у ратников же пальцы невольно потянулись к ушам, чтобы заткнуть их. Каждая пиния превратилась в разъярённую ведьму, которая, неистово размахивая бесчисленными руками, грозилась обрушиться на нас. Нам ещё не приходилось слышать подобного гама. Пинии звучали одна невыносимее другой. Тут были и надсадный кашель, и визгливый скрип, и стон, и рёв, и свист — все они пронзали нас своими острыми жалами. Всё войско, насколько я видел, точно ополоумело. Пехотинцы падали ниц, кони устремлялись вскачь неведомо куда, слоны, сложив огромные уши, становились по двое и упирались лбами друг в друга.
Да, мир сделался чудовищно ненормален, природа обратилась в руках божиих супротив естества, мы оказались фактически беззащитными, а наши меры предосторожности — совершенно бестолковыми...
Больше всех перепугался жрец. Какие он допустил ошибки во время священного ритуала?
А что происходит в моей палатке? Мои размышления прерывает появившийся в дверях вестовой. Он прислан Ганнибалом и говорит, что Бальтанда (который всё ещё спит) должны завтра поутру представить воинству вместе с вождём бойев Магилом из долины Пада. Зачем? Этого мне не сообщают. От меня вообще многое утаивается. Я не съел быка, я вкусил от него, причём получил большой кусок. Значит, Бальтанд — фигура значимая, смекаю я. Может быть, в часы, проведённые с ним, я играл более важную роль для великого военного похода, нежели я считал ранее? Может быть, кусочек волчатины вырос теперь в большой кусок?
Я не успеваю обдумать этот поворот событий. Вошедший в палатку верный слуга Астер рассказывает, что подошла очередь слонов переправляться через Родан. Такое великолепное зрелище пропустить нельзя! На всякий случай я расталкиваю Бальтанда и, схватив крепкой хваткой, беру его с собой.
Вдоль берега уже толпится пехота, собравшаяся поглазеть на необыкновенное действо. Я замечаю тут и многих писцов. Никто из них, насколько я вижу, не обременён мелкой тварью вроде Бальтанда. Один только я! Писцы ведут себя довольно развязно. Они пялятся и строят мне рожи, точно я — полная противоположность тому уникальному номеру, который исполняется сейчас на реке. Они идут в нашу сторону, как будто хотят заговорить со мной, но, приблизившись, внезапно отворачивают в сторону. Причём это петляние повторяется не единожды. Чего они хотят? Помешать мне наблюдать за происходящим? Или от меня дурно пахнет? Может, они боятся меня? Или просто испытывают? А, плевать! Их зады напоминают мне пустую доску для объявлений — по-испански tablon de anuncios!
Моя правая рука устала обнимать Бальтанда. Удержу ли я его левой? Должен удержать! Я поспешно меняю руки.
Писцы продолжают строить мне гримасы. Они не выносят меня. Мои привилегии для них — бельмо на глазу, мой талант — вонзившийся в кожу шип, мой свободный, светский образ жизни пробуждает в них мечты, которым не суждено осуществиться в этом мире, — вот почему один мой вид раздражает их. У меня уши вянут и глаза сохнут от их претенциозной некультурности. «Отвалите, засранцы несчастные! — так и хочется крикнуть мне. — Пошли в задницу, culum et clibanum!» Я смотрю на Родан, но настолько разволновался, что почти ничего не вижу.
Бальтанд жмётся ко мне. Уж не страх ли пробрал наконец этого искателя приключений? Обсуждать с ним сколько-нибудь сложные предметы бессмысленно. Попытайся я рассказать о вызывающем поведении писцов, он всё равно не поймёт меня. Когда Бальтанду нужно объяснить мне что-то чуть более сложное, он прибегает к неуклюжим вставкам на каком-то кельтском наречии, поскольку его владения греческим явно недостаточно.
Писцы продолжают изображать дурацкие пируэты около нас. С каким бы удовольствием я передал своего Бальтандика одному из них! «Вот тебе знатная норманнская муха, поди-ка понянчись с ней!» Я запрятываю взгляд как можно глубже, чтобы видеть происходящее вокруг лишь искоса, боковым зрением.
Эти летописцы повседневности везде одинаковы. Они ходят в солнечный день с зажжённым фонарём и уверяют себя, будто именно они распространяют кругом свет и просвещение, будто сам ход событий в мире зависит исключительно от них. Вот откуда их забавное выражение лица: «я первый» — когда речь идёт о какой-то новости, и «я самый умный» — когда дело касается объяснения запутанных явлений и событий. Они хронически страдают от зависти друг к другу. Ведь среди них постоянно происходит смена лиц: вчера ещё Наипервейший Первый вынужден по непонятным причинам уступить своё место новому Наипервейшему — ведь только Наипервейший годится для создания той или иной сенсации.
Создание... созидание... «Да, как насчёт созидания?!» — хочется мне крикнуть им. Откуда приходят выдающиеся творческие успехи? Как они получаются — кто, из чего и почему творит новое? Как возник весь мир? Эти пустые доски не задаются столь праздными вопросами. Зато чуть что, они уже готовы обделаться от страха! Каждый акт творчества кажется им опасным, как зыбучие пески, как светопреставленье. Они предпочитают держаться на расстоянии, позволяющем удовлетворять их любопытство. Если процесс созидания затягивает их глубже, у них пропадают какие-либо устремления, они не могут выдавить из себя ни слова, не могут продолжать ходить по белу свету с зажжённым фонарём. Им, разрази их гром, необходимо выложить истину сию минуту, причём жеваную-пережеваную, чтоб дошла до последнего дурака. Родовые муки творчества пагубны для них, ибо напрочь лишают их дара речи и способности нести свет в массы — ни фонарь, ни свечка в руке более не зажигаются.
О поэзии они не имеют ни малейшего представления. Чистые воды поэзии никогда не орошали их души. Почти ничего не известно им и о поэтическом источнике, забившем из горы Геликон благодаря удару копытом несравненного коня. Этот «лошадиный источник» принадлежит музам, а потому он также первоисточник живой речи. Когда музы принимались петь, гора Геликон приподнималась, росла ввысь от восхищения. Приходят ли в восхищение летописцы повседневности? Да, от собственных каракулей. Пинки под зад, которые они раздают в своих acta populi[88], доставляют их нёбу не меньше удовольствия, чем свежайший кусок дерьма. Слова для них всё равно что кучка игральных камешков: они хватают первые попавшиеся и бросают их на разграфлённый лист. Разве они могли бы запоминать эпос? Что они знают про небезопасные перескоки с крыла на парус и обратно? Или про ужас, который ты испытываешь, когда разверзаются языковые горизонты, открывая бездну хаоса? Или про душевную радость, которая приходит к тебе, когда намечаются очертания будущего стиха? Эй ты, задница, назови-ка истинное солнце речи! Ага, не можешь! Ну что ж, я скажу сам! Это эпос. Эпос! Он, и только он, дарует свет, исходящий от языка.
— Ответь мне на один вопрос, — просит Бальтанд, с трудом приподнимая зажатую голову. — Почему он чёрный?
— Мой раб?
— Ну да! Я слышал про чёрных, но никто не объяснил мне, почему они такие.
— А тебе кто-нибудь объяснил, почему ты розовый?
— Ответь на мой вопрос, карфагенянин. Почему они чёрные? Они ведь такие же люди, как мы.
— Астер принадлежит к народу с обожжёнными лицами.
— Но почему он тогда не красный, а чёрный?
— Он родился ближе к солнцу, чем ты.
— Солнце никого не чернит до угля.
— Оно никого и не розовит.
Бальтанд обижается и хочет сделать шаг в сторону от меня. Но вместо него делаю шаг я. До меня доносятся возбуждённые голоса. На реке что-то происходит. Беда! Кто-то громко кричит, над Роданом распространяется тревога, она растёт вширь и одновременно усиливается. Вот она уже накатывается на нас. Могучий Родан, которому впервые приходится нести на своей спине слонов, не желает мириться с прыгающей тяжестью этих колоссов. А я? Я тоже ощущаю перекатывающуюся тяжесть моего бедного неоконченного эпоса, который на самом деле существует лишь в виде разрозненных звучных обрубков. Но что самое тяжёлое? Самое тяжёлое то, что не поддаётся взвешиванию! На меня давит непомерной тяжестью ещё не написанное.
Я смотрю на происходящее холодным взглядом. Здесь, в эту самую минуту, мне нужно увидеть его как нечто конкретное — только тогда придут слова. Я хочу найти какую-нибудь неожиданную деталь, которую можно было бы запечатлеть словом и превратить в значимую.
Несколько боевых слонов очутились в воде, и теперь их сносит течением. Я слышу встревоженные реплики: «Теперь все утопнут, пойдут на дно — и поминай как звали». А куда делись погонщики слонов? Их нигде не видно! Погублены дорогие, незаменимые служители. Почему никто не вмешается и не поможет? Конечно, переправа слонов была тщательно продумана, однако теперь все усилия пойдут насмарку. Найти новых конников несложно, слышу я с разных сторон, но хорошего вожака слонов из всадника ни за что не получится. Нет, конный воин не годится в индийцы — так зовут народ, обитающий далеко на Востоке, но у нас этим словом пользуются для титулования.
Толпа волнуется и горячо высказывает разные мнения. Народ снова и снова перемалывает всё: и то, что проходит на удивление удачно, и то, что срывается. Необычайные события всегда разжигают страсти, поднимают жизненные силы. Приносят эти события счастье или беду, не играет роли. Почему же я не испытываю подъёма сил, не чувствую у своего жизненного тонуса разгоревшегося аппетита? Ответ предельно ясен. Йадамилк всегда стоит особняком, его мало интересует то, что потребно толпе.
VIII
Как же мне наскучило всё, что я видел и продолжаю видеть у этой реки! Кто спасёт Йадамилка от скуки? Шесть дней мы уже шумим здесь, шесть дней галдим и бьём тревогу. Сначала нужно было отогнать кельтов, пытавшихся оказать слабое сопротивление на левом берегу. Потом надо было изыскивать переплавные средства. И надо сказать, их оказалось немало. В этом месте по реке большое движение, а воинская касса у Ганнибала тяжёлая. Кроме того, многих ратников поставили валить деревья и обрабатывать стволы, дабы потом использовать их для переправы. Наделали плотов, больших и малых, вместо вьючных животных приспособили колоды, часть из которых плыла, а часть — шла ко дну.
Пока происходил весь этот наем, строительство и просто конфискация плавучих средств, на нас таращилось кельтское племя, которому принадлежат прибрежные земли как по ту, так и по эту сторону реки. Нас осыпали криками и всячески стращали. Кельты эти были людьми своевольными, но не настолько независимыми, чтобы не поддаться на подкуп Массилии. Отсюда воинственные кличи и внезапные перебежки туда-сюда, призванные увеличить их число в наших глазах. По ночам нас донимали широкой полосой костров вокруг, а днём — нескончаемым дудением в рога. Смешно! Неужели они думают, что у солдат такие же уши, как у женщин? У тех уши действительно самая нежная часть тела.
Ганнибал придумал очень простой план. Он послал племянника Ганнона с отрядом испанских конников вверх по течению. Это было сделано ночью, в расчёте на то, что Ганнон и его люди переправятся через Родан в никем не охраняемом месте. План удался. Однажды утром Ганнон подал нам условленный дымовой сигнал начинать лобовую атаку на кельтов. Одновременно его тяжёлая конница напала на крикунов с тыла. Как всё прошло? В точности согласно задуманному Ганнибалом. Всё племя полегло — кроме тех, кто спасся бегством. У кельтов ещё не сложилось общенациональное самосознание. Их занимает исключительно собственное племя, его непосредственные потребности и интересы.
Что случилось со слонами, которые свалились в реку? Они достали до дна, быстро обнаружили, что могут противопоставить сносящему их течению свою упрямую силу, и нога за ногу перебрались на ту сторону. Некоторые из них (те, что были индийского происхождения) перебирались легче других из-за своего большого роста, но и наши ливийские лесные слоны выдержали испытание. Задрав хоботы и бешено трубя, они выбираются на сушу, причём на нужный берег, после чего застывают в нерешительности, чувствуя, что погонщик не сидит на привычном им месте. Они взмахивают хоботом над головой и ощупывают пустоту. Затем хобот опускается и начинает биться обо всё кругом. Уперев маленькие глазки в землю, слоны недовольно ворчат.
Наши индийцы тоже живыми достигают берега, где сначала выхлёстывают из себя набравшуюся в реке воду и катаются по траве, но вскоре восстают и вновь обретают ощущение того, что в этом мире вполне можно передвигаться на своих двоих. Обычно ведь мир и человек живут в согласии: вселенские законы (nomoi) приложимы как к миру, так и к человеку.
— Ты только посмотри туда, — говорю я, толкая Бальтанда в бок.
На том берегу отправляют в путь следующий плот со слонами. На сей раз переправа исполинов проходит без происшествий. У Ганнибала обычно всё кончается удачно. С тех пор как мы перешли Ибер, его рать сократилась наполовину. Незаметно, чтобы это его сильно беспокоило. До сих пор всё идёт более или менее в соответствии с планами. «Всё в полном порядке» — так, вероятно, оценивает сейчас положение Ганнибал? Не знаю. Мне редко удаётся поговорить с ним. Его взгляд время от времени скользит по мне, но никогда не останавливается. Ни одного личного приказа от Ганнибала. Ни одного слова, предназначенного мне, и только мне. Выводы приходится делать самому, зачастую на основе мимоходом брошенных слов и случайных впечатлений. Полезно ли это для моего эпоса?
По-видимому, захват земель и меры безопасности, принятые в тылу, призваны компенсировать уменьшение войска? — рассуждаю про себя я. Если боевая сила и далее будет сокращаться, как воспримут это наёмники? У нас были большие потери в Каталонии. В Галлии много ратников было посажено воеводствовать на местах. Как их отбирали? Истинный наёмный солдат предпочитает терпеть прихоти Фортуны, вертясь в её колесе. Один военачальник сказал мне: «Если они даже упадут, то упадут со столь небольшой высоты, что едва ли это причинит им серьёзный вред».
Ганнибал никогда не позволял себе такого цинизма. Он бережёт каждого хорошего воина. И разве то, что ты «жив и здоров», — не самая большая радость для каждого из нас?
Я снова и снова спрашиваю себя, почему он перестал вербовать новых солдат, но вопрос сей по-прежнему остаётся без ответа.
Скука колет мне глаза. Великолепное зрелище обернулось показушным спектаклем. Я резко разворачиваюсь и удаляюсь в палатку, где и сижу, измученный и расстроенный. Я пытаюсь поддеть себя насмешкой. Мы съели всего быка, но не одолели его хвост. Увы, я плохо переношу издёвки и подковырки, даже просто неприятности, поэтому и замечаю каждую пустяковину. Но что теперь? Мой эпос — это мечта, которая висит на ниточке, на нескольких слабых лучиках солнца. Поскольку мы с эпосом составляем единое целое, образуем то, что греки называют «генадом», я тоже подвешен на этих хилых лучиках. Я всё шарю и шарю вокруг, пытаясь ухватить пучок побольше, но мои усилия пропадают втуне.
Наверняка солнце моего эпоса во всём своём блеске сияет где-то в другом месте. Только не здесь. Не в палатке на берегу Родана, у которого Ганнибал завершает свой очередной подвиг. Мой враг — время. Ганнибалов — римская держава. Я правильно мыслю, но неправильно формулирую свои мысли. А слова порождают вещи и поступки. Таково моё кредо, если выразить его простыми словами. Тем не менее в данном случае мне кажется верным и высказывание презренного Демокрита[89] о том, что «слова суть тень поступков».
С какого-то времени дела у меня пошли из рук вон плохо. Я свернул вбок, и это отразилось на моём поэтическом вдохновении. Ровное плетение ткани прервалось, прекрасный, чистый голос сорвался и начал фальшивить, эпические симметрии были нарушены и исчезли. Золотая полоска эпоса, подобно тени солнечных часов, сползла с камня, который я держал перед собой. И тут же всё потемнело, помрачнело, стало пустым и порожним. А я остался сидеть с камнем, про который знаю, что он целиком состоит из речи, из словесных блоков, пока не извлечённых из него, может быть, даже не обнаруженных в нём. Раньше я видел в камне золотые и серебряные прожилки. От них исходят главные мысли о том, что призван воспеть мой эпос. Камень, о камень, моя «петра», скала, на которой я хотел бы возвести свой эпос... почему же ты умолк, поющий утёс? Зазвучи, молю тебя, возвысь свой голос!
Кажется, это злосчастье постигло меня под стенами Эмпория? Именно там я сильнее всего затосковал по всему греческому! Тем не менее я прекрасно знаю, что стоит нам по-настоящему углубиться в собственное наследие, и мы обнаружим там теснейшее переплетение Востока с Западом. Это справедливо в отношении всех цивилизованных народов Средиземноморья. Так что не пристало карфагенянину томиться ностальгией по какому-то Эмпорию. Нельзя не признать, что греческий стиль достиг больших высот, отчего он и стал образцом для других народов, стремящихся дотянуться до него и ещё выше. По сути дела, стиль этот образовался из смеси восточного с западным. Кипрский царь Пигмалион был финикийцем, верно? Но его безрассудная влюблённость в изваянного им же самим идола из слоновой кости была курьёзна, она была смехотворным безумием. Эх ты, скудоумный Пигмалион, ничтожный комедиант! Тебе бы создать статую на уровне самых потрясающих работ Праксителя или Фидия[90]. А ты вместо этого сотворил всего лишь женщину (которых кругом пруд пруди) и детей (которых тоже более чем хватает).
Неужели ошибка Пигмалиона так засела в веках, что теперь проросла во мне — и я, в свою очередь, стал уморительным глупцом? Неужели карфагенянам на роду написано отдавать предпочтение низкой жизни перед чистым искусством? Между прочим, Пигмалион был братом нашей богини и царицы Дидоны, той самой Дидоны, которая основала в далёком прошлом Карфаген и которую изначально знали под финикийским именем Элиша!
Почему меня пугает Ганнибал-Волк? Почему собравшаяся воедино рать привиделась мне в образе чудовищного дракона? Что обжигает моё сердце? Искры из горнила учёности, отвечаю я сам себе. Я прекрасно понимаю, к восприятию чего ещё не готов. Откуда мне это известно? Я смущаюсь, я краснею. Смущение — это защитный вал, поспешно воздвигаемый против натиска бесстыдных знаний. Если бы я впитал в себя все доступные сведения и знания, я бы обратился в прах. Способность смущаться свидетельствует о моих потенциальных возможностях, которые мне пока рано использовать. У меня до сих пор в памяти женщина, впервые в моей жизни посмотревшая на меня с вожделением. Тогда я не понял ни почему к лицу моему прилила кровь, ни почему я испытал растерянность. Вскоре, однако, я узнал, что всё это связано с тем, кто я такой и насколько гожусь к тому, чего ещё не пробовал.
Мы, люди, способны воспринимать знания только в должное время. Если они приходят не вовремя, мы вынуждены защищаться. Ганнибал осознает это. Он был прав, сказав мне в Гадесе: «Ты слишком торопишься, Йадамилк». Я быстро признал истины, о которых разглагольствовал Ганнибал — насилие и власть как предпосылки обеспечения хорошей жизни, — но признал в разбавленном, абстрактном виде. Я даже не покраснел, что было бы признаком внутреннего сопротивления. Знание, сведённое к абстракции, не задевает человека. Да-да, конечно... победитель прибегает к насилию, и он всегда прав. Как может быть иначе! Ещё мой отец, бывало, посмеивался: «Труп врага всегда пахнет приятно». Бессердечное знание само овладевает массами, его никому не приходится вдалбливать.
Но Ганнибал-Победитель пробуждает во мне смущение. Меня бросает в краску. У меня цепенеет шея. Я не могу глотать. Пересыхают губы. Сердце еле бьётся. Мне хочется сбежать. Хочется потерять сознание. Хочется избавиться от времени. Ведь время — горнило знаний. И я уже попал в самое полымя. Однако я не погибаю. Я поклоняюсь тому, что пробуждает моё смущение. Я признаю только Ганнибала-Победителя. Меня тянет вскочить и нестись к Ганнибалу, только бы ещё раз взглянуть на него. Возможно, мой взгляд различает нечто не замеченное другими, что красит его не меньше, чем когти Орла и клыки Волка?
Я воздерживаюсь от искушения. Вернее, приберегаю возможность поддаться искушению до другого случая.
«Рим будет примерно наказан Карфагеном», — думаю я, придя в более спокойное состояние. Речь ведь не о выяснении отношений между Баркидами и одним римским родом. Решающее слово тут не за Корнелиями, заклятыми врагами Карфагена, возглавляющими партию империалистов. И не за партией осторожных соглашателей и уступателей, Фабиев в Риме и так называемого Ганнона Великого с его прихвостнями в Карфагене. Сам Карфаген был унижен, предан и опозорен Римом. Ни один Баркид и ни один римлянин не играет здесь главной роли. Историей движут более глубинные вещи. Насколько глубоко они лежат? Настоящий эпос тоже должен искать свою основную тему в глубине. Этому нас научили греки. Зачем забираться так глубоко? Затем, что тогда и достигнутая высота будет больше.
Моя голова раскалывается. Моим мыслям приходится пробиваться к истине дорогой ценой.
Мне не суждено было войти в ворота Эмпория, дабы убедиться, что и там Восток с Западом слиты в светлом единстве. Не суждено, потому что, где бы ни обосновывались греки, они с помощью своих богов-покровителей и Верховных Супругов замуровывали город за каменной стеной. Посему каждый греческий город окружён кольцом, которое привлекает внимание своим завораживающим блеском, архаичным ароматом жирного чернозёма, штукатуркой цвета слоновой кости и благородным мрамором. Как лучше выявить красоту форм, если не через игру света и тени? Как убедить в превосходстве добра, не изобличая зло? Прометей и Эпиметей были братьями, и их пример показывает, что ум и глупость не только сопутствуют друг другу, но и имеют вполне очевидные родственные черты[91]. Ум и глупость прекрасно дополняют — вернее, завершают — генеалогическое древо. Хотя календарь праздников у народов Средиземноморья не совпадает и не может объединить города-государства во всеобщем торжестве, настроение в каждом из них бывает весьма приподнятое: праздник объединяет граждан каждого полиса.
Не Карфаген, а боги решили, что он должен наказать Рим за позор и унижения, которые претерпел не только тридцать лет тому назад, но и гораздо раньше (да и позже было много случаев). Всё это ты, эпик Йадамилк, должен хорошо себе представлять. Представляешь? За мной стоят наши праотцы. Они сказали всё о Риме ещё до рождения Ганнибала. Их чувства и выводы живут в доставшихся нам в наследство пословицах и поговорках. Может быть, Йадамилку стоит вернуться в Карфаген и раскрыть глаза и уши? Язык рождается не только здесь, в Ганнибаловом войске. Происходящее сегодня имеет давнюю историю.
Мне нужно поговорить с Ганнибалом. Я хочу посмотреть на него широко открытыми глазами. Хочу послушать, как он скажет что-нибудь определённое и конкретное.
Я безвылазно сижу в своей палатке. Йадамилк сидит в палатке, теснимый утёсом с умолкнувшей песней и ненародившейся речью, и кручинится по поводу покинувшей его музы. Напрасно запоминает он обрывки плохих стихов. Они не ведут ни к вершинам, ни вглубь. Они плоски и лежат на плоскости. Но почему он вдруг смеётся?
Почему я смеюсь, Мелькарт? Неужели в самом деле над безбожником Демокритом, этим Философом, появившимся на свет во фракийском городе Абдеры? Философом, которого почитали ненормальным за то, что он бежал всяческого общения и всех подымал на смех, так что абдериты даже призвали Гиппократа[92], чтобы тот излечил его, а сей искусный Лекарь провозгласил Демокрита умнее прочих смертных; и утратил затем Демокрит дар Зрения, почему мог предаваться философствованию в ещё большем покое, нежели прежде; а может, просто невмоготу ему стало смотреть на безумие Человеков; и скончался он, в своё время, в возрасте 109 лет...
Почему я прячу лицо в ладонях, Мелькарт? Почему я смеюсь, если я плачу?
Может, я смеюсь над Аристофаном? А плачу, потому что, по утверждению Демокрита, человек — это «дитя случая, которому потребны вода и грязь»? Вовсе нет. Я продолжаю смотреть боковым зрением. Наша способность видеть, говорит Абдерит, обусловлена прониканием нам в глаза образов. Почему я плачу из-за образов, которые проникают мне в глаза от Демокрита, — если я действительно плачу из-за них? У комедиографа Аристофана царь Вихрь свергает Зевса с его небесного трона[93]. Ещё бы не посмеяться над этим! Но поэт-комик слишком всерьёз воспринял разглагольствования нашего проповедника о вихрях, почему он ещё больше затемняет и без него достаточно тёмное (типичный случай obscurum per obscurius). Ибо — что дальше? Если из завихрения атомов в пустоте может возникнуть Гомер, значит, перед нами появляется живёхонький Гомер, существование которого невозможно отрицать. С другой стороны, если мойры решат, что Гомеру суждено появиться на свет, результат будет тот же; Гомер станет, подлаживая голос под ритм гексаметра, читать «Илиаду». Незачем свергать Зевса с его трона только из-за того, что какой-то философ заводит речь об атомах и пустоте (бытии и небытии). Разве «Илиада» представляет собой совокупность пустоты и завихренных вместе атомов, а не произведение, на создание которого Гомера вдохновили музы? Но что дальше?! Какое бы объяснение мы ни избрали, «Илиада» всё равно останется на месте.
Точно так же обстоят дела со всем прочим, чем люди похваляются и чего стыдятся. Все эти вещи остаются, от них нельзя избавиться простыми разговорами, исходят ли сии разговоры из Абдер или из Эпикуровых Афин[94].
Я смеюсь и одновременно плачу, закрывая лицо ладонями. «Приди же, вихрь или муза, — сквозь смех всхлипываю я, — приди и сделай из Йадамилка обещанного Жизнью великого поэта».
Кстати, как Демокрит перешёл от бытия и небытия к тому, что должно быть? Судя по его словам и сентенциям, он был выдающимся этиком и наверняка желал содействовать одним вихревым движениям и препятствовать другим. Он был никудышным практиком. Он погасил свет своих очей. Возможно, он был столь же непримирим, как Гераклит, который поносил Гомера, называя его обманщиком и путаником. По утверждению Абдерита, чтобы повысить плодородие земли, нужно послать девушку обежать возделываемые поля. Какую девушку, спросите вы? Девушку, у которой только что впервые начались регулы. А вдруг заботливо внесённое удобрение создало бы на полях более плодородное завихрение атомов, нежели бегущая девушка с текущей по ногам первой месячной кровью? Тут Демокрит брал на себя серьёзный риск. Интересно, что предпочёл владелец земель, Дамас: удобрение или бегущую девушку?
Но вот мои разнообразные страсти улеглись. Я парю в пустоте. Ничто не образует совокупности со мной. Впрочем, нет, возникает одна мысль: что мне сейчас надо бы сидеть в отцовском доме, дабы, не полагаясь на память, можно было проверять по свиткам сведения, которые я заношу в рабочую тетрадь.
К счастью, меня прерывают! В палатку входит Бальтанд. Вернее, выражаясь на манер Демокрита, ко мне в глаз проникает образ Бальтанда. Я вижу боковым зрением, как он слоняется по палатке, пофыркивает, роется кругом. Насколько я понимаю, он обустраивается у меня, причём делает это столь безапелляционно, что через некоторое время я взрываюсь:
— Как ты смеешь?!
— Смеешь? Что смеешь?
Бальтанд даже не удостаивает меня взгляда. Он смотрит, хорошо ли завязан его кожаный мешок.
— Нечего ходить за мной по пятам! Где тебя носило?
— В слонах оказалось мало интересу.
Я, Йадамилк, вскакиваю. Я ещё сомневаюсь, но, кажется, я наконец понял всё виденное до сих пор.
Теперь, после удачной переправы через Родан, Ганнибал может продолжить натягивание лука. Я вижу перед своим внутренним взором, как постепенно, шаг за шагом, ценой невероятных трудностей, лук устанавливается и натягивается. Одновременно я вижу себя в другой, более юный и счастливый, период моей жизни. Год, проведённый в Сиракузах! Я беззаботно брожу не только по самим Сиракузам, но свободно перемещаюсь почти по всему острову. Я добираюсь до элимов, преданных друзей и верных союзников карфагенян. Элимский народ населяет ближайшую к Карфагену область Сицилии. С горы Эрике я пробую разглядеть свою любимую родину, однако море раскинулось слишком широко, а обзор у меня ограничен. Меня переполняет радость от запахов дрока и хвойного леса, потрясающие виды делают моё тело лёгким, как пушинка, и я передвигаю ноги без малейшего усилия: они сами проворно выплясывают подо мной. Руки, всплёскиваясь, ласкают моё лицо, пальцы перебирают волосы — словно прикасаются не к моей собственной голове, а к чьей-то чужой, более достойной любви. Я молод и податлив. Я охотно склоняюсь перед ветрами всех впечатлений и гордо восстаю, чтобы идти, куда мне заблагорассудится. Душа моя впитывает в себя всё вокруг, и всё ей кажется по вкусу, при этом сам я остаюсь незрим для других. С неотвязным отцовским надзором покончено! Опьяняющий первый год жизни за порогом родительского дома.
Вместе с мореводами и прочими мореплавателями я карабкаюсь по уступам горы наверх, к храму богини любви, наравне с другими неся жертвоприношения богине и её священным потаскухам. Юноша, которого смущали сладострастные взгляды, лишь постепенно понял, что его тело предназначено богами для цели, пока мало ему ведомой, и в должное время (кайрос) сей юноша пришёл в восторг от того, о чём свидетельствовало его смущение, а именно: тело его устроено таким хитрым образом, чтобы можно было вспахивать поля женской плоти. Этому удовольствию он и посвятил себя в год, проведённый в Сиракузах. Он почти не обратил внимание на услышанное тогда об элимах: что они ведут своё происхождение от троян и считают Энея...
Я беру себя в руки.
— Мне нужно сообщить Главнокомандующему кое-что важное, — говорю я Бальтанду.
— Я не сбегу, — с независимым видом отвечает тот.
— Тебе и не представится такой возможности, — твёрдо заявляю я.
Однако мне настолько не терпится увидеть Ганнибала, что я даже не озабочиваюсь поиском кого-то, кто бы постерёг норманнского чудика, который стараниями Ганнона обосновался в моей палатке. Я мгновенно оказываюсь возле шатра полководца и прошу пропустить меня. Несколько наглых стражей пытаются воспротивиться. На моё счастье, подходят двое военачальников, которые, естественно, знают, кто такой Йадамилк, и меня впускают вместе с ними.
Поначалу я держусь поодаль. Ганнибал и его штаб совещаются с видным вождём бойев по имени Магил, представляющим верхушку кельтского движения сопротивления в долине Пада. Из своего угла я не свожу взгляда с Орла, в перьях которого сокрыта моя надежда на удачное сочинительство. Я стараюсь не упустить ни слова из его речей — и узнаю знаменательные новости.
Прежде всего: в устье Родана бросил якорь римский флот под начальством Публия Корнелия Сципиона. Лазутчики Ганнибала немедленно уведомили его о высадке римлян на берег. Говорят, наши противники попали в сильнейший шторм, а потому едва ли не все легионеры отлёживаются, приходя в себя от морской болезни. Чтобы следить за передвижениями римлян, Ганнибал послал на юг нумидийскую конницу с приказом идти вдоль реки. Сципион, в свою очередь, выслал своих всадников в северном направлении, также на разведку. Отряды столкнулись друг с другом. Завязалась кровавая схватка, повлёкшая за собой крупные потери с обеих сторон.
Ганнибал обеспокоен — или делает вид, будто обеспокоен, — этим столкновением. Оно произошло в нарушение приказа, к тому же в нём не было необходимости, твердит он. Приказано было: выведать, но не драться! Остатки нумидийцев уже вернулись. То и дело доносят об отступлении потрёпанного римского отряда на юг. Похоже, что, кроме него, к северу от устья Родана римлян больше нет. Магил с жаром доказывает, сколь важно не искать стычек с Римом по эту сторону Альп. Ганнибал даёт бойю изложить всю его мудрую стратегию, хотя сам давным-давно решил нанести первый удар по Риму лишь на италийской земле. Магилу позволяют вдоволь нахвастаться, подробно излагая эпизоды всеобщего восстания кельтов в долине Пада, в частности, рассказать о том, как бойи и инсубры захватили в Плаценции и Кремоне[95] римских комиссаров, когда те отмеривали земельные участки, предназначавшиеся вновь прибывшим колонистам. Он также пространно говорил об осаде Мутины, которая, по его словам, должна была, того гляди, пасть.
— А это означает массу рабов! — хохочет Магил. — Каждый, кто выступает против нас, будет обращён в рабство и, разумеется, продан туда, где за него больше дадут.
— Завтра с утра строимся и выступаем! — приказывает Ганнибал в тишине, нарушаемой лишь смехом Магила.
Наши военачальники дружно соглашаются, а кельтские участники переговоров поддакивают.
— Я собираюсь перед выступлением обратиться ко всему воинству, — говорит Ганнибал и, склонившись к Магилу, добавляет: — Не хотел бы и ты сказать ратникам несколько слов?
— С превеликим удовольствием, — отзывается Магил. — Это очень лестно — держать речь перед доблестными войсками Ганнибала.
— Значит, решено. Нам нужно как можно скорее двигаться дальше на север.
— Вот именно! На север! — подхватывает Магил.
«На север? — недоумеваю про себя я. — Но ведь Альпы лежат на востоке! Почему Ганнибал ничего не объяснит, почему лишь это лаконичное «на север»? Как воспримут наёмники такое направление похода?» Моё недоумение рассеивается, когда я соображаю, что объяснение наверняка будет дано завтра утром: Главнокомандующий ведь собирается говорить перед всем воинством. Многотрудная переправа успешно завершилась. Завтра Ганнибал зажжёт свою рать устремлением к новым целям. У него на устах прячутся слова, которые вызовут всеобщее ликование и вселят в каждого воина ощущение забившего в нём источника живительных сил, телесных и душевных. Ганнибаловы обращения к армии всегда производят такое впечатление.
Теперь я стою непосредственно за спиной Ганнибала. Шаг за шагом приближаясь туда, где он сидит, я не переставал изучать его. По сравнению с Ганнибалом Магил кажется полуслепым кабаном, хотя он, несомненно, понаторел в пронзительных кличах и яростных, пусть даже кратких, стычках с противником. Что касается Ганнибала, я отчётливо вижу: помимо Орла, он теперь ещё и наделённый волчьими клыками косматый Лупатус. Я мало-помалу привык к этой метаморфозе и теперь счастлив тем, что она свершилась. Ганнибалу нужно нанести сильный удар, причём нанести его в точно выбранное время и в самое уязвимое место. Давай вгрызайся волчьими зубами в глотку Риму, рви его сонную артерию, дабы он истёк кровью!.. Будь проклята эта блудница, эта отвратительная волчица! Мелькарт благословляет тебя, потому он и снабдил тебя острыми клыками!
Я прихожу в экстаз. Когда приходишь в экстаз, перед тобой словно распахиваются двери, причём двери не в передний двор храма, а в сам храм с его святая святых — жертвенным алтарём; и вот в эту распахнутость души вступает некто, и пустующий алтарь наконец становится пупом земли, её священным омфалом. Кто же сей некто, мгновенно допущенный в меня? Это Йадамилк, а с ним всё остальное человечество.
Приходится крепко взнуздать себя, поскольку в этот миг мне жестом дают понять, что можно наклониться к уху моего героя и прошептать слова, которые кажутся мне банальнейшими из всех, какие только говорятся ему:
— Норманн не может сообщить ничего ценного.
— Ну и не надо, — ответствует Ганнибал. — Самое главное, что он прибыл с далёкого севера. Ведь это так?
— Так.
— Тогда с ним всё в порядке. А с тобой?
Я краснею от смущения.
— Со мной всё хорошо.
Смерив меня оценивающим взглядом, Ганнибал одобрительно кивает. Кровь у меня начинает бешено пульсировать, я не поспеваю за собственным дыханием. Лихорадочно думаю о том, что надо бы сказать что-нибудь ещё, и, как ни странно, чувствую облегчение оттого, что у меня не находится больше не то что слова, даже слога. А ноги уже ведут меня назад и торопливо выносят из полководческой палатки. «Что я мог сказать ему? — размышляю я, чувствуя, как ноги мои идут всё неохотнее, а потому медленнее. Если не считать самого странного — того, что я живу вне Ганнибала, — это было равнозначно разговору с самим собой. Ганнибал присутствует во мне более, нежели я сам. Он ближе мне, чем когда-либо смогу стать себе я. Какую бы дорогу я ни избрал для себя, она не может миновать Ганнибала. И здесь, и где-либо ещё я ближе всего к нему. Как такое оказалось возможно? Как случилось, что...»
Я застываю на месте, изумлённый тем, что моё беспокойство по поводу эпоса испарилось. Мне не хочется запоминать ни единого отрывка, меня даже не тянет к этому. Подобно слонам, которые ощупывают свою макушку в поисках погонщика, я хватаюсь за лоб, тру виски, шарю ещё выше — и резко опускаю руки, отпускаю их болтаться по бокам. Я совершенно не думаю про эпос, от него осталась разве что смутная положительно-отрицательная реакция: он исчез, перестал досаждать мне своим жалом, его взяло к себе на сохранение время. Теперь я, Йадамилк, воистину полагаюсь на богов и их орудие, Ганнибала-Победителя!
IX
— Так-то вот, милый, — шепчу я Медовому Копыту, стоя рядом и лаская его. — Поговори со мной, — прошу я и засовываю ему в рот лакомство.
Он фыркает и склоняет голову набок, я прижимаю её к себе. Горячее дыхание коня проникает сквозь мои одежды, обдаёт теплом живот.
— У Ахилла[96], — продолжаю я, — был конь по имени Ксанф, который умел то, чего не умеют другие лошади, — говорить. Не оплошай же, Медовое Копыто, поговори со мной, дай совет, подскажи, чем мне заняться теперь, когда меня, кажется, не ждёт уже ничего хорошего.
Медовое Копыто любит меня. Ему нравится, как я глажу его, нравятся мои руки, даже когда они не приносят угощения. Он упирается в меня лбом, поддевает мордой под рёбра.
— Раз ты молчишь, придётся искать совета в другом месте. Может, у Менандра[97]? Разве со мной не приключилось то, что он описывает словами: «Счастливцем назову того, мой верный конь, // кто, посмотрев великолепье мира, // назад торопится, назад в свой отчий дом»? Я видел Ганнибала. Он и есть великолепье мира. Так что нам с тобой тоже пора торопиться назад. «Ведь солнца свет и звёзд мерцанье // доступны всем; бег облаков и море, // костёр и пламя в очаге ты будешь видеть // хоть до ста лет; а если тебе отпущен год, // тем паче: нет зрелища прекрасней, благородней...»[98] — чем Ганнибал и его победа.
— Я не могу спать, — рассказываю я своему сокровищу. — Я пробовал заснуть, но у меня в палатке расположился этот Бальтанд. Он спит, обвившись кольцом вокруг своего мешка. Он совсем крошечный и расширяется книзу, как коровий зад. Я смеялся над ним. Почему бы мне и не посмеяться над варваром? Особенно он меня рассмешил, когда привязал кожаный шнурок от мешка себе к пальцу. Понимаешь, Медовое Копыто, сегодня такая ночь, что я благорасположен ко всему свету, так что я отыскал шерстяной плащ и накинул его на Бальтанда. Он мерзляк, я это заметил ещё днём. Но сам я уснуть не смог, хотя выпил порядочно вина. Во мне горит свет, яркий внутренний свет. Я избавился от мук. Какое облегчение! Я чувствую себя опустошённым, нет, скорее очищенным. Всё злое и мрачное затихло и помалкивает.
— Я лёг почивать в надежде хорошо выспаться, — объясняю я, — но надежда обманула меня. Бессонница — скверная штука, Медовое Копыто. Я переворачивался то на бок, то на спину, я ложился ничком, в конце концов я вскочил с постели и радостно пришёл сюда, поверь мне, радостно, чтобы услышать, как ты заговорил, или чтобы мы с тобой поменялись глазами. Я хочу передвинуть свои глаза вбок, как у тебя, или пусть твои смотрят прямо перед собой, как у меня. Прикажешь принимать твоё ржанье за смех? Мне просто хочется, чтобы мы с тобой одинаково видели мир. Но вернёмся ко мне, ещё лежащему в постели: не успев заснуть, я уже проснулся; значит, я всё-таки задремал. Я не привык спать в одном помещении с посторонними. Другое дело ты, Медовое Копыто! Да, вот тебе ещё кусочек... С тобой мы не посторонние, а Ганнибал... Скажи что-нибудь о нём. Я лежал и не мог разобраться, то ли я занят глубокими размышлениями, то ли погружен в поверхностный сон, то ли я проницательный мыслитель, то ли недалёкий мечтатель. Мысли приходят и уходят, образы возникают и гаснут. Ганнибал... ты меня понимаешь, Медовое Копыто? Я придумал вот что: оставить войско и вернуться к отцу в Карфаген. Всё равно уже испытанное мною останется непревзойдённым. Я много месяцев общался с Ганнибалом-Победителем, и довольно. Ты понимаешь связь между мной и Ганнибалом? «От меня здесь никакой пользы», — сказал я Ганнибалу — во сне или наяву. Ганнибал-Победитель молчал.
Но в следующий миг (Взойди, Эос, залей всё своим шафрановым светом, чтобы мне было видно эту достающую до полу и переливающуюся у моих ног роскошную гриву!)... в следующий миг я решил просить Ганнибала лучше использовать мои силы, мои обыденные способности. Да-да, непременно! Все эти писцы... я хочу пойти им навстречу, хочу сам лучше относиться к ним. Не такие уж они плохие, какими я их иногда выставляю. Карфагеняне Палу и Табнит, например, просто даже хороши. Палу видный из себя, к тому же речист и умеет отстаивать своё мнение. Пожалуй, я постараюсь сблизиться с ними обоими. Отлично! Им будет только лестно, если я начну обращаться к ним за советами.
Ты всё настойчивее скребёшь правым копытом. Уж не хочешь ли что-нибудь сказать? Я помолчу. У меня есть терпение, могу и подождать. Как, ты уже бьёшь копытом?! Ты призываешь меня вскочить верхом и проехаться вдоль Родана? Увы, ничего не выйдет! Мы попали в окружение, всё затянуто поднявшимся с реки туманом. Ночь исполнена колдовства. Она притягивает к себе, хочет ворожить. Верховым в ней небезопасно. Нас могут в любую минуту сбить с пути, заманить в ловушку, взять в полон. Если демоны тумана заведут нас на кручу, мы можем попасть в заточение к духу горы. А ещё можно стать подарком подкравшимся кельтам, которые, насколько я слышал, при исполнении некоторых обрядов вкушают не только конину, но и человечину. Ганнон со своей оравой каждый день гоняется за кельтами. Ему-то и попалась ценная находка в виде Бальтанда. И сия находка твёрдой рукой покончила с моим сочинительством. Однако я не жалуюсь. Бог с ним, с Бальтандом! Ты топочешь, Медовое Копыто, по тебе проходит нетерпеливая дрожь. Поверь, я тоже не прочь сесть верхом. Но если бы мы выехали в этом мареве, ты бы скоро перешёл на шаг, а там бы и вовсе заартачился и сбросил меня, так что твоему наезднику пришлось бы лететь вверх тормашками.
Ты, конечно, знаешь, что мы пунийцы... Греки-то болтуны и сплетники, если не сказать больше; по сути дела, все они «псевдо», то есть лжецы, лицемеры, двуличники. Нас, карфагенян, они упрекают в том, что мы, с одной стороны, слишком серьёзны, а с другой — обладаем несдержанным характером. Как возможно такое сочетание? И ещё они говорят, что мы от рождения до смерти мучимся неотступной деисидемонией, то есть суеверностью: каждый день нашей жизни испорчен страхом перед тысячами злых сил. Снова спрашиваю: возможно ли такое сочетание? Ведь это мы научили греков ходить по морю. Без нас они не решались на это. Как построить корабль, как укрепить мачту, как управлять парусом в зависимости от погоды и течений — ничего этого они не знали, мы поделились с ними всем своим опытом. Но не думай, что, выучившись, они осмелились проходить между столпов и далее, вдоль побережья на юг, как это делаем мы, пунийцы. Греки — презренные трусы во всём, кроме болтовни. Из их уст извергается фонтан самых смелых и непристойных слов о нас. Даже Гомер... Нет, не верю. Тексты великого эпика явно были подделаны, сфальсифицированы в политических целях. Если кто заслужил имя Очернитель, так это тиран Писистрат[99]! С помощью обоих своих сыновей и горсточки стихоплётов он внушил всему миру, что Гомер был аттическим поэтом и что мы, пунийцы, годимся только для перевозки товаров. У греков руки работают в сто раз хуже, чем язык. Кстати, нам никогда не было стыдно за наши товары. И мы первые начали изготавливать прозрачное стекло. Непревзойдёнными остаются и наши золотых дел мастера. А уж повседневные вещи мы тем более всегда делали отменного качества. В «Одиссее» говорится о том, как Менелай дарит гостям самое красивое и дорогое из своих сокровищ — пировую кратеру[100] чеканного серебра с краем, отделанным золотом. Самому Менелаю её подарил сидонский царь Федим. А сидонцы — это финикияне. Можешь быть уверен, что сие лучшее из сокровищ — дело рук пунийских мастеров. Хотя у Гомера сказано: «работы бога Гефеста». Эпики вечно прославляют скорее богов, нежели смертных. А если обратиться к «Илиаде», там тоже можно найти прекрасные изделия, например, «пышноузорные ризы, жён сидонских работы»[101].
Прости, Медовое Копыто, если тебе кажется, что я ввожу тебя в заблуждение. Нет, я не сердит, а потому не оскверняю твой гордый слух лжесвидетельством; я говорю о греках чистую правду. Мы окружены туманом. Но он не замутил мне мозги настолько, чтобы теперь от меня исходило сплошное враньё.
Мне не спалось, поэтому я пришёл к тебе в надежде увидеть добрый знак, возвышающее знамение. Я испробовал все возможные способы засыпания: расслабление, спокойное и мерное дыхание, образы колеблющихся туда-сюда египетских плюмажей. Ничто не помогало. Я стал бубнить всякую всячину: обволочь, чтобы обнажить, придержать, чтобы превознести, ублажить, чтобы обворожить; дипломат утаил упования на поживу, братское мародёрство, карать тайными карами в виде кошмаров, мания и мегаломания, сонница и бессонница, сомнамбула... Заснуть не удавалось! Мне мерещились орлы, которые оборачивались волками, и глубокие пещеры, в которых чувство стыда подавляло восторг сладострастья.
Я ведь было примирился с грубиянством и неотёсанностью писарской братии, а тут, на мою беду, подоспел этот неудачный вечер дебатов и всё мне испортил. Почему мы очутились там, где мы очутились, — посреди болот с солончаковыми степями?! Поначалу мы попробовали пытать жреца Богуса, как будто его кто-нибудь спрашивал, в каком направлении двигаться нашему войску. Оказывается, это испанские всадники настояли на том, чтобы мы пошли сюда, — дескать, будет польза коням. Более того, они привлекли на свою сторону не только нумидийцев, но и наших провиантмейстеров, которые, разинув рот, слушали рассказы испанцев о стадах чёрных коров. Поверь мне, Медовое Копыто, если б я только знал, я бы своими руками отвёл тебя к солончаку. Но мне были неведомы как польза солёной воды для лошадиного здоровья, так и способ её применения. Я понятия не имел о том, что происходит. Мне никто и словом не заикнулся про лечение коней. Возможно, тут виноват мой раб, который плохо держал меня в курсе событий. Впрочем, копыта твои были в то время в полном порядке, они были твоей красой, твоим великолепнейшим убором — крепкие, здоровые, без малейшего изъяна. Я каждый день осматривал все четыре ноги. По счастью, тебе не пришлось, как остальным, тащиться из самого Нового Карфагена, ты избежал и жестоких сражений в Каталонии. На ещё кусочек... Сейчас тебе выпало несколько дней роздыху, но завтра нужно будет поднажать. Спокойно, Медовое Копыто, спокойно! Я уверен в тебе. Ты станешь Покорителем Альп! Когда мы сойдём в долину Пада, тобой будут восхищаться все кельтские лошади: жеребцы расступятся, и ты выберешь себе лучшую кобылу из всех, что придутся тебе по вкусу.
У меня из памяти нейдёт тот злосчастный вечер, который ещё более отдалил примирение между мной и писарской братией — по крайней мере, частью её. Тот вечер, когда языки без костей превратились в цапающие зубы, а фразами кидались, словно окровавленными огузками. Я совершенно не помню, что сам наговорил тогда в пылу спора. Обиженный, я удалился. Меня искала лунная ночь, которая и вытащила меня наружу. О Медовое Копыто, какое я испытал потрясающее слияние с ней!.. А потом мне показали мою серебристую «сому», моё собственное серебряное тело, и я был очарован и околдован. А потом мне случилось наблюдать совершенно необычайное зрелище: каракатиц, приносящих себя в жертву лунному свету.
Я прижимаюсь ртом к твоей щеке, дабы остановить свою безудержную болтовню. Я ведь как будто служу для тебя примером, правда? Тогда не стану смущать тебя и вызывать чувство стыда за своего хозяина. Кстати, в тот вечер нас одолел безудержный смех, некоторые прямо-таки растолстели из-за раздувшихся щёк. Итак, слушай!
«Кто смеётся до коликов, кто обожрался до смерти, кто доперделся до того, что попал в Аид, кто настолько безнадёжно застрял своим приапом во влагалище, что испустил дух? Страсть ослепляет человека. Если купидитас ослепляет нас, то некоторые споры делают из нашего благородного языка кишмиш. Где ты, сон девичьей и отроческой невинности? Приди и исцели меня! Научи меня вульгарной латыни: слову «nugas», что значит «чепуха»! Страны-города-деревья-женщины — все они носят женские имена. Смех высвобождает в нас человеческое начало. Смех — источник жизни и кладезь мудрости. Основополагающий принцип и движущая сила человеческого существования — это СМЕХ. Тише, послушаем, о чём разглагольствует Силен, нареченный Глотателем/Глотательницей, или, по-гречески, Ламией:
— Согласно Аристотелю, из всех живых существ только человек наделён даром смеяться — сия сентенция получила широкую известность. Смех, дорогие друзья, не был дарован никаким другим смертным созданиям. Подумайте об этом.
Палу: Однако это чистейшей воды ложь. Каждая здоровая собака смеётся хвостом.
Ламия: Прикажешь принимать твоё утверждение всерьёз? Прости, но я предпочитаю рассмеяться.
Палу: Тебе больше пристало смеяться с собаками.
Ламия: Прикажешь посмеяться и над этим?
Палу: Смейся сколько влезет. Посмеёшься всласть — и все собаки будут твоими друзьями.
Ламия: Теперь я сообразил откуда столь внезапное обращение к зоологии. Естественно, что пожиратель собак склонен к очеловечиванию сих существ.
Табнит: Это уж слишком! Твоя кичливость когда-нибудь будет стоить тебе языка. Знай меру!
Ламия: Тебе ли учить меня знать метрон? Во всех жизненных перипетиях лучший способ знать меру — это помнить высказывания авторитетов.
Палу: И забывать о собственном мнении!
Ламия: Как ты можешь противопоставлять себя Аристотелю, величайшему авторитету человечества? Чего стоят твои слова против его?
Палу: Мои слова? Да это не я, а собачий хвост смеётся над твоим Аристотелем!
Табнит: Собачий хвост смеётся и над тобой, Силен.
Ламия: Доказательства, предъявите доказательства.
Палу: У нас столько доказательств, сколько на свете собак с хвостом. Может, ты не видел в жизни ни одной собаки?
Ламия: Чёрт возьми, друзья мои, не разводите рацеи на пустом месте! Нам дают в руки доказательства авторитетнейшие лица, а вы выступаете против них с какой-то шавкой! Что мне сказать про вас, карфагеняне? Только то, что вы сегодня особачились.
Табнит: А ты совсем зааристотелился!
Ламия: Я заранее признателен вам за всех овечек и барашков, которых вы можете предъявить в виде доказательств. От ваших «доказательств» меня одолевает такой смех, что смерть покажется избавленьем от него. Однако прошу смилостивиться надо мной. В Аид мне ещё не пора.
Палу: Ты, конечно, привык паразитировать на филейных частях авторитетов. Но, поскольку ты собрался на реку забвения, не мешает присмотреться и к смеющемуся хвосту.
Табнит: Что касается твоих поливочек насчёт смеха, этот суп с котом давай оставим на потом.
Ламия: Оставим лучше зоологию ради привычной диалогии.
Палу: Какая тут диалогия, если ты во всё горло хохочешь над нами?
Ламия: Вовсе нет! Просто выдвигаемые вами резоны щекочут мой слух.
Табнит: Только щекочут? Да ты, того гляди, лопнешь от смеха. Карету «скорой помощи» придётся вызывать. А ещё, говорят, перевозчик Харон требует денежку[102]. Без обола он тебе наподдаст — будешь рядом валяться как пласт.
Голос неизвестного: Господа, давайте вернёмся к более цивилизованным способам общения».
— Как ты думаешь, Медовое Копыто, это был я? Сия фраза исходила от меня?
Жеребец ржёт.
— Значит, я.
Медовое Копыто снова ржёт.
— Однако моё вмешательство не сделало разговор приличнее.
Конь скребёт копытом.
«Силен-Ламия: Ваше молчание свидетельствует о большой привязанности к зоологии — если не сказать влюблённости в неё. В таком случае обратимся к кошкам, коль скоро тема собак в данном обществе слишком щекотлива. Осмелюсь спросить у наших знатоков животных: чем смеётся кошка — усами или кончиками ушей?
Палу: Подобно человеку, кошка имеет возможность наблюдать царей и богов. Не смеётся ли она иногда над ними, как это делают люди? Спроси у какого-нибудь египтянина.
Ламия: Я уже уяснил себе, что в данной компании бессмысленно ссылаться на общепризнанные авторитеты. Тем не менее сделаю ещё одну попытку. Приведу многократно проверенное наблюдение, о котором вы, вероятно, даже не слышали.
Палу: Опять Аристотеля?
Ламия: Кого же ещё?! Одно время Аристотель изучал новорождённых, причём он наблюдал не за одним, а за многими младенцами. И что он обнаружил? Что смеяться они начинают не раньше четырнадцатого дня.
Табнит громогласно хохочет, увлекая своим примером всех собравшихся.
Палу: В таком случае собаки rife только обгоняют человека в развитии, но и более человечны. Щенок начинает смеяться хвостом в первый же день.
Ламия: О mores! Я всего лишь хочу следом за Аристотелем сказать нечто важное для каждого, будь то свободный гражданин или раб, вернее, для тех из них, кто вынужден бросать своих детей на безлюдном берегу или на помойке, у дверей храма или на обочине дороги: сии подкидыши — пока не люди. Так что не горюйте, не мучайтесь думами, перестаньте колебаться. До четырнадцатого дня ни один младенец — не человек. Вывод: выбрасывайте того, кто рождён из чрева женщины, выкидывайте его, прежде чем ему исполнится две недели, ибо это будет всё равно что выкинуть кошку, или собаку, или, если угодно, кус мяса.
Табнит: Ты это нам предназначаешь свои «ценные советы»?
Ламия: Конечно! Ведь нужно просвещать непросвещённых.
Палу: Тогда у меня тоже есть для тебя дельный совет. Вспомни про Ганнибалов приказ.
Ламия: О чём ты, собственно, бормочешь?
Палу: Ганнибал постановил, женщин он нас всех лишил, чтоб никаких пирушек с кодлой потаскушек.
Ламия: Ах вы, криворотые крючки! Вечно вы даёте подножку великому Аристотелю! Но запомните раз и навсегда: ребёнок становится человеком, только научившись смеяться. Сия истина поистине способна избавить многих вас от угрызений совести. Ergo[103], эгоисты, до появления смеха выкинуть младенца — всё равно что выгрести кучку навоза.
Табнит: Я знаю, по крайней мере, одного человека, который смеялся с самого рождения.
Ламия: Ну конечно, вывернулся. Чем бы дитя ни тешилось...
Палу: Я тоже знаю, как зовут этого человека.
Ламия: Вот, значит, где зарыта карфагенская собака. Ну, выкладывайте имя того щеня, сейчас вы узнаете у меня...
Табнит: Человек, который засмеялся сразу же после рождения, был знаменитым мудрецом.
Ламия: Так я вам и поверил! Если этот мускусный мешок — некий Звездочёт то ли из Тира, то ли из Сидона, то ли из...
Палу: Во всяком случае, он родился не в греческом городе с оракулом.
Ламия: Ну же, признавайтесь, как зовут этого типа, дайте мне посмеяться моим человечьим смехом.
Табнит: Нельзя возводить хулу на пророков.
Палу: И у нас не дознание, чтобы признаваться.
Ламия: Тогда скажите, кто присутствовал при родах.
Табнит: Его собственная мать».
— Если бы ты, Медовое Копыто, только услышал то дикое ржание, которое, переполнив Ламию, полилось через край, ты бы понёсся оттуда вскачь. Я встал и направился к двери. Прежде чем я вышел, до меня донеслось ещё несколько фраз.
«Ламия: Следующая такая шутка — и я изойду слезами от хохота.
Табнит: Там были повитухи. Младенец так развеселил их, что они сами не могли удержаться от смеха.
Ламия: Выкопайте щенка из могилы, я хочу послушать, как лают трупы.
Табнит (обращаясь к Палу): Назови ему имя, но смиренно.
Палу: Это Зороастр[104]. Известный также как Заратустра».
X
— Конечно, Ахиллов Ксанф был боевым конём, — продолжаю я. — В отличие от тебя, Медовое Копыто. А Ахиллес, в отличие от меня, был могучим воином. И всё же ты мог бы сказать мне несколько слов. Со мной происходит нечто непонятное. Дело не только в том, что моя бессонница — сон, а сон — бессонница. Перевёрнуто с ног на голову и многое другое. Хотя у меня как будто нет поводов для беспокойства, я не нахожу себе места, я сам не знаю, чего хочу. Я достиг вожделенного: очарованности Ганнибалом-Победителем. На мачте поднят огромный парус, и мой корабль рвётся высвободиться из хватки ветра. В глубине моего восторга перед Ганнибалом прячется смущение, которое бьётся одновременно с сердцем. Смущением и движется во мне кровь. «Долго ли это будет продолжаться?» — спрашиваю я. Вопрос мой озадачивает. Ведь смущение само по себе прекрасно. Оно и теперь приятно, а обещает быть ещё сильнее и прекраснее. Это и есть самое странное из происходящего со мной. Так ты можешь ответить на мой вопрос? Сколько ещё времени я буду жить изменённым своей очарованностью, и сколько моё сердце будет биться от смущения? Я хотел бы и впредь испытывать к Ганнибалу чувства, которые испытываю теперь. А вдруг они возможны только в данных обстоятельствах, пока мы в походе и я втиснут в писарскую братию? С каждым пройденным этапом Ганнибал всё больше становится Победителем. Скоро Альпы. Ганнибал справится и с ними. Потом пойдут италийские земли. Ганнибал станет выигрывать крупные битвы, и Рим будет потрясён уже первыми ударами. Мало-помалу внешние победы начнут побеждать самого Ганнибала. Или всё пойдёт не так? Тогда как?
Спокойно, Медовое Копыто. Я думаю. Возможно... Возможно, мне лучше покинуть сии чужеземные края. Хотя бы ради того, чтобы сохранить в себе теперешние очарование и смущение. Возможно, не Ганнибалу, а мне станут всё больше и больше нравиться наши победы — безотносительно к нему. Возможно, поэтому мне лучше обосноваться в Карфагене, у отца. В его библиотеке почти всегда царит тишина. А мне ещё много нужно учиться. Я не хочу написать что-нибудь неверное, скажем, про Аристотеля, или Демокрита, или кого бы то ни было другого. Я хочу сохранить свою пристрастность и неизменно отстаивать дело Карфагена. Но я хотел бы иметь возможность сам ставить перед собой внешние задачи.
Медовому Копыту, похоже, не нравятся мои речи. Он бьёт копытами и всё громче и громче фыркает. Его длинная грива хлещет меня по лицу. Вот он вздымается на дыбы и обнажает изящно вылепленные зубы слоновой кости. Я его утомил? Он хочет спать? Мне уйти? Что я могу сделать кроме того, что делаю? Я тяну его к себе.
— Спокойно, — ласково кричу ему я. — Спокойно, моё сокровище. У меня есть для тебя ещё угощение, и мне нужно ещё кое-что рассказать тебе.
Конь опускается и несколько раз дружелюбно толкает меня в бок. Через некоторое время его копыта замирают на месте. Склонив голову, он упирается мне лбом в грудную клетку. Его горячее дыхание пробивается сквозь мою одежду и гонит по животу волны тепла.
— И очарованность и смущение могут отпустить человека и исчезнуть, — вкрадчивым голосом объясняю я Медовому Копыту. — Это происходит почти незаметно. Ты смущаешься, смущаешься, смущаешься, и вдруг в один прекрасный день перестаёшь смущаться. То же самое с очарованностью. Внезапно чувства меняются, а с ними изменяется и всё моё существо. Чистый порыв улёгся. Сладостного ожидания как не бывало. Что ж тогда остаётся? Может, душу заполоняет что-нибудь другое? Мне знакомо такое состояние. В городах вроде Сиракуз или Александрии хватает жриц любви. Не всегда поймёшь, храмовые они или мирские, да это и не играет роли. Там сие занятие процветает круглый год. В садах у публичных женщин не бывает неурожая. Там можно и зимой и летом рассматривать отягощённые плодами ветки и выбирать понравившийся. Груша за грушей быстро созревают в жаркой и влажной атмосфере распутства. Груша за грушей становятся сочными и сладкими, яблоко за яблоком обретают присущую им освежающую кислинку; зреет виноградинка за виноградинкой, смоква за смоквой...
Ах, Медовое Копыто! Знаешь, что случилось со мной, когда я стал жадно срывать один плод за другим? Очарованность и смущение исчезли! Это произошло не сразу, а спустя некоторое время. Заправлять всем стало одно удовольствие. Очарованность заставляла меня быть осторожным и нежным. С каким трепетным умилением и деликатностью я ласкал самых первых, с какой нерешительной кротостью медлил вскрывать плод, дабы посвятить свой детородный член в таинство его предназначения.
Когда восторженность обратилась в ничто, пропало и смущение. Прежде я подавлял в себе звуки, выражающие похоть. От меня не исходило ни мычащих стонов, ни переливчатого бульканья. Я лежал тихо, едва ли не безжизненно, хотя наслаждение накатывалось на меня всё с большей и большей силой, как река, которая по мере приближения к водопаду наращивает скорость, течёт всё быстрее и быстрее. Пик наслаждения — это фантастический бросок вниз. Всё, из чего состоит человек, словно обрушивается, уничтожается, оставляя лишь всепоглощающее чувство удовольствия. Как же тихо я вёл себя с первыми... Я стискивал челюсти, запирая рот на замок. Я даже не давал воли своей груди, которой требовалось всё больше воздуха. Оставалась только... не буду говорить страсть... нет, я лучше скажу о воздействии наслаждения: острое наслаждение отодвигает на задний план и тело и душу. Я не превратился в анедес, то есть в бесстыжего. Не стал я и кинедом — человеком, предающимся противоестественным сношениям. Я просто брал от каждой минуты все удовольствия, которые она могла предложить мне, был, по выражению греков, «монохронным гедонистом».
Поверь моему слову, Медовое Копыто, как ни малоправдоподобно это звучит: наслаждение действительно отодвигает на задний план и тело и душу. Оно отодвигает на задний план даже имя. Ты забываешь, как тебя зовут. Рассуди сам: и тело и душа состоят из многих частей, способных выполнять разные функции. Наслаждение же не желает знать ничего, кроме собственного полновластия. Привычная сущность человека вытесняется из него, а на её место втискивается другое создание. Йадамилк вмиг меняет имя. Теперь его зовут Гедонистом, или ненасытным Любителем Наслаждений. И не думай, что теперь, когда он направляется в сады публичных женщин, им по-прежнему движет очарованность или смущение. Опыт снабдил Гедониста чувствительными усиками-антеннами, которые трепещут от любопытства, и выбор определяется тем, от чего есть надежда получить нечто новое, ранее не изведанное. А если потом тебя не охватывает ужас или хотя бы страх, значит, твои дела плохи, ибо новый опыт лишь расширяет пустоту.
Всё, что я тебе рассказываю, Медовое Копыто, истинная правда. Йадамилк утратил доступ к прежнему Йадамилку. Ныне имя ему — Гедонист, а Гедонисту не до открытия себя или окружающего мира, его кредо: жить исключительно ради наслаждения, ведь всё остальное не стоит выеденного яйца, оно безжизненнее утопленника. Я знаю одно-единственное средство против единовластия Гедонизма: страх! Страх заставляет думать и даёт Йадамилку возможность хотя бы отчасти вернуться к себе и вновь увидеть вокруг не только плоды разнообразных наслаждений. Вернувшись в себя, Йадамилк видит, что мир простирается всё дальше и дальше, а возникающие перед ним самим цели настолько множатся, что со временем их приходится выстраивать в очередь. Если страх сей достаточно силён, Гедонист уменьшается в мире Йадамилка до размеров пигмея. Страсть отступает. Гедонизм делается лишь ein Stimulanz des Lebens, одним из жизненных стимулов.
Благородный вид Медового Копыта определяется лебединой шеей и ганашами[105]. На его горделивой голове есть местечко, которым он уверяет меня в своей совершеннейшей преданности. Если я чем-то обеспокоен или расстроен, конь, напрягши ганаши, образует около нижней челюсти выемку специально под мою щёку. Его мышцы делаются подушкой для моей щеки — так Медовое Копыто проявляет ко мне вежливое сочувствие. Так мы и стоим сейчас в темноте.
— Ну что, уходить мне от Ганнибала или нет? — шёпотом спрашиваю я.
Несмотря на царящую между нами интимную близость, я не получаю ответа.
— Я не хочу утратить ни очарованности, ни смущения перед Ганнибалом-Победителем. Но мне не хочется и чтобы Ганнибал исчез, оставив одного Победителя... или одни победы. С меня хватит когтей Орла и клыков Волка. Мне не нужно ни больше, ни меньше.
Конь продолжает молчать, хотя мы стоим щека к щеке.
— Я не хочу лишь Упоения Победой. Опьянённый Победой сродни Гедонисту, их объединяет страсть, сумасшествие, безумие; а это значит, что в Йадамилке как человеке не останется места ни для чего другого. Виктория вытеснит эпика.
— Королёк, а королёк!
— Что я слышу?! — вскрикиваю я и, затаив дыхание, жду, что будет дальше.
— Рексик!
— Да это же моё бесценное сокровище!
— Ты доживёшь до глубокой старости, Йадамилк. Тебе на всё достанет времени.
Медовое Копыто заговорил со мной не языком смерти, как Ахиллов Ксанф[106]. Он подхватил песнь, которую обычно напевает мне Жизнь.
— Ганнибал одержал много побед, — поёт он. — Но окончательная победа ещё далека. Ты сочинил несколько достохвальных вещей. Но твой великий эпос ещё впереди. Помни (это придаст тебе терпения), что эпос, как и трагедия, должен быть спудеос — то есть обладать важностью, серьёзностью, возвышенностью, благородством. Будь спокоен. И хронос и кайрос дадут тебе достаточно времени и возможностей. Конечно, происходящее на каждом этапе тоже имеет некоторое значение, но борись со своей склонностью рассматривать преходящее как окончательный итог драмы. Будь мягок и податлив, не кричи диким голосом, как кричит пиниевая роща, когда её начинает трепать мистраль. Такого пронзительного воя, визжания и блеяния не услышишь в другое время. У старых деревьев корни уходят глубоко в землю, поэтому под натиском урагана они производят неимоверный шум. Они не умеют гнуться по ветру, не расщепляясь и раскалываясь. Они несгибаемы, как столпы. Стоит непогоде разыграться посильнее, и их вырывает: задрав корни кверху, они с треском рушатся наземь, где и остаются лежать вечно. Но ты не таков, Йадамилк. Ты умеешь гнуться, не ломаясь. Возможно, иногда ты слишком качаешься из стороны в сторону — под влиянием обстоятельств и благодаря твоей повышенной чувствительности. Нередко ты громоздишь Пелион на Оссу[107]. Однако это не страшно. Почему? Потому что ты вскоре понимаешь, что речь идёт о случайностях, о временных, хотя и досадных неприятностях, но главное, потому что у тебя есть нечто важнее повседневных событий, нечто, возносящееся над ними. Что это может быть? Конечно же твой эпос, Йадамилк! Не мне говорить тебе о нём, не мне напоминать о рабочей тетради, о том, как ты развиваешь в данной главе тему «бокового зрения»! Будь спокоен! Ты переживёшь все бури. Ты станешь знаменитым и уважаемым. Дети будут бросать на тебя восхищённые и почтительные взгляды, завидев, как ты, седовласый и согбенный, идёшь через рыночную площадь. А когда ты в конце концов умрёшь, эти самые дети, уже ставшие взрослыми, будут рассказывать своим детям и внукам: «Мы собственными глазами видели Йадамилка. Того самого, что был величайшим среди эпиков».
Медовое Копыто чуть расслабляет ганаши. Мне под щёку тут же пробирается ночная прохлада. Поскольку я хочу оставаться щека к щеке со своим сокровищем, я крепче прижимаюсь к нему. Он расслабляется ещё больше. Я прислушиваюсь в надежде услышать новые слова. Молчание затягивается, и я тогда спрашиваю:
— Почему элимы хвастаются своим происхождением от Энея[108]?
— А почему вы, карфагеняне, утверждаете, что ведёте своё происхождение из времён, которые берут начало задолго до царицы Дидоны?
— Положи подушку под мою щёку, поговори ещё немного!
— Ах королёк, королёк! — только и слышу я.
— Могут ли Демокритовы вихри переставлять буквы и слова? — не унимаюсь я. — В таком случае победный гимн может превратиться в элегию, а трагедия — в комедию!
— Иди к себе в палатку и ложись спать. Заснёшь ты или проведёшь ночь без сна, не важно, крошечный королёк с ярко-жёлтым теменем!
Весело рассмеявшись, я обеими руками обнимаю голову Медового Копыта.
— Я слышу взмахи крыльев, — смеюсь я. — Множества трепещущих над нами крыльев. Я уверен, они прилетели с Эрикса, из храма богини любви. Это голуби, которых послала сюда Деметра[109]. Что им от меня нужно? Ага, знаю! Они должны навеять на меня глубокий сон.
С радостным смехом я целую Медовое Копыто в морду. Я вытягиваю руки вверх, и голуби спускаются. Один за другим они садятся прямо на меня. Из-за темноты и тумана я не различаю их цветов, вижу только белых. Но я убеждён, что голубка, усевшаяся мне на грудь, огненно-рыжая или с золотистыми крыльями. Ведь я наверняка в фаворитах у богини любви: она помнит, какой я пылкий и страстный. Теперь у Медового Копыта не должно быть сомнений. Капризная богиня, которая столь часто покидает людей и редко возвращается, сидит, прижимаясь к моей груди. А белые голубки — это её жрицы.
Весь увешанный голубями, я иду в палатку спать.
XI
Не знаю, во сне или наяву, но я сажусь в постели и прислушиваюсь к звукам, что доносятся со стороны Бальтанда. В носу у него свистит — мягким, шелестящим посвистом, который напоминает шум ветра, играющего с надорванной берестой. Странные звуки. Переходы от одной ноты к другой едва ли не в виде глиссандо[110]. Неужели я буду терпеть такое? Конечно нет. Но когда я хочу встать и потрясти за плечо непрошеного гостя, оказывается, что я лежу как пласт, не в силах даже приподняться. Веки налиты свинцом, скорей бы рассвет, и дело с концом!
Прекрасно, что Табнит и Палу умеют отбрёхиваться, когда греки садятся на своего конька в виде авторитетов. Брависсимо! Я хочу поддерживать дружбу с ними обоими. Ганнибал вроде бы прислушивается к Табниту. Ко мне, конечно, тоже, но один да один — это уже два, иными словами, неплохо иметь рядом с Главнокомандующим своего человека. Нет, вы только послушайте: Бальтандовы ноздри перестали издавать свой неблагозвучный посвист! Йадамилк ничего не забывает. Я помню всё, что происходило в тягостный вечер препирательств, хотя с тех пор миновало уже много дней.
Но начнём с самого начала. Когда наше воинство узнало, что впереди, от Пиренеев до перехода через Родан, простираются сплошь мирные земли, наёмники хором вскричали: «Талатта, талатта!» («Море, море!»). Может, не совсем так, как в «Анабасисе»[111] — в том месте, где солдаты Ксенофонта завидели Чёрное море, — однако очень похоже. Войско было истомлено и неожиданными схватками в Каталонии, и нелёгким темпом походного марша. Кроме того, ратников злила очередная «прихоть» Ганнибала: строжайшее повеление не давать волю оружию, когда полки проходят в непосредственной близости от греческих городков. Ведь ничего не стоило совершить набег, пограбить, набить брюхо домашней едой, налакаться выдержанного вина, не говоря уже о том, чтобы получить доступ к вожделенному, про что каждый солдат вспоминал не меньше раза в день: к бабам! (Вместо всего этого приходилось ещё терпеть издевательства со стороны городов, сих отрезанных ломтей Великой Греции). Запрещено было даже ловить пасшихся вне городских стен лошадей.
В общем, воинству хотелось во что бы то ни стало заиметь свободный день для купанья и спортивных состязаний. Нумидийцы, например, обещали устроить грандиозные скачки с жеребячьими свадьбами и кобылячьими плясками. Короче говоря, народ просил день для игр и забав. И Ганнибал удовлетворил просьбу: да будет dies laetus, день веселья!
И что было потом? Увы, у меня до сих пор стоит перед глазами то, что происходило во мраке ночи, мой господин. Не понимаю, как удалось Сосилу, Хохотуну с омерзительными алчными ноздрями, увлечь меня с собой на Muntra Monstras Festivitas, Праздник Забавных Уродов. Вероятно, мне не хотелось оставаться одному после беззаботно-весёлого дня с его состязаниями и играми под высоким, по-осеннему чистым, перламутрово-нежным небосводом. В общем, я составил Сосилу компанию. Надо сказать, я был далеко не единственным из писарской братии, однако все мы попали на сие мероприятие благодаря Сосилу, который первым разнюхал про него и поволок с собой остальных. Я ещё издали услышал зазывные крики:
— Добро пожаловать, уважаемые Забавные Уроды! Все нижестоящие станут у нас вышестоящими, а прямоходящие — кривоходящими. Сюда, достопочтеннейшие!
Для представления соорудили внушительный подиум. На импровизированной сцене расхаживали солдаты в масках или с раскрашенными лицами, кто-то прыгал, кто-то делал кульбиты, кто-то танцевал. Здесь даже пахло погано, чему не приходилось удивляться, поскольку смердели факелы, сделанные с примесью сухих экскрементов и прочей мерзопакости. Ох-ох-ох, что за суматоха и сумятица творилась тут и на сцене, и среди публики! Гудели голоса, звенели бубны и бубенцы, исходили паром пасти, заглушая друг друга, соперничали в громкости и неблагозвучии систры и тимпаны.
— Ещё раз добро пожаловать к нам, преподонистые канальи и ракальи, вельможные пердуны и дерьмоеды. Дабы действо наше могло начаться, должны вы как следует раскачаться. Посему передвиньте свои зады с задов ближе к переду!
Но Йадамилк был не из пугливых. Сосил ведь сказал:
«Будет всего лишь незатейливая вакханалия, эдакий насмешливый протест Забавных Уродов против Ганнибалова декрета: никаких девиц до Падших Пада! Солдаты, как ты знаешь, говорят на просторечном жаргоне. Не будешь понимать, ничего страшного, будешь — быстренько переводи на латинскую речь, тогда уши перестанут вянуть».
Человек, оравший с подиума, был одет в разноцветные лохмотья. Впереди у него болтался сшитый из коричневой кожи длинный и толстый член, который он время от времени поглаживал или задирал кверху.
— Слушайте же, словоблуды и прочие блуды! — разорялся он. — Начну с харчей и прочих припасов. Надирайтесь и нажирайтесь, лопайте, пока не лопнете! Насыщайтесь без меры и с любовью жратвой и любовью. Так-то вот, болезные мои, или как сказал один парнишка: «Ретивый кочет и мёртвых защекочет. И мне мой посох впору, прослужит до упору». А другой, говорят, выдал: «Ох, как сладко, старичок, подержаться за дрючок!» Но хуже всех пришлось тому, кто потерялся в городской толпе и, откашлявшись, вопросил: «Как мне добраться от Виа Натуралис к Виа Ректум?» Ответ не заставил себя ждать: «Отсюда прямая дорога — recta, recte, rectus, а там уж рукой подать до входа в подвал. Постучишься, тебя и впустят».
Кувыркающиеся солдаты сбили глашатая с возвышения. Но он вмиг очутился на прежнем месте и снова заорал:
— Все желающие могут послушать речи истинного бахвала!
Повернувшись к нам широким задом, он похлопал себя по голым половинкам.
— Моё изумительное заднее место вместительнее Троянского коня[112], так что мой бастион готов принять целый батальон. Нет, вы только послушайте! С Форума горланит некий соблазнительный delicatus pulpamentum: «Свободна ручная тележка для увесистой мошны!» И в мгновение ока находится клиент: «Мой петушок золотой гребешок к вашим услугам». Ещё один голос мычит: «У кого уд в руках, у того и в устах».
Затейник наклонился и взял свой кожаный причиндал в рот.
Тем временем прыгающие и кувыркающиеся гимнасты полностью захватили сцену и стали карабкаться друг на друга, в конечном счёте соорудив пятиэтажную пирамиду. Верхние опасно шатались на плечах нижних, но продолжали удерживать равновесие, так что пирамида объявила себя тараном, способным взять приступом любой греческий город. Впрочем, когда гимнасты попытались подвинуться ближе к воображаемой городской стене, вся составленная из тел пирамида развалилась и они принялись с криками и смехом, поодиночке и парами, изображать всякое-разное, поминутно меняя положения и утверждая, что все их штучки представляют одно и то же: «вот как, вот как мы берём девку». Сцена кишела метавшимися по ней телами, мельтешила мелькавшими в воздухе руками и ногами. Постепенно пары превратились в колеса, которые катались по подиуму, вертелись между чьими-то расставленными ногами, вкатывались кому-то на плечи и скатывались вниз, и делали это снова, и снова, и снова.
Я сидел не шевелясь, ошеломлённый и онемевший. Сосил по временам щипал меня, давясь смехом от восхищения.
Стоило трибуне очиститься от эквилибристов, как опять выскочил глашатай, переодетый в химатий и островерхую шапку наподобие тех, что носят наши жрецы. Он прямо-таки излучал порочность и развратность, фосфоресцировал ими, как фосфоресцирует разлагающийся тунец.
— Слушайте сюда, высокородные господа халявщики, — протрубил он, — достославные светила и именитости, а также достоуважаемые свиные хари! Вам ни за что не догадаться, что мы ещё приготовили для вас. Только, ради бога, сохраняйте спокойствие! Я, так и быть, признаюсь соратникам, сидящим передо мной во тьме ночной. Сейчас мы подольем масла в огонь, и из искры возгорится пламя. Языки нашего костра доберутся до каждого, в том числе до спесивого отребья, и без того снедаемого огнём тщеславия. «Зачем?» — спросите вы, сборище швали и шушеры, вы, затычки к каждой бочке и каждому баллону, вы, которые, даже стреноженные путами жизни, бежите к путанам... Слушайте же! О нашем войске распускают нехорошую молву. Будто у нас в рати никто не зарождается и не рождается, никто не выклёвывается и не выплёвывается, никто не телится, не жеребится и вообще никого не воспроизводит на свет. О нас, солдаты, распространяют наглую ложь! Мы-то с вами знаем, что нас оросил мочой главный бык — бог Апис! Так что нашей плодовитости можно только позавидовать. Цыплят у нас считают не только по осени, но и по весне. Итак, мы хотим познакомить вас с двумя экземплярами нашей ноктифлоры, двумя знаменитейшими гермафродитами. Прежде всего, позвольте представить вам нашего высокоучёного архиатра, то бишь придворного медика, господина Гиппократа. Будь любезен, взойди сюда, ты, сокращающий число теней в Аиде.
Гиппократ: А ты заткни фонтан! Потому что на врачей не учатся, ими рождаются.
Затейник: Как так?
Гиппократ: А так, что нельзя с бухты-барахты стать врачом. Одного желания тут мало. Мало и узнать кое-что про работу человеческого тела. Вся эта белиберда ведёт к знахарству. Нет, врачом нужно родиться.
Затейник: А как определить по младенцу, что в колыбели лежит врач?
Гиппократ: Очень просто: врачи рождаются только в семьях Асклепиадов[113]. Так что за помощью надо обращаться лишь к врачам с острова Кос; книдские же врачи сплошь шарлатаны, которые обирают несведущих людей и творят с ними всё, что им вздумается. Если медик утверждает, что «врачевание — одно из высоких искусств», значит, тебе попался подлинный эскулап; если же он говорит, что «врачевание — это наука», значит, перед тобой мошенник. Кстати, каждый настоящий врач похож на меня, так что смотрите и запоминайте.
Затейник: Очч-ч-арова-а-ательно!
Гиппократ: Помолчи, самец несчастный. Дай мне сосчитать, сколько человек у нас будет в хороводе. Девять — достаточно! Прежде чем мы начнём, должен предупредить вас: не говорите со мной о болезнях и гуморальных темпераментах, ни слова о поте и лихорадках, о моче и испражнениях, о кашле или икоте, о кровотечениях или геморрое, ну и, конечно, о ветрах, которые исходят либо тихо, либо с шумом. И ещё: мне не надо чужой славы. Аорту назвал аортой не я! И т. д., и т. п., и всё такое прочее... В общем, слушать не желаю ни о каких слухах, которые распускают обо мне. Уважаемая публика, перед вами не кто иной, как Гиппократ. А точнее, мы есмы Гиппократ.
— Браво, браво! — кричит затейник.
Гиппократ: По сути дела... мы два в одном, то есть с самого рождения представляем собой в едином облике непарную пару, сопоставимую с... в общем, para-pari-paritas...
у нас спаривание на паритетных началах. Вроде как между богом и богиней... во всяком случае, нечто подобное. Ой, о чём это я? Мы ведь, собственно, пришли не права качать и не апеллировать к богам, а...
Затейник: ...а принести клятву Гиппократа! Так что мы ждём, уважаемые Два в Одном. Поджигайте свою гремучую смесь!
Гиппократ: Нам не приказывают, нас молят.
Затейник: Смотрите, я уже пал на колени.
Гиппократ: Пади ниц, несчастный, и спрячь своё лицо. Вот так! И не подглядывай, закрой глаза, чёрт тебя дери!
Затейник: Я погасил свет очей моих перед вашими прелестями.
Гиппократ: Тогда я приступаю. Жизнь наша коротка, наука ещё в пелёнках, верный момент — кайрос — преходящ, опыт обманчив, судить о чём-либо сложно.
Затейник: Что ты такое несёшь, сатанинское отродье! Это словоизвержение вовсе не знаменитая клятва... Да за такое ему, по крайней мере, нужно выразить наше фэ!
Гиппократ (вздыхая): Мы, Два в Одном, клянёмся Аполлоном, и Асклепием, и Гигиеей, и Панакеей[114], что мы как в дому, так и на высоких трибунах будем воздерживаться от интимных сношений с лицами женского и мужеского полу, к свободным ли сословиям принадлежащим либо к рабам. Совокупляться обещаем сами с собой, при содействии всевышнего Зевеса. Дай мне бог и дальше оставаться повесой!
Затейник: Какое тут может быть содействие? Чья рука способна пособить?
Гиппократ: Пособи себе сам!
Затейник: Позвольте вопрос. Как вы это совершаете?
Гиппократ: Что, проходимец?
Затейник: Ну, как вы сходитесь?
Гиппократ: Куда сходимся? Говори понятно, олух.
Затейник: Как происходит соитие? Надо ведь рожать новых врачей. Этого требует народ, да и вам самим нужны последователи.
Гиппократ: Ах, ты про соитие! Так бы сразу и сказал. Ответ проще пареной репы. Будь добр, посмотри на мой нос! Не правда ли, прекрасное воплощение Двух в Одном?
Затейник: Нос? Ну конечно! У твоего носа, как и у всех прочих, две ноздри.
Гиппократ: Тонко подмечено.
Затейник: Что же, вы ложитесь в постель с букетом цветов, свежескошенным сеном или какими-нибудь экзотическими травами?
Гиппократ: Чушь собачья! Наш фаллос — язык. Он один, а ноздрей — две. Между прочим, и у фаллоса, и у матки тоже по два канала. Здесь будет кстати рассказать о некоторых неприятностях. Отдельные Асклепиады рождаются со слишком коротким языком. Это признак деградации. Сколько они ни упражняются, сколько ни разрабатывают язык, они не могут дотянуться даже до одной ноздри. Приходится прибегать к искусственному оплодотворению. В нашем же случае язык вполне пригоден к делу.
Затейник: Это заметно. С чем вас и поздравляю. Однако у меня к вам ещё один вопрос. Что появляется на свет в результате подобного траханья?
Гиппократ: Мы порождаем мысли и идеи, коих у нас уже набралось великое множество. Мы многодетная семья.
Затейник: Сколько времени вынашивается потомство?
Гиппократ: Иногда вы не успеете даже хлопнуть в ладоши. В данную минуту Два в Одном, благодаря столь приятному обществу, отличаются высокой удойностью, плодовитостью и плодотворностью. Ovum-ova-oviovarum, ваф-ваф! Ой, какой к чёрту удойностью? Конечно же, яйценоскостью!
Затейник: Во горбушки выдаёт наш высоковыйный!
Гиппократ: А выя у нас действительно высокая, одно слово, лебединая. Так что нас видит сам Зевс, владыка небесный!
Затейник: Замечательно! Леда на лебеде, лебедь на Леде! А теперь, господа плясуны, давайте заведём хоровод, который бы оплодотворил всё и вся на этой орошённой Аписом сцене.
Гиппократ: На помощь! Подать сюда платок!
Затейник: Как, уже? Вперёд, други мои, топайте ногами и вколачивайте пятой конечностью так, чтоб пыль столбом стояла!
Гиппократ: Ты слышишь, Трепыхатель Ногами, как мы тужимся снести яйцо? Ганнибал уже снёс несколько штук — в виде одержанных побед... аминь, ибо он обскакал нас. Подобно богу и богине, мы несколько стеснительны и робки: страсть — не наша епархия. Мне нужен платок (или салфетка): сначала маленький, потом побольше и, наконец, самый большой.
Затейник: Голова племенного архиатра изволит пухнуть...
Гиппократ: Das also war des Pudels Kern! Вот, значит, куда вы гнули! Мы и не знали, чем чревато приглашение к вам.
Затейник: Ко мне, плясуны! Дубинки помогут нам вскрыть сие чрево.
Гиппократ: Ай-ай-ай! Вы что, собираетесь раскроить мне череп?
Хороводники (хором): Само собой! А как иначе? Как иначе отойдут воды, кровь, плацента?
Гиппократ: Ах, placenta, то бишь пирог... Зевсом заклинаю, расстелите салфетку, пирог надо подавать осторожно, не дыша... мы уже не дышим!
Хороводники: И не надо!
Затейник: На долю Двух в Одном выпала чудесная смерть; можно сказать, апофеоз славы. А теперь, ребята, тащите сего мёртвого смертного прочь, волоките падаль на помойку! И что мы имеем с козла? Наследство minutissima — кучка твёрдых орешков его мыслей.
Хороводники (хором): Сам козёл, а орешки, как у козлёнка!
Затейник: И всё же, ребятушки-козлятушки, грянем ура в честь Двух в Одном. Гип, гип, ура, Гиппократ!
Хороводники: Виват, наш вивёр и его угощенье!
Затейник: Кусай орехи зубами мудрости!
Хороводники: Их мы потеряли, когда нанялись к Ганнибалу.
Сосила, который чуть не до последнего млел от восхищения, столь неинтересное окончание родов привело в бешенство. Он вскочил с места и закричал:
— Выкиньте заодно и затейника!
И прибавил, выплеснув поток смачных ругательств и обращаясь уже только ко мне:
— Комик должен быть прямодушен, как крестьянин, а тот всегда называет корову коровой, а барана бараном.
XII
Я сам слышу во сне свой пронзительный стон. Кто-то весьма ощутимо трясёт меня.
— Подать моё оружие! — ору я.
Кажется, я различаю Бальтанда, который стоит на коленях надо мной и трясёт за плечи. Я едва верю собственным глазам, но даже сейчас его палец остаётся посредством шнурка соединён с кожаным мешком.
— Пусти меня! — жалобно прошу я. — Подать сюда оружие!
Я изо всей силы зажмуриваюсь: перед самыми глазами у меня дождевым червём извивается кожаный шнурок.
— Спокойно, — шепчет Бальтанд. — Кошмарные сны обычно не сбываются. А сильный испуг иногда даже полезен, кровь будет здоровее. Я же от одного упоминания оружия чуть не заболеваю. Мне начинают мерещиться бунт и резня, кровопролитие и убийство из-за угла. Этакая мешанина из всего сразу! У нас на севере конунги держат своё оружие взаперти, под охраной рабов. Сам понимаешь, из соображений безопасности... Свободный человек может поддаться соблазну вломиться в оружейную, но раб — никогда.
Бальтанд отпускает меня. Избавленный от его рук и кожаного шнурка, я лежу спокойно. Я не понял ни слова из того, что он наговорил. Я ещё сплю. А может, и нет. Рядом со мной кто-то дышит. Это снова Бальтанд.
— Ты не норманн, — шепчу я, осенённый внезапной догадкой. — Ты кельт.
Мне никто не отвечает. Наверное, я всё-таки сплю?
— Ты кельт! — уже громче повторяю я.
— С чего бы это?
— Ты кельтский лазутчик! — кричу я.
— Придержи язык, кончай молоть чепуху.
— Я много раз видел, что ты в задумчивости сосёшь большой палец, — не унимаюсь я. — В точности как кельты. Значит, ты кельт?
Вопрос остаётся без ответа.
— Ты лазутчик и кельт!
Никакого ответа.
— Зачем нужно запихивать палец до самых зубов мудрости? — ворчу я.
— Неужели тебе, учёному писцу, неизвестно даже это?
— Нет... Клянусь палицей Мелькарта, известно!
В палатке тишина и мрак. У нас плохо с маслом и кое с чем ещё. Мне нельзя жечь светильник без надобности, нельзя оставлять зажжённым ночью — если я не пишу. Я побаиваюсь темноты и хотел бы не гасить его на ночь, чтобы, открыв глаза, можно было оглядеться по сторонам. Я вслушиваюсь в малейший шорох. Мне безумно хочется знать, сплю я или бодрствую! Право слово, я бы сейчас собственными руками задушил Сосила. Жажду мести следует утолять. Как же мне себя пробудить и поднять? Пробудившись, можно обнаружить, что вся твоя жизнь — комедия, а сам ты — обыкновенный зубоскал. «Мы созданы из вещества того же,// Что наши сны. И сном окружена // Вся наша маленькая жизнь»[115].
— Пора, мой друг, пора. Пора не пора, идём со двора.
Верный слуга поднимает меня с постели. Он протирает мне лицо и руки сначала мокрой, затем сухой тряпочкой. Поправляет мои одежды. Выводит меня из палатки. Я ни о чём и ни о ком не спрашиваю. Я растворился в воздухе. Я призрак. А окружающий мир — безжизненный мираж. Астер подводит меня к красавцу жеребцу.
— Сегодня ночью я не сомкнул глаз, — запыхавшись, жалуюсь я.
— Да-да, конечно, — отвечает Астер.
— А Бальтанд куда делся?
— Ускакал.
— Ну да!
— Ты бы, хозяин, его видел верхом... потеха! Ганнибал распорядился прислать за ним коня.
— Не поверю, пока не увижу собственными глазами.
— Пришёл солдат, привёл мерина.
— А я даже ничего не слышал!
— Ты очень крепко спал.
Поторопив Медовое Копыто, я вскоре подъезжаю туда, где собралось войско. Перед солдатами, верхом на чистокровном жеребце, держит речь Ганнибал. Справа от него, тоже верхом, пыжится в своих пышных мехах Магил, слева цепляется за гриву мерина Бальтанд. Все военачальники сгрудились за Главнокомандующим. Перед ним теснится кучка переводчиков. Наше воинство многонационально. Речь будут переводить по меньшей мере на двенадцать языков. Это не может не раздражать меня: Медовое Копыто, со мной на спине, стоит поодаль от этой группы, на самом солнце, из-за чего веки у меня сами собой смеживаются. А может, они просто отяжелели от сна? «Воинство должно быть карфагенским», — досадливо думаю я. Ведь наёмникам, будь то начальник или рядовой солдат, плевать на конечные цели войны. Они не спрашивают Ганнибала о планах на будущее, об одушевляющих его высоких помыслах. Следовательно, он не может обсуждать с ними то, что по-настоящему движет им, то, ради чего затеяна вся эта война. Он вынужден говорить о поверхностных победах, об ощутимых успехах и о весомой военной добыче. Разъяснять теологию Победы выпало на мою долю.
— Наши кельтские братья, — вещает Ганнибал со своего коня, — единодушно примкнули к нам. Наше прославленное войско, объединившись с их многочисленными и не знающими страха боевыми отрядами, которые рассеяны по всей долине Пада, станет воистину непобедимым.
Совместными усилиями мы положим конец террористическому режиму Рима.
Меня слепит Ганнибалов шлем, хотя я и без того ослеплён и не вижу почти ничего даже искоса. Перед глазами размыто, словно за колышущимся прозрачным занавесом маячит Праздник Забавных Уродов. Оглядываясь по сторонам, я, кажется, и тут вижу таких же уродов, особенно напоминающих «настоящего» Гермафродита, который был представлен во всей своей неприглядности под номером два. Однако я стараюсь взять себя в руки. «Всё-таки Ганнибал обошёлся со мной неправильно», — думаю я. Ему нужно было с самого начала сделать своим ближайшим советчиком меня, а не кого-либо ещё. Тогда мне не пришлось бы якшаться с писцами и я был бы избавлен от необходимости слушать их неотёсанную речь. Тогда я бы знал обо всех Ганнибаловых планах и идеях и избежал бы настойчивых попыток Сосила приобщить меня к тому, чем пробавляются подонки нашего войска, к тому, что противодействует приказам Главнокомандующего и выставляет их на посмешище.
— Да, Ганнибал, ты совершил по отношению ко мне серьёзную ошибку, — бормочу я.
Ганнибалова речь не доходит до меня. Впрочем, насколько я понимаю, это не важно. Я и без слов знаю всё, что он сейчас говорит. (Tout dire sans parler!) Смысл речи доносят до меня жесты. (Semiologie du geste!) Кто, интересно, её сочинил? Надо было поручить это мне! Я пробую утешиться тем, что придумал её сам Ганнибал. Ему всегда внимали с уважением и многократно устраивали овации. Однако каждому известно, в какой стороне находится Италия, и всё красноречие Главнокомандующего не способно стереть память об этом из голов слушателей. Сознавая, что мало кому понравится и дальше продвигаться на север, Ганнибал неожиданно поворачивает свою речь по-новому. Теперь он обещает воинам тёплую одежду, крепкую обувь и замену износившегося снаряжения. Где мы разживёмся всем этим добром? На севере! Там есть город, царь которого просил Ганнибала о помощи. («Помоги мне», — шепчу я).
Ганнибал увещевает, рассеивает сомнения, подбадривает, отдаёт приказы. Магил восхваляет силу и храбрость кельтов. Бальтанд, лихорадочно хватаясь миниатюрными руками за гривки, заверяет, что в северных краях вполне можно передвигаться без особых усилий.
Я расту, но не в высоту, а в пустоту. «Неужели я утратил все прежние мысли о Ганнибале? — спрашиваю я себя, — Неужели я потерял его самого? Ради чего же мне тогда жить и писать?»
Со спины Медового Копыта, на котором я сижу в своей неприметности, я внезапно вижу за прозрачным занавесом (вот ирония судьбы!) двуполое создание, что выступало под номером два, то есть самого Гермафродита или, по крайней мере, его прапрапра-не-знаю-сколько-раз-пра-правнука. Перед у него прикрыт огромным султаном, поскольку, при всей эротичности жителей Средиземноморья, вульву избегают выставлять напоказ, разве что в виде граффити не на самых видных местах. При этом бесчисленные фаллосы никого не смущают. Как жене положено сидеть дома, а не показывать себя на улицах и площадях, так и увеличенные изображения срамных губ положено прятать подальше.
Сзади у Гермафродита свисает длиннющий фаллос, который хороводники мгновенно приспосабливают себе спереди. И вот Забавные Уроды начинают столь соблазнительно качать и кружить самодостаточную любовную парочку, что их движения подхватываются восторженной публикой. Сосил пробует поднять и меня, но я изо всех сил стараюсь пригвоздить себя к месту — и мне это удаётся! (Одновременно я пытаюсь перенестись с задворков обратно, в мир Ганнибала, но эта попытка оказывается неудачной!) Всё ревёт и ходит ходуном. Pedes exitamus, мы идём ногами, прыг, скок, топ, тарантелла, зодионы изображают зодиак, звери кружатся в зверином кругу вращательного танца до тех пор, пока сия мастерская любовного искусства не являет миру своё многообещающее творение — внушительных размеров продолговатый мешок. Глаза Забавных Уродов горят похотью, вспыхнувшее вожделение прорывается в безудержном хохоте.
— Дубась дубину, пока не даст дуба! — кричит кто-то.
— Откинул копыта, сказало корыто.
Из мешка вываливаются булки.
— Viva el muerto![116] — возглашают танцоры и, ведя хоровод, поют осанну: — Как такая смерть прекрасна, днесь дарует хлеб она!
Ганнибалов мир постепенно снова поворачивается ко мне передом, и я могу искоса наблюдать за происходящим там.
— Солдаты, — говорит Магил. — Все вы видите, что конь мой отнюдь не крылат. Я не по воздуху перелетел через Альпы сюда, на берег Родана. Это произошло естественным образом. Мы просочились через перевалы, которые конечно же лежат довольно высоко, однако вполне проходимы. Мы, кельты из долины Пада, сотни лет тому назад сами преодолели эти Альпы огромными толпами, таща с собой жён, и детей, и все свои пожитки. Молва всегда и всё преувеличивает. Это знает каждый из вас. Дики и мрачны голые скалы, но не везде. Устрашающи? Нигде! Вы собственными глазами убедитесь в том, что даже очень высоко расположенные долины населены и возделаны, давая пропитание многим семьям. Мои люди станут вашими проводниками и покажут наиболее удобные проходы не только по пути наверх, но и при спуске с Альп. Будьте уверены, воины, что наши легионы (он усмехается) ждут не дождутся вас. У нас с вами общие интересы. И вы и мы добиваемся возмездия. И почаще вспоминайте о том, как богат сейчас Рим и сколько зажиточных городов лежит по дороге к нему.
Войско, медленно и тяжеловесно, приходит в движение. Вот уже задрожала земля. Медовое Копыто ржёт. Наконец-то отбросив от себя кошмары, я решаю двигаться за Ганнибалом. Мы держим путь на север, где просит Ганнибаловой подмоги один из известных кельтских царей. Привычный к переменчивости собственного нрава, я не удивляюсь своему внезапному решению продолжать поход с писарской братией. В отличие от Ганнибала, мои настроения могут меняться, но воля моя от этого только укрепляется, а жизненная цель остаётся неколебимой.
Я решаю передать Медовое Копыто на попечение слуги. Мне не хочется, чтоб моё имущество тащилось сзади, в обозе, без коня. Посему я шагом направляю его к палатке. Там уже всё собрано и уложено. Когда я оставляю лошадь Астеру, тот расплывается в своей всегдашней широкой улыбке. Теперь конь будет в надёжных руках.
— Мы очень спешим, — одновременно говорю я.
— Я заплету ему хвост на ближайшем привале, — откликается Астер. — Будь осторожен, господин, береги себя!
«Старые слуги становятся вроде кормилиц», — думаю я и тороплюсь нагнать своих коллег. Высоко над лесом виднеется косяк перелётных птиц. Из зарослей черешни одна за другой вспархивают, в поисках новых ягод, стаи дроздов. Королёк, а королёк! Может, я и тебя где-нибудь увижу, мой маленький королёк? Он такой крохотный, что его можно рассмотреть только совсем вблизи. Я гляжу окрест. Кругом осень.
Уже осень, Ганнибал-Победитель! Что ты на это скажешь? Что скажешь мне ты, призвавший меня сюда?
«Я никогда не отнимаю у детей еду».
А я?
«Я не съел волчицу. Я отведал волчицы. Я не съел быка. Я отведал быка. Но читатель моего эпоса должен почувствовать вкус целой волчицы и целого быка. Я собираюсь раскрыть людям глаза и уши на всёпокоряющий язык эпоса».
Уже поздняя осень, говорю я сам себе. А я отнюдь не приблизился к цели, я перестал идти вперёд размеренным эпическим шагом с тщательно выверенными стихотворными стопами. Теперь я семеню крошечными шажками.
Где вы, мои гексаметры? Вспомни обо мне, Ганнибал-Орёл. Почему ты всегда присутствуешь во мне отсутствующим? Потому что нам надо преодолеть Альпы, пока не выпал снег и не наступили нестерпимые для нас холода? Дай мне какое-нибудь поручение, Ганнибал, желательно самое прозаическое. Сейчас, когда я перестал понимать тебя, мне нужно именно это. Займи меня чем угодно. Я опустошил свою голову. В мозгу у меня свербит одна-единственная мысль: победишь ты — будет и моя победа. Однако тебя уже чествуют. В том-то вся разница. А на меня давит ощущение, что меня никто по-настоящему не видит. Я примирился с твоими метаморфозами. Признал тебя и в обличье Волка. Моё сердце певца — в твоих руках... то бишь когтях. Зубами волчьими стило отточено, и так же будет стих отточен мой.
Я попал в группу незнакомых солдат. Один из них делится с другим мыслями о Ганнибале:
— Ты понял последний приказ полководца? В Каталонии нас гнали: «Воины, только вперёд!» Теперь гонят чуть ли не назад. Клянусь всеми богами, на черта нам сдался этот север?! Какой-то там Бранкориг просит помощи... Брехня!
— Совсем ополоумели!
У меня чешутся руки дать этим болтунам-наёмникам по оплеухе. Но я, Йадамилк, воздерживаюсь. Я даже не выговариваю им, не делаю внушение. Я лишь припускаюсь бегом, чтобы поскорее очутиться среди других.
Я лечу вослед Ганнибалу. Я в смущении. Я вновь очарован им.
МИФ О ЕВРОПЕ
I
Мы с Исааком (иудеем, который смеётся, но которого следовало бы называть Сифом, поскольку он появился вместо другого) сидим в тени каменного дуба и беседуем. В стороне нескончаемым потоком тянется на марше войско. Его отсюда не видно, но до нас доносится гул, похожий на рокот морской волны, когда она, набежав на берег, не успевает, шурша, откатиться обратно и наталкивается на следующую. Звук этот, то нарастая, то убывая, действует усыпляюще — так же, как и солнце. Совсем недавно был проливной дождь. Он освежил и подбодрил нас. Теперь же снова по-летнему печёт солнце. Мы как будто попали в сад с пряностями. Воздух напоен ароматами: тимьян, лаванда, розмарин, может быть, ещё шалфей с валерианой. Когда мы проходили мимо кустарниковой чащи, оттуда сильно потянуло лавровым листом. Вообще-то даже в этот час чувствуется осень. Через неделю-другую кроны деревьев зажгутся золотом, медью, пурпуром... По нашим лицам наверняка заметно, как. мы наслаждаемся сей передышкой.
Мы привязали своих коней к одному дереву, и им это явно пришлось по нраву.
— Интересно, мы так же столкуемся? — с улыбкой произносит Исаак.
Он рассказывает, что каждый день позволяет себе на время покинуть походный строй. Даёт отдышаться лёгким, поясняет он. Десятки тысяч людских, конских и прочих ног поднимают тучи пыли. Над воинскими колоннами словно повисает занесённый над головами гигантский сачок.
— Здесь нам хорошо, — признается Исаак. — Мы с тобой вправе сказать, что выполняем одну из заповедей Эпикура.
— Какую? — спрашиваю я, приготовившись услышать нечто очень для себя интересное.
— Мы проживаем свою жизнь не на виду, незаметно.
— Lathe biosas...[117] Возможно.
Тон у меня уже куда менее заинтересованный. Исаак улавливает это и спешит поправиться:
— Ой, я совсем забыл, что ты поэт. Прости, пожалуйста. Само собой разумеется, тебе хочется внимания.
— Не столько ко мне, сколько к моей поэзии, — смеюсь я. — Внимание к личности может прийти позднее.
— Да-да, конечно. Но раз уж у нас зашла речь об Эпикуре... Тебе приходило в голову, что он обращает свои советы к весьма узкому кругу людей? Ведь основная масса и без того, в силу обстоятельств, живёт незаметно. Lathe biosas — судьба подавляющего большинства.
— Тех, кто хотел или хочет внимания к себе, не так уж мало, — говорю я. — Многие юноши мечтают о победах, успехах, почёте... Эпикур явно имеет в виду их. Если они смолоду последуют его совету, их не ждёт разочарование, не ждёт крах надежды на известность. По крайней мере, они сами избрали свою жизнь и им не придётся страдать от слепой фортуны.
— Вероятно, ты прав. Во всяком случае, это звучит правдоподобно. Мне только что пришла в голову занятная мысль. Ты обратил внимание, что человек неприметный может в любую минуту вспомнить про заметного человека, заметное явление или событие, причём не только вспомнить, но и пространно рассуждать о них? Так что в речи его достопримечательные вещи присутствуют. Но что это значит, я пока задуматься не решился. Возможно, эти два столь разных слова — заметный-незаметный — всё же близки друг к другу! Да, так о чём я? Восходящая звезда всегда светит прежде всего в сторону элиты. Первыми замечают и оценивают яркость новой звезды заметные люди. Лишь обратив на себя внимание элиты, новоявленная звезда может завоёвывать известность у масс. И надо сказать, приобретший известность обычно не возражает против неё, хотя популярность может обернуться и обузой. Воспринятому массой, возможно, придётся соперничать с демагогами.
— Ганнибала, — поспешно вставляю я, — можно назвать демагогом в старом смысле слова, то есть руководителем народа.
— Отлично. Я и сам собирался перейти к Ганнибалу. Что ты теперь скажешь про гигантский лук, о котором столь увлечённо рассказывал прежде? Мне просто любопытно. Наверное, придётся потом делать поправку на этот лишний кусок, который мы пройдём к северу?
— Ничего подобного, — уверяю я. — Наоборот, он завершит натяжение лука.
— Объясни.
— Оглянись по сторонам, — не задумываясь, отвечаю я. — Окрестности чарующи, правда? Такое ощущение, будто мы находимся на юге. Воздух благоухает, так? Почва прекрасно возделана, верно? Ты обратил внимание, какого благородного красного цвета тут земля? Мы можем получить здесь всё необходимое, прежде чем вступим в суровый край с более мрачным пейзажем. Очень скоро нам придётся задирать головы, глядя на покрытые замерзшей водой исполинские нагие вершины. Вероятно, там мы все будем чувствовать себя не более заметными, чем тень от летящей ласточки. Ганнибал знает, что делает. Мольба о помощи царя Бранка пришлась нам как нельзя более кстати. Ганнибал купит всё необходимое для войска не деньгами из воинской кассы, а одним решительным действием.
— Смотри, Йадамилк!
Вверх по дубовому стволу шмыгнула переливающаяся зелёным ящерица. Пробежав небольшой кусок, она застывает. Глаза ящерицы блестят двумя чёрными бусинками. На лапке можно один за другим пересчитать все её светлые коготки. Внезапно ящерка срывается с места и исчезает среди шероховатой коры. Мы ещё высматриваем её, когда Исаак говорит:
— Я припас для тебя старинное изречение.
— Спасибо.
— Однажды фараон повелел записать суждение о вас, финикиянах. Кажется, это был Рамсес Третий. Вот его слова: «Ни одна страна не может устоять под натиском их оружия. Они прибрали к рукам все территории до самого края земли. Сердца их были преисполнены надежды и уверенности в себе: «Наши планы непременно исполнятся!» Лица их светились».
— Этого я ещё никогда не слышал! — в упоении воскликнул я. — Сказано очень красиво, просто восхитительно.
— У Ганнибала и его окружения такие же сияющие лица, — спокойно продолжает Исаак. — На них написаны надежда и уверенность в себе. Их лица убеждают и их самих, и всех остальных: «Наши планы непременно сбудутся!»
— Браво, Исаак. Как, говоришь, звали фараона?
— Рамсес Третий.
— Я его запомню. И ты, Исаак, утверждаешь, что ты безбожник... когда ты — воплощение доброты и товарищества.
— Разве безбожник не может быть добрым?
— Откуда мне знать? Я никогда прежде не встречался с безбожниками. Скажи, как ты им стал?
— Я и сам толком не знаю.
— Наверное, у тебя были очень серьёзные возражения против веры в богов.
— Естественно. Это отнюдь не легко — отказаться от того, во что верят все на свете. Я пришёл к выводу, что богов не существует. В этом и заключается моё главное открытие. Наша вселенная безбожна, она — космос атеос. А как я шёл к этому убеждению, я помню плохо.
— Вероятно, путь к нему был тяжек и труден.
— Не знаю. Я прошёл его довольно легко.
— Не представляю себе ни как, ни что именно происходило, не представляю даже, что это вообще возможно. Мне крайне любопытно было бы проследить сам процесс.
— Не хочу заражать тебя своим атеизмом, — улыбается Исаак. — Я предпочитаю оставаться добрым товарищем.
— Меня не так-то просто заразить.
— Показать тебе, какой я бываю зловредный? Я ведь и дразниться умею.
— Переживу.
— Что ты думаешь о Сократе[118]?
— Как тебе сказать? Приговор, который ему вынесли афиняне, несправедлив. Но что мне до него?
— Тебе известно, что Сократ осуждал всякое письмо?
— Я никогда не слыхал про это.
— Нападки на письменность звучат в мифе, который Сократ рассказывает Федру.
— Он записан в виде диалога?
— Да.
— Сам факт его записи подтверждает скорее мою точку зрения, нежели сократовскую.
— Ты лучше послушай.
— Я весь внимание.
— В древности был в Египте бог по имени Тот. Ему посвящалась птица Ибис. Он создал многие искусства, в том числе искусство счёта и астрономию, он же изобрёл буквы и граммата, то есть чтение и письмо. Над всем Египтом царствовал в ту пору Тамус. К нему и пришёл Тот со своими изобретениями, утверждая, что каждому египтянину необходимо познакомиться с ними и освоить даруемые ими умения. Царь подробно расспросил о пользе каждого изобретения. Он был одновременно за и против, восхваляя и порицая то, что ему предъявлял бог. Дойдя до буквенного письма, Тот сказал: «Это изобретение сделает египтян более мудрыми и памятливыми; его можно назвать лекарством (фармакон), которое придаёт людям мудрость и хорошую память». Однако царь не согласен с Тотом. Напротив, утверждает он, изобретение это внесёт «забывчивость в души учеников». Их память перестанет развиваться. Полагаясь на письменность, они будут черпать свою память извне, из чужих значков, а не из собственного нутра. «Ты дашь своим ученикам не истину, а лишь видимость истины, — говорит Тамус. — Вместо мудрости они обретут самодовольство», и тогда с ними будет невыносимо иметь дело. По мнению Сократа, человек, который всерьёз учится по книге, становится крайне односторонним. Книги, как и картины, хранят зловредное молчание, если ты их о чём-то спрашиваешь. Тебе кажется, что они только что говорили с тобой как здравомыслящие создания, но стоит попросить у них совета, и они повторяют уже сказанное. Письменное слово — не более чем тень слов, произнесённых знающим человеком, считает Сократ.
— И об этом Платон написал целый труд? — иронично спрашиваю я.
— Да, о том, что рассказал я, и о многом другом.
— Если бы Платон верил в истинность Сократовой легенды, он бы не написал ни одного сочинения. А он их создал ого-го сколько. Почему я и все прочие должны принимать всерьёз сказанное им, вернее, не только сказанное, но и записанное? Нет, этим тебе меня не раздразнить. И не заставить усомниться в сочинительстве. Напротив. Что касается Сократа, у меня о нём своё мнение. Его демонион[119] научил его неким мантическим знакам, которым он повиновался. Если кто-нибудь чихал справа от него, Сократ приводил в исполнение свои планы, если слева — он воздерживался.
— Ты собираешься сочинять и впредь?
— Ещё бы я не собирался...
— Тебе нужно для этого вдохновение?
— Очень даже нужно. Меня должна посетить Муза. Тогда я становлюсь лирой, а она — перебирающим струны плектром[120]. Или я превращаюсь во флейту, а она — в играющего на ней флейтиста.
— Судя по твоим словам, ты подтверждаешь старые истины.
— А ты нет, Исаак.
— В каком смысле?
— Ты безбожник.
— Ага, ты не забыл. Значит, мне не удалось увести тебя от этой темы.
— Она меня очень интересует.
— Я же сказал, что не хочу заражать тебя.
— Ты заразишь меня не больше, чем историей про Сократа и сочинительство. Я уже говорил, что безбожие, вероятно, трудно принять, но ты это отрицаешь.
— И правильно делаю. Ладно, давай я расскажу тебе кое-что ещё. Когда умерли мои приёмные родители... вернее, даже до этого... я начал учить еврейский. Я изучал старинные рукописи и беседовал с учёными иудеями. Таким образом я сделал одно наблюдение над языком, показавшееся мне весьма любопытным. Мои предки, выяснил я из текстов, ощущали свою жизнь только как соэ́ — как жизнь с её насущными потребностями, которую нужно прожить в страхе перед богами. Жизнь как биос, которая строится самими людьми, была им неведома. Греки же гораздо больше знали именно о «биосе». Для ящерицы, которую мы недавно видели, жизнь — всего лишь соэ, чисто физическое существование. Животное не в состоянии строить свою жизнь. Оно само формируется этим соэ и не может стать ни лучше, ни хуже того, чем его делает существование.
— Последнее нам подсказывает здравый смысл.
— Притом изначальный, то есть логос сперматикос, создающий мир и правящий им.
— Ты говоришь замечательно, Исаак. И это ты хотел замолчать!
— Стоит тебе захотеть, и я прекращу свои разглагольствования, — смеётся Исаак.
— Но ты всегда говоришь прекрасно, поэтому могу признаться, что в своём одиночестве я нередко беседую с тобой. В этих случаях я называю своего собеседника Би́ос-Био́с, то есть Лук Жизни! Ведь ты покорил меня именно рассуждениями о глубоком единстве этих двух слов. «К нему стоит прислушаться, — подумал я тогда. — Мне нужно как можно чаще разговаривать с ним». Теперь я хочу наградить тебя новым именем, под которым ты и будешь отныне фигурировать в моих молчаливых беседах.
— И что же ты мне приготовил?
— Я буду называть тебя Биологосом.
— То есть актёром? Вот удружил так удружил!
— Почему бы и нет? Жизнь грека подчинена стремлению к совершенству, иудеи живут своей насущной жизнью согласно закону, который они не выработали сами, а получили извне, от Яхве. В Элладе актёр представляет на сцене соответствие идеалам или их предательство. Зритель видит и схему, и её конкретные воплощения. Разобраться в конкретном без этого предварительного эскиза невозможно, поэтому актёра можно назвать учителем жизни. Грек считает человеческую жизнь произведением искусства, которое можно создавать согласно своим идеалам. А ты разве не создаёшь собственную жизнь согласно идеалам? Конечно, создаёшь! Вот почему Биологос кажется мне вполне подходящим для тебя именем. Тебя по праву можно назвать активным учителем жизни.
На какое-то мгновение наши взгляды встречаются. Они проникают глубоко внутрь, поскольку ими скрепляется наша будущая дружба. Исаак умеет по-особому напряжённо слушать. Когда говорит он сам, глаза его находятся в непрестанном движении. Когда высказываюсь я, они стоят на месте, отсюда впечатление, будто он слушает и глазами. Его любопытный и пытливый взор светится на лице с острыми чертами, сгладить которые не может даже изрядное количество плоти. По этому чувствительному лицу легко следить за игрой мышц, от которых зависит его выражение.
— Пожалуйста, продолжи свою тему, — прошу я.
— Тебе действительно нравится?
— Будь уверен. И я обещаю на этот раз запомнить всё в Сократовом смысле слова.
— Письменных трудов ты от меня всё равно не дождёшься.
— Мне повезло, что я имею возможность слушать тебя.
— Выражение «образ жизни» не встречается в древнееврейских рукописях. Возможности выбирать собственный стиль жизни не существовало. Такого никто не понимал. Для моих прародителей различные роли, которые играет актёр, были бы просто непостижимы. Жизнь ощущается ими не в виде самостоятельно выработанных «позиций и отношений», но в виде голода и жажды, потребностей и желаний, любви и ненависти, в виде повседневных забот и хлопот. Подобно плоти, жизнь преходяща и кончается смертью. Долгая и счастливая жизнь — венец благополучия. Такая жизнь бывает у тех, кто выполняет Божьи заповеди. Грешников Яхве наказывает ранней смертью. Греки склонны вводить смерть в свою жизнь. Они даже говорят о доблестной смерти. Для них последние дни или часы человеческой жизни могут стать её апогеем и получить наименование «доблестной смерти». Даже самоубийство может быть возведено в ранг героического, благородного поступка.
— Но я спрашивал про твой путь к безбожию.
— Спокойно. Я туда и веду. Но сначала мне нужно сказать ещё кое-что о том, что я обнаружил, изучая священные писания. У моих праотцев призыв дельфийского оракула ни в коем случае не мог бы возникнуть[121]. «Познай себя самого!» Такой призыв немыслим! На их языке невозможно даже сформулировать вопрос о настоящей и ненастоящей жизни.
— На нашем тоже, — убеждённо поясняю я. — У нас, финикиян, есть идолы, но не идеалы.
— Ay тебя по этой части как дела?
— Разве мы с тобой оба не эллины? Разве я не научился мерить свою жизнь в терминах степеней сравнения: хорошая-лучшая-наилучшая и плохая-худшая-наихудшая? Наша тяга к настоящей жизни и подгоняет и терроризирует нас.
— Ты прав, Йадамилк.
— Можно, я упрощённо сформулирую то, что уже усвоил из твоих рассуждений?
— Пожалуйста. Я с удовольствием послушаю.
— Представим себе двух людей, одного из которых я назову Сосимой, другого — Вносимой. Сосима (или, если хочешь, Зосима) живёт стихийно. Он никогда не задаётся вопросом о том, подлинна ли его жизнь. Он не подвергает сомнению ощущаемые им потребности жизни. Вносима же с самого начала усваивает, что ему необходимо развивать себя в соответствии с современными идеалами, которым он ещё должен дать собственное определение. Такое развитие происходит благодаря тому, что он постоянно спрашивает себя: «Живу ли я настоящей жизнью?»
— Ты прекрасно понял мою мысль. Поэтому-то у греков есть то, чего нет у евреев, и наоборот. Старый еврей умирает, истомлённый долгими днями и годами. Грек ищет противоядие от своего беспокойства. У евреев жизненный путь не разделён на стадии. Греки же проходят этапы обучения в области гармонии, искусств, наук и философии. Характерам разных людей посвящается греческая поэзия и искусство. У евреев нет ни трагедии, ни комедии. Нет у них и произведений искусства, которые бы изображали судьбу отдельного человека. Ни один биограф не представляет этос известных личностей. Ни один эпик не демонстрирует всё многообразие жизни — в большом и малом, высоком и низком. Ни один лирик не обнажает внутреннюю жизнь. Лишь Иов[122] осмеливается противиться Господу, но и он в конечном счёте утихомиривается. Конец у Иова как нельзя более счастливый.
Исаак умолкает. Он делает движение рукой, словно хочет снять с себя что-то прилипшее к телу. Я терпеливо жду продолжения. Потом всё же не выдерживаю и нарушаю молчание.
— И вывод? — спрашиваю я.
— Вывод такой, что мир безбожен, — говорит Исаак. — Смерть делает бессмысленной как жизнь соэ, так и жизнь биос. Миру, в котором живут люди, недостаёт цели и основы.
— На это я могу возразить словами Пиндара, который сказал что-то вроде того: дескать, корень всех вещей нужно искать в Зевсе.
— Я кротко и смиренно заявляю, что никакой «настоящей» жизни не бывает. От всего можно отказаться, всё — заменить другим. Не бывает и человеческой жизни, сплошь состоящей из насущных потребностей. Посему я повторяю, что мир случаен и заменяем. Мир — это космос атеос.
— Однако ты по-разному ценишь разные вещи?
— Разумеется. Но основания для этого всегда очень шаткие.
— Почему ты присоединился к Г аннибалову походу, с его тяготами и опасностями, подстерегающими из-за угла?
— Меня никто не принуждал. Я сам напросился, преодолевая таким образом свою неприязнь к войне. Впрочем, мною движет и любопытство. Я хочу посмотреть, достоин ли Ганнибал моего восхищения или он окажется отвратительным человеком.
— Отвратительным?! Это очень сильное слово! Значит, отвратительное не заслуживает твоего восхищения?
— Именно это я и хотел сказать.
— Твои слова обеспокоили меня. Мне придётся получше обдумать своё мнение о Ганнибале, прежде чем я выражу его.
— Тебе начинает казаться, что мерзкое и отвратительное может быть не лишено величия?
— Я не хотел бы сейчас говорить об этом. Я просто-напросто не решаюсь.
— Мне пришла на ум Софоклова «Антигона». Я знаю её чуть ли не наизусть.
— Я тоже.
— Интересно, Йадамилк, ты обратил внимание на то, что заметил я? Там хор многократно повторяет одно слово, которое можно толковать по-разному. У Эсхила оно тоже встречается постоянно, но каждый раз с нажимом исключительно на мрачном значении: страшный, ужасный, отвратительный, омерзительный. У Платона акценты, естественно, смещаются больше — за счёт более длинных текстов. Однако даже у него слово это никогда не утрачивает своего мрачного оттенка. Так, во всяком случае, утверждает наш великий филолог Каллиграф.
— Кого-кого, а его я весьма уважаю. Он был одним из моих наставников в Александрии, и мне не раз доводилось обращаться к нему за советом, когда дело касалось некоторых трудных заимствований.
— Прекрасно. Ты догадался, о каком слове я веду речь?
— Нет. Это невозможно.
— Тогда я сам скажу.
Но Исаак не торопится. Он наклоняется вперёд и поправляет сандалий, хотя в этом нет никакой необходимости. Я смотрю вбок, на лошадей. Они по-прежнему ладят между собой и ведут себя смирно. Исаак поднимает на меня свой мягкий взгляд.
— Истолкование зависит от того, — говорит он, — как ты оцениваешь весь последующий текст хора. Если ты испытываешь наивный восторг перед смелостью и предприимчивостью людей, ухо твоё будет слышать не то, чем в том случае, когда тебя беспокоит та же беспрестанная предприимчивость. Я имею в виду слово динон. Что оно значит: страшный или удивительный? В своё время люди относились с боязливым почтением к природе и «страшным» богам. Природа была пугающа, но при этом давала пропитание. Выдумки богов бывали причудливы и жестоки, но опять-таки шли на пользу. Человечество жило ужасной (динон) жизнью, утверждает Сократ. Так было до тех пор, пока боги не одарили смертных искусством государственного управления. С помощью этого дара люди смогли основать государства. Если раньше они уступали животным в силе и жизненной энергии, то теперь люди превзошли их и природа утратила большую часть своей враждебности. Какие чувства должны были теперь испытывать люди перед обретённой ими предприимчивостью? Сменилось ли их былое робкое почтение к природе и богам преклонением перед миром, сотворённым человеком? Или люди считали свои достижения ужасными? Что, собственно, поёт хор в «Антигоне»: «Мир полон чудес» или «Многое ужасно»? Иными словами, говорит ли он: «И всё же величайшее чудо — это человек» или «Нет ничего отвратительнее человека»[123]?
— А сочетается ли сказанное тобой с твоим безбожием?
— Разумеется.
— Я этого не считаю. Я бы сказал иначе: робкое почтение должно быть обращено как к богам, так и к великим людям. За что? За то, что ты называешь предприимчивостью. Впрочем, я лучше снова призову на помощь Пиндара: «От богов рождены // Все свершения смертных доблестей: // Все, кто мудр, все, кто силён, все, кто речист».
— Но если все деяния взаимозаменяемы? Если мир может быть таким или этаким, приобретать тысячи разных обличий? Тогда чудо состоит не в том, как всё устроено, а в том, что всё устроено именно так, а не иначе!
— Как тебя понимать, Исаак? Только что ты объяснял, что не всё ценишь одинаково высоко.
— Так оно и есть.
— Значит, ты проявляешь предприимчивость, обеспечивая себя тем, что ценишь?
— Вероятно. Я ведь живу не в мире идей. Я имею дело с данным миром и данными людьми. Мой язык — это течение моей речи в данную минуту. Здесь я нахожу то, что считаю хорошим или вкусным. Здесь я выбираю между красивым и прекрасным. И я хочу иметь хорошую и красивую жизнь — такую, какую сумел выбрать для себя.
— А ты не думаешь, что должен благодарить за это богов?
— Отнюдь нет. Я благодарен другим людям, но в первую очередь самому себе. Ведь это я искал и нашёл добро, красоту, достаток. Моя свобода тоже принадлежит исключительно мне. Это я обнаружил её, и я знаю, какие ощущения она вызывает у меня. Я не стану умалять всего этого!
— Значит, то, что ты выбираешь, существует раньше, чем ты приступаешь к выбору?
— Да. Но выбор совершаю я, и никто другой. Меня также подстерегают опасности. Жизнь предлагает нам не только хорошее, красивое и интересное. Она навязывает нам и массу неприятностей, от которых мы не в силах уберечься. Разве я желал для себя тоску и отвращение, которые сплошь и рядом овладевают мной? Никто в это не поверит. Тем более я, коль скоро терпеть их приходится мне.
— Как ты излечиваешь тоску?
— Я справляюсь с ней лишь на время.
— Поделись средством!
— Например, посидеть в солнечный денёк в тени и поговорить с тобой. Отправиться с Ганнибалом в Альпы! Проверить, надолго ли хватит его удачливости. Погибнуть в сугробах, распрощавшись с жизнью в голоде и холоде.
— Что-то тут не пахнет апофеозом.
— Я и не стремлюсь к нему.
— А мне всё же не кажется, что чьё-то безбожие изменяет мир. По-моему, всё осталось таким же — не только для меня, но и для тебя! — каким было до твоего рассказа. Ты и сам фактически выразил эту мысль.
— Вероятно, она просто слетела у меня с языка. Или ты недопонял меня. Конечно же мир меняется. Представь себе, что безбожниками стали бы все. Тогда в мире не было бы ни святилищ, ни жертвоприношений.
— А также Гомера и трагиков, Афин и Александрии, не говоря уже о Карфагене. Если всё это возникло благодаря вере в богов, к чему жаловаться на устройство мира?
— Я не жалуюсь. И не сваливаю ни на кого свою тоску. Я избавляюсь от неё в деятельности, когда мне представляется такая возможность. Не исключено, что ты прав. Мир всегда остаётся самим собой. Безбожникам тоже не мешало бы овладеть тем, что воспевает Софокл. Им тоже надо было бы управлять природой. Или, как поёт хор в строфе и антистрофе:
Он зимою через море Правит путь под бурным ветром И плывёт, переправляясь, По ревущим вкруг волнам. Землю, древнюю богиню, Что в веках неутомима, Год за годом мучит он И с конём своим на поле Всюду борозды ведёт. Муж, на выдумки богатый, Из верёвок вьёт он сети И, сплетя, добычу ловит: Птиц он ловит неразумных, Рыб морских во влажной бездне, И стада в лесу дремучем, И зверей в дубравах тёмных, И коней с косматой гривой Укрощает он, и гордых Он быков неутомимых Под своё ведёт ярмо. Мысли его, они ветра быстрее, Речи своей научился он сам, Грады он строит и стрел избегает, Острых морозов и шумных дождей; Всё он умеет; от всякой напасти Верное средство себе он нашёл. Знает лекарства он против болезней, Но лишь почует он близость Аида, Как понапрасну на помощь зовёт[124].— Конечно, человек замечателен! — воскликнул Исаак после паузы. — Он даже придумывает множество богов и законов, которые должны быть столь же непреложны, как законы природы. Грек выводит из космоса номос, то есть закон. Но безбожник отрицает этот закон. Я вывожу из атеистического космоса лишь собственную свободу.
— Я слушал тебя, Исаак, с интересом и в то же время с опаской. Но, услышав мысль, которая переворачивает мои представления, я всегда задаю один вопрос: что дальше? Изменится ли знакомый мне мир от этого нового тезиса? От твоей речи я тоже не замечаю никаких перемен. Даже сам ты не изменился от неё. После всего сказанного ты остался таким же дружески настроенным, каким был прежде. Твоё безбожие никак не отражается и на моём дружелюбии к тебе.
— Я сказал далеко не всё, Йадамилк. Очень важно ощущение свободы. Можно ещё добавить, что при сложившихся обстоятельствах атеистический космос способствует, скажем, не трагедиям, а скорее пародиям на явления и человеческие поступки.
— Есть нечто важнее пародии, а именно — предмет пародии.
— К этому я, собственно, и вёл. Но отсюда берёт начало тоска. Как отыскать бесхитростное и подлинное, если всё обращено в пародию?
— Из твоих речей явствует, что безбожник занимается разложением жизненных фактов. Впрочем, не зря говорится: дабы создать что-либо новое, нужно сначала разобрать по косточкам уже существующее. Нет, дорогой Исаак, твои муки мне неведомы.
— Вот и хорошо. Ты бы меня очень расстроил, если бы подпал под моё влияние. Я вовсе не хотел заражать тебя.
— По-моему, ты улыбаешься, а? Ты всё равно продолжаешь оценивать и взвешивать. Ты неотступно отсеиваешь добро от зла.
На самом деле наша беседа с Исааком оказала на меня очень сильное влияние. Сначала я не мог разобраться, что произошло. Но я потерял покой, пребывал в волнении. Больше всего меня беспокоил Ганнибал. Я увидел Ганнибала-Победителя в новом свете. Всё, что ставится ему в заслугу, можно повернуть и против него. Ганнибал подвергается серьёзным опасностям именно в силу того, что он Победитель. Его победа над Сагунтом расценивается в Риме как преступление. Кто защитит Ганнибала от самого себя? «Я!» — в смятении думаю я. Мне нужно как можно скорее поговорить с ним. Он представляет в одном лице закон и беззаконие. Он одновременно преступник и праведник. Понимает ли это он сам? Вряд ли. Ему кажется, что через победу Победитель вводит новую законность, которая обращает деяния преступные и наказуемые в правые и достойные награды. Ганнибалу нужно найти достойные основания для своих поступков. Я должен помочь ему в этом. Только великий эпос спасёт его от расщеплённости сознания.
II
После разговора с Исааком я весь ухожу в размышления о возможных опасностях. К сожалению, я не в силах ни описать, ни даже назвать их. Угроза — это как гром в небе, как трясение земли, как лихорадка в крови. Неужели один я замечаю двусмысленность чуть ли не всего вокруг, в том числе сомнительность теологии победы? Наше будущее отражается на нас уже сейчас. У меня в голове прокручиваются сцены грядущего. Когда вынашиваешь далеко идущие планы, невозможно спокойно посвящать себя заботам сегодняшнего дня. Намеченное путает маршевый шаг, а взгляд пытается различить, что там впереди. Наш поход внутренне динамичен, и он не утрачивает этой динамичности даже с наступлением ночи.
Естественно, я сознаю, что опасности сопряжены в первую очередь с Ганнибалом, человеком, который выглядит очень уверенным в себе при любых сменах настроений. Следовательно, угроза нависла и над моим эпосом, и над моей судьбой... и над благополучием Карфагена. По сути дела, она касается всего известного мира. Ганнибалу необходимо внушить, что нам не избежать катастрофы, что она уже назревает. Земля, по которой шагает наше войско, горит под его ногами. Загораются всё новые пламена. Некая могучая рука тянется к нашей победе и сотрясает её.
Чья же это рука? Что это за пламена? И кто зажигает их?
Языки пламени поднимаются от земли из-за присутствия самого Ганнибала, оно же грозит сотрясти каждый горизонт. Угроза заложена в Ганнибаловых намерениях, в самом существовании его войска. На этот раз речь идёт не о нескольких средиземноморских островах — Сицилии, Сардинии, Корсике. На карту поставлено гораздо большее. Иначе не было бы такой спешки. Ведь нужно бы иметь время для дипломатических ходов. Нужно было бы успеть снарядить боеспособный флот. Ганнибал либо не видит, куда ведёт его стратегия, либо замалчивает свои конечные цели.
Необходимо как можно скорее переговорить с ним. Я уже пытался сегодня поймать его, но пока безрезультатно. Ганнибал скачет туда-сюда, объясняют мне. Кого бы я ни спрашивал, все что-то знают. Он только что был здесь, а теперь направился туда-то, говорят мне. Однако я никак не могу найти его. И раз за разом возвращаюсь к своим думам о неясных опасностях. Что я могу ему сказать? Однако теперь я вижу, что меня уже с начала похода волновала эта проблема. В самой нашей кампании чего-то не хватает. В ней есть какой-то недочёт, недостаток, изъян. Но какой? Я всегда чувствовал, что мне нужно что-то сказать Ганнибалу. Честно говоря, я никогда целиком и полностью не одобрял его планов. Я был настроен сдержанно, даже критически. Мой эпический инстинкт, с одной стороны, толкает меня ближе к Ганнибалу, с другой — велит соблюдать дистанцию. Вот почему я рано заметил сомнительность исхода и понял, что один-единственный неверный шаг может усилить эту сомнительность и сокрушить всю Ганнибалову затею.
В данном положении моя задача — преодолеть смутность и неопределённость, увидеть что-то как нечто определённое. Иногда мне кажется, что достаточно предстать перед Ганнибалом — и нужные слова польются сами собой. Стоит мне увидеть его лицо и позу, услышать его обращённый ко мне голос — и я соображу, что ему нужно узнать от меня. Политика Ганнибала, в том виде, в котором он обрисовал её нам, порочна. Его стратегия, при всей её дерзости, страдает изъянами. Его конечная цель не выражена чётко и ясно. Он плохо знает, как добиться длительного мира.
Кое-что он знает достаточно твёрдо. Он собирается отомстить за тяжкие унижения, которые претерпели и Карфаген, и его отец Гамилькар в последней войне[125]. Он освободит италийские государства из-под римского владычества. Он надеется, что эти государства одно за другим восстанут — начиная с богатой Кампании, торговля которой понесла серьёзный ущерб, обернувшийся выгодой для Рима. В том, что на его сторону перейдёт Этрурия, Ганнибал просто убеждён. Он также надеется набрать непобедимое воинство среди многочисленных кельтов в долине Пада. Кельты ведь однажды захватили Рим и сожгли его[126]. Они явно не забыли этого. Не могут они забыть и проигранной несколько лет назад битвы при Теламоне. Всё это требует исправления. Ганнибал также рассчитывает на поддержку Македонии и Сиракуз. Эти монархии кровно заинтересованы в том, чтобы сдержать экспансию Римской республики и покончить с уже завоёванным ею могуществом. Птолемеи ссудят Ганнибала деньгами на приобретение оружия и прочего снаряжения. Но самое основное и главное, самое точное и определённое — это великая цель восстановления карфагенского господства в Западном Средиземноморье.
Разве этого мало? Разве сия цель недостаточно высока? Не пора ли на этом угомониться и, установив мир, пожинать плоды победы?
Победы должны выливаться в мир. Необходимо остановить диалектическое развитие, при котором одна одержанная победа требует следующей, за ней ещё и ещё; необходимо прекратить эту нескончаемую игру в диалектику. А это возможно лишь с помощью решающей победы.
Я обдумываю всё это, разъезжая по округе в надежде хотя бы мельком увидеть Ганнибала. Совершенно неожиданно мысли мои обращаются к Европе как отдельной части света, и я вспоминаю, что ещё Гекатей поделил мир на два материка[127], Европу и Азию, симметрично расположив их на нарисованной им карте. Об этом я узнал от своего уважаемого наставника, Эратосфена[128]. В его «Землеописании» частей света уже три. С прибавлением Ливии карта утратила прекрасную симметрию. Любопытно, что все континенты носят женские имена и это никого не удивляет. Затем я вспоминаю, как Эратосфен ругал греков за то, что они поделили человечество на эллинов и варваров[129]. По его словам, многие греки — жулики, тогда как многие персы и индусы — благороднейшие люди. Нужно судить о человеке не по расе, а по индивидуальности, настаивал он.
Тут мысли мои совершенно естественным образом обратились к трагедии Эсхила «Персы», а именно к тому её месту, где на сцену выходит мать царя Атосса и, повернувшись к хору, рассказывает, что ей приснился очень взволновавший её сон. Она просит растолковать его ей.
Во сне она видела, как её сын Ксеркс впрягает в свою колесницу двух высокородных дам. Он хочет, чтобы его везли Европа и Азия. Азия не стала противиться, а «послушно удила взяла». Европа же заартачилась: разорвав руками конскую упряжь, она сбросила вожжи «и сломала пополам ярмо»[130]. В ту же минуту Ксеркс упал наземь.
В этом месте размышлений я вдруг ощущаю в душе необыкновенное ликование. «Европа — это же финикийское название!» — осеняет меня, и я мгновенно понимаю, что теперь обрёл весьма конкретный предмет для разговора с Ганнибалом.
Однако я не удерживаюсь и распускаю язык о своём открытии гораздо раньше. Я завожу о нём речь, как только воссоединяюсь с писарской братией, причём в недостойном сего предмета шутливо-бравурном тоне.
— Мы движемся всё дальше и дальше вглубь Европы! — восклицаю я.
— Кажется, это удивляет одного тебя, — отзывается Табнит.
— А известно ли вам, господа, — продолжаю я, — что слово «Европа» финикийского происхождения?
— Я слышал нечто подобное от матери, — говорит Палу.
— Неужели вам не интересно, какие имена носят части света?
— С каких пор имена должны вызывать интерес?
— И это говорите вы, которые бы ни за что не захотели променять своё имя на какое-нибудь другое, и на слух которых Карфаген звучал бы отнюдь не столь сладостно, называйся он Персеполем или Фивами.
— Ах, что такое имена? — бормочут сразу несколько моих коллег.
— Нет, вы всё-таки послушайте, — продолжаю я и выкладываю то, о чём мне лучше было бы помолчать. — Я утверждаю, что такой континент, как Европа, на самом деле должен принадлежать Карфагену. Вы сомневаетесь в моих словах? Тогда позвольте мне указать на то, что Тир более не финикийский город. Значит, единственным законным наследником Европы следует признать Карфаген. И теперь мы, именами Мелькарта, Танит и царицы Дидоны, вступаем во владение своим наследством. Так что земли, по которым мы с вами шагаем походным маршем, принадлежат не кому иному, как Карфагену.
Все молчат. Все едят. Кое-кто ленивой рукой отгоняет мух.
Я закрываю глаза и погружаюсь в свои мысли.
Вечерняя Страна, Гесперия[131], тоже относится к нашим владениям. И здесь и там одинаково ясно сияет на небосводе Вечерняя Звезда, Геспер. Я совсем забыл, что до сих пор не наладил отношений с коллегами. Даже карфагеняне держатся со мной холодно. Мне следовало помнить об этом, тем более что у них есть веские основания: я вынужден был перевести Бальтанда из своей палатки в другое место. Поскольку взять к себе норманна по доброй воле никто не соглашался, я поднял шум и пригрозил дойти до самого Ганнибала. Только тогда квартирмейстер уступил и поселил Бальтанда в палатку карфагенских писцов.
Случилось так, что мои речи про Европу услышал Замар, наш наставник в римской речи. Замар — оригинал, который с первого же взгляда вызывает удивление. Он получил прозвище Малум Пуникум (так римляне называют наш излюбленный гранат). Карфагенянин, он родился в Риме, где его отец занимался торговлей пунийскими товарами. Однако отец разорился, и попавшая в беду семья обрела прибежище в Карфагене, где Замар так и не сумел найти себя.
— Я потрясён твоими словами, — шепчет Малум Пуникум, беря меня под руку.
Я позволяю ему отвести меня в сторону, где он, склонившись поближе, тихо произносит:
— Нет, правда, для меня они были откровением. Ты обнажил истину. От твоих речей у меня с глаз спала пелена. Теперь я и сам вижу, что Европа — наша наследная земля. Это совершенно очевидно. Как я не догадался раньше? Дабы сопрячь твоё открытие с греческим миром, скажу, что тебя вдохновила на него богиня истины Алетея. До истин невозможно дойти головой, их можно отыскать, лишь сняв все скрывающие их пелены. Правда обнаруживается не с помощью хитрости, холодного расчёта или каких-либо фокусов, поскольку она присутствует изначально, только в незаметном, скрытом, завуалированном виде. Привести человека к такому запрятанному или пропущенному могут одни боги. Огромное тебе спасибо, Йадамилк, за слово правды.
Я не могу по-настоящему оценить благодарность Замара, поскольку сожалею о том, что дал волю своему восторгу.
Мне нужно было помалкивать про Европу и тем более про роль Карфагена по отношению к ней. Нужно было придержать все рвущиеся из меня слова для Ганнибала, и больше ни для кого.
В тот же день до Ганнибала доходят две вести. Во-первых, прибывает кельт, который от лица Сеговага, мятежного брата Бранкорига, просит дозволения прислать послов для переговоров. Один из военачальников садится на коня, дабы найти Ганнибала и передать ему эту просьбу. Проискав довольно долго, он встречается со своим Главнокомандующим и сообщает новость. Ганнибал тут же выставляет два условия: послов должен возглавлять сам Сеговаг, и переговоры следует сохранять в тайне. Послы могут приехать с наступлением темноты. Об условиях уведомили гонца. Ганнибала он так и не увидел.
Вторая весть касается консула Сципиона и его легионов. Наши лазутчики докладывают, что консул поставил на ноги своих измаявшихся морской болезнью солдат и отправил их вверх по Родану с целью нагнать нас и нанести удар. «Неужели у него такие никудышные разведчики?» — недоумевали мы. На что он рассчитывал? Что Ганнибал решил подчинить себе Галлию (так называют эту область римляне) и мы заняты боями? А если он не пребывает в этом заблуждении, то, значит, считает, что Ганнибал попал сюда исключительно ради вербовки наёмников для Испании, куда, между прочим, первоначально был направлен сам Сципион с наказом разгромить карфагенское содружество государств. Бедняга! Ганнибалово намерение преодолеть Альпы, чтобы с севера вторгнуться в Италию и оттуда пойти на Рим, настолько отчаянно и дерзновенно, что Сципион не может даже помыслить о нём.
С наступлением сумерек к нам в гости приходит Сосил. Он обычно с удовольствием навещает нас, писцов, поскольку в штабе никто не любит слушать его речи. Он проворным шагом приближается к нам, ещё издали принимаясь жестикулировать. Из уст его извергается поток слов.
— Консулова тупость нам только на руку, — едва ли не выкрикивает он на ходу, затем останавливается и, стукнув себя по лбу, с кривой ухмылкой продолжает: — Я вам сейчас объясню положение дел. Прежде всего, кое-какие сведения о рельефе. Нам пришлось преодолевать всего один приток Родана, легионерам же придётся переправляться через три, причём один из них в это время года весьма бурный.
— Из всех рек только Родан почему-то мужского рода, — замечает Замар. — Большая редкость! Родан у нас дикий бык, который несётся вниз с альпийских высот.
Сосил некоторое время верещит, точно разволновавшаяся клушица.
— Бык Родан или не бык, ясно одно: в военных условиях римский консул — это кобель, который видит в противнике суку. Стоит ему учуять её, как он начинает дрожать от похоти и форсированным маршем ведёт своё войско туда, откуда тянет благовонным духом её течки. Место нашей «течки» на берегу Родана он, клянусь Зевсом, унюхает, после чего нужно будет обследовать его и определить, что делать дальше. Тут римским легионам придётся пометаться, выписывая параболические колена. Представьте себе: по меньшей мере четыре дня переться от моря на место «течки», дабы воочию убедиться, что там осталось, а потом столько же обратно — и всё совершенно впустую. Со стороны консула это, прямо скажем, бессмысленная трата времени, пота и крови. Голову даю на отсечение, что, оказавшись на месте, Сципион спрячет свой обнажённый меч обратно в пах и велит пехоте сделать то же самое. «Кругом... марш!» — прокричит он. След, который он может там взять, грозит страданиями и смертью не нам, а римлянам. А если консул не остережётся и поддастся своему кобелячьему инстинкту, что тогда? Не волнуйтесь! Ганнибал умеет вышибать клин клином. Помните, у кого он в своё время учился военному делу? Мы поднимемся повыше и займём горные перевалы. Засада получится отменная!
Несмотря на возбуждение, Сосил чувствовал себя прекрасно и явно наслаждался этим гармоничным сочетанием увлечённости с самообладанием.
— Хейа-хейа, дай-то бог, чтоб мы перебили хребет этому барбосу! — заключает свою тираду Сосил.
Сидящий рядом Палу шепчет мне на ухо:
— Хоть бы его рассекло пополам, от головы, изрыгающей поганые речи, до того места, откуда исходят прочие нехорошие звуки.
— Многие не прочь, чтоб поработал топор, да за топорище никто не берётся, — шёпотом же откликаюсь я.
А великий стратег Сосил продолжает воевать своими хлёсткими фразами. Решив, что с меня хватит, я встаю и, отойдя в сторонку, застываю в сомнениях, куда бы направиться. Сейчас конец сентября, но вечер по-августовски тёплый. Примерно в это время суток я обычно ощущаю, как по телу нашего войска пробегает болезненная судорога. Завершён очередной этап, однако нам ещё идти и идти. Цель каждого этапа в долгом походе — ночной привал. Он делается посередине, с недостигнутой главной целью, и маячащий впереди отрезок пути подсказывает, что поход предстоит продолжить. Сон становится не отдохновением в ночных покоях, а падением в чёрный колодец, в котором тело принимает единственное удобное положение — сжимается в комок.
Войдя в свою палатку, я снова застываю на месте, не зная, к чему применить себя. Тут меня осеняет, я достаю из-под груды одежды вощёную табличку и, сжимая её обеими руками, думаю о том, осмелюсь ли на такое. Возможно, Ганнибал разозлится и прикажет вышвырнуть меня вон. С другой стороны: ну и что? Я решаю всё же пойти в палатку, где размещается штаб, и послушать идущие там переговоры. Позвав Астера, я вручаю ему табличку и велю следовать за мной.
III
Уже совсем стемнело. Тебя приятно обволакивает теплом, прикосновение которого мягко и нежно, как у тонкой материи. Стрекочут сверчки. Их звонкое пение пронизывает ласковую тьму.
— Когда подойдём к палатке, ты с поклоном протянешь мне вощёную табличку и отступишь назад.
— Да будет так, господин.
Я ещё с минуту выжидаю у входа.
— Мне подождать тебя, господин?
— Не надо.
По словам впустившего меня внутрь солдата, кельты только что прибыли. Я быстрым взглядом окидываю обстановку и на всякий случай скашиваю его вбок: если мне попытаются указать знаком на дверь, я этого не увижу. Торопливо пройдя вперёд, я останавливаюсь перед факельщиками. Их пятеро. Чуть поодаль сидят два человека, в которых я узнаю переводчиков с кельтских наречий. Между ними находится местечко для меня. Теперь я сижу позади карфагенского военного начальства. Ганнибал, конечно, тоже тут. Как ни странно, он сидит не в середине своей пятёрки, а крайним справа. Помимо него, в переговорах участвуют военачальники Гисгон, Махарбал и Гимилькон. Посередине восседает наш главный медик Синхал. Он склонился над столом, на котором лежат папирусные свитки, письменные принадлежности и ещё какой-то предмет, которого я не узнаю. По другую сторону стола разместились на скамье семеро кельтов. Места на скамье едва хватает, поэтому семёрка сидит, тесно прижавшись друг к другу и словно составляя единую плоть. Свет факелов играет на пёстрых одеждах и волевых лицах кельтов. Тени начальства достают через стол до колен послов. Когда Ганнибал встаёт, его тень падает сначала на двоих кельтов, затем ещё на одного — одетого в белый балахон. Ганнибал подходит к груде мехов высотой в человеческий рост и, взяв одну из шуб, показывает её товарищам.
— Бобёр, — говорит он и бросает её обратно в кучу.
Кельт в белых одеждах — друид, он говорит по-гречески.
— Связывался ли сегодня с Главнокомандующим царь Бранк? — спрашивает друид.
— Нет.
Ответ даёт Синхал, и я вздрагиваю от неожиданности.
— А вчера?
— Тоже нет.
То, что ответы исходят от Синхала, наверняка не случайно, понимаю я. Вероятно, в данных обстоятельствах он призван изображать Ганнибала.
— Когда вы обещали царю свою помощь?
— Мы вообще не давали ему такого обещания. Мы лишь обещали выслушать его доводы.
— Это нам уже известно.
— В таком случае, зачем спрашивать? — осведомляется Синхал.
— Действительно, зачем? — говорит друид. — Если бы вы были нашими врагами, мы бы не сидели здесь.
— У вас есть шпионы среди приближённых Бранкорига?
— До нас доходят кое-какие сведения. У Бранкорига много недоброжелателей. Он удвоил число охранников вокруг своих палат и тем не менее боится оставаться там.
— Неужели он не доверяет охране?
— В настоящее время он не доверяет никому.
— Он собирается бежать?
— Едва ли. Скорее он хочет скрыться на несколько ночей.
— Ночей?
— Я знаю, вы исчисляете время днями, — поясняет друид. — Мы же исчисляем его ночами.
— Мы прошли походным маршем через Южную Галлию, и у нас осталось хорошее впечатление от кельтов. Однако мы торопились и не могли сколько-нибудь подробно побеседовать с ними. Что такое друид?
— Жрец.
— У всех ли кельтских племён есть друиды?
— Да.
— Много ли друидов?
— Стать друидом непросто. Полный курс обучения занимает не менее двадцати лет. Прежде всего друиду нужна хорошая память.
— Правда ли, что вы не полагаетесь на письменные тексты?
— При подготовке друидов мы стараемся не прибегать к письменным источникам. По нашему убеждению, буквы убивают слово, тогда как устная речь поддерживает в нём жизнь. Нельзя хранить знания в виде бездушных значков. Устное знание живёт и может обновляться с каждым поколением. Сберегая старое содержание, мы приспосабливаем его к новым условиям. Друид занимается отнюдь не только сакральными вещами. Мы также знаем законы и вершим правосудие. С нами советуются вожди и знать. Кроме того, мы сведущи в астрономии, летоисчислении, естественных науках и медицине. Именно мы передаём высокую культуру далее.
— Очевидно, вы очень могущественны.
— У нас есть и другие жрецы. Гутуатры, например, ведают молениями, а ватесы — это прорицатели, которые узнают волю богов и говорят, как нам следует поступать. Есть ещё...
— Известно ли друидам, сколько лет может прожить человек?
— Восемьдесят один год.
— А до какого возраста живёт олень?
— До двухсот сорока трёх лет.
— А дрозд, сколько живёт он?
— Семьсот двадцать девять лет.
— А орёл?
— Две тысячи сто восемьдесят семь лет.
— А лосось?
— Шесть тысяч пятьсот шестьдесят один год.
— А тис?
— Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три года, это воистину так!
— Тогда ты наверняка сумеешь ответить и на последний мой вопрос о природе. До какого возраста доживёт наш мир?
— До пятидесяти шести тысяч сорока девяти лет.
Ганнибал вместе с военачальниками весело смеётся над сим дознанием. Раз так, кельты тоже начинают смеяться.
— А теперь я, Ганнибал Барка, хочу спросить, что ваша сторона имеет супротив царя Бранка?
Синхал не просто изображает Ганнибала. Он даже называет себя его именем. «К чему эта шутка?» — дивлюсь я, продолжая внимательно слушать.
— Он не желает сражаться с аллоброгами, — отвечает друид.
— Почему он должен сражаться?
— Аллоброги — наши враги. Они захватили часть нашей страны. Искалеченная страна — всё равно что искалеченный царь.
— Значит, если бы князь Сеговаг получил власть, он бы начал войну?
— Да! И победил бы! — восклицает друид. — Князю Сеговагу не терпится повести наши отряды против аллоброгов.
При упоминании о Сеговаге сидевший посередине кельт сначала расплылся в улыбке, а затем втянул в рот свой пышный ус и принялся сосать его. Я догадался, что он и есть князь.
— Ты у каваров единственный друид?
— Нет. Просто в этой распре я встал на сторону Сеговага.
— Почему Бранкориг не хочет воевать?
— Он очень боится, как бы его не ранили. Куда бы ни шёл, везде окружает себя кольцом воинов. В палатах у него ратники в каждом углу.
— Он что, трус?
— Бранкориг боится смещения с трона. Раненый царь — раненая страна, здоровый царь — здоровая страна. В прошлом году у нас был неурожай и падеж скота. Царь, и только он один, отвечает за благосостояние народа.
— А в этом году как было с урожаем?
— Хорошо. Поэтому сейчас самое время выступить против аллоброгов и покончить с их вторжениями на наши земли.
— Ты хочешь сказать, что раненого царя смещают?
— Да. Так у нас повелось исстари.
— В таком случае достаточно кому-нибудь проникнуть к царю, пырнуть его в бок или же отрубить руку-ногу, и ваша распря разрешится.
— Вот Бранкориг и окружает охраной себя самого и свой дом. Мы ведь могли бы поджечь палаты, чтобы царь заживо сгорел в них. Кельты не раз поступали так с негодящим царём.
— Оттого он и усилил охрану?
— Ну да.
— Чего вы просите от нас? Чтобы мы при встрече с царём Бранком ранили его?
— Вы могли бы убить его. Самое лучшее, если он вообще будет устранён.
— Кто же за это возьмётся? Мы люди благородные.
— Пускай кто-нибудь из младших начальников выскочит и нанесёт царю удар.
— Может, поставим вашего воина среди наших солдат? Пускай он и совершит то, чего вы добиваетесь.
— Я спрошу у князя, — говорит друид.
И кельты усаживаются на коленях в кружок перед столом. Ганнибал делает нетерпеливый жест в сторону переводчиков у себя за спиной. Оба мгновенно подаются вперёд, дабы послушать, что там обсуждают кельты. Однако разобрать ничего не удаётся: послы говорят много, но очень тихо. Впрочем, совещание длится недолго, кельты встают и снова втискиваются на короткую скамью.
— И князь Сеговаг, и мы все считаем, что царя лучше будет умертвить одному из наших.
И тут происходит нечто драматическое и в высшей степени неожиданное. Ганнибал вскакивает на ноги. Какое-то мгновение он всматривается в сидящего напротив кельта, затем вдруг кидается к нему. Обеими руками схватив кельта за правое предплечье, Ганнибал стаскивает его со скамьи и изо всей силы трясёт, одновременно крича:
— Это ты князь Сеговаг!
Остальные послы, за исключением друида, тоже вскакивают и начинают бешено орать, готовые кинуться на нас. То, что они видят в следующее мгновение, пригвождает их к месту. Главнокомандующий угадал. Он действительно схватил Сеговага и теперь прижимает ладонь князя к столу. Мы не успеваем заметить удара — так быстро Ганнибал орудует коротким мечом.
Все не сводят глаз с лежащих на зелёной скатерти четырёх отрубленных пальцев.
— Синхал, позаботься о князе, — бросает Ганнибал.
Проворно дойдя до входа, он распахивает полог и кличет солдат, которые немедля наводняют палатку. Синхал достаёт бинты. Сеговаг воет от злости, его товарищи-заговорщики скрежещут зубами и плачут. От этого сюрприза их бросило в холод, и теперь послов бьёт озноб. Они трясутся в своём внезапном бессилии.
Я смотрю на Ганнибала. Лицо его вмиг стало неузнаваемо. Он постарел на десять, если не на пятнадцать лет. По нему скачут тени и пятна света, поскольку факельщики, поддавшись всеобщему настроению, сначала ринулись вперёд, затем отшатнулись в сторону. Ганнибал и сам почувствовал, что постарел, так как принялся обеими руками растирать лоб и щёки. Когда он отнял руки, то снова был молод. Ганнибал улыбнулся, лукаво и надменно.
— У тебя было больше всех золота на шее и на запястьях, — громко, чтоб все слышали, говорит он Сеговагу. — Кроме того, я увидел, что ты понимаешь греческую речь жреца.
Кельты, не скрывая своих чувств, стонут от горя и печали.
Ганнибал опять становится Ганнибалом-Победителем. Но я успел заметить в его лице и преступника и аристократа. Словно давая понять, что они не до конца сломлены, кельты принимаются рвать меха из высоких куч.
Ганнибал велит схватить послов. Лицо его недвижно, как стекло, как страшная маска цветного стекла, которую кладут карфагенянам в могилу, чтобы отпугивать демонов в царстве мёртвых. Кого отпугивать Ганнибалу? «И преступника и аристократа, — думаю я». Он относится терпимо только к Победителю и его деяниям.
IV
На следующее утро я занят тем же самым, что и накануне: ищу встречи с Ганнибалом. Мне нужно поговорить с ним о Европе. Сегодня его поймать не легче, чем вчера, поэтому лишь после долгих поисков я, наконец, вижу Главнокомандующего. Он только что слез с коня и поручает его заботам ординарца. Решительным шагом Ганнибал направляется к Родану. Я тороплюсь за ним. Поскольку мне нельзя попросить ординарца присмотреть и за Медовым Копытом, я привязываю своего жеребца к дереву и нагоняю Ганнибала. Он остановился на прибрежной полянке и, наклонившись вперёд, остриём меча рисует что-то на песке. Он делает отстраняющий жест в мою сторону.
— Молчи, — приказывает он.
Я тихонько становлюсь сзади. Он не видел меня, так что не знает, кто тут. Мне же безумно любопытно, чем он там занимается. Похоже, он использует пространство с мелким песком вместо абаки — доски, на которой математики чертят геометрические фигуры.
Ганнибал рисует чёрточки и квадраты, полумесяцы и вытянутые прямоугольники, стрелки и всё такое прочее. Мне не нужно много времени, чтобы догадаться: он изображает боевые порядки. Ганнибал сейчас в Италии и поглощён столкновением с римскими легионами на территории, которую Рим называет цизальпинской. Или он уже проник дальше, вглубь страны?
Ганнибал разгибается и думает над своим чертежом, а вскоре снова принимается рисовать. Ко мне он так и не обернулся. Моё присутствие неведомо для него. Я ведь тоже лишь предполагаю присутствие Ганнибала рядом: взгляд мой свидетельствует о его отсутствии. В сей навязчивой пустоте его отсутствия меня охватывает сильнейшее желание хотя бы отчасти показать Ганнибалу моё подлинное «я» — показать себя как эпика, пусть будущего эпика, но уже богатого замыслами. Сам я уже понял, что у меня есть многие качества, которые отвечают моим тайным амбициям. Эпик, каким я его себе представляю, какого, по-моему, требует наша эпоха, должен быть благороден по натуре, обладать большими знаниями и зрелостью, а муза должна наделить его ценными дарами: верным чувством языка, смелостью мысли, заложенной в нём внутренней силой, а также огромным терпением, не говоря уже об обострённом чутье в отношении слов и звуков, их основных свойств и способности сливать воедино мысли и образы, создавая впечатляющие, незабываемые картины. Я могу перечислить множество качеств, обязательных для современного поэта. Он должен осознавать нередко трагическое положение личности и живописать его не менее отчётливо, чем необоримость и героическую волю человека, его добродетели и достижения. Эпосу должна быть также свойственна историческая глубина, он призван прояснить для народа, а именно для финикийско-карфагенского народа, гордое представление о нём самом как носителе лучшего из всего созданного человеческим духом в области культуры, носителе мира и справедливости, искусного политического правления и так далее, одним словом: создателе державы, в которой хорошо живётся человеку.
Ганнибал стирает ногой один из рисунков. Теперь, думаю я, он обернётся ко мне. Я подготавливаюсь к этому, но Ганнибал не оборачивается. Он продолжает рисовать. Он в Италии, где, с напряжением всех талантов и способностей, и протекает сейчас его жизнь. Сейчас он Главнокомандующий в пылу битвы. Он видит вражеские манёвры и мгновенно реагирует на них непредсказуемыми тактическими мерами.
Чем может заинтересовать его Йадамилк?
Конечно, Ганнибал встречает меня приветливо и обращается в некотором смысле как с ровней, по крайней мере то недолгое время, что мы проводим наедине. Однако до сих пор он был в первую очередь поглощён натягиванием своего гигантского лука, смертельная стрела которого нацелена на Рим, а лук этот необходимо милю за милей закреплять и подкреплять где силой, где хитростью или подкупом, где внушением страха — когда оказывается недостаточно простого уважения и общего интереса. Я пока не разобрался, ради чего Ганнибал выделяет меня и проявляет снисходительность к моим откровенным высказываниям, к моим капризам и странностям — ради моей поэзии или ради моего отца. Как бы то ни было, я пока не могу предстать перед ним в облике человека и поэта, молодого, но уже снискавшего известность и славу. Я не могу обратиться к своему повелителю со словами Пиндара: «Гордая слава // За спиною смертных // Одна открывает сказителям и певцам // Бытование отошедших». Или ещё более грозно: «Люди беспамятны // Ко всему, что не тронуто цветом мудрецов, // Что не вложено в струи славословий».
Трудности, однако, не кажутся мне непреодолимыми. И Ганнибал и я «эпичны» по своей натуре. При всех сменах настроений и заботах повседневности мы оба не забываем о дальних целях. Оба не придаём значения сиюминутному, тому, что заполняет каждое мгновение жизни. Происходящее в данную минуту служит для нас лишь средством, ведущим к чему-то за пределами самого себя. Лирические выплески могут быть освежающи, но они ведут в тупик, ибо не годятся для представления нас в истинном свете. За внешними событиями скрываются смелые и разнообразные планы, которые мы лелеем, считая солью жизни. Именно благодаря сходству в описанных отношениях мы с Ганнибалом нередко, встречаясь на почве буднично-случайного, подкидываем друг другу крохи и ломтики того хлеба, частицы того весомого и значительного, капли того моря, что составляет суть нашего существования.
Хотя я стою совсем близко от Ганнибала и хочу говорить с ним о важных предметах, я по-прежнему пребываю для него в отсутствии. Он, постоянно присутствующий в моих мыслях в качестве главного героя, тем не менее полностью отсутствует для меня. Как я понимаю, он находится сейчас в Италии, где сводит на нет тактические замыслы консулов.
— Подойди сюда, — нетерпеливо роняет Ганнибал.
Он не оборачивается. Сделав несколько шагов, я встаю рядом. И молчу.
— Посмотри, что у меня тут.
Голос Ганнибала выдаёт волнение. Притопывая ногой, он размахивает над песком своим мечом. Он весь в мыслях и в абстракции. Он не видит ни Родана, ни неба, ни ползущего по песку паука. Не видел он и зайца, только что промчавшегося мимо. Он не чувствует ни своего дыхания, ни биения сердца.
— Нам нужно сделать двойной охват, — объясняет он. — Для этого надо высвободить всадников, чтобы они, зайдя справа, атаковали римскую конницу и отбросили её назад. Наша конница должна уметь отделяться от основного войска и примыкать обратно столь же быстро и изящно, как отделяется от туловища и снова прилегает к нему крыло сокола. Но прежде необходимо заманить римских пехотинцев поглубже в наши ряды. Если это будет сделано достаточно незаметно, они окажутся запертыми между двумя фалангами наших ветеранов. Лёгкая кавалерия подтягивается следом за тяжёлой... И вот, пожалуйста! Теперь легионы окружены и на них можно нападать со всех сторон. Мы перебьём всех гастатов и сокрушим все манипулы.
Я плохо улавливаю рассказ Ганнибала. Я напряжённо жду. Когда Ганнибал наконец видит меня, он не может удержаться от смеха.
— Это, оказывается, ты, Йадамилк! А я думал, это болван ординарец. Небось ничего не понял из моих объяснений?
— Может, и нет, — отвечаю я. — Но я понял, что ты начертил на песке боевые порядки и изобразил ход битвы. Рим обречён на поражение, и добиться этого будет проще, если наш Главнокомандующий хорошо подготовится. Как ты себя ощущаешь в Италии?
Ганнибал смеётся, избегая ответа. Он спрашивает:
— Тебе что-то от меня нужно. Чего ты хочешь?
Поскольку я решил взять быка за рога, в ход идёт некоторый наигрыш. Во взгляде появляется лукавая усмешка, голос звучит едва ли не обвинительно:
— Ганнибал, мне кажется, ты не знаешь, какую мы ведём войну.
— Вероятно, это знаешь ты!
— Да.
— Выкладывай!
Я мешкаю, смакуя каждое ещё не высказанное слово.
— Ну же, Йадамилк, выкладывай свою остроту, да побыстрее.
Я решил завести своего господина и повелителя в лабиринт очевидных фактов.
— Я прав, что установление мира в Оранже — дело второстепенное?
— Согласен.
— Что переход через Альпы, при всей опасности этого предприятия, тоже не главное?
— Верно.
— Что помощь кельтам из долины Пада, — бесстрашно продолжаю я, — хотя и не пустячное дело, но лишь деталь большой мозаики?
— И снова ты прав. Однако я удивлён. Куда подевалась твоя весёлость? А твоя живость — на какой случай ты бережёшь её? Я тороплюсь, Йадамилк. Я был погружен в мечты. Теперь я вынужден оторваться от них.
— Отмщение Риму тоже отнюдь не чуждо твоей конечной цели, однако и оно — лишь часть чего-то большего.
— Остановись! Твои речи и не пахнут хорошей шуткой. Твои остроумие и находчивость должны всё же перевесить смелость, которую ты взял на себя. Если они не потянут на это, тебя ждёт наказание.
Ганнибал не сердится на меня, он даже едва ли проявляет нетерпение. Просто у нас с ним такая игра. Расположение духа при ней непостоянно, как переменчивый ветер.
— Кто тебе сказал, что я сейчас претендую на остроумие? — тороплюсь я с ответом. — Ты сам, Ганнибал. Я же весьма серьёзно отношусь к тому, что собираюсь сообщить тебе.
— В таком случае, это не заметно. Я не вижу и не слышу твоей серьёзности. Ты разыгрываешь передо мной спектакль.
— Прошу тебя, Ганнибал. Запечатай мои уста, выбей у меня из головы всякие мысли.
— Ты хочешь, чтобы моё мнение совпадало с твоим?
— Объясни мне, за что мы по-настоящему воюем. Мне нужно твоё царское заверение в этом.
— Заверение в том, что у тебя уже на языке... Нет, Йадамилк, спасибочки! Придворный поэт наверняка знает нечто, о чём даже не подозревает его царское величество.
— Разве ты не сталкиваешься с подобным каждый день? Самый простой разведчик знает больше тебя, прежде чем раскроет рот и пропоёт свою весть.
— Пой же, светик! Пой, Йадамилк.
— Мне кажется, ты прекрасно знаешь, что я собираюсь сказать, — упорствую я. — Поэтому я и хочу услышать правду от тебя самого.
— Правду о войне? Но война ещё не кончена, так что и правды о ней не существует. Пока что. Впрочем, пожалуйста: в трёх днях пути от нас находятся отряды консула Сципиона. Как ты думаешь, мне подождать их? Задать им бой здесь, на берегу Родана?
— Ты не заговоришь мне зубы.
Я бью на жалость.
— Есть одна, совершенно очевидная истина, известная нам уже сейчас, — елейным голосом продолжаю я. — Ты тоже знаешь её, хотя пока ни единым словом не выдал этого. Смотри, Ганнибал! Коль скоро мои речи не могут преклонить перед тобой колена, я сделаю это сам. Выслушай же меня! Мы ведём войну в пределах собственных границ, поскольку Европа — наша законная наследная земля. Суть войны не в чём ином, как в отвоевании Европы, в её возвращении Финикии.
Ганнибал со смехом велит мне подняться с колен.
— Ты основываешь наши притязания на красивой сказке.
— Сказке?! Для тебя это всего лишь сказка?
Внезапно я вижу различие между нами, различие, которое противоречит нашему сходству. То, что необходимо поэту для возвышения его эпоса и придания ему значимости, совершенно непереносимо для человека действия, Баловня Судьбы. Ганнибал-Победитель способен побеждать, не вдаваясь в мотивы. Сказка и легенда — это вуаль, скрывающая правду о нас, людях. Миф же создаёт глубинный образ того, кто мы такие. Неужели Ганнибалу всё это чуждо? Неужели он только реалист, человек здравого смысла? Впрочем, я тоже выделан на гончарном круге рационализма. Можно на время отбросить требования эпоса. Самое важное сейчас — перетянуть Ганнибала на свою сторону.
— Разве Европа — это сказка? — озадаченным тоном спрашиваю я. — Разве это не название одной из частей света?
— Что ты можешь предъявить, кроме имени, Йадамилк?
— Имя вещи влияет на неё, — тихо, но твёрдо произношу я.
Ганнибал не сводит с меня улыбающихся глаз. Я не опускаю взгляда и упрямо смотрю ему на переносицу.
— Das Weib ist so artistisch. Le poete aussi[132]. Ты, Йадамилк, тоже артистичен.
Не пора ли мне уступить? Может, Ганнибалу и не надо знать то, до чего додумался я? Может, его победа не зависит от знания истины? Человек действия, вероятно, утрачивает часть своей энергии, если его посвятить в подоплёку поступков. Я хватаю Ганнибала за руку, вернее, дотрагиваюсь до неё большим и указательным пальцами.
— Почитай Платонова «Кратила», — прошу я. — Или, ещё лучше, соображения о языке моего наставника Каллиграфа.
— Прикажешь прервать поход, велеть поставить палатку, залечь туда и приняться за чтение? Ты это хочешь сказать?
— Нет, и перестань надо мной подшучивать. Выслушай в сжатом виде то, что я познал в Александрии. Язык — не человеческое изобретение, а создание самой природы. Имя являет нам вещь, раскрывая её и делая доступной человеку. Фисис, природа, а не человеческая психе, творят имена и язык. Название «Европа» обнажает для нас действительную Европу. А действительность такова, что Европа принадлежит Карфагену. Сотворение слов — дело весьма важное, утверждает Сократ. Слова дают нам в руки подлинную сущность вещей. Тот, кто владеет словами, владеет и вещами, он может действовать в отношении реального мира и представлять его в новом свете. Слова не просто отражают суть реального, говорит Каллиграф, они также носители этой сути, в общем, язык создаёт видимую действительность и олицетворяет мир вещей.
Какие чудесные мгновения, какое изумительное место! Однако я не вижу ничего: ни Ганнибала, ни природы, ни войска, беспрерывным маршем движущегося на север. Из всего этого я не замечаю ни одного выразительного образа, ни одного предмета или подробности. Не замечаю я и того, что, вероятно, стою, опустив глаза долу... нет, скорее наоборот, с широко открытыми глазами. Внутри у меня — безмерное счастье. Мои глаза призваны не видеть те или иные вещи, а свободно излучать огонь и пламень моей радости. В груди у меня возникает песня, мой ненаписанный эпос — душа моей души и движущая сила моей мысли — обретает размах и глубину. Мне нужна сказочная Европа и все связанные с ней легенды. Правдой моего эпоса станет правда мифа. Помимо всего прочего, я уже дал рациональное обоснование законности карфагенского похода. Мы имеем право находиться там, где мы находимся. Так говорит миф. Все наши военные действия обоснованны. Крупные и мелкие, наступательные и оборонительные, они все законны, ибо Европа — отнятая у нас противником наследная земля. Нашу кампанию спровоцировал Рим, объявивший нам войну. Но мы всё равно рано или поздно приступили бы к действиям, потому что Европа — наша! Об этом вопиет сама земля.
— Нам принадлежат не только Рим или Италия, — запинаясь, шепчу я. — Не только острова Средиземноморья или Иберия. Карфагену принадлежат не только нехоженые земли кельтов, но и Эллада. Да, даже Эллада — наша.
— Надеюсь, Македония станет нашим союзником, — из какой-то бесконечной дали доносится до меня голос Ганнибала.
Он медленно приближается, делается громче.
— Ты говоришь не как полководец и не как воин, Йадамилк. Ты говоришь как вдохновенный поэт. Хорошо. Пусть. Продолжай в том же духе, но, пожалуйста, про себя. Поверь мне, когда ты со временем будешь сидеть в отцовском доме либо наслаждаться прелестями сельской жизни на Прекрасном мысе или в каком-нибудь другом месте, куда тебе захочется забраться после окончания войны и заключения мира, мира, который до неузнаваемости изменит весь земной шар, тогда, Йадамилк, ты вспомнишь эту минуту, а также всю череду мгновений, пережитых тобой в походе на Рим; покоясь в объятиях мира, ты заново обретёшь пережитое и сможешь воспеть всё, что тебе будет угодно. Поэзия обычно не удовлетворяется ни ещё не свершённым, ни сиюминутным. Её интересует значительное и состоявшееся. Она взмывает туда, куда её тянет могучая сила жизненного преодоления. Любое искусство влечёт к себе то, что побеждает и будет побеждать. Оно чурается всего слабого и нежизнеспособного, разрушающегося и распадающегося, любых проявлений некрасивого и уродливого, присущей разложению отталкивающей способности к постепенному умервщлению самого себя — всё это ни в коем случае не может стать предметом искусства. Поэзия бывает обращена к человеку радости, к тому, кто смел и в то же время игрив... да-да, шутлив и игрив, ибо на земле царит мир, которого добился победоносец и которого не может не ценить народ, посему человек наслаждается плодами своего непоколебимого мужества, посему он украшает своё тело изящными побрякушками и подкрепляет своё чувство собственного достоинства гимнами и эпическими песнями — ведь всё это даёт понять окружающим и убеждает его самого, что сей победоносный народ готов не только продолжать, но и наращивать свою борьбу за достижение идеалов красоты и справедливости.
От напористой Ганнибаловой речи сам я начинаю спотыкаться — когда вновь обретаю дар слова.
— Значит, ты хочешь сказать, что Европа вовсе не наша?
— Я этого не утверждал, — отвечает он.
— Ты отвергаешь то, что назвал сказкой о Европе?
— Я сейчас не думаю ни о ней, ни о каких-либо ещё сказках. Я думаю о нашем войске, о царе Бранке, об Альпах и долине Пада, о том, что намерены делать и уже делают римские консулы, о том, как мне одеть и накормить свою армию.
— А само название Европы, — упорствую я. — Ты ведь Баркид, и уже это имя придаёт твоим деяниям особый смысл и основательность. Благодаря твоему имени и произошло всё случившееся до сих пор, благодаря ему мы находимся сейчас здесь, на кельтской земле, и пойдём туда, куда ты нам укажешь.
— Возможно, я найду применение твоей истории про Европу, — признает Ганнибал. — Во время переговоров, при определённых условиях... когда допустимо говорить с позиции силы. Когда можно прибегнуть к картинному доводу, к риторическому обоснованию. Надеюсь, ты будешь тогда рядом со мной. Нет, лучше ты будешь сидеть дома, в Карфагене, и сочинять с помощью Музы. Посмотри на Родан, Йадамилк, и ты поймёшь меня.
Я смотрю.
— Что ты видишь? — спрашивает Ганнибал.
— Родан, — резонно отвечаю я.
— Ты уверен?
— С чего бы мне сомневаться в этом?
— С того, что ты видишь лишь кусочек реки. Так же обстоит дело с нами, так же и со мной. Наш поход отнюдь не завершён. Мы пока что дошли только до Родана. Рим ещё не побеждён, мы не преодолели Альпы, мы даже ещё не видели этих Альп, через которые нам нужно перевалить, сохранив себя, иначе никакой войны с Римом не будет. Сейчас моя тактика заключается в избегании Сципионовых легионов. Конечно, я мог бы приказать остановиться. Конечно, мы могли бы разгромить преследующие нас отряды. Но я не хочу этого. Я хочу сохранить в целости свою пехоту. Я не хочу никого терять в ненужных сражениях, поскольку не намерен нанимать солдат в этих краях.
Я молчу. Я держу свои мысли при себе. Я знаю, что Ганнибал выказал мне большую дружбу. Он любит меня. Не как отец, а скорее как старший товарищ. Иначе, чем люди, которых я привлекаю своей миловидностью и небольшим ростом. Не то чтобы я был совсем коротышкой или карликом. Я просто меньше средних размеров. Говорят, у меня мелкие черты лица — рот, подбородок, уши. Глаза же большие, лоб высокий, нос довольно солидный. Нет, Ганнибал обращается со мной не по-отечески. У него уже несколько лет не было времени учиться. Он не знаком с последними достижениями естественной науки и филологии. Да и когда ему было успеть? Он начальствует над огромными полчищами и до сих пор правит значительной частью Карфагенской державы. Мне ещё не раз представится возможность побеседовать с ним. Ясно, что он прислушивается ко мне. Мало-помалу я сумею изложить свои воззрения на Европу и на единственный способ установить длительный мир.
Пока мы стоим рядом, происходит нечто неслыханное, нечто совершенно неожиданное. Ганнибал протягивает ко мне руку — резко и энергично, но как-то неопределённо, так что я не могу предугадать, что будет дальше. По всей вероятности, я успеваю испугаться и принять грустный или мученический вид. Однако вскоре этот резкий жест предстаёт в моих глазах едва ли не как проявление нежности, во всяком случае, заботы и защиты. Ганнибал кладёт ладонь мне на шею. Он не ласкает меня, а передаёт мне часть своей силы. Я откидываю в сторону притворство.
— Я очень ценю тебя, Йадамилк, я привязан к тебе, ты мне симпатичен. Война похожа на реку, текущую вспять, к своим истокам, чтобы избрать оттуда новый путь, новое русло. Посему не забегай вперёд, живи миг за мигом, поступок за поступком. В данную минуту я как раз могу дать тебе конкретное поручение. Ты же просил давать тебе конкретные задания. Кельты — народ варварский. Нельзя сказать, что это неисправимо и что так будет всегда, но теперь это так. И всё же кельты исстари обладают одним качеством, которым я восхищаюсь. Их воины не страшатся смерти. Других солдат на поле брани охватывает ужас. Во всяком случае, их начинает трясти, когда они в схватке неизбежно оказываются лицом к лицу со смертью. Эти варвары кельты ведут себя иначе. Они идут на смерть торжествующе и, горя восторгом ярости, бьются до последнего. Не знаю, почему это так, однако очень хотел бы выяснить. Должна быть какая-то причина. Вот и попытайся узнать её, Йадамилк, когда мы придём в Оранж.
— С удовольствием. С превеликим удовольствием. Но ты знаешь, что для меня кельтский — всё равно что абдеритский.
— Возьми в помощь Бальтанда. Он около года проходил обучение у друидов.
— Ну да! Он даже не кельт.
— По матери он кельт.
— Почему бы тебе не спросить прямо у него?
— Я обычно хочу иметь сведения с разных сторон. Такие воины, как кельты, бесценный материал для полководца. Их всегда можно послать в наступление в первых рядах.
— Ты только что сказал, что не собираешься нанимать в войско новых кельтов.
— Сейчас, по эту сторону Альп. А потом собираюсь. Мне понадобится много пехотинцев, готовых идти на смерть и к тому же делающих это с яростной радостью.
Ганнибал снимает тёплую ладонь с моей шеи.
— Поможет мне Бальтанд или нет, но я попробую, — обещаю я.
— Приложи все усилия, Йадамилк. Это поручение не отнимет у тебя ни поэзии, ни Европы.
Я вижу по Ганнибалу, что наша беседа подошла к концу. Лицо его застывает, он весь как-то подтягивается. «Что происходит?» — пытаюсь я понять. Ганнибал отстраняется от меня в душевном плане, словно отодвигает на некоторое расстояние. Это присуще Ганнибалу-Победителю — держать дистанцию между собой и всеми прочими.
V
Вечером меня ждёт тяжкое испытание. За минуту до него я чувствовал себя прекрасно. Я намеревался разобрать свою одежду, и тут случился этот приступ. На беспокойство, ещё не затронувшее разума, прежде всего, отзывается моё тело. Начинают дрожать руки, от кончиков пальцев до самых плеч. Я заставляю их биться в грудь. Для овладения руками приходится призвать на помощь все имеющиеся у меня силы. И то получается лишь несколько слабых ударов. Трясущиеся руки сами собой опускаются и виснут по бокам. Трясутся не только они. Содрогается всё тело. Руки сжимаются в кулаки, их начинает сводить. Почему? Я не понимаю, что со мной творится. Меня одолевает нечто, чему я не в состоянии противостоять. Я принимаюсь плакать, сначала беззвучно, затем чуть слышно и, наконец, громко. В голове у меня нет никаких поводов для грусти и печали, однако сердце бешено колотится. Я пытаюсь вызвать в памяти образ Ганнибала и его руки, лежащей у меня на шее. Не получается. Когда я прикладываю на это место собственную ладонь, она так дрожит и подскакивает, что тут же срывается вниз.
Почему я рыдаю и плачу? Мною движет не отчаяние, а нечто более страшное. Почему мне хочется кричать в голос и звать на помощь? Я утратил все качества, которыми, как мне казалось, обладал.
Такое случается со мной не впервые. У меня ещё в детстве были подобные приступы. Я бросаюсь — вернее, меня бросает — на постель, где я извиваюсь, точно червяк. В наступившем затмении я отдалённо вспоминаю, что всегда знал причину припадков. Но поначалу я не могу нащупать ни малейшего повода. Так оно всегда и было. Я никогда, ни единого раза не сохранял в затмении память о причинах. Отец видел одолевавшие меня муки. И с горькой усмешкой удалялся. Он отбивался, так сказать, руками и ногами и, отрешившись от меня, исчезал. Мной занималась мать, а в её отсутствие меня брала на колени любимая сестра Анна, которая гладила мой лоб, пока наваждение не отступало и я вновь не становился самим собой.
Теперь же, как не раз прежде, мне на подмогу приходит верный слуга. Эта вставшая стоймя тень, этот кусочек ночи большим чёрным шаром подкатывается ко мне и берёт меня на колени. Астер осторожно поглаживает мне голову, плечи и грудь, а когда припадок потихоньку проходит, начинает над самым лицом мурлыкать своё нежное «а-а-а», своё мелодичное «а-а-а», своё врачующее «ва-а-а-на-а-а», обладающее способностью вывеивать из моего замутнённого рассудка мякину, остья и прочие плевелы. Мать всегда по окончании приступа обнимала меня, баюкала, носила в объятиях по комнате. Она никогда не расспрашивала меня, не заставляла стыдиться дурацких объяснений. Мой слуга столь же тактичен. Когда замирают всхлипыванья и успокаивается тряска тела, Астер, не проронив ни слова, предупредительно удаляется в сторону.
Описанное мной затмение лишь на посторонний взгляд кажется пыткой. Я не ощущаю его ни как наказание, ни как унижение. Оно посылается вместилищу моего разума скорее для облегчения... для того, чтобы избавить меня от бурного внутреннего конфликта, когда мои противоречия обостряются настолько, что их столкновение неизбежно. Боги хотят охранить меня от этого разлада в ту минуту, когда он выходит на поверхность и грозит расщеплением личности. Вот почему моя плоть испытывает сии муки.
Всё дело в том, что я одновременно богат и беден, горд и унижен, тянусь к признанию и общности с другими и вполне доволен пребыванием в одиночестве и незаметности. Жизнь моя содержит в себе два потока, текущих в противоположных направлениях. Я в одно и то же время молод и стар, разговорчив и сдержан, сверхзрел и недостаточно взросел. Я бы хотел быть только робким и застенчивым, неуклюжим и неловким. К сожалению, я никогда не бываю однозначным. Я представляю собой противоположность всему, что мог бы сказать о себе. И это мешает тому состоянию готовности, которого требует от поэта Муза.
Чаще всего мне не хватает тишины, глубокого безмолвия и покоя горного озера, восстановленных сил, неожиданной мощи... Пройдись по берегам этого вознесённого к горным вершинам озера безмолвия — и ты не почувствуешь ни напряжения, ни драматизма его внутренней жизни. Ты увидишь лишь безмятежность, покой, отдохновение, улыбчивую благорасположенность, очарование и довольство собой, разглядишь внушающую уверенность глубину, гладкость не смущаемой ветром поверхности и невесомые отражения горных массивов.
Однако рано или поздно ты доберёшься до места, где всё выглядит иначе и перед твоими глазами предстанет правда о сем безмятежном озере. Твои чувства мгновенно оживятся. Ты увидишь, что вода начинает устремляться в одном направлении, увидишь, как она кружится, пляшет и выделывает кульбиты. Дойдя до водопада, ты увидишь низвергающуюся воду и поймёшь, что озеро безмолвия — это озеро могущества и звучного голоса.
Именно в таком виде и хочет заставать поэта Муза — в безмолвии и покое. Чтобы по данному ею знаку озеро выходило из берегов и безмолвие обращалось бы в звуки и песни, а хариты[133] бок о бок с Музой одаривали бы певца своими чудесными подарками.
Открытие Европы обогатило меня. Как реальная Европа, так и миф о ней дают мне основу, необходимую для создания эпоса. Теперь я гораздо увереннее могу ткать свой стих, песнь за песней вплетая в него уток. Мне уже не важен Рим, мне уже не нужна Троя. Ни тот, ни другая не годятся на главные роли в моём эпосе. Разве что на второстепенные. Зачем мне привязываться к Энею и бахвальству элимов? Почему должно быть столь благородным происхождение от троянцев? Ну да, если ты живёшь на Сицилии, по соседству с греками и другими народами, хочется придать себе побольше уважения, попытаться соответствовать. Аристократические предки призваны восполнить то, чего не хватает тебе самому. А Рим, бедный, не имеющий истории Рим с его сыновьями волчицы... Да этот народ с самого начала запятнан позорным братоубийством, этим мужикам и выскочкам нужно прошлое куда более почётное, нежели то, что могут предложить троянцы. Подумать только, эти смехотворные близнецы решают основать город, но не могут договориться ни о чём: ни на каком холме он будет стоять, ни как он будет называться, ни кто им будет править. Поскольку ни у одного из братьев нет права старшинства, спор о правителе призваны разрешить боги, однако близнецы не могут прийти к согласию в истолковании божественных знамений.
Боги же дают следующий ответ: сначала Рем со своего наблюдательного пункта на Авентине видит шесть коршунов, затем Ромул, который следит с Палатина[134], видит скользящих в небе двенадцать коршунов. «Что боги хотят сказать этими знаками?» — с прежней растерянностью спрашивают себя братья. Что считать решающим: то, какой знак был подан раньше, или удвоенное число птиц во втором случае? Каждый из близнецов стоит на своём. Они расходятся по своим холмам и дуются в одиночку. Тут Рему приходит в голову позлить брата, и он перескакивает через только что возведённую тем стену. Не стерпев обиды, Ромул в гневе убивает Рема и становится единоличным правителем города, который получает его имя, Рома. Устраивается празднество по поводу основания Рима. Можно начинать новое летоисчисление. Ab urbe condita[135].
Риму есть все резоны изображать себя одним из достойнейших не только в настоящем, но и в прошлом, ибо так подобает городу, претендующему на роль центра и омфала (то бишь пупа) Италии и всего Средиземноморья. Карфагену не требуется славить себя. Он прославлен изначально. Его наследная земля — Европа. Европа — это финикийский континент, и она стала им в незапамятные времена. Само имя Европы стоит надо всеми и включает в себя остальные имена, которые носят различные её регионы, простирающиеся с востока на запад, от узкого Геллеспонта и до самых Столпов, от солнечного юга до тёмного севера.
— Дисциплина, discipuli, — шепчу я.
Астер мгновенно понимает, чего я хочу, и идёт за тем, кого он зовёт «Дисциплина, discipuli», иными словами, за нашим учителем латыни, известным также под именем Малум Пуникум. Замар всегда призывает нас к тишине этаким шутливым тоном — впрочем, он так же обращается к нам и с более серьёзными речами. Его положение среди нас нетвёрдо и зависимо, поэтому он старается, с одной стороны, подтянуться перед нами, а с другой — не выпячивать себя. Он не приобрёл в этой жизни ничего, кроме знаний о Риме и Карфагене, а также ещё более основательных познаний об Испании. Бедность не тяготит его. Скорее его тяготят крупная голова, волнистые волосы цвета амбросии и округлые пухлые телеса. К тому же он высок, но исключительно за счёт длинных и стройных ног, которые он называет «мои petioli», то есть ножки-плодоножки. Так он подтверждает своё прозвище, иногда даже позволяя себе причитать: «Malo malo malo malo», что на языке более развитом, нежели язык римлян, будет звучать примерно следующим образом: «Я предпочёл бы яблонею стать, чем без удачи век свой коротать».
От лба до подбородка Замар выглядит наивным ребёнком. Он одновременно самокритичен и тщеславен. Он жаждет похвал, однако принимает только комплименты по поводу мелочей, например, своих волос цвета амбросии или раскрытия им тонкостей грамматики, которые кажутся нам, его ученикам, удивительными. Он давно признал приговор, вынесенный ему богами, и смирился с судьбой. К своему телу Замар относится с ненавистью, однако он не может отрицать ценности отдельных «черт и чёрточек» характера и бренной плоти, которые посему вызывают у него восхищение.
Мне надо набраться на ближайшее время терпимости и снисходительности по отношению к себе — тех качеств, что помогают примириться с предстоящей дорогой на назначенную встречу. Ведь путь наш может лежать по совершенно неинтересной и к. тому же труднопроходимой местности, занимать много времени. Но если мы хотим, чтобы свидание состоялось, путь нужно преодолеть. Так и я сейчас должен потерпеть человека, в шкуре которого живу, дабы со временем подтянуться на следующую ступень.
Когда приходит вызванный мной Замар и усаживается у меня в палатке и я угощаю его вином, вдруг наступает минута, когда я, честно признаться, не знаю, что ему сказать. Я осторожно намекаю, что лишь недавно очнулся от тяжкой муки, которую насылают разрушительные силы, пытаясь сломить нас изнутри.
— Да-да, поэты — они такие, — участливо вздыхает Замар, делая большой глоток вина.
Я поясняю, что, вероятно, ещё не совсем пришёл в себя.
— Вполне понятно, более чем понятно, — отзывается Замар.
— У меня может случиться новый приступ, — предупреждаю я.
— Бедный поэт, бедный поэт, — сокрушается мой гость, отпивая ещё.
Я и раньше чувствовал исходящий от него сильный аромат и давно знаю, что Замар тратит большую часть своих скудных средств на духи и притирания.
— Сегодня твои глаза кажутся мне не просто синими, а с фиалковым отливом.
Это я пытаюсь привести его в хорошее расположение духа.
— Нуда? — с благодарностью в голосе переспрашивает Замар. — Очень мило с твоей стороны. Очень даже великодушно.
— Каждый человек распространяет вокруг себя определённую ауру, — продолжаю я. — Естественно, она время от времени меняется. Угадай, чем я начинаю дышать в твоём присутствии.
Замар машет руками, раскачивая тяжёлую чашу.
— Что ты, что ты, это невозможно, — полный ожидания, выдавливает из себя он.
— Тогда я сам скажу. И не забудь, что ты пришёл сюда по моей просьбе, ибо мне сейчас необходимо благотворное присутствие человека, который бы внушал спокойствие и уверенность. Смотри, я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. И чувствую я, представь себе, запах виолария, заботливо взращённой моей матерью клумбы с фиалками. И этот аромат детства на Прекрасном мысу внушаешь мне ты.
— Ох уж эти поэты, эти восхитительные поэты, — едва ли не напевно возглашает мой гость.
Однако я говорю правду. Я действительно погружаюсь в фиолетово-лиловую атмосферу, в которой мысль моя способна перемещаться от чудеснейших воспоминаний детства к мраку, населённому демонами. Жизнь потенциального эпика подразумевает очень долгое разрешение от бремени. Сомнение для поэта столь же типично, как уверенность, отчаяние столь же объяснимо, как состояние восторга. Для будущего поэта мир солнца, неиссякаемый источник света Аполлона и Гелиоса слит воедино с подземными силами, с Аидовым миром теней и призраков. Счастье соседствует в его груди с тоской, здоровье и безумная радость — с болезнью и мукой. Разрешаясь от эпического бремени, он живёт в непрестанной агонии... да-да, уверяю тебя: в чудовищной борьбе со смертью. Каждую минуту он готов разразиться песнью, ибо то и дело сталкивается с эпическим материалом; и каждую минуту он прикусывает язык, ибо время его ещё не пришло. Ткацкий станок эпоса срабатывает впустую. Разноцветное полотно распадается на куски. Мыслившаяся поэтом роскошная языковая ткань рассеивается и развеивается, словно мираж. И так изо дня в день. А дни складываются в годы. Эпик идёт к зрелости, и этот процесс созревания переполняет его до краёв — чтобы мгновенно смениться своей противоположностью, периодом нужды и бедности, периодом поэтического голодания.
— Ты слышишь меня, Виолариум?
— Конечно, Грекулус, я слышу твою чудесную песню. Ты меня едва ли не довёл до слёз.
Я обрадовался, что Замар назвал меня Гречонком, поскольку он это делает лишь в исключительных случаях. После некоторой паузы я решился затронуть главный вопрос:
— Как может карфагенянин стать великим поэтом?
— Ему нужно быть, по крайней мере, не менее одарённым, чем ты, — ответил Замар.
— Но наша культура — это некий гибрид. Не знаю, что в ней перевешивает: заимствования из Эллады, или наследие Карфагена, или, если уж без обиняков, наследие Финикии. Кто я — эллинист или законный сын благородной Финикийской державы?
— Спокойно, милый Грекулус, спокойно. Заимствования из Эллады — это в основном наследие прошлого. И леопарду никогда не переменить своих пятен. Мне, десятилетиями жившему в Риме, это известно лучше других.
— Тебе наверняка известно и то, что поэт — натура двойственная. Он искуситель, одержимый тем, что греки называют эпафродитон. Но в то же время он и фармакос, козёл отпущения, который излечивает свой народ, очищает его, когда тот зверски расправляется с ним.
Малум Пуникум стонет и снова хватается за чашу.
— Сходное слово фармакон имеет два значения: лекарство и смертельная отрава, — говорит он.
— А знаешь ли ты о том, как обращаются с «фармакосом»?
— Немножко. Ему приходится туго. Я понял это сразу же, как впервые увидел тебя. Однако сначала, бедный поэт, будь добр, плесни мне ещё твоего вина.
— В Абдере его забивают камнями, — жалобно продолжаю я.
— В Массилии такого человека сбрасывают с утёса, предварительно целый год закармливая его.
— В «фармакосы» могут выбрать сумасшедшего, урода, горбуна или непристойного оголителя себя, который в каких-нибудь проулках и закоулках, а то и прямо на рыночной площади показывает необоримость и неуправляемость своих инстинктов. Такого калеку или страдальца с повышенной потенцией объявляют «фармакосом», после чего его начинают обхаживать и, как ты справедливо выразился, закармливать, до отвала пичкая хлебом, сыром и сушёными смоквами. Toujours perdrix![136] Ну почему, почему всегда куропатка или смоквы? Да потому, что нужно поднять его сексуальную силу до такого уровня, какой ему ещё и не снился. И вот в него пихают разные волшебные средства, которые должны придать ему необычайную способность к воспроизведению потомства. А потом наступает праздник плодородия, и тут...
— Хватит, дорогой Йадамилк, не надо больше. Я просто не могу больше слушать. У меня слишком развито воображение.
— Что ж тогда говорить о поэте? Например, обо мне. Какие, ты думаешь, ощущения всё это вызывает у меня?
— Когда ты так возбуждён, тебе нужно быть рядом со своей избранницей или избранником. Ты ведь ещё и эпафродитос, то есть любезный Афродите! Можно ли представить себе что-либо более прекрасное, чудесное, совершенное? Ты хорош собой, очарователен, пленителен. Не сойти мне с этого места, если сие не так, хотя, конечно, не мне судить...
— Хуже всего то, что я — фармакос. Тут важен исход дела. Да, у меня повышенная потенция. Но как ты думаешь, долго ли это будет продолжаться? Пока я не докажу свою способность к воспроизводству и не истощу себя до последней капли... то бишь до последнего ямба, дактиля или, скажем, гексаметра? Свершив своё, я буду «выжат». И тогда музы изничтожат меня. Они будут стегать мой «фаллос» agnus castus, то есть непорочным агнцем, или просто-напросто прутняком. А что мне запихнут в рот, чтобы превратить его в стариковскую пасть, не способную ни кусать, ни жалить? Ты сам знаешь что, Виолариум. Мне останутся и перец, которым умерщвляли плоть аскеты, и камни, которыми побивали весталок. А затем меня поведут сжигать на костре из лесных деревьев, меня, взращённое на культурной почве древо эпоса с его непревзойдённым ароматом... Прах мой будет высыпан в воду.
— Почему ты всё время выбираешь самые страшные примеры, Йадамилк? В других местах придерживаются более мягких обычаев. Возьмём город, где жил Гесиод. Там хватают раба, а вовсе не поэта и тем более не великого поэта, хотя, конечно, его хлещут непорочным агнцем и выгоняют за городские стены, и конечно же толпа кричит: «Прочь, голод! Даёшь сытость и богатство!»
— Я говорил образно, — шепчу я.
— Ах, я совсем забыл. Вот видишь, моё воображение вечно заводит меня не туда.
— Но мои образы правдивы! — возглашаю я.
— Бедный поэт, — вздыхает Малум Пуни кум. — Я могу лишь снова и снова повторять эти слова. Бедный поэт!
Я закрываю глаза и наслаждаюсь своей болью, как обычно человек делает во время представления трагедии. Ещё я думаю: «Некоторые муки проще раскрывать перед наивностью и невинностью, как некоторым видам страсти лучше предаваться с хмельными женщинами или бессловесными животными».
— А теперь расскажи про нашу финикийскую царевну Европу, — прошу я Замара. — Только ещё одно слово про то, что приходится терпеть поэту, — торопливо прибавляю я. — Платон вовсе изгоняет его из государства.
— Платон? Кто такой Платон? — вырвалось у изрядно подвыпившего Малума Пуникума.
И всё же он сумел рассказать мне про Европу и её трёхцветного быка. Я слушаю точно зачарованный, хотя меня вновь охватывает сладостная боль, связанная с желанием стать великим эпическим творцом. Поэт бывает окружён непрестанно изменяющейся мистерией, таинственной атмосферой, в которой ослепительный свет странным образом чередуется то с сиянием утренней зари, то с кромешным мраком ночи.
— Родоначальница европейцев была дочерью царя Агенора, — начинает свой рассказ Замар. — Агенор был правителем Тира, и семье этого монарха сопутствовало счастье и благоденствие, пока однажды Зевс не увидел сию прекрасную девушку, когда она собирала цветы на берегу моря. Тогда Зевс принял облик быка, дабы незаметно от своей ревнивой супруги приблизиться к вожделенной девице. Это был красавец бык с белоснежным лбом и рогами из драгоценных камней. Дыхание его благоухало шафраном. Восхищённая Европа принялась осторожно играть с ним. Обнаружив, что бык совершенно безобиден, она осмелела и украсила его цветочными гирляндами. Затем Европа села на быка верхом. Он игриво побегал с ней по лугам и вдоль кромки моря. Их видели стиравшие женщины, которые пришли в восторг от этого великолепного зрелища. Внезапно бык свернул в воду и поплыл в открытое море. Женщины замерли на месте. Когда бык с Европой на спине скрылся из виду, они помчались к царю и поведали ему об увиденном.
— Продолжай, Замар. Это ведь не конец!
— Я только сделаю ещё глоточек.
— Хорошо. Миф о Европе очень интересный.
— Зевс перевёз девушку на Крит, где и овладел ею, одни говорят — в пещере на горе Дикте, другие — в кроне могучего дерева, однако в последнем случае бык уже превратился в орла. Как бы там ни было дело, Зевс одарил свою невесту роскошными, чудотворными подарками. Европа же родила Зевсу троих видных сыновей. Первый, Минос, стал царём Крита, второй, Радамант, — Кикладских островов; впоследствии оба были судьями в Аиде. Третьего сына звали Сарпедоном из Ликии.
— Не прерывайся. Дальше, дальше!
— У меня пересыхает во рту. Вот сделаю пару глотков и продолжу.
— Расскажи теперь о братьях Европы.
— Конечно же, я собирался рассказать о четырёх сыновьях, которых несчастный царь Агенор послал на поиски Европы.
— Ну так давай рассказывай!
— Прежде всего следует упомянуть, что ни одному из братьев не удалось найти сестру. Их водили за нос, и им всячески мешали, в том числе дельфийская пифия[137], которая прекрасно знала, что в эту историю замешан Зевс, а потому нарочно обманула их с ответом. Тем не менее все братья стали знаменитостями.
— Скажи не «все братья», а «все финикийские принцы».
— Ты уже сам сказал это.
— Не забудь на будущее. Их финикийское происхождение очень важно, хотя и не играет решающей роли, как в случае с Европой.
— Отныне я буду всегда подчёркивать, что они финикияне, поскольку так оно и есть.
— Отлично. А теперь продолжай.
— Брат Феникс совершил путешествие через Ливию в Карфаген, а оттуда вернулся в Ливан, жители которого с тех пор стали в его честь называть себя финикиянами. Так гласит греческое предание.
— А Килик?
— Он осел в Малой Азии и дал своё имя киликийцам. Европы он тоже не нашёл.
— Но и это ещё не конец!
— Дай мне спокойно выпить.
— Пей.
— Третий сын, Тасос, отправился на Олимп и воздвиг там статую Мелькарту, которого греки называли «тирским Гераклом». Одновременно он колонизировал остров Тасос, получивший его имя. На острове находятся богатые золотые прииски. По утверждению Геродота[138], в его время прииски ещё принадлежали финикиянам. А сведения Геродота всегда достоверны!
— Вполне. Теперь ты уже дошёл до четвёртого.
— Да, до принца Кадма. Он поплыл на Родос и построил там храм. Затем он отправился в Дельфы, где оракул, как уже было сказано, обманул его. А может, его обманули жрецы, которые толковали слова пифии. Кадм последовал лживому Совету и двинулся в Беотию. Прибыв к некоему месту, на котором впоследствии выросли Фивы, он и там затеял большое строительство. Случилось так, что в тех краях обитал ужасный дракон. Дракон умертвил спутников Кадма, но Кадм, в свою очередь, убил дракона. Затем он посадил драконовы зубы в землю. Оказалось, он посеял раздор, ибо из земли выросли свирепые воины, которые тут же начали уничтожать друг друга. Пятеро воинов всё же уцелело, из них Кадм создал себе новую свиту, которая помогла ему завершить постройку огромного города. Вот как случилось, что финикийский принц, отправившийся на поиски своей сестры Европы, основал один из самых прославленных эллинистических городов, Фивы, в которых впоследствии Геракл...
— Всегда устремлявшийся на помощь полубог...
— И Дионис...
— Полный бог Дионис, этот певец жизни, божественный юноша, который приносит с собой зелёную ветвь и преображает людей: бой тимпанов омрачает разум, а фригийская флейта соблазняет на безумства. При всей силе его рогов тысячи женских рук заставляют быка опуститься на колени.
— На этом миф о Европе и безмерных заслугах финикиян перед Грецией кончается.
— Нет. Ты должен упомянуть ещё, по крайней мере, два имени.
— Да я сам уже кончаюсь, — объясняет Замар.
— В Фивах родились Эдип и Антигона[139], — приходится мне сказать самому.
Замар пытается встать, но не может. Он проклинает свои тонкие ножки и откормленное тело. Мне удаётся поднять его и выпроводить из палатки.
— Я провожу тебя к тебе, — говорю я.
— Ты хочешь сказать «провожу тебя домой», — бормочет он.
— Ты называешь своё место в общей палатке домом?
— Нет, я сказал это, просто чтобы не расплакаться.
— Плачь на здоровье.
Замар плачет. Он добирается до ночлега. Я возвращаюсь к себе с мыслями об огромном значении Финикии для Греции и для всего мира. Я добился своего — забыл о тяготах и препятствиях, стоящих на моём пути к цели.
VI
Далеко не сразу я осознаю, что зря нахожусь там, где я есть, — во мраке ночи, на берегу могучего Родана. Не должен был приходить сюда и чудаковатый проводник из долины Пада. То, что мы собираемся свершить, было бы лучше проделать в наше отсутствие. Во всяком случае, мне следовало отказаться от встречи с ним тут, на этом месте.
Человека, которого я жду, зовут Дивный Топор. Он отличается настырностью и назойливостью в сочетании с увёртливостью и скрытностью. Из-за наглой усмешки тебя охватывает недоверие к сквозящим в его взгляде кротости и униженности. Когда ему удаётся до неловкости тесно приблизить своё тело к моему, он тут же отворачивается от меня. Уверяю вас, что подобный жест не уменьшает моего отвращения к навязанному мне интимному соседству. Вместо шёпотом произнесённых на ухо одного-двух слов до меня доносится невнятное бормотанье. Прекрасно зная, что моя способность к пониманию его языка весьма ограничена, он тем не менее обрушивает на меня неиссякаемый словесный поток. Я слушаю этот монотонный говор, смежив веки. Затем я открываю глаза и перестаю слушать. И тут до меня доходит, что проводник разговаривает сам с собой, вероятнее всего, в попытке что-то противопоставить борющимся в нём сомнениям. Губы его шевелятся, как у жующего кролика, пока он, если мои предположения правильны, взвешивает все «за» и «против» задуманного им предприятия. Даже его заверения в чём-либо или отпирательства от чего-либо сопровождаются множеством поправок и оговорок.
На самом деле все его замашки совершенно бестолковы. Однако он продолжает гнуть свою линию — то с заунывной занудливостью, то с наскоком, призванным застать меня врасплох. Само собой разумеется, я не поддаюсь на уловки сего господина Обуха... и всё же вынужден терпеть его. К сожалению, у меня, со своей стороны, развилась совершенно невероятная способность угождать другим. Я подыгрываю в пустой и бессодержательной игре, хотя делаю вид, что в моих поступках не одна лишь повседневная банальность и будничность, что в них сокрыта некая тайна, сокрыто некое значение. В данных странных обстоятельствах я убеждён, что могу, через неумелое посредство Дивного Топора, извлечь из них выгоду, а затем передать её Ганнибалу.
Проводник заставляет себя ждать. Это тоже входит в его идиотскую манеру поведения. Возможно, он следит за мной из какого-нибудь куста. Ну же. Я делаю несколько нетерпеливых шагов взад-вперёд. Снова застываю на месте. И тут я ощущаю наваливающуюся на меня усталость. Некая сила — не знаю, то ли стучащая в висках кровь, то ли воображение — взвешивает степень моего бессилия. Я решаю уйти и резко разворачиваюсь. Кто там? Я передумываю и остаюсь ещё на некоторое время тихо стоять на прежнем месте. По той или иной причине мне не хочется садиться на землю. «Нет-нет, только не садиться», — повторяю про себя я.
Тем не менее я сажусь. Оказывается, я успел привыкнуть к ночной тьме. Глаза мои активно отвоёвывают трофеи ночи — захваченные ею у дня световые просторы. Я вижу всё дальше и дальше. Но что это разворачивается передо мной? Во всяком случае, не Родан! Расстилающаяся передо мной водная гладь отнюдь не похожа на реку. Я не вижу её плавного, нескончаемого скольжения мимо, не слышу её голоса. Поверхность воды, отрывочно предстающая моему взору, скорее принадлежит тихому озеру. Похоже, будто Родан прекратил свой бег. Понимание того, что это невозможно, внушает мне подозрительность, наводит мрачность и тоску, едва ли не страх. Родан предстаёт передо мной в виде погруженного в глубокое забытье, слабо мерцающего мрака. Бык Родан спит, даже не пофыркивая во сне.
Как только мы разбили лагерь на расстоянии менее одного дневного перехода от столицы каваров Оранжа, я взял себе в переводчики кельтибера. Это был юноша с рыжеватыми волосами и глазами цвета голубики. Я в нескольких словах обрисовал ему своё дело. Нам нужно, не обинуясь, задать бойям пару прямодушных вопросов: «Почему вы проявляете в бою такое мужество? Почему вы не боитесь смерти?» Юноша выслушал меня очень серьёзно. Ни о чём не расспрашивая, он последовал за мной к палатке, в которой жили наши проводники-бойи. Они сидели около неё и ели хлеб.
Не приходилось сомневаться, что толковник в точности перевёл им то, о чём я просил. После первого вопроса бойи продолжали жевать, после второго они, как один, разразились гомерическим хохотом. Когда они отгрохохотали, переводчик по моей просьбе ещё раз обратил к ним последний вопрос. Сам серьёзный юноша не смеялся вместе с остальными. Он был чуть ли не оскорблён.
— Может, мне побить их? — обернувшись, спросил он.
— Ни в коем случае, — отозвался я. — Просто повтори мой вопрос, и посмотрим, что будет.
Однако вопрос не возымел действия. Бойи продолжали молча жевать хлеб.
— Может, стукнуть вон того, чтоб жвачка встала ему поперёк горла?
— Нет-нет, — ответил я. — Просто спроси их ещё раз.
Что он и сделал, причём на повышенных тонах. Теперь бойи таки откликнулись, многажды повторив:
— Мы есть очень смел. Мы не бояться смерть. Мы идти в бой первый.
— Узнай, почему они не боятся, — попросил я.
— Потому что мы есть очень смел, — последовал ответ.
— Но ведь смерть кладёт конец жизни, — по моему наущению возразил толковник.
— Нет. Вовсе нет.
И бойи снова расхохотались, чем ужасно рассердили переводчика. Он даже затопал ногами от злости.
— Ну что, уходим? — спросил он меня.
— Сначала скажи им: если кто-нибудь захочет мне что-то сказать, пускай приходит.
Толковник передал эти слова, и мы ушли восвояси. Через некоторое время возле моей палатки появился Дивный Топор — высокий, худощавый, весь в чёрном, что довольно необычно для кельтов, предпочитающих одежду ярких цветов. Мой слуга сунул голову в палатку и кашлял до тех пор, пока я не оторвался от чтения.
— Пожаловал некий господин Журавль, — с улыбкой изрёк Астер.
Я вышел. Дивный Топор тут же принялся задирать нос.
— У меня есть картинка, — сообщил он на доступном мне языке. — Очень красивая картинка. Эта картинка говорит много. Эта картинка говорит всё. Не надо никаких слов. Посмотришь глазами и всё поймёшь. Моя картинка дорогая. Я её получил в награду за большую услугу. Моя картинка несёт удачу. Она принесла мне много хорошего. Она стоит много денег. Картинка очень мне предана. Она любит меня. Она говорит: «Никому меня не показывай. Я должна быть тайной. Многие хотели бы знать то, что я изображаю».
— Тогда покажи мне её, — попросил я.
— Нет-нет. На свету нельзя. Пускай стемнеет. Но и тогда вряд ли. Вряд ли я захочу. Картинка говорит больше в темноте или при свечах. А ещё больше при хорошей масляной лампе. Но я не знаю. Вдруг картинка отомстит мне, если я стану показывать её за деньги?
— Я могу купить твою картинку, — предлагаю я.
— Если она захочет. Я не знаю. Мне нужно спросить её.
— Какой величины картинка?
Вытянув вперёд левую ладонь, Дивный Топор указательным пальцем другой руки рисует довольно большой круг.
— Значит, картинка металлическая? — спрашиваю я.
— Это гемма[140]. Красивой этрусской работы. Картинка говорит всё.
— Но я должен посмотреть на неё.
— Я уже передумал. Я пошёл к себе.
— Погоди. Мне нужно выяснить, сколько ты хочешь за свою гемму.
— Этруск сказал, картинка может мстить.
— Неужели ты в это веришь?
— Очень даже верю. Ну, я пошёл.
Однако Дивный Топор и не собирался уходить.
— Сколько ты хочешь получить за картинку?
— Потом Дивный Топор будет очень грустный.
— Потом у тебя в руках будут деньги.
— Если бы я знал... Почему ты живёшь в палатке один?
— Мне так нужно.
— Ты не воин. Кто ты?
— Я из свиты Ганнибала, — ответил я. — Назови цену картинки. Я с радостью заплачу тебе.
— Моя картинка — это великая тайна.
— Я смогу её понять?
— Навряд ли.
— Зачем же она мне?
— Я всё сказал.
— Я хорошо заплачу, если ты покажешь мне картинку.
— Мне нужно много денег.
— Тогда давай я куплю её.
— Когда стемнеет. Может быть.
Дивный Топор продолжал бубнить свою чушь. Дело кончилось тем, что я сижу здесь и жду его. Я бросил в Родан ветку. Её унесло течением. Теперь мне кажется, что я и без плывущих предметов вижу движение воды. Я попал туда, где я сижу, по поручению Ганнибала. Он хочет знать, почему кельты идут на смерть в порыве восторженного гнева. На мой взгляд, узнавать это ни к чему. Главное — кельты действительно отважны и не отступают даже в ближнем бою. Я хочу сказать, что большинство вопросов о причинах и следствиях вообще бессмысленно. Всё незыблемое связано с Демокритовым вихрем атомов. В этих случаях атомы решают всё. Благодаря им нашими устами завладевает Муза, а в руки к нам попадает Гомер. Ни одна строка «Илиады» не подлежит изменению — чего нельзя сказать об атеизме Исаака. Исаак рассуждает о несбыточном, а именно о мире, в котором все люди стали бы безбожниками. Вопрос чисто академический, ибо мир наш полон влияния и свидетельств религии, народ чтит божественную волю. Если же мир безбожен, весь свет всё равно будет кричать о том, что боги и их деяния существуют in extenso и in extremo[141]. Религиозная практика, по утверждению Исаака, сплошное шарлатанство, обряды не более чем обман, а храмы — воздушные замки. Однако доказать истинность своих слов он не может.
У Ганнибала нет сомнений по поводу храбрости кельтов. У меня же есть — по поводу самого Ганнибала. «Как он себя чувствует? Что движет им, когда он отдаёт свои распоряжения?» — то и дело спрашиваю я себя. И мои вопросы, и поиск ответов на них связаны с тем, что Ганнибал — человек дела. Вместе с ним мы постоянно находимся в череде событий. Каждый день Ганнибал предпринимает что-то новое. Так и должно быть. Ведь он вступил с миром (в лице Рима) в борьбу, самые сложные шаги которой не только не предприняты, но пока и не продуманы. В подобных случаях имеет смысл разобраться в мотивах, которыми руководствуются заинтересованные стороны. Ганнибал уже теперь размышляет над тактикой, которую следует применить при его (и нашем) первом крупном столкновении с римскими легионами на территории Италии. Ему до мельчайших подробностей известен состав легионов, и он знает, чем Рим обычно открывает сражение. Как Ганнибалу лучше всего ответить? Он понимает, что поначалу у него будет значительно меньше солдат. Ведь Рим опирается на постоянную армию; более того, в его распоряжении вся молодёжь Италии. Этих юношей необходимо лишь вымуштровать, и вскоре они будут пополнять легион за легионом. Ганнибалу же, дабы привлечь к себе союзников и через них добиться пополнения войска, нужно сразу нанести сильные удары, настолько сильные, чтобы они убедили всех: Рим не является непобедимым, его вполне можно сокрушить.
Как он себе мыслит роль кельтов? Я ничего точно не знаю. Тем не менее мне известно, что он хочет использовать их смелость перед лицом смерти. Его отряды должны успеть окружить римлян, чтобы на легионы можно было обрушиться с тыла и вообще со всех сторон. Для успешности этого манёвра Ганнибалу следует заманить тяжёлую римскую пехоту внутрь своего войска. Это значит, что противник должен сначала почуять успех и опьяниться близкой победой. Ганнибал хочет поставить кельтов впереди рати. Когда Рим предпримет свои бурные атаки, отражать их придётся кельтам. Кельты не бегут. Вместо того чтобы показать спину, они подаются назад. Таким образом противника завлекают всё глубже внутрь боевого порядка. Когда тот проник достаточно глубоко, Ганнибал поручает своим самым опытным и стойким фалангам косить врага. Одновременно легионеров должны обойти сначала конники с их стремительными налётами, а затем пикинеры и копейщики.
Рабу нужно знать своего господина, дабы заранее вычислить, когда на хребет посыплются удары. Эпику Йадамилку нужно знать своего господина, дабы правильно слагать свои песни. Мне кажется, боги оберегают Ганнибала от излишнего знания: Главнокомандующему необязательно знать столько, сколько Йадамилку. Пока что он отказывается признавать, что речь идёт об отвоевании в рамках Европы прежней Финикии. Узнай Ганнибал ещё и это, он, пожалуй, вовсе откажется от борьбы, ведь в таком случае война примет слишком большой размах. Так что до поры до времени Ганнибалу лучше и не загадывать столь далеко. Мало-помалу он вынужден будет брать на себя всё более серьёзные задачи. Мне же, эпику, должно быть известно всё. Я, королёк, прячущийся в перьях на макушке у Орла, не могу иметь такую же чистую совесть, как состязающийся в открытую Орёл. Во мне скрывается незаконная хитрость. Но что вынуждает меня ставить перед Ганнибалом столь грандиозные цели? Я считаю, что иначе ему не добиться окончательной победы. Посмотрим на Карфаген. Рим рассчитывал, что Карфаген вряд ли оправится от поражения и мира, заключённого на самых жёстких условиях. Однако что произошло? Благодаря настойчивости Баркидов Карфаген обрёл былое могущество. Такая же судьба может ожидать и Рим. На каких бы тяжёлых условиях ни заставить его заключить мир, Рим может со временем вновь набраться смелости и сил. Нет, нужна окончательная победа, нужно заново создать Европу. Вот о чём думает Йадамилк.
И тут до меня доносятся торопливые, шаги. Я вижу худенькую фигурку Дивного Топора, который, темнее ночи, пробегает мимо того места, где сижу я. Его длинные руки болтаются вдоль боков. Сделав несколько шагов у меня за спиной, он поворачивает назад и снова пролетает мимо. На этот раз он швыряет на землю что-то мягкое. Я не слышу звука падения, только вижу, как этот предмет по-вороньи трепещет крылами. Наклонившись в сторону, я ощупываю предмет. К моему удивлению, он оказывается тряпкой. Я не поднимаю её. Когда Дивный Топор в очередной раз проходит мимо, он не останавливается, однако сбавляет шаг. Он бросает что-то на кусок материи, и теперь до меня доносится глухой стук. Зато Дивного Топора более не слышно. Я ощупываю материю и, естественно, обнаруживаю круглую гемму. Мне не видно ни зги, но я провожу по поверхности геммы большим пальцем.
Я запихиваю гемму за пазуху и уже собираюсь встать на ноги, когда слышу сзади глубокий вздох. Это Дивный Топор. Поскольку я предпочёл бы избежать встречи с ним, то остаюсь сидеть на земле. До меня снова доходят тяжёлые вздохи. Ничего не предпринимая, я, однако, задумываюсь, что будет дальше. Через некоторое время Дивный Топор выходит вперёд. Подняв тряпку, он дважды резко, с хлопком встряхивает её, словно выбивая знамя или штандарт. Затем он кладёт материю на место и отходит. Вскоре я опять слышу глубокие вздохи. Наконец я соображаю, что следует положить на тряпку деньги. Прежде чем бросить монеты вниз, я позваниваю ими. Вот приходит Дивный Топор. Теперь он становится рядом со мной. Вероятно, он шарит ногой, потому что я вдруг слышу, как гремят друг о дружку мои монеты.
— Ага! — вырывается у него.
Он наклоняется. До меня доносится ещё одно «ага». Подобрав монеты и тряпку, Дивный Топор поспешно ретируется. Теперь уже я глубоко вздыхаю... и ухожу с берега Родана.
В палатке я положил гемму на ладонь и поднёс как можно ближе к масляному светильнику. Моё первое впечатление было — что я держу в руках миниатюрный шедевр. На зелёном фоне выделялись рельефные фигурки цвета мёда, явно представляющие определённую сцену. Но какую? Посередине, обернувшись назад, стоял радостный старик. Он был лыс, одет в перекинутую через плечо шкуру, держал в руках лук, колчан со стрелами и палицу, иными словами, напоминал нашего верховного бога Мелькарта. Я догадался, что передо мной изображение бога, возможно, даже бога войны, потому что он тащил за собой — вернее, вёл с собой — сонм фигурок. Это были воины, скованные продетыми в ухо тонкими золотыми цепями. Лица всех светились радостью. Поскольку руки у бога войны были заняты, он собрал золотые цепи и пропустил их в дырку, пробитую в его длинном, высунутом языке.
С таким языком, думаю я, может, он бог вовсе не войны, а красноречия? Впрочем, богу красноречия не нужно оружия, решаю я. Что же я вижу перед собой? Разобраться в этом сложно. Все фигурки на гемме кажутся излучающими радость, однако картинка не даёт ответа на вопрос «почему?». Я начинаю подозревать, что изворотливый Дивный Топор облапошил меня.
В эту минуту в палатку сунул голову Астер, который возвестил:
— Опять пришёл Журавль.
Я решил, что он появился, потому что хочет выжать из меня ещё денег. Но это оказалось не так. О наших особых взаимоотношениях он не обмолвился и словом. Он изобразил любопытствующего, который первый раз в жизни видит гемму, и принялся рассматривать её, зажав между двумя пальцами.
— Очень красивая. Очень дорогая, — со знанием дела произносит он.
— Почему все такие довольные? — спрашиваю я.
— Да, все очень довольные! — выпаливает он.
— Почему?
— Это наш бог войны, — говорит Дивный Топор.
— Как его зовут?
— Божьи имена нельзя произносить вслух.
— Я пошёл за переводчиком, — твёрдо говорю я.
— Он тоже не имеет права упоминать имя бога.
— Но я хочу знать его!
— Тогда по буквам.
— Что значит по буквам?
— Сейчас услышишь, — говорит Дивный Топор. — «О» как «огурец», «г» — как «гроза», «м» — как «мать», «и» — как «икра», «о» — как «сало».
— «Сало» — это «с», а не «о».
— «О» как «озеро» и «с» как «сало», — поправляется Дивный Топор. — Теперь всё в порядке.
— Получается Огмиос, — говорю я.
— Я ни за что не произнесу имя бога, — с жаром заверяет меня Дивный Топор.
— Ты так и не ответил на мой вопрос. Меня интересует, почему все, кто изображён на гемме, такие довольные.
— Они ведь идут в бой. А тогда все довольны.
— Но почему?
— Они будут драться и убивать врагов. Может быть, им повезёт отрезать красивую голову.
— Почему кельты отрезают их? Ни один другой народ не сохраняет вражеских черепов.
— Кельты не похожи на другие народы. Кельты — это кельты.
— К тому же вы не часто сражаетесь между собой.
— Кельты отнимают друг у друга землю. Тогда бывает война.
— Какой смысл в том, чтобы сохранять мёртвые головы?
— В голове живёт бессмертная душа.
— Во всяком случае, не после смерти, — уверенно говорю я.
— Душа сидит именно там. У всех людей череп служит им всю жизнь.
— Что даёт вам основания считать душу бессмертной?
— Это несомненно. Наша теперешняя жизнь лишь одна из многих жизней.
— Когда тело превращается в труп, жизнь кончена.
— Ни один кельт не согласится с тобой. Душа его может подождать в могиле. Там у него всё необходимое. Оружие, конь, рабы.
— А чего ему ждать?
— Пока в семье не родится новый ребёнок. Тогда душа получит новое тело.
— Значит, вы верите и в переселение душ?
— Мы знаем, что человек не только живёт вечно, он проживает много жизней.
— А ты встречал такую переселившуюся душу или как её называть?
— Конечно. Разве я не встретил самого себя?
— И у тебя было много предшествующих жизней?
— Да.
— Ты вспоминаешь что-нибудь из прежних жизней?
— Иногда.
— Расскажи, очень хочется послушать.
— Я раньше тоже наубивал много людей. Иногда я могу пересчитать их одного за другим, в каждом месте.
— Для тебя это и есть доказательство?
— С меня хватит и такого. Но есть много других признаков. Разве дети не бывают похожи на родителей? Их сходство с родителями проявляется не только во внешности, но и в поступках. Рано или поздно все обнаруживают, что дети также походят на умершую родню.
— Есть ли какие-нибудь другие доказательства?
— Они не требуются. Мы и так знаем. Друидам известно на двадцать лет больше, чем мне. Мне известно столько же, сколько моим родителям. Возможно, чуть больше.
— Значит, ни один воин не страшится смерти?
— А чего ему страшиться? Жизнь продолжается. Причём жизнь лучшая, нежели прежде. Жизнь под землёй и на далёких чудесных островах. Конечно, каждый воин стремится отрезать красивую голову и показать её родным и близким. Однако жизнь в могиле всё равно лучше.
— Следовательно, мужеству воинов способствует ваша вера?
— Не вера, а знание. Мы узнаем об этом от бога войны. Посмотри на гемму. Его речи идут с языка прямо в уши солдат.
— Значит, золотые цепи — это речи?
— Да, как я только что тебе сказал.
— Из уст в уши передаётся правда о бессмертной душе.
— Да, и ещё воинственный клич.
Кажется, я начинаю понимать смысл геммы.
— Тебе достаточно монет, которые ты получил за гемму? — напоследок спрашиваю я.
— Разве я получал деньги? От кого? За что? Когда?
— Перестань придуриваться, от меня!
— Я ничего не получал! — говорит Дивный Топор и, пятясь задом, исчезает из моей палатки.
VII
Благодаря одному удару и четырём отрубленным пальцам Ганнибал добился от царя Бранка всего, чего требовал: снаряжения в виде оружия, доспехов, тёплой одежды, обуви, поставок провианта на много дней вперёд и нескольких проводников. Всё это было необходимо в преддверии ожидавших нас испытаний. Недовольные бойи, которые прежде указывали нам путь, но к указаниям которых Ганнибал не очень-то прислушивался, были немедленно отпущены восвояси. Новоприобретённое имущество заметно подняло настроение наёмного воинства. Тем не менее мы должны были продолжить движение на север, вдоль Родана. Сципион уже достиг места нашей переправы через реку. «Что-то теперь предпримет консул? — спрашивали мы себя. — Попытается нагнать нас или разгадает замысел Ганнибала, его намерение напасть на Италию с севера?»
Не проходит дня, а возможно, и мгновения, чтобы я вновь не почувствовал на своей шее поддержки от Ганнибаловой руки. Только теперь я понял, что он рассмотрел во мне в минуту наивысшего подъёма. Его привлекли вовсе не мои речи о Европе, а моё лицо, горящее одушевлением, лукавством и игривостью. Признаки жизни были столь явственны, что выявили снедавшие меня чувства, и я предстал перед Ганнибалом уже истерзанный ими. Отсюда и сила, исходившая от его руки. Я решил, что ещё вернусь к теме Европы и Финикии — возродившейся Финикии! — в обновлённой Европе, а также к теме законных прав Карфагена.
Я сумел изложить Ганнибалу лишь незначительную долю всего, что мог бы сказать. Из того немногого, что я успел проговорить, он не составил себе сколько-нибудь вразумительного представления ни о моих идеях, ни тем более о стоящей за ними действительности. «Вспомни греков, этих отменных фальсификаторов, — мог бы сказать я, — которые по сей день не изъяли из своей мифологии мифа о Европе». Как только они обращаются мыслями к мифу о Европе, они не могут не вспомнить про нас, финикиян, и про царевну Европу, про её детей и прочую родню: все они сыграли важную роль в становлении Эллады. Финикияне с самого начала внесли весомый вклад в греческую политику, культуру и религию. Право слово, перед греками нам не приходится стыдиться.
Папаша Гамилькар сравнивал трёх своих сыновей с выводком львят. Я наблюдал Ганнибала в виде парящего в вышине Орла и в виде хищного Волка. Я наблюдал его также в других обличьях, например в виде увенчанного ветвистой короной благородного оленя: он величаво вышагивал, не обращая внимания ни на чьи взгляды, совершенно равнодушный к ним. Я видел его и в обличье горного козла, застывшего на вершине утёса, — выставив вперёд упрямый лоб, насторожив изогнутые рога, он холодным выжидательным взором обводил своё воинство и окрестности. И я уверен, что мне ещё предстоит увидеть его в обличье разъярённого леопарда, устремившегося на дно ущелья, дабы вонзиться зубами в глотку врага.
Передо мной предстала одна из моих излюбленных картин, картин будущего. Я увидел Ганнибала-Победителя, объединяющего в своём лице Геракла (то бишь Мелькарта) и Антея. Антей — это исполин, который остаётся непобедимым, пока его ноги касаются земли, но делается немощным, как только утрачивает связь с сим источником силы. Гераклу удаётся одолеть Антея, подняв его в воздух. Ганнибал-Победитель силён, потому что твёрдо стоит на земле, однако он может и оторваться от неё, не теряя при этом своей силы. Он уже не раз показывал себя не только отменным практиком, наделённым трезвым и здравым умом, но и дерзким стратегом, который руководствуется в действиях интуицией. Когда он до конца поймёт свою роль в развитии мифа о Европе, весь мир убедится в том, что Ганнибал сочетает в одном лице Мелькарта и Антея.
Сегодня я спал очень крепко. Утром Астер с трудом поднял меня на ноги. Вчера я был на пиру, который задал в честь знатных карфагенян царь Бранк. Накормили и напоили нас на славу. Но прежде чем выставили угощенье, было устроено шествие к святому источнику. Ганнибал выступал с чувством спокойной уверенности в себе. Сохраняя полное самообладание, он опустил щит на землю, положил на него толстый золотой браслет, вытащил меч и твёрдой рукой рассёк браслет, после чего поднял щит и бросил увесистое запястье в источник. Проходя мимо родника, каждый из нас, в том числе простые люди из подданных Бранкорига, пожертвовал по золотой монете. Какую драгоценность принёс в жертву сам царь, я проглядел.
К нашему удивлению, кавары пригласили нас в свой храм. Они хотели отпраздновать разрешение проблемы престолонаследия не только у источника, но и в недавно отстроенном капище. Нам предлагают зайти во дворик перед храмом. Мы попадаем туда через восточный вход, а затем, словно подчиняясь невидимому дирижёру, начинаем ходить по солнцу вокруг восьмигранного наоса, из которого уже доносится бормотание читающих молитвы жрецов. Следует невероятно долгая церемония жертвоприношения. Эти часы оказались серьёзным испытанием для нашего терпения. Столь же естественно, как мы, войдя, двинулись по солнцу, мы вскоре приспособились идти неспешным, торжественным шагом. Однако мы вертели головами из стороны в сторону, обозревая всё, что поддавалось обзору. Впрочем, там была всего одна вещь, достойная нашего внимания: колонны у входа в наос. Колонны были деревянные. В вырезанных на их поверхности нишах стояли мёртвые головы, некоторые — засушенные с мясом, как мумии, другие — очищенные до черепов, причём часть черепов была позолочена, а часть лоснилась от какого-то масла.
Пока я хожу кругами, в голове у меня заводят собственный хоровод извечные вопросы. Рождение — жизнь — смерть. Триада. Только что рядом с нами прошли два священнослужителя, неся изображение божества. Божество было трёхликое, все лики обращены в разные стороны. Я знаю, что учёные друиды в своей философии размышляют над сущностью триад. Время — пространство — движение. Прошлое — настоящее — будущее. Положение внизу — вверху — вровень. И так далее. Иногда друиды сочиняют какую-нибудь работу по-гречески, но на своём собственном языке они не пользуются так называемым греческим алфавитом. Они вообще ничего не пишут на своём языке. Вся накопленная ими премудрость (если позволительно применить к ней такое слово), всё законодательство, вся история, все мифы... короче говоря, все знания сохраняются исключительно у них в памяти. Как ни парадоксально это звучит, мне даже приятно, что они прибегают к алфавиту только в разговоре. Иначе их мысли, пожалуй, могли бы осквернить великий дар карфагенян человечеству.
Доносившаяся из наоса молитвенная литания[142] смолкла. Тут же наша процессия застопорилась перед входом в наос, который теперь заняли пять выстроившихся в ряд друидов. Нам пришлось потесниться и освободить место для двоих мужей с обнажёнными торсами, настоящих великанов. Мне видно, как вздымаются на вдохе их грудные клетки, как играют под кожей мускулы.
Подошедший жрец встаёт напротив мужей. Я понятия не имею, что должно произойти, потому меня ошарашивает следующий миг, когда жрец наносит одному из мужчин сильный удар в солнечное сплетение и тот, забившись в судорогах, падает. Жрец наносит такой же удар второму мужчине, который также валится на пол в корчах. Когда конвульсии прекращаются и оба мужа застывают на полу, по виду в бессознательном состоянии, сбивший их с ног жрец даёт каждому по две оплеухи. Оба мгновенно вскакивают и радостно смотрят вокруг. Теперь жрецы подходят к царю Бранку (рядом, преисполненный достоинства, стоит Ганнибал). Мне объясняют, что друиды изучили спастические движения сбитых мужей и прочли по ним будущее (они умеют определять будущее также по полёту птиц). Всё это я узнаю от протиснувшегося ко мне Бальтанда. Он говорит, что жрецы предсказывают царю и его подданным период согласия и мира. Один из друидов вытянул длани к царю и словно возвещает ему что-то руками.
Бальтанд явно в восторге от этого зрелища.
— Почему ты не сказал мне, что у тебя мать кельтка? — укоряю его я.
— Ты не спрашивал.
— Мог бы и сам рассказать.
— Я не представляю, что тебя интересует.
— Ты знаешь какие-нибудь кельтские молитвы?
— Хочешь выучить? — оживляется Бальтанд.
— Только если будет очень короткая.
— «Grian ocus esca ocus dule de archena».
— Что это значит? — шёпотом вопрошаю я.
— Солнце, луна и прочие божественные небесные создания.
— Какие прочие создания?
— Конечно, звёзды.
— Молитва-то трёхчастная.
— Разумеется.
— Но с ног сбивали двоих, а не троих.
— Чаще бывает один.
— Повтори молитву.
— «Grian ocus esca ocus dule de archena». Запомнил?
— «Grian ocus esca ocus dule de archena». Да, запомнил!
— Теперь снова пойдём бродить, — говорит Бальтанд, встраиваясь в наш хоровод. — Читай молитву снова и снова, тогда произойдёт одно из двух.
— Что произойдёт?
— Либо ты погрузишься в глубокие размышления, либо вообще ни о чём не будешь думать.
— А можно выбрать, что я хочу?
— Ни в коем случае!
Мы ещё раз собираемся у входа в священный наос. Двое мужчин вносят вепря, олицетворяющего свирепость воина. Кабан лежит, притороченный ремнями к подобию железных носилок. Он от головы до хвоста обвит ветками рябины. Роскошные гроздья ягод ещё влажны и горят лихорадочным румянцем. Мужчины, которые несли кабана, воздев носилки над головой, опускают свою ношу. Теперь моему взгляду предстаёт голова вепря, его устрашающие клыки. Он не шевелится, даже не поводит мордой. Вероятно, он тоже получил крепкий удар, заставивший его потерять сознание. И вдруг я вижу нечто, одновременно пугающее и притягивающее меня. Чёрные губы кабана раздвинуты в гримасе, похожей на язвительную человеческую усмешку. Эта жуткая и в то же время заразительная усмешка так и застыла на кабаньей морде. Я торопливо перевожу взгляд туда, где стоят царь, Ганнибал и их приближённые. Кельты тоже странно улыбаются. Такое впечатление, будто их снедает безумная радость, которая изменила их черты. Она же вынуждает их воздеть руки кверху и выставить вперёд нижнюю челюсть, обнажая выглядывающие из-под усов зубы. Откуда-то из нутра воинов доносится жужжащий звук, напоминающий гудение шмеля. Я бросаю взгляд на Бальтанда. Он тоже впал в экстаз, и во рту у него тоже гудит шмель. При всей моей отчуждённости происходящее с кельтами производит на меня потрясающее впечатление. Раздаётся глубокий вздох, который переходит в трубный рёв и, в свою очередь, мгновенно смолкает.
— Что это было? — спрашиваю я Бальтанда.
Он весь трясётся и молчит.
— Что это значит? — допытываюсь я.
Но ответа я не получаю. Мои ощущения так и остаются ощущениями чего-то неопределённого. Меня окружает нечто неведомое. Разыгрывающееся вокруг реально, однако непостижимо для меня.
Кабана снова поднимают и вносят в наос. Мы продолжаем стоять в преддверии святилища. Вскоре раздаётся кабаний вопль, и мы понимаем, что кабану перерезали глотку и что он пришёл в себя только ради этого предсмертного крика. Мы остаёмся на прежнем месте. Царь никуда не уходит, значит, церемониал ещё не окончен. Совершенно верно. К Бранкоригу приближается друид, который протягивает ему позолоченный череп. Выступив вперёд, царь Бранк берёт череп и подносит его к губам. Оказывается, позолоченный кранион превращён в чашу. Что в нём: кровь вепря или какой-нибудь иной жертвенный напиток? Царь пьёт. Я вижу это, но ничего не понимаю. Я смотрю на происходящее слепыми глазами.
Наконец изнурительное жертвоприношение закончилось. Мы с облегчением перешли из храма туда, где чувствовали себя более определённо, а именно на царский двор. Рядом с его покоями стояла огромная пиршественная зала, призванная вмещать всех знатных подданных Бранкорига. Кровлю залы подпирали украшенные орнаментом колонны, по бокам её размещалось несколько прямоугольников, отделённых друг от друга перегородками из плетня: эти закутки предназначались для самых почётных гостей. Ни стульев, ни скамей предусмотрено не было. Земляной пол был застелен звериными шкурами, а простые деревянные столы покоились на подставках, лишь немного приподнимавших их над уровнем пола.
Боги своё получили, теперь наступила очередь людей. Мои ноздри раздуваются от аппетитного запаха варёного мяса, а глаза наверняка блестят при виде выставленных яств. Большие хлебы, масло и мёд, сыр и молоко, жаркое из дичи, вместительные кувшины с вином, фрукты, блюда с оливками...
Схватив один хлеб, я ухожу вбок от огромной трапезной. Царские покои окружены высокими деревьями, как я теперь вижу, дубами и тополями. Листья на тополях уже приобрели золотисто-жёлтый цвет, однако ещё не опали. Я прислоняюсь спиной к старому дубу. Вскоре кора дерева проникает своими шероховатостями сквозь одежду и отпечатывает их на коже, вызывая у меня едва ли не вожделение. И тут я замечаю женщин, которые, я вижу, принадлежат к двум категориям: одни прислуживают, другие надзирают. Жрецы задерживаются. Может быть, они вовсе не появятся?
Я жую свой хлеб и слежу взглядом за женщиной, которая ходит с факелом, зажигая от него другие факелы. Вспыхивающее раз за разом пламя даёт отблеск в её рыже-каштановых волосах, которые она носит в виде венка из двух толстых кос, свисающего так низко, что он обрамляет лицо и образует на затылке нечто вроде шиньона. Моё томление отзывается болью в кончиках пальцев с их бурно пульсирующей кровью. Мне хочется погладить женщину по чудесным волосам.
На всех женщинах длинные складчатые одежды чистых, хотя и неярких тонов. На шее они носят золотые ожерелья, повыше локтя, а у некоторых и на запястьях я вижу браслеты. В наступающих сумерках выделяется белая кожа женщин, щёки у них красные от травяного настоя, крылья бровей подтемнены, подкрашены даже кончики пальцев. Женщин отличают высокий рост, широкие бёдра, прямая осанка. Они ступают на редкость красиво, с чувством собственного достоинства.
Одна из женщин приближается ко мне и осмеливается заговорить с чужестранцем. От неё исходит мелодичный перезвон — из-за пришитых к подолу юбки крохотных колокольчиков. Она протягивает мне пенящийся кубок.
— Что там? — не слишком любезно спрашиваю я.
— Попробуй, — предлагает она.
Я осторожно пригубливаю, затем делаю основательный глоток и, наконец, осушаю сосуд. Сначала на языке чувствовался привкус мёда. Потом напиток утолил мою жажду. Но он не притупил моей разбуженной любовной тоски.
— Что это было? — интересуюсь я.
— Корма, — отвечает женщина.
— Корма?
— Ну да. Это вид мёда. Он, как и вино, бывает разных сортов. Корма — один из лучших.
— Очень вкусно, — говорю я.
— Ты посмотрел на низ кубка? — спрашивает она.
— Нет. А что, надо было?
— Если хочешь.
Я разглядываю кубок. Внизу в него вделана золотая монета с изображением быка, на спине которого стоят три журавля. Сам кубок бронзовый. Вдоль внешней стороны выгравирован абстрактный узор из переплетений и извивов, явно навеянный весенним мотивом — свежими листочками и веточками.
— Изумительно, — говорю я. — Видимо, у вас очень искусные ремесленники.
— Это верно, — отзывается она. — Главное место в нашем государстве занимает царь, далее идут воины, затем — мастера, в первую очередь оружейники. Впрочем, нет, главнее всех, пожалуй, друиды. Они разрешают споры и дают советы, в том числе военные. Царь практически не может ослушаться этих советов, не накликав на себя беды.
— Запомним.
— Я сама вдова, по происхождению из аристократической семьи, — внезапно признается она и смотрит на меня прямодушным, искренним взглядом. — Я богата и многое повидала в этой жизни.
И тут мною завладевает Афродита.
— Меня зовут Йадамилк, — отвечаю я, — и я поэт.
— Меня зовут Хиомара. Мне дали это имя в честь кельтской женщины, которую превозносили за её мудрость и за высокие духовные качества. Барды часто вспоминают её в своих песнях. Будь я бардом, я бы спела для тебя.
— Если ты знаешь песню про неё, перескажи её мне.
— Хиомара была супругой Ортиагона, царя кельтского племени богов. Во время одного из сражений она попала в плен, и её обесчестил военачальник. Хиомара тоже принимала участие в битве. Про нас говорят, что целое войско чужеземцев не может устоять перед кельтом, если он возьмёт себе на подмогу жену. Вытянув шею, скрежеща зубами и размахивая бледными руками, она принимается раздавать тычки и пинки, забрасывая неприятеля ударами, словно камнями из катапульты.
Хиомара сжимает руки в кулаки и машет ими у меня перед носом. Мы оба смеёмся. Я уже полностью под властью Афродиты.
— Однако на этот раз царица Хиомара оказалась дорогим трофеем более чем в одном смысле. Военачальнику пришлось разрываться между похотью и жадностью. Когда ему пообещали за пленницу большой выкуп, он согласился и отвёз Хиомару на условленное место. Стоило кельтам передать военачальнику оговорённую сумму золотых, как Хиомара знаками попросила своих соотечественников умертвить его, когда он будет прощаться с нею. Военачальник в последний раз обнял царицу, и в этот самый миг кельты пронзили его мечом. Потом они отрезали ему голову. Хиомара подхватила голову и спрятала в складках своей одежды. Вернувшись к супругу, она бросила голову к его ногам. «Верность — вещь крайне важная, жена моя», — молвил изумлённый царь. «Да, — ответствовала она. — Но есть нечто ещё более важное». — «Что же?» — спросил царь Ортиагон. «Из мужчин, которые были моими любовниками, я дозволяю жить только одному». Подобно царице Хиомаре, я не могу дозволить, чтобы на свете одновременно существовали двое любивших меня мужчин.
— А сейчас? — пытаю я, прикасаясь к обнажённой руке Хиомары.
— Сейчас один уже есть, — с ослепительной улыбкой откликается она.
Я содрогнулся, не в силах представить свою отрубленную голову в складках женского платья. Афродита мгновенно утратила надо мной власть.
— Я хотела бы просветить чужеземца и поэта: мы, кельтские женщины, пользуемся большим уважением мужей, нежели, скажем, несчастные гречанки, которых держат взаперти, ограничивая круг их интересов едой и детьми. Нам живётся и лучше, чем римлянкам. Мы в открытую общаемся с лучшими мужами, тогда как римским жёнам приходится терпеть тайное совокупление с наихудшими.
— Мы, карфагенские мужчины, тоже высоко ставим наших жён, — удаётся ввернуть мне. — В вашей стране я видел только жрецов-мужчин. У нас в храмах служат и женщины.
— В виде сакральных проституток? — довольная собой, смеётся Хиомара.
— Да нет же, — отвечаю я. — В виде целомудренных жриц со своим собственным культом.
— У нас есть специальные места с женщинами-жрицами. Некоторые обряды исполняются только женщинами, по очень строгим правилам. Например, они уничтожают старый год, срывая кровлю, чтобы затем заново положить её. На одном острове неподалёку от кельтского побережья живут женщины, одержимые богом Езусом, тем самым, что известен как великий очиститель, который в мгновение ока обрубает все ветви на небесном древе. Они поклоняются Езусу с помощью священных ритуалов. Ни один мужчина не осмеливается причалить к их острову. Но сами женщины иногда переправляются на материк и тогда отдаются мужчинам. Рожают они исключительно девочек. Во всяком случае, вырастают у них лишь девочки. Каждый год они срывают крышу с храма Езуса и в тот же день настилают новую. Они вынуждены торопиться, поскольку работу эту следует завершить до захода солнца. Если какой-нибудь женщине случится уронить ношу на землю, остальные разрывают свою товарку на куски и обходят с ними вокруг святилища, возглашая: «Эуой! Эуой!» Бывает, что женщину, предназначенную в жертву, нарочно толкают, чтобы она выронила ношу из рук. Нельзя же оставлять жертву на волю случая. Наши божества строги и требовательны.
— Наши тоже, — говорю я.
— Особую строгость они проявляют на рубеже лет.
— А наши — если случается несчастье.
— На исходе следующего месяца мы будем справлять самухин, — рассказывает Хиомара. — При этом сжигается старый год и возводится новый. Мужи соперничают друг с другом, кто возьмёт на себя самую тяжкую ношу. Чем больше ноша и чем выше они хотят её поднять, тем труднее даётся каждый шаг — но и тем почётнее победа. А боги очень придирчиво наблюдают за соперничеством, повышая требования. Достаточно ли велика твоя жертвенная ноша? Дотягиваешь ли ты до мерки?.. В ночь накануне самухина выпускаются души умерших, и они свободно бродят среди живых. Тогда мы все приобщаемся к воспоминаниям о сотворении мира, когда хаос был превращён в теперешний порядок.
Хиомара умолкла и вызывающе посмотрела на меня. Афродиты во мне давно и след простыл.
— Ты разве не хочешь есть? — спрашивает Хиомара.
Я киваю.
— Ты очень голодный?
— Как волк.
— Тогда тебе пора присоединиться к остальным. Почти все уже вошли в залу.
— Сначала я бы не отказался ещё от кубка кормы. Горло у меня, можно сказать, горит огнём.
VIII
Трубы играют раннюю зорю, войско покидает стан и начинает марш на север. Я сплю дальше. Слуга пытается в привычной для него бережной манере разбудить меня. Ничего не получается. Я сплю очень крепко. Тогда Астер трясёт меня, потом берёт мокрое полотенце и протирает мне щёки. Я отталкиваю его.
— Твоя тряпка пахнет прокисшей водой! — кричу я. Астер продолжает обтирать меня. Я сажусь и хватаюсь за лицо. Кожа щёк напоминает на ощупь мокрую глину. Астер стоит наготове с новым полотенцем, на этот раз сухим. У меня вырывается стон. Теперь слуга извлекает гребень и начинает приводить в порядок волосы. Затылок у меня отяжелел от боли. Мой горячечный профиль раскалывается от этой тяжести.
— Пошёл прочь! — воплю я и поднимаюсь. Восстановив внутреннее равновесие, я велю Астеру начать под моим наблюдением складывать вещи. Когда я убеждаюсь, что он хорошо справляется сам, я выхожу из палатки. Совсем недавно я окинул беглым взглядом пространство вокруг, и мне показалось, будто у нас не всё ладно. Теперь я убеждаюсь, что был прав. Большинство палаток, за исключением писарских, сняты и унесены. Я обегаю окрестности, дабы успеть оглядеть побольше. Палатка с начальниками тоже исчезла, а войско снялось с места и покинуло лагерь. Осталась стоять лишь штабная палатка для переговоров. Я вижу около сотни всадников, на земле лежит примерно столько же пехотинцев. Кони безо всякого порядка шагают вокруг. Я уже наблюдал подобную сумятицу среди всадников. Обычно она возникает перед быстрым построением в эскадрон, и зрелище возникновения космоса из хаоса даже при этих обстоятельствах вызывает восхищение. Ну конечно! Передо мной предстаёт изящно упорядоченный эскадрон. Я задерживаюсь, чтобы посмотреть на приближающийся конный отряд.
Но вот я поворачиваю обратно. Из палатки карфагенских писцов доносится шум и гам. Я останавливаюсь выяснить, в чём дело. Оттуда выходит Бальтанд со своим неразлучным кожаным мешком. Он садится перед палаткой на мешок. Вид у норманна сердитый.
— Всё войско уже ушло, — заговариваю я. — Почему оставили нас?
Он молчит. Тем временем к нам выходит Палу.
— Ты обязан помочь, — безапелляционным тоном обращается он к Бальтанду.
— Обуза не может быть в помощь, — отвечает искатель приключений.
— Нам нужно сложить палатку, — говорит Палу.
— А где служители? — вмешиваюсь я. — Неужели они тоже ушли?
Палу не удостаивает меня ответом. Карфагеняне по-прежнему дуются на меня за то, что я сбагрил им Бальтанда. Я подхожу ближе к Палу, чтобы принудить его ответить.
— Что здесь творится? — не унимаюсь я. — Где служители? Когда снялось войско? Где Ганнибал и всё начальство?
— Тебе тоже нужно позаботиться о своей палатке, — только и говорит Палу.
— Ни за что! — выпаливаю я.
— Я тут не по доброй воле, — заявляет Бальтанд и всё более раздражённо повторяет эту фразу несколько раз.
— Нам нельзя оказываться в хвосте! — взвизгивает Палу.
Астер уже уложил все пожитки. Я помогаю ему вынести их.
— Никто не вправе требовать, чтобы ты складывал палатку, — объясняю я. — Тебе не приходилось делать этого раньше, не придётся и теперь. Скорее я сниму её собственными руками.
— Палатку снимают вдвоём, — говорит Астер. — Я видел, как её складывают. Мы справимся.
— Ты слышал, что я сказал?
— Конечно, господин. Всё будет так, как ты велишь.
И тут происходит нечто неожиданное. К нам широким шагом приближается мужчина. Я издалека узнаю его. Это Итобал, знаменитый карфагенский старейшина. Он останавливается около Палу. Совершенно очевидно, что он справляется обо мне, поскольку Палу указывает в мою сторону. Итобал тоже тычет в меня пальцем. Я догадываюсь, что он говорит: «Вон этот коротышка».
Итобал обладает не самой приятной привычкой вставать слишком близко от человека, с которым беседует.
— Итак, тебя отыскать можно, — говорит Итобал уже мне, и я ощущаю его дыхание. — А где Ганнибал?
— С войском, — отвечаю я.
— Все мне твердят одно и то же. Но вчера я передал ему с нарочным, чтобы он не снимался с места, пока мы не переговорим.
— Возможно, это сообщение не дошло до него.
— Ничего подобного. Я только что разговаривал со своим гонцом. Ганнибал просто демонстрирует неуважение к совету старейшин.
Я делаю шаг назад. Итобал тут же делает шаг ко мне. Он закутан в походный шерстяной бурнус, некогда белого цвета. Красивая разноцветная кайма свидетельствует о знатном происхождении одеяния.
— Ганнибал... — начинаю я и обнаруживаю, что не знаю, как отвечать.
— Его отсутствие говорит само за себя. Честно признаться, я ожидал иного приёма.
— Вероятно, произошло недоразумение, — пытаюсь я заступиться.
— Как бы не так! Я не верю в недоразумения, столь удобные для Главнокомандующего. Мне просто-напросто демонстрируют презрение.
— Нам, писцам, приказано было самим разобрать свои палатки.
— Тебе вообще не нужно заниматься палаткой. Ты не продолжаешь поход вместе со всеми, а возвращаешься со мной в Карфаген.
— Это невозможно, — возражаю я.
— У меня поручение от твоего отца. Ты не можешь не подчиниться его воле.
— Он велел мне оставить Ганнибала?
— Да. И Ганнибала, и войско, и эти края. И образ жизни, который тебе приходится здесь вести.
— Я уже взрослый и сам решаю, что мне делать.
— Не болтай ерунды! — рявкает Итобал. — Твой отец глубоко сожалеет, что отпустил тебя в Испанию. Мысль о том, что ты решился на этот поход, приводит его в волнение. А если ты не передумаешь, пока ещё есть время, он придёт в ужас. Так что ты едешь со мной.
— Ни под каким видом! — отрезаю я.
Итобал — человек влиятельный, хотя раньше влияния у него было больше. Иначе разве его послали бы сюда с поручением вести переговоры? Он происходит из знатного рода, богат и обладает неуёмным темпераментом. В молодости он потряс карфагенских купцов, умудрившись за один сезон семь раз доставить и распродать полный груз на своём корабле. Его трирему только успевали нагружать и разгружать, нагружать и разгружать[143]. С тех пор никто не сумел направить столь бурный поток наличных в свои руки, как это сделал Итобал. Впрочем, он и сам побил собственный рекорд только в отношении общей суммы прибыли, а с учётом инфляции сумма эта всё равно равнялась плюс-минус ноль. В лице Итобала прочитывается его жёсткий характер властителя. Массивная голова четырёхгранной формы, кожа изборождена глубокими морщинами, рот — типичный для карфагенской аристократии, улыбка чувствует себя неуютно на его губах. Борода его поседела, взгляд — если только Итобал не поглощён деятельностью — тяжёл и мрачен. Сейчас геронт[144] кажется довольно уставшим. Как ни парадоксально, именно это придаёт его облику внутреннюю силу. Лицо, голова, шея, плечи вырисовываются с особой жёсткостью и мощью.
— Что скажешь, Йадамилк? Ты ведь и сам понимаешь, что тебе не место в армии, тем более учитывая испытания, которые ждут её, если над Ганнибалом не возобладает здравый смысл.
— Ганнибал никогда не утрачивает здравомыслия, — возмущённо говорю я. — Поэтому-то он и привёл сюда войско и собирается воплотить задуманное. В Италии...
— Я слышу речи не мужа, а мальчика. Во всяком случае, я передал тебе повеление отца. И ты, как уже было сказано, можешь возвратиться вместе со мной. Твоя безопасность будет обеспечена. Я прибыл с двадцатью верховыми. Мы тронемся в обратный путь, как только я поговорю с Ганнибалом.
— О чём? — осмеливаюсь я спросить.
— Узнаешь в своё время. Кстати, отец рассчитывал, что ты можешь проявить непонимание и ослушаться его. Силком я тебя домой не поволоку. Посмотри, что твой заботливый отец прислал тебе.
Покопавшись в глубоком кармане плаща, Итобал извлёк ожерелье из увесистых серебряных монет. Он поиграл монетами в ладонях, давая мне послушать их звон.
— Если тебе случится попасть в плен, Йадамилк, и тебя продадут в рабы, ты сможешь откупиться этими деньгами. Разве это не свидетельство отцовской любви?
— У меня хватит собственных денег, — бросаю я.
— Хороша благодарность, ничего не скажешь. Постой смирно!
Он надевает ожерелье мне на шею и копается в моей одежде, чтобы оно легло к самому телу. Отвращение не даёт мне стоять спокойно.
— Я сам поправлю, — шиплю я, пытаясь избавиться от его настырных пальцев на шее.
— Ты очень симпатичный мальчик, — сопит Итобал и ещё сильнее цепляется за моё тело.
Я чувствую всё большее унижение. Внезапно он отпускает меня и, подойдя к палатке, откидывает полог.
— Ах вот как, — говорит он при виде царящего внутри запустения. — Приготовь мне постель. Я должен поспать. Разбуди меня, когда появится Ганнибал.
Мы с Астером понимающе смотрим друг на друга.
IX
Геронт Итобал сидит на предмете, которого я никогда прежде не видел в переговорной палатке начальства. Это удобное и просторное кресло, в котором можно сидеть расслабившись. Впрочем, ни матерчатая обивка, ни подушки не мешают креслу трещать и скрипеть, стоит только сидящему в нём шелохнуться. А Итобал ведёт себя энергично и напористо. Он наклонился вперёд и подчёркивает каждое сказанное слово размашистыми жестами. На скрип кресла он поначалу не обращает внимания. Но вдруг он теряет терпение и хватается за мягкие подлокотники. Похоже, он собирается встать. Он мечет разъярённые взгляды на Ганнибала, который полусидит-полустоит, опираясь на деревянные козлы.
Помимо меня, которого взял с собой Итобал, на переговорах присутствуют Ганнибалов брат Магон и двое военачальников. Итобал недоволен скромным числом присутствующих, поскольку вертит головой из стороны в сторону, словно обращаясь к более многочисленным слушателям, которые просто обязаны находиться где-то рядом. В палатке почти не осталось вещей. Прислонённые к козлам, стоят две опрокинутые набок столешницы, рядом громоздятся друг на друге несколько скамей. «Не похоже на заседание государственного совета, правда?» — так и подмывает меня шепнуть Итобалу.
— Я хотел бы сделать упор на одном важном обстоятельстве, — продолжает Итобал, — а именно: проявляемое Карфагеном внешнее согласие вовсе не означает внутреннего единства. У нас на родине существуют очень разные мнения об избранной тобой стратегии, Ганнибал.
Не будет преувеличением сказать, что нас, несогласных с ней, довольно много.
— Ты, кажется, угрожаешь? — перебивает его Ганнибал.
— Не горячись. Я всего-навсего хочу ввести тебя в курс дела. Ты, вероятно, настолько поглощён военными проблемами, что не успеваешь подумать о том, что происходит у тебя на родине, в Карфагене.
— Если бы ты не олицетворял собой угрозы, ты бы не сидел здесь. Не принимай меня за дурака, Итобал!
— Очень жаль, что ты с девятилетнего возраста не был в Карфагене. О чём только думал твой отец? Ему нужно было хотя бы раз в два года отсылать тебя на зиму домой. В результате ты учился не дома, а в Гадесе. Мы так и не познакомились с тобой.
— Оставь в покое моего отца, когда пытаешься давить на меня.
— Твой отец подчинился решению государственного совета о капитуляции[145]. Если он был упрям, то не показывал этого. Если у него были собственные взгляды, он отказался от них. Он отвёл свои войска от Эрикса. А Рим отпустил всех пленников, когда мы заплатили за каждого по восемнадцать денариев.
— Говори о настоящем. Прошлое мы можем обсудить в другой раз. Не думай, что я стану тогда молчать о той роли, которую в некоторых случаях играл ваш совет.
— Твой отец...
— Если ты и дальше собираешься говорить об отце, я ухожу.
— Не забывай о том, что я не знаю тебя. И не по собственной вине. Не забывай также о том, что в Риме положение примерно такое же, как в Карфагене: окружающему миру демонстрируется единство, тогда как в сенате борются разные партии. Многие римляне считают, что Квинт Фабий поторопился с объявлением войны[146], что нам требовалось больше времени на обдумывание выдвинутых условий. Позволить разгорячённому народному собранию решать вопросы войны и мира было крайне неудачно.
— Ты высказываешь догадки? — спросил Ганнибал. — Или у тебя есть что-то более определённое?
— У нас есть точные сведения, — твёрдо ответил Итобал.
— Вы занимаетесь тайной дипломатией?
— Мы имеем свои источники информации.
— В теперешнем положении тайная дипломатия равноценна предательству!
— Призываю тебя, Ганнибал, обратить внимание на то, что я представляю здесь не только так называемую партию мира во главе с Великим Ганноном, но и, да позволено мне будет так выразиться, большинство действующих карфагенских предпринимателей. Не думай, что мы одобряем все твои поступки. Напротив, мы настроены весьма критично. На наш взгляд, ты должен был во многих случаях действовать совершенно иначе. Ведь расплачиваться за всё в конечном счёте приходится нам.
— Вам! Ты слишком всё преувеличиваешь. Скажи откровенно: на каком основании кучка карфагенян сомневается в способности своего законно избранного главнокомандующего судить о военной ситуации? Разве я многократно не доказывал свою компетентность? Когда я расширил наши испанские владения, в Карфагене не было заметно колебаний. Когда туда прибыла богатая добыча из Сагунта, никто не заговаривал об отступлении. Стоило мне повернуться спиной к завоёванному городу в северо-восточной Испании, как туда уже прибыли карфагенские эмиссары, чтобы разнюхать, чем там можно поживиться.
— Вы, Баркиды, вечно...
— Отвернись, если Баркиды мозолят тебе глаза! — На этот раз Итобала прервал братец Магон.
Встрепенувшийся Итобал подвинулся на самый краешек кресла, которое заскрипело пуще прежнего. Намеренно не обращая внимания на Магона, он продолжал обращаться к одному Ганнибалу:
— Ты истощаешь наши средства, извлекая из этого сомнительную пользу. Учти, что Карфагенская империя — морская держава. Море играет для нас ту же роль, что для других суша. В основе и наших учреждений, и нашей политики лежит одна-единственная цель: развитие заморской торговли. Всю свою взрослую жизнь ты держался за Испанию, за большую материковую страну. Что тебе известно о морях и многочисленных морских путях? Нас, карфагенян, можно назвать морскими кочевниками, бедуинами Средиземноморья; гавани служат нам палатками, а корабли — стадами. Какую пользу получит Карфаген и тысячи его портов от твоего проникновения вглубь чужих земель, от твоего намерения покорить крупнейший горный массив в мире?
— А тебе не приходило в голову, что моря захвачены? Кем? Да этим самым Римом!
— Мы считаем, что сегодня твоей первоочередной задачей должна стать защита родных городов, родных берегов и, буде возможно, отвоевание для нас хотя бы одной крепости в Сицилии. Затем потребуется обеспечить более надёжную защиту и нашим испанским владениям.
— Эти заявки про Сицилию отражают мнение твоей партии или только твоё собственное, сугубо частное мнение? Значит, провозглашаемая вами оборонительная политика должна быть сдобрена и наступательными действиями? Неужели вы считаете, что занятие крепости в Сицилии настроит Рим на мирный лад?!
— Мысли о мире не чужды Риму уже теперь, — решительно заявляет Итобал. — Мы должны содействовать их укреплению и распространению.
— Если бы наша беседа не была закрытой, с малым числом участников, я бы немедленно приказал заточить тебя в цепи, Итобал. Но я предпочитаю забыть всё, что ты только что сказал. Нет, все, кроме одного. Я не собираюсь забывать о том, что ты прибыл сюда плакаться о непомерных расходах, в которые мы ввергаем Карфаген, — сейчас, когда речь идёт об угрозе самому его существованию.
Я лишь теперь замечаю, какие у Итобала руки. Они состарились больше, чем его лицо. Левая рука с длинными холёными ногтями лежит, растопыренная, у него на колене. Она напоминает когтистую лапу хищной птицы. Это рука закалённого человека, рука, которой Итобал пользуется в повседневной жизни. Ею он устраняет преграды и неприятности. Оказывается, Итобал ещё и кусает ногти. Но только на правой руке. Его чувствительная и нервная правая рука превратилась для него в род щупальца. Послюнявив палец, он с его помощью определяет, откуда дует ветер. Или, приложив пальцы к виску, считает пульс. Или погружается в изучение линий ладони.
Вот он, наигранно передёрнувшись, вскакивает с кресла и наподдаёт его ногой.
— Выкинь эту скрипучую дрянь! — возглашает он и становится прямо напротив Ганнибала. — Ты, значит, намерен заковать меня в цепи. Сразу видно, что тебе не известны настроения в Карфагене. Да меня нужно...
— Мне совершенно точно известно, — перебивает его Ганнибал, — что в Карфагене перестали подвергать распятию своих полководцев.
— А ты знаешь, что в Риме тебя называют задиристым молокососом?
— Насколько я понимаю, римские отроки страдают задержкой развития. Неужели в Риме кричат так громко, что эти вопли слышны по ту сторону моря?!
— По-видимому, ты считаешь, что твоя война не влетает Карфагену в копеечку. Вспомни про грандиозные перемещения войск из Испании в Карфаген и обратно. Они весьма дорого обходятся нам, владельцам торговых судов. Между прочим, мы не только не поняли этой меры, но и не приобрели благодаря ей чувства безопасности. Нам пришлось перебросить тридцать три тысячи воинов. Учти, что мы могли взять на борт не более двухсот человек зараз. Восемнадцать тысяч африканцев нужно было переправить в Испанию, а пятнадцать тысяч испанцев — к нам.
— Как вы не сообразили, что я потребовал этих перемещений, чтобы разлучить наёмников с их народом? Неужели вашему пониманию недоступно, что таким образом они к тому же становятся заложниками на случай восстания у себя на родине?
Итобал щёлкает пальцами:
— Дай мне тоже такие козлы.
Козлы притаскиваю ему я. Он на пробу садится, но остаётся недоволен. Этот проворный в делах человек обладает нетерпеливым характером. На мгновение в лице Итобала проступает его истинный возраст.
— Страдать от скрипа приходится не только мне, но и вам, — говорит, демонстративно плюхаясь обратно в кресло.
— Мы завели его ради одного царя, — поясняет Магон. — Но царь так и не объявился.
— Повторяю, — продолжает Итобал, — что моя партия настаивает на изменении твоего политического курса, пока ещё не поздно и у тебя есть выбор.
— Твои слова пока что не открыли мне новых путей.
— В таком случае, ты ослеплён собственными планами. Именно теперь есть возможность повернуть карфагенскую политику в сторону обороны.
— Ты не рассчитываешь, что мы одолеем Альпы?
— Возможно, наш бог удачи Гад проявит к тебе благосклонность и ты сумеешь перевалить через горы с отборной дружиной. Но чтобы в целости перебралось всё войско, нет, в это я не верю. Оно и так у тебя сократилось вдвое. Вот чего уже стоил твой обходной путь в Италию.
— Я нашёл для нас хорошую, безопасную дорогу и, если угодно, путь к отступлению.
— А оказавшись в Италии, что ты станешь там делать в это время года? Скорее всего, пойдёшь на зимние квартиры.
— Но тогда и римские легионы пойдут на зимние квартиры. Тогда прекратится — или, по крайней мере, сократится — судоходство. Я не собираюсь перед зимой затребовать себе подкрепления ни из Карфагена, ни из Испании.
— Наша торговля с Египтом и со странами Востока уже и так понесла серьёзный ущерб. Римские разведывательные суда то и дело останавливают для проверки наши торговые корабли. Не спасает положения даже то, что мы отправляем их красться вдоль ливийского побережья.
— Меня порадовал твой предыдущий рассказ о карфагенском флоте. Важно, чтобы могли иногда побеспокоить приморские города на юге Италии, и прежде всего в Сицилии.
— В Сиракузах ещё жив старый царь Гиерон. Он волнует нас куда больше, нежели римский консул Семпроний, стоящий там же с огромной флотилией и массой солдат.
— Когда я обоснуюсь в Италии, легионы больше не будут раскалываться, никто не пошлёт часть отрядов в Испанию, а часть — в Карфаген. Все они сосредоточатся на мне.
— Ради будущего Карфагена ты должен подумать над выработкой оборонительной тактики.
— Это невозможно. Ведь мои взгляды, кажется, разделяет большинство в государственном совете...
— Не могу сказать, чтобы ты слишком старался пойти мне навстречу.
— Я уже получил полномочия Главнокомандующего, а потому равняюсь не на меньшинство, каким бы громкоголосым оно ни было. Само собой разумеется, я обдумывал и другие планы. Как же иначе? Но я один за другим отверг их, решив придерживаться того плана, над воплощением которого мы сейчас и трудимся. Весь мир изумится, когда мы переберёмся через Альпы.
— Да, если это вам удастся! Но почему не ответить на вызов Сципиона? Это стало бы твоим первым соприкосновением с римскими легионами. Если ты победишь его, тебе будут оказывать меньшее противостояние на родине.
— Я не собираюсь вступать в бой со Сципионом здесь, в Галлии.
— Однако если ты побьёшь его, что это будет означать?
— Напрасную трату времени. Против этого говорит хотя бы сезон. Мне нужно перебраться через Альпы до снегопадов.
— Но Сципион, отчаявшись догнать тебя, повернёт назад и нанесёт удар в Испании.
— Там его встретят мой брат Гасдрубал и военачальник Ганнон.
— Я предпочёл бы, чтобы его встретил ты.
— Этому не бывать.
— Хорошо бы вы, Баркиды, немножко...
— Сетуя по поводу Баркидов, не забывай о том, что ты сетуешь и по поводу выплаченной Риму контрибуции, и по поводу огромных доходов, которые Карфаген получает от серебряных рудников Сьерры-Морены.
— Ганнибал, давай поговорим начистоту. Скажи, что ты собираешься предпринять, если вам удастся пройти в Италию.
— С удовольствием.
— Отлично. Я выслушаю тебя не перебивая.
— Я собираюсь вести себя как фараонова мышь, Ихневмон[147].
— Будь добр, избавь меня от красивых образов. Объясни простыми словами, что ты намерен делать.
— Не могу.
— Ну что ж. Придётся послушать твои метафоры. Итак, как ведёт себя твой образец для подражания, фараонова мышь?
— Об этом повествуют Геродот с Аристотелем, а также многие другие авторы.
— Понятно. Но речь сейчас о тебе.
— Когда крокодил наелся до отвала...
— Ага, ещё один зверь!
— Что представляет собой Рим, если не толстого крокодила, который лежит с разинутой пастью, заглотив сначала италийские государства, потом наши острова и житницы — Сицилию и Сардинию, а заодно, по недогляду, и Корсику, отнюдь не столь богатую пшеницей? Набив брюхо, крокодил укладывается поспать на отмели.
— Когда это Рим спал?
— Когда он, вместо того чтобы сразу ударить по нашим испанским владениям, дал нам возможность набрать денег на контрибуцию. Более того, мы даже сумели восстановить своё богатство. Скажешь, Рим в это время не спал?
— А что было с твоим образцом, фараоновой мышью?
— Ты обещал не перебивать меня.
— Я обещал это раньше, чем ты перешёл на язык образов.
— Так ты хочешь послушать мой рассказ?
— Это зависит от тебя.
— Пока крокодил спит с разинутой пастью, появляются птицы и начинают выклёвывать пищу из его зубов, очищая их.
— А когда появляется фараонова мышь?
— Разве крокодил-Рим не спит? Разве я не нахожусь там, где Рим меньше всего ждёт меня?
— Ты кого угодно введёшь в изумление, не один только Рим.
— Ихневмон узнает от птиц, что крокодил спит. На всякий случай он ещё вываливается в глине, чтобы его можно было принять за глиняный ком.
— А ты в этих Альпах превратишься в снежный ком.
— Теперь Ихневмон отваживается на то, на что не решается ни один другой зверь. Он бросается крокодилу в пасть. Из глотки он пробирается к крокодилову сердцу, рвёт его на части и съедает. Потом он раздирает все внутренности. Когда крокодил испускает дух, Ихневмон выгрызает себе путь наружу. Теперь ты понимаешь мой план войны, Итобал?
— Увы, я не слишком силён в языке образов. Что ты высокого мнения о себе, — ты ведь это хотел выразить своими животными иносказаниями? — я знал и раньше.
— В таком случае, ты получил подтверждение своему знанию.
— Я признаю, что моё посольство провалилось, по крайней мере, в одном отношении. Теперь мне остаётся лишь передать тебе требование, единодушно одобренное советом старейшин. Мы хотели бы, чтобы твоя жена Имильке переехала в Карфаген.
— В заложницы! — бушует братец Магон. — Что вы потребуете дальше?
— Ваша изумительная и высокоуважаемая матушка, Анна Барка, очень хотела бы видеть у себя свою невестку, — продолжает Итобал. — Ничто не препятствует тому, чтобы госпожу Имильке сопровождали её служанки и несколько человек родни.
— Вы как ни торопитесь, а всё опаздываете. Сие требование выполнено.
— Что значит выполнено? — удивляется Итобал.
— А то, что я уже месяц назад послал по этому поводу два письма. Одно — брату Гасдрубалу, с просьбой обеспечить переезд моей супруги в Карфаген. Второе — моей матери, с просьбой приготовить достойные её апартаменты.
— Да благоволит к тебе и дальше бог удачи Гад, — говорит Итобал. — От меня он, по-видимому, отвернулся. Впрочем, не могу сказать, что напрасно проделал сей долгий путь. Я многое увидел собственными глазами. К тому же я воспользовался случаем сделать кое-какие дела.
На другой день мне пришлось по поручению Ганнибала-Победителя сочинять письма Гасдрубалу и Анне Барка.
«КАРФАГЕНСКАЯ ПОЭМА»
I
В сердце у меня полыхает пожар горя, подавленная душа посыпается пеплом, и мне безумно стыдно. Мои способности к сочинительству отказали. Нет ни малейшего желания формулировать свои мысли. Я пытаюсь перечитать отрывки и сделанные для памяти заметки, но меня мгновенно охватывает рассеянность, которая лишь расширяет пространство страдания. А в этом пространстве нет места поэту и сочинителю. К чему мне себя применить? У меня нет сил на то, чтобы связывать воедино записи, образуя из них оригинальные картины. Муза покинула меня. Очевидно, она вступила в сговор с господствующим мнением. Или я ошибаюсь, поддавшись внушению какого-нибудь демона? Как бы то ни было, я чувствую себя так, словно меня голым выставили при свете дня на площади, на всеобщее обозрение и поругание.
Вместо того чтобы писать, я сижу и взвешиваю составляющие своей жизни. И у меня не выходит ничего хорошего. Как я ни подгоняю вес и ценность, мне не удаётся отрегулировать весы так, чтобы я сам стал их язычком. Один-единственный груз не в мою пользу перетягивает все остальные, а потому никакое сочетание их — за и против меня — не даёт того дисбаланса, который был бы благоприятен для моего дела. Зато груз против тут же опускает чашу весов до самого низа. А оттуда меня и моё сочинение не поднять никаким лингвистическим рычагом или риторическим выкрутасом — скорее мне поможет эта рабочая тетрадь, в которую я собираюсь каждую свободную минуту заносить новые темы, дополняя прежние уточняющими подробностями, тетрадь, которую я собираюсь снова и снова перерабатывать на случай, если мой вожделенный эпос так и не будет сочинён.
Как — в общем и целом — обстоят дела? Если совсем коротко, то меня заполонило чувство вины. Во мне свирепствует стыд. Призвав на помощь все свои добродетели, всю образованность, весь рассудок, я обнаруживаю воздвигаемое рядом оборонительное сооружение, причём возводится оно не против окружающего мира, но против меня самого. Почему? Меня явно хотят огородить и заставить замолчать. «Ради всего святого, Йадамилк, помолчи! — слышу я многократно повторяющийся приказ. — Закрой глаза и иди дальше, контролируй своё перо, введи цензуру!» Иначе? Иначе «последняя рука» придаст твоим устам окончательную, посмертную форму.
Значит, писать о собственном бесстыдстве хуже, нежели молча предаваться ему. Мне не дают писать о том, о чём я хочу, и заставляют — о том, о чём не хочу. О Танит, ты, что видишь отверженное лицо моей матери, устреми взгляд на меня, помоги бедному писцу. Ты ведь знаешь, почему она горючими слезами выжгла всякую надежду со своего возлюбленного лица. Она сделала это ради меня, Танит. Ради того, чтобы лицо её единственного сына озарили успех и слава.
Нельзя безнаказанно писать о воздействии на нас, людей, теологии победы, особенно когда автор приводит в качестве главного примера самого себя. Я должен помалкивать о себе и своей всё глубже укореняющейся дурной наклонности. Ну конечно! Только таким образом мне удастся продвинуться ещё чуточку вперёд. Мой эпос значительно обогатился с того раза, как я делал последние записи. Итак, я возвращаюсь к тебе, ускользающий от понимания Ганнибал-Победитель, подразумевая под этим «возвращением» попытку через язык вновь обрести тебя.
— Ганнибал погиб!
Не помню, как были произнесены эти слова — криком или шёпотом. Всё войско застыло на месте. Произошло немыслимое. Время внезапно обратилось в ничто. Страны света перестали существовать и указывать направление. Меня окружают поникшие, утратившие дух люди, которым кажется, будто их плоть раздирает рвущийся наружу скелет. Только что жизнь их была проста, а мир устроен основательно и прочно. В один миг исчезла всякая очевидность. Все потеряли точку опоры. Жизнь стала холодной и какой-то облупившейся. У людей больше нет цели, им некуда сделать следующий шаг и не к чему стремиться в дальнейшем.
— Ганнибал погиб!
На нас пала ночь. Все пытались хоть что-нибудь рассмотреть в этой непроглядной тьме, непроглядной из-за смерти Ганнибала.
Что же случилось? Ты, Ганнибал, хотел быть на виду у всех. Ты хотел устроить для рати представление, исполнить блестящий трюк. У нас уже давно не происходило ничего знаменательного, и тебя охватило нетерпение. Ровный темп марша действовал тебе на нервы. Мы в это время шли на север по долине быка Родана. Никто не мог бы пожаловаться на состояние дороги. Мы продвигались без особых хлопот. Впереди у нас высился горный массив — предвкушение собственно Альп. Скалы громоздились друг на друга, обрываясь в бездну. Отвесные склоны были начисто лишены растительности. Вскоре мы, однако, перестали обращать внимание на складчатый массив. Наш путь лежал мимо него — вплотную, но всё же мимо. Это колоссальное собрание утёсов и плоскогорий было нам безразлично, оно как бы не существовало для нас. Только не для тебя, Ганнибал. В сопровождении небольшой свиты ты взобрался на гору и таким образом придал ей значимость в наших глазах. «Смотрите, Ганнибал!
Во даёт! Ну шутник...» — донеслись до меня восхищённые голоса.
Но там, наверху, его конь испугался и стал на дыбы. Испуг этот был столь неожиданным и выразился столь бурно, что ты, Ганнибал, слетел с лошадиной спины, точно оттолкнувшись от трамплина. И толчок этот был настолько сильным, что ты пушинкой полетел вдоль отвесных скал (именно к такому сравнению прибегали впоследствии многие очевидцы). Твой благородный жеребец тоже обрушился вниз. Эти два падения были совершенно не похожи друг на друга. Конь фырчал, ополоумев от страха, а его копыта выбивали из скалы искры. Потом жеребец начал сам биться о каменную стену. К этому времени он был уже мёртв. Подчиняясь прихоти горы, глыба безжизненной плоти поочерёдно то стукалась о камни, то проволакивалась по ним. Ещё мгновение — и полёт прекратился. Многие даже удивились, что гора вдруг перестала с прежней крутизной обрываться вниз: казалось, будто она делала это намеренно, прикладывая все свои недюжинные силы. Несколько секунд воины, затаив дыхание и приставив ладони к надбровным дугам, не сводили взглядов с откоса.
Всё-таки, Ганнибал, слово «пушинка» плохо подходит к твоему случаю. Оно применимо лишь потому, что им воспользовались многие. О твоём теле и о твоём путешествии вниз явно позаботился Владыка Гор, Баал-Либанон. Гора сама разметила трассу твоего слалома, так что ты спускался, плавно скользя вправо-влево. Бог заставил твоё тело мягко подстраиваться под особенности горного рельефа. В отличие от жеребца, ты был совершенно пассивен. Почему? Потому что полагался на Судьбу? Хотелось бы думать, что так. Ты не пытался ухватиться за скалу или за камень, дабы остановить падение. Ты не скорчился в знак протеста против того, что происходило с тобой. Очевидно, ты не смотрел ни вверх, ни вниз: вверх — на свиту или на слона, который внезапно попятился и наступил на копыто твоему коню, вниз — на воинов, стоящих с разинутыми ртами, не в силах поверить в то, чему они стали свидетелями. Нет, ты не летел кружась, как пушинка, ты быстро и плавно скользил вниз, виляя из стороны в сторону, словно ручеёк. Твоё тело доверилось чужим рукам, которые бережно переворачивали его — со спины на живот, потом обратно на спину. Перед ещё более крутым обрывом тело твоё принял карниз, который остановил падение, задержал тебя, отчего на только что бывшую грозной гору снизошли смирение и кротость.
— Между прочим, там росла толокнянка, — рассказывает кельт Негг. — И было полно ягод. Я набрал целую горсть, потому что очень люблю толокнянку— или, как мы её называем, медвежью ягоду, — особенно если её прихватило морозцем, тогда она перестаёт быть такой мучнистой. Так что Ганнибал там неплохо устроился, его ягодное ложе было помягче того, на котором приходится спать мне.
Но что было думать о тебе всем остальным? Минута проходила за минутой, а ты лежал недвижим. Смотревшие на тебя сверху видели лишь расслабленное, податливое тело — тело спящего, или потерявшего сознание, или скончавшегося. Неужели ты и впрямь умер? А если нет, почему не закричал? Почему не поднял руку, показывая всем, что это ещё не конец? Я могу полагаться только на твои слова о том, что ты испытал там, где долину Родана теснят восхитительные в своей дикой красе горы. Невредимо лёжа на уступе, ты одновременно, невесомый, пребывал в некоей Пустоте, и в твоих чертах, всё глубже отпечатывалась смерть: сначала она проявила себя в мягких тканях, затем в костях, затем во внутренностях, которые эти кости призваны оберегать. Ты ощущал блаженство. Всё поверхностное в твоей жизни рассеялось, у тебя не осталось ни целей, ни намерений. Твой страх был уничтожен страданиями, а твои страдания поглощены способностью выстоять. Головокружительное счастье вознесло тебя на высоту, с которой ты мог распоряжаться своей судьбой и с которой видел человека, равнодушного к тому, будет он жить на свете или нет. Твоя жизнь свершилась. Теперешнее ощущение не могло быть превзойдено, сколько бы ты ещё ни прожил: это было счастье человека, подчинившего себе страх и таким образом вырвавшего его из своего сердца.
Твоя ошеломлённая свита, часть которой спешилась, а часть продолжала сидеть верхом, естественно, хотела получить точные сведения о случившемся на их глазах. Они закостенели, а их кровь заледенела при мысли сначала о непосредственных, затем — о более отдалённых его последствиях. Сие конкретное происшествие способствовало кипению среди свиты страстей, связанных с открывавшимися возможностями, оно смешало её мысли и чувства, породило идеи и прожекты, которые могли перетасовать всё и вся, поменяв людей ролями и представив их в новом свете.
Падение правителя, причём падение буквальное, повлёкшее за собой появление трупа, казалось бы, не предъявляет ни к кому дополнительных требований. Все мёртвые тела схожи в том смысле, что смерть в любом случае имеет одинаковые последствия: смерть убивает тело, убивает человека. Однако с кончиной правителя связаны некие экстраординарные явления. Она высвобождает тени: власть и почести, богатство и возможность распоряжаться им, право повелевать и ожидать подчинения, дела, оставшиеся неоконченными и требующие завершения, — всё, что само по себе, казалось бы, ничто, поскольку больше нет тела, к которому это прилагалось, нет человека, который нёс бремя всего этого, правитель лежит мёртвый. Призрачные мороки, одуряющие тени разлетаются в разные стороны от того, кто не только более не способен ничего нести, но кого нужно нести другим. В такие минуты держава и власть на некоторое время съёживаются, боевой дух утрачивается, кругом воцаряется пустота.
Сами же тени взмывают вверх и начинают парить над головами. Они ищут и одновременно не ищут себе новых хозяев, пытаются соблазнить и бегут их. В самый что ни на есть ответственный период они заигрывают и дразнят: «Возьмите нас, если сумеете!» В иерархической структуре приближённых, в которой совсем недавно каждый знал своё место, наступает бурление и хаос, да, хаос, который потрясает её до самого основания. Званые и незваные начинают ссориться, интриговать и мысленно даже драться за эти тени, оставленные смертью на попечение живых.
Кто будет облечён тем, от чего смерть освободила правителя? Как и когда это произойдёт? Облекающие пока пустоту одежды дрожат, словно тени в Аиде. В точности как раньше уже не будет, даже тени не останутся прежними. Каждый честолюбец становится разбойником Прокрустом[148]: если одеяние слишком коротко, его необходимо вытянуть, если слишком длинно — обрубить.
Кто сопоставит правителей и героев с тенями, которые отбрасывают порабощённые? Это сделаю прямо сейчас я, Йадамилк. Власть и славу нужно откуда-то взять, их нужно захватить и похитить, нужно сосредоточить в одном месте и копить дальше, на них нужно навести лоск, чтобы они ослепляли живых. Тени, чёрные мороки, которых не желает знать смерть, исходят от подавляемых. Правителям нужно иметь в своём распоряжении тех, кем править, повелителям — тех, кому повелевать, героям нужны побеждённые и неудачники. Тому, кто, облечённый великолепием, стоит впереди, нужны толпящиеся вдали оборванцы; бедняки видят свою нужду в зеркале неизрасходованного богатства богачей, ибо богатство всегда продолжает накапливаться и остаётся неизрасходованным. Когда власть, полномочия и ценности отбираются у людей в пользу правителя, героя и богача, тогда бедные и объявленные недееспособными видят, что блеск и всякие побрякушки не более чем тени, которые отбросили от себя сами бедняки.
Ганнибал испытал Ничто и преодолел его. Он до конца испил чашу, наполненную для него Небытием.
Но об этом не знали ни свита, ни кто-либо другой — за исключением богов, пожелавших подвергнуть его такому испытанию. Сам я даже не видел падения. Однако до меня, еле передвигавшего свинцовые ноги рядом с Медовым Копытом, донеслись сначала гул удивления, затем испуганные крики и красноречивая тишина. Мой раб Астер шёл сзади и своим зорким, терпеливым взглядом следил за тем, как я справляюсь с трудностями пути. Он носил тюрбан на манер мученического венца: совпадение, о буквальности которого не подозревали тогда ни он, ни я; теперь же я представляю его себе в этом венце — распростёртое во весь рост, искалеченное, забитое до смерти тело.
Пока я плёлся вперёд, произошло нечто заслуживающее внимания. Навстречу нам, против движения войска, протиснулся отряд верховых карфагенян. Их послали усилить охрану воинской казны и других находящихся при нас ценностей. Если Ганнибал и правда погиб, всякое может случиться... Будет ли теперь отменен переход через Альпы, или Рим по-прежнему останется нашей целью? Возможно, кто-то уже приказал поворачивать назад? Возможно, уже прозвучал приказ перебросить все силы в Испанию и Карфаген... или вовсе распустить наше войско?
Значит, какой-то приближённый уже примерил на себя одну из освободившихся после Ганнибала теней и сообразил, чем это чревато: «Выставьте охрану у воинской казны и всего, что имеет обменную ценность. Карфагеняне, окружите железным кольцом богатства, которые служат залогом нашего будущего! Наёмники могут взбунтоваться и отнять их!»
— Ганнибал мёртв! — послышались крики впереди и сзади меня.
Я не мог в это поверить.
— Это неправда! Замолчите! Это не может быть правдой! — возопил я.
Я был настолько уверен, что продолжал кричать — между приступами тяжёлого удушья. О, боги, мне было необходимо, чтобы Ганнибал был жив. Ганнибаловы победы должны были стать моими победами. Ганнибаловы деяния должны были породить мои деяния, которым ещё предстояло расти и зреть. «Ошибка, обман зрения, путаница, — шептал я самому себе, — кто-то другой, а не Ганнибал, упал с обрыва и расшибся насмерть». Я не переставал успокаивать себя этим бормотанием, пока крики вокруг не сменились другими, которых я именно и ждал:
— Ганнибал жив! Ганнибал жив!
И всё же конь сбросил его, а не кого-то ещё, и он пролетел вниз довольно большое расстояние. Что произошло потом? Помог ли кто-нибудь из приближённых своему начальнику и повелителю? Пока нет. В головах свиты молниями замелькали разнообразные возможности, завертелось всё, что с этой минуты могло принять тысячу разных оборотов, закрутился вихрь теней, которые отбрасывают от себя беспомощные и бремя которых смерть снимает с тела, когда производит свою опустошительную работу. Ганнибал лежал труп трупом, не подавая ни малейших признаков жизни. «Воинская касса, нам следует опасаться наёмников!» — подумал один из свиты. «Нужно раздобыть верёвки и какие-то приспособления, чтобы поднять тело сюда: снизу до Ганнибала не добраться», — произнёс другой. Не успел этот последний закончить фразу и повелеть доставить на уступ всё необходимое, как увидел внизу полуобнажённого мужчину, который лез на отвесно вздымавшуюся над ним скалу: гора продолжала как ни в чём не бывало возвышаться всей своей коварной массой и даже улыбаться яркозубой улыбкой, когда на её поверхность попадало ослепительное солнце.
А карабкался снизу кельт по имени Негг. Мне не довелось наблюдать за его отчаянным поступком. Не столько из-за расстояния, сколько из-за крутого изгиба скалы я был лишён удовольствия насладиться сим жутким зрелищем, когда Негг, шаг за шагом находя опору для рук и ног, поднимался всё выше и выше и преодолевал нарастающее сопротивление горы. Мало-помалу Негг добрался до небольшого карниза, на котором лежал Ганнибал, чувствуя себя, с одной стороны, спасенным-для продолжения победоносной жизни, а с другой — брошенным в пустоту небытия.
Что там найдёт Негг? Такой вопрос задавали себе все. Мёртвого Главнокомандующего, изувеченного предводителя, обессиленного царя, властителя, парализованного страхом?
Кельты обычно значительно выше ростом и крепче, нежели мы, уроженцы южных краёв. Негг же был великаном даже среди кельтов. Долезши до Ганнибала, он набрал полную горсть медвежьих ягод и засунул себе в рот. Только после этого он наклонился и поднял Главнокомандующего. Он вознёс всё ещё безжизненное тело Ганнибала над головой, словно хвастаясь трофеем или собираясь низринуть в пропасть врага.
— Безумец! Сорвиголова! Преступник!
Эти и подобные слова неслись со всех сторон. Но Негг едва ли слышал их. Он неторопливо делал своё дело. Ганнибал не очень рослый, поэтому, нагнувшись, чтобы ещё раз набить себе рот медвежьими ягодами, мастодонт Негг взял его под мышку. Кельту нравятся ягоды, он считает, что они придают ему силы, что они полезны для здоровья. Подкрепившись, он продолжил восхождение — уже с Ганнибалом на спине. Надо сказать, что Негг нёс его довольно странным образом. Он не перебросил Ганнибала через плечо, крепко прихватив за оба запястья. Нет, Ганнибалу пришлось висеть, вытянувшись во всю длину, вдоль могучей спины Негга. Ганнибаловы руки кельт перетянул к себе на грудь, где и сжимал в одном из кулаков.
Однако до сих пор зрители не могли решить, жив Ганнибал или умер. Большинство считало, что Негг спасает труп, вернее, не спасает, а поднимает к высокому уступу, на котором стояли приближённые и над которым, изогнув поджарую волчью спину, нависал ещё более высокий горный хребет. Негг лез размеренно и осторожно. Свободной рукой он то подтягивался, то использовал её для опоры. На расстоянии пяти-шести человеческих ростов от верха он опустил свою ношу. И тут войско ощутило дуновение свежести, которое переросло в крепкий порыв очистительного ветра.
Ганнибал встал на собственные ноги и оказался жив-здоров. У всех видевших это солдат вырвался ликующий вопль, крик победы. И он ещё долго перекатывался среди скал, поскольку Ганнибал сумел без посторонней помощи долезть доверху. Ожидавшая на уступе свита принялась громогласно выражать свой восторг. (Замаячившие было возможности испарились. Теперь всё вновь заполонила действительность). Одни махали руками, другие тянули их к Ганнибалу. Однако он не принял ничью протянутую руку. Вскарабкавшись наверх, он только обнял брата Магона.
— Тебе повезло, — шепнул ему Ганнибал. — На этот раз ты не должен принимать у меня эстафету.
В лице Магона сквозь муку уже просвечивала радость: прямо на глазах у Ганнибала с его лба, глаз и губ стали уходить признаки страдания и боли. Ведь брат Главнокомандующего был из тех, кто ни под каким видом не хочет примерить на себя тени обездоленных, дабы связать себя союзом с властью и славой. Магон хочет совершенно иначе распорядиться своей жизнью, он собирается — и твёрдо рассчитывает, что это ему удастся — сбросить с себя снаряжение военачальника, как только мы добьёмся победы над Римом. Ему хочется стать крупным винодельцем и земледельцем, заняться разведением племенных лошадей и рогатого скота.
— Прими мою благодарственную жертву, Баал-Хаммон! — кричит он так, что его слышит вся окружающая знать.
С Неггом у Ганнибала тоже разговор весьма короткий.
— У тебя есть конь?
— Нет, — отвечает тот.
— А верхом ездить умеешь?
— Ещё бы!
— Немедля дать кельту коня, — приказывает Ганнибал. — А ты, мой тёзка, военачальник Ганнибал, уступишь своего коня мне. Магон, — продолжает Главнокомандующий, — у тебя всегда есть с собой кошель с деньгами. Брось-ка его кельту.
Внизу, под уступом, продолжали ликовать солдаты. Весть о случившемся распространилась и в голову, и в хвост войска, дав повод многим трубить победу. Все были убеждены, что нам подан добрый, просто замечательный знак, отчего каждый ощутил прилив сил. Сам я тоже почувствовал в себе обновлённые силы и, оставив Медовое Копыто на попечение Астера, пустился бегом, надеясь как можно скорее повстречаться с Ганнибалом, причём на том самом месте, где произошёл сей необычайный случай.
Встреча несколько отложилась. Место вмешательства богов отыскать было нетрудно, его один за другим указывали мне проходившие мимо воины. Воздевая руки кверху, они провозглашали здравицу и слова благодарности, многих охватывало чувство сопричастности невероятному событию. Оно нашло и на меня, так что и я в толпе солдат вскинул руки и издал радостный вопль. Мне тоже оказалось трудно оторваться от этого благословенного места. В конце концов я покинул его, отдохнувший душой и телом. Я абсолютно не думал о своём эпосе. Я перестал повторять старые и искать новые симметрии, искать путеводные нити в глубине прошлого, отражённого в мифе о Европе, притом что это прошлое так и просилось на бумагу, оно хотело быть выраженным в словах и составить основу эпического полотна.
Однако прежде чем я протиснулся сквозь толпу к самому Ганнибалу, я стал свидетелем зрелища, отнявшим у меня только что обретённые силы. Во всяком случае, я сел на валун и смотрел, не отрываясь смотрел на танец, который в одиночестве исполнял на каменной плите совершенно голый человек богатырского сложения.
II
«Копейщик Негг. Наёмник, участвовавший во многих войнах. Спаситель гезат. Герой-кельт».
Эти и многие другие слова слышал я от проходивших мимо воинов, но ни один, кроме меня, не остановился и не сел рядом. Вероятно, все устали и проголодались и хотели поскорее попасть туда, где армия могла бы встать на ночлег.
Не знаю, сколько времени я просидел на этом камне, помню только, что меня догнал слуга с обожаемым Медовым Копытом и со всей поклажей в целости и сохранности. Разумеется, они остановились, но я отстраняюще махнул рукой и пробормотал что-то в том духе, чтобы они шли дальше и оставили меня в покое, я, дескать, хочу ещё посидеть и посмотреть на танцующего кельта, и я вовсе не устал, напротив, чувствую себя превосходно.
Сейчас, когда я царапаю этот текст, я не уверен, что моему продолжительному сидению на камне способствовал вечерний пейзаж, однако думаю, что это было так, ибо я ощущал некую непостижимую и тем не менее очень глубокую согласованность между стихийно-церемониальным танцем кельта и едва ли не зловещим оживлением нависающих гор, которое нагнеталось косыми лучами клонящегося к закату солнца. Иногда мне казалось, что в эту минуту начинает исполняться приговор богов, что горы, представавшие моему взгляду — как, впрочем, и все горы на свете, — должны, того гляди, исчезнуть в бездонной глуби. На нас наступал могучий Океан. Он волна за волной накатывался на землю, которую заселили люди и на которой они паразитируют, словно имеют на неё естественное, а не временное, дарованное богами право. Не рокот ли моря доносится из дали? Возможно, уже вся Иберия до самого Ибера скрылась под посланными в наказание водами? Возможно, теперь очередь за Южной Галлией? И теперь люди будут истреблены с лица земли, как об этом рассказывается в многочисленных мифах о Всемирном потопе и водах Хаоса. Потоп наслал со своего трона Баал-Хаддад. Я слышу его зычный голос, от звука которого ломятся ливанские кедры, заставляя их стволы скакать подобно разыгравшимся телятам. Воды уже поднялись выше гор. Только твой голос способен призвать их к порядку. Повинуясь твоему грому, они откатываются назад, так же как по твоему хотению затапливают всё вокруг.
Вечернее солнце заливало горы своим тёплым светом, так что по откосам и изломанным остовам скал словно потёк поток расплавленной меди, в котором там и сям вспыхивало пламя разных оттенков красного — рубинового и карминного, пурпурного и багряного, приглушённого цвета гранита и яркого коралла. Эти переливы красок, вспыхивавшие по всей поверхности складчатых возвышенностей, напоминали пожар, который распространяется по городу, наконец-то взятому осаждающими и подожжённому ими. Языки пламени перескакивают с одного строения на другое, полосатыми тиграми ползут по кровлям, и кровожадно вгрызаясь в истекающие кровью прекрасные творения и поглощая их. Продвижение огня не могут остановить ни торжища или площади для собраний, ни голые стены укреплений или сторожевые башни. Творения человеческих рук, отражением которых стали эти каменные глыбы, и вообще всё, что открывалось взору, даже самые суровые и неприютные, самые безжизненные в мире скалы должны были расколоться, разломаться и рассыпаться в искрящийся прах, дабы на веки веков быть поглощёнными тьмой Хаоса.
Захватывая то один косой склон, то другой, солнечный свет поворачивал ко мне их горящие огнём бока. Каждая долина, какой бы она ни была широкой, каждое ущелье, каким бы оно ни было глубоким, не говоря уже о зияющих «драконовых ямах» или о хребтах, которые вздыбили свои волчьи спины, приготовившись к спасительному прыжку... Закат воспламенял всё, и взметнувшееся ввысь, и прячущееся в углублении. А когда взгляд мой заскользил по опустошению, чтобы посмотреть, что осталось после недолгого полыхания, я обнаружил чёрную гору, зазубренную и посиневшую, громоздившиеся останки которой окутывались тенью и мраком. Там же, куда ещё просачивались сверху лучи-последыши, на меня смотрели молчаливые, как сфинксы или мумии, громады, тронутые сизыми оттенками синевы, которая постепенно переходила в аквамариновый и темно-кобальтовый.
Мимо меня по-прежнему тащились ступавшие всё более грузным шагом солдаты. Танцующий кельт ничего не замечал. Он вообще не видел и не слышал того, что происходило в это время на земле. Он исполнял сложный круговой танец. Пройдя полкруга, он притопывал правой ногой, а завершив полный круг — либо вскидывал руки вверх, либо раскидывал их в стороны. Я вычислил, что на каждом третьем кругу он приседает на корточки и совершает из этого положения высокий скачок, который изгибает его тело в виде некоего загадочного знака, обращённого в открытый космос. Определённое число раз постучав босыми ногами по каменной плите, он в прежнем темпе и с прежними па возобновлял своё круговое движение.
Лицо Негга было неизменно обращено ввысь. Набрякшие веки прикрывали глаза под высокими надбровными дугами, из редких усов, задиравшихся к ноздрям, когда он, фыркая, выдыхал через рот, выпячивались пухлые губы. Когда Негг подпрыгивал, превращаясь в непонятный знак, раздавался пронзительный свист, напоминающий звук цикады, а когда он топал ногами, то хрюкал, словно эфиопская свинья. Волосы он на кельтский манер вымазал густой пастой и зачесал назад, так что на затылке они топорщились упрямыми колючками. И Негг был совершенно голый. О том, что кельты иногда сражаются в обнажённом виде, я слышал, однако не подозревал, что речь идёт о полной разоблачённости. Если не считать золотого ожерелья на шее и пояса, стягивавшего более чем округлый живот Негга, он был полностью обнажён. Его увесистая мошонка металась во время танца из стороны в сторону, словно летучая мышь, которая, как ни велико было искушение, всё не решалась выпустить из когтей надёжную ветку в недрах Негга.
Я не в состоянии объяснить даже себе, почему меня так очаровали разоблачённый варвар и его затейливая пляска. Конечно, он привлекал внимание своей оригинальностью, а танец его был весьма неоднозначен, но в других случаях человек одержимый или впавший в экстаз скорее оттолкнул бы меня. Однако зрелища того вечера низвели эпика на роль ошарашенного наблюдателя, которого временами охватывало ощущение, будто самосозерцание этой пылающей горы и этого пляшущего великана может в любую минуту стереть меня с лица земли. Я воспринимал всё, не противясь впечатлениям и не пытаясь отбирать их. Воздух, который я вдыхал, пах так, будто рядом в гору ударила молния. Сердце моё не билось сильнее от изумления: оно вообще не давало о себе знать. Я перестал чувствовать своё тело, я почти утратил способность думать, а потому перестал соотносить созерцаемое с чем-либо, в том числе со своим эпосом или со своей судьбой, с Ганнибалом или с предприятием, которое затеяли мы, карфагеняне, отчего нам и приходится идти через эту дикую местность и становиться свидетелями сих грубых зрелищ. Боги разломали эти горные массивы, дабы продемонстрировать нам, или одному мне, как происходило сотворение мира и как оно похоже на его погибель. Начало и конец пересекаются друг с другом, и никому не известно, что будет дальше: резкий подъём или полное разрушение. Представшее передо мной привело к утрате памяти. Я был опустошён и выскоблен от всего относившегося к воспитанию и фактическому знанию. Моя просвещённость была отброшена в сторону и стала недоступной для меня, всякая окультуренность испарилась, моё будущее осталось за бортом.
Вот почему я далеко не сразу сообразил, к чему призывает меня Ганнибал, который незаметно для меня, в сопровождении двух военачальников, подъехал сзади, Он не интересовался мною и не разыскивал Негга. Ганнибал просто хотел показаться как можно большему числу воинов, дабы все увидели, что он не пострадал и находится в добром здравии. Случайно обнаружив тут меня, он остановил коня и крикнул:
— Йадамилк, займись кельтом!
Ему пришлось прокричать это не единожды, прежде чем я вскочил на ноги. Возможно, я бы и тогда не услышал знакомый голос, если бы Негг в эту самую минуту не прекратил танец. Резким движением он вышел из круга и из своего экстаза — тяжело, как бык, оставляющий корову, с которой только что спаривался. Теперь это был другой человек, другое создание, в совершенно ином состоянии. Я взглянул на каменную плиту, на которой разыгрывалось это дикое и неукротимое поэтическое представление, затем перевёл взор на запыхавшегося колосса, который скованными, косолапыми шагами приближался ко мне. А потом я последовал за этим великаном, не понимая, зачем это может быть кому-нибудь нужно.
Негг привязал новообретённого коня к лиственнице, хвоя которой осенней желтизной соперничала с его собственными усами. Кошель с деньгами он, оказывается, прикрепил коню под хвост. Поверх снятой одежды кельт положил два копья, одно из которых длинней и тяжелее второго — это и был гез, от которого получили своё название гезаты. С Негга ручьями тёк пот, и он вытер его, легонько потеревшись торсом о коня. Лицо и подмышки он обтёр гривой, пах — конским хвостом. Затем он оделся, под моим молчаливым взглядом. Сам Негг тоже не произносил ни слова, даже не пытался. Изредка лишь слышалось его сопение — когда он натягивал штаны или отвязывал из-под лошадиного хвоста кошель, чтобы спрятать его за пазухой. Приведя себя в порядок, он, однако, не стал садиться верхом, а, взяв коня за гриву, вывел его на тропу. Я пошёл следом и, насколько я помню, первое, о чём я подумал на более или менее цивилизованном уровне, было: «Римляне называют тех, кто носит штаны, braccati, что значит также «чужаки».
Мысль незатейливая, и всё же начало было положено. Вскоре я оказался способен к размышлениям. Похоже, римляне едва ли не всегда говорят о других народах чуть презрительно. Или я ошибаюсь? Может, и мы, карфагеняне, действуем так же? И греки тоже? По части оскорблений греки, пожалуй, переплюнут всех, решил я. Впрочем, римляне уже наступают им на пятки и, того гляди, перещеголяют греков, если только Ганнибалу не удастся усмирить их всех. Наш антагонизм с греками, так же как и римский, возник на политической почве, рассуждал я далее. Выдвигая некоторые возражения против греческой культуры, мы в основном принимаем её; ведь это равносильно возвращению на родину и использованию того, что греки похитили у восточных финикийцев, разумеется, в несколько изменённом виде: более изощрённом и изысканном. Именно из политических соображений мы некогда объединились против греков с Римом[149] (с селом под названием Рим!), из чего, однако, получилось много договоров и мало военных действий. Этруски куда больше помогли нам, когда нужно было оттеснять или останавливать греков, постепенно прибиравших к рукам Италию и прочие удобные земли в Западном Средиземноморье.
Учиться у римлян нам было нечему. С ними мы обменивались товарами, вероятно, с большей выгодой для самих себя. Прежде чем общаться на более высоком уровне, Рим должен пройти выучку. Но он слишком ограждён собственным тщеславием, чтобы в открытую идти к кому-то в ученики. Римляне предпочитают действовать noctu et tenebris, ночью и в сумерках. Для чеканки монеты им пришлось позаимствовать ремесленников из Птолемеева Египта. Но они даже в этом не смогли или не захотели признаться. При свете дня они называют всё своим. Впрочем, римским старикам издавна трудно примириться с чем-либо новым, пока они не убедятся в его полезности. Сначала они стоят обескураженные, разинув рты, потом обозлённые и обиженные, примерно как в своё время стояли у Козлиного болота римские праотцы после знаменитого вознесения на небо Ромула[150]: царь тютю, царский трон опустел. А на что нужен трон, если царя больше нет? Так же и теперь: на что нужны всякие новомодные штучки, если прародители прекрасно обходились без них? Впрочем, выражения лиц меняются, а логика выправляется, стоит только старикам убедиться, что новое может обернуться большей выгодой, большей славой, большей добродетелью, большей властью. Но Рим не был бы Римом, если бы там тотчас не затевали огораживания в виде юридических и словесных ухищрений, дабы поставить на нововведениях собственное клеймо и сделать их столь же покорными, как стадо коров или баранов. В общем, в глубине у них юридические параграфы, а сверху — недобрый глаз, который рад изурочить что угодно. У нас тоже есть и свои законы, и свои недоброжелатели, поэтому мы, карфагеняне, всегда будем называть римлян так, как они того заслуживают: воры, разбойники, насильники, мародёры, губители культуры, — и соответственно обращаться с ними.
— Эй ты, — обращается ко мне Негг. — Подойди, я кое-что скажу.
Я выполняю его просьбу.
— Ты не хочешь купить этого жеребца?
— У меня уже есть конь, — отвечаю я.
— Такой же хороший, как этот?
— Может, даже лучше.
— А двух тебе не надо?
— Нет. Ты же знаешь, куда мы идём. Боюсь, когда мы полезем на сами Альпы, там трудно будет добыть еду даже для одного.
— Чушь, — добродушно бросает Негг. — Если у тебя две лошади, можно на одну нагрузить столько еды, чтобы хватило на двух.
— Это не пришло мне в голову.
— Ясное дело.
Выждав совсем недолго, он продолжает:
— Ну, а теперь? Надумал?
— Нет, — отзываюсь я.
— Ты говоришь «нет» одной лошади или двум?
— Я не понимаю.
— Ты говоришь «нет» покупке коня или той идее, которую ты должен был продумать, но пока этого не сделал?
— Я сказал «нет».
— У тебя нет денег?
— Чтоб я да не нашёл денег...
— «Чтоб я да не удержал...» — сказал рыбак, сжимая в руке угря. «Чтоб я да не ушёл...» — сказал угорь, выскальзывая из его руки и возвращаясь в свою стихию.
— Оказывается, ты умеешь не только лазать по скалам и танцевать, но и трепать языком. У тебя весьма разносторонние способности.
— Так как насчёт покупки?
— Если ты не хочешь сохранить жеребца, подаренного самим Ганнибалом, тебе придётся продать его кому-нибудь другому.
— Поверь мне, ты ещё будешь проклинать собственную глупость. Поднимешься в Альпы — увидишь, какой ты неисправимый балда.
— Ты ещё и дерзить умеешь.
— Уж как-нибудь! Пока торгуешься, можно выдвигать сколько угодно резонов за и против. Разве тебе это не известно? Кстати, как зовут твоего коня?
— Медовое Копыто.
— Рано или поздно тебе придётся его съесть.
— Не думай, что тебе всё будет сходить с руте только потому, что ты вызволил Ганнибала из трудного положения. К тому же я с тобой вовсе не торговался.
— Разве ты не ответил на моё предложение?
— Я сказал «нет».
— Если человек отвечает на предложение, значит, началась торговля. Это должно быть ясно даже карфагенянину. А теперь кроме шуток: чтобы переправить через Альпы одного коня, нужно иметь двух.
— Откуда тебе это знать? — возражаю я. — И что будет с тобой? Ты ведь намерен справиться вообще без лошади.
— Я не питаюсь травой, тем более вялой и сохлой.
— Почему ты не хочешь оставить жеребца себе? Потому что он у тебя один?
— «Скотина!» — сказал телёнок маме-корове. «Попка дурак!» — сказал попугайчик попугаихе. «Осёл!» — сказал мул своему папаше. Конь лишает человека свободы и делает копейщика непригодным к бою.
— Первый раз слышу, — уязвлённо откликаюсь я.
— Я так и думал, — быстро парирует Негг. — Разве верхом можно достаточно сильно метнуть тяжёлое копьё? Чтобы бросок был удачным, копейщик должен стоять на твёрдой земле.
— Буду иметь в виду.
— Ты многого не знаешь об этой жизни: ни как прокормить коня, ни как лучше метать копьё в бою. Ну ладно, покупаешь моего жеребца?
— Нет.
— Смотри не пожалей, — говорит Негг, отвергая меня и как покупателя, и как собеседника.
Тем временем мы вошли в тень горы, уже погруженной в ночную тьму. Жёлтая хвоя лиственницы кажется закопчённой рваной паутиной. Мысли мои возвращаются к Ганнибалу и к эпосу, потом я спрашиваю себя, хватит ли у меня сил догнать слугу и своего любимца Медовое Копыто. Я пробую прибавить ходу, но обнаруживаю, что с каждым преодолённым участком пути в теле накапливается тяжесть. При каждом шаге невидимая рука вешает на меня гирю за гирей, надеясь, что я пойду под этой тяжестью на дно. Удивительное дело: та же самая плоть всё тяжелеет и тяжелеет...
Я со вздохом вспоминаю свою рабочую тетрадь. Мне надо бы радоваться, что она есть, и я радуюсь этому. Неужели вы, карфагенские полководцы, вы, священнослужители, и вы, близкие мне просвещённые люди, считаете, что я не знаю требований, предъявляемых к поэту? Жгучая тяга к чему-либо, которая, постепенно нарастая, в конечном счёте удовлетворяется. Чёткая ясность, которая приподнимает набрякшие веки и разгоняет сон. Показ тягот с упором не на их тягости, а на владении собой. При изображении боли не должно быть никакого нажима, по ней следует мягко проскальзывать: страдания и муки могут быть сильными, но их нужно затрагивать лишь походя, никакой смерти от тоски, никакого нагнетания страстей вокруг пустяков, капризов и прочих смехотворных вещей; главное — сохранить заданный тон, победа будет за ним, ибо он уже задан и преследует определённую цель (телос), заключающуюся в достижении ясности, владения чувствами, славы и красоты. Эх, моя тетрадь... пусть ты не поёшь и сама не есть песня, но ты заложишь основу, почву для моих песнопений; собственно говоря, ты уже заложила её, поскольку я решился вывести записанное в тебе.
Поют песни и читают эпос всегда выжившие, они принимаются за это покойным вечером, исполненные довольства и склонные к умным размышлениям. Крапивные укусы подлости позволительно показывать лишь мимоходом, над всем должен витать аромат амбросии, крик должен быть приглушён, плач — строго ограничен. Эпос — это волнение души, ему предназначено доносить сие волнение до публики в пиршественных залах, на аренах, во дворах храмов, где перед тобой сидят здоровые молодые люди, умные и думающие, каждый из которых с восходом солнца готов действовать иначе, нежели другие.
Тени колышут мои мысли из стороны в сторону, убаюкивают меня. Закопчённые ветви напряжённо растопыренных лиственниц задевают по лицу своей паутиной. О боги, как я отяжелел, сколько на мне висит гирь! Кто понесёт моё свинцовое тело? Я наступаю на острый камень, и этот укол боли пробуждает меня. Я решаюсь попросить у Негга разрешения сесть на его дарёного жеребца.
— Что было с твоими подошвами? — издалека подступаюсь я.
— Ты о чём?
— Разве ты не поранил кожу на подошвах?
Негг молчит.
— Ты не стёр себе ноги танцем?
— Я что, хромаю? — говорит Негг без всякой иронии или злости. — Может, со стороны кажется, будто у меня болят ступни? Судя по всему, я иду твёрже тебя.
— Почему ты танцевал?
— Потому что я совершил нечто, чего не мог совершить никто другой. Гора выглядела неприступной, но не для меня. Ганнибал казался трупом, но не на мой взгляд.
— Откуда ты мог знать, что он жив?
— Ты разве говоришь о своих божествах с теми, кто поклоняется другим богам?
— Иногда, — отвечаю я. — Значит, тебе бог подсказал, что Ганнибал жив и что эта гора доступна для человека?
— Я слышал, твоя религия отличается от моей. Доступна для человека... Если ты имеешь в виду любого человека, мой ответ: «Нет». Только мне, и никому другому, послышался голос: «Лезь наверх, Негг. Ганнибал жив. Я укреплю твоё бедное, склонное к страхам сердце, так что вперёд, взбирайся на гору!» Вот как было дело. Совершенно определённый бог на определённом месте использовал меня для определённых действий.
— Так вот почему ты плясал? Не потому, что получил в подарок жеребца или кучу монет?
— Ты чтишь других богов, нежели я. Мне это хорошо известно, карфагенянин. Вы, карфагеняне, и ты вместе с ними, ветка за веткой обрываете Древо жизни, потому жизнь твоя и идёт всё к большему убожеству. Как может человек, беспрестанно насилующий Древо жизни, верить в бессмертие? Естественно, что тот, кто постоянно мучит и терзает Древо жизни, должен почить вечным сном. Сей вердикт вынесен и нам, вы тоже, если не ошибаюсь, осознали его неизбежность. Вы не понимаете лишь одного: что ежедневно грешите в отношении Древа жизни и каждым своим поступком оскверняете его. Ваша учёность ещё не подсказала вам, что вы на самом деле творите. Зато что жизнь кончается с последним вздохом, это вы усвоили и в это верите. У вас, карфагенян, кажется, даже нет царства мёртвых, правда?
Я молчу. Я безумно ослаб. При каждом новом шаге я боюсь свалиться на землю. В голове у меня туман. Тело снедает усталость. Мне кажется неправдоподобным возрождение плоти, которое наступило после спасения Ганнибала. Тогда жизненные силы были на подъёме, словно восходящее солнце. «Чего мы в действительности добиваемся? — думаю я. — Зачем мы попали сюда, в эти негостеприимные края?» Возрадуйся, поэт, ты же среди тех, кто устанавливает новые границы! Мы, карфагеняне, заново размечаем карту Европы, возвращаем её к былому состоянию. Не признаваясь в этом, Ганнибал исполняет идею, заложенную в мифе о Европе. Каждый предпринимаемый Главнокомандующим шаг, каждый его поступок, каждый приказ — это песнь, это строфа «Карфагенской поэмы». Я придам этой поэме языковую форму, дабы Карфаген могли воспевать все, в том числе и наши потомки, Представления о богах, которых придерживается кельт Негг, — полная чушь... если выражаться его языком. Подобно прочим кельтам, он заблуждается. Верить в то, что боги даруют нам жизнь, способную победить смерть, — безумие. Человек достоин презрения. Без благословения богов он не менее отвратителен, чем говорящая обезьяна. Мир состоит из нагромождения непонятных кошмаров и ужасов. Лишь благословенная земля достойна лучшего, и Европа станет такой землёй. Это подсказывает мне поэма о Карфагене, которую будут петь миллионы голосов. Ценность нашему временному существованию придают боги. Как может человек, видевший разлагающееся человеческое тело, рассуждать о вечной жизни для этого трупа? Кто может назвать такого человека умным? Он фантазёр, человек, утративший здравый смысл. Он утешает ещё живущих ложью. Постыдились бы утешаться! Даже эллины без большой веры и надежды рассказывают об Элизиуме, чудесной равнине, где среди чистых рек, окаймлённых приятно шелестящими деревьями, обитают души блаженных и где всегда в избытке нектар и амбросия. И тем не менее у греков есть слово «эпистрофа», которое означает «поворот назад»: из земли ты взят, в землю ты и возвратишься.
— Я танцевал, — продолжил разговор Негг, — потому что боги удостоили меня важного поручения, самого важного из всех, какие выпадали на мою долю в этой жизни. Твой Главнокомандующий поможет бойям добиться победы. Сумеет ли он также победить Рим, я не знаю. Об этом боги не говорили ни мне, ни кому-либо из жрецов. Но бойям предстоит завладеть долиной Пада, в чём сейчас не сомневается ни один кельт. А мне предстоит снова стать кельтским воином. Вот почему я танцевал. Вот почему это был самый долгий танец за всю мою жизнь.
— Кельтским воином? Почему? Держи меня, Негг!
Чего-чего, а этого он, идучи с конём в поводу впереди, сделать не мог. Однако необыкновенный копейщик Негг, который то и дело оборачивался ко мне, бросил коня и попытался вывести меня из тьмы моего рассудка. Хотя мне казалось, что я задаю ему массу вопросов, из моего горла вырывалось лишь клокотание. Чтобы привести меня в чувство, Неггу пришлось принять крутые меры. Сначала он щипал меня за щёки, потом дёргал за уши. Когда это не помогло, он прибег к кельтскому методу (так я, во всяком случае, думаю): ногтями и кончиками пальцев крепко ухватился за мои соски и оттянул их возможно дальше от грудной клетки. Вскричав от боли, я пришёл в себя.
Негг что-то бормотал и покрикивал надо мной, и мне почудилось, будто он снова пустился в пляс. Я слышал повторяющиеся звуки, которые напомнили мне танец, видел пламенеющие горы и чувствовал, как с Океана накатывается приливная волна, готовая поглотить всё живое. Я ничего не соображал. Вскоре, однако, я обнаружил, что отдался чему-то во власть.
Чему?
Я отдался во власть ощущению собственного тела. Моё тело стало уютным ложем, на которое можно было возлечь и которым можно было укрыться — одеяло за одеялом, подушка за подушкой, кусочек тепла здесь и кусочек тепла там...
А случилось всего-навсего следующее: Негг подсадил меня на дарёного жеребца, и я, как ни странно, сумел приспособиться к этому. Я повис на коне, обняв его руками за шею, а ногами обхватив бока. И тут моё тело доказало, что хочет жить дальше. При полном отсутствии воли с моей стороны волю к жизни проявило тело. Так Эрос направляет нас к предметам вожделения — помимо каких-либо знаний, помимо всякого представления о «логосе» и «номосе».
— Но же, но! — заорал Негг, наподдавая жеребца ладонью.
III
Я не могу ничего поделать, придётся ещё раз подтвердить то, о чём я писал ранее: сердце моё сжигает боль, над моей удручённой душой витает пепел, и мне стыдно за это. По-прежнему я не могу писать про то, что хочется, и вынужден писать совсем про другое. О Танит, верни моим словам крылья, клюв и когти! Позволь мне снова ощущать дерзкие перескоки от паруса к крыльям и обратно! Однажды Ганнибал предстал передо мной в виде открытой книги. Я уже коротко упоминал об этом. Уверяю вас: речь идёт не о бреде помутнённого высотой сознания. Ты, Ганнибал, наслаждался жизнью, лёжа на небольшом карнизе, задержавшем твоё падение. Твой страх сгорел от испытанного тобой страдания, а страдание это было поглощено твоей способностью выстоять. Тебя охватило головокружительное счастье от живительного ощущения себя человеком, которому всё равно: быть или не быть. Твоя жизнь свершилась. Сколько бы ни прожил, тебе не превзойти теперешнего себя, не добиться большего счастья — счастья победы над собственным страхом и избавления от него.
Всё это продолжалось довольно долго, о чём мне не следует умалчивать. После Родана мы двигались вдоль Исары, которая текла на северо-восток — к Италии, во всяком случае, к Альпам; наш поход принял таким образом более разумное направление, считало воинство. Независимо от того, шли мы по самому берегу или поодаль от реки, в местности, по которой проходил наш путь, неизменно ощущалось главенство этих водных артерий. Мы часто поглядывали в сторону воды, отражавшей цвет неба. Река превосходит озеро по своему раскрепощающему воздействию. Река всегда в движении, и она нескончаема по своей длине. Фактически река состоит из двух потоков, если можно так выразиться, — из рекообразного и озерообразного. Озерообразный поток ближе к берегу. На первый взгляд вода вообще почти не движется. Дальше — и иногда у другого берега — она течёт с более или менее постоянной скоростью. Это вода из крупных и мелких притоков. По цвету она светлее более спокойного потока. Бывает, что светлые воды вовсе белеют либо приобретают оттенок грязи, которую несут с собой притоки. Можно также сказать, что у реки есть активная и пассивная стороны. Один берег женственен, там река оставляет свой ил и тину. Этот берег отлогий и похож на луг. Он более плодороден. Второй берег мужской, река подтачивает его, и потому он нередко выше, более обрывист и изъеден. Если река извивается, мужской и женский берега как бы меняются местами. Если в реке преобладает быстрый поток, она пульсирует, словно дрожащее крыло.
Наконец мы вступили в сами Альпы. Тут я обнаруживаю, что реки текут, подчиняясь прихоти гор. Однако, принуждённые к повиновению, реки проявляют непокорность в виде мелких укусов и подтачивающих наскоков на скалы. Вода сильна уже самим своим непрестанным движением, и сила её растёт, если поток несёт с собой песок, гальку или булыжники. Река вгрызается в камень своего ложа и шлифует его, она продлевает долины и вымывает глубокие ущелья; сплошь и рядом встречаются скалы, на поверхности которых ясно различимо прежнее русло. Между горами и реками идёт, можно сказать, постоянная война. Стороны пытаются сломить друг друга.
Для человека, внимательного к знакам, которые подаёт природа, не может быть неожиданностью изменение ландшафта. Такой человек знает, чего ожидать, прежде чем изменение бросится в глаза. Быстрота течения и ширина русла, плодородность долины, растущие по берегам деревья и травы — всё указывает на то, что за горизонтом должна произойти смена декораций. К северу от Оранжа природа посуровела. Один за другим исчезли малейшие признаки юга.
Идти по долине Исары становилось всё труднее. Мы продвигались вперёд ценой неудобств и больших усилий. У нас на глазах русло реки сужалось, она извивалась и теснилась между скал, бросалась в атаку на каменные преграды, швыряя нам в лицо клочья пены. Исара показывала свой неровный и капризный норов. Она то исполняла бешеный танец, виляя из стороны в сторону и вздымая над головой колышущиеся покрывала, то вдруг, смирившись, представала перед нами тёмным, едва ли не чёрным зеркалом. Высокие горы подступали всё ближе и ближе, усложняя наше продвижение против течения, всё вверх, вверх и вверх. Мы по себе замечали, как гора определяет направление и скорость воды. Исара не могла более сама решать, где ей оставлять накопившуюся грязь или вгрызаться в скалу. Ей приходилось избавляться от ила там, где это было возможно, и подтачивать то, что попадалось под руку.
Однажды вернувшиеся из разведки воины объяснили нам, что дальше пути нет, во всяком случае, для такой большой армии. Дорога сужается и делается весьма не гладкой. Чтобы преодолеть препятствия, нужно сократить число людей в шеренге, то есть идти попарно, отчего войско растянется до невозможных размеров. В походе его обычно прикрывают мобильные отряды лёгкой пехоты и всадников. Совсем вперёд выдвинуты лазутчики, а сзади постоянно подъезжают гонцы, которые привозят вести о том, что происходит в опорных пунктах и гарнизонах, оставленных нами на пройденной территории; разумеется, поступают также депеши из Испании, Карфагена и многих других мест.
В преддверии первой схватки с неведомыми горами пришла пора сосредоточить боевые силы, превратив их в более компактную армию. И вот мы, поколе это было возможно, разбили настоящий лагерь, чего не делали с тех пор, как распрощались с пиршественными столами царя Бранка. А пир был свыше недели назад, и за это время мы, идя вдоль Родана и Исары, покрыли расстояние примерно в сто миль.
В штабе бурно обсуждается положение. Мы дошли дотуда, где горы и река вступают в открытую войну друг с другом. Неуступчивый горный массив на севере вынуждает Исару делать огромный крюк, река отвечает на это тем, что бурлит и волнуется у отвесных скал. Наши каварские проводники называют горный массив Веркором. Теперь нам также известно, что Исара отнюдь не знаменует собой твёрдую границу с территорией могущественных аллоброгов. Напротив, за земли, на которые мы вступаем, враждуют между собой три кельтских племени. В данное время и в данном месте идёт раздор между каварами и аллоброгами, которые выхватывают друг у друга эти громадные, но, по нашему мнению, бесплодные и безобразные возвышенности. С аллоброгами же у Ганнибала нет договорённости о свободном проходе.
Ганнибал стоит на распутье и должен выбрать одно из двух: либо переправляться через реку, либо углубляться в горы. По иронии судьбы противоположный берег широкий и легко проходимый, во всяком случае, на довольно большой кусок вперёд, а потому было бы очень соблазнительно вторгнуться на территорию, бесспорно принадлежащую аллоброгам, которая, согласно нашим сведениям, простирается далеко на север и имеет столицей город под названием Виндобона[151]. Разумеется, Ганнибал не боялся никаких аллоброгов. Но переправа через реку отняла бы время, которого у него не было: преодоление Родана заняло у нас целую неделю. Кроме того, если мы переберёмся на другой берег, нам придётся вслед за Исарой идти в обход Веркора.
Итак, отсюда мы полезем наверх и углубимся в массив; с берега нужно поскорее уходить. К востоку от возвышенности, в районе, пока скрытом от наших взглядов, противоборствующие силы природы, по сведениям проводников, утихомириваются, и в долине Исары снова будет достаточно удобный путь на нашей стороне реки.
Мы уже давно заметили, что за нами следят. У недоступных гор появились глаза, и глаза эти принадлежат не филину, не соколу и не ворону, а человеку. Стоило нам свернуть в сторону от Родана и пойти вдоль Исары, как мы почувствовали, что за любым перемещением нашего разветвлённого войска наблюдают. Что это были за люди? Чего они хотели? Конечно, это горцы, решили мы. А проводники помалкивали, не открывали, что они знают. Группы следящих явно были небольшие. Вероятно, отряды каких-нибудь разбойников, которые не могли повредить хорошо организованной армии. Однако по мере нашего продвижения вдоль Исары число наблюдающих глаз росло. У стратегических пунктов оно становилось значительным. Мы не только видели, но и слышали тех, кто следил за нами, — чего они и добивались. Ганнибал несколько раз высылал отряды, чтобы отпугнуть их, и преуспел в этом. Постепенно выяснилась правда: это были аллоброги. Мало нам устрашающего величия гор, мы ещё попали в самое пекло раздоров между тремя кельтскими племенами. Помимо двух упоминавшихся выше, это были трикории, чьи земли находились к востоку отсюда.
Потом наступил вечер, в который Ганнибал открылся мне. Сам же я раскрылся перед ним, когда впервые заговорил о современных последствиях мифа о Европе. Ганнибал тогда твёрдой рукой поддержал мне голову. Я понял, что он разглядел в моём лице, одушевлённом восторгом жизни. Он различил в нём лицо мертвеца. Жизнь горела в нём настолько интенсивно, что обнажила пожиравшие меня силы, и я предстал перед Ганнибалом в виде человека, уже приконченного ими. Секрет моей смерти бился во мне властно и мощно, как сердце.
С Ганнибалом же случилось нечто прямо противоположное. Он предстал передо мной с лицом мертвеца, однако я никогда прежде не видел лица более живого, более одухотворённого жизненной силой. Жизнь его билась в очень тонкой скорлупке. Ганнибал мог в любую минуту умереть. Вся его воля и весь его разум запросто могли исчезнуть, могли быть принесены в жертву. Ноги его почти всё время стояли на вершине жизни, а если и соскальзывали с неё, то он мгновенно забирался обратно.
Наступил час откровения. Но где оно придётся к месту в моём тексте? Не знаю. Я ищу и не нахожу ничего, абсолютно ничего конкретного. В жизни произошло столько всякого другого. А сердце моё сжигает боль, над моей удручённой душой витает пепел, и мне стыдно за это. Я не могу писать о том, о чём хочется, и вынужден писать о чём-то ещё. Рассуждать же о своей бессовестности хуже, нежели жить с ней.
Даже после своего падения Ганнибал продолжал испытывать могущество горы. Невозможно разглядеть, что скрывается за высотой, пока ты не поднимешься на неё, посему Ганнибал оставил долину и взошёл на гору, соблазнительно вздымавшеюся рядом. Мы, оставшиеся, наблюдали за его смелым восхождением снизу. Собственно, на это тоже был расчёт: чтобы всё воинство посмотрело сие предприятие Главнокомандующего. Восхождение стало очередной демонстрацией его жизненной силы, его дерзкой и отчаянной предприимчивости, которой он вновь привлёк к себе и заставил блестеть было потускневшие взоры, сплотил вокруг себя сверкающие щиты. Вражеских наблюдателей сдуло с окрестных возвышенностей, словно Ганнибал принёс с собой бурю. Подъём на гору был обставлен как помпезный спектакль. Шествие открывали две слонихи с погонщиками. Ганнибал знал своих слонов: в некотором отношении они превосходили прочих приручённых животных. Конечно, они не умеют прыгать и боятся топей. Зато они чувствуют подошвами малейшие затвердения почвы и таким образом подсказывают, где пролегают не видимые человеческому глазу и тем не менее протоптанные дороги. Теми же чувствительными подошвами они нащупывают путь там, где вообще нет тропы. Следом за слонами ехал верхом Ганнибал, а за ним трусила его небольшая свита избранных.
— Лгут не одни только вроде бы надёжные разведчики, — хмурым, тёмным вечером говорю я Ганнибалу. — Совершенно неожиданная ложь заключена также в общепринятых оборотах речи и прописных истинах.
Ганнибал молчит. Возможно, он ждёт продолжения? Он не смотрит на меня, взгляд его устремлён прямо, на отвесно вздымающуюся перед ним каменную стену. Сзади тоже устрашающе нависает мрачная гора с изломанными очертаниями. Она напоминает ворота в царство злых духов. Мы так и не переправились на другую сторону Исары, мы — то есть всё наше воинство — углубились в горы и попали в середину массива, который начал играть с нами, то и дело изменяя свои причудливые формы. При том, что воздух был прозрачен, как эфир, невозможно было полагаться на своё зрение. Пейзаж становится иным буквально через несколько шагов. Некая могучая сила ломает и корёжит скалы, убирая одни и воздвигая на их месте другие. Тут раскрывает свою узкую пасть ущелье, там гору прорезает расселина. То, чему по природе своей положено быть застывшим и неподвижным, навеки оставаясь в прежнем виде, меняет облик под нашими испытующими взглядами. Происходят путающие и совершенно очевидные сдвиги и перемены.
Мы раз за разом сталкиваемся с тем, что пейзаж, казавшийся нам вполне гостеприимным, неожиданно отвергает нас. Нередки и обратные случаи. Высокие утёсы грозно наступают и, образуя дефилеи[152], стискивают наше войско, вытягивают его с головы до хвоста в одну ниточку. Бывает, что передовой отряд в сомнении останавливается: похоже, будто дорога ведёт в никуда. Вся армия воспринимает подобные сомнения так, словно её взяли за глотку и душат. Она хватает ртом воздух и со стоном застопоривается на месте; вьючные животные вздыхают, будто пали на колени под тяжестью груза и в предчувствии смерти. Если авангард снова трогается в путь, по всему войску проносится вздох облегчения. Опасный проход может через каких-нибудь двадцать шагов оказаться лишь небольшим сужением. Скала, нависающая на высоте двух человеческих ростов над тропой, тоже тянется совсем недолго. Там, где она кончается, гора уже ровнее и дорога становится вполне проходимой — по крайней мере, на некоторое время. Вершины и гребни горного массива чередуются друг с другом в непредсказуемом порядке и темпе. «La montagna che cammina, ходячая гора», — говорит кто-то. Но горный массив не только «ходит», его вершины весело танцуют, его утёсы играют с нами. Однако высоты стоят на месте — и одновременно не стоят. Они пляшут перед нашими глазами, заигрывают с нами, людьми, дерзнувшими протискиваться между ними.
— Посмотри вниз, на долину, — прошу я Ганнибала. — И задержи там взгляд.
— И что будет?
— Смотри не в самый проход, где уже темно. Погляди дальше, где тьма только начинает сгущаться.
— К чему ты клонишь? — спрашивает Ганнибал, переводя взор в указанном направлении.
— Чем ниже ты смотришь, тем темнее.
— Ты прав.
— А ведь мы говорим, что тьма опускается! — торжествующе возглашаю я.
— Ну и что?
— На самом деле тьма поднимается. Она идёт из глубины долины, распространяясь всё выше и выше. Темнота похожа на могучую реку, которая выходит из берегов и разливается вширь. Тьма выходит на поверхность из потаённых уголков, где она прячется днём.
— Вот софист выискался!
— Ты только что сказал, что я прав.
— Ладно тебе.
— Чем выше забраться, тем дольше с тобой останется свет.
— Чего ты добиваешься? — нетерпеливо бросает Ганнибал.
— Я пытаюсь указать на истину, которая касается нас всех.
— Ерунда! Ты пытаешься навязать мне своё сочувствие, пролить на мою душу бальзам. Почему, скажи на милость, ты решил, что я допущу это?
— Воспринимай как знаешь. Можешь считать это игрой художника слова или лечебным курсом учителя словесности. Альпы получили своё название в честь великана Альбиона. Другие называют его Альпионом. Мне всё равно, какое из этих имён ты выберешь. Оба слова кельтского происхождения и означают примерно одно и то же. Значение римского слова «albus» ты знаешь и без меня. На белых вершинах Альп свет светит дольше всего. Тьма не опускается, а поднимается. Это всё, что я хотел сказать.
Ганнибал молча покидает меня. Я не оборачиваюсь, но спиной чувствую, когда он, передумав, останавливается. Внезапно он охватывает меня огнём, заливает жарким, палящим светом. Не дотрагиваясь до меня, он трогает струны моего сердца. Превращает меня в хворост, который сам же и подпаливает. Над нашими головами вздымаются языки пламени, тогда как из-под ног поднимается тьма.
— Йадамилк, — доносится до меня голос Ганнибала. — Выслушай меня, только не перебивай. Я тогда лежал на узком карнизе скалы. Совершенно неподвижно. Только не говори ни слова! Я лежал целый и невредимый. И в то же время круг за кругом вращался в полной пустоте. Это было похоже на кельтский Аид, в котором всё устроено иначе, чем у нас. Я знал, что лежу невредим. Прекрасно знал. Я не мог встать на ноги. Не мог пошевелить рукой. У меня не ворочался язык. Было хорошо. Очень хорошо. Я вертелся в невесомости небытия. Это было замечательно. Страх уничтожился страданием, а страдание было поглощено способностью выстоять. Было здорово. Я наслаждался. На меня нашло ощущение головокружительного счастья. Молчи, Йадамилк, ни слова! Счастья от преодоления страха. Не раскрывай рта!
Так он спалил меня. Так он дал мне понять, что я — человек другой породы. Мы, дескать, совершенно разные. Он Орёл, а я — невзрачный королёк. Великое исключение — это он, Ганнибал, а не я. Он сделал резкий жест рукой, словно отбрасывая от себя всё лишнее — мои взгляды, мои речи, мою внешность, самого меня, штаб-барда Йадамилка.
Я остаюсь один в огне фантазий — пылающий во тьме костёр, с языками пламени и с углями, с тем и с другим: сквозь лик смерти проглядывает лик жизни, и наоборот. Кто любит лик жизни? Я, Йадамилк! Мне пообещали, что я переживу Ганнибала. Как эпик я буду значить для него больше всех прочих. Мне, и никому другому, суждено воспеть его жизнь — и в виде «биоса», и в виде «соэ». Я один из многих, кто любит Ганнибала. Теперь он явился мне и в обличье разъярённого леопарда, что несётся по горному склону и где-то посредине ложбины вонзается зубами в глотку наших коварных врагов, трусливых аллоброгов, которые решились опозорить карфагенское войско в трудную минуту, когда его и без того извели теснящиеся вокруг утёсы и каменные глыбы, переменчивость форм и видов гор, их размеров и расположения. В тот раз я увидел окровавленные когти и зубы с ошмётками мозгов.
Ганнибал, величайший из сынов Карфагена, наиглавнейший из потомков финикиян, наша живая надежда, единственная надежда Европы на светлое будущее, как ты собираешься сохранить свою самую живую часть, лицо, если не древним финикийским способом? Оставим египтянам их молочное стекло цвета опала; в отличие от этого стекла, твоё лицо совершенно прозрачно. Начиная с сегодняшнего дня, я могу заглядывать внутрь тебя, могу рассматривать одну за другой твои мысли и один за другим твои поступки; я вижу страну за страной, море за морем, вижу города и храмы, гавани и жилые кварталы, дворцы, музеи и библиотеки. Это мы, финикияне, изобрели прозрачное стекло, свободно пропускающее лучи солнца.
Итак, я остался один. Что произошло? Ничего такого, о чём нельзя было догадаться с самого начала. Просто мне подтвердили, что я не Баркид. Я не вхожу — и никогда не входил — в выводок львят. Мне было просто изображать мужчину в детстве, среди сестёр. Позже, в компании мужей и мужланов, это оказалось сложнее. Мой отец понял всё, ещё когда я лежал в пелёнках. Он понял, что я не гожусь для тех занятий, которые он только и мыслил себе для единственного сына. Его любовь ко мне проявлялась в том, что он держал меня поблизости и не скрывал отвращения, которое я внушал ему. Из любви ко мне он не отпускал меня от себя. Из любви к истине — не мог спрятать свою гадливость.
Что-то словно подтачивает меня снаружи. Я ищу причину такого ощущения и слышу журчание бегущей воды. Через равные промежутки откуда-то снизу доносится неприятный хлебающий звук. Это естественный водяной затвор отсасывает часть горного ручейка и в определённые минуты переправляет избыток воды в расположенное ещё ниже, более вместительное хранилище.
В тот вечер моего чёрного раба уже не было на свете. А я сижу здесь и ногтем выцарапываю мёртвые буквы. Мои способности к сочинительству отказывают мне. Я очень плохо начал последний отрывок. Возможно, изъяны моего текста исправит последующая обработка? Не знаю. Я даже не уверен в том, что хочу улучшить запись. Вдруг её недочёты можно обратить на пользу? Когда я буду просматривать эти заметки в более благоприятное время, мне может прийти в голову, как с ними поступить. Какой-нибудь недостаток может молниеносно превратиться в стих небывалой красоты, а сарказм — вылиться в строку, исполненную могучей силы. Кто посмеет обвинять скорпиона в ядовитости? Ведь таким его сотворили боги. И даже если мне никогда не достичь высот эпического слога, не добиться сильнейшего поэтического воздействия, разве не прочтут читатели между строк то, что я хотел сказать, разве не докопаются они до substantifique moelle, или соли, сути моих записей в рабочей тетради?
IV
С раннего утра у меня была возможность спокойно посидеть, выводя ногтем получающиеся не самыми красивыми буквы. Я мог без помех со стороны предаваться письму. Каждый раз, когда мне приходит в голову какая-нибудь нужда, я собираюсь кликнуть своего верного слугу, но тут же спохватываюсь и вынужден проглотить свою просьбу. С острым чувством неловкости я прихожу к выводу, что в большей части кажущегося мне необходимым на самом деле потребности нет и, следовательно, я гонял Астера исключительно ради своих капризов и прихотей, коих у меня всегда в избытке. Я ворчал и привередничал, я требовал вещи, за которыми мне достаточно было протянуть руку. Теперь мне не к кому придираться, некого ставить на место, не на ком вымещать дурное настроение. Бог стукнул кулаком, и в моём непосредственном окружении образовалась пустота, которая будет отныне преследовать меня, где бы я ни находился и куда бы ни шёл. Поистине, вместо бывшего в моём распоряжении раба со мной рядом его противоположность, Антираб. Этот Антираб являет собой дыру, он глух и слеп, руки его не действуют, а ноги пригвождены к месту. Отныне я должен признать его, Антираба. Признать Астера я так и не удосужился.
Смерть распространяет своё влияние не только на нашу ограниченную жизнь.
Ганнибалово войско снова разбило лагерь на берегу реки. Река упорно продолжает называться Исарой и столь же упорно выказывает свой сумасшедший норов: она то впадает в буйство, то изображает кротость и пришибленность. Собственно говоря, мы остановились в городе. Паразиты бежали из него, прихватив, что успели, — не очень много, поскольку город вместе с окрестностями служит яблоком раздора между различными кельтскими племенами. Сам я обосновался в бревенчатом доме или хижине. Как и большинство здешних построек, он стоит на склоне горы. Дом, можно сказать, наполовину врыт в землю, так что задняя его сторона скорее напоминает землянку. Благодаря почве, камням и дёрну он кажется более сопряжённым с толщей земли, нежели с окружающим воздухом. «Разве проще строить таким образом, чем закладывать спереди более высокий фундамент?» — качая головой, спрашиваю я себя.
Помимо меня, в хижине поселились ещё двое. Так уж получилось, вернее, эти двое действовали довольно активно. Бальтанд-«я ищу приключений» достанет кого хочешь. Вторым стал Негг — «герой, разорвавший солдатский пояс». У Бальтанда тоже погиб раб во время вероломного нападения аллоброгов, но кожаный мешок ему удалось спасти — теперь он стоит в углу хижины, и Бальтанд, видимо, рассчитывает, что я, домосед, стерегу его. Сам же хозяин мешка по обыкновению где-то бегает, за что я был бы только благодарен, если бы сия суетня не давала ему потом столько поводов для болтовни.
А на Негге действительно, в один роковой для него день, лопнул солдатский пояс, за что он был изгнан из кельтского воинского сословия. Обжоры и выпивохи, кельты, однако, не выносят полноты. Толстякам приходится платить за это. Неприлично толстых ожидает наказание, которое определяется разными способами. У солдат в ходу пояс стандартного размера, с помощью которого и выявляют, кого допускать в свою братию, а кого нет. Негг действительно поперёк себя толще, хотя мускулов у него хватит на троих, к тому же он проворен, лёгок и гибок. Но ни сила, ни невероятной быстроты реакция не помогли Неггу, когда он животом разорвал пояс, уронив его к ногам. У Негга не было родственников, они все умерли. А это имеет большое значение — у кельтов, как и у других народов. Никто не болел за него, а потому никто не посоветовал Неггу поголодать и довести своё бренное тело до приемлемых размеров. Возможно, он ещё навредил себе острым языком.
Что мог предпринять Негг в нашем мире? Он больше не принадлежал к пользовавшемуся высокой репутацией воинскому сословию. Неужели он теперь сравняется с рабами? Того, кто следит за их работой (а Негга толкали именно в надсмотрщики), ставят едва ли не на одну ступень с ними. Негг не желал себе такого, а потому бежал и, примкнув к ораве бродячих гезатов, несколько лет участвовал в их разбойничьих набегах — чем, кстати, промышляли по всей Галлии и в других местах и оседлые кельты, прежде чем заделались земледельцами и ретивыми скотоводами. Впрочем, Негга они теперь осуждали. Они вообще терпели воинов-разбойников лишь в силу необходимости и вынуждены были дорого платить за их помощь в трудную минуту. А что сам Негг?
Негг умело орудовал своим копьём. Как и когда он нанялся к нам в войско, я не знаю. Кто первым встретился с ним, мне тоже не известно.
Теперь Негга знают все. Солдаты называют его «Ганнибаловым спасителем». Интересно, нравится ли это Ганнибалу? Может, он не слышал, что говорят между собой солдаты? Я, во всяком случае, не доносил Неггово почётное прозвище до ушей Ганнибала. Сейчас ему и так приходится слышать больше, чем вынес бы любой другой главнокомандующий, больше, чем приходилось слышать в кровопролитнейшие недели в Каталонии. Из-за этих аллоброгов мы понесли огромные и, по мнению многих, совершенно излишние потери. Из-за аллоброгов... Нет, тут виноваты не аллоброги, а горы. Горы с опасной тропой, петляющей по ущельям и ложбинам. Горы с их обрывами и гигантскими каменными глыбами, проклятыми богами ещё в первый день творения.
Я проголодался и потому выхожу наружу, где чувство голода мгновенно отступает. Моему взору открывается практически всё, что можно увидеть в этом городе. Впрочем, по-моему, называть Куларо городом можно лишь с большой натяжкой. Я вижу всего один высокий дом, разумеется, тоже бревенчатый. Там разместился Ганнибал с главными начальниками. Глядя на этот дом, я спрашиваю себя, как воспринимает Ганнибал разбросанные по голому, лишённому всякой растительности склону приземистые хижины, которые принадлежат скорее к подземному царству мрака, нежели к светлой и воздушной поверхности. Единственный приличный дом явно возведён недавно, вероятно, в связи с победой над каким-нибудь воинственным противником. На постройку пошёл прямо-таки мачтовый лес; брёвна просмолены снаружи и навощены изнутри — на это я обратил внимание ещё вчера вечером. Заметил ли Ганнибал, как хорошо подогнаны брёвна на стыках? Ощутил ли он рукой, что они гладки, точно шёлк? В таком жилище каждому карфагенянину вспоминаются запахи верфи и закрадывается мысль о проявленных строителями расточительстве и глупости, не говоря уже о том, что хочется подсчитать, сколько кораблей можно было бы построить из всего этого леса. Дом вполне можно возвести из камня, глины и кирпича, святилище богов можно одеть в ослепительно-белый мрамор. Но укажите мне капитана, который бы согласился взойти на борт судна, построенного из камня. Здесь хватает и этого добра, а столь ценимая карфагенянами древесина поступает из лежащих поблизости обширных лесов.
«Не чувствует ли себя Ганнибал капитаном каменного судна? — вдруг задумываюсь я. — И есть ли на свете боги, согласные помогать такому капитану?» — спрашиваю я себя, делая несколько шагов назад, чтобы в поле моего зрения попали заснеженные вершины Альп, к которым мы и направляемся. Эти заснеженные вершины давно не выходят у нас из головы. Там, наверху, уже настоящая зима. Нисходящие оттуда атмосферные потоки несут с собой сырость и воздух, который противно вдыхать. Здесь, внизу, пока осень. Меня поражает мысль о том, о чём не приходилось задумываться раньше: оказывается, времена года могут располагаться вертикально и высота может определять, какому сезону отдаётся предпочтение. Всего двумя стадиями[153] выше (а вовсе не двумя лунами позднее) вместо осени господствует настоящая зима.
Обозревая окрестности, я постепенно начинаю различать то, что смутно желал увидеть: бушующее, штормовое море, вздымающиеся к небу каменные волны с белыми гребнями пены. Внизу, под разбитыми на отдельные всплески волнами, тянутся могучие каменные валы — камень, камень и снова камень. Нет, это не валы, а скорее сулой, волнение, при котором волны сталкиваются и обрушиваются, тесня друг друга, точно борющиеся великаны; их отвесные склоны переливаются разными цветами, от холодного зеленоватого до светло-жёлтого, а верхушки волн бьются о небесную твердь с такой силой, что набивают себе синяки. Всё блестит, сверкает и сияет, сверху начинают широкими протоками литься полосы света... и тут же исчезают, в море возникают торопливо бегущие поперечные волны и тоже исчезают — в ореоле трепещущих пламенем радуг, иногда складывающихся в огнедышащего дракона, который, извиваясь, продвигается вперёд... Такие зрелища я не раз наблюдал в солнечную погоду, когда на море разыгрывался шторм.
Ганнибал сам выбрал для себя плавание в бурю по каменному морю. В таком случае корабль его тоже должен быть сделан из камня. И не только корабль, но и капитан. И в армии его все должны быть твердокаменными — солдаты, кони, слоны, мулы. Ганнибал-Победитель избрал не суровые воды, а суровейшую часть суши с её грохотом бездн и рёвом высот. Его стратегия Альпийского похода, вероятно, направлена на то, чтобы обрушить твердокаменные валы на стены Рима и забросать италийские города раскалёнными вулканическими камнями.
Вот как мне хочется видеть наше пребывание здесь со склонов Куларо. Холодный воздух образует дымку, которая колышется над морем, как пуховой периной колышется за Столпами туман на горизонте.
Однако я вижу представший передо мной пейзаж и более трезвым взглядом. За Куларо лежит довольно обширная равнина, рассечённая Исарой на две половины. Осенние дожди придали течению дополнительный напор, однако у реки нет возможности выплеснуть свои силы падением с высоты, а потому берега её бесплодны и, насколько хватает глаз, завалены каменными глыбами. Чуть выше простирается, со всех сторон окружённое горами, пастбище, которое, насколько я понимаю, и составляет предмет вожделения жителей окрестных скал и слепых долин. Большая часть равнины, как я вижу, возделана, но урожай к этому времени давно собран. На обоих берегах трудятся наши солдаты. Они собирают остатки травы, после того как прочесали каждый сарай и сеновал и прибрали к рукам всё, что не было захвачено при бегстве горцами. Вдалеке виден конный разъезд, который гонит перед собой большое стадо скота, явно захваченное в одной из долин.
Перед самым роскошным здешним строением — со злости мне хочется обозвать его Бревенчатым дворцом, или Лесным чертогом, или Мачтовыми палатами — происходят какие-то настораживающие приготовления. Скоро я понимаю, что намечается распятие четырёх человек. Кто они? Об этом я могу лишь высказывать предположения. Почему? Остаётся лишь гадать. Во всяком случае, Ганнибал посчитал необходимым распять их. Начальникам отрядов приказано успокоить солдат, распространив среди них, без подробностей, сию весть. «К вынужденным мерам подталкивает нужда, — бормочу я в попытке найти для себя объяснение, — обязательства влекут за собой обязанности, неотложное нельзя отложить; нам необходимы козлы отпущения».
Только я собираюсь улизнуть к своим записям, как вижу направляющегося ко мне благодушного Бальтанда и пробую взвесить, где его речи будут громче и длиннее, — в доме или на улице. Он уже прямо-таки бежит, размахивая руками, и я не успеваю ни войти в хижину, ни уйти куда-нибудь подальше, когда на меня наваливается сей златоуст.
— Сейчас будут вешать на дереве четырёх негодяев, — взволнованно рассказывает он. — Тебе обязательно надо посмотреть.
Я присаживаюсь на смолёное крыльцо, и Бальтанд следует моему примеру.
— Распинать будут тех, кто давал Ганнибалу ложные сведения. Все четверо прожужжали ему уши своим враньём, почему мы и забрались после Оранжа так далеко на север. Первому осведомителю Ганнибал не поверил. Не прислушался Главнокомандующий и ко второму, поскольку получал также другие сведения. Но он всё брал на заметку. Когда поступило третье донесение того же рода, Ганнибал заколебался; четвёртое окончательно убедило его — он сопоставил все эти вести, от первой до последней, и отбросил полученные им более правильные сообщения. Римляне идут за нами по пятам, Йадамилк!
— Ерунда, — говорю я и, встав, захожу в дом.
Бальтанд идёт за мной. Этого человека не остановить ничем, кроме грубой силы.
— Сципион вовсе не повернул свою армию. Он дождался подкрепления и, когда оно подошло, двинулся следом за нами. Уже взят Оранж.
— Ложь, — отрезаю я. — И почему ты говоришь «следом за нами», словно ты принадлежишь к нашему войску?
— Лжецов как раз и предадут распятию! Римляне действительно повернули назад. И Оранж не взят.
— Почему же ты наплёл всё это?
— Я только пересказал то, что наплели Ганнибалу, то, к чему он сначала отнёсся с осторожностью и во что затем поверил. Теперь лжецов ждёт дерево. Нам нужно присутствовать при распятии. Ведь мы потерпели больший ущерб, чем если бы Ганнибал подождал Сципионовы легионы и разгромил их из засады. И я и ты потеряли на этом своих рабов.
— Мой уже давно был свободен, — вру я.
— Твой чёрный невольник?
— Да, он был свободным человеком.
— Правда?
— Правда, — в третий раз лгу я.
— Как бы то ни было, из-за этих обманщиков войско понесло тяжёлые потери. Если бы не их враньё, аллоброги не устроили бы резни и мы бы не сидели сейчас тут. Наёмники крайне недовольны Ганнибалом. В их рядах происходит брожение. Того гляди, могут вспыхнуть беспорядки.
— Почему ты всегда болтаешь глупости?
— Просто я держу открытыми глаза и уши.
— Ты излишне легковерен. Скольких солдат ты слышал?
— Я говорил со многими.
— Сколько это много?
— Несколько.
— А сколько это несколько?
— От трёх до пяти.
— Тебе нужно побольше держать рот закрытым.
— Мой рот равняется по речам.
— Ты делаешь из мухи не слона, а гору.
— Ты первый человек, который считает меня легковерным. Мне будет что рассказать по возвращении домой. Забавно будет изумлять всех своими рассказами. Признайся, что ты только что струхнул, а?
Тут я пришёл в бешенство. Схватив Бальтанда за шиворот, я выкинул его вон.
— Убирайся прочь! — вскричал я.
— Я только хотел, чтоб ты тоже увидел казнь предателей.
— Замолчи!
— Что в этом плохого?
— Иди глазей на тех, кто распинает. И поторопись, а то опоздаешь к началу.
— Ты упускаешь свой шанс, Йадамилк, зрелище должно быть захватывающим.
— Болван!
Оставшись в одиночестве, я вновь испытываю то, о чём не раз упоминал в своих заметках за последние сутки. В сердце у меня полыхает пожар горя, подавленная душа посыпается пеплом, и мне безумно стыдно. Я уже неоднократно подчёркивал, что ничего не пишу без цели. Помогают ли эти заверения? Защищают ли они мой текст от неправильного понимания? Ответ будет явно отрицательным. Я прекрасно знаю, что можно целенаправленно обманывать и врать. Недобрый глаз может навести на сочинение такую тень, что чистейший глагол затмевается и приобретает противоположное значение. Тогда мои заверения идут мне только во вред, изложенные чёрным по белому доказательства ставятся с ног на голову. Читатель уговаривает себя, что все мои клятвы не более чем риторический приём. В таком случае весь текст оборачивается уловкой, пустым бахвальством.
Как мне спасти своё сочинение?
«Тот, кто хочет нализаться дикого мёду, не должен трусить перед пчёлами», — учит меня Негг.
Могу ли я сказать себе то же самое, когда речь идёт о языке? Сочинитель не должен бояться яда, который выпускает злонамеренность, желчи, которую источает зависть, или лжи, в которую противная сторона обращает правду. Дело сочинителя — писать дальше.
Однако это не просто. С самого пробуждения я мечусь между разными темами, о которых хотел бы писать, и много раз начинал не с того. Я пытаюсь избежать какого-то предмета, а потому ищу спасения в неоспоримом и само собой разумеющемся, но в моём случае всё незыблемое рушится и меня настигают страх и малодушие. Вот почему моя рука застывает на месте. Она дрожит. Горло моё пересохло. Его стянуло. Рука предпочитает посвятить себя пожару сердца и болящему горлу, нежели тому, о чём я запрещаю себе писать. По-моему, в этой рабочей тетради я уже достаточно обнажил себя, а? Мой отец ужаснулся бы от таких откровений.
Не нарушил ли я правила хорошего тона?
В конце концов, раб есть раб. Всякие свидетельства инфантильности, стыдливости, тщеславия, а также похоти допустимы, только если инструмент, на котором ты играешь, продолжает, наряду с этими побочными темами, выводить основную мелодию. Но ведь рабы не люди. Раб — это ничто. Он ноль. Я много размышлял над этим. По-моему, быть «филобарбаросом», то есть другом варваров, как Геродот, уже плохо. А испытывать сильную привязанность к рабу и вовсе негоже. Я ведь не Александр. Я не могу за несколько счастливых дней стать глашатаем всеобщего братства. Только великому А. удалось в подобный срок одурачить несколько тысяч человек, так что даже его греческие генералы позволили связать себя с дочерьми восточных правителей. Между прочим, Аристотель предупреждал его: варвары суть не только варвары по природе, они ещё рабы природы. «Варваров следует использовать, как мы используем животных или растения», — писал Аристотель. Что же тогда говорить о чернокожем рабе? «Невольник, — гласит мудрость, — не более чем живое орудие». Если орудие ломается, его выбрасывают и заменяют новым — и больше не думают о нём.
Да, в своём сочинении я выразил — пусть сдержанно и сжато — привязанность к этому рабу, к моему чернокожему слуге по имени Звезда, к кусочку ночи, к тени, которая год за годом везде сопутствовала мне. Должен ли я раскрыться и того больше? Я болел — он умело и заботливо ухаживал за мной, о чём я писал. Я нередко впадал в тоску — это очень огорчало его. Иногда я чувствовал себя бесконечно одиноким и мучился этим — только его взгляды согревали меня. Он был целебным средством от всех моих болячек... нет, не от всех, но от многих. Я гладил его руки. Но я горел в лихорадке. Я с благодарностью смотрел в его глаза — как будто можно благодарить nemo, ничто, пустое место. Я позволял ему смеяться. У греков и римлян это запрещено. Стоит свободному человеку услышать, что его раб смеётся, и тому не миновать плётки по голому телу, в том числе от граждан, даже не слыхавших про Аристотеля. Такой непреложный признак человечности, как смех, мгновенно загоняется внутрь.
Мне следовало давным-давно признать, что значит для меня Астер. Он с первого же дня осознал моё значение для себя. Мы зависели друг от друга. Я должен был сказать это, чтобы он знал.
С годами мой слуга стал вроде няньки, пожалуй, даже излишне суетливой. А может быть, со мной чаще случались помутнения рассудка, и моему невольнику приходилось, взяв меня на колени, всё крепче прижимать меня, словно младенца, к груди, всё сильнее утешать... Неужели не хватит сих постыдных откровений? Неужели я должен явить миру вопль своей души, ещё подробнее рассказать о минутах, когда я скорее всего был не в себе?
Дойдя досюда, я вдруг обнаруживаю у себя два лика, как у Януса, обращённых в противоположные стороны. Оба они выражают смущение и стыд, но по разным причинам. Вернее, одно лицо испытывает стыд, а второе — неудовольствие. Если я уберу из текста все упоминания о своих чувствах по отношению к рабу, уйдёт порицание, но не чувство стыда. Неужели тьма может в одно и то же время подниматься и падать?
Вот возьму и напишу: «Мой верный слуга погиб. Его достала стрела аллоброга». И в довершение всего, покойный оступился и упал в ущелье, где ударился затылком о камень, так что изо рта брызнули его блестящие белые зубы. Я просто с ума сошёл при виде этого. Все происходившие вокруг ужасы перестали что-либо значить для меня: свет погас, воздух внезапно почернел. Неведомая сила, точно безвольную игрушку, стащила меня вниз, и я очнулся, стеная и плача рядом с Астером.
В каком виде он предстал передо мной!
Мир словно сузился до пучка белого света, который хлещет по лицу, колет мне глаза. «Отец, возлюбленный отец!» — кричу я и слышу отголосок собственного крика. Ни удивления, ни чувства стыда. Я сразу же поверил в смерть Астера. В ослепительном свете из его груди весьма убедительно торчала стрела. О, как мне хотелось в эту минуту собственными руками задушить мировое зло! Пусть это зло явит себя, молил я, и я прикончу его! Однако мои вытянутые вперёд руки натыкаются на, увы, такую всамделишную стрелу. Я хватаюсь за неё и выдёргиваю из тела, ломаю о колено. Лишь после этого я замечаю раскроенный череп и челюсти, раскрытые, вроде ножниц, на какую-то невероятную ширину.
Я зажмурился и увидел... увидел мир, утративший всякое правдоподобие. Нет, больше вам не удастся провести меня! Мир — это сточная канава, господа хорошие! От жизни несёт смрадом, господа безмятежно настроенные и здравомыслящие! И хуже всего воняет изо рта у знати.
Одновременно руки мои осторожно, как у ищущего что-то на ощупь ребёнка, шарили вокруг. «Зубы, где зубы? Я должен найти зубы, без них я не могу вернуться домой!» Я ползал на четвереньках, ища среди камней и грязи белозубую улыбку. И тут что-то (или кто-то) схватило меня и подняло на ноги. Я продолжал царапать пальцами черноту воздуха, пытаясь отыскать единственно стоящее и ценное на свете, единственное вещественное проявление человеческой души. Взвалив меня на спину, незнакомец полез по откосу, по которому только что скатился вниз я.
Ну вот, я и написал. Пусть остаётся как есть. Два лика снова превращаются в один, хотя сердце продолжает гореть, а пепел — падать вокруг. Я не боюсь осуждения свободных граждан. Что, собственно, такого, если человек родился невольником и к тому же чернокож? Кусок угля тоже чёрный. Но, загоревшись, он делается ярче пунцовой розы — и ещё он греет.
Punctum! Точка!
V
Сегодня я наконец чувствую порыв ветра, который продувает мой настрой, освежает его. Напряжение спадает. Проблескивает луч надежды. Во мне поселяется ощущение, которое не назовёшь иначе, как радостью. За это нужно поблагодарить Астера... и слова, к которым я намеренно прибег. Сколько я ни противился, фраза за фразой высвечивала накопившуюся во мне гниль и помогала избавиться от неё. Чувства — штука важная, но ещё важнее череда деловых отношений. Я сумел выразить и их.
Власть и невольничество, господство и рабство (Herrschaft und Knechtschaft) — я воплотил их в картине собственной жизни, в которой продолжает жить Астер. Понимал ли он наши отношения? И если понимал, то до какой степени? Видел ли он, что я не только хозяин, который может в любую минуту продать его или распорядиться о предании его смерти? Однако я тоже зависел от него, а потому был в некотором роде рабом собственного раба. Дела, которыми он занимался по моему поручению, должны были кем-то делаться. В монотонном ритме повседневности возникала то одна нужда, то другая. Постоянно нужно было что-то приносить или уносить. Раб непрестанно занят изменением действительности для своего господина: грязное становится чистым, голод утоляется, расстилается постель, исполняется просьба за просьбой. Необходимо переделать тысячу дел, что и осуществляет невольник. Мне нужно было откровенно поговорить обо всём с Астером. Из-за своего смирения он наверняка даже вообразить не мог того, о чём я сейчас пишу. Его любовь ни в коем случае не сумела бы найти слов для выражения моих теперешних мыслей.
Ну вот, я и записал их в рабочую тетрадь, и весь свет может, прочитав мои слова, либо подтвердить их правоту, либо обругать меня.
Хотя в этом нет необходимости, я хочу сказать, что Ганнибал сделал всё, дабы предотвратить нападение аллоброгов. Нам пришлось иметь дело не с солдатами, а с разбойниками и грабителями. Даже они не могли рассчитывать на победу над нами в настоящем сражении. Однако они могли внести беспорядок, посеять суматоху среди какой-то части воинства, чтобы в это время заграбастать ценную добычу. Это и входило в их планы. Что аллоброги наблюдают за нашими перемещениями, мы обнаружили давно, отметин также, что они скапливаются там, где местность затрудняет движение вперёд. На эту особенность местности они и сделали ставку, когда обрушились на нас.
Итак, однажды ближе к вечеру мы достигли весьма сложной для преодоления точки ландшафта. Впереди зиял узкий туннель, через который нам предстояло протиснуться. Тут не просто была каменистая, не пригодная для обработки почва, сама местность производила неприятное впечатление. От травянистой гряды холмов нас отделяли высокие отвесные скалы с каменными глыбами, которые, казалось, еле держатся на краю обрыва и могут в любую минуту свалиться нам на головы. Мы вскарабкались на гряду, и Ганнибал повелел нам разбить под прикрытием леса некое подобие лагеря. В моём непосредственном окружении никто не понял, для чего нужен этот манёвр. А он призван был усыпить бдительность аллоброгов, убедить их, что мы не собираемся сегодня идти дальше. Через лазутчиков нам было известно, что аллоброги сторожат нас только днём, ночью же они уходят с гор. Мы ещё до темноты разожгли несколько костров. Совершенно верно: аллоброги покинули высоты и отправились по домам. Они даже не выставили караульных.
Ганнибал придумал занять район, оставленный аллоброгами. Для этого задания он выбрал ветеранов и сам повёл их, пеших и конных, по отвратительным горным тропам. Наутро, когда аллоброги обнаружили происшедшее, они сначала растерялись, и я подозреваю, что многие из них высказались против намеченного нападения. Тем временем наше войско начало проходить через теснину. Должен сознаться, что мы вели себя далеко не идеально. Всех обуяла спешка, никто не хотел задерживаться, и потому каждый подгонял передних отдававшимися среди утёсов громкими криками. Особенно волновались кони, многие из них вставали на дыбы и ржали. В обозе застряли две повозки, которые перегородили дорогу, так что образовалась пробка.
В создавшемся положении аллоброги и хотели прежде всего добраться до обоза. Там можно было поживиться ценными вещами и быстро слинять. Однако, увидев царившую в наших рядах сумятицу, они не устояли перед искушением и ринулись по откосам вниз, на нас. Произошла дорого нам вставшая стычка, ибо на помощь поспешили наши пехотинцы. Тем временем лошади ударились в панику. Некоторые были ранены и смертельно испугались: они понесли, и понесли вслепую, многие упали с обрыва и погибли. Неразбериха усилилась. Ганнибал видел смятение, но не решался вмешиваться, опасаясь, что только усугубит хаос. Впрочем, там не было и места: загромождённые глыбами откосы не давали простора для атаки. Тем не менее Ганнибал в конце концов вынужден был пойти на неё, чтобы отогнать аллоброгов. Необходимо было спасать обоз. Куда годится войско без обоза? И Ганнибал во главе своих закалённых ветеранов кинулся с высот вниз. Сутолока стала невыносимой. Обзора не было никакого. Люди и животные, друзья и недруги валились в ущелье или погибали на месте. Теперь о преодолении лощины нечего было и думать.
Между тем через некоторое время выяснилось, что аллоброги переоценили свои возможности. Оставшихся в живых прогнали, и наши воины преследовали их чуть ли не до самых сел. Однако результат нельзя было назвать успешным, поскольку мы потеряли много солдат, лошадей и ценной поклажи. Впрочем, Ганнибала за такой исход винить нельзя: он принял все возможные меры предосторожности, и только благодаря его смелости досадное нападение закончилось относительно быстро.
Я снова выхожу посмотреть на Куларо. Чуть погодя Негг приносит мне еду: хлеб, сушёное мясо и напиток — корму.
— Прекрасная брага, — говорит Негг, раздувая усы. — Греет нутро и даёт ощущение блаженства.
— Какой противный тут воздух, — ною я. — Меня от него тошнит. В лёгких такое ощущение, будто дышишь чумой. А попробуешь спастись от этого, дыша как можно реже, — не помогает.
— Я дышу полной грудью, — говорит Негг. — Ты будешь есть на улице, Йадамилк? Тут вовсю солнышко, нет, не вовсю, когда на небе танцуют облака и солнце то и дело затягивается вуалью, я обычно говорю, что солнце светит вполовину.
— Я пойду есть в дом.
— Но ты только посмотри, Йадамилк. Теперь солнце довольно долго будет без вуали. А у меня есть присказка: ничто так не красит солнце, как плотный ужин.
— Нет, на улице невозможно, хотя в доме тоже. Снаружи моя грудь превращается в кузнечные мехи, внутри мне словно натягивают на голову капюшон.
— Ветер вот-вот переменится. Поверь Неггу. Услада красой и трапеза сановника делают из капрала полковника... во всяком случае, по части настроения.
— А как это получилось, Негг, что ты принёс мне поесть? Кто тебе велел?
— Связка жемчуга.
— Что это значит?
— Я слышал и видел, как нанизывалась эта связка, и вот она добралась и до меня. А лучшая жемчужина в ней, самая большая и великолепная, конечно же Ганнибал. Приказ Главнокомандующего может добраться в сто раз дальше, чем червь в кишках у великана. Он передаётся от начальника к начальнику, затем от солдата к солдату, как в восходяще-нисходящей гамме, и по мере этой передачи жемчужины делаются всё мельче и мельче. Так ведь всегда и бывает с изящной ниткой жемчуга, правда?
— Ты по обыкновению несёшь чушь. Тебе удалось продать жеребца?
— Нет. Здесь очень плохо со спросом. Никто не понимает собственной выгоды.
— Кроме тебя?
— Я собираю корм для коня в укор одному глупцу. Когда наверху придётся туго, покупатель заплатит и за коня, и за корм.
— И ты по-прежнему надеешься, что им стану я?
— Я уверен в этом! Я и зерна прикупил у фуражира.
— Значит, вы оба нарушили воинскую дисциплину.
— Нет, если всё останется между нами.
— Я донесу на вас.
— Только не ты.
— Выдачу зерна собираются ограничить.
— Слонам, естественно, достаётся больше всех. Мне надо бы получать двойную порцию.
— Тебе не мешает спустить живот.
— Ты либо забьёшь Медовое Копыто, — упорствует Негг, — либо купишь моего коня, гружённого продовольствием.
— И что будет с твоим конём, если он станет моим?
— Мы съедим его.
— И заплатить за это должен буду я?
— Каждому приходится платить за выживание, благородным господам больше, чем прочим, менее благородным.
— Ты, Негг, ещё менее благороден, чем самые неблагородные. Ты торгаш и мошенник.
— Ты смеёшься, карфагенянин. Над чем?
— Разумеется, над тобой. А почему ты всё время жмуришься?
— Потому что ты ослепителен, как солнце, господин.
— Если от меня идёт солнечный свет, то от тебя — вонь.
— Я смеюсь до глубины души!
— Тогда я рассмешу тебя и того больше, чтоб ты вылез из своей глубины на поверхность. Сейчас ты всё поймёшь.
У нас в Карфагене есть полководец, который абсолютно серьёзно написал Ганнибалу... Как ты думаешь, что?
— Я ещё смеюсь, господин полководец.
— Итак, он написал: чтобы перейти через Альпы, нужно сначала приучить солдат есть человечину. Если Ганнибал этого не сделает, ему не преодолеть их. Все, как один, умрут от голода.
— Вот видишь, господин. Нет ничего зазорного в том, чтобы полководец питался голодающими лошадьми.
— Не воображай, будто солдаты Ганнибала станут каннибалами.
— Что мне воображать? Поживём — увидим... А воздух тем временем посвежел, зловоние исчезло. Как я и предсказывал, ветер переменился. Теперь ты можешь есть на улице, хозяин.
Негг прав. Облака разогнаны, ветер дует с другой стороны. Я оглядываюсь вокруг и не столько удивляюсь, сколько пугаюсь. Пейзаж вдруг одновременно расширился и углубился. Альпы возвышаются ещё более величественно, чем прежде, тогда как пастбищные земли около Куларо опустились ниже. Исара превратилась в теснимый глыбами скромный ручеёк. Этими перевоплощениями мы обязаны игре света, который внёс свои поправки в масштабы и размеры. Если я поднимаю взгляд кверху, приходится опустить его из-за лёгкого головокружения. Если я опускаю его вниз, меня словно заставляют поднять его по плавной спирали. Если я смотрю на Негга, тот смыкает веки, крупные шероховатые веки, напоминающие устричную раковину. Надо ртом недвижно нависают усы.
— Я поем здесь, на крыльце, — отзываюсь я.
— Я так и думал.
— А ты ел?
— Кажется, да. Господин, я не рассказал кое-чего ещё.
— Только ни слова про коня.
— Ни в коем случае. Сейчас речь пойдёт о другом.
— Почему ты умолк?
— Ты приступил к еде. Когда кто-нибудь начинает есть, я тоже это делаю, понарошку.
— Что ты хотел сказать?
— Теперь я отвечаю за то, чтобы ты в целости и сохранности перебрался через Альпы.
— Кто так распорядился?
— Ганнибал, кто же ещё?!
— По «связке жемчуга»?
— А как иначе? Ганнибал невзлюбил меня. Говорят, я унизил его достоинство.
— Ганнибал ведёт беседы с кем угодно. Копейщик ты или кто другой, не имеет значения.
— В моём случае очень даже имеет. Ему, видите ли, напели, будто я выставил его на горе в смешном виде. То, что я там сделал, — ерунда. Послушать их разговоры, так мне впору отдавать назад и жеребца, и кошель с деньгами. Я не должен был поднимать Ганнибала над головой, не должен был взваливать его на спину. Если послушать, что болтают люди, я вообще не должен был ничего делать. От моего вмешательства, утверждают они, пострадала Ганнибалова репутация. Моё вмешательство было излишним, говорят завистники. Очевидцы происшедшего рассказывают о нём тем, кого там не было. Солдаты сидят у костров и хохочут над этими рассказами. Они придумывают собственные версии и плетут многословные истории на основе того, что им показалось. Из-за меня Ганнибала поднимают на смех. Этого он мне никогда не простит. И ещё: он не получил ни царапины. Посему даётся понять, что мне вообще не следовало вмешиваться. Такое впечатление, будто сподвижники Ганнибала предпочли бы видеть его мёртвым или хотя бы при смерти. На худой конец — пусть бы вывихнул ногу или растянул сухожилие.
— Ты не знаешь Ганнибала, — вставляю я. — Уверяю, что дошедшие до тебя слухи распространяет не он. Кстати, если тебе не хочется быть моим слугой, не надо. Я могу сказать Ганнибалу, что ты мне не нужен.
— Тогда он ещё больше окрысится на меня.
— А ты станешь ещё язвительнее. Почему ты не доверяешь моему слову?
— Потому что тебе не хватает элементарного здравого смысла, — говорит Негг. — С человеком, который пренебрегает благоразумием, даже когда для него существуют чёткие и ясные основания, трудно иметь дело. Почему ты не покупаешь моего коня? Я уже запас целый сеновал корма.
— Стоимость которого входит в цену.
— Цену мы с тобой пока не обсуждали.
— Но ты сказал, что мы вместе съедим твоего статного жеребца.
— Только если подопрёт нужда.
— А когда она подопрёт? Когда твой конь покончит с кормом, который ты на него нагрузишь?
— Возможно.
— Раскрой глаза, Herr. Может, я не хочу тебя.
Он действительно открыл глаза и пристально посмотрел на меня.
— Оказывается, ты ещё глупее, чем я рассчитывал, — осмеливается заявить он. — Я предлагаю тебе свою лошадь ради того, чтобы ты выжил. Я прошу Ганнибала разрешить мне стать твоим денщиком, и полководец тотчас откликается: «Буду только рад. Я очень ценю Йадамилка. Иди к нему в услужение. Теперь, когда он потерял своего раба, ты нужен ему».
— Он не был рабом, — отпираюсь я. — Я отпустил его на волю.
— Вольным он был или рабом, во всяком случае, Ганнибал произнёс именно эти слова. «А что мне делать, когда мы вступим в бой?» — спрашиваю я Ганнибала. «Если ты спасёшь Йадамилка, ты спасёшь больше, чем целый отряд», — слышу я в ответ. Вот и думай, как теперь обернётся дело с тобой, со мной, с Альпами, с разными врагами и прочими неприятностями.
— Сколько же ты просишь за дарёного коня? — растроганно спрашиваю я.
— Коня вынужден был уступить мне военачальник, так что, сам понимаешь, жеребец ухожен. Он не отощал, и силы в нём хватает, а резвости и вовсе через край. К тому же он, в отличие от тебя, не кусачий.
— Так сколько? — повторяю я.
— Посоветуйся с Медовым Копытом, когда он там, среди ледников, почувствует, что значит питаться впроголодь.
— Я не уверен, что хочу тебя в служители. Во всяком случае, пока. Мне нужно сначала испытать тебя. Слушай внимательно и открой глаза, чтобы мне было тебя видно.
— Разве человек с закрытыми глазами исчезает? В первый раз слышу.
— Прежде всего скажи, что у тебя было самое страшное в жизни.
— Это я тебе скажу с ходу.
— Ты имеешь в виду меня?
— А вот и нет. Тут я сразу вспоминаю свою мать. Она долго болела и не собиралась умирать. Это продолжалось так долго, что все, кроме меня, уже хотели избавиться от неё. Считается, что в таких случаях хорошо трижды прокричать через замочную скважину туда, где лежит прикованный к постели: «Ты идёшь или приходишь? Или хочешь журавлиного мяса?» Что на более красивом языке звучит как: «Will you come or will you go? Or will you eat the flesh of cranes?»
— И кто трижды прокричал эти слова?
— Не важно. Мать поспешила умереть.
— О тебе, Негг, говорят, будто ты можешь поймать своё копьё на лету. Докажи, что это правда.
— На таком крутом склоне?! Ты требуешь невозможного. Но пойдём туда, где пасётся жеребец, набивая себе полное брюхо. Там я тебе покажу.
— Увиливаешь. Ты, Негг, просто-напросто лошадиный барышник, и более никто.
— А ты, господин? Ты просто-напросто поэт, который роняет больше слов, чем находит.
Тем не менее Негг заходит в хижину и выносит одно из своих копий — то, что полегче. Он не произносит ни слова, даже не зыркает на меня своими голубыми опалами, только опять хрюкает вроде свиньи. Он разбегается и изо всей силы мечет копьё. Я не успеваю одновременно следить и за копьём, и за проворными ногами бегущего по откосу Негга, поэтому я слежу за копьём и вижу руку кельта, хватающего древко за миг до того, как оружие должно воткнуться в землю. Негг хохочет и намеряется копьём на меня.
— Значит, мне не соврали, — кричу я.
Негг неспешными шагами движется ко мне.
— Отныне я и не заикнусь про коня, — обещает он. — Сам заведёшь о нём речь. Может, даже в стихах, — расплывшись в улыбке, прибавляет он. — Я только что узнал, что ты у нас великий поэт.
— Когда перевалим через Альпы, я посвящу тебе длинную оду.
И мы оба хохочем. Вскоре, однако, смех застревает у меня в горле. На площади перед Бревенчатым дворцом распинают четырёх человек.
— Что тебе известно про них? — указываю я в их сторону.
— Предатели, — отвечает Негг. — Так мне, во всяком случае, сказали.
Я тут же ухожу в дом. Есть я не могу. Я пробую попить кормы, но она не согревает меня изнутри и не приносит облегчения от мучающих меня мыслей. Вздохи — это стихия, в лоне которой дышит Демиург. «Ганнибал, — думаю я, — теперь я куда лучше прежнего вижу тебя и куда лучше прежнего понимаю Платона». Нашей жизнью правят два закона: способность требовать от других и необходимость жертвовать собой. Ганнибал-Победитель окунулся в очистительный огонь и обрёл эфирно-лёгкую жизнь саламандры[154]. К тебе не приложим ни первый, ни второй закон. Если ты сию минуту падёшь, ты всё равно победил. Если ты побьёшь римлян, это будет не большей победой, нежели одержанная тобой в девятилетием возрасте, когда ты твёрдым голосом поклялся отомстить Риму[155]. С тех пор ты постоянно живёшь в огне, под защитой языков пламени, и плавно переходишь из огня да в полымя, из огня да в полымя.
Размышлять о Ганнибале — всё равно что смотреть на Альпы. Исчезает какой-либо масштаб, соразмерность: близкое сливается с дальним, высокое — с низким. Теперь ты сам познал это. Твоё падение с горы стало окончательной инициацией в тайны Небытия, скачком победителя от соизмеримых с чем-либо побед к тому, что по сути своей есть победа — и только победа.
VI
С самого нашего выступления из Нового Карфагена я представлял себе Альпы во всём их небесном величии. Над ними неизменно сияло солнце, так что их ледовые вершины слепили ярким светом. Теперь же, когда мы идём среди этих гор, нам их не видно. Весь горизонт заволокло серой дымкой. Очертания мира исчезли для нас. Мы в некоем причудливом однообразии шаг за шагом поднимаемся вверх. Нам виден лишь щебень под ногами да спина идущего впереди. Туман давит своей тяжестью, словно это какая-то особая материя. Он затрудняет дыхание, заставляет нас кашлять, не откашливаясь. Кто-то объясняет, что нас окружает вовсе не туман, а дождевая туча — вроде тех, которые мы несметное число раз видели проплывающими у себя над головами. Однако сие необычное, если не сказать забавное, прохождение через облака не вызывает у нас ни малейшей весёлости. Наши мысли и чувства затянуты серым туманом мрачности.
День проходит без перемен. Туман не желает рассеиваться, туча не желает подняться и уплыть прочь. Ледовые вершины Альп остаются скрыты от наших взоров. На второй день кто-то начинает беспрерывно кричать, заражая своим примером других. Вскоре кричит уже всё наше войско — по крайней мере, в пределах слышимости. Производимые нами мелодичные звуки напоминают перекличку перелётных птиц. Они взбадривают нас, и маршировать становится легче. Рано утром третьего дня налетает резкий порыв ветра. Тяжёлая туча разрывается. На короткое мгновенье нам показываются потрясающие альпийские высоты. Нас заливает жалящим потоком света: значит, всё это время, пока войско было окутано тучей, над ней сияло солнце.
«Солнце по-прежнему на небе», — думаю я, стараясь сохранить сию истину в памяти на будущее, когда нас снова накроет облаками. Налетает ещё один порыв ветра. Альпы обнажаются — словно богиня, которая, соблаговолив предстать перед простыми смертными, сбрасывает свои покровы.
После этого мгновенного ослепительного зрелища сверху начинают сыпаться крупные снежинки — ощущение, которого я лично ещё не испытывал. Белые звёздочки гаснут, стоит им только коснуться земли. Они падают также на лицо, но и там тают, вызывая лёгкое щекотание, после чего по щекам слезами течёт талая вода. Я пытаюсь поймать несколько снежинок на язык. Усиливающийся ветер приподнимает тучу и отгоняет её в сторону. Теперь нам видны влажные чёрные утёсы. Однако снять облако с вершин ветру не удаётся. Солнце не появляется. Более того, начинает моросить дождь.
Негг — человек своенравный. Ему мало общих костров, и он всегда разводит отдельный, для нас двоих. Он, как сорока, прибирает к рукам всё, что видит: ветки, поленья, головешки. Если отсырели колышки для палатки, он обтёсывает их, пока не доберётся до сухого дерева. Сейчас он опять обрабатывает колышек, нарочно не состругивая до конца стружку, чтобы она образовывала вокруг него этакую лохматость. Строгает он на ходу, запихивая готовые палочки себе за пазуху. Когда мы разбиваем импровизированный лагерь, Негг с помощью своих колышков устраивает нам аккуратное гнездо и, стащив у кого-нибудь тлеющую головню, разводит перед входом в палатку костерок. Он терпеливо и бережно подкармливает своего птенца, пока тот не вырастает в настоящий костёр и не одерживает верх над стужей и сыростью. Мясо и хлеб Негг раздобывает всегда. Мясо он поджаривает на решётке, брагу — подогревает. Его словоохотливость никогда не иссякает. Я почти всегда спорю с его высказываниями, так что ему приходится держать ухо востро. Чаще всего между нами завязывается разговор.
— Я с утра видел кельтских соколов, — говорит, к примеру, Негг. — Причём сразу трёх. Сначала одного, потом ещё двух. Я довольно долго следил за их полётом. Должен признаться, мне было очень приятно.
— Кельтских соколов? Разве у кельтов какие-нибудь особые соколы? — удивляюсь я.
— Конечно, особые, — отвечает Негг.
— Глупости, — бросаю я, подначивая его. — Может, ваши соколы на самом деле не кельтские, а карфагенские.
Моргая набрякшими веками, Негг склоняется ко мне и едва ли не шёпотом произносит:
— Это не шутки.
— Для кого: для тебя или для меня?
— Для нас обоих, — говорит Негг.
— Почему именно для нас?
— Не исключено, что для многих, — шепчет он, — Возможно, для нас всех.
— Для каких это всех?
— Для всего Ганнибалова войска. Для всего этого сборища карфагенян, слонов и прочих животных. И конечно же для всех нас, наёмников.
— Балбес! — шиплю я. — Как могут два кельтских сокола повлиять на всех нас?
— Я никого не обращаю в свою веру, — кротко отзывается Негг. — Тем не менее дело и впрямь серьёзное.
— Чем?
— Всё будет так, как на устах.
— Говори понятно! Ты не сказал ни одного внятного слова.
— Ваша милость...
— Прекрати, — обрываю я Негга. — С чем дело нешуточное?
— Ясно с чем: с полётом кельтского сокола.
— Объяснись. Этого-то я и не могу понять.
— Как он летит и куда смотрит.
— Так. И что дальше?
— Знаешь ли ты, господин, что нам теперь лучше предпринять?
— Я бы тебе ответил, если бы знал, о чём думает Ганнибал.
— Я скажу, если ты удостоишь меня своим вниманием. Учитывая, куда мы идём, не зная дороги, положение таково. Нам стоит воспользоваться глазами, которые видят лучше наших.
— Тебе это внушили друиды?
— Соколу пришлось нанести пять ударов, прежде чем он добил. свою добычу. Он был страшно голодный и пожирал мясо прямо на земле. Это был первый сокол. Два других тоже очень хотели есть. Возможно, из-за того, что долго стоял туман. Оба летали крайне странно. Они искали добычу, но обычно соколы делают это иначе. Они кружились, парили на обмякших крыльях над воробьём или мышью.
— И что это значит?
— Я видел, как соколы повели себя, наевшись. Они грузно полетели не вниз, на запад, а вверх, на восток. Ганнибалу не следует полагаться на то, что ему будут рассказывать люди с востока. Он должен слушать тех, кто придёт с запада.
— Ты хочешь, чтобы я передал твоё предсказание Ганнибалу?
— Я же не могу сам предстать перед Главнокомандующим и говорить с ним.
— У нас четыре страны света. Если кто-то появится с севера или с юга?
— Не появится. Это физически невозможно.
— Сейчас да, а, скажем, ещё через день?
— Может, я завтра тоже увижу кельтского сокола.
— Мясо, которое ты сегодня поджарил, не очень вкусное, хотя оно бычачье. Кстати, тебе известно, что такое поэзия?
— Уж как-нибудь. Я в своей жизни наслушался бардов. Да и мы, гезаты, неплохо сочиняем стихи.
— А ты знаешь, что такое поэзия вещей?
— Было бы невежливо с моей стороны знать столько же, сколько ты, хозяин.
— Тогда слушай. Я хочу процитировать одного великого карфагенянина.
— Когда речь заходит о поэзии, я слушаю не только ушами, но и носом.
— Давай принюхивайся! Этот карфагенянин жил более ста лет тому назад.
— Судя по всему, в то время ещё были великие карфагеняне. Теперь их что-то не видно.
— Этого карфагенянина звали Магоном, и он сочинил много замечательных книг о скотоводстве.
— Я так и понял, что мы должны оказаться среди скотины.
— Цитирую дословно. Быки, предназначенные на продажу, «должны быть молодые, коренастые, крепкого сложения, с крупными членами, длиннорогие и тёмной масти; они должны иметь высокий складчатый лоб, волосатые уши, карие глаза и чёрную морду; ноздри открытые и вытянутые кверху, выю длинную и мускулистую, подгрудок мягкий и свисающий чуть ли не до колен, грудь хорошо развитую, плечи широкие, живот большой, как у самки с приплодом, бока выдающиеся, бёдра обширные, спину прямую и плоскую или даже несколько вогнутую, ляжки округлые, ноги прямые и толстые, скорее короткие, нежели длинные, колени крепкие, копыта большие, хвост очень длинный и лохматый, шерсть на туловище должна быть короткая и частая, рыжеватого или коричневого цвета, весьма мягкая на ощупь».
— Во загнул так загнул!
— Изящно, а?
— Очень, — согласился Негг, пробуя мясо. — Эти слова явно написал выдающийся человек. А вот жаркое наше ещё не готово. Придётся нам пойти дальше, вверх по реке, и заглянуть сюда на обратном пути. Глядишь, оно дожарится, и у какого-нибудь чистого озера можно будет отведать бычатинки.
— Ну что ж, надежда умирает последней.
Погода остаётся пасмурной, а широко раскинувшаяся туча застряла на высоте, которая нам приятнее. Мы избавлены от вида головокружительных высот, но не от дождя, который время от времени сеется на нас. После Куларо Ганнибал изменил порядок следования войска. Новый порядок продиктован опытом, приобретённым благодаря нападению аллоброгов. Теперь конница у нас идёт впереди, за ней следует обоз, далее тяжеловооружённая пехота, и замыкает походную колонну прикрытие.
Однако за дни, осложнённые туманом, войско наше разбилось на большие части, утратившие соприкосновение друг с другом. Чтобы покончить с беспорядком, Ганнибал сколотил отряд из своих превосходных нумидийских конников и повелел им держать армию вместе. Эта задача не составляет для них труда, пока мы движемся вдоль Исары, долина которой здесь расширяется и в отдельных местах даже возделана. Сейчас она к тому же пустынна. Слух о разграблении Куларо заставил горцев поспешить со своими стадами выше в горы, в скрытые от наших глаз боковые долины. Через равные промежутки времени нумидийцы с развевающимися волосами и гривами проносятся вперёд или назад, криками сгоняя распавшиеся части войска вместе. Между собой они говорят на каком-то непонятном, птичьем языке, отголоски которого продолжают звучать у нас в ушах даже потом: Нумидийцы — пастыри, которым поручено привести самое большое и самое упрямое в мире стадо баранов к горным воротам, носящим название прохода, или перевала. Где находятся эти ворота, никому из нас не ведомо, мы лишь знаем, что по ту сторону перевала Альпы идут вниз.
Сам Ганнибал, похоже, успевает быть одновременно во всех местах и всех подхлёстывать: то в голове войска, то среди слонов и мулов, то около лёгкой и тяжёлой пехоты, а то в хвосте, в отряде прикрытия. Обычно он молнией проносится мимо, почему для нас оказывается сюрпризом, когда мы обнаруживаем его спокойно едущим сбоку. Он перекидывается несколькими словами со мной.
— Подъём довольно крутой.
— И это изматывает, — отвечаю я.
— Зато здесь хорошая дорога, — возражает он.
— Посмотрим, надолго ли её хватит.
— Здесь, в глубине Европы, местность мало исследована. Нам только известно, что эти края населены многочисленными горцами. Сейчас их не видно, но подозреваю, что они видят нас. Ты, Йадамилк, посматривай вокруг.
Ганнибал минует отряд испанцев и нескольких балеарцев (последние явно попали не туда) — и тут же исчезает за рощицей золотисто-жёлтых лиственниц.
Направление марша изменилось к юго-востоку. Теперь мы следуем вдоль реки под названием Арк, это приток Исары. Идёт — вернее, уже клонится к вечеру — четвёртый день с тех пор, как мы покинули Куларо, и почти весь раздобытый там провиант съеден. Вьючные животные, слоны и верховые кони в основном существуют на подножном корму. Окрестные жители знают об этом. Когда туча поднялась и туман рассеялся, они стали из укромных мест наблюдать за нами. Строить укреплённые стоянки для ночлега нет времени: это отнимало бы половину походного дня, и Ганнибал запретил заниматься этим. Таким образом ночью лагерь оставляется на произвол судьбы — в надежде на недремлющих караульных. Спят все (если спят), сжимая в руке оружие.
Сколько мы ни буравим взглядами горный массив, в нём не открывается ущелья, которое бы повело нас вниз. Похоже, наша цель отодвигается всё дальше и дальше. Рим повернул к северу свою могучую спину и оставил после себя презрительный смех, эхом отдающийся между скал. Сами боги воздвигли этот бастион как защиту от непрошеных гостей: дескать, тот, кто попытается форсировать сей больверк, пускай делает это на свой страх и риск. Кто осмелится пойти против ясно выраженной воли богов, против самой природы мироздания? Ответ ясен: Ганнибал! Каких богов он втайне склонил на свою сторону? Он проворно скачет туда-сюда вдоль своего войска. Остановившись, роняет несколько доброжелательных слов жадно внимающим слушателям. В самых мрачных глазах загорается от его слов светлая искорка.
Однажды колонна вдруг застревает. Некоторое время толпа накапливается, затем движение полностью прекращается. Вскоре большинство уже сидит на земле, а животные нетерпеливо топчутся на месте или подъедают увядшую траву и кустарник по обочинам. Несколько пастырей-нумидийцев с воплями бросаются вперёд. Над нами сгущаются тёмные тучи, грозя, того гляди, пролиться никому не нужным дождём. Солдаты хотели бы стать лагерем, прежде чем разразится непогода. Там и сям слышатся крики, отзвуки которых, отдаваясь от скал, разносятся по узкой долине.
— Что они там творят в голове колонны? — спрашивает воин по имени Тарро, замыкающий отряд испанцев впереди нас.
— Кто приказал остановиться? — интересуется его товарищ Моррис.
— Ищут двух друидов, — отвечает кто-то.
— Они что, сбежали?
— Переводчики — вперёд!
— Что происходит?
— Мы попали в мешок?
— Говорят, нас там встречают.
— Что, опять бой?
— Я слышал, речь идёт о переговорах.
— Давайте же. Пошевеливайтесь. Мы торопимся.
— Неужели нам тут стоять целый день?
— Вон идут друиды.
Оказывается, горцы выслали нам навстречу послов. Они пришли по горной тропе вдоль боковой долины, пересекающей нашу дорогу с севера на юг. Чтобы показать свои миролюбивые намерения, они несут в руках венки и ивовые ветки. Листья ивы уже начали по краям желтеть, а миртовые венки горят красным. Одеты горцы пестро: обычная для кельтов короткая куртка с красивым кованым поясом, каждая нога отдельно обёрнута в шерстяную материю (так называемые штаны) и широкий плащ или накидка — скреплённые у горла, они закрывают плечи и спину и спускаются до самых пят. Завидно тёплый наряд, учитывая ночные холода, от которых страдаем мы сами. Горских воинов отделяет от Ганнибала с его свитой большая лужа. Дождевая вода в ней настолько чиста, что, когда кельты поднимают ивовые ветки вверх и затем опускают их книзу, кажется, будто ветки хотят соединиться со своим отражением.
Решится ли Ганнибал довериться местным жителям? Ведь пришельцы тут мы, и мы должны затевать переговоры и откупаться, чтобы нас пропустили. Но мы ведём войну и не можем терять время на каждое крохотное племя, возникающее у нас на пути. Если бы мы это делали, мы бы ещё топтались у Пиренеев. Ивовые ветки в руках и прикрытый плащом острый кинжал сзади за поясом? Один из старейшин обходит лужу и даёт понять, что хочет держать речь. Тут же выясняется, что никто не понимает его тарабарщины. Пока мы ждём друидов, которые присоединились к нам в Оранже, появляются разведчики с донесением о том, что они нашли место для стоянки в горной долине, чуть выше по ходу колонны.
Приступают к переговорам, во время которых мимо тянется наше войско, причём это продвижение рассчитанно не кончается, пока горцы остаются с нами. Начинается небольшой дождик, и Ганнибал накидывает на коня свой солдатский плащ. Главнокомандующий явно не торопится, он пристально наблюдает за кельтами, словно не просто вслушивается в тон их речи, а хочет распознать взглядом их тайные мысли. По мере приближения к критическому пункту нашего похода, то есть к горному перевалу, который нам необходимо преодолеть, чтобы попасть в долину Пада, Ганнибала отличает всё большее самообладание, граничащее едва ли не с оцепенением.
Между тем дюжий варвар, согласно переводу друида Корана, говорит следующее:
— Сначала мы неодобрительно смотрели на карфагенян. Мы считали вас врагами, которые пришли отнять у нас землю. Впоследствии мы узнали, что ваше несметное воинство направляется на борьбу с кельтским недругом Римом и что вы хотели бы лишь проследовать мимо, посему мы...
— От кого ты это узнал? — перебивает его Ганнибал, и друид Инис переводит его слова.
— От беженцев из Куларо, — следует ответ.
— Мы обобрали этот город до последней соломинки. Там не осталось в живых даже цыплёнка.
— Это верно, господин. Но Куларо — не наш город, он находится в руках аллоброгов, а с ними мы враждуем, как раз из-за притязаний на сей город и его окрестности. По здешним меркам там весьма плодоносные почвы.
— Ты упомянул беженцев из Куларо. Как вы могли приютить беженцев оттуда? Кто это пытается спастись у враждебного племени?
— Соглядатаи, господин. У нас были люди, которые втёрлись в доверие к аллоброгам и некоторое время жили в этом городе. С приходом карфагенян они не решились долее задерживаться там.
— И ты надеешься, что я в такое поверю?
Ганнибал по-прежнему сидит верхом. Чтобы видеть Главнокомандующего, посланцу приходится задирать голову кверху. Время от времени он начинает вертеть в руках ивовые ветви, словно ему хочется бросить их в лужу у себя за спиной.
— Я говорю правду, господин. Но скажи мне: эти люди, что перелагают наши речи, твои пленники?
— Нет, — отвечает Ганнибал. — Они направляются в принадлежащий бойям город Бононию и присоединились к нам по собственному желанию.
— Они относятся к духовенству и не имеют права носить оружие.
— Мы его и не носим, — заверяет Инис.
— Мы сами стараемся обеспечить их безопасность, — заявляет Ганнибал.
— В этих краях, — продолжает посланец, — уже очень давно обитаем мы. Никто лучше нас не знает здешних дорог и горных ущелий. Поскольку мы не хотим, чтобы похищали наших женщин, чтобы грабили, а то и сжигали наши города и жилища, мы предлагаем вам следующее соглашение: мы обязуемся за плату предоставить вам необходимый войску скот и другой провиант, а также опытных проводников. Вы же берёте на себя обязательство как можно скорее миновать наши земли, не опустошая их и не высылая вокруг отряды фуражиров. По-моему, это вполне приемлемые предложения.
— Возможно. Но обладаете ли вы властью для подкрепления своих слов? — спрашивает Ганнибал. — И откуда мне знать, что я могу доверять вам? Разве вы из своих горных крепостей не смотрели завидущими глазами на наш обоз и наше оружие? Что мешает вам завести нас не туда? Вам известны здешние ловушки — теснины, котловины, которые невозможно защищать. Вы запросто можете напасть сверху в обманчивой надежде сокрушить нас.
— Ни в коем случае, господин. Если нас не испугает ваше огромное войско, это сделают ваши животные. Они противоестественны.
— Слоны?
— Вы так называете этих непомерно раздутых уродов?
— Да, это слоны.
— Они требуют много пищи и издают звуки, не менее страшные, чем их вид. Не иначе как в них воплотились демоны.
— Их подарило мне карфагенское божество, оставшееся довольным моей жертвой ему, — говорит Ганнибал.
— Кто же осмелится нападать на вас, которых столь явно поддерживают небеса? Никто никогда не видел более объёмистого дара богов.
— Вы не в состоянии доказать ни своего страха перед моими животными, ни своей власти над жителями гор, — продолжает Ганнибал. — Всё это может быть пустой брехнёй. Но отдайте нам в заложники десять молодых людей, и я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение. Пока войско будет сыто, на нас не будут нападать, а проводники будут вести нас правильной дорогой, я буду выполнять свою часть соглашения. Пускай друиды засвидетельствуют это и ответят на ваши вопросы.
И Коран, и Инис не замедлили это сделать, но им не пришлось говорить долго. Сбившись в кучку, горцы принялись обсуждать, отдавать нам заложников или нет. В конце концов они согласились с Ганнибаловым требованием и передали нам десять юношей. Ганнибал направил их в передовой отряд, а новых проводников выслал ещё дальше вперёд. Горцы спрятали в ближайшей долине скот и две повозки муки и зерна, которые вскоре и передали нам.
Наконец и мы можем в наступающих сумерках отправиться под струящимся дождём в лагерь.
— Горцы прибыли с правильной стороны, — говорит Негг и, распахнув рубаху, извлекает из-за пазухи свои лохматые палочки. — Как ты думаешь, во сколько Ганнибалу обошлись гости?
— Понятия не имею, — отвечаю я. — Во всяком случае, из кассы он денег не брал, так что они не прознали, где наша казна.
— А не заранее ли они предполагали, что Ганнибал потребует заложников?
— Как так?
— Да так, что десять юношей были у них наготове.
— И что с того?
— Да то, что Ганнибалу нужно было потребовать сыновей самых знатных родителей. Боюсь, что теперь ему подсунули сыновей всякой швали.
— Ты хочешь сказать, что заложники не имеют никакой ценности?
— Это нам предстоит проверить.
Следующие строки пишу в крайней спешке.
Нас постигло ещё одно вероломное нападение, на этот раз обернувшееся более крупными потерями. Ганнибал с самого начала не доверял горцам, однако он считал, что, отвергнув их предложение, мгновенно обратит их во врагов. С каждым дневным переходом мы без помех приближались к альпийскому хребту, образующему естественную границу между севером и югом, между подъёмом в горы и спуском с них. Рано или поздно возвышенности должны были образовать выступ, по которому было бы видно, что подъём окончен. Кроме того, войско нуждалось в муке и мясе, а лошади и тягловые животные — в зерне. И разве заложники не служили защитой от нападения? Нет, не служили.
Заложников, как и проводников, мы держали под неослабным наблюдением, и ещё мы всё время осматривали неприступные скалы, среди которых пролегал наш путь, и усиливали бдительность, как только тропа и окрестности вызывали у нас подозрение. Только благодаря тому, что мы постоянно были настороже, нам удалось значительно снизить потери и быстрее пережить шок, в который повергла нас внезапная атака противника.
Мы тут же прикончили и заложников и проводников, что весьма мало огорчило горцев. Мы имели дело с необыкновенно грубым народом. Враги сколотили довольно большой отряд, который поджидал нас в засаде в заранее намеченном месте. Окрестности были крайне неблагоприятны для нас: высокие горы с одной стороны и бездонная пропасть с другой. Нам не оставалось ничего другого, как пытаться протиснуться по уступу. Бежать было некуда. Горцы оседлали высоты, откуда они скатывали на нас глыбы и метали увесистые камни. Более того, благодаря подходам из боковых долин они напали сразу с головы и с хвоста. План нападения был продуман до мелочей. Чего горцы добивались? Это были разбойники, к тому же одержимые страстью к войне. Мы потеряли много ратников, много коней и вьючных животных. Нападающим также удалось разорвать нашу колонну, отрезав передовые отряды с Ганнибалом и большей частью военачальников от основного войска. Ганнибал и половина солдат вынуждены были ночевать на огромной голой скале, откуда им, впрочем, было нетрудно обеспечивать свою безопасность.
Утром враг заметно ослабил напор и обе части армии сумели воссоединиться. В течение дня горцы постепенно отступили. Теперь местность меньше благоприятствовала им, а может, они были довольны нанесённым уроном и собирались с наступлением темноты заняться мародёрством. Помимо всего прочего, вокруг носились бесхозные лошади, которых можно было прибрать к рукам.
Ганнибал ведёт нас дальше, к вожделенному перевалу через Альпы. На нас то и дело нападают мелкие отряды, как с головы, так и с хвоста. Иногда им удаётся убить пару человек и захватить несколько вьючных животных. Противник также понёс серьёзные потери, а Ганнибал ещё решил совершать короткие вылазки в окрестные долины. Человек пятьдесят испанцев и нумидийцев налетают на города и селения и поджигают их. Эти карательные экспедиции разряжают накопившуюся в войске злость. Все жаждут мести. И тем не менее самое главное, что мы наконец приближаемся к горному Проходу.
VII
Здесь, наверху, царит вечная зима. Белым вихрем кружится снежок, лёгкой порошей прикрывший твёрдый прошлогодний наст. Близится закат Плеяд[156]. Нам не приходится ждать ничего, кроме стужи, снега и ночного мрака.
Итак, горная дорога вывела нас к самой высоте. Мы ещё издали завидели седловину, и по войску пронёсся вздох облегчения. Ранее мы отклонились от Арка и пошли вверх по одному из его притоков. Ганнибал не ошибся. Мы попали в просторную долину, в которой может разбить стоянку вся рать. Главнокомандующий распорядился о двухдневном отдыхе. Мы надеемся, что подоспеют отставшие; эта надежда оправдывается. К нам также подтягиваются по тропе кони, испугавшиеся и убежавшие во время атаки горцев, и вьючные животные, потерявшие свою поклажу.
Я стараюсь держаться возможно ближе к Ганнибалу. Мне хочется выведать его настроение и побольше узнать из роняемых им слов. Позавчера я участвовал в странной вылазке. Кое-кто может решить, что о случившемся там не стоит рассказывать в моей рабочей тетради, однако это мнение поверхностно и неверно. Дело в том, что я не просто описываю события, которые мне довелось наблюдать и в которых я участвовал. Я перехожу сразу к сути и показываю знамения, говорящие сами за себя. Таким образом достигается изображение значащего мира, мира смыслов. Я взял себе за правило: то, чего нельзя высказать, не следует замалчивать, его нужно изображать.
— Поедешь с нами? — спросил Ганнибал, прежде чем вскочить на коня.
— У меня нет оружия, — ответил я.
— И ты туда же! — рассмеялся Ганнибал.
У него было обложено горло, и он здорово хрипел. Та же напасть поразила и меня. Я никогда в жизни не говорил таким низким и осипшим голосом, чего Ганнибал никак не ожидал. Теперь он, что называется, посмотрел на меня новыми глазами.
— Моего оружия хватит на двоих, — отсмеявшись, произносит Ганнибал.
— Если не буду в тягость, с удовольствием поеду.
Услышав меня, Ганнибал снова не может удержаться от смеха. Вероятно, я действительно произвожу комичное впечатление с этим басом, подобающим морскому волку. Такой голос не соответствует моей наружности.
— И это ты, в обычное время звучащий по-гречески столь красиво и мелодично. С твоим выговором кажется, будто гласные танцуют на радуге из солнечного света, бриза и аромата цветов.
— Теперь и ты у нас заделался поэтом, — говорю я.
— Айда, Йадамилк! Ты будешь под защитой пятидесяти всадников. Кстати, тебе повезло, что ты сохранил коня.
— Я почитаю себя счастливцем, — признаю я, но не заикаюсь о том, что у меня есть ещё один выживший конь.
Вот как получилось, что я оказался участником карательной экспедиции в одну из окрестных долин. Предполагалось, что мы уничтожим всех встреченных врагов, захватим все попавшиеся съестные припасы и подожжём оставленные без присмотра жилища.
Надо сказать, что наша часть экспедиции ушла совсем не далеко. Ганнибал остановил нас у первой же хижины. Сорок конников продолжили рейд, причём Главнокомандующий потребовал, чтобы они не лезли на рожон. Он хотел вскорости увидеть их целыми и невредимыми.
— Нам с Йадамилком нужно полечить голосовые связки, — говорит он непревзойдённому Карталону, исполняющему все поручения Ганнибала и отлучающемуся от Главнокомандующего лишь по строжайшему повелению последнего. — А ты, Карталон, съезди привези нам вина и мёду.
Всё это может показаться чистым капризом Ганнибала. Почему нам было не повернуть назад? Что мы забыли в покинутом жителями доме? Горячее вино мы могли пить где угодно. Всё войско находилось в пути. По меньшей мере четыре карательные экспедиции вторглись в соседние долины, дабы хорошенько напугать и примерно наказать разбойников и насильников. У них ведь тоже были свои слабые места: дома и очаги, жёны и дети, дорогая скотина. Может быть, Ганнибалу просто захотелось походить по деревянному полу? Лучшего объяснения я не нахожу.
Мы осматриваем дом, который, в отличие от большинства, стоит на каменном фундаменте. Мы не обнаруживаем ничего ценного и ни одной живой души. Мы с Ганнибалом усаживаемся за большой стол, только сначала Ганнибал несколько раз проходится взад-вперёд по комнате, и по походке видно, как он стосковался по деревянному полу. Двое солдат приносят дрова и разводят огонь. Когда мы остаёмся одни, Ганнибал самым своим сиплым голосом произносит:
— Теперь, Йадамилк, я уж тебя допрошу всласть. Раньше никак не получалось. Теперь у нас с тобой есть время друг для друга.
— Мне особенно нечего сказать, — смиреннейше отзываюсь я.
— Может, ты скажешь, как говорят двое моих греков, Сосил и Силен, которые перестали писать. Оба утверждают, будто писать больше нет смысла. Они не в состоянии обнаружить ничего, за что бы меня похвалить. Ни моя стратегия, ни моя тактика им не по вкусу.
— Какое нахальство! — сердито бросаю я.
— Значит, ты продолжаешь писать обо мне и о нашем походе?
— Естественно. Когда выдаётся свободная минута.
— Интересно было бы послушать какой-нибудь отрывок.
— Мои записи делаются наспех. Они отнюдь не готовы для чтения.
— Ты не жалеешь?
— О чём?
— О том, что присоединился к походу.
— Как у тебя язык повернулся! Конечно нет. Кстати, ты же приказал мне.
— Не пытайся снять с себя ответственность. Ты просто умолял взять тебя.
— Ложь!
— Решение было за тобой!
— Признаю.
Всё это время Ганнибал смеялся.
— Я действительно повелел тебе следовать с нами, — признает он. — Через тебя многое дойдёт до твоего отца, и я полагаю, ты захочешь...
Из-под пола донёсся душераздирающий женский крик, сразу следом за ним — мужской. Ганнибал вскочил со стула.
— Ага, значит, тут остались жители. Мы не заметили их, потому что не осветили все закоулки у нас под ногами.
И женщина и мужчина продолжают орать.
— Их что, приканчивают? — удивлённо спрашиваю я.
Ганнибал уже устремился вон. Я последовал за ним, только в более ленивом темпе.
— Тут роженица с мужем, — выкрикивает кто-то.
— Он лежит в куваде, — уточняет другой.
Не я, а Ганнибал знал, что такое «кувада».
— А, мужские роды! Ведите обоих сюда! — приказывает он.
— Они не могут ни ходить, ни стоять.
— Мужчине в этих случаях приходится не легче, чем женщине, — объясняет один испанец. — Он платит за своё отцовство муками в течение пяти дней и четырёх ночей. Его страдания столь же реальны, как и страдания матери.
Ганнибал пробрался между воинами, столпившимися у двери в каменный подвал. Я не отставал от него.
Женщина лежала на полу, корчась от родовых схваток. Она и муж орали один громче другого. Теперь они были вдобавок перепуганы нами. Мужчина схватил себя под коленями и скрючился, поджав ноги к самому подбородку.
— Мы прибьём тебя, если не унесёшь ноги подобру-поздорову! — выпалил стоящий рядом солдат.
— Распоряжения здесь отдаю я! — рявкает Ганнибал. — А я приказываю вытащить его на улицу. Женщину отнесите в дом.
Двое солдат схватили мужчину за руки. Тот не переменил позы, так и остался скрюченным, крепко держа себя под коленками. Солдаты подняли его, как поднимают большой котёл с ручками. Ганнибал склонился к мужчине и отчётливо произнёс:
— Не уйдёшь своей дорогой, прощайся с жизнью.
Однако мужчина не встал и не убежал прочь. Обряд кувады явно был важнее спасения своей шкуры, что, собственно, и хотел проверить Ганнибал.
— Пускай лежит, потом посмотрим, что он тут творит, — сказал Ганнибал. И, уже обращаясь ко мне, прибавил: — Пойдём внутрь, к женщине.
Тем временем прибыл Карталон с вином и мёдом. Он вошёл следом за нами и, сделав большие глаза при виде женщины, поставил кувшин вина у огня. Женщина с разметавшейся в стороны копной рыжих волос умолкла. Она лежала, возвышаясь, на дощатом полу, руки её были стиснуты на животе.
— Как же теперь будет с нашим разговором? — заканючил я. — У меня было к тебе много вопросов.
— А как теперь будет с вином, которое должно вылечить нам горло?
— Женщина тоже будет пить вино? — спрашивает от очага Карталон.
— Разумеется, — отвечает Ганнибал, расхаживая по половицам всё той же походкой, свидетельствующей о том, как он истосковался по такому полу.
Мы большими глотками пили подогретое вино. Карталон, опустившись на колени, попытался приоткрыть роженице рот. Это удалось не сразу. Сначала Ганнибал показал женщине, что он пьёт, и мне пришлось сделать то же самое. Мы опрокинули ещё по кубку. Женщина, глядя на нас, нехотя разжала губы. Попробовав несколько капель, она с жадностью принялась пить.
— Ты когда-нибудь помогал при родах животным? — спрашивает меня Ганнибал.
Я качаю головой. Тогда он задаёт тот же вопрос Карталону.
— Нет, никогда, — следует ответ.
— Ты меня удивляешь, Карталон. Даже я однажды принимал роды у оленихи, которую сам же ранил из лука. А уж при рождении слонов я присутствовал много раз.
У женщины снова начались схватки. Лицо её исказилось, она зажала рот ладонью и крепко сомкнула веки. Всё это не помогло. Она орёт в голос.
— Как только она перестанет кричать, я дам ей ещё вина.
— Правильно, — говорит Ганнибал. — А я осмотрю её. Во время схваток легче понять положение плода.
Ганнибал наклонился к женщине и принялся изучать её живот. Через некоторое время он призвал на помощь руки, ладонями и пальцами прощупывая, как лежит младенец.
— Ай-ай-ай, — сказал он, вставая во весь рост. — Младенец в неудачном положении. Если я правильно понял, он лежит поперёк. Из-за этого женщину ждёт смерть.
Роженица открыла глаза и испуганно уставилась на Ганнибала, тот снова наклонился над ней.
— Твой муж не убежал, а лежит около дома и стонет, — говорит он женщине, хотя знает, что она не поймёт ни слова. — Теперь ребятёнок снова зашевелился, — добавляет он, положив правую руку ей на живот.
Мне и Карталону он лаконично сообщает:
— Дело ясное. Младенец не может выйти наружу. Мы должны ей помочь. У кого самая узкая рука?
— Рука? — запинаясь, переспрашиваю я, уже практически догадавшись, что задумал Ганнибал.
— Вероятно, у тебя, Йадамилк.
Ганнибал сравнивает наши ладони и запястья. Естественно, самая узкая рука оказывается из нас троих у меня.
— Значит, придётся тебе, Йадамилк.
— И что, скажи на милость, я должен сделать этой рукой? — в ужасе вопрошаю я.
— Оказать вспоможение при родах, — крайне спокойно произносит Ганнибал. — Благодаря тебе может увидеть божий свет новый человек.
— Это невозможно, — уверяю я.
— Мы выпьем ещё. А ты, Карталон, продолжай давать вина женщине.
— Всё будет замечательно, — говорит Карталон не понимающей ни слова роженице.
— Теперь, Йадамилк, пришла твоя очередь становиться на колени. С левой стороны от женщины. И действовать тебе придётся левой рукой, которая у тебя, кстати, поуже правой.
— Я что же, должен тянуть младенца вниз?
— Да, сам он не опустится. Если мы не поможем матери, и она и ребёнок умрут.
Я нерешительно опускаюсь на колени с левой стороны роженицы. Конечно, мне в коленку тут же впивается сучок из половицы. Я ору от злости и боли.
— Ты, кажется, тоже собрался «кувадить»? — спрашивает Ганнибал и отнюдь не деликатно хохочет.
Тем временем я поступаю так, как велел Ганнибал: складываю пальцы левой руки, делая её похожей на клин, и костяшками вниз веду к чреву женщины. К моему великому удивлению, рука запросто проходит в её распахнутое, как разинутый рот, лоно.
— Теперь не торопись, — предупреждает Ганнибал. — Тебе нужно осторожно продвигаться вперёд кончиками пальцев. Возможно, наиболее чувствительный у тебя указательный. Подойдёт и средний. Всё может решить малейшее движение.
Рука моя невольно дёргается.
— Что ты чувствуешь? — мгновенно осведомляется Ганнибал.
Я молчу, не зная, что сказать.
— Ты нащупал гладкие плёнки?
— Нет ещё.
— Продвигайся дальше, но крайне осмотрительно.
— Теперь я что-то нащупал, только это не плёнки.
— Поводи пальцем по тому, что ты нащупал.
— Оно упругое.
— Прекрасно. Следовательно, плод освободился от оболочки и воды уже прошли. Это значит, что ребёнок вытянул ножки, насколько я могу судить сверху, во всю длину.
— Зад или, возможно, живот, — шёпотом докладываю я.
— На попе обычно бывает разрез.
— Нет, это точно живот.
— Тогда осторожно с пуповиной!
— Я уже нащупал её, — выдавливаю из себя я.
Только теперь я замечаю едкий запах женщины. Раньше я был в таком напряжении, что не обращал на него внимания. Мне хочется отвернуться в сторону, но я конечно же не решаюсь. Так или иначе глаза мои следят за тем, что делает рука в женской утробе.
— Пощупай указательным пальцем, есть ли пульс, — говорит Ганнибал.
— Есть, — констатирую я.
— Значит, младенец жив. Теперь, Йадамилк, попробуем объединить наши усилия, ты внутри, а я сверху живота. Медленно передвинь руку вправо.
— Тут явно бедро, — говорю я.
— Хорошо. Иди вдоль ноги, пока не доберёшься до ступни. Я сделаю всё возможное, чтобы ступня оказалась в правильном положении.
Карталон видит, как я вспотел, и подходит с полотенцем, которым обтирает мне лоб и шею. Я совершенно утратил представление о реальности. Мне кажется, я вовлечён в нечто, напоминающее кошмар. С огромным усилием я выговариваю:
— Похоже, это пятка.
— Чудесно. Нажми указательным пальцем на подъём и постарайся направить ступню вниз. Вот так! Ты чувствуешь, что я помогаю тебе?
— Нет, — отзываюсь я.
— Ты обязан чувствовать.
— Может, и помогаешь.
— То-то же! А теперь?
— Я нащупал крохотную лодыжку.
— Было бы лучше, если б ты сразу ухватил и вторую ногу.
— Мне что, отпустить эту?
— Нет. Сначала высвободи средний палец и вытяни его как можно дальше. Получается?
— Я ничего не нахожу.
В это мгновение я чувствую ужасающую боль в запястье. Женщина невольно натужилась, и теперь сократившиеся мышцы пытаются «удавить» мою руку. Ганнибал видит, что случилось, и хватает меня за плечо.
— Ни в коем случае не шевели рукой, — шипит он.
Женщина тоже поняла, что больно зажала мне руку.
Откинув назад собственные руки, она выпускает из себя весь воздух и, широко отверзши рот, набирает полную грудь нового. Лишь в этот миг я, наконец, соображаю, что происходит. На меня накатывается мгновенное прозрение.
Мы с Ганнибалом помогаем в рождении Европы. Мы даруем ей свободную жизнь. Мы соединяем её разрозненные части в единое целое, которым она и была с самого начала, — как мы руками помогаем скоординировать различные части тела, превратить их в единый организм. Внезапно мне стало очень важно, чтобы младенец родился живым и чтобы он был цел и невредим.
Но Ганнибал не знает моих тайных замыслов, которые теперь обретают чёткость и надежду.
Нам удаётся повернуть младенца, и он начинает выходить ножками вперёд. Когда появляются бёдра, мы обнаруживаем, что это девочка.
— Европа, — шепчу я.
Ганнибал по-прежнему ничего не понимает.
— Европа цела и невредима, — шёпотом продолжаю я.
Ганнибал не обращает внимания на мои слова. Он уже встал и пьёт третий кубок вина с мёдом. Меня же охватывает восторг, который называют «одержимостью богом», и это выражение в точности отражает моё состояние. Бог подарил мне сие необыкновенное событие, сии удивительные роды, как залог будущего: народившейся Европы, народившейся благодаря Карфагену, благодаря нам с Ганнибалом. Ганнибалу и не нужно было понимать это уже сейчас. Его ждут разные подвиги, и он должен свершать их один за другим. В порыве восторга я срываю с себя ожерелье из монет, которое навязал мне в подарок от отца Итобал. Положив монисто на грудь женщины, я говорю:
— Отдай его Европе, когда она вырастет большая.
Ганнибал с легкомысленным лукавством произносит:
— Берегись, Йадамилк. Она принадлежит к врагам. Смотри, чтоб этот подарок не расценили как предательство.
Я поднимаюсь с пола, испытывая странное чувство отчуждения.
— Иди сюда, Йадамилк, — улыбается Ганнибал. — Ты заслужил ещё вина.
VIII
Из широкой высокогорной долины, в которой войско два дня стояло на отдыхе, можно без особых усилий подняться на один из отрогов, мысом вдающийся в окружающий пейзаж. Фактически это плоскогорье, способное вместить несколько сот человек и настолько открытое ветрам и солнцу, что на нём нет ни прошлогоднего наста, ни следов вчерашней пляшущей позёмки. Наёмникам, которые всерьёз загрустили от многократных наскоков горцев — чего они никак не ожидали, когда вербовались в Ганнибалово войско, — приказано было, выстроившись попарно, взойти на отрог, чтобы окинуть взглядом долину Пада и часть Италии. Ясная погода продержалась столько времени, что, по крайней мере, половина воинства успела взглянуть на просторы, начинавшиеся там, где кончались Альпы. В большинстве случаев насупленные лица солдат просветлялись от этого зрелища.
У самого края отрога стояло несколько военачальников, которые бегло объясняли воинам, что интересного предлагает открывающийся вид. Однако кое-кто из солдат посмотрел не только вдаль, но и прямо вниз, так что они увидели, насколько крута и труднопроходима тропа, ведущая к подножию.
— О боги! — восклицает кто-то. — Неужели мы завтра утром должны будем лезть туда?
— Это ещё окончательно не решено, — отвечает один начальник.
— Специальный отряд сейчас ищет для нас наилучший путь, — прибавляет другой.
— Среди этих обрывов вряд ли могут жить люди, а? — осведомляется тот же солдат.
— Даже горцы, — говорит второй.
— Спасибо и на том.
— По крайней мере, мы будем избавлены от их дурацких атак, — вставляет третий.
— Избавлены от волков! — с нажимом отзывается первый солдат. — Потому что они налетали на нас, как волки. Да-да, каждый раз это была стая изголодавшихся волков, которая кидалась туда, где мы были слабее всего... и мгновенно хватала за глотку.
Я же лелеял воспоминания о недавно пережитом. Раньше моя левая рука всегда была для меня лишь левой рукой. Теперь она стала чем-то большим. Она стала рукой, которая помогла рождению Европы. Я постоянно думал о благословении, снизошедшем на мою левую руку, и иногда даже подносил её к губам и целовал. Иногда я ещё странно подхохатывал и тогда мог снова поцеловать руку — дабы загладить своё кощунство. Однако в основном я пребывал в серьёзном, если не сказать торжественном, настроении. «Правда ведь, меня переполняет радостное смирение?» — спрашивал я себя, на что мог совершенно честно признаться: «Да, это так».
В последние дни меня пробуждал по утрам не холод, а «Карфагенская поэма», которую я начал сочинять и которую мог закончить очень скоро, если бы только мне дали день-два побыть наедине с собой.
Но как раз этого не получилось. В то самое утро нас подняли спозаранку и велели сниматься с лагеря. К рассвету нужно было свернуть стан и приготовиться выступать. Мы не менее двух часов провозились в темноте или при свете чахлых костерков.
Когда я вышел из палатки, над долиной занималась красноватая заря. Я направился к палатке Главнокомандующего. Около неё стоял военачальник Карталон, которого я спросил, где искать Ганнибала. Карталон указал на отрог, прибавив, что вряд ли Главнокомандующий хочет, чтобы его беспокоили. Не обращая внимания на это предостережение, я пошёл прямо на плоскогорье.
Ганнибал стоял на самом краю. Заслышав мои шаги, он сделал жест, призывавший к молчанию. Я остановился на почтительном расстоянии, но потом, незаметно для себя, стал подбираться всё ближе и ближе, пока в конце концов не оказался рядом. «Ганнибал обозревает пространство, на котором будут разворачиваться его победы, — подумал я. И ещё: — «Карфагенская поэма» может послужить прекрасной интродукцией для моего эпоса».
— О чём ты думаешь? — внезапно спросил Ганнибал.
— О «Карфагенской поэме», — правдиво отвечаю я.
— Про что в ней будет говориться?
— Про все свершения карфагенян.
— Все-все?
— Про самое главное, самое выдающееся, что сделали карфагеняне для известного мира.
— Разве это главное не шло на пользу в первую очередь нам самим?
— Не скажи. Ты ведь сам покорил Альпы и привёл на высочайший горный массив огромное войско, за что тебя будут восхвалять в веках. Я убеждён, что тебя будут превозносить как покорителя Альп, пока жив на земле хоть один человек. Почему? Потому что твой подвиг пошёл на пользу всем.
— Не уделяй слишком много места в своей поэме мне и моей родне. Вспомни лучше про Ганнона Великого!
— Я уже вспомнил про него.
В этот миг из-за горизонта пробилось солнце, залив красным возвышенности, обрывистые склоны и ледники. Гребень хребта засиял золотом. Даже воздух изменил свою окраску.
— Я собираюсь посвятить заново родившейся Европе большой эпос, — тихо говорю я.
— Счастливец, ты можешь думать о таких вещах. Я же думаю о том, как нам лучше спуститься по южному склону. Впрочем, едва ли дело пойдёт хуже, чем на подъёме.
— Мой эпос может быть закончен лишь через много лет.
— Я надеюсь, мой военный поход закончится быстро. В противном случае... в противном случае я последую примеру фараоновой мыши. Стоит Риму сникнуть от усталости, как я заскочу ему в пасть и стану рвать, кусать и терзать его.
— Ты уже рассказывал. Но я в это не верю. Не верю я и в скорое окончание войны.
— Что ты хочешь сказать?
— Только то, что война будет продолжена, уже не за Рим, а за другие края. В Европе слишком много нерешённых проблем, чтобы война кончилась быстро.
Навстречу нам приплыло несколько лёгких розовых облачков, которые осели на склоне под нами. Я наклонился над обрывом, чтобы увидеть, поплывут ли они дальше. Но они не уплыли. Напротив, к ним стали прилепляться новые облака, которые, казалось, образовывались в глубокой долине прямо на глазах. Над головой облаков не было вовсе. Они скапливались у нас под ногами. Обзор становился всё хуже и хуже. Вскоре образование облаков пошло намного быстрее, и мы перестали видеть что-либо, кроме их розовой массы.
— Пора возвращаться, — говорит Ганнибал.
— Наша беседа в хижине у горцев прервалась, — торопливо напоминаю я. — Она, конечно, прервалась событием замечательным и благословенным, но ты по-прежнему должен мне пространный разговор, Ганнибал.
— Глядишь, когда-нибудь получится.
— Я не забуду этого обещания.
— Тебе нужно подловить меня. Я никогда заранее не знаю, когда выдастся спокойная минута.
В этот самый миг я, первым из нас двоих, замечаю удивительное явление. На скоплении облаков, простирающемся перед и под нами, появляется колоссальная тень, которую отбрасывают контуры гор. Среди их очертаний выделяется тень нашего отрога, а сверху него — тени меня с Ганнибалом. Примечательным и фантастическим в этом зрелище были вовсе не сами тени, а их невероятные размеры. И Ганнибал и я казались увеличенными в тысячу раз.
Я прихожу в неописуемый восторг. Охваченный радостью, едва ли не эйфорией, я возглашаю:
— Се Ганнибал-Победитель!
И, вытянув руку, показываю, куда смотреть. Моя тень вдали повторяет движение. Я поднимаю обе руки кверху. Тень повинуется мне. Теперь и Ганнибал возносит руки.
— У тебя заниженные мерки, Ганнибал. Вот твой истинный масштаб. Само небо подтверждает твоё величие.
От возбуждения у меня начинают стучать зубы. Меня колотит озноб.
— А ты, Йадамилк? Ты ведь тоже стал исполином.
— Ганнибал-Победитель! — снова кричу я.
Моя рука тянется заткнуть рот. Я второй раз проговариваюсь, в присутствии Ганнибала называю его тайное имя. Я испуганно кошусь на него, но он не подаёт вида, что случилось нечто особенное. Мой энтузиазм вспыхивает с новой силой.
— Это нужно показать войску! Тогда все возликуют и будут счастливы.
— Нет, Йадамилк, не надо.
— Ты должен! Должен! — как ребёнок, воплю я.
Я с трудом выговариваю слова. Крик и шёпот перемежаются, мешаясь в одну кучу. Ганнибал неумолим.
— Нет, Йадамилк! — строго произносит он.
— Ты не имеешь права лишать воинство сего грандиозного зрелища, — продолжаю упорствовать я. — Каждый сам поймёт значение этих теней.
— Я сказал «нет».
— Дай посмотреть хотя бы военачальникам.
— И им не надо. Нам скоро выступать.
— Хотя бы несколько человек! — ору я, — Взгляни, каким потрясающим светло-красным бордюром обведены наши тени!
— Тут все цвета радуги, — говорит Ганнибал. — Ты только посмотри на солнце! Вокруг него сияет лучезарный нимб.
— Твою тень должны увидеть не только мы с тобой. Это благословенное, символическое знамение, дарованное нам Мелькартом.
— Я знаю. Нам воссиял Мелькарт.
— Если военачальники увидят это, их боевой дух возрастёт и нам будет легче добиться победы.
— Нет, — в который раз заявляет Ганнибал. — Обещай мне молчать об этом.
— С нами говорил через космос сам Мелькарт. Это событие огромного значения.
— Обещай, что ты будешь молчать.
— Конечно, я обещаю, но я делаю это с грустью. Печально, что только мы с тобой...
— Да, это будем только мы с тобой.
— Но в «Карфагенскую поэму» я вставлю всё, что мне дозволит Муза.
ОБ АВТОРАХ
ЛАРС АЛИН — один из классиков шведской литературы XX в. — родился в 1915 г., умер в 1997 г. Он автор многочисленных романов, новелл, пьес и эссе. Неоднократно был удостоен национальных литературных премий. Почётный доктор философии (1969).
ГУННЕЛЬ АЛИН родилась в 1918 г. Её перу принадлежат шесть романов, один из которых — «Ганнибал-сын» — посвящён детству Ганнибала. Он вышел в 1974 г.
Роман «Ганнибал-Победитель» — совместная работа супругов Алин. Эта книга сразу по выходе была удостоена престижной премии имени шведского писателя XVIII в. Юхана Челльгрена.
Текст романа «Ганнибал-Победитель» переведён со шведского по изданию: Gunnel och Lars Ahlin. Hannibal Segraren. Stockholm, Bonniers, 1982.
Примечания
1
Карфаген был основан в 814 г.* выходцами из финикийского г. Тира. После упадка Тира около VII в. Карфаген занял преобладающее положение в Северной Африке, а затем превратился в крупнейшую рабовладельческую державу, подчинившую своей власти значительную часть побережья и островов Западного Средиземноморья. Карфаген был центром обширной торговли. В начале III в. начались войны Карфагена с Римом, которые получили название Пунических войн (римляне называли карфагенян пунами). Первая война 264—241 гг. закончилась победой Рима и потерей Карфагеном Сицилии. Вторая война 218—201 гг. также окотилась поражением Карфагена, который потерял Испанию и ряд других владений. После Второй Пунической войны Карфаген превратился в политическом отношении во второстепенное государство, но его экономическая мощь была достаточно велика, и Рим не мог с этим примириться. Выразителем антикарфагенских настроений был римский политический деятель Марк Порций Катон Старший, который каждую свою речь в сенате заканчивал словами: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». В 149 г. римляне объявили Карфагену войну (Третья Пуническая война 149—146 гг.), осадили город и в 146 г. он был взят. По требованию римского сената город подвергся полному разрушению, сожжён, сровнен с землёй, территория его предана проклятию, и на вечные времена на ней запрещено было селиться.
* В комментариях все даты, кроме оговорённых, относятся к периоду до н. э.
Новый Карфаген — город в Испании, основанный карфагенским полководцем и политическим деятелем Гасдрубалом. Был крупным торговым портом и сильной крепостью.
(обратно)2
Мелькарт — верховный бог г. Тира, почитавшийся в Финикии и за её пределами, в частности, в Карфагене. Отождествлялся с Гераклом и часто также изображался в львиной шкуре. Какус (Как) — в римской мифологии чудовище, изрыгавшее огонь. Был убит в пещере Авентинского холма Гераклом за то, что похитил животных из его стада. Авентин — один из холмов, на которых был основан Рим.
(обратно)3
Силен — греческий историограф, находившийся в лагере Ганнибала во время его похода в Италию в 218 г.
(обратно)4
Ибер — река в Испании (нынешнее название — Эбро). Иберия — старое название Испании.
(обратно)5
Родан — река Рона.
(обратно)6
Такое прозвище, означающее «молния», было и у отца Ганнибала, Гамилькара.
(обратно)7
Полководцы Александра Македонского, разделившие после его смерти (в 323 г. до н. э.) созданную им империю.
(обратно)8
...никаких... тайных камарилий... — Камарилья (исп.) — группа политических интриганов, влияющих своими интригами на государственные дела в интересах личной выгоды.
(обратно)9
Ведь Александр разрушил Тир... — Александр Македонский осадил и разрушил финикийский город Тир в 333—332 гг. Осада длилась семь месяцев. Тиряне проявляли чудеса мужества и надеялись на неприступность своего островного города. Но Александр приказал насыпать перемычку через пролив, отделявший Тир от материка, и город был взят. Его население было обращено в рабство и продано.
(обратно)10
Иберы (иберийцы) — группа племён, живших на Пиренейском полуострове.
(обратно)11
Гелиос — в древнегреческой мифологии бог солнца.
(обратно)12
...о восстаниях наёмников, которые едва не привели Карфаген к гибели. — В 241 г. в Карфагене вспыхнуло крупнейшее восстание наёмников (из них состояла карфагенская армия), которым карфагенское правительство не в состоянии было платить жалованье, т. к. казна государства была опустошена войной. К наёмникам присоединились рабы и зависимые от Карфагена ливийцы. Восстание продолжалось более трёх лет. Подавить его смог Гамилькар Барка — политический деятель и полководец, отец Ганнибала. (Эти события легли в основу романа французского писателя Гюстава Флобера «Саламбо», 1862).
(обратно)13
...которые докатились даже до залов Мусейона. — При дворе египетских царей Птолемеев было создано специальное учреждение — Мусейон (храм муз), где жили и работали учёные. Там находились также зоологический и ботанический сады, обсерватория и проч. С Мусейоном связана деятельность математика Евклида (III в.), великого греческого учёного Архимеда и многих других.
(обратно)14
Серапис (Сарапис) — бог столицы Египта Александрии, отождествлявшийся с Осирисом.
(обратно)15
...и к колоссальной библиотеке, в которой каждый новый главный библиотекарь собирался заново систематизировать её полмиллиона книжных свитков, — Александрийская библиотека была одним из богатейших собраний рукописных книг древности, наиболее крупным книгохранилищем эллинистического мира. Каждый корабль, приплывающий в Александрию, если на нём были литературные произведения, должен был продать их библиотеке или предоставить для копирования. Египетские правители не останавливались перед расходами, чтобы пополнить запасы библиотеки. Главная библиотека называлась «царской», кроме неё была ещё одна, при храме Сераписа. Основной фонд Александрийской библиотеки погиб в 47 г. во время осады Александрии Юлием Цезарем, оставшаяся часть почти полностью погибла в 391 г. н. э. при разгроме толпой фанатиков-христиан храма Сераписа. Последние остатки погибли, по-видимому, при господстве арабов (VII—VIII вв. н. э.).
(обратно)16
Фарос. — Фаросский маяк — одно из семи чудес света, величайшее достижение инженерного искусства древности. Он был воздвигнут в III в. у входа в Александрийскую гавань архитектором Состратом Книдским. Это была трёхэтажная башня высотой 120 м. В верхнем этаже в круглой, обнесённой колоннами башне вечно горел огромный костёр, отражавшийся сложной системой зеркал. Дрова для костра доставлялись по широкой и пологой спиральной лестнице, по которой въезжали повозки, запряжённые ослами. Строился маяк всего 5 лет. Руины его существуют и сейчас, они встроены в турецкую крепость.
(обратно)17
Птолемей I Сотер — основатель династии Птолемеев в Египте, один из ближайших соратников Александра Македонского. С 323 г. стал сатрапом Египта, который отделился от владений Александра Македонского, а в 305 г. провозгласил себя царём.
(обратно)18
Птолемей I был прозван Сотером (т. е. по-гречески «Спасителем») за оказание помощи родосцам, остальные, как и большинство египетских царей, сами давали себе прозвища при восшествии на престол. Филадельф значит «Сестролюбивый», Евергет — «Благодетель», а Филопатор — «Любящий отца».
(обратно)19
Котурны (греч., лат.) — сандалии на очень толстой подошве. Древнеримские и древнегреческие актёры надевали их, чтобы увеличить свой рост для придания большей величественности образам героев и богов.
(обратно)20
...открыть свободную Академию или Ликей... — Академия — философская школа, основанная великим древнегреческим философом Платоном (427—348) близ Афин, в садах, посвящённых мифическому герою Академу. Ликей — парк и гимнасий при храме Аполлона Ликейского в восточном пригороде Афин. (Гимнасий — учебно-просветительное учреждение для афинских юношей, где они занимались гимнастикой, а также обучались политике, философии, литературе).
(обратно)21
...вдали от Аргусовых очей... — Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан-сторож. Во время сна его глаза поочерёдно бодрствовали.
(обратно)22
Гасдрубал — брат Ганнибала, карфагенский военачальник. Погиб в 207 г. в сражении с римлянами у реки Метавра.
(обратно)23
Гадес (совр. Кадис) — финикийская колония в Испании.
(обратно)24
Только до этой реки, но не далее на север позволено продвигаться нашей армии согласно оспариваемому договору с Римом. — После подавления восстания рабов и наёмников (см. примеч. № 12) Карфаген начал расширять и укреплять свои владения на Пиренейском полуострове. Обеспокоенные продвижением Карфагена на север Испании, римляне направили в Испанию посольство, и в 226 г. был заключён договор, согласно которому карфагеняне обязывались не переходить реку Ибер с военными целями.
(обратно)25
Онусса — город в Испании.
(обратно)26
Автобиографическое сочинение в семи книгах древнегреческого писателя Ксенофонта (ок. 426—354 гг. до н.э.), посвящённое походу персидского царевича Кира Младшего на Вавилон.
(обратно)27
...годились для подбадривания или сдерживания десятитысячного отряда греков... — В 401 г. войско греческих наёмников приняло участие в походе претендента на персидский престол Кира Младшего против царя Артаксеркса II. После гибели Кира десять тысяч греческих воинов под началом историка Ксенофонта в течение шести месяцев отступали через горы Курдистана и Армении к Чёрному морю, отражая по пути нападения врагов. В посвящённом этому походу автобиографическом сочинении Ксенофонта «Анабасис» есть страницы, рассказывающие о вещих снах Ксенофонта.
(обратно)28
Эта богиня, известная также под именем Тиннит, была божеством луны (или неба) и плодородия, покровительницей деторождения, она почиталась в паре с богом солнца Баал-Хаммоном. Символы Танит — полумесяц, голубь и египетский иероглиф жизни.
(обратно)29
Пиндар (522—442) — греческий хоровой лирический поэт, автор победных од. Создал около четырёх тысяч произведений, из которых сохранилось 44 эпиникия (победных песен), написанных по заказу для победителей общегреческих игр — Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских.
(обратно)30
Здесь и далее цитаты из Пиндара приводятся в переводе М. Гаспарова.
(обратно)31
Этруски — римское название одного из самых значительных племён Италии. Этруски обладали высокой, сложившейся под влиянием греков культурой. В VI в. федерация 12 этрусских городов была крупнейшей политической организацией Италии, которая распространила своё влияние на севере Италии, захватила Рим и Кампанию. С III в. этруски были подчинены Римом, на который они оказали значительное культурное влияние.
(обратно)32
Победы сиракузян у реки Гимеры (480 г. до н.э.) и при Кумах (474 г. до н.э.) передали господство на море в руки греков.
(обратно)33
Каллимах (ок. 305 — ок. 240) — поэт и учёный, руководитель Александрийской библиотеки. Каллимах был создателем литературных канонов александринизма, который отличался академизмом, преимущественным интересом к форме стиха. Александрийцы отдавали предпочтение новым поэтическим формам, обычно небольшого объёма стихам на мифологический сюжет (эпиллий), гимну, эпиграмме и т. д.
(обратно)34
Бирса — карфагенский акрополь, административный центр Карфагена.
(обратно)35
Современное название реки — Меджерда.
(обратно)36
Сосил — греческий писатель, автор биографии Ганнибала в семи книгах. Находился при войске Ганнибала во время похода в Италию.
(обратно)37
Софокл (497—406) — великий греческий драматург. Написал, по преданию, 123 трагедии, из которых сохранилось 7: «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Филоктет», «Электра», «Аякс», «Трахинянки».
(обратно)38
Греки не воспринимали нас как настоящих варваров, хотя мы были родом с востока и не знали их языка. — Греки называли всех неэллинов, говорящих на чуждом грекам языке, варварами. Последним, как считалось, был свойствен низкий культурный уровень, на чём и основывалось представление о естественном господстве греков над варварами.
(обратно)39
Не у одного Аристотеля, наставника Александра... — Аристотель (ок. 384—322) — выдающийся древнегреческий философ. Учился у Платона в Академии и был одним из ближайших его сотрудников. После смерти Платона уехал из Афин, несколько лет был воспитателем Александра Македонского. По свидетельству Плутарха, Александр говорил, что своему отцу Филиппу он обязан тем, что живёт, а Аристотелю — тем, что живёт достойно.
(обратно)40
В своё время Тит Ливий утверждал, что Гамилькар Барка вскармливал своих сыновей, как львов, натравливая их на римлян.
(обратно)41
Под покровом тьмы на берег высадился грек Агафокл и стал угрожать нашей империи ратью. — Агафокл — возглавивший в 318 г. демократическое движение в Сиракузах авантюрист, которому Карфаген помог прийти к власти. Но затем Агафокл стал воевать с Карфагеном за господство в Сицилии. В ходе войны Агафокл перенёс военные действия в Африку и добился определённых успехов. Однако эта война закончилась договором в пользу Карфагена, который сохранил все свои владения в Сицилии.
(обратно)42
Аполлоний Родосский (ок. 295—215) — древнегреческий поэт и грамматик. Его поэма «Аргонавтика» — один из памятников эллинистической поэзии, оказавший большое влияние на римскую литературу.
(обратно)43
Речь идёт об эфиопах.
(обратно)44
...точно сладостный аромат тинктуры. — Тинктура (лат.) — настойка лекарственного вещества на воде, спирте или эфире.
(обратно)45
Аристофан (ок. 446—385) — древнегреческий комедиограф. Жил в Афинах. Из 44 комедий Аристофана сохранилось 11: «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Всадники», «Осы», «Птицы» и др.
(обратно)46
В греческой мифологии Ламия — чудовище, пожирающее детей (или высасывающее кровь из юношей).
(обратно)47
...наши праотцы помогли царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма... — Соломон — третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928). По повелению Бога он должен был выстроить храм в Иерусалиме. Храм возводили десятки тысяч людей в течение семи лет. Он был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора в 586 г.
(обратно)48
Содом и Гоморра — в ветхозаветном предании два города, жители которых погрязли в распутстве и были за это испепелены огнём, посланным с неба.
(обратно)49
Герма — четырёхгранный столб, увенчанный головой бога Гермеса или других божеств. Гермы употреблялись как верстовые и межевые столбы, ими отмечали священные участки, и сами они считались священными.
(обратно)50
Где уже одержана Победа? В Сагунте? — Испанский город Сагунт был расположен в той части полуострова, которая принадлежала Карфагену, но он сохранял независимость и являлся союзником Рима. Под предлогом того, что Сагунт напал на одно из подвластных Карфагену племён, Ганнибал начал осаду города. Жители его восемь месяцев отстаивали свою независимость, проявляли смелость и самоотверженность. Но в 219 г. Сагунт пал, и это дало повод Риму объявить войну Карфагену. Так весной 218 г. началась Вторая Пуническая война.
(обратно)51
Наша держава представляет собой талассократию... — Талассократия (греч.) — господство на море.
(обратно)52
...как месть, в которой он поклялся ещё ребёнком... — В девятилетием возрасте, перед тем как отправиться с отцом в военный поход в Испанию, Ганнибал поклялся перед алтарём в непримиримой вражде к Риму до конца своей жизни. Слова «Ганнибалова клятва» стали крылатым выражением.
(обратно)53
Совет тридцати — аристократический совет, в руках которого была сосредоточена высшая власть в Карфагене.
(обратно)54
Ганнон Великий — карфагенский полководец и политический деятель, противник Баркидов. После неудачной попытки истребить членов совета старейшин и установить свою диктатуру вынужден был бежать вглубь материка и попытался организовать борьбу с Карфагеном. Был захвачен правительственными войсками и убит. Его труп распяли на кресте, казнили также всех его родных.
(обратно)55
Эрато — муза лирической поэзии, изображавшаяся с лирой в руках.
(обратно)56
За Ясона, добывшего золотое руно в кромешной тьме. — Ясон — в греческой мифологии герой, предводитель аргонавтов — участников похода в Колхиду за золотым руном на корабле «Арго». Согласно мифу, Ясон похитил золотое руно глубокой ночью.
(обратно)57
Демиург — в идеалистической философии Платона божество как творец мира.
(обратно)58
Эзоп (VI—V вв.) — полулегендарный древнегреческий баснописец.
(обратно)59
Сего Мота Анат разрубает мечом на куски... — Анат — в западносемитской мифологии богиня охоты и битвы, дева-воительница, сестра и возлюбленная умирающего и воскресающего бога Балу (Баала). Анат побеждает Муту, (Мота) — бога смерти и подземного царства мёртвых, воплощение хаоса, насылающего засуху и бесплодие. Мот — главный противник Баала.
(обратно)60
Тихе (Тиха) — в греческой мифологии божество случая. Фортуна — в древнеримской мифологии богиня судьбы.
(обратно)61
Финикияне выделывали из раковин этих улиток порфир, или пурпурную краску.
(обратно)62
Остров, лежащий за Мелькартовыми Столпами... — Мелькартовы (Геркулесовы) столпы — древнегреческое название Гибралтарского пролива. Согласно античным мифам, Геркулес поставил два столпа — на европейском и африканском берегах пролива, — как предел для мореходов. По представлениям древних греков, Геркулесовы столпы были «краем мира».
(обратно)63
Вероятно, авторы спутали двух выдающихся карфагенян: оставившего описание своего путешествия («Перипл») Ганнона Мореплавателя, который жил в VII—VI вв. до н. э., и политического деятеля Ганнона Великого, современника и противника Ганнибала.
(обратно)64
Полигимния — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии.
(обратно)65
Кербер (Цербер) — в древнегреческой мифологии трёхголовый злой пёс с хвостом и гривой из змей, охранявший вход в подземное царство. Сисиф (Сизиф) — мифический древнегреческий царь, провинившийся перед богами и осуждённый ими вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, каждый раз скатывался вниз (отсюда выражение «сизифов труд»). Иксион — в греческой мифологии царь фессалийского племени лапифов, которого Зевс за его провинности приказал привязать к вечно вращающемуся огненному колесу и забросить в небо. Титий — великан, низвергнутый Зевсом в Аид и страдающий оттого, что коршуны терзают его печень. Тантал — лидийский царь, осуждённый Зевсом на вечные муки голода и жажды. Данаиды — 50 дочерей аргосского царя Даная, убившие своих мужей и осуждённые за это богами наполнять водой бездонную бочку. Эринии — в греческой мифологии богини проклятия, кары и мести.
(обратно)66
От Аристотелевой теории катарсиса помощи мало. — Катарсис (греч.) — очищение — термин, который применял Аристотель в учении о трагедии. По Аристотелю, трагедия, вызывая страх, гнев, сострадание, заставляет зрителя переживать душевное волнение, как бы очищая этим его душу, возвышая и воспитывая его.
(обратно)67
Каллиопа — муза, покровительница эпоса и красноречия.
(обратно)68
Современное название реки — По.
(обратно)69
Гласис (фр.) — земляная пологая насыпь впереди наружного рва укрепления. Куртина (фр.) — здесь: часть крепостной стены между двумя бастионами.
(обратно)70
Прощайте, селяне (лат.).
(обратно)71
Здесь и далее цитаты из «Илиады» приводятся в переводе Н. Гнедича.
(обратно)72
...этот Гераклитов закон только злит меня. — Гераклит из Эфеса (ок. 530—470) — древнегреческий философ. Своё учение он изложил в трактате «О природе», из которого сохранились фрагменты. Источником всего существующего Гераклит считал борьбу. «Война — отец всех вещей». Борьба противоположностей — основа всякого бытия и мысли. В природе и в социальной жизни происходит вечное движение, всё течёт и изменяется. Непостоянна даже река, в которую дважды входишь, — считал философ.
(обратно)73
Архимед (ок. 287—212) — великий греческий учёный — математик и механик. Жил в Сиракузах, был убит при взятии города римскими легионерами.
(обратно)74
Кусар-и-Хусас, в западносемитской мифологии бог-ремесленник; в поздней финикийской традиции также известен как Хусор и играет роль демиурга.
(обратно)75
Асклепий — в греческой мифологии бог врачевания, сын Аполлона и нимфы Корониды. Кора — в греческой мифологии одно из имён Персефоны — богини царства мёртвых. Тесей (Тезей) — легендарный афинский царь и герой, совершивший множество подвигов.
Во время своих странствий он встретил разбойника Скирона, который заставлял всех, кто проходил мимо, мыть ему ноги. Как только путник наклонялся, жестокий разбойник ногой сбрасывал его со скалы в море, где он разбивался о торчащие из воды острые камни, а тело его пожирала чудовищная черепаха.
(обратно)76
Современный Марсель.
(обратно)77
Бонония — город в Северной Италии (современная Болонья).
(обратно)78
...перед этим Геростратовым... выстрелом... — Герострат — грек, который в 356 г. сжёг храм Артемиды в Эфесе, чтобы увековечить своё имя.
(обратно)79
Третий сын Адама, родившийся вместо Авеля, которого убил Каин (Бытие, 4:25).
(обратно)80
Натяжка авторов: «амбра» не означает «пища богов» не только по-русски, но и по-шведски. У нас янтарь в старину называли «морским мууаном».
(обратно)81
Дедалов критский лабиринт. — Дедал — в греческой мифологии изобретатель, искусный архитектор и скульптор. По поручению критского царя Миноса построил подземный лабиринт для чудовища Минотавра, поедавшего юношей и девушек, которых ему приносили в жертву афиняне. Афинский герой Тесей (см. примеч. № 75) отправился на Крит, чтобы расправиться с Минотавром, убил его и с помощью клубка ниток, который дала ему влюблённая в него дочь Миноса Ариадна, выбрался из лабиринта (отсюда: «нить Ариадны»).
(обратно)82
Мастичное (мастиковое) дерево — вечнозелёный кустарник или дерево. Из его стволов при надрезе получают приятно пахнущую смолу — мастике.
(обратно)83
Селену (в греческой мифологии Гекату), богиню мрака, ночных видений и чародейства, иногда отождествляли с римской Тривией, «богиней трёх дорог»; её изображения помещались на распутье, где ей и приносили жертвы.
(обратно)84
Букв.: «Волк в басне» (лат.), употребляется в значении «лёгок на помине».
(обратно)85
Эпитет Зевса Ликейский (чаще применявшийся к Аполлону) истолковывался древними греками не от слова «лике» — «свет», а от «ликос» — «волк», и понимался как «волчий», «убийца волков». Латинское «lupatus» означает «с волчьими зубами».
(обратно)86
...подобно Пегасу, перелетая через извилистые разводья. — Пегас — в древнегреческой мифологии крылатый конь Зевса, от его удара копытом на горе Геликон забил чудесный источник Иппокрена, вода которого давала вдохновение поэтам. Пегас — символ поэтического вдохновения.
(обратно)87
Жете — термин в классическом танце, обозначающий движение с броском ноги (прыжковое па).
(обратно)88
Также «acta publica» или «acta diurna» (лam.) — хроника, дневник ежедневных происшествий. Под таким названием в Древнем Риме вывешивались для всеобщего обозрения новости, правительственные распоряжения, приказы и т. п.
(обратно)89
Демокрит из Абдеры (ок. 460 — ок. 370) — древнегреческий философ-материалист, основоположник атомистического учения.
(обратно)90
Пракситель (ок. 390 — ок. 330) — древнегреческий скульптор. Работал в Афинах. Произведения его сохранились главным образом в мраморных римских копиях. Знаменитые его работы: статуи «Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская» и др.
Фидий (ок. 500—431) — древнегреческий скульптор, автор статуй Афины Промахос (Воительницы) и Афины Девы (Парфенос) в афинском акрополе, Зевса Олимпийского, а также других выдающихся произведений античного искусства.
(обратно)91
Прометей и Эпиметей были братьями, и их пример показывает, что ум и глупость не только сопутствуют друг другу, но и имеют вполне очевидные родственные черты. — Прометей — герой древнегреческих мифов, один из титанов. Имя его означает «мыслящий прежде», «предвидящий» — в противоположность его брату Эпиметею, «мыслящему после», «крепкому задним умом». По одному из мифов, люди и животные были созданы богами в глубине земли из смеси огня и земли, а Прометею и Эпиметею боги поручили распределить способности между ними. Эпиметей истратил все способности к жизни на земле на животных и сделал людей беззащитными. Поэтому Прометей должен был позаботиться о людях. Он украл для них огонь у Гефеста и Афины и научил им пользоваться, за что был наказан Зевсом.
(обратно)92
Гиппократ (ок. 460—377) — древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины, оказавшей большое влияние на развитие медицины в последующие века.
(обратно)93
Речь идёт о комедии «Облака».
(обратно)94
...из Эпикуровых Афин. — Эпикур (341—270) — древнегреческий философ-материалист, последователь Демокрита. В 306 г. он поселился в Афинах, приобрёл сад и в этом «саду Эпикура» излагал слушателям основы своей философии.
(обратно)95
Плаценция и Кремона — города в Северной Италии.
(обратно)96
Ахилл — в греческой мифологии один из величайших героев Троянской войны между греками (ахейцами) и Троей (Илионом) в начале XII в.
(обратно)97
Менандр (ок. 343 — ок. 291) — древнегреческий драматург.
(обратно)98
Единственная точно принадлежащая Менандру строфа из несохранившейся комедии «Подкидыш, или Деревенщина».
(обратно)99
Писистрат — афинский тиран (562—527 гг.).
(обратно)100
Кратера (кратер) — сосуд для смешивания вина с водой. Греки не пили вино в чистом виде.
(обратно)101
…«пышноузорные ризы, жён сидонских работы». — Сидон — город на финикийском побережье Средиземного моря (современная Сайда). В древности славился производством тончайших тканей.
(обратно)102
А ещё говорят, перевозчик Харон требует денежку. — Харон — перевозчик мёртвых в Аиде. Перевозил умерших по водам подземных рек и получал за это плату в один обол, «грош» (по погребальному обряду находящийся у покойника под языком).
(обратно)103
Следовательно (лат.).
(обратно)104
Зороастр (Заратуштра) — легендарный основатель древнеперсидской религии.
(обратно)105
Ганаши — задние края нижней челюсти лошади с желваками.
(обратно)106
Медовое Копыто заговорил со мной не языком смерти, как Ахиллов Ксанф. — Когда Ахилл (см. примеч. № 96) отправлялся на битву с троянцами, его конь Ксанф, которого богиня Гера сделала вещим, сказал ему голосом человека: «Сегодня, великий Ахилл, мы вынесем тебя живым из битвы, но близок твой последний день... всё же суждено тебе погибнуть от руки бога Аполлона и смертного мужа» (Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 1954. С. 317).
(обратно)107
Согласно греческим мифам, великаны От и Эфиальт угрожали богам взгромоздить гору Пелион на гору Осса и таким образом достичь неба.
(обратно)108
Эней — в греческой и римской мифологиях троянский герой, принимавший участие во многих важных сражениях. Оставив Трою по приказу богов, он отправляется на поиски новой родины. Во время его странствий страшная буря, обрушившись на корабли Энея, уничтожает их, а его забрасывает в Карфаген, где его встречает царица Дидона, любовь которой надолго задерживает Энея в Карфагене. Когда Эней, призываемый своим долгом и предназначением, был вынужден оставить Карфаген и Дидону, она в отчаянии и гневе взошла на костёр и закололась мечом, подаренным ей Энеем. Дидона прокляла Энея и его род, завещав своим потомкам вечную ненависть к будущему Риму. Так, по преданиям древних римлян, сами боги предопределили вражду Рима и Карфагена. Дальнейшие странствия привели Энея в Италию. Потомки его считаются основателями Римского государства. К Энею возводили родословную римского рода Юлиев, к которому принадлежал и Юлий Цезарь.
(обратно)109
Деметра — в греческой мифологии богиня плодородия и земледелия.
(обратно)110
Глиссандо (фр.) — приём игры на музыкальных инструментах, заключающийся в лёгком и быстром скольжении пальцем по клавиатуре или по струнам инструмента.
(обратно)111
Может, не совсем так, как в «Анабасисе»... — см. примеч. № 27.
(обратно)112
...вместительнее Троянского коня... — Во время Троянской войны 9 лет продолжалась безуспешная осада Трои ахейскими войсками под предводительством царя Агамемнона. Лишь на 10-м году войны грекам удалось одержать победу благодаря хитрости. Они соорудили огромного деревянного коня и, спрятав внутри него воинов, выставили его перед Троей. Троянцы ввезли коня в город, а ночью воины вышли из его чрева и впустили в город греческое войско. В результате греки овладели Троей.
(обратно)113
...врачи рождаются только в семьях Асклепиадов. — Святилище греческого бога врачевания Асклепия находилось на острове Кос, знаменитые врачи острова назывались Асклепиадами.
(обратно)114
Гигиея, Панакея — дочери Асклепия.
(обратно)115
Цитата из шекспировской «Бури», в переводе Мих. Донского.
(обратно)116
Да здравствует мёртвый! (исп.)
(обратно)117
Живи скрыто (греч.) — афоризм Эпикура.
(обратно)118
Сократ (469—399) — знаменитый древнегреческий мудрец и философ, учитель Платона. Учение и деятельность Сократа были признаны опасными для афинской демократии. За своё свободомыслие он был приговорён к смерти и умер, выпив яд.
(обратно)119
Демонион (гений, даймоний) — так называл Сократ свой внутренний голос, свойственный ему с детства. Демонион подсказывал Сократу, как надо поступить в том или ином случае.
(обратно)120
...перебирающим струны плектром, — Плектр (греч.) — тонкая пластинка из металла, кости или пластмассы, посредством которой извлекаются звуки при игре на некоторых струнных щипковых инструментах.
(обратно)121
У моих праотцев призыв дельфийского оракула ни в коем случае не мог бы возникнуть. — Дельфийский оракул — храм Аполлона в Дельфах, построенный на том месте, где, по преданию, Аполлон убил дракона Дельфиния, опустошавшего окрестности Дельф. Убитый Дельфиний получил имя Пифон, т. е. гниющий, т. к. лучи солнца превратили его тело в прах. Предсказания давала пифия, восседавшая на треножнике над расщелиной и приводившая себя в экстатическое состояние испарениями, выходившими из расщелины, и жеванием лавровых листьев. Пифия произносила бессвязные слова, которые в загадочной, двусмысленной форме истолковывались жрецами как прорицания, пророчества. По преданию, на фронтоне храма в Дельфах было начертано изречение, приписываемое греческому мудрецу Фалесу: «Познай самого себя».
(обратно)122
Иов — в иудаистических и христианских преданиях страдающий праведник. Желая испытать его покорность и смирение, бог наслал на него беды и несчастья, но он остался неколебим в своей вере и смирении.
(обратно)123
Здесь авторы делают единственную сноску, приводя высказывания шведского писателя Яльмара Гулльберга (1898—1961): «Мир полон чудес, и всё же величайшее из чудес — это человек», — и немецкого романтика Фридриха Гёльдерлина (1770—1843): «Чудовищного много. Но нет ничего чудовищнее человека».
(обратно)124
Перевод С. Шервинского и Н. Познякова.
(обратно)125
Он собирается отомстить за тяжкие унижения, которые претерпели и Карфаген, и его отец Гамилькар в последней войне. — Гамилькар Барка, отец Ганнибала, с 247 г. командовал карфагенской армией во время Первой Пунической войны. Несмотря на успешные военные действия карфагенян, римлянам удалось совершить перелом в войне, и в 241 г. консул Гай Лутаций Катул, стоявший во главе римского флота, сумел нанести поражение карфагенскому флоту в битве при Эгатских островах. После этого был заключён мирный договор, по которому Карфаген в течение 10 лет должен был выплачивать Риму большую контрибуцию, очистить Сицилию, уступить Риму острова, лежащие между Сицилией и Италией, и возвратить пленных.
(обратно)126
Кельты ведь однажды захватили Рим и сожгли его. — Это было в 387 или 390 г.
(обратно)127
...ещё Гекатей поделил мир на два материка... — Гекатей Милетский (конец VI — начало V в.) — древнегреческий географ и путешественник. Автор «Землеописания», в котором даны сведения о Европе, Ближнем Востоке и Ливии. Составил также картографическое изображение ойкумены — известной грекам части Земли, охватывающей главным образом районы, прилегающие к Средиземному морю.
(обратно)128
Эратосфен из Кирены в Северной Африке (275—195) — знаменитый географ, математик, астроном, филолог, философ, историк. До нашего времени из его разностороннего наследия почти ничего не дошло.
(обратно)129
...Эратосфен ругал греков за то, что они поделили человечество на эллинов и варваров. — См. примеч. № 38.
(обратно)130
Цитаты из «Персов» Эсхила приводятся в переводе С. Апта.
(обратно)131
Гесперией, или Западом, греки называли Италию, а римляне — Испанию и Западную Африку.
(обратно)132
Женщина очень артистична (нем.). Поэт тоже (фр.).
(обратно)133
Хариты — в древнегреческой мифологии три богини красоты и веселья. То же, что в римской мифологии грации.
(обратно)134
Палатин — один из холмов, на которых стоит Рим.
(обратно)135
От основания города (лат.), т. е. от 753 г. до н. э.
(обратно)136
Здесь: Вечно эта куропатка! (фр.) — выражение из анекдота о французском короле Генрихе IV (1553—1610), который, оправдывая собственную супружескую неверность, доказал своему духовнику необходимость разнообразия, когда велел каждый день подавать тому его любимое блюдо — куропатку.
(обратно)137
Дельфийская пифия — см. примеч. № 121.
(обратно)138
Геродот (480 — после 430) — великий греческий историк.
(обратно)139
Эдип и Антигона — герои греческих мифов.
(обратно)140
Гемма (лат.) — резной камень с выпуклыми или углублёнными изображениями.
(обратно)141
Букв.: «в целом» и «в конечном счёте» (лат.).
(обратно)142
Литания — вид молитвы у католиков.
(обратно)143
Его трирему только успевали нагружать и разгружать... — Трирема (лат.) — судно с тремя ярусами вёсел у древних римлян (у греков — триера).
(обратно)144
Геронт (греч., букв.: старец) — член совета старейшин в Древней Греции.
(обратно)145
Твой отец подчинился решению государственного совета о капитуляции. — См. примеч. № 125.
(обратно)146
...Квинт Фабий поторопился с объявлением войны... — Когда Ганнибал взял г. Сагунт (см. примеч. № 50), Рим выступил с протестом. В Карфаген было направлено посольство во главе с римским сенатором Квинтом Фабием Максимом, чтобы выяснить, имел ли Ганнибал санкцию от властей на эти действия. Карфагенское правительство не признало за Римом права вмешиваться в дело о Сагунте. Тогда Квинт Фабий Максим, имея полномочия на объявление войны, подобрал полу своей тоги так, что образовалось углубление, и сказал: «Здесь мы приносим вам войну или мир, выбирайте из них то, что вам больше подходит!» Председательствовавший на заседании воскликнул: «Дай то, что пожелаешь сам!» «Я даю вам войну», — ответил Фабий, распуская тогу. Участники собрания ответили ему криком: «Принимаем!»
(обратно)147
Ихневмон — вид мангуста.
(обратно)148
...становится разбойником Прокрустом... — Прокруст — в древнегреческой мифологии разбойник, который укладывал свои жертвы на ложе и тому, кто был длиннее ложа, обрубал ноги, а у тех, кто был короче, вытягивал их (отсюда: «прокрустово ложе», т. е. искусственная мерка, под которую что-то насильственно подгоняется).
(обратно)149
Именно из политических соображений мы некогда объединились против греков с Римом. — Договор Рима с Карфагеном был заключён в 280 г. во время войны Рима с Тарентом — греческой колонией в Италии. Войско Тарента возглавлял его союзник полководец эпирский царь Пирр.
(обратно)150
...после знаменитого вознесения на небо Ромула... — Согласно одной из легенд о смерти первого римского царя и основателя Рима Ромула, он был взят живым на небо.
(обратно)151
Современная Вена.
(обратно)152
Дефилеи (фр.) — узкий проход между возвышенностями или водными преградами.
(обратно)153
Стадий — мера длины, примерно 180 м.
(обратно)154
...обрёл эфирно-лёгкую жизнь саламандры. — Саламандра — в средневековых поверьях и магии — дух, живущий в огне и олицетворяющий стихию огня.
(обратно)155
...это будет не большей победой, нежели одержанная тобой в девятилетнем возрасте, когда ты твёрдым голосом поклялся отомстить Риму. — См. примеч. № 52.
(обратно)156
Иными словами, 7 ноября, когда это созвездие должно было скрыться до весны.
(обратно)
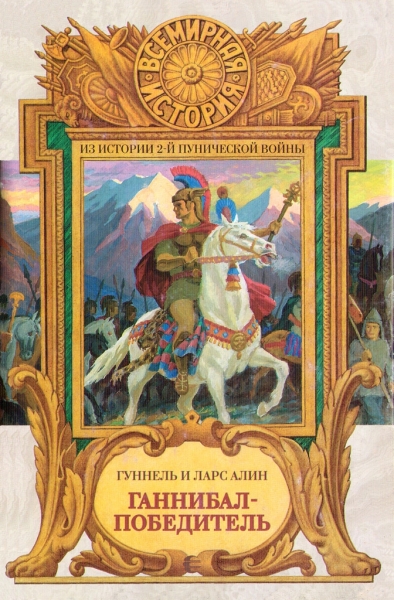
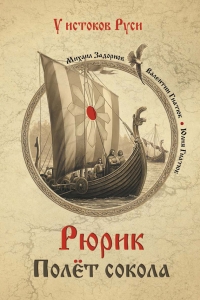

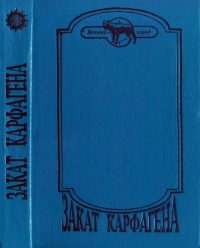
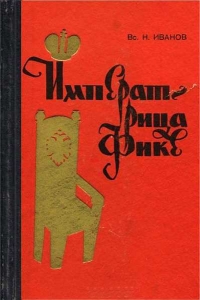
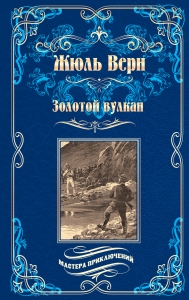

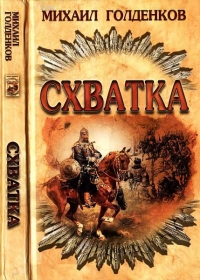
Комментарии к книге «Ганнибал-Победитель», Гуннель Алин
Всего 0 комментариев