Виктор Рожков НАСЛЕДНИКИ КИПРИАНА Повесть
Виктор Петрович Рожков (1920–2006), пожалуй, один из самых своеобразных сибирских писателей.
Его, омича по рождению, с юных лет манило море, мечта о дальних странствиях, которых в его судьбе впоследствии будет немало. Будучи подростком, он убежал из дома в Одессу, где поступил в морской техникум на штурманское отделение. По окончании его нес вахту на судах Черноморского флота, затем служил в дивизионе торпедных катеров. Здесь боцмана Рожкова застала война. Он участвовал в обороне Одессы, Севастополя, воевал в Керчи и под Новороссийском. В 1944 г. был тяжело контужен. После лечения в госпитале заканчивал войну уже на Балтике, у берегов Германии.
После демобилизации Виктор Петрович попал в состав арктической экспедиции, задачей которой было перегонять трофейные немецкие суда Северным морским путем из Германии в Обь-Иртышский бассейн. Выбрав себе самоходку СТ-5, он нес на ней вахту капитаном целых 17 навигаций.
Уйдя из флота, Виктор Петрович работал корреспондентом на омском радио, в информационном отделе Главгеологии.
Хотя писать он начал еще на Черном море, именно на Севере он нашел свою тему: малоизвестные и неизвестные события в истории Сибири. Много интересного для своих книг Виктор Рожков накопил во время работы на флоте, когда забирался на своей самоходке в далекие северные фактории Обь-Иртышского бассейна. Он подолгу беседовал со старейшими жителями таежных поселков, посещал чумы в ненецких стойбищах, встречался с шаманами.
Первая книга «Срочный рейс» о буднях иртышских речников вышла в Омском книжном издательстве в 1958 г. Повесть «Черный туман» (1961) была основана на ненецких народных преданиях и рассказывала о похищении древних охотничьих талисманов племени нях-самар-ях (соболиное племя). Книга «Чикмазовы самоцветы» (1989) повествовала об увлекательных приключениях борцов с фанатичными последователями древней чикмазовой секты. Повесть «Аввакумова тень (Фиче)» (1993) — о сподвижнике и тайном ученике протопопа Аввакума, Филофее Черемных, создателе староверческого, единственного в своем роде трехступенчатого шифра, названного по первым слогам его имени и фамилии.
Особое место в творчестве писателя Рожкова занимает трилогия, книги которой объединяет образ владыки Киприана — первого архиепископа Сибирского и Тобольского.
Первая часть трилогии — «За морем — Мангазея» (1987). Автор в остросюжетной форме рассказывает об этом полулегендарном городе, исследует характер, быт, сложные взаимоотношения сибирской знати и простого народа, коренного населения (ненцев) и местного купечества. Архиепископ Киприан — один из героев книги.
В славную летопись освоения Сибири наряду с именами землепроходцев и служилых людей навечно вписаны имена церковных деятелей: священников-миссионеров, монахов, епископов. К таким людям относится и Киприан. Совмещая в себе качества пастыря, дипломата и историка, писателя и поэта, он без остатка отдал жизнь служению Церкви и России.
К его образу писатель вернулся в следующем историческом произведении — «Киприанов след» (2001). Книга вышла вторым изданием (2003) в Москве по благословению патриарха Алексия II. Как писал главный редактор издательства Московской патриархии протоиерей Владимир Силовьев, «впервые официальное церковное издательство Русской церкви, выпускающее главным образом богослужебную и вероучительную литературу, издает беллетристическое произведение, и это объясняется уникальностью самой книги, открывающей, по сути дела, новый литературный жанр церковно-исторического повествования».
Заключительная часть трилогии, повесть «Наследники Киприана», не была издана при жизни Виктора Рожкова. Речь в ней идет о первых паломниках, миссионерах, землепроходцах — последователях Киприана, дошедших до тихоокеанского побережья России. В повести приводятся малоизвестные сведения о далеком прошлом Югории, или Югры, в древности страны гиперборейцев (аримаспов).
Уже после ухода писателя в Омске вышел (в журнальном варианте) военно-приключенческий роман-легенда «Паруса на горизонте», рукопись которого много лет пролежала на полке.
Виктор Петрович не был обласкан официальным признанием — званиями, премиями. Только в самом конце жизни ему была вручена международная премия «Имперская культура» им. Эдуарда Володина. Написанное Виктором Рожковым еще до конца не прочитано и, уж конечно, не изучено. Это еще только предстоит сделать.
Ирина РожковаПролог
Еще в древности многие жители Земли с определенной долей почтения называли ее великой хранительницей тайн, причем не только тех, которые в той или иной степени влияли на жизнь и судьбы народов, а порой самых малых — чем-то напоминающих судьбу звезд, ярко вспыхнувших было на горизонте и вскоре ушедших почти бесследно в небытие.
Недаром забытый ныне крупнейший мудрец, философ и звездочет Востока еще в девятом веке говорил в своей книге «Непраздных поучений»: «…Не пытайся понять судьбу посланной тебе тайны, она может со временем рассеяться пылью, а может заговорить столь громко, что тебе придется в страхе зажимать уши».
Считаю, что это мнение в какой-то мере подходит к попытке автора рассказать об одной из таких тайн, связанной с освоением крайних пределов Российского государства по побережью Северного Ледовитого океана.
Медленно текущее время, с трудом измеряя ход тысячелетий, оставляло в наследство людям нагромождение тайн, парадоксов и иных почти не поддающихся объяснению явлений, среди которых, еле различимые в тумане древности, проступали очертания страны-призрака, страны не раскрытых до сих пор загадок — Югры.
Еще задолго до времен Геродота передавали люди друг другу на морских и сухопутных путях странствий сказания о стране Югре: о теплых, напоенных несказанной негой и силой источниках, о россыпях чудодейственных зеленчатых камней, о гигантских коричневато-золотистых пальмах, чьи радужные листья пели под морскими ветрами почти человеческими голосами, о том, каким счастливым, богатым и могучим был народ Югры, и о том, как однажды в лунный, на редкость спокойный сонный вечер вся эта райская благодать была почти в единый миг взорвана и сметена с лика Земли огненной лавой, дождем пепла и гигантских камней, бесконечной вереницей падающих из глубин маслянисто-черного дрожащего неба…
Царство ледяных полей, нестерпимых морозов, многодневных буйных снежных метелей навсегда воцарилось на месте некогда благодатной Югры. Потребовалась не одна тысяча лет, чтобы об этом крае вспомнили и попытались проникнуть за его рубежи, которыми считались в то время границы, проходящие в районе реки Вин (нынешней Северной Двины). Здесь наряду с викингами стали все чаще бывать и представители древних славян — русичей, чья морская умелость приобрела вскоре широкую известность среди тех, кого влекла своим долгим молчанием Югра.
Каждый великий подвиг всегда требовал столь же великих начал-оснований, а в первую очередь идей, способных по-настоящему всколыхнуть человеческое сердце, наполнить его неиссякаемым бесстрашием, мужеством и, главное, верой, вызывающей порой поступки, равные чудесам. Именно идеи православия, которые в то время стали все более значимо заявлять о себе, воодушевили и повели в Югру первых паломников. Были среди них старознатцы водных путей, кормчие-рыбаки, охотники за морским зверем, стрельцы и казаки, которые по воеводским указам, а то и самочинно сбивались в ватаги морских старателей, шли, уходили все далее и далее к югорским пределам, за которыми, по словам мудрецов-всезнателей, и простиралась эта самая Югра — сосредоточение злобы людской, мрака, безверия, дьяволовыми наущениями питаемого.
Редкие счастливцы, кому удавалось побывать там и, самое главное, живыми вернуться оттуда, рассказывали о виденном в Югре столь дивное, что слушатели отказывались им верить, а то и отмахивались, даже открещивались от них, несущих людям страхи, неуверенность и душевное расстройство на многие годы.
История, о которой мы хотим поведать, имеет прямое отношение к тому времени, а началом ее можно считать события, разыгравшиеся в начале семнадцатого века в одном из самых глухих урочищ Приполярного Урала.
Глава 1
Гряда пестро заснеженных, будто нарочно приплюснутых гор тянулась по горизонту, а ближе лесистые отроги их почти совсем сходили на нет, устремляясь к прибрежным отмелям вперегонки с узкими полосами заполярных карликовых сосен.
Можно было подумать, что сама природа проложила здесь своеобразную границу между хаосом почти первобытной тайги и морем, с редким упорством выкатывающим на обледенелый берег тяжкие, в сизовато-свинцовой изморози, волны.
Надо сказать, что и все вокруг выглядело на редкость неприветливым, потерянным и унылым: вязкая зыбкость многодневных тяжких туманов, шальные ветры, буйствующие с особой яростью, вперемежку с дождями и снежным вихревым изобилием, казалось, напрочь зачеркивали даже малую возможность пребывания здесь человека. Но на самом деле это было не так.
Над опушкой ближнего леса тянулись полосы дыма, а чуть левее, там, где лес, редея, открывал широкую прогалину, ведущую к округлой поляне, можно было увидеть, что дым этот исходил от большого костра, вокруг которого удобно расположились люди, судя по одежде — охотники-вогулы. Они неторопливо беседовали, важно и многозначительно кивая временами друг другу; а в стороне, где под ветвями елей приютилось с десяток берестяных чумов, за охотниками внимательно наблюдали обеспокоенные чем-то местные женщины и непривычно притихшие ребятишки.
Вскоре охотники, закончив беседу, направились в дальний конец поляны, где на каменистой площадке располагалось жертвенное место, или, как называли его здесь, капище идолов-сядаев, грубо вытесанных из стволов молодых кедров. За ним на возвышении между остро-ребристыми глыбами был укреплен идол из синеватого с прожилками камня, изображающий бога всех вогуличей и остяков — Нуми-Торума.
Этот идол был щедро украшен десятками разноцветных матерчатых лент, перемазан кровью жертвенных животных. Буро-коричневые подтеки этой же крови густо покрывали плоские синевато-серебристые каменные плиты, нагроможденные у основания капища.
Возможно, не стоило бы так подробно описывать это место, вызывающее, к слову говоря, гнетущее впечатление, если бы не одна довольно существенная деталь этой картины. Дело в том, что как раз на гребне каменистой россыпи лежал, безжизненно раскинувшись, человек. Судя по его одежде непривычного покроя и отделки, был он из дальних мест: рукава, широкий ворот и нагрудную часть куртки из грубо выделанной шкуры молодого медведя покрывали ряды синеватых стальных пластинок. Подпоясан он был широким наборным ремнем с кольцами и замысловатыми амулетами-символами. Два таких же ремня, но поуже, перехватывали под коленками высокие, расшитые бисером сапоги-вытяжки. На голове на самые уши был натянут горностаевый колпак с кистями по бокам.
Донельзя изможденное лицо этого совсем еще молодого человека отливало лиловой бледностью, зубы плотно сжаты, глаза закрыты, и лишь туго обтянутые кожею скулы, алея пятнами лихорадочного румянца, давали возможность судить о том, что он пока еще жив.
Охотники-вогуличи, перешедшие вскоре от костра к капищу, делая вид, что их вовсе не интересует лежащий здесь человек, с подобающей месту торжественностью продолжили беседу приглушенными, даже как бы испуганными голосами, не смея поднять головы перед ликом их грозного бога Нуми-Торума. Это продолжалось несколько минут, пока они, и вовсе замолкнув, не обратили взгляды на старика шамана.
Тот, понимая, что они доверяют ему начать разговор с богом, помолчал, но потом, пробормотав заклинание и не поднимая головы, льстиво затянул:
— О великий!.. Мы, лесные вогулы, милостиво просим, чтобы ты принял в жертву от нас кровь этого пришельца. Он первым из чужих людей нарушил главный закон леса — осквернил своим взглядом твое капище, посмел лицезреть тебя — и повинен в смерти!.. Удостой нас своим повелением, словом, знаком, что дает нам право на его кровь…
Шумел дальними шорохами-скрипами лес, ворковал, словно голубь перед ночью, ближний ручей, а глазницы бога Нуми-Торума из пронзительно-зеленых, отшлифованных временем камней источали тяжелый взгляд, нестерпимый для любого человека.
Долго еще сидели вогулы у ног своего бога, сдерживая дыхание, боясь пошевелиться, но бог был по-прежнему безмолвен, и тогда они по знаку шамана, все так же не поднимая головы, один за другим покинули капище.
Меж тем именно в эту минуту по телу лежащего на камнях человека прошла судорога и он, хоть и с трудом очнувшись, открыл глаза. Бледная, будто выцветшая голубизна их тут же стала темнеть, взгляд сделался более осмысленным, а вскоре и явно тревожным.
Облизнув губы, растрескавшиеся от недавнего жара, он тяжело вздохнул и, увидев окружавших его идолов, ужасаясь в душе, зашептал слова молитвы, спрашивая сам себя:
— Да это же капище вогульско, как же занесло меня сюды?..
И сразу будто ветром тугим ударило в лицо — нахлынули воспоминания, набирая скорость, на ходу обрастая подробностями, выстраивая уже в ряд события недавних дней… Все еще непослушное тело источало боль, но он нашел силы, упираясь руками в скользкие замшелые камни, приподняться и сесть. Так лучше и, как ему казалось, скорее думалось, а это сейчас в его положении было крайне необходимым.
Человек этот по имени Векша был широко известен в таежных краях как на редкость удачливый охотник. В племенных ватагах местных жителей не зря его звали звериным шаманом, колдуном, а при встрече обходили стороной или вынужденно и лживо кланялись, стараясь поскорее с ним разминуться.
Чтобы более понятным был путь Векши к теперешнему его положению, необходимо вернуться примерно на четверть века назад, когда нынешний Векша был еще малым ребенком и назывался сыном именитого московского вельможи князя Андрея Дмитриевича Надеина, знатока многих иноземных языков и иноземных же всяких талантов и обхождений.
Корни рода князей Надеиных, наследником которых был и Викентий, прозванный Векшей, просматривались еще во времена новгородской старины. Были в том роду прославленные воеводы, мужи иных набольших государевых служб, но особенно широкую известность приобрели Надеины многократными «хождениями во моря хладные», как тогда говорили, «незнаемые» и иными походами: в Пермь, Югру и лежащую за ней и вовсе сказочную страну аримаспов.
Наиболее удачным временем стал для рода Надеиных конец царствования Бориса Годунова. Но благоденствие рода было более чем кратким и закончилось вскоре тем, что по неизвестной малым и набольшим царедворцам причине царь Борис неожиданно наложил великую опалу на всех, кто в той или иной мере был связан узами родства с князьями Надеиными. Большая часть их была казнена «за великие хулы супротив царя и великого князя», меньшая — изничтожена тайно, так что в живых из Надеиных остались единицы — и то лишь потому, что сумели вовремя сбежать от царской расправы.
Всего этого оказалось мало для царя Бориса, и он повелел издать указ, в котором предписывалось: «отныне и вовеки забыть на Руси и под страхом головы отсечения николи не упоминать преподлых людишек преподлого тож Надеинского рода, тако как бы его и вовсе на свете быть не бывало, а людишкам письменным, писцам, подьячим и иным, буде они где в грамотах аль иных писаниях встретят упоминание рода сего, то тотчас упоминание сие скороспешно воеводам нести для вымарания и сожжения неотступного…»
Так царскими стараниями была изведена на Руси, а постепенно и забыта славная фамилия князей Надеиных. Последними из этих «забытых» можно было считать княгиню Манефу, жену воеводы князя Андрея-старшего, и их сына, ставшего в изгнании известным таежным охотником Векшей.
Последний раз промелькнула на Москве и окрест фамилия Надеиных в тот день, когда после казни князя Андрея царские приспешники явились за Манефою и ее сыном Викентием. Стояла Манефа на высоком крыльце княжеских хором в ярком праздничном одеянии, расшитом многоцветным бисером с золотой канителью. Стояла, сложив руки на груди, устремив пронизывающий, с холодинкою, взгляд больших глаз на непрошеных гостей.
Будто железом скрипнуло в ее голосе, когда бросила презрительно:
— Вам чего?
Стражники попятились было, но стоявший впереди стрелецкий сотник ободрил их:
— Куды? Не боись! Сия княгиня опальна есть, хватайте ее на спрос-расправу!
Стражники, потоптавшись и простояв еще некоторое время на месте, нерешительно двинулись к княгине, но она опередила их, метнулась к двери и с треском захлопнула ее.
— Бей, вышибай! — заходясь в неистовой ругани, выкрикивал стрелецкий сотник.
Стражники, теперь уже скопом, ломились в двери, дворовые люди княгини метались по двору.
В эти минуты Манефа показалась в слуховом окне над дверью светлицы, крикнув протяжно и властно:
— А ну, стырь, прочь от крыльца… а то вмиг зашибу!
Как бы в подтверждение этих слов в руках ее появилась короткая, заморского дела пищаль, из которой она тут же выпалила над головами стражников.
— А-а, ты так, ты так! — еще больше злясь, выкрикивал сотник. — Ну так на же тебе гостинец!
И он ответил Манефе выстрелом из пищали. Пуля звякнула о выступ стены над ее головой, но Манефа успела отшатнуться и в свою очередь меткой пулей выбила пищаль из рук сотника, тут же опустившегося на камни крыльца.
А выстрелы мятежной Манефы продолжали греметь один за другим. Слуховое окно было достаточно широким, и было видно, как слуги споро подают Манефе очередную, загодя заряженную пищаль и как Манефа, зная в лицо всех палачей и истязателей ее семьи, теперь вершит над ними справедливую кару.
Это было столь неожиданным и неслыханным для московских обычаев того времени, что царские посланцы, потеряв трех убитыми и столько же ранеными, поспешно ретировались. Княгиня Манефа, не дожидаясь их возвращения, бросив на дворовых поместье со всем имуществом, скрылась, будто растаяла среди непогоды, властвовавшей тогда над безлюдьем ночных московских улиц.
Примерно через месяц после описанных выше событий поздней ночью у ворот подворья архиепископа земли Пермской Илиодора остановились две крытые повозки и четверо сопровождающих их конных слуг. Монах-привратник долго не открывал калитку, все выпытывал: кто, откуль, куды Бог несет, да пошто в столь поздний час владыке беспокойство творите? — пока сам Илиодор, засидевшийся допоздна за чтением древних летописей, не появился у ворот.
Недовольствуя на ходу, пошто, мол, шебаршинникам разным и в ночи уему нет, самолично распахнул калитку, вышел в ночь, бесстрашно окликнув приезжих:
— Кому тут до меня забота? Я — Илиодор!
Тут же из первой повозки спустилась на дорогу женщина, видом купчиха, и, поддерживаемая под локоть слугой, направилась к Илиодору. Она не успела или не захотела распустить конец большой бухарской шали, поэтому Илиодор, как ни старался, не смог разглядеть полностью ее лица.
Может, поэтому, а может, из-за излишнего беспокойства спросил он сердито:
— Кто ты есть, раба Божья, и что потребно тебе в час поздний?
— Владыка Илиодор, — понизив голос, произнесла незнакомка. — Кланяюсь повинно за вторжение сие, однако беседы прошу удостоить с глазу на глаз…
— Коль тако, пойдем, — все еще недовольствуя, согласился Илиодор.
Когда через несколько минут они вошли в архиерейскую светлицу и незнакомка, размотав на голове шаль, повернулась к Илиодору, тот, изменив обычной сдержанности, сдавленно воскликнул:
— Княгиня Манефа? Господь всемилостивейший! Не верю очам своим!
— Я это, владыко, благослови на прибытие благополучно в земли пермские.
Она подошла под благословение, и, как ни крепилась, на лице ее, все еще привлекательном строгой красотой, показались слезы.
— Нет ныне княгини Манефы, владыко… Со мной грамота подлинна московска приказа Поместного, в коей значится, что мне, вдове купецкой Марфе Авдеевой, разрешено отбыть в земли сибирские для дел торговых и прочих… званию моему прилежащих.
— Постой, княгиня, что-то я не уразумею слов твоих…
— Чего ж тут разуметь, владыко? Ведомо тебе, как псы царя Бориса сгубили князя Андрея, как я с десяток тех псов из пищали уложила, как ищут меня по Руси. Но грамота, еще раз реку тебе, подлинна: не перевелись еще на Москве люди добрые да сердцем бесстрашные, которые род несчастный князей Надеиных чтут. Думу имею в местах отдаленных здешних обитель женскую поставить да, постриг приняв, в обители той Богу послужить до скончания дней своих… Благословишь ежели на дело сие, владыко, я тебя не обременю ничем: и копейки, и рубли у меня найдутся, а не будет согласия твоего — дале поспешать буду, Сибирь-то ох как велика!
Аскетическая строгость лица Илиодора стала при этих словах еще более заметной, проникновенной, светло-зеленые глаза чуть потемнели.
— Не к лицу тебе, княгиня, слова сии, аль запамятовала, что я только ныне архиепископ земли Пермской Илиодор, а ранее был воеводою из славного рода дворян Кульчицких и с супругом твоим, князем Андреем, запросто хлеб-соль водил?
— Прости, владыко… — поникнув головой, проговорила Манефа, опускаясь на колени. — Прости великодушно. Насмотрелась, натерпелась я за последнее-то время, како люди, с коими я в приятельстве крепком была, отворачивались да бежали прочь, меня завидев…
— То мне ведомо, однако всех подряд в черну сторону не пиши, подыщем тебе место достойно для обители, постриг примешь — игуменьей благословлю. Так-то вот, нареченная вновь Марфа Авдеева, встань с колен-то, нехорошо сие…
Манефа, не поднимаясь, зарыдала, протягивая руки к Илиодору:
— Владыко, век буду Бога за тебя молить, за сердце твое, перед людьми щедрое, за то, что приютил меня и сына мово, княжича Викентия, в годину для нас столь горькую…
— Викентий? Так он с тобой, где ж он?
— В повозке нашей походной, ждет милости твоей и благословения…
— Так что ж ты медлишь-то? Сюды, сюды веди его разом — пойдем, я велю дворне!
Илиодор и поднявшаяся с колен Манефа заспешили к дверям светлицы.
Чтобы продолжить наше повествование, мы должны вернуться к той сцене, где рассказывается о происшествии с Векшею у лесного капища вогулов.
По издавна укоренившейся и известной многим старой охотничьей привычке Векша затеял сам с собою шутливую беседу, стараясь как-то скрасить свое довольно незавидное положение.
«Како же ты, шустрый столь да ухватливый, свет мой Викентий Андреич, смог в таку опаску попасть, содругов походных потерять да с пути должного сбиться? Ноне ты для таежных ведунов-старознатцев ну как вовсе пустой есть, ой стыдоба-стыдобушка!..» Шутки шутками, а не жалел себя при этом Векша, щедро примешивая к шуткам тем горечь содеянного им, так как был он в таежных делах охотничьих предельно строг к себе.
Размышления Векши были вскоре прерваны, так как он перенес внимание на вторую каменистую площадку у костра, где, как по всему было видно, готовилось какое-то торжество. Женщины, негромко напевая заунывно-тревожную мелодию, повыдергивали с поверхности площадки всю траву, тщательно подмели ее пихтовыми веничками, перевитыми разноцветными лентами, усыпали песком. Мужчины вбили посредине площадки высокий кол с головой оленя наверху, а к основанию кола набросали еще несколько волчьих и медвежьих голов.
Вскоре вокруг площадки собралось все население вогульского стойбища. В костер подбросили несколько охапок сухих сучьев, и едва бледно-сизый дым, почернев, взметнулся к небу, как на площадку выскочили два молодых охотника. На головах их были берестяные колпаки-маски, отдаленно напоминавшие медвежьи головы, а на руках — рукавицы из медвежьих лап с черными загнутыми когтями.
То наступая, то отступая друг от друга, охотники, переваливаясь, закружились по площадке, и каждое движение их было в точности таким же, как у резвящихся молодых медведей. Это был древний ритуальный танец, исполняемый в честь бога Нуми-Торума, которого вогулы вновь хотели разжалобить и заставить беседовать с ними.
Все, что происходило на площадке, было хорошо видно сидящему на камнях Векше, хотя сам он, оставаясь в тени идолов, был незаметен. За это время сознание его полностью прояснилось, и он, зная многие лесные обычаи, сразу понял, что грозит ему после того, как охотники-вогулы закончат жертвенный танец медведя. Не теряя времени, он тут же опустился на спину, сжал зубы, чтобы не застонать, и, скатившись по россыпи плоских камней, чувствуя, как по-сумасшедшему колотится сердце, задыхаясь, пополз средь высокой травы к ближней опушке леса, окружавшего поляну.
Добравшись до кустов, особенно плотно растущих здесь, Векша, как бывалый охотник, приподнял над травой голову, осторожно посмотрел вправо, влево и убедился, что ничего опасного для него пока не наблюдается.
По привычке, приобретенной годами скитаний, он тут же прикинул, как и с чем ему пускаться в путь. Он не имел запаса еды, зелейных припасов, был безоружен, у него не было даже охотничьего ножа, без которого в тайгу не направится ни один уважающий себя человек. К тому же вогуличи могли в любую минуту обнаружить его отсутствие и броситься в погоню, а им, коренным следопытам, отыскать его след не составит большого труда. «Думай, думай, поспешай!» — торопил сам себя Викентий, размашисто вышагивая по узкой прогалине, уводящей в глубину леса.
Может, везение сопутствовало Викентию, а может, просто случай добрый выпал, но, когда путь ему преградила неширокая шустро-говорливая речка, Викентий обрадовался: «А ведь к месту, к месту мне сейчас речушка сия: течет-то она как раз в мою сторону, по пути тому, по дорожке, где супостаты ноне отца Дионисия, должно, волокут…» Он тут же столкнул два обглоданных волнами ствола, покрепче связал их ветвями тальника и, устроившись полулежа на середине, оттолкнулся от берега.
На счастье, Викентию не встретилось на пути ни завалов, ни запруд, а когда к вечеру речка, приняв по пути несколько широких ручьев-притоков, стала заметно полноводней, Векша, решив, что он уже достаточно далеко от вогульского капища, остановился.
Причалив к противоположному берегу и покрепче привязав свой плот, он, кое-как устроившись на бревнах, заснул. Хотя сном это можно было назвать с большой натяжкой: ему все время чудилось, что он с товарищами своими Акинфием и Саввой идет по следу тех, кто дерзнул похитить и увезти тайком отца Дионисия, коего Векша почитал самым дорогим человеком после матери. Именно от нее еще с дней столь давнего теперь детства не раз слышал Викентий: «Почитай отца Дионисия, како бы ты отца родного почитал. Велик он и умом и душой своей, чистой пред Богом и людьми, и дано ему свыше благо дела творить, к коим простому человеку и руки приложить не мочно».
Со временем Викентий понял подлинное значение этих слов, и хотя уважение его к Дионисию, и без того высокое, постоянно возрастало, случалось, что многим делам и поступкам его он не мог дать толкования.
В обыденной житейской обстановке был Дионисий прост и предельно скромен, в отношениях с людьми ласков и доверчив: многое делал в ущерб себе, лишь бы добро сотворить окружающим. Но бывал он и неуступчиво тверд, резок, и горе было человеку, пытавшемуся излагать обман или ложные толкования во время бесед. Свидетелем этого не раз доводилось бывать Викентию, и его всегда покоряла непреклонность и предельная ясность тех или иных доводов Дионисия.
Спроси его, спал ли в эту ночь или промучился в бархатистой непроглядности ночной тайги и дальних зоревых отсветах, — он и сам бы не смог толком ответить. Давила нестерпимо тяжкая боль во всем теле, раскатываясь судорогами…
Когда он, приподняв голову, потряс ею и, окончательно проснувшись, открыл глаза, прямо перед ним, уставив ему пищаль в грудь, стоял здоровенный мужик, видом охотник, чернявый, нахохлившийся, злой, а второй, видно, его напарник, вытаскивал зачем-то на берег стволы, на которых приплыл сюда Викентий, спасаясь от вогуличей.
— Ну, — хрипло протянул чернявый мужик, все еще упирая пищаль в грудь Викентия. — Молися, княжич, напоследок да скоренько перед кончиною. От вогуличей уйти исхитрился, от нас — не уйдешь!..
Хоть и плохо спал Викентий, но все ж отдохнул малость, да и сил вроде бы прибавилось. Он чуть потянулся, расправляя плечи, и привычное к испытаниям и дорожным тяготам тело тут же напряглось, будто перед прыжком…
Чернявый мужик оказался сообразительным:
— Силу пробуешь, княжич? Не потребна она тебе боле. Молись, говорю, ибо остатние минуты на свет Божий зришь…
Викентий, понимая, что просьбы и уговоры в таком положении бессмысленны, и стараясь хоть немного протянуть время, спросил кратко:
— За что ж мне сие?
— А за то, чтоб в дела, больше тебя не касаемые, не совался да по лесу не шастал, погоню слугам государевым чиня!
— Это ты-то слуга государев? — бесстрашно рассмеялся Викентий, настороженно следя за каждым движением чернявого мужика.
— Ты еще оговаривать меня намерился, отродье преподлое княжье? — вскинулся мужик. — Не хошь молиться, так я за тебя слова остатние промолвлю…
Не отводя пищали, он ловко перекинул ее в левую руку, правой снял шапку, сунул ее за пазуху, широко перекрестился:
— Сними с меня грех сей, Господи, и прими в лоно свое душу сию заблудшую…
Он хотел перекреститься еще раз, но в этот момент Викентий, ловко крутнувшись, выбил ногою из рук его пищаль и, вскочив, будто подброшенный неведомою силой, наотмашь резанул чернявого мужика по скуле. Тот охнул, вскинул было руки кверху, но Викентий успел еще два раза так ударить его в живот и грудь, что мужик, захрипев, тут же ткнулся в землю. Схватить отброшенную в сторону пищаль было для Викентия делом секунды. Он тут же повернулся к другому мужику, возившемуся до этого у воды, но того будто ветром сдуло — лишь из-за кустов доносился треск сучьев.
«Мне теперь бегунца сего никак упускать не можно! — быстро подумал Викентий. — Ежели он наперед меня на стану их будет, угонят аль упрячут отца Дионисия, что мне и вовек его не сыскать!..» Он тут же снял с чернявого мужика, все еще неподвижного и безжизненно раскинувшего руки, пояс с широким ножом в костяных ножнах и с кожаными мешочками, где хранился порох, рубленые пули и иной дорожный припас. Застегивая пояс, Викентий на ходу подхватил пищаль и устремился за вторым недоброжелателем, так ловко сбежавшим от него.
Что-что, а по тайге Викентий умел ходить. Давно уже стала привычной легкая скользящая походка, когда нога сама знает, где ступать, а где обойти, поберечься надо, и все это тихо, бесшумно, так, чтобы следа своего не оставить, а главное — не нарушить тот след, по которому идешь, так как сказать опытному человеку он мог многое.
Вот и сейчас Викентий видел, где недоброжелатель его, а вернее враг наипервейший ноне, отдыхал на пути, где торопился, где шел тяжело, спотыкаясь, а где и вовсе срок малый на траве валялся. А вот снова он шел, как бы на ногу припадая. «Э-э, да так я его быстренько достану», — решил Викентий. И впрямь скоро он увидел за деревьями фигуру тяжело шагающего человека с батожком в руках, на который он постоянно опирался.
Викентий взял влево, ускорил шаги и уже через десяток минут, обойдя стороной своего противника, неожиданно появился перед ним. Тот от испуга споткнулся, едва не упал и быстро-быстро запричитал:
— Сгинь, сгинь, проклятый, такого человеку православну творить не в обычай!
Это был рослый, нелепый в своей неуклюжести мужик, и причитания его рассмешили Викентия.
— Что ты завел, яко дите малое! — прикрикнул он. — Молви скороспешно, где отец Дионисий, кто там с ним, куды волокете его?
— А не скажу, не скажу! — неожиданно ощерился мужик, и злобой полыхнули его глаза. — Дело государево, тебе, оборотню, оно не по зубам, княжич роду змеиного!..
Только сейчас Викентию пришла мысль о том, что второй раз за день слышит он это «княжич». Откуда могли проведать эти злыдни о тайне, столь трепетно и охранно оберегаемой его матерью да и им самим? Ведь для всех прочих он был в прошлом «купецким сыном», а ныне известным охотником-следопытом Векшей.
«Сие не откладывая надобно распроведать, — решил тут же Викентий. — Вот дай с вызволением отца Дионисия управлюсь…»
— Значится, роду змеиного? — переспросил он, глядя в упор на мужика и поднимая пищаль. — Коли так, с тобой и по-змеиному творить буду же! Веди к месту, где отца Дионисия прячете, ежели нет, яко пса смердяща прикончу сей час, ну?..
Вид Викентия был столь решителен, что неуклюжий мужик тут же стушевался, покорно забормотал:
— Како же, како же, пойдем, пойдем, выведу на горюшко себе, тута недалечко…
Видно, отдохнув немного, он засеменил шустро, да так, что Викентий едва поспевал за ним. «Недалечко» обернулось долгой дорогой, да и сам он на полпути сдал: принялся вновь прихрамывать, жаловаться на боли в ноге. К месту, где, по словам мужика, был их стан и где находился Дионисий, они подошли в сумерках. Здесь лес был особенно густым. Огромные раскидистые ели, подпираемые к тому же россыпями небольших, поросших мхом валунов, вклинивались в березняк, уходящий к недалеким холмам. У подножья одного из них светлел алыми отблесками костер, возле которого сидели люди.
— Это кто? — спросил, указывая на них, Викентий и, так как мужик засмеялся было, прикрикнул: — Ну?!
— Сие московский посланец стольник Коробьин со слугой, — нехотя процедил сквозь зубы мужик. — Ему было велено Дионисия вашего в Москву представить, а ты на пути встал у сего столь большого человека. Не лучше ли тебе повиниться, покаяться да в стороночку отойти, покуль голова на плечах, а?
— Я те отойду, пень корявый! — вскинулся было Викентий, но сейчас же, словно устыдившись этого, лишь спросил холодно: — Ну а где ж отче Дионисий?
— А вона вишь шалаш под елью? Там праведник твой пребывает.
Викентий резанул зубоскала по скуле и, пока тот, охая и подвывая, ползал по траве, безжалостно бросил:
— А я все ж тебя ноне успокою, представлю на тот свет, ежели еще хоть словом малым отче Дионисия затронешь!..
Мужик забормотал что-то виновато, а Викентий продолжал:
— Опояской своей ноги перетяни-ка покрепче. Постарайся, а я погляжу за сим… Ну, ну!
Проверив для прочности и без того надежно затянутую опояску, Викентий без церемоний перевернул мужика лицом вниз и уже своей ременной петлей так же крепко стянул ему руки.
— Лежи, покуль я с твоим стольником потолкую, лежи тихо, засим за тобой пошлю аль сам приду, слову своему я хозяин!
Уже не глядя более на пленника, Викентий, поудобнее перехватив пищаль, скрылся за ближними деревьями.
В который уже раз выручило Викентия охотничье умельство: подобрался к костру на редкость близко, да так, что ни Коробьин, ни слуга его ни разу не встревожились. Коробьин, на первый взгляд, выглядел не очень-то важно для московского посланца: ростом невелик, тщедушен, узкоплеч, лицо усталое или больное, так, во всяком случае, показалось Викентию. Коробьин был из говорливых, и, поскольку говорил он громко, возмущенно, Викентию было хорошо слышно каждое его слово.
— Это же надо обмишулиться тако!.. Ну, постой, сотворю я неприятности воеводишке пермскому Сеньке Щербатову, каких мне старознатцев таежных подсунул. «Все народ надежной, проверенной в службе» — вот тебе и надежной: ни одного ни другого, а ведь нам поспешать надо, чуешь, Васька?
— Чую, чую, Степан Иваныч, — отвечал слуга Коробьина, плутоватый, бойкий, видом здоровяк. — Явятся не сегодня-завтра, таки в тайге в потери не пойдут.
— Так где ж они, где?.. Медлить нам нельзя, уразумей же ты, болван!
— Где они, то мне ведомо, — проговорил, появляясь из-за кустов, Викентий.
Это было настолько неожиданным, что Коробьин поперхнулся, икнул, бледнея от страха. Васька же, плутовато оглянувшись, привстал, намереваясь броситься к ближнему шалашу, где у входа висели на сучке его и Коробьина пищали, но Викентий прикрикнул:
— Сиди, пес, на месте, а то пулю враз сглотишь.
Васька тут же сник, Коробьин же, чуть оправившись и не к месту покашливая, спросил:
— Что потребно тебе, добрый молодец, откуль про людишек наших ведомо?
Викентий с сожалением посмотрел на Коробьина:
— А ты, видать, не больно-то великого ума, стольник московский. В таком разе спрос и расправу я вести должен. Како посмел ты, лизоблюд стола царского, отца Дионисия в полон-трату ввергнуть?
— Так это приказано мне боярами набольшими, — заюлил Коробьин.
— Грамоту подорожну давай да грамоту на взятие воровское, тайное отца Дионисия.
— А нет, нет тех грамот — потеряны, сам не знаю, куды делись! — Коробьин старался говорить как можно более убедительно, но его выдавали воровато бегающие глаза.
— Сколь же ты лжив есть, лихоглядец, — покачал головой Викентий, — давай грамоты!
— Вася, голубочек! — обратился он к слуге. — Ты сходи-кось к шалашу, тама в суме дорожной лежат грамоты, принеси сюды.
Викентий не успел возразить, как Васька вскочил на ноги, сделал вроде шаг к шалашу, но, выхватив из-за пояса нож, бросился на Викентия. Тут же грянул выстрел. Васька схватился за руку, заныл, запричитал, покатился по траве.
Викентий с дымящейся у ствола пищалью повернулся к Коробьину:
— Теперь уразумел? Чтоб сей же час грамоты у меня были!
— Счас, счас! — едва не припадая к земле, бросился к шалашу Коробьин.
Он, и верно, тут же возвратился назад, протянул Викентию продолговатый дорожный ларец.
— Я и прочитать, растолковать, ежели надобно, могу, — заглядывая в глаза Викентию, зачастил Коробьин, но Викентий, взяв ларец, сказал:
— Иди вон лучше псу своему помоги. — Он кивнул на Ваську, все еще ошалело прижимающего к груди раненую руку. — Тряпицей оберни или как там еще… А я к отцу Дионисию пойду, как он здоровьем-то?
— Здоров, слава богу! Ох, молодец, в каку ж ты меня опаску вводишь, на Москву-то я без сего Дионисия вернусь — мне топор, петля. А в лучшем случае — в монастырь, навечно… — В голосе его было унижение, тоскливая безысходность, даже отчаяние, но Викентий не нашел в душе и капли жалости к этому человеку.
Прихватив по пути пищали стольника и его слуги, Викентий направился к шалашу Дионисия. Тот сам встретил его на пороге, обнял, поцеловал трижды и, прослезившись, благословил.
— Отче Дионисий! Чую, есть немало что поведать мне, да и у меня к тебе разговор особый. Но сейчас на то времени ну нисколько нет! Как ты в ходу-то?
— Да легок я еще покуль на ногу.
— Тогда в путь, в путь, отче! Поверь, надобно тако.
— Ну, коль надобно, тебе виднее, с богом, сыне мой!
Стольник Коробьин, возившийся до этого со слугой, перевязывая тряпицей ему руку, подошел, стал рядом, глядя на Викентия.
— Так как ты дале мыслишь нам быть, молодец-удалец аль разбойничек лесной, не знаю уж, како и звать-величать тебя?..
— Пошто ж ты меня своим имечком нарекаешь? — недобро усмехнулся Викентий. — Это ты лиходей-разбойник, а я старцев честных по ночам в полон не уводил. А еще стольник, дворянин московский! Где ж благородство хваленое твое?
— Благородство? — неожиданно взъярился Коробьин, затрясся, замахал руками. — Молод ты еще! Зелен про столь высоки понятия толковать. Царь Бориска, слава тебе господи, Богу душу отдал, а прихлебатели его, лизоблюды все еще вкруг трона царя нового вьются, делишек своих концы, что на виду остались, прячут от взоров людских.
— То их окаянство нашего рода, кто в живых еще ноне есть, не касается, род Надеиных честной и к грязи никакой — сыском разным — не примешен!
Коробьин зло рассмеялся:
— Смотри-ко ты, херувим какой явился! Да злодеяния ваши в Москве на семь раз переписаны, в края здешни давно есть присланы. И на тебя, и на Дионисия вашего, и на матерь твою Манефу. Изловить вас всех велено беспощадно и беспременно и воеводам, и стрельцам, и казакам, и даже людишкам здешним диким, которые хоть в чем-нибудь под рукой нашей ходят.
— Так это, значит, на меня дерево не без причины упало, — догадался Векша. — Вогулы подпилили?
— А ты думал! — скривился Коробьин. — Им за дело сие тоже воевода пермский деньгу посулил…
— Брешешь, пес! — замахнулся было на него Векша, но Дионисий успел удержать его руку.
— А! Не нравится, не нравится, — теперь уже юродствуя, выкрикивал Коробьин. — А известно ли тебе, как только мы тебя с Дионисием к воеводе пермскому доставим, он вместе с нами и твою мать отправит…
— Отче Дионисий! — взмолился Векша. — Да позволь ты мне волю рукам дать, сего злодеюку боле слушать мне немочно!..
— Сиди себе, сыне, — ответил Дионисий, — с него не мы, Бог полной мерой спросит.
И без того тонкие губы Коробьина вытянулись, отчего улыбка вышла отталкивающей. Он, видно, окончательно вошел в раж, затрясся весь, замахал руками, бесстрашно наступая на Викентия.
— Стрели меня, стрели, жить мне по твоей милости боле незачем… А-а-а! — вдруг не закричал — завыл он и, упав на землю, стал кататься из стороны в сторону, колотя по траве судорожно сжатыми кулаками.
Викентий не глядя плюнул, отвернулся, сказал Дионисию:
— Подожди здесь, отче. Вон к тому лиходельцу, отче, дело едино есть, — указал он на слугу Коробьина.
Дионисий видел, как Викентий, подойдя к Ваське, что-то сказал ему, указывая в сторону, и как тот, придерживая раненую руку, угодливо закивал головой, кланяясь низко-низко, а затем торопливо зашагал вдоль кучно стоявших деревьев и тут же скрылся из глаз.
— Там недалече дружок его лежит, мной связанный, — объяснил Викентий, вернувшись. — Поспешаем, отче, покуль они вернутся. Нет у меня желания стрельбишку затевать.
— А этот? — спросил Дионисий, указывая на Коробьина, все еще лежащего на траве.
— А-а! — презрительно махнул рукой Викентий, повесив на одно плечо свою пищаль, а на другое пищали Васьки и Коробьина и их пояса с дорожными припасами. Ларец в мешке передал Дионисию: — Держи, отче, груз невелик, ежели он тебе тяжеловат станет, молви мне, передышку сотворим…
Дионисий тут же перекрестился сам, перекрестил Викентия и направился за ним. Коробьин же, приподнявшись на руках, долго смотрел им вслед, и по щекам его катились редкие злые слезы.
Стая больших птиц пронеслась низко над лесом, и Коробьин, с завистью проводив их глазами, подумал: «Все уходят, улетают. Куды ж мне деваться ноне?» Тоска и отчаяние, горше которых он еще никогда не испытывал на свете, с такой силой охватили его, что ему почудилось, что вот-вот остановится его сердце, а вместе с ним и вся жизнь кругом… Но миновала минутная слабость, и все заботы, горести, ожидания грозящих ему бед вновь подступили, будто ухватив за горло. Слезы бессилия, безысходности и жалости к самому себе вновь, как и недавно, сменились слезами, напитанными злом.
Он вскочил, крикнул что было сил:
— Васька-а-а! — но крик его, раскатившись по лесу, остался без ответа.
Глава 2
Викентий понимал, что положение, в которое он поставил Коробьина, вынудит того на самые отчаянные, может, и безрассудные действия, так как люди его склада редко мирятся с поражением.
На вопрос Дионисия: «Како же ты думаешь доле нам быти?» — Викентий сказал: «Думай не думай, отче, одна у нас дорожка покуль: уйти как можно подале, исхитриться, штоб злодеев тех хоть на малый срок запутать. И на то у нас есть день-другой — не более. Кое в чем мы их подбили: пищали, считай, припасы зелейны и прочие — все у нас; да и разброд у них меж собой: спросы-разборы пока искоренятся — кое время пройдет, все нам на руку, а уж потом нам туговато будет, кинутся те злодеи, яко псы, по следу, нас постараются перенять».
К вечеру, когда они уже отмерили добрый отрезок пути и решили встать на ночевку, каждый занялся своими немудреными делами. Викентий, блюдя неписаный, но строго выполняемый охотничий закон, проверил на ночь глядя оружейный запас, разложил поподручнее прочее оружие, а также, исхитрившись, сварил на бездымном костерке походную охотничью кашу.
Дионисий же, отужинав, достал ларец с документами и принялся внимательно разглядывать их, повторяя по нескольку раз не только отдельные абзацы, но и целые страницы. Потом, малое время спустя, подозвал поближе Викентия:
— Давай-ка потрудимся да прикинем, брате, вместе хитрования да измышления, коими сей ларец отяжелен весьма и весьма…
Если первая грамота не представляла особого интереса, обычная подорожная тех времен, то вторая — на глянцевитой иноземной бумаге с разводами, с печатями на красных шнурах с массивными кистями — буквально приковывала к себе внимание.
Вот что значилось в ней: «…По повелению набольших бояр Семена Андреева Беклемишева и Петра Петрова Боголюбского надлежит тебе, стольник Степан Иванов Коробьин, отбыть в земли пермские и, отыскав там старца Дионисия, который воеводе тамошнему князю Семену Щербатову ведом, доставить старца того тайно на Москву. К делу сему служилых государевых людишек ни в коем разе не привлекать, обходясь теми, што у воеводы тамошнего для охотничьих и прочих лесных дел припасены».
— Ишь ты, — подивился Викентий, — сколь хитромудры бояре-то: в случае чего Коробьин вроде бы и ни при чем, спрятал грамоту — и вся недолга, а людишки, которые тебя, отче, ухватили, — сами по себе, им и ответ держать…
— Так оно, сыне, так! Мысления извечны и преподлы трижды тех, кто, у трона пластаясь, куска лакома да жирна ждет. Тебе сие дивно, а я, в свое время не единожды там бывавши, насмотрелся мерзостей тех и обманов вдосталь!
— Отче, — еще более удивился Викентий, — а я тебя, прости на слове, вечным молитвенником и постником считал, далеким от дел и забот житейских.
— И рад бы таковым быти, да жизнь и дела людей, куда как близких мне, в ину сторону бросают. Прости, Господи, за оговорку сию!.. Ты вот по простоте душевной в словах грамоты сей видишь то, что начертано там, а я между строк в догадку вхожу, истинный смысл написанного находя.
— Это како же? — удивился вновь Викентий.
— А вот тако же… Ну, к чему, скажи, было по одному и тому же делу двух служилых посылать?
— Неведомо мне…
— А мне ведомо, ибо тако и ранее творили московски больши головы… Пусть, мол, там, окромя протчего, и друг за дружкой приглядывают, прислушиваются, ежели что. А мы ужо тут в Москве потом решим: сколь веры им давать в том или ином деле можно… А ежели и случится, в чем и оговорят друг друга, то их грех будет, не наш…
— Неужто люди таки и в делах великих оговаривать друг друга могут?
— Не только оговаривать, но и с потрохами продать способны, ежели выгода хороша тут им светит. Вот в ларце здешнем есть также грамотка, како бояре московски с Литвой наипрочно повязали и головы, и души свои. Царя Бориса метили скинуть, землю русску под руку литовску навечно отдать.
— Отче, отче, так то дела давни, прошедши, что тебе ноне в них?
— А ты смешон, коль не уразумел до конца… Некоторы из бояр тех и ныне вкруг трона пластаются да с Литвой дружбу-приязнь ведут, како и ранее была. Это они сгубили отца твово, князя Андрея, оговорив его, да под плаху подвели, проведав, что знаемо ему о заговоре ихнем. Они же пронюхали, доискались, что пермская игуменья Марфа — на самом деле княгиня Манефа — в одной из обителей здешних главенствует. Ну, а раз так, то и я рядом. Должны быть при мне, како им тож ведомо, грамоты об их прошлых изменах да братаниях с Литвой, русской земле — державе нашей — во вред да потерю.
— Сколь же подлы и богопротивны они! — нахмурился Викентий.
— Вот и размысли, коли так. Ты, в летах столь юных, в делах государственных и вовсе несмышленый, низость содеянного ими понимаешь, а они нет — да еще кичатся этим, — сие страшно и богопротивно есть!.. К годам моим о смирении бы думать побольше надобно, а мы или не заслужили его, или пред Богом чем виноваты, что он не дает нам на битву честну за правду-истину идти…
— Надеждами жили — еще поживем, а вдруг да и удостоимся светоча ясности…
— Дай-то бы Господи! — тяжко вздохнул Дионисий.
К концу второго дня Дионисий и Викентий вышли к небольшому лесному озеру, на берегу которого, на песчаном взгорке меж валунов, горбатилась полуразвалившаяся часовня, а рядом не то дом, не то сарай, почти без стен, но с целой еще земляной, поросшей мелким кустарником крышей.
К этому времени небо, и без того темнеющее весь день бесконечными грядами тяжких туч, разразилось нудным моросящим и, как видно, долгим дождем, что несказанно обрадовало Викентия.
— Отче, возблагодарим Господа, — обратился он к Дионисию. — Дождь сей как благодать, свыше нам посланная: следы-то все смоет. Разве что те злодеи забрести сюды могут, а так тайга большим-большая, во всяком разе, на ночь да и на день завтрашний мы в безопасье.
Когда они, оставив под навесом пищали и прочий дорожный запас, переступили порог часовни, было еще достаточно светло. Ветхая, в многочисленных дырах, крыша не препятствовала свету, отчего явственно проступали на потемневших замшелых стенах искусно вырезанные кресты из лиственницы, несколько малых икон под ними в дождевых подтеках и пятнах и аналой посредине с установленной на нем иконой побольше. Можно было предположить, что находится она здесь со времени постройки часовни, до того плотный на ней был слой копоти, грязи и паутины.
Дионисий осмотрелся, поднял с земли подвернувшуюся под руку тряпицу, промыл ее в дождевой луже у порога и принялся осторожно протирать икону. Проделал он это несколько раз подряд, пока поверхность иконы не стала тускло поблескивать коричневато-золотистыми с прозеленью мокрыми пятнами.
Увидев такое, Викентий разочарованно протянул:
— Подпортилась, видно, не разберешь, что тут и значилось.
Дионисий ничего не сказал на это, лишь в который уже раз вновь протер икону, и вдруг и он, и Викентий разом, будто сговорившись, воскликнули протяжно и отшатнулись от аналоя, где стояла икона. На поверхности ее, будто всплывая с глубокого дна, заструились, ежесекундно меняя окраску, всполохи полос и радужных линий, превращаясь в черты лица довольно молодого еще человека, удивительного суровой подчеркнутой отвагой и мужественностью. Этому впечатлению в немалой степени способствовал взгляд его устремленных к небу глаз, щедро излучающих тепло и непонятную притягательную силу для каждого, кто посмотрел бы сейчас на икону.
Трудно, вернее, невозможно было представить себе, что водило рукой мастера-иконописца, создавшего это, безусловно, великое произведение, но то, что он являлся личностью необычной, наделенной, как говорится, талантами свыше, сомнениям не подлежало.
Оцепенение, охватившее Дионисия при взгляде на икону, наконец оставило его, и он, благоговейно перекрестившись, произнес приглушенно:
— Зри, сыне, зри прилежно на сие чудо земное, а может, и благодати небесной благословенной. И еще более того скажу, что я сей образ зрил где-то в жизни прежней… Постой, постой! — вздрогнув, встрепенулся Дионисий, по лицу его прошла тень испуга, вернее, крайнего напряжения мысли. И вдруг он, облегченно вздохнув, почти радостно воскликнул: — Слава Господу, вспомнил, вспомнил, сыне мой! Это ж давний византийский образ святого Георгия Победоносца, изображенного без коня, пешим, стоящим на камне, но все равно уязвляющим змея — не столь копьем, сколь своею святою силой. Находился я в то время в благословенном Соловецком монастыре, где на одном из причалов снаряжали паломников к отходу в земли югорские. На одном из корабликов я и увидел тогда сию икону, именуемую «благодатью дорожной». Без такой иконы в то время немыслимы были ни мореходские, ни сухопутные пути, ни диких зверей, ни не менее диких людей одоление, ни попытки если уж не раскрыть, то хотя бы прикоснуться к тайнам и пугающим загадкам Югры.
Они посмотрели теперь еще более внимательно на икону, потом — друг на друга, и Дионисий произнес негромко:
— Пойдем-ка отселе, сын мой. Недостойны мы праздно столь на тако велико творение души человеческой зрити…
— Так как же оно, отче, — забеспокоился было Викентий. — Неужто благодать сию здесь на изничтожение медленное бросим?
— Пойдем, пойдем! — так же не повышая голоса, повторил Дионисий. — Поутру, с началом дня грядущего, о сем помыслим…
Помыслить им не удалось, с вечера никак заснуть не могли: все рассуждали-прикидывали, как это и почему столь ценная икона безнадзорно брошенной оказалась, кто повинен может быть в этом, ведь от предполагаемых путей паломников здесь было далековато… В таких разговорах ночь будто сгинула, а рассвет заявил о себе неожиданно рано.
Викентий предложил:
— Отче, ты тута оглядись, о костерке и едишке уж какой побеспокойся, а я схожу осмотрюсь, я еще вчера, когда подходили сюды, следов куды как интересных наглядел…
— Ступай, сыне, но недолго чтоб.
— Постараюсь, — уже на ходу ответил Викентий, скрываясь в зарослях молодого ельника.
Минул час, другой, и Дионисий, беспокоясь, все чаще выходил на поляну у полуразрушенной часовни, даже пробовал раз-другой окликать Викентия. Наконец тот сам появился, но совсем не с той стороны, где ждал его Дионисий. Тот хотел было расспросить его, чего, мол, задержался столь. Но Викентий лишь промолвил: «В путь, в путь, отче», на ходу, считай, заглянул в часовню, завернул в полотенце икону Георгия Победоносца и уложил в заплечный мешок. Вскоре они уже шагали вдоль опушки молодого леса, опоясывающего поляну с часовней.
Дионисий, зная характер и привычки Викентия, молчал, ожидая минуты, когда тот разговорится и расскажет о причине столь поспешного их ухода с этого места. Но Викентий будто воды в рот набрал: шагал молча, изредка морщил лоб и будто шептал что-то — то ли спрашивал сам себя, то ли недовольствовал, не находя ответа.
И лишь вечером, после незатейливого, как всегда, ужина, уже перед сном, Викентий подошел к Дионисию и, сдернув колпак, виновато, даже чуть церемонно сказал:
— Ты уж прости меня, отче, за молчанку таку долгу, но ране разговор должный начать никак не осмелился. Поутру, спаси Господи, пришлось видеть взору тяжкое, а я уж думал, насмотрелся, по тайге скитаясь, всякого…
— Дерзай! — ободрил его Дионисий.
— Неподалеку от часовни, где мы образ сей дивный нашли, я яму, листьями да россыпью каменной засыпанную, приметил. Останки двух православных в одеянии монашеском да с крестами у сердца там пребывали, порванные в куски медвежьими лапами. И сам медведь в поединке том с ними тож не устоял, хоть и был страховиден предельно! Таковы и в дебрях самых таежных редки, недаром вогулы их дикуями кличут!
— Дикуй? Это что есть? Такого наименования за всю жизнь не слыхивал.
— Дикуй — значит дикой зверь, отшельник-зверователь, всегда против всего живого. Те двое православных, что я в яме нашел, супротив дикуя не устояли, конечно, но и он с Божьей помощью, не иначе, изничтожен был!
— Царствие им небесное, — как-то по-особому произнес, опускаясь на колени, Дионисий и, помолившись некоторое время, негромко спросил у Викентия: — Похоронил, конечно, их?
— Да, землицей и каменьями мелкими присыпал, а кресты нательные, в тряпицы завернув, в изголовья к ним пристроил.
Дионисий вновь склонил голову в молитве. Викентий присоединился к нему, и таежная мгла, окончательно сгустившись к этому времени, накрыла их едва заметно колыхавшимся покрывалом.
Вряд ли бы при архиепископе Илиодоре, имя которого было далеко известно за пределами пермской земли, осмелились поступить так с игуменьей Марфой, как поступили ныне. Преемник покойного Илиодора архимандрит Иосаф был слабоволен, нерешителен. В разговорах с особами, стоявшими выше его по служебному положению, он всегда волновался и говорил подчас не то, что нужно, а то и вообще терял дар речи. Ему ли было возражать или, не дай бог, противиться авантажному, барственному московскому думному дворянину Авксентьеву, прибывшему с именным указом царя и патриарха.
Свои дела вокруг обители и внутри нее Авксентьев начал с того, что велел выставить у главного входа и всех боковых дверей крепкую стражу. Дабы ни сама Марфа, ни многочисленные жалельщики ее не только бы не вели разговоры, но и вообще не виделись бы друг с другом.
Это сразу же вызвало шум, недовольство, и уже назавтра к Авксентьеву пошли люди: пермские дворяне, стрелецкие сотники, купцы и прочий городской люд. Все они просили об одном: отпустить, не чинить препонов игуменье Марфе, которую чтили и в городе, и в дальней и ближней округе за мудрость, доброе и отзывчивое сердце и за добрые тож дела, которых на счету Марфы было немало.
Авксентьев поначалу принимал посетителей, манерничал, важничал, потом вообще велел никого не пускать, чем еще больше обозлил людей, почти сплошь сочувствующих Марфе.
— Вот оно каково ноне посланцы-то московски творят: игуменью-праведницу, истую молитвенницу за грехи наши за караулом держать дерзнули!.. — слышалось в толпе, собравшейся у красного крыльца воеводского подворья.
— Да уж, от дел таких добра не жди, шатается православие, ох шатается антихристу на радость.
К обеду, когда толпа у крыльца стала более многолюдной, к народу был вынужден выйти сам воевода — князь Семен Щербатов. Расшитый серебром синий охабень с разрезными рукавами, длиной до пола, придавал его и без того тучной фигуре излишнюю громоздкость. На щекастом рыхлом лице поблескивали хитрющие глаза.
— Пошто шум творите, православные? — более чем миролюбиво начал он. — Заступа ваша за игуменью ни к чему. Набольшими государевыми людьми велено ее на Москву доставить, а что, пошто — нам неведомо…
— Неведомо? Как же сие? — взорвалась криками толпа. — Давай сюды дворянина того московского, а то сами спросим с него, пошто он столь бесчестно мать игуменью беспокоит…
В другое время и близко бы не потерпел такого своеволия воевода. Сейчас же, после недавнего и с трудом усмиренного бунта немирных пришлых вогуличей да при наличии в крепости всего одной полусотни стрельцов, приходилось как уж там, но сдерживаться, хитрить да изворачиваться, что было вот уж как отвратно для болезненно самолюбивого воеводы.
Он быстро, почти незаметно окинул взглядом толпу, стараясь запомнить некоторые лица: «…Этот вот, и тот, и вон этот… Ну, погодь… Ино толкование с вами наладим, дай срок…» Все это было, как говорят, на уме, внешне же лицо воеводы являло собой истинное благоденствие и миролюбие.
— Тише, тише, православные, — уговаривал он наседавших горожан. — Прибывший московский дворянин хворой лежит, вот те крест! Как он на ноги встанет, поведете с ним разговор, обещаю, но только мирно, тихонько. Так расходитесь покуль…
Пошумев еще немного, народ стал расходиться, а воевода прямо с крыльца направился в дальнюю светлицу своего дома, где помещался Авксентьев.
— Ну, Гордей Акимович, — с ходу приступил воевода, — время боле не терпит! Давай-ка в путь-дорогу, поспеша, направляйся. Иначе мне в раз-другой не сдержать людишек — и покои мои разнесут, и нам с тобой несдобровать!
— Да рад бы с милой душой, но не могу, покуль Марфа сия зловредная не заговорит. Есть у меня к ней спрос наиважнейший о грамотах неких тайных. И без спросу сего не велено мне на Москву ее везти.
— Так уломай ее каким-нибудь манером, прельсти, што ли, чем, ужель с норовистой бабой говорить у тебя ухватки нет?
— Ты вот сам попробуй — кремень, прости господи, а не баба, таковых видать мне не доводилось!..
— И все ж ты рискни, Гордей Акимыч, а тем временем и сынка ее, Викешку, изловим.
— Господи! Да неужто до сих пор не пойман он? Сам же хвалился, что у тебя лесовики — охотники напервейши.
— Так-то оно так, да ведь и тот Викешка далеко не прост есть! Видать, ухваткой злодейской весь в мамашу свою.
— Это уж как водится, — согласился Авксентьев. И с тоскливой обреченностью заявил: — Ну што ж, еще раз попытаюсь… Ежели и сейчас та злонамеренна Марфа ничего не скажет, то, ей-богу, в железа возьму ее. Тако вот, в железах, в Москву и потащится!
И опять было то же самое: и уговоры, и обещания всяческие, а потом и угрозы, когда, едва сдерживая себя, Авксентьев цедил сквозь зубы:
— В остатний раз толкую тебе, более толковать не намерен: или соглашайся, или в железах побредешь пешочком до Москвы самой — не иначе!
— И поднимется рука? — как ни в чем не бывало осведомилась Марфа со своей обычной, холодновато-презрительной улыбкой, доводившей Авксентьева до белого каления.
— А в том не сомневайся! — срываясь на крик, подтвердил он.
— Да кто ты такой есть, штоб на меня, на княгиню издревле славного рода, глазами сверкать да речи подлые вести? Вон отсель — штоб и духу твово окаянного в обители честной не было!..
А тут еще, как назло, широко распахнулась дверь и в просторную келью игуменьи, считай, не вбежали, а почти ворвались молодые монахини, обступили ее, размахивая руками, подняли такой гвалт, словно для них были не писаны строгие правила и каноны обители.
Авксентьев вынужден был отступить. И так повторялось еще дважды. Тогда он, уже окончательно взбешенный, взял с собой десяток городовых стрельцов, вывел игуменью Марфу из обители силой и распорядился временно поместить ее в крайний, отдаленный от других воеводских строений прируб.
Через сутки, в глухую полночь, в дверь этого прируба постучали. Ответа не последовало. Стук повторился еще и еще, но безрезультатно, тогда стрельцы, пришедшие сюда вместе с Авксентьевым, выбили дверь.
Единственное послабление, которое он сделал для Марфы, состояло в том, что он велел надеть ей на руки не большие, «позорные», наручники, а малые, полегче. В остальном же он не отступил ни на йоту от своего намерения.
На сборы было дано самое малое время: вещи, книги и иной немногочисленный скарб Марфы быстренько покидали в повозку, и Марфа вместе с послушницей Аглаей — любимой воспитанницей — не более как через полчаса уже шагала в сопровождении одетых в чуги* конных стрельцов вслед за повозкой по окраинной улице Перми. Повозка побольше, запряженная парой рослых мохнатых коней, где ехал Авксентьев, катилась впереди, также в сопровождении стрельцов, и еще трое замыкали этот невиданный здесь доселе кортеж.
Только на третий день изнуряюще однообразной, до смешного медленной езды понял Авксентьев, что так ему больше не выдержать. Да и стрельцы и слуги хотя и молчали, но он видел, как действует на них такая езда, поэтому решил пока скрепя сердце прервать придуманное им наказание для столь ненавистной ему игуменьи.
Назавтра перед выездом он подозвал старшего над стрельцами пятидесятника и не глядя велел:
— Этих двух посади в повозку, пущай едут, а то мы в Москву до морковкиного заговенья не доберемся…
Марфа, услышав эту новость, и глазом не повела, послушница же Аглая, усаживаясь в повозку, робко произнесла:
— Неужто сердце у него к добру колыхнулось, а, матушка?
— Дите ты еще неразумное, Аглаюшка… Да у таких, как он, рази ж может сердце быть? Едино што льда кусок — не боле…
По заведенному Авксентьевым порядку, в середине дня на час-другой останавливались на обед. Варили кашу аль припасенное в дорогу вяленое мясо и рыбу, пили квас, кормили коней, отдыхали на траве.
День был прохладный, но погожий, «раздумчивый», как любила называть такие дни Аглая, когда она, почти не разговаривая ни с кем, ходила-бродила, как неприкаянная душа, а то вдруг останавливалась, будто споткнувшись, и, задержав на чем-нибудь взгляд, думала, думала, словно для нее в этот миг не существовало ничего на свете.
И все же, несмотря на это, по натуре была Аглая бойкой, непоседливой и далеко не робкого десятка. На ее жизненном пути очень мало было счастливых, безоблачных дней, а дни, вернее, периоды потрясений и несчастий шли едва ли не чередой друг за другом.
Отец Аглаи, думный дворянин Смирницкий, был, несмотря на солидные уже годы, человеком неуравновешенным, увлекающимся и, что особо печально, совершенно равнодушным к судьбе единственной дочери, в которой он с ранних лет видел только черты нелюбимой, даже ненавистной ему во многом жены. После неожиданной ее смерти, вызвавшей на Москве немало сплетен и пересудов, он быстро женился на дворянской дочери почти вдвое моложе себя.
Аглая пришлась мачехе, что называется, не ко двору, и отец, во всем потакающий молодой жене, быстро сплавил нелюбимую дочь в дальние земли, в Пермь, к своему брату, отставному воеводе, оригиналу, вольнодумцу, чудачества которого были неиссякаемой темой для разговоров окрестных жителей. Семьи тот не имел, женщин сторонился, дворовые его, начиная от поваров и хлебопеков, были сплошь из отставных стрельцов, участников его многочисленных былых походов.
Он и Аглаю встретил необычно: расцеловавшись с ней, он, не читая, отбросил письмо брата и тут же, внимательно, с эдаким оценивающим прищуром оглядев ее, заявил:
— Видом приглядна весьма и весьма, но, что само главно, статью удалась — не в своего отца, балабола-гуляку, а, скорее, в меня, дядьку твоего родного. Эх, тебе бы молодцом-воином родиться! Ну да ничего, я тебя делу воинску как надобно обучу: ты у меня и к пальбе из пищалей приноровишься, и на кониках поскачешь!..
— Это как же? — сразу насторожившись, спросила Аглая, испуганно глядя на его тщательно выбритое на иноземный манер, в тяжких морщинах лицо с большими волнистыми усами и властно-холодноватым взглядом прищуренных глаз.
— А вот так, — с легкой, но неуступчивой улыбкой ответил он, — ты у меня воительницей станешь, яко были в древности таковые, в стране Амазонии. Слыхала аль нет такое?
— Да нет, дядюшка, — все еще не оправившись от столь необычного для нее разговора, отвечала Аглая.
— Я тебе почитаю о том как-нибудь в вечер. Грамоте-то, поди, не разумеешь?
— Разумею, дядюшка, и чтению, и писанию довольно.
— Того и лучше, сама прочтешь. А сейчас пойдем-ка в прируб платяной да нитошной, баб-швеек сей же час велю из деревни пригнать, они тебя вмиг обошьют-оденут и в празднично, и в обыденно, но попервах же воинску одежду штоб спроворили — мои стрельцы подсобят-подскажут тут…
И одежа воинска была, и стрельбе, и на «конях скаканию», до изнеможения порой, довольно обучилась Аглая. Но дядюшка вскоре умер от сердечного удара, и она, согласно воле отца, высказанной им в письме, попала в монастырь, под опеку игуменьи Марфы. Той же всегда удавалось распознавать почти без ошибки темные и светлые стороны многих человеческих душ, потому она вскоре без колебаний приблизила к себе, а потом и по-настоящему полюбила Аглаю…
Вечерами на стоянке всегда раскладывали два костра: один большой — для всех, костер помене — для Марфы и Аглаи, так как они отказались принимать пищу вместе со всеми и готовили на костерке сами что придется. Это давало им возможность спокойно молиться и беседовать перед сном.
Так было и в этот вечер. Стылая мгла так плотно укутала деревья, что, казалось, ни один звук не мог проникнуть сквозь ее завесу. Именно в это время и приоткрывалась по-настоящему таинственная, скрытая до поры жизнь леса, его удивительно многозвучное дыхание, а может, и недовольство или иное что, неподвластное людскому понятию. Разве что совсем равнодушный, безразличный к природе человек не мог заметить этого.
Аглая, с ее трепетной, чуткой душой, сохранившей лучшие качества среди испытаний и суровости жизни, всегда незамедлительно откликалась на каждый, пусть и малый, знак природы… Пощелкивали в костре ветки сушняка, разбрасывая вокруг дымно-алые крохотные угли, и отсветы от них отражались в широко открытых глазах Аглаи. «Мало, ох мало в тебе, отроковица, молитвенного усердия, — не раз говаривала ей Марфа. — Несет тебя все, несет куды-то, яко глину в половодье, а пора б тебе и о судьбинушке своей поразмыслить, куды стопы дале направить…»
Когда костер почти потух и Аглая с Марфой стали укладываться ко сну, Марфа ощутила вдруг какое-то непонятное беспокойство. Она внимательно огляделась вокруг, все вроде бы было по-прежнему: сторожевой стрелец неподалеку от них, еще два стрельца, время от времени обходившие лагерь, у костра — обычное сонное безлюдье, и все ж тревога почему-то не оставляла Марфу. Она прилегла набок, подождала так некоторое время, и вдруг будто кто-то подтолкнул ее. «Был, был кто-то за спиной, — едва не вскрикнула она и тут же одернула себя: — Нельзя, нельзя… Аглая всполошится да и стрелец, что охранял их, тоже. Рядом вон сидит, клюет носом».
Перекрестившись мысленно, она хоть и с опаской, но повернула голову и, присмотревшись, увидела близко-близехонько, ну, руку протянуть, лицо Саввы-монаха, приписанного к ее теперь уже бывшей обители. Он приложил палец к губам, прищурившись, покивал несколько раз головой: молчи, мол, матушка, — и, прижимаясь к скользкой от росы траве, ловко пополз, тут же очутившись почти рядом с Марфой. Та, от волнения покусывая сразу высохшие губы, откинулась — легла на спину, а Савва, не поднимая головы, тоже волнуясь, зашептал:
— Матушка Марфа, здрава буди отныне и вовек!.. Послушай меня, недостойного, што молвить учну… Ноне под утро, како туман покучней возьмется, я вот такожды за вами приползу — готовы будьте… Ни лапотины никакой, ни чего иного-протчего с собой не берите, налегках уйдем… Потом добудем все что надобно.
Марфа тут же хотела расспросить его подробнее, но одумалась: «К чему это? Все сказано, промыслено как надобно. Ай да Савва, юн летами, а сметлив довольно. Вот они, таежны монахи — ходоки по местам незнаемым, безлюдным вовсе. Иному московскому монаху, хоть будь он и трижды разумен да в грамоте крепок, таковое и вовек не придумается, не приснится…» Марфа как могла покивала.
Савва вытащил из-за голенища сапога небольшой нож с длинным тонким лезвием и концом его покрутил что-то в замке оков. Они упали у ног Марфы. Савва подобрал их и тут же сунул за пазуху.
— Вы тута затаитесь покуль, Акинфий присмотрит, а мне еще дельце едино сотворить надобно, я скоренько…
К утру поползли из-за деревьев туманы: плотные, будто нарочно сбитые, ложились белесыми вязкими полосами друг к другу, так что вскоре ничего уже нельзя было различить на расстоянии вытянутой руки.
Стрельцы у большого костра забеспокоились было: надо, мол, посмотреть, что там и как, — но третий, присматривающий за Марфой и ее послушницей, подойдя к костру, успокоил товарищей:
— Сидите, сидите, мои монашки завернулись в покрывала, как сурки сидят. Да и куды они денутся? Я к вам сюды и то едва добрался — не туман, а морока адова…
А между тем, как слепые котята за кошкой, Марфа с Аглаей, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу, брели в тумане вслед за Саввой. Он поминутно поворачивался к ним, подбадривал вполголоса как мог:
— Еще, еще маленько, скоро вот и на месте обоснуемся…
«Господи, на месте… Да как ты найдешь его в тумане эдаком…» — думала Марфа, переходя от надежды к отчаянию, все еще взволнованная и растерянная крайне, стараясь ни на шаг не отстать от Саввы и ни на секунду не выпуская из руки подрагивающую от волнения руку Аглаи.
…Ах, Савва, Савва, истинно божий человек, видно, потому и везет ему в делах таких, ведь не ошибся нисколечко — привел Марфу с Аглаей к кустистому взгорку, у которого встретил их Акинфий.
Только теперь, чуть успокоившись, оценила полной мерой Марфа то, что сделали для нее и Аглаи эти люди — ее люди — крепостные, которых вольно или невольно и обижала, и строжила она порой. Вот как в трудную для нее минуту открылись их души. Вроде бы как против воли кольнуло что-то в сердце Марфы. И она ощутимо почувствовала вину свою перед этими людьми. И низко поклонилась Акинфию и Савве.
— Да возблагодарит вас Бог, иноки честные, а я извечной должницей вашей пребывать буду…
Монахи смешались, а Акинфий, чтобы скрыть смущение, тоже низко, торопливо поклонился и, сдерживая голос, сказал:
— Сюды, сюды за кусты схоронитесь покуль, матушка, ждать нам надобно…
— Чего? — насторожилась удивленно Марфа. — Разве не разумнее уж как там, но от стана сего проклятущего уходить-выбираться?
— Дозволь слово молвить, матушка, — прав брат Акинфий, — вступил в разговор Савва. — Яко роса сойдет, они в обрат кинутся — вас имать… Мы же здесь на пригорке во камешках отсидимся, а опосля своей дорогой пойдем, котора им и на ум не придет. А сейчас, с твово разрешения, матушка, я вновь поползаю — погляжу, как там сторожа-охранители наши живут-могут.
Савва отсутствовал не более получаса, и к его приходу, будто по мановению волшебной палочки, неожиданно стал расползаться клочьями туман. Возможно, он продержался бы и до вечера, но, как это нередко бывает в здешних местах, со стороны моря ударил, распаляясь в снежной ярости, шальной ветер, и, вроде бы совсем не по погоде, выкатилось из-за бесцветной хмурости яркое веселое солнце. Вслед за этим над станом раздался по-бабьи истошный крик, хотя кричал, без сомнения, сам Авксентьев.
— Меня, дворянина родовитого, как последнего татя, увязать позволили! — неистовствовал Авксентьев. — Сгною в застенке, на дыбе у меня покорячится стража така. В кнуты вас, в железа, так, эдак и распротак мать вашу!
И тут же загомонили стрельцы и слуги, увеличивая вокруг сумятицу столь же бестолковыми криками.
Кричать им было отчего. В повозке с оборванными сетчатыми и меховыми пологами лежал на пачке волчьих шкур боярин Авксентьев — лежал, но в каком виде! Руки и ноги его были крепко, со злом, как говорили здесь, скованы, а изо рта был только что вынут плотный тряпичный кляп.
Уложен Авксентьев был тоже не как-нибудь, а с «задумкой» — все попытки его вырваться или даже подвинуться немного исключались, и лишь пылающие неизъяснимым бешенством глаза на свекольно-багровом жирном лице беспрерывно бегали из стороны в сторону.
Авксентьев схватил только что снятые с него оковы, почему-то быстро, но очень внимательно осмотрел их и едва что не в самое лицо сунул стрельцу:
— А ведь сей ошейник с опояской вроде бы недавно игуменья таскала, а опосля им меня злодеи неведомы сковали.
— Как это, — в страхе опешил стрелец, — наваждение разве како?
— Наваждение?! — все же не выдержал, вновь сорвался на крик Авксентьев. — А ну сдерни-ко с них покрывальцы.
Стрелец старательно затрусил к пленницам, разом сдернул покрывала. Теперь уже все стоявшие вокруг потухшего костра зашумели, заговорили, потому что под покрывалами не было ни Марфы, ни Аглаи, а валялись лишь кучи взбитого, перевязанного веревками тряпья.
Несусветному беснованию, охватившему Авксентьева, казалось, не будет предела. Он бегал вокруг повозок, потрясая оковами, судорожно зажатыми в руке, щедро раздавая направо и налево зуботычины стрельцам, выкрикивая при этом страшные в своей богохульности проклятия. И стрельцы, и слуги его при этом бестолково сцепились у возов, не зная, как и Авксентьев, что делать, как быть далее…
Первым одумался стрелецкий пятидесятник. Он бесцеремонно схватил Авксентьева за рукав:
— Стой! Да охолонь ты, Гордей Акимыч. Не рви душу-то без толку…
— А-а-а! Вас тут, указчиков, пруд пруди… Смотреть надобно было — это ж рази стрельцы? — тако изгольство допустили…
— Спросим, спросим с тех стрельцов! Но в час сей наипервейшее дело надобно решить: как нам дале быть, как ту игуменью адову ухватить-поймать?
Вновь закричал, едва не взвыл Авксентьев:
— С твоими-то стрельцами поймать?.. Ты думаешь, дурни ее отсель тащили? Тако дело ой какой голове под стать!..
— А все ж таки как дале быть?
— А не знаю, не знаю! — взвился в очередной раз Авксентьев.
Через некоторое время, когда он поутих и его примеру последовали почти все, кто был тогда на поляне у повозок, Марфа, оценив, видно, по-своему все только что произошедшее почти перед ее глазами, неожиданно проговорила:
— Все мне понятно, окромя одного: как это железа, што у меня на руках были, оказались вдруг у того московского дворянина и кто это его, сердешного, оковал да упеленал столь скоренько да ловко? Озорство здесь было невиданное аль промысел колдовской, поясните, люди добрые, сие игуменье бедной, а такожды втолкуйте, к чему действо сие и как его понимать надобно?
Поскольку все молчали, стараясь не глядеть на Марфу, то она вновь, теперь уже построже, спросила:
— Так што, ответствует мне кто по делу сему аль нет?
— А сие, думаю, по воле небесной свершилось, — неожиданно проговорил Савва, — ибо сказано в Писании есть: «Тебе за неправду и корысть злую отмерено будет той же мерою». Злобствовал, злодействовал безмерно тот дворянин московской, за то и получил напоминаньице: дескать, оглядись в раз следующий. Правда-то всегда о себе напомнит, а то и накажет. Тут она — посильней кривды… Да ты, матушка, не бери в голову. Шумство сие невеликое, сотворено оно справедливо. Ведомо мне, што так аль почти так творил, а бывало и посильнее, содруг наипервейший наш Викентий, дай ему, Господи, добра да здоровья поболе в схватках с теми, кто супротив людей православных да веры нашей становился!
Слова Саввы, да еще произнесенные с редким достоинством, не то что удивили, а, скорее, поразили Марфу. Она приблизилась к нему, как бы все еще сомневаясь, что только что слышала такое от всегда скромного, как-то незаметного в обыденной жизни Саввы, и благословила его тут же, поцеловав в лоб, осторожным материнским поцелуем, затем немедля отошла в сторону, низко склонив голову.
Глава 3
Наконец пришел день, когда после утомительного, изматывающего душу пути по непроходимым чащобам, трясинам, средь болотных кочек Дионисий с Викентием увидели с пригорка Марфину обитель и в предвкушении скорого и по-настоящему благодатного отдыха заспешили к бревенчатому взвозу, ведущему к массивным воротам.
Уже через несколько минут разочарование, да еще какое, встретило их: не было ни ворот, ни массивной бревенчатой ограды, ни зоркого пригляда монахинь-привратниц. Вокруг безлюдье, обрывки одежды, половичков, битая посуда — полный разгром.
Впечатление это еще более усилилось, когда они прошли по кельям монахинь, по трапезной, по коридорам, ведущим в монастырскую домовую церковь.
Только ее, видимо, убоявшись расплаты за содеянное, и не тронули погромщики, в остальных же помещениях обители, и особенно в келье игуменьи, они натешились вовсю: сорвали обивку стен, все до одной половицы, до основания разломали печь…
— Видишь? — указывая на это, хмуро проговорил Дионисий. — Каждую щель обшарили, каждую тряпочку, каждый кирпичик, все искали тайник с бумагами, а он и не тут вовсе…
Несмотря на быстро подступившие сумерки, теперь уже Дионисий вел Викентия по лесу, да по такой чащобе, столь уверенно и смело, что тот только диву давался.
Неожиданно будто из-под земли выросла хижина, аккуратная, обмазанная полосами глины с вкрапленными россыпями слюдяных блесток. Внутри чисто выбеленный потолок был густо увешан пучками высушенных трав и корений.
Быстро развели печку, сгоношили куда как незатейливый, как сказал Векша, ужин из седла молодого оленя с диким чесноком. А Дионисий и вовсе затеял «лесное угощение» — напоил охотничьим баловством, напитком, которого ранее Векше пробовать не доводилось. Был он чувствительно ароматен, удивлял вкусом; обволакивающая терпкость его была и медовой, и кисловато-приторной и не то чтобы пьянила, а лишь слегка кружила голову.
— Который раз пытаю тебя, отче… — начал было Викентий, но Дионисий перебил его:
— Знаю… Опять станешь вопрошать, какова дале нашей жизни дорожка будет? А ответ тот же: матушку Марфу, матерь твою, попервой выручай, потом все остальное протчее.
— За память твою о родителях моих поклон тебе, отче, земной — трижды. Одначе матушка Марфа, думаю, ни в каких погибелях вражьих не сгинет — все пройдет, все вынесет: кремень ее сердце, гранит ее естество, спаси и сохрани ее Господи!..
— Матерь твоя, Марфа, достойнейшая из достойных будет. Но уж больно в страшны руки попала, — им любая наистрашнейша пытка за малу шутку идет, эти уж постараются — где мечом, где топором, где железом пыхлым — своего добиться.
— Да што ж тако ныне в миру деется! — едва не сорвался на крик Векша. — Туги, да испуги, да лжи потуги вкруг обступают. Что скрывать, что голову клонить, хотя бы и матушке моей, — каки таки тайны у ей быть могут?
— Сыне, сыне… сути дела не ведая, не берись речи вести, тем паче о родительнице своей.
Что мог сказать на это Викентий? Он лишь виновато склонил голову и, увидев, что огонь в печке почти угас, бросил на багряные угли охапку сушняка. Вспыхнули золотистыми огоньками россыпи пихтовых иголок, пламя осветило скорбно-задумчивое лицо Дионисия. Они потом долго молчали, а когда, помолившись, устроились на ночлег, Дионисий, как бы желая достойно закончить этот разговор, понизив голос, заметил:
— Отец твой князь Андрей думу имел, о которой не раз и не два молвил мне, и была дума та как лебедь белая в небе теплом, налитом, весеннем, мелькнула, пропала, а след долго-долго таял в памяти да в душах людских. А было еще и тако вот, молвил князь Андрей, дескать, негоже нам, людям русским, руки сложивши пребывати, особливо во времена нонешни.
Речь веду о сем, вдосталь наглядевшись да испытав тяготы безмерны на плечах, и в душе своей хотел бы правде истинной да вере святой нашей послужить прилежно в дни остатни. Но сие творить надобно не у трона царска, не по городам и весям, где людишки многи за обычай взяли славить Бога лишь воздыханиями пустопорожними. Жаждет душа моя подвигов духовных, истинных где подале, в местах полуночных и иных незнаемых. Там было и всегда есть место приложения сил человеку русскому настоящее!
Примерно через неделю после того, как Марфе с Аглаей при помощи монахов Акинфия и Саввы удалось столь удачно вызволиться из рук московских посланцев, на их пути показалась таежная Марфинская обитель, вернее то, что ныне от нее осталось после недавнего разора. Марфа понимала, сколь опасно для нее и ее спутников такое посещение. Но было у нее здесь несколько неотложных дел, да к тому же, откровенно говоря, хотелось поклониться в последний раз месту, где она провела не только немало горьких, нестерпимо тяжких минут, но где ее посещали и по-настоящему добрые, светлые мысли, особенно во время молитвы.
В молениях этих Марфа никогда не была эгоистичной, не сетовала на то, что ей, выросшей в роскоши и житейском изобилии, приходится жить сейчас столь скудно, тяжко, а то и голодно. Она желала лишь одного: добра и счастья столь горячо и нежно любимому сыну и чтобы счастье это и добро он не нес только в себе, а безоглядно и щедро дарил окружающим его людям.
Уж на что бывает хмурым небо в этих краях, но в это утро хмурость превзошла все мыслимые пределы: угольно-черные, со зловещим фиолетовым оттенком облака опустились к земле так низко, что, казалось, у них не хватит силы перевалить через стену елей на ближнем взгорке и они останутся здесь навечно, сея вокруг вязкую, ощутимо тяжкую стылость. Но именно из этой туманной стылости и вышли, появились неожиданно на разрушенном подворье обители Викентий с Дионисием, и здесь же тогда раздался отчаянный в своей радости и любви крик побледневшей и едва устоявшей на ногах Марфы.
Когда минули минуты первых волнений, вопросов — сумбурных и порой бестолковых, когда каждый хотел рассказать другому что-то, как ему казалось, самое важное, Марфа первая взяла себя в руки, уже холодновато и бесстрастно, как она говорила обычно, велела:
— Поспешаем в церкву, ибо забываем мы, што радость, даже самую малую, надобно прежде всего к Богу нести, а уж потом к людям!..
Все направились в церковь обители, а Дионисий, придержав Марфу за локоть, сказал негромко:
— Мать Марфа, моления надобно бы творить кратко: чую, московски посланцы, злобой умываючись, по следу нашему идут. Да и воевода здешний, их соприятель, не преминет в обители сей вот-вот побывать…
— Отец Дионисий! Неужто все так неладно будет?
В голосе Марфы послышалось столько отчаяния и боли, что он, глубоко тронутый этим, сказал:
— Добра самой малости нам тут не ждать. Благословясь, в путь дальний ноне же тронемся.
— Куды ж это, господи, аль места закрытные ведомы тебе?
— Укрыть нас ноне может только морюшко одно, аль забыла, мы ведь не раз с тобой об этом беседу вели.
— Значится, к Печерским устьям?
— Только туды, иного ничего верного не вижу.
— Кстати, у меня и человек один надежный с тех мест был недавно, как раз перед тем, как нас посланцы московски ухватили. — Марфа широко перекрестилась и согласно склонила голову.
Дионисий, поклонившись в ответ, добавил после недолгого раздумья:
— Еще на время краткое задержись, мать Марфа. А ну, — повернулся он к Викентию, — представь-ка пред родительски очи ту благодать, что в холстине заплечной носишь…
Викентий тут же снял с плеча дорожную суму, вытащил аккуратно завернутую в чистое полотенце икону, найденную ими в разрушенной часовне на берегу озера.
Тут же повторилось то, что произошло, когда ее впервые увидели Дионисий и Викентий. Верно, никто не вскрикнул, не обмолвился восторженными словами, но молчание, тут же воцарившееся в монастырской церкви, было красноречивее всяких словесных излияний.
Лишь через несколько минут заметно взволнованная Марфа, и так и эдак приглядываясь к иконе, проговорила приглушенно, даже сдавленно чуть:
— Господи всемилостивый! Неужто я очами в ошибку вошла? Да нет, быть того не должно! Зрила я уже образ святой сей, зрила!.. А было сие во главном храме Соловецком, где мне с супругом моим богоданным князем Андреем на богомолье побыть довелось. К образу сему народ шел беспрерывно и днем, и в ночное время. Как оповестили нас бывшие тут же монахи, образ сей значения особого, именуется «Святым знамением дорожным», прислан в монастырь самим патриархом византийским и предназначен для паломников, уходящих в самые дальние пределы Югры, для подвигов духовных и становления веры православной. Ума не приложу, как образ сей ценности превеликой в дебрях здешних оказался, ведь он где-то на путях морских должен быть, на кораблике, на щегле крестовой впереди, истой святостью своей дорогу к славе Христовой осеняя!.. И еще помнить надобно, что ноне на создание образа, подобного этому, ни мастеров, ни красок не найдешь, пожалуй, утеряна да времечком поизничтожена суть его…
— Возблагодарим Всевышнего за находку таку — дар судьбы бесценный! — малое время спустя проникновенно проговорил Дионисий и, помолчав немного, уже по-обыденному негромко произнес: — Помолимся, в путь дальний отправляючись.
Марфа тут же первой опустилась на колени, за ней опустились все остальные, и благостное приглушенное пение поплыло под низким сводом монастырской церкви.
Издавна на Руси бытовало присловье, что добро к добру тянется, а зло к другому злу спешит. Почти по этому присловью получилось у московских служивых людей стольника Коробьина и дворянина Авксентьева, когда они, обуянные злом и жаждой мщения, встретились на лесной просеке.
И хотя встреча эта началась неудачно, когда в сумерках, не разобравшись, кто и куда идет, открыли пальбу и уложили двух стрельцов и охотника, но Авксентьев и Коробьин встрече этой были крайне рады.
Потери, обиды, сетования на такие многообещающие, но несбывшиеся планы-намерения и страстное желание любой ценой догнать, по-своему расправиться со столь ненавистными обидчиками — все это объединяло, давало хоть малую надежду на благополучный исход их рискованного дела.
…Пили, говорили, спорили до хрипоты и до хватания друг друга за грудки и едва что не до драки и все ж решили, поровну поделив людей, тут же направиться в погоню неотступную за Дионисием и Марфой, а также отправить двух гонцов к воеводе в Пермь, дабы известить его обо всем случившемся.
Но планам этим также не суждено было осуществиться. Поутру, когда Коробьин с Авксентьевым стали прощаться, перед тем как уйти в разные стороны, впереди меж деревьями замелькали люди в непривычных глазу серовато-белых одеждах. Их становилось все больше и больше, и вот они уже плотным кольцом окружили московских посланцев и их людей.
— Вогулы пришлые немирны… — хрипло, но достаточно громко, чтобы услышали другие, произнес один из охотников Авксентьева. — Усмирили их недавно, утишили-то в делах, а они вот оно вдругорядь колготятся!
Вогулы почти не стояли на месте: суетились, выкрикивали что-то по-своему, перебегали от куста к кусту, и кольцо их заметно сужалось. Авксентьев, решив опередить возможные неприятные события, собравшись с духом, вышел вперед в сопровождении двух стрельцов, державших наизготовку заряженные пищали.
— Эй вы, там! Кто по-русски хоть малость речет, выходь, поговорим!
Авксентьев повторил это раз и другой, стараясь, чтоб голос его звучал как можно смелей и солидней, хотя внутри у него буквально все цепенело от страха. Наконец перед ним предстал сухонький, невзрачный по виду старик вогул, поглядывавший как-то по-особому хитро.
— Ты пошто кричишь столь шибко, — почти правильно выговаривая русские слова, спросил он. — Лес не любит, когда шумят так вот…
— Лес? — недоуменно переспросил Авксентьев. — При чем тут лес? Вы пошто дорогу преступили нам?
— А-а! — почти радостно, как мальчишка, выкрикнул старый вогул. — Вижу, боишься, ох, боишься ты, большой русский воевода.
— Я не воевода, а государев человек из Москвы. Еще раз пытаю тебя, пошто вы…
— Нет, боишься, боишься! — перебил Авксентьева, по-прежнему неизвестно чему радуясь, старик.
И тут же лицо его утратило игривое выражение, брови густые, как два клочка слежавшейся соломы, сошлись к переносью.
— Правильно боишься, — уже строго, даже важно проговорил он, — но ты не бойся, мы недавно бунтовали маленько, теперь, тоже маленько, подождем. Пропустим вас, но только Векшу нам отдайте…
— Какого еще Векшу? — сердито осведомился Авксентьев и, повернувшись, спросил стоявшего неподалеку Коробьина: — Степан Иванович, каков Векша им еще потребен?
— Охотник здешний, известный злодей из злодеев — я ж говорил тебе, это он у меня Дионисия из рук вырвал…
— Слышал? — сказал Авксентьев старику. — Нет у нас Викеши того, провалиться бы ему сквозь землю, чернодельцу!..
— А ты посмотри, посмотри, — настаивал старик, — тот Векша уже не ваш, его наши охотники в жертву хотят отдать великому богу Нуми-Торуму, и таких богов гневить нельзя, нельзя!.. — Старик произнес последние слова почти с подвыванием и даже закатывал при этом глаза.
— Да тьфу ты, будь неладна, — в сердцах воскликнул Коробьин. — Ну иди смотри, ищи сам, вот они, все наши люди, говорю в раз остатний: нет Викеши с нами, нет!
Старик кивнул, вроде соглашаясь, но все ж подошел еще ближе, долго и пытливо разглядывал каждого русского, стоявшего сейчас на поляне. Закончив осмотр, он подошел к Авксентьеву все с той же насмешливой детской улыбкой, хотя плохо скрытая недоброжелательность явственно звучала в его голосе.
— И вправду, нет Векши, — сказал он, — но ты, думаю, был бы лучше его: такой большой, жирный. Ай, какая хорошая жертва для нашего бога! Может, крикнуть воинам, вон их все больше и больше набегает сюда! — Старик указал на плотную толпу злобно улюлюкающих вогулов…
Авксентьева при этих словах передернуло, разноцветные круги от испуга замельтешили в его глазах. Старик же, рассмеявшись уже в голос, пошел к нетерпеливо поджидающим его вогулам.
И двух месяцев не прошло после этой столь памятной для него встречи, когда Авксентьев, уже вновь настроившийся на спокойное московское житье, был вызван к одному из набольших бояр Семену Беклемишеву.
Вот уж не думал не гадал он, московский думный дворянин Гордей Акимович Авксентьев, досыта нахватавшийся тягот и горестей безмерных в недавнем походе в земли пермские, что ему опять выпадет такая муторная, еще более страховидная напасть — аж в Югру саму тащиться, будь она трижды тридцать раз неладна!
Постарел он аль умельство в обращении с набольшими людьми потерял, но только никак не смог отговориться от злокозненного упыря того, Беклемишева-боярина. Тот на отговорки Авксентьева тако зыркнул глазищами-то, прости господи, едва что не насквозь прожигая.
— Ты, Гордей, не юли тута, нашкодивши — голову в песок не прячь. Аль забыл про соузника свово — стольника Коробьина, царствие ему небесное?..
При этих словах Авксентьев не то что похолодел, а считай, что сердце у него льдом взялось. «Ишь, кого вспомнил, ишь!.. — билась в голове тревожная мысль. — Сами же повадили, под топор подвели человека невинна, а ноне и меня, штоб припугнуть, его соузником кличет. Ах, хитрован-зверователь, како размахнулся…»
Конечно, думая так, Авксентьев больше бодрился, а сам уж знал: не то что в Югру, а и в тридесятое царство пойдет, лишь бы не слышать, не видеть злодея сего, хоть и был он в горлатной шапке и боярской шубе…
— Ах как тогда в лесах пермских опростоволосился я! — едва что не казнил сам себя Авксентьев. — Упустил ту злокозненну Марфу. Не будь сего, рази надобно было бы вновь тащиться имать ее, да еще куды, куды?..
Боярин Беклемишев, видя, что Авксентьев сник и слова не вымолвит боле, чтоб отказаться там или как, сменил гнев на милость.
— Ну вот, вижу, понял ты суть дела сего — так оно и ладненько будет, Гордей Акимыч, — уже снисходительно улыбаясь, проговорил он. — Дадим тебе для бережения и исполнения дел надлежащих десяток стрельцов с сотником, а покуль ты со стрельцами теми до Печерских устьев доберешься, верные наши людишки в устьях тех нужный делу спрос-расспрос поведут. Ведомо, что будто бы в Югру саму намерилась сокрыться та злокозненна Марфа-игуменья и вся ее свита преподлая с ней. На земле, на море, в тундрах и лесах хладных, хоть в преисподней ты мне ту Марфу с приспешниками достань-расстарайся. Грамоты подорожны у вас будут с верху самого, любой воевода, даже самый норовистый, перед ними голову склонит и услужить вам рад будет. Во всем же прочем — сам думай, да смотри не зевай! Ну, а за царем да за нами служба не пропадет…
Через несколько дней непогожим дождливым утром вместе с назначенными ему в путь стрельцами покидал Авксентьев Москву. На душе было муторно, горько, сердце щемило от предчувствия неведомых тягот и опасностей, поджидающих его на тундровых, а то, глядишь, и на морских дорогах. Авксентьев, чтобы не думать об этом, все чаще и чаще закрывал глаза, пока и вовсе не задремал под мерные покачивания крытой повозки.
Жадность и корысть московских бояр хорошо были известны думному дворянину Авксентьеву. Уж кто-кто, а он-то знал, как порой и для важного государева дела с них и копейки лишней не вытянешь, а тут так вот развернулись… Ну, не все, не все, конечно, а эти вот двое, Семен Беклемишев и Петр Боголюбский — главные злодеи его жизни, как их теперь именовал про себя Авксентьев.
— Ох, видно и прижало их это дельце с Дионисием и княгиней Манефой! Прижало, приструнило, заставило, пусть и на время, про жадность свою забыть…
Авксентьев сразу понял это, видя, как встречают его на ямщицких станах в селениях да редких крепостных городишках. Стоило ему представить грамоту, подписанную боярином Петром Боголюбским, тут же щедро одаривали винами с водкой, закусью наипервейшей, ловили на лету каждое слово, чтобы тут же исполнить любой приказ иль пожелание. Особо не торопились, но и зевать — время тянуть, как полагал Авксентьев, им не к лицу было.
Так незаметно, по лесам, по тундровым увалам, а потом и по самой большой тундре добрались и к Печерским устьям — так в то время именовали земли в месте слияния печорских вод с морскими.
Кроме гиблых для корабельщиков бесчисленных галечных россыпей и ожерелий каменистых островов, называемых «кошками», было здесь и немало глубоководных проток с крепкими берегами, удобными для стоянки и постройки судов. Именно здесь, на потаенных плотбищах, из сплавленных по Печоре сосен и елей мастерили умельцы знаменитые северные кочи — небольшие, приспособленные для плавания в морях среди льдов одномачтовые парусники. На тех кочах ходили и поморы — охотники за морским зверем, и приискатели новых землиц, а нередко и ватаги вольных людей, неподвластных ни царю, ни воеводам.
Те пытались навести здесь свои порядки: посылали стрельцов «зорить вольны плотбища» и ковать в железа мастеров-корабельщиков, сооружавших кочи для дел разбойных разбойным же людям. Но спустя какое-то время все возвращалось, как говорится, на круги своя, ибо, изничтоженные в одном месте, плотбища вскоре возникали в другом, а народ здешний жил по-прежнему присловьем: «Хочешь добрый коч иметь, научись мошной звенеть». И, наперед государевых и воеводских заказов, вылетали в моря хладны легкокрылые птицы-кочи безначальных вольных людей.
Были у тех плотбищ и поселки малые, встречались и селения покрупней, и даже стояла крепостица с двумя деревянными башнями и с бревенчатыми наклонными стенами. Было здесь несколько улиц кривобоких домишек, ряды рыбацких малых и больших шалашей, купеческие лабазы и даже кабак, выделявшийся непривычной для здешних мест просторностью и добротностью постройки. Именно в этом селении с крепостицей и принял местный воевода московских посланцев, чей приезд напугал его до чрезвычайности, ибо он впервые за долгую службу удостоился лицезрения столь важных грамот, предъявленных ему Авксентьевым.
Устроил воевода Гордея Акимовича в лучшем домике поселка, рядом же разместили стрельцов и прибывшего с ними казачьего сотника Клима Егорова. Кряжистый, седоусый здоровяк помор, неизвестно какими путями очутившийся на стрелецкой службе в Москве, с первых дней знакомства с Авксентьевым пришелся тому по душе. Обычно Авксентьев плохо сходился с людьми, был заносчив и груб, но тут круто изменил своим обычаям, звал его почти всегда Климушкой, а в пьяном виде величал то ли в шутку, то ли всерьез «господином сотником»!
Минула неделя, другая, но обещанные боярином Беклемишевым тайные знатоки Печерских устьев все не давали о себе знать, и это начинало беспокоить Авксентьева. «А ну как по-змеиному проскользнула где-то Марфа злокозненна со товарищи? Куды тогда кинуться, с кем совет о деле столь важном и тайном держать? Может, с сотником нашим Климом словцом об этом перекинуться — ведь умен, умен гораздо, не по месту, не по чину, но ведь нельзя, нельзя в таком деле открываться кому!.. Вот незадача греховна прямо-таки».
На душе Авксентьева было столь пусто и тоскливо, что он едва не застонал.
— Эх-х-х, судьба-судьбинушка! Пойду в кабак напьюсь!.. — совсем по-пьяному воскликнул Авксентьев, хотя не пил уже несколько дней.
Он быстро оделся, заглянул по пути в соседнюю избу, где располагались приехавшие с ним стрельцы и сотник Клим. Он подозвал его и уже за воротами сказал:
— Отправимся-ко Климушко в поход невеликий, побеседуем душевно, в кабак наведаемся, винца-зеленца изопьем малость.
Егоров к таким походам привык, лишь согласно склонил голову, и уже через несколько минут они шагали вдоль берега протоки, плотно уставленного баркасами, расшивами, ладьями и кочами, то есть всем тем неказистым на вид, «топором изготовленным» парусным поморским флотом, суда которого знали на Мурмане, на Груманте, в русских и иноземных морях.
Была и еще одна причина, по которой Авксентьев позвал с собой стрелецкого сотника. Последнее время он стал замечать, что вокруг него крутится какой-то темный народ: нищие, юродивые, пьяные мореходцы и охотники.
Вот и на этот раз, будто поджидая Авксентьева, из-за угла выскочили две цыганки, молодые, повадкой разбойные, уцепили за рукав, затараторили, перебивая друг друга:
— А погадаем, погадаем, красавец боярин!.. Кинь монетку-то, кинь, всю правду-матушку, всю как есть скажем: што было, што есть, што будет тебе на пути морском…
— Постой, — удивился и даже нахмурился Авксентьев, — а откуль тебе ведомо, што я в море намерился?
— А по картам, по картам выходит, красавец ты наш писаный, — еще быстрее затараторили цыганки, а та из них, что постарше, едва что не в душу влезая синими глазищами, склонилась к Авксентьеву и шепнула, жарко дыша:
— А боишься судьбы-то, боярин…
Авксентьева от этих слов покоробило.
— Я те не боярин, и боязни во мне не бывало! На, — сунул он ей в руку деньги, — говори, што там по картам выходит?
— А не примешь в обиду?
— Нет, молви как есть…
Цыганка взмахнула рукой, и колода цветастых карт рассыпалась как по волшебству, заструилась у ней меж пальцев. Тут же одна, другая, третья карта упали к ногам Авксентьева, и цыганка, указывая на них пальцем, повела ворожбу:
— А лихо дело выпало, красавчик, ой лихо! Супротив совести и чести твоей. — Она рассыпала еще с десяток карт. — Вот оно: злокозненные люди тебя посылают добрых людей изничтожить, но ты сам первый при том голову сложишь… Беги, беги зла того… Эта, эта и эта карта говорят, што верны слова гаданья сего…
Мало сказать, что его удивили — его потрясли слова цыганки. «Посылают добрых людей изничтожить…» Что это? Волшебство, другое какое лихо? Нельзя же предположить, что эта местная цыганка могла слышать слова боярина Петра Боголюбского, сказанные ему, Гордею Авксентьеву, в Москве один на один?
Авксентьев посмотрел на сотника, равнодушно глядевшего на гадание, подумал: «А может, все же ему рассказать об этом? Мужик он дельный, языком зря не мелет…» Но тут же испугался этой мысли. «Нет-нет, ни в коем разе нельзя творить тако…» Авксентьев не придумал ничего лучше, как бросить еще одну монетку к ногам цыганки, и тут же, заторопившись, направился с Климом Егоровым к кабаку.
Но, видно, погулять ему вволю было не дано. По дороге произошла еще одна встреча. Теперь на пути встал не то полоумный, не то юродивый какой-то, в старой монашеской рясе, замахал руками на Авксентьева, запричитал:
— Не сотвори зла ближнему свому, особливо ежели он рясы иноческой удостоен! Кто на такого человека руку подымет, тот ославлен и проклят будет и ныне и во веки веков!.. Идущий в море со делом злым сам тем злом захлебнется — бойтесь, бойтесь такого походу!
На этот раз Авксентьев не на шутку испугался, тем более что и сотник Егоров тоже поддался страху и многозначительно вымолвил:
— Неладное чую, Гордей Акимович! Цыганка эта, юродивый вот теперь про одно и то же как заведенные твердят — пугают, будто кто научил их нам путь перекрыть.
— А что тут скажешь, может, и так, может, и так… — задумчиво повторил Авксентьев и тут же решил уже твердо, что в деле таком одному биться — лоб расшибешь попусту.
«Все ж скажу ему, скажу», — наконец насмелился он, в сотый раз, наверное, настороженно приглядываясь к Климу.
Понятно, что он не стал раскрывать все карты до конца, не назвал и московских вдохновителей этого похода, больше жалился на судьбу, втравившую его в столь опасное дело, когда надобно вон что: искать, хватать монахов неких…
— Грех сие, конечно, но ведь служба есть служба, государева особливо: умри, но сделай! Так, что ли? — спросил он у Клима.
Тот спокойно согласился, хотя можно было заметить, что ему не по душе расплывчатые, путаные объяснения Авксентьева о сути их дела.
Авксентьев закончил разговор свой так:
— Не сладилось у нас ноне гулянье, Климушко. По чарке винца дома разопьем, да попрошу тебя побеспокоиться: вижу, что в местах сих ты свой человек, может, узнаешь что, спросишь кого, каки таки слухи-разговоры о походе нашем идут, кто в дельце сем интерес наибольший имеет… Глядишь, и выудим весточку малу, но дорогонькую для нас, а там, дай господи, и лица неки, что в затайке ноне, приоткроются…
— Не лежит у меня сердце к делам таковым: сыск-розыск — сие отвратно мне, но раз по службе потребно выходит, сделаю как надобно, постараюсь…
Он, и верно, постарался… И хотя прямых виновников «сей истории хитрой», как говорил Авксентьев, обнаружить не удалось, все же выяснилось, что приезжие из Москвы, с грамотами большими и с деньгам тож немалыми, нанимали разный черный подлый люд, чтоб они всячески злословили, хаяли да любу напраслину несли на сына дворянска Гордея Авксентьева, будто бы удумавшего неких монахов-паломников со свету свести…
«Ай Манефа-Марфа, ай княгинюшка-игуменьюшка!.. — не только злясь отчаянно, но и восхищаясь по-своему, воскликнул про себя Авксентьев. — Ее разум, ее рука здесь и ничто другое!.. Недаром же московски-то бояришки тако боятся ее. Не сумлеваясь молвить можно, што у ей в Москве до сих пор верны люди в верхах высоких сидят… Таскаться нам тут боле нечего, а то, глядишь, по наущению Марфы той приспешники ее еще како непотребство сотворят… Уходить надобно, уходить, а там уже как Бог даст!..»
А тут еще «судьбинушка», как сказал Авксентьев, сжалилась над ними, подослала-таки долгожданного вестника.
В один из вечеров, когда Авксентьев с Климом Егоровым коротали время у камелька, попивая только что привезенное местными купцами заморское вино, в дверях, постучав осторожно, появился рыжий до яркой красноты молодой монах в заношенном до крайности подряснике и стоптанных рыбацких сапогах. Поводя пронзительно разбойными глазами, повел речь так, как будто он не раз бывал в этом доме и хорошо знает сидящих у камелька людей.
— Велено поведать вам вот что, други мои, приятели сердешны. Что по слову известной вам особы творил, то мой грех — отмолю! А дело, вас касаемое, ноне вот тако выглядит: злокозненная женка — Марфа, коей не монашенску рясу, а вериги носить, расстаралась тут в устьях поперед вас. Коч ей сгоношили лучшим манером по первому разряду, не кораблик — загляденье. Заплатила цену за то не торгуясь и, как говорили здешни люди, боле того! Понятно, что такожды и снарядили и оснастили кораблик тот в дальнюю дорогу… Знаю, спросите вы: куды? Сие дословно поведать не могу, слышал стороной, что известной в архангельских и здешних печерских краях кормщик Гриня Кулемгин зрил тот коч будто бы у Шараповых кошек губы Байдарацкой. Выходит, путь Марфа со товарищи держит к Мангазейскому морю, а может, и в Мангазею саму.
После ухода рыжего монаха Авксентьев, помедлив малость, сказал, вздыхая тяжко:
— А ведь придется, однако, и нам в моря эти трижды неладные пускаться и, страхи отринув, молебен служить о здравии и удаче средь хлябей морских.
Через двое суток коч Авксентьева со стрельцами, охотниками и мореходцами, оставив позади Печерские устья, взял курс вдоль берега к Мангазейскому морю, вручив судьбу свою ветрам и волнам, что пока еще сдержанно и миролюбиво встречали новоявленных путников, стелили им, что называется, легку дорожку по легкой же покуда морской водице.
Глава 4
Уж ты море наше, морюшко хладно, Краса твоя — истинно приглядна. Бунтованье и гнев твой нам свычен, И держим мы его за обычай.Песня вместе с легким попутным ветром и едва заметными полосами ночного тумана плыла и таяла приглушенными отзвуками среди волн. Акинфий, удобно расположившись у кормила, пел неторопко, полузакрыв глаза, и слова этой песни можно было принять за какую-то бесконечную беседу его с морем, наверное, очень нужную и морю, и Акинфию.
А у бережка ты нас, море, не держи, С легким сердцем дале отпусти, А за то тебе сыновий наш поклон С давних пор до нынешних времен.Марфа долго прислушивалась к пению Акинфия, потом негромко спросила сидящего рядом Савву:
— Почто это он в распевы вольны пустился, аль монашеского духовного пения ему мало?
— Прости, матушка, ежели поперек слово молвить буду, — кланяясь, ответил Савва, — но тут духовно пение не к месту есть. Акинфий средь нас самый морской человек — кормщик наипервейший средь корабельщиков и на островах Соловецких, и далече окрест. Он сейчас не только пел, а и обычай старознатцев морских дорог исполнял. Тута место памятно, в Югру саму ворота, — ветры здесь зело буйствуют: волну волной бьют, песок песком да еще роют, выворачивают его, шаром шарят, посему и названо сие место Шаром Югорским… Вот и пропел песню памятную мореходскую Акинфий, соблюл обычай, значится, и дорога нам должна быть поглаже да полегче.
Марфа в ответ лишь покивала согласно и вновь устремила взгляд в серовато-прозрачную, с перламутровым отливом, воду, что, будто отталкиваясь от бугристых, с распадками, берегов пролива, разливалась до горизонта таким привольем, что при взгляде на него становилось больно глазам.
Поморский коч — доброе суденышко: кормилу послушен, на встречной волне устойчив, не дышит в стороны, как конь норовливый. А уж ежели под парусом идет да ветер попутный, то тут уж любо-дорого посмотреть: лебедь степенный черно-белый, да и только.
Акинфий, которому морской ход издавна был за обычай, кормщиком на коче считался. Устрой здесь вела Марфа, но главным советчиком единодушно признавали Дионисия.
Не было случая, чтобы он сказал что-нибудь зря или не к месту, хотя на разговоры был весьма скуп. Важным было и то, что Дионисий, как оказалось, бывал на здешних путях и хаживал аж до самой Мангазеи.
Узнав об этом, Викентий, выбрав как-то минуту, спросил:
— Отче, пошто ты в даль таку удумал аль дела позвали?
— Дела делами, а не мене их людей повидать надобно, кои, по наветам в опалу попав, дни влачат здесь в изгнании горьком.
— Значится, в краях мангазейских и сей день у тебя люди близки найдутся?
— Там оно видно будет, — коротко заключил разговор Дионисий.
Один, второй, третий, десятый день — тут немудрено и со счета сбиться — перед глазами одна и та же картина: слева море сизо-серое, будто изморозью подернутое, размахнулось невесть до каких пределов; справа — тундра, так же велика и бескрайна, и цвету серого немало, только что пополам с ржаво-зелеными и коричнево-голубоватыми травяными полосами-разводами. И что на море, что в тундре, ни вдогонку, ни навстречу — ни кораблика, ни человека, будто и осталось на земле людей-то — вот они одни, что на коче сем поморском спешат неведомо куда.
Еще два аль три дня тако вот прошли и вдруг встреча — да такая, что лучше бы ее и вовсе не было. Берег, вдоль которого всё шли, — невысок, травянист, местами едва над водой виден, — вдруг захохлился, распадки пошли да мысы ступенчаты, нелепые громоздкостью своей. И однажды в полдень из-за такого вот мыса вырвались три казачьих струга, а в них народ, по всему видать — разбойный: свистят, улюлюкают, из пищалей даже раз-другой пальнули…
Дионисий, приглядевшись, тут же сказал:
— Гилевщики — вольный мангазейский люд, таки ни царю, ни воеводам не подвластны, едино Богу…
— Из слов твоих выходит, что нам остается лишь молиться да прощаться друг с другом? — подчеркнуто холодно осведомилась Марфа. — И оборониться супротив сих злодеев нам нечем?
Слова эти, по-видимому, не понравились Дионисию, и он, чуть хмурясь, ответил:
— Оборона у нас всегда едина: молитва к Господу — на него упование, и тебе, мать Марфа, сие не менее моего ведомо…
Отделившись от других мореходцев, обступивших в эту минуту Марфу, Дионисий прошел на нос коча, спокойно глядя на приближающихся гилевщиков.
Ежели по одежде судить, то народ здесь собрался едва что не со всего света: мелькали московские стрелецкие кафтаны, турские кольчуги с серебряными полумесяцами на груди, охотничье полукафтанье, куртки из грубо выделанных шкур животных, дорогие заморские одеяния, подпоясанные кушаками из невиданных цветастых материй, на которых рядом с пятнами смолы и сажи сверкали самоцветы, бывало что и цены несказанной.
А уж про оружие гилевщиков говорить — тут и слова не всегда найдутся: пищали заморские большие и малые, сабли, синевато поблескивающие бесценной дамасской сталью, восточные ятаганы и знаменитые обоюдоострые кипрские кинжалы. За годы существования Мангазеи каких только купцов и людей воинского дела не перебывало на ее путях, и почти каждый из них продавал, менял, а то и терял оружие, служившее в то время наряду с соболями главной разменной монетой. Чем ближе подходили струги, тем меньше было слышно криков на них, а когда поравнялись бортами — не то что крики, но и разговоры на стругах смолкли.
Конечно же, вольные мангазейские люди еще издали разглядели укрепленный на верхушке мачты тускло поблескивающий под неярким солнцем серебряный крест. А когда на коче сбросили парус и на той же мачте обнаружилась еще и икона Николая Чудотворца, или, как говорили тогда поморы, Николы Морского, то все гилевщики обнажили головы, помолились, помолчали достойно.
С большого передового струга на борт коча перебрался молодой еще, рослый, аккуратный фигурой мужик в кольчуге с орлом на груди и в шлеме с серебряными насечками.
Внимательно оглядев всех, кто был на палубе, он задержал взгляд на Дионисии, снял шлем, уважительно поклонился:
— Вижу, ты годами постарше всех, отче, ответствуй, откель вы и куды путь держите?
— Грамоту зрить будешь монастыря Соловецка аль на слово поверишь?
— Грамотам, даже монастырским, у меня не больно-то веры есть. Бывало, мы тута боярских, даже царских выглядчиков лавливали, что грамотами прикрывались, дела свои черны творили…
— Аль я похож на такого? — спросил Дионисий, и глаза его потемнели от гнева.
Любому бы не по себе стало от этого взгляда, но мужик в кольчуге и лицом не дрогнул, как ни в чем не бывало сказал:
— Мы многих не жалуем, однако паломникам, которы по обету путь ко храмам мангазейским держат, у нас всегда и честь им, и место перво!..
— А может, заглянешь все же в заборницу к нам? — почти дерзко спросил Дионисий, все еще не отошедший от обиды.
И вновь ничего не отразилось в лице мужика, хотя, если приглядеться, можно было бы заметить в его глазах мелькнувшую усмешку.
— Бог с тобой, отче. Каки таки богатства у паломников есть, шествуйте дале, молите Бога за нас грешных! — Он еще раз помолился на икону, укрепленную на мачте, и, уже взявшись за борт коча, готовясь покинуть его, проговорил негромко, обращаясь к Дионисию: — А труден, отче, подвиг молитвенный, особенно тому, кто с привычками давними да со спесью боярской никак расстаться не может…
От слов этих Дионисий аж вперед подался и сердце его забилось, застучало ощутимо гулко. «Кто он, кто он есть, гилевщик сей? Откуль ему ведомо про боярство мое? Ишь, сколь хитро да к месту напомнил о сем!» И уже не мысля о том, что подумают о нем остальные, Дионисий впился руками в борт, стараясь еще раз, теперь уже более внимательно вглядеться в этого странного гилевщика. Но ветер относил струг все дальше и дальше, и вскоре тот совсем скрылся за мысом.
От внимания Марфы не укрылось то, что произошло между ними, подойдя, она спросила:
— Што он молвил тебе, отче, аль обидел чем?
— Нет-нет, мать Марфа, тут иное: вроде бы знавал я этого человека, знавал, а вот где и когда — не помню!
— Гилевщик — и тебе ведом? Быть такого не может!..
— Да не гилевщиком я его встречал, а иным человеком, но я вспомню, вспомню, дай бог памяти!.. — Некоторое время он стоял полузакрыв глаза, шепча что-то невнятно, потом, словно очнувшись, огляделся и уже бодро крикнул: — Акинфушка, пошто стоим? С богом, далее поспешаем…
Акинфий, Викентий и Савва тут же взялись за канаты, парус зашелестел, пошел вверх, наполняясь ветром, и коч, чуть осевший на корму, тут же устремился вперед, рассекая пологие, в пенных кружевах волны.
Днем, пусть и скупое на тепло, блекло-желтое солнце хоть как-то светило, веселило, грело душу. К ночи же, когда притуманило тяжкой хмарью и без того безотрадно-унылое небо, из тундры потянуло таким пронизывающим ветром, что все невольно поежились, а Викентий уверенно сказал:
— К морозу явно ветерок сей! А мороз нам, покуль до места не доберемся, ни к чему…
— Совсем ты взрослый стал, вона сколь о делах судишь зрело, сыне мой… — с непонятной ей самой печалью проговорила Марфа и, не удержавшись, ласково провела пальцами по щеке Викентия.
Почему-то этот жест Марфы смутил не только Викентия, но и Аглаю. От мысли, которая пришла ей тут же в голову, она еще больше покраснела, отвернулась, неловко шагая, перешла к другому борту коча…
Ах, если бы она могла вот так же коснуться, провести рукой по лицу Викентия, грех ведь это, наверное, грех, Господи, пошто же сердце тягостным стало, пошто душа вдруг томлением столь неведомым взялась? Тут же кто-то, как бы против ее воли, стал нашептывать ей заветное, долго и тщательно оберегаемое в глубинах души.
Краткие, все больше на ходу, встречи, когда ей удавалось перекинуться двумя-тремя словами с Викентием… Всегда он был дружелюбен, собеседника никогда не перебивал, на просьбу любую откликался охотно, старался услужить чем мог. Когда Марфа не слышала, звал Аглаю то ли в шутку, то ли всерьез: Аглаюшка-свет. Звучали эти слова так сердечно, что Аглая, обижавшаяся вначале, сама не зная почему, за это на Викентия, потом привыкла и даже — спаси, Господи, за грех малый! — стала ждать с нетерпением тех минут, когда она вновь услышит из его уст эти слова. От этого Аглая нередко терялась, чувствуя себя виноватой, подолгу и горячо молилась, а когда смятенная душа ее на время обретала покой, повторяла, как добрый наговор:
— Не буду, не буду вспоминать его и укреплюсь в том молитвой надлежащей — так оно верней верного будет!
Но вот проходило несколько минут без него, без дум о нем, и вновь его образ заполнял, казалось, целый свет. И вновь Аглая томилась душой и жаждала с ним разговора, считая, что только один Викентий сможет понять ее и найти те слова, которые не только успокоят душу, но и поддержат в стремлениях и желаниях.
Со стороны могло показаться, что желания эти ни в кой мере не свойственны Аглае, особенно после длительных, порой многочасовых бесед ее с игуменьей Марфой, когда та исподволь, ненавязчиво, с тонкой душевной проникновенностью говорила ей о пути, который Аглая должна выбрать для себя раз и навсегда, и путь этот только один — служение Богу в обличье послушницы, а после и монахини. «Лучшего для тебя, Аглаюшка, не может да и не должно быть в жизни твоей», — не раз повторяла Марфа.
Надо сказать, что и в бытность их в Печерских устьях Викентий не то чтобы избегал Аглаи, но как-то получалось, что он будто сторонился ее, и тогда Аглая посчитала, что настало время для решительного разговора.
Как-то поздно вечером, когда Викентий возвращался в землянку, где они жили с Дионисием, путь ему заступила вышедшая из-за кустов Аглая.
Задумавшись, он даже вздрогнул, столь неожиданно появилась она, и удивленно воскликнул:
— Аглаюшка-свет, господь с тобой, тако выпугаешь, чего доброго, меня перед дорогой дальней…
— То-то из пугливых ты, — сердито ответила Аглая и тут же, как бы подхватив его слова, продолжила: — Вот о дороге дальней и хочу с тобой потолковать, знаю, куда тебя да Акинфия с Саввой мать Марфа благословила, на стезю паломническую наставила… Возьмите и меня с собой, на ладьях я с дядюшкой хаживала, рыбу и зверя знаю, как бить, како брать, из пищали сколь ловка — тебе ведомо… Зовут меня пути-дороги, чудится, что ветер шальной в ушах высвистывает аж с моря дальнего.
Все это Аглая высказала единым духом, да так, что Викентий опешил даже.
— Постой, постой, тебя же матушка моя в послушницы ладит.
— То-то и оно, я ей не раз молвила, что Господу по-разному служить можно, а она при всей своей умности не понимает сего, вернее, понять не хочет, скажи хоть ты ей, помоги, богом прошу!..
— Не девичье дело в походе таком быти, труд там да опаска велика на каждом шагу будут.
— Ужель ты думаешь, что уступлю в чем тебе? Не на таку напал!..
Глаза Аглаи не то что блеснули при словах этих, а, широко открытые, вспыхнули совсем не по-девичьи неистребимым буйством, и Викентий, никак не представляя, что она может быть такой, пораженный отступил, едва не споткнувшись.
— Постой, постой! — растерянно проговорил он было.
Но она, по-прежнему переполненная какой-то непонятной ему страстью, воскликнула:
— Ну, будешь говорить с матушкой аль нет?
— Господи, сколь неотступна ты! Ну, ладно, ладно, поговорю, надежна в этом будь…
Он поклонился Аглае торопливо, неловко заспешил и скрылся за кустами.
Разговор этот, только совсем в других тонах, был продолжен уже между Марфой и Аглаей, и надо отдать справедливость последней, провела она его на удивление умело и вполне к месту…
— Помню, матушка, с благодарностью великой, како учила ты, что путь у нас в жизни один: верой и правдой Богу служить, да там, где потруднее будет, где и вовсе свет клином сошелся.
— Речение сие к чему? — настороженно перебила ее Марфа.
— А к тому, — взволнованно вдруг выговорила Аглая, — что благословенья смиренно прошу у тебя, матушка, на паломничество православно дальнее и прошу веры истинной моим словам: покуль сила в душе будет — крест святой из рук не выпущу.
— Куды? С паломниками в путя неведомы, в края незнаемы? Да ты в своем уме ли, Аглаюшка? Девичье ли дело сие, что там ни говори? — Выкрикнув это, Марфа побледнела даже, обычно приятное лицо ее как-то странно вытянулось, глаза гневно сверкнули. — Аль место свое забыла?
— Того не забуду отродясь, но и ты, матушка, во внимание прими, како меня с малолетства неотступно учил дядюшка мой, воин и мореходец знатной. Потому и зовут меня дороги, и все время чудится, что ветер шальной в ушах высвистывает аж с морей незнаемых!
Все это Аглая высказала так, что Марфа не то что растерялась, а опешила прямо. Несколько минут она оставалась неподвижной, устремив взгляд в одну точку, и лишь едва заметно шевелила губами, и, волнуясь без меры, никак не могла подыскать слов для молитвы. Наконец, едва слышно прошептав: «Спаси ее Бог», обидчиво поджав губы, благословила Аглаю.
Слава богу, что вышло все по-доброму, по задумке Аглаиной — чего желать боле? Вот он, коч, что, туго выгнув парус, легко кивает встречной волне. Вот Викентий, Савва, Акинфий, она, Аглая, и матушка Марфа с отцом Дионисием.
Акинфий на море ну совсем иной человек, чем на суше был. Там все молчал более, шума и разговоров сторонился, а тут, едва борт переступил, разулыбался и с шуткой эдакой начал:
— Я как есть кормщик известной в местах морских здешних, всем царям водяным друг-приятель и сродственник, посему они даже малой опалы и неприязни на меня не держат.
Веселость и нрав приветливый не мешали Акинфию в делах мореходских быть строгим, а, если требовалось, то и придирчивым до мелочей.
— Постигайте, братцы, покуль на берегу да в начале морского пути, азы корабельной премудрости. Лучше я вам по десятку раз все разобъясню да покажу, чем потом, средь хлябей текучих, суетиться начнете без толку и пользы.
…Легкими, серебристо-сизоватыми прерывистыми линиями проступал впереди горизонт, вставали друг над другом громады белесо-серых облаков, а еще выше их распахнулась бледная синева неба, столь же великая и бескрайняя, как и водная гладь Мангазейского моря.
Глава 5
Коч хотя и мерою мал, и в осадке не столь грузен, а потрудиться досталось всем, веслами помахали изрядно. Когда, выбрав место стоянки, к берегу подошли, то, едва оторвав руки от весел, повалились на песок.
— Ничего, — ободряюще проговорил Дионисий, — далее легче будет: течение немного поутихнет…
Жгли костры, варили кашу, отдыхали где придется, а тут вновь как снег на голову событие нежданное — тройка стругов пестро раскрашенных из-за мыса показалась.
— Господи! — воскликнула первой их заметившая Аглая. — Неужто гилевщики вновь?
— Нет, — сказал, приглядевшись, Дионисий, — то служилые люди, казаки мангазейские…
Струги быстро приближались, и Дионисий, тоже быстро, продолжил:
— Разговоры с ними я поведу, а вы помалкивайте да слушайте больше и не забудьте, како я учил вас ранее: мы, мол, от соловецких пределов в путь паломнический направились, а о пребывании нашем в местах пермских словечка едина не молвить. Сия ложь во спасение и приложение делу доброму. Грех сей на себя беру и отмаливать его такожды мне…
— А пошто тако вот творить, отче? — недоуменно спросила Аглая. — Грехи меж собой делить, я такого не видала, не слыхивала.
— Не слыхивала… — грустно усмехнулся Дионисий. — А потому, дочь моя, что ежели правду о себе говорить зачнем, то все мы на Москву в железах побредем…
Мангазейские сторожевые казаки, что манерами своими похуже гилевщиков оказались, ни одного доброго слова почти не произнесли: все злые, дерганые какие-то, надменны да грубы, считай, без меры. Даже увидав крест и икону на мачте, в разговоре ни в чем не смягчились. Не перекрестившись достойно, а отмахнувшись скорее для вида, тут же спрос жестокий учинили:
— Кажите дорожну, кажите опасну грамоту… А пошто одним кочем в дорогу пустились? В Мангазейский град тако вот по одному не хаживал никто доныне.
Главный расспросчик, сотник Иван Тырлеев, здоровый, громоздкий детина, продолжал наседать на Дионисия:
— Како же вы с соловецких краев да в край югорской, вами незнаемый, сами пришли? Это откель же у вас таки кормщики искусны? Уж не гилевщики ли к вам в помощь напросились?
Чем больше кипятился мангазейский сотник, тем непроницаемей становилось лицо Дионисия. Грамоты, охранная и дорожная, доставленные ему из Москвы его тайными друзьями, видно, вполне удовлетворили сотника, но тот, по издавна укоренившемуся обычаю, выбивал себе посул, выбивал нагло, беспардонно, и это возмутило Дионисия. Еще с давних времен был он по натуре редким бессребреником, но тут…
— Аль неведомо тебе, — сказал он, холодно-спокойно поглядывая в глаза сотника, — што по указу царску люди монастырски, паломники и ины, Богу служащи, ни подушный налог, ни мыто не платят?
— Так оно, это… — сразу сник, замялся сотник, — я ведь хотел…
— Да-да, — согласно подхватил Дионисий, — ты хотел вместе с нами за путь добрый да за удачу твою воинску помолиться, не так ли?
— Истинно так! — облегченно воскликнул сотник, как бы ненароком смахивая со лба капли пота и уже не зная, как ему поскорее избавиться от этого монаха, который, сразу видно, не из простых, ох не из простых!.. Кто его знает, каку одежду он до рясы монашеской носил, кем был раньше…
— Благослови, отче! — неожиданно громко воскликнул сотник и, изобразив на лице смирение, совсем уже неожиданно для окружающих и для себя тоже упал на колени.
«…Вот они: и наглость, и глупость, и смирение не к месту — все на виду», — с грустью подумал Дионисий, однако виду не подал, благословил сотника, лишь вздохнул тяжко при этом.
На четвертый день пути, когда подошли к округлому повороту прибрежной протоки, обозначенному с одной стороны ступенчатыми зарослями низкорослых кустарников, а с другой угловатым глинистым берегом, переходящим в кручу с непроглядно-плотной стеной леса, Дионисий велел:
— Покуль здесь пристанище наше будет, вон видите, за камнями вроде малая речка впадает, то старица есть, Гостевой ее кличут. Еще в стары времена, когда Мангазея начиналась только, здесь гости торговые завсегда стоянку имели.
— А пошто? — спросил Викентий. — Шли б напрямую до города, и вся недолга…
— Гости торговые — што наши, што иноземны — народ издавна с хитрецой, — отвечал Дионисий, — вот и нам таковыми надобно быть ноне, хоть и не по душе сие… Я и еще кто со мной в городе побываем, поглядим, послушаем, што к чему, может, дай бог, и знакомцев повстречаем. А вы уж тут покуль сторожко поживите, нас поджидаючи.
Действительно, более удобного места для стоянки коча, чем Гостевая старица, вряд ли можно было сыскать. Примерно через версту от берега Таза старица распадалась на несколько рукавов. В один из них, узкий, но довольно глубокий, к тому же сплошь поросший по берегам непролазной стеной ельника, и пристроили коч. Рядом, на песчаном приплеске, из набросанных вокруг больших валунов устроили очаг с хитрым дымоходом: дым из него не поднимался вверх, а стелился по воде и над кустами.
— Ну, — сказал удовлетворенный этим Дионисий, — только дым и мог вас выдать, а так тропинок-путей к вам нет. Ну, сыне мой, — обратился он к Акинфию, — на тебя и на Савву оставляю мати Марфу с Аглаей. Мы ж с рабом Божьим Викентием во град Мангазейский побредем. Молитесь за нас, а мы же вас в молитвах поминать будем.
Дионисий и Викентий, закинув за плечи тощие котомки с сухарями, низко поклонились и уже через минуту-другую, немного помелькав меж деревьями, исчезли в синевато-зеленой глубине леса.
В столь желанный им город, о котором они столько думали и говорили, Дионисий с Викентием добрались без особого труда. Стояли редкие для этого времени погожие дни, непривычно ласково пригревало солнце, дышалось и думалось легко. Не то что отлетели, а как-то незаметно, сами собой испарились тяготы и заботы. И даже река Таз, предельно скромная здесь, с приглушенными красками и с малозаметными очертаниями берегов-плесов, казалась сейчас волшебной дорогой в неизведанную страну покоя и счастья.
Наверное, еще долго пребывал бы Дионисий в таком благостном расположении, но вот впереди, за мелколесьем, проступили, а потом и более четко прорисовались контуры построек мангазейского посада, и все прежние беспокойства, связанные с этим тревожно-сказочным городом, вновь подступили к Дионисию, да и к Викентию, судя по его настороженному лицу.
«Велика соболина вотчина», «златокипящий град государев», «место привольно, куды как богатством довольно» — этими и другими многими прозвищами украшалась в то время Мангазея, вызывающая удивление и зависть не только у русских, но и у иноземцев, хотя бы раз побывавших здесь. Ежегодно в Мангазею, сначала морским путем, а после его запрета — речным, приходили караваны кочей с хлебным, винным, воинским и прочим запасом, так как от этого запаса полностью зависело существование Мангазеи.
Приходили с караванами кочей годовальщики — стрельцы и казаки, «обязанные службой» сроком на год, а также охотники, монахи, искатели новых земель и мест богатых, разный бродячий люд, средь которого было немало бежавших из Московского государства разбойных людей, а также «выглядчиков» — иноземцев, одетых, как правило, в русское платье и хорошо знающих русский язык. Вокруг самого города, вечно неспокойного, бунтующего, полного свар, а то и малых войн, постоянно роились ватаги вольных охотников, гилевщиков, разного иноплеменного люда, населяющего дальние и ближние пределы Мангазеи.
Многим до сего времени не вполне ясно, чем же привлекал к себе этот город, стоявший в таком отдалении и от Москвы, и от известных тогда торговых путей, что страшно было подумать, и почему с таким упорством, порой с опасностью для жизни стремились сюда люди?
Мангазея была в то время первой в мире полновластной «соболиной владычицей» и по количеству поступающих в ее хранилища соболей, и по их качеству. Мангазейские соболя исключительно высоко ценились на торговых биржах мира и составляли одно из главных богатств Российского государства, этими соболями украшали свои парадные мантии многие венценосные особы мира.
Годы, в течение которых разворачиваются описываемые нами события, были годами расцвета Мангазеи, хотя сама она, несколько раз горевшая и воссозданная вновь, просуществовала немногим более семидесяти лет. За эти годы соболей повыбили — извели не только в близлежащих лесах, но и далеко окрест. Перестали вскоре поступать они, как было, и с Оби, Иртыша, Енисея, Лены. Торговые связи и пути нарушились, потеряли свое значение.
После последнего пожара, уничтожившего почти весь город, его не стали восстанавливать, так как жителей здесь уже не было, не считая десятка-другого стариков-инвалидов и случайных бродячих людей, которые не желали или не могли по тем или иным причинам возвратиться на Русь. Так мелькнул, затерялся, затем и вовсе пропал со страниц великой человеческой истории след города-призрака, города-сказки, златокипящей государевой вотчины — Мангазеи.
Но пока Мангазея еще в самом расцвете, и в этом в полной мере убедились Дионисий и впервые попавший сюда Викентий. Как продолжение сна или сказки, услышанной в детстве, на высоком берегу Таза, размежеванном полосами низкорослых кустарников и глинистыми распадками, предстал перед ними город…
На фоне подступающего по крутоярью густого леса выглядел он странно, необычно, во многом замысловато. Удивляло скопище домов, хижин и продымленных шалашей посада вдоль бревенчатой дороги, ведущей к крепости. Удивляла и сама крепость — вычурностью очертаний ворот, обшитых медным листом, сторожевыми башнями с флюгерами-змеями, переходами, крышами воеводских хором, сплошь изукрашенными рельефной, далеко заметной резьбой.
По всему городу местные и заезжие мастера-резчики потрудились на славу, соревнуясь друг с другом в затейливости. Фасады многих домов, коньки крыш, ставни, наличники окон и двери красотой своей словно хотели приглушить, а может, и пересилить угрюмую неприглядность Севера, чтобы было здесь легче жить людям.
В Мангазейскую крепость вошли через широко распахнутые в дневное время ворота Ратиловской башни. Викентий, давно не бывавший на таком многолюдье, дивился:
— Глянь, отче, откуль тут народу так богато?
Их обгоняли и шли навстречу стрельцы, казаки, люди морского дела в куртках из грубо выделанной кожи и пропитанных ворванью сапогах, монахи, монашки, тундровые и лесные охотники, брели нищие, пугливо озираясь, пробирались вдоль обочины бревенчатой дороги самоеды и иной иноплеменный люд. У деревянных крепостных стен в малых и больших лавках шумели, зазывая прохожих, горластые купцы, рядом на гнилой соломе валялись пьяные и бродяги.
— Шумна да бестолкова Мангазея, завсегда здесь так вот, — недовольно проговорил Дионисий и тут же чуть придержал за рукав Викентия.
— Чего ты, отче? — не понял тот.
— Глянь-кось вон туды, — указал Дионисий в сторону от дороги, где у штабеля отесанных бревен стояли и оживленно спорили о чем-то трое молодых мужиков в суконных колпаках и поддевках. — Не узнаешь? — продолжал Дионисий. — Ну, вон тот крайний слева, аккуратный такой видом, у тебя ж глаз меткой, охотничий, должен узнать…
— Постой, — приглядевшись, удивленно воскликнул Викентий, — да это ж гилевщик старшой, што нас едва не прихватил в море, а тут вроде плотником аль лесорубом прикинулся… Дела!
Мужик, о котором шла речь, как видно, тоже узнал Дионисия, тут же подошел, снял колпак, с подобающей случаю уважительной улыбкой поклонился:
— Доброго здравия, отче, вот и свиделись вновь.
Дионисий ответно поклонился, а про себя едва что не воскликнул с досадой: «Господи! Да кто ж он такой есть? Гилевщик?.. Тогда он в кольчуге да в шлеме был, ноне в мужицкой одеже, но стать и добротная пригожесть и там, и здесь наружу просятся. Лицо заветренное, потемневшее, его не скроешь и за солидной бородой». И в проницательности ему не откажешь: посмотрел подчеркнуто зоркими глазами и будто отгадал смятенность Дионисия.
— Пусть молодец твой, отче, в сторонке обождет нас, — сказал он и, когда Викентий отошел, продолжил, понизив голос, как и тогда на коче: — По приметам, коли не узнают человека, то сие к богатству, а оно мне ноне, как и тебе, боярин Дмитрий Дмитриевич, не к лицу да и не к месту…
— Святый боже! — едва удержав крик в груди, хрипло проговорил Дионисий. — Узнал, узнал, как же — сын воеводы Бориса Авдеича Воротынского, Игнатий… Потомок давнего дворянского корня, воин честной, известной, немало ратовавший за Русь — и вдруг гилевщик! Не могу уразуметь сего!..
— Што ж разуметь тут? Одни у нас враги с тобой, которы тебя в опалу черну да унижение бросили, которы мово родителя да и его тож, — кивнул он на стоявшего в стороне Викентия, — смерти позорной предали. Так им ли и им подобным служить мне ноне? Уж лучше гилевщиком вольным быть.
— Суди тебя Бог, а я тебе не судья, — только и сказал Дионисий и поклонился уже смиренно, низко, как и подобает монаху.
Игнатий, поглядев с сожалением на Дионисия, хоть и нехотя, тоже поклонился и так закончил разговор:
— Дел твоих в Мангазее, отче, я не ведаю, но опасить хочу. До первого случая грамоты твои: в большом государевом розыске и ты, и княгиня Марфа, и сын ее Викентий. Грамоту об этом я самолично зрил в здешнем воеводском приказе: люди добрые помогли в том. Мыслю тако, что уходить вам надобно из пределов мангазейских. Ежели надумаете, то спросите на посаде Милентия-кузнеца, он там каждому ведом. Передашь поклон от раба Божия Игнатия, и тот кузнец меня сыщет…
Игнатий только подошел к своим товарищам, ожидавшим его у штабеля бревен, как из пролома в крепостной стене выскочили пятеро шустрых, крепких городовых стражников и с криками: «Вот он, держи, хватай!» — ринулись на Игнатия. Они пытались заломить ему руки, бросить на землю, связать, но он отчаянно сопротивлялся, кричал что-то своим товарищам, не видя, что они в самом начале свары бросили его и скрылись в торговых рядах у крепостной стены.
Игнатий отчаянным ударом успел все же уложить одного из своих противников, но остальные четверо с удвоенной энергией яростно набросились на него. Казалось, судьба Игнатия была решена, но тут случилось непредвиденное.
Сорвавшись с места, как будто его изо всех сил толкнули в спину, на выручку бросился Викентий. Последнее время под строгим приглядом матушки родимой Марфы совсем загрустил, сник Викентий, а тут вдруг такой случай: есть где, как говаривал Савва, и косточки размять, и за человека доброго пойти в заступу. Все бурлило, пело в душе Викентия, и даже зло его было запретно-веселым: «Четверо на одного, ах, злыдни!..»
Старший из стражников, уже сумевший накинуть петлю на плечи Игнатия, был опрокинут и отброшен одним сокрушительным ударом; другой схватился было за пищаль, болтавшуюся на берендейке за плечами, но и его постигла та же участь: ткнулся в землю да еще юзом проехался по траве. Третий, выхвативший было из-за пояса широкий нож, и замахнуться не успел: Викентий схватил его за руку, присел чуть и тут же перекинул через плечо, будто куль какой с мукой или солью.
Четвертый стражник, видя своих столь ловко поверженных на землю товарищей, метнулся вправо, влево и припустил едва что не вскачь по бревенчатой дороге под оглушительный гогот, улюлюканье и свист многочисленных свидетелей необычайной свары. «Ай молодец! Ай умелец! Каково распорядился со злыднями воеводскими! — слышалось вокруг. — Не перевелись еще в Мангазее добры да прямы люди!»
Игнатий, сумевший к этому времени ослабить, а затем и сбросить с плеч веревочную петлю, не чинясь, дружески обнял Викентия.
— Должник, должник я твой отныне, сын княжий!.. Одначе ж поспешим… — Он презрительно посмотрел на все еще копошившихся на траве стражников. — Сии еще когда в разум войдут, а вот тот, что сбег, разом с подмогой вернется. Пошли…
Когда они вместе с Дионисием, провожаемые криками и добрыми пожеланиями толпы, скрылись в проулке меж двумя лабазами, Викентий, низко поклонившись Дионисию, попросил:
— Винюсь перед тобой за содеянное, отче, но ты уж сделай милость, не доводи о сем матушке…
Игнатий при этих словах усмехнулся, но ничего не сказал.
Дионисий же, как всегда, был краток:
— Грех — он грех и есть! Молиться надобно, и простится тебе.
Викентий тут же облегченно вздохнул, а Игнатий по-прежнему с улыбкой продолжил:
— Ах, отче, отче, сколь приучены мы каяться излишне да грехам нашим счет вести. Иль не понял ты, што не гилевщик Игнашка им нужен, а сын ворога государева, думного дворянина Воротынского? Ежели бы не Викентий, то быть бы мне ныне на дыбе в пытошной избе, а днями и в петле. А ведь тебе, как никому, ведомо, што за мной вины нет, како ж опосля такого о грехах толковать?..
Дионисий хмуро промолчал и лишь потом, как бы собравшись с мыслями, заметил:
— Не спор меж нами нужон ноне, а совета твово жду, Игнатий Борисыч: куды податься нам в час сей, како дела свои в Мангазее свершить благополучно?
— За мной следуй, отче. И ты тоже, друже Викентий, — сказал Игнатий. — Я вас покуль в месте надежном да верном пристрою, а там совет держать будем… Говорю, должник я ваш, все сделаю по добру, по совести!
Глава 6
«…И какое же удивительное и переменчивое здесь небо, боже мой, боже! — с непонятной ей самой щемящей грустью думала Марфа. — Здесь, в этом столь хладном и диком краю, где, казалось бы, и свету конец, и вдруг чудо такое…»
Удобно устроившись у большого, выщербленного волнами камня, Марфа устремила взгляд вверх, где небо, пока еще занавесившись однотонными унылыми серыми полотнищами, готовилось показать еще одно чародейство. Но вот стих ветер, и вдруг у самой кромки горизонта болезненно-бледное предзакатное солнце оплавило своими лучами тревожно волнующиеся полосы подступающих иссиня-черных туч. И тут же эти полосы ударили дальними громовыми взрывами, засияли, спутали чудесную живопись неба, зачеркнув все и вся, и тут же окраска его стала стремительно меняться: все тот же серый цвет наполнился новым необычным содержанием, раскрыл свои тайные кладовые. И побежали, перегоняя друг друга, по сторонам и ввысь уже перламутровые отсветы, то гладкие, как полированная сталь, то дымчато-призрачные с таинственными блестками-искрами, как вода утренних, полусонных еще озер при первых лучах солнца.
И уже забылось, что это небо только что было на редкость унылым, однотонным, вызывало скуку, а то и раздражение. И уже не поток, а целый океан сказочного, невиданного доселе света щедро изливался сверху, неся в душу столь желанный покой и избавление от тягот, тревог и жизненных неустройств, долгое время не оставляющих Марфу. Теплея душой, она еще раз взглянула на небо и впервые за последнее время облегченно закрыла глаза.
Ах, недолог миг пусть и самого малого человеческого счастья, и вот уже вскоре над ухом Марфы прозвучало негромко, бережно:
— Матушка, матушка, ай дрема тебя прихватила?
Марфа, едва что не застонав, медленно открыла глаза и увидела склонившегося к ней Акинфия.
— Неладное творится, матушка. Какие-то люди близь старицы бродят — не ровен час и к нам доберутся…
— Что за люди, ты сам зрил их?
— Не… вот он зрил, — указал Акинфий на стоящего рядом Савву. — Вроде бы охотники видом, а там кто ж его знает…
— Что удумал?
— Вы тут с Саввой побудьте срок малый, а я схожу гляну — что и как…
— Иди с богом! Бережно чтоб.
— Само собой…
За старицей — лес молодой, ни буреломов, ни завалов сушняка да гнилья, как в лесах старых. Идти было легко. Однако эта легкость могла быть использована и теми, кто бродил сейчас неподалеку. Тут смотреть да смотреть надобно, не успеешь обезопаситься, и вот оно, нос к носу столкнешься с лесными бродягами. Самое интересное, что именно так оно и получилось…
Акинфий только миновал щетинистую поросль молодых елей, как вот они — двое навстречу… Вроде бы, и верно, охотники, но уж больно оружны: пищали на берендейках иноземного дела, за поясами по два ножа, у одного — еще и аркан волосяной, азиатский. Оба молоды, веселы видом, но почему-то эта веселость не понравилась Акинфию.
— Ба!.. — воскликнул один из них. — Инок честной! Каку таку опасность ты ищешь в чащобе сей? Исповедовать тут вроде бы некого…
— Бреду вот, заблудившись, — нашелся Акинфий, — сбился с дороги…
— С какой дороги? — сразу насторожился второй охотник. — Тут в округе дорог никаких не бывало, медведям да иному зверью они ни к чему, молви-ко, куды путь твой?
— В Мангазею-град, куды ж еще…
— В Мангазею? — Охотник вновь, теперь уже неприязненно, оглядел Акинфия и не предложил — приказал: — С нами пойдешь! Вот сотворим тут дельце некое и во град возвернемся, там спросят, что ты есть за старатель Божий…
— Да я уж лучше один, куды мне за вами успеть… — пытался отговориться Акинфий, но на него прикрикнули уже злобно, и он замолчал.
Времени на раздумья оставалось у Акинфия всего ничего. Охотники это или нет?.. Но, видно, места здешние они знали, шли почти след в след по тому пути, каким вышел сюда Акинфий. «Тута их придержать аль там, у воды, вместе с Саввой, — размышлял он, — но тогда их полонить, вязать придется, вот незадача вышла. Пусто б ему быть!»
Шедший первым охотник вдруг остановился, внимательно оглядел траву впереди и резко повернулся к Акинфию:
— Эва что выходит-то, инок честной, так это ж твои следы, твои, ты сюды от старицы шел, а ну говори правду, а то по-иному спросим. Не пытан ты, видно, еще, не бит толком…
«Ну ты жидковат супротив меня, — думал свое Акинфий, — да и второго тож приберу, пожалуй, откуль же грех сей на мою голову?..»
Вот уж подивились Марфа с Саввой, когда через малое время пред ними предстал Акинфий с двумя пищалями и двумя широкими поясами со всем охотничьим припасом и ножами в деревянных ножнах.
— Боже милостивый, откуль сие? — перекрестилась Марфа.
— А по твоему совету-учению, матушка, — поклонился ей Акинфий, — шел бережно, посему и первым углядел двух злодеев, видом охотников, а на деле — выглядчиков воеводских, вот и пришлось утишить их, повязать маленько. Ты уж прости за грех сей.
— Бог простит, — ответила недовольно Марфа. — И куды ж нам теперь с выглядчиками?
— Упрятать куды их, мы найдем, а вот как бы по их следам другие не пришли, нелегко дело тогда нам будет…
Марфа на это лишь досадливо махнула рукой.
Только на третий день возвратились из Мангазеи Дионисий и Викентий. Возвратились не одни, с ними трое не то рыбаков, не то мореходцев в кожаных с мехом душегреях и высоких броднях, оружны достаточно, и котомки с припасом за плечами. Сразу привлек внимание Марфы и четвертый из прибывших. Он шел позади всех и поэтому на приплеске у коча появился последним.
Дионисий тут же подвел его к Марфе, поприветствовав ее, спросил прямо:
— Ведом тебе, матушка, молодец сей?
Марфа пытливо оглядела прибывшего… Средних годов, статен, ловок, видно… Постой, да это ж тот гилевщик, что недавно был на коче у них…
Дионисий, перехватив ее взгляд, понял, что она узнала стоявшего перед ней человека и, не медля, тут же представил его:
— Это дворянский сын Игнатий Воротынской. Ноне судьбу нашу, матушка, да и головы в его руки вручить надобно. Я верю ему, и ты поверь…
— А пошто сие? — пытливо осведомилась Марфа.
— Ноне по разумению своему считаю, что он един человек в местах здешних, который нас обезопасить может да путь дале указать.
— Добро, коли так, — согласилась Марфа. — Молви, добрый человек…
Игнатий, уважительно склонив голову, сказал:
— Матушка, все говоры-разговоры о том, как на деле нам быть, потом… Сейчас же скоренько в дорогу! Сии молодцы, — указал он на трех своих товарищей, — на коче вашем к морю поспешат по своим мореходским делам. Я же вас тропой тайной вокруг Мангазеи обведу, и с Божьей помощью вновь к реке Тазу выйдем, где молодцы мои вам пару стругов добрых с припасами затаили.
— А дале как мыслишь о пути нашем? — стараясь не показывать интереса к разговору, спросила Марфа.
— Вроде бы, по словам людей, уже побывавших здесь, единый путь с безопасьем видится вверх по Тазу, поднимаючись к скитам вольного монастырского склада — народ там по-настоящему добрый, судьбами злыми пытанный — без отговоров примут…
— Ну, а коли далее пойдем, там и смотреть по сторонам, и молиться ох как надобно!..
— Это пошто так вот? — спросил, пытливо вглядываясь в глаза Марфы, Игнатий.
— А потому, — недовольствуя вроде, ответила Марфа, — что там лежит начало всему колдовскому зеленчатому краю, Югрой именуемому, и будто камни те, издревле заговоренные, от тепла глубин земных произрастают, как живые будто… Подойдем, даст бог, посмотрим, — уже властно произнесла она и, сложив руки и прикрыв глаза, стала творить молитву.
Когда общими усилиями вывели коч из старицы и стали прощаться, Марфа забеспокоилась:
— А как же те, ну, которых Акинфий утишил? Так и бросим связанных в лесу?
— Помилуй, матушка, — усмехнулся Игнатий, — аль мы нехристи, злодеи? Мы тронемся в путь-дорогу и тех, что в лесу связаны, с собой прихватим. А посля их на другом берегу Таза высадим. Доберутся живы до воеводы свово, он их за службу таку встретит…
Легкий смех раскатился над поляной, и Марфа, подумав, что, наверное, это к добру, широко благословила всех в дорогу.
…Две с лишним недели поднимались вверх по Тазу, приглядывались, места выбирали, запоминали на всякий случай: а вдруг придется еще бывать здесь, местность уж больно удобная и для стоянки, и оборонения от лихоимства людского, в лесном царстве чего, поди, не бывает…
Надо сказать, что опасения были вполне уместны. Во времена, о которых идет речь, здесь укоренилось, казалось, навечно да еще на многие сотни верст в любую сторону подлинно лесное царство. Что же касаемо реки Таз, то в низовьях и в середине течения она мало чем отличалась от своих таежных и тундровых сестер.
Но ближе к истокам облик ее, будто по волшебству какому, начинал меняться. Редкие здесь островки сказочно могучих широколапых сосен вплотную подступали к прибрежным холмам, густо поросшим не менее стародавними гигантскими елями. Начиная с этих мест и до горизонта громоздились уступы продолговатых каменных глыб, расцвеченных всеми существующими оттенками зеленого цвета, от радужного разнообразия которых покалывало в глазах.
— Дивны дела Твои, Господи, — проникновенно воскликнул Дионисий, окидывая взглядом возникшую перед ним картину. — И это здесь, вблизи хладной и гиблой стылости тундреных полей! Тебе что же, и ранее приходилось бывать в местностях этих? — спросил он Игнатия.
— Приходилось, да еще как, — ответил тот, — когда воины — оберегатели здешних мест выбивали нас отсель. Не любят и не терпят тут пришельцев. Сие изобилье — зелень каменну почитают как бы за святое место в их идольской вере…
— Да, — задумчиво произнес Дионисий, — свято не свято местечко, а еще где такого и не сыщешь, думаю, единственно дивно оно в обличье своем на весь свет…
— Ну почему же, — спокойно, но с убежденностью в голосе возразил Игнатий. — Ему подобное я зрил на берегу белогорском, тамо, где Иртыш с Обью сбегаются. Капище там гнездилось Бабы златой. Бились Ермаковы воины, завладеть намереваясь главным златым идолищем югорцев, ан не осилили тех. Утащили они идолище на Казын-реку, и что дивно, зелен камень-то исчез вскорости, ушел в землю, как вода, растаял бесследно…
— Совсем небывальщину речешь, — нахмурившись, проговорил Дионисий, — выдумки, россказни все это людские!..
— Нет, — покачал головой Игнатий, — я на берегу белогорском сам бывал, и многие люди местны мне о событии с камнем зеленчатым рекли, то истина есть! А еще не в обиду тебе, отче, человеку, столь грамоты разной и учености постигшему, напомнить о некогда бывавшем у нас имперском после — бароне Сигизмунде фон Герберштейне. Так вот, сей барон после своих путешествий по землям русским напечатал во граде Вене «Записки о московитских делах», где упоминается и капище Бабы златой на берегу белогорском, и все дела и события, к сему прилежащие, в том числе и предивный камень зеленчатый.
Дионисий внимательно оглядел Игнатия раз и другой и, задержав взгляд на его лице, с легкой грустью произнес:
— Так оно, наверно, и должно быть в жизни нашей: молодым, удалым да разумом светлым всегда надобно поперед людей идти. Молодец, сын Игнатий! Всегда дерзай и в делах, и в ученостях разных, ибо сие средь людей всегда в жизни к месту будет…
Игнатий в благодарность за поучение низко поклонился, а Дионисий, еще раз окинув взглядом окружающую местность, уже другим, более приличествующим месту голосом произнес:
— Сюды бы, в основу сей зелени каменной, часовенку православну срубить да поставить, вот, чаю, боголепие бы чистое сотворилось!
— Боголепие русскому православному человеку всегда к месту, — непривычно серьезным голосом произнес Игнатий. — А вот дадут ли нам боголепие здесь утвердить, потом еще крепко помыслить надо бы.
— Еще препоны какие тебе видятся? — насторожилась Марфа.
— Суди сама, матушка, — с явным неудовольствием ответил Игнатий, — я не зря ноне уже напоминал о том, что край сей зеленчатый — место заветно для молебствий разных идольских людишек тутошних, но и они края сего сторонятся. Страх тут постоянно прижился, ну а уж чужим людям, вольным охотникам да разному безначальному люду лучше сюды и не соваться — прибьют на первом шаге не задумываясь…
Непривычно молчаливый в последнее время, Викентий неожиданно вступил в разговор:
— Была бы воля моя, я бы не стал сейчас о страхах да препонах разные речи опасные вести. Сколь боязненны мы все стали, маломужество нас попристигло. Таку дорогу одолели — и на попятный? Верю в бескрайнюю щедрость Господню, како и в то, что и впредь не оставит Он нас щедростью этой… Веди дале нас, друже Игнатий. Надобно, так и защитимся, и отобьемся, и утвердимся окрест, како там ни молви, а стоим-то мы на земле русской!..
Ах, как посмотрела на сына своего в этот момент Марфа! Будто ветер какой заветный, таившийся до времени средь волн не столь уж и далекого отсюда моря, повеял чудодейственной силой своей перед уже начинавшей блекнуть лицом Марфой, и вновь засветилось что-то неизбывной, проникновенной приятностью в ее глазах, и несколько крупных, алмазной чистоты, радостных слез скатились по щекам…
Некоторое время все молчали, стараясь не глядеть друг на друга, а самое главное, не сказать чего-нибудь лишнего, что хоть в малой мере могло бы нарушить это молчание, пока наконец засуетившийся не к месту Игнатий не проговорил, отводя глаза:
— Давайте-ка вам покажу еще одно здешнее местечко, тоже дивных удивлений достойное. Садитесь-ка в струг…
Устроившись в струге, они стали подниматься вверх по ручью, и примерно через полчаса перед ними открылась гладь большого округлого озера с лесистыми островками посередине.
— Правь-ка вон к тому месту, — указал Игнатий Савве, сидевшему в кормовых гребях.
Что издали, что вблизи остров с его островерхими синевато-серебристыми елями казался игрушечным, нарочно придуманным для увеселения глаз. Впечатление это усиливало и то, что вода вокруг острова была необычной для лесных озер окраски: густая прозелень смешивалась здесь с коричнево-золотистыми наплывами — полосами, возникающими из глубины каждый раз, когда ветер посылал сюда покатые волны в девственно-белопенных кружевах. Молодого леса на острове было мало, все более замшелые матерые деревья, особенно вокруг поляны с каменистыми россыпями, мерцающими под солнцем зеленоватыми призрачными отблесками. Поляна образовывала как бы своеобразный подступ к вздымающемуся уступами холму, в центре которого виднелась площадка, плотно окруженная все теми же удивительными на вид зеленовато-сизыми камнями.
— Вот вам и лес рядом, и место для обители, лучше коего, пожалуй, в краях здешних и не сыскать, — утвердительно проговорил Игнатий, широко разводя руки.
— Спасибо, сыне, за заботу твою, — по-монашески смиренно поклонилась Марфа и, повернувшись к остальным, добавила: — Ждать, искать боле нечего. Думаю, здесь и обоснуемся. Помнится мне, что старинные монашеские люди в таком разе тако к месту молвили: «Топор да лопата да молитва на каждого брата». Сие дело — основа, и обитель, глядишь, готова.
Неожиданно тепло и по-своему весело прозвучавшая старинная монастырская присказка Марфы всем пришлась по душе. И даже Дионисий, не ожидавший ничего подобного от всегда суровой, сдержанной игуменьи, едва заметно улыбнулся.
— Раз твое слово тако, матушка, — сказал Игнатий, — то дозволь и мне, грешному, в основу дела сего лепту принести. — Он снял с пальца массивный золотой перстень с изумрудом и протянул Марфе. — Не сумлевайся, это перстень батюшки покойного, царствие ему небесное. Едина вещь, коя от него и осталась… Пусть в фундамент обители твоей хоть малым кирпичиком и моя лепта ляжет…
Мог бы Игнатий читать мысли людские, поразился бы тому, каковыми они были сейчас у Марфы… Сердце не то чтобы отяжелело или заныло, а наполнилось столь благодатным теплом, что Марфа, при всем ее умении держать себя в руках, будто потеряла дар речи, не зная, что сказать, чем отблагодарить Игнатия за столь весомое и искреннее его воздаяние.
Теперь никто просто не мог остаться в стороне от этого. Аглая положила в руку Марфы две сережки-капли с изумрудами — единственную память о ее девической жизни до иночества. Викентий снял с шеи крест с частицей соловецких мощей, оправленный в серебро. Акинфий с Саввой виновато развели руками, а Дионисий подал Марфе миниатюрный молитвенник византийской работы, на обложке которого заметно выделялся крест, сплетенный из золотых и платиновых полосок-проволочек.
— А я… мне… что ж… — неожиданно сдавленно воскликнула Марфа. — На свою родную обитель присовокупить нечего… ни капли малой… Вот как дожилась бывшая княгинюшка-то!..
— Греховное молвишь, мать Марфа, — строго прервал ее Дионисий. — Наша служба Господу еще впереди, доведется — послужим Ему како подобает. А со всем этим, — он указал на приношения, которые Марфа все еще держала в руках, — думаю, надобно поступить так. Друже, — сказал он Игнатию, — в Мангазее все тебе ведомо, потрудись еще разок: знаешь, поди, кому, какому гостю торговому можно сие в обмен или как там пустить, чтоб для обители потребное на первый раз у нас было.
— С тобой, отче, хорошо сие дело творить, — сказал Игнатий и, повернувшись к Марфе, почтительно спросил: — А ты, матерь Марфа, благословишь нас на думы и их исполнение?
— С богом, — едва слышно произнесла Марфа. Она никак не могла отойти от волнения, хотя понимала, что ей есть что сказать им на дорогу. — С богом, — уже более уверенно произнесла она. — Творите как Бог вам на душу положит…
Назавтра, когда Дионисий подошел проститься с ней, она сказала, задумчиво глядя ему в глаза:
— Отче, вот и настало время, о коем мы говорили не единожды. Думаю, основу творим замыслам нашим. Обоснуемся малость, обитель поднимется. Души грешные сюда для молений честных придут и отправятся через время какое-то далее. С ними Викентию и Акинфию с Саввой в глубину земель хладных слово Божье нести. А что касаемо удали их да молодечества бесшабашного, то сие уйдет. Дело, коему посвятят они себя, и души помыслы их совсем другими сотворят.
— Благо тебе за слова сии, мать Марфа.
— И тебе благо, счастья и удачи на пути.
Подошел Игнатий. Марфа благословила их и долго смотрела вслед, шепча молитву. Какие-то большекрылые сизо-белые птицы плыли высоко в небе, а вслед за ними тянулась сизо-белая же слоистая гряда облаков, стремящаяся во что бы то ни стало настичь птичью стаю. Глядя на это неуловимо легкое, непонятное до конца человеку небесное скольжение, Марфа почувствовала, что все существо ее тоже наполняется легкостью, зовущей в небо. И она, осознавая, что это не к лицу ей и даже грешно, все же позавидовала птицам, горестно вздыхая.
Глава 7
Хотя и называлась Мангазея во время описываемых событий «златокипящей государевой вотчиной», по сути своей была она простой бревенчатой крепостицей с несколькими сторожевыми башнями, полузасыпанным рвом, парой церквей, неуклюжими купеческими навесами и лабазами. Совсем уж причудливые строения приречного посада были созданы на основе богатого воображения их хозяев.
Но тут же надобно отметить, что жизнь в Мангазее проходила часто очень и очень бурно, на фоне такого кипения страстей, какое не всегда можно было увидеть и в более крупных северных поселениях той поры. Совершенное неприятие воеводской и прочей власти лишь для вида прикрывалось внешней покорностью. Поэтому совсем по-другому прошли встречи Дионисия в Мангазее, на которые он возлагал столько надежд и от которых, как он думал, зависела вся его дальнейшая жизнь.
В первых двух домах, куда он обратился поначалу, ему сразу не повезло: хозяева отсутствовали, их не было в городе. В третьем доме, большом и добротном, богатом по мангазейским меркам, привратник и на подворье его не впустил. Все расспрашивал через чуть приоткрытую калитку: кто, откуда и по какому делу хозяин ему потребен. Дионисий пускаться в объяснения не стал. Попросил лишь доложить о себе. А когда привратник после долгих уговоров выполнил его просьбу, то Дионисий услышал и вовсе нелепое…
Привратник, неуклюжий, длиннорукий, лохматый, едва не набросился на Дионисия, забасил озлобленно:
— Ты пошто, чернец, людей добрых булгачишь по-пустому? К лицу ли при летах твоих да при сане духовном лжу излагать? Хозяин наш тебя ведать не ведает и велел впредь беспокойство ему не чинить. Шествуй-ка от двора поспешно, и штоб я николи не зрил тебя…
Не зная, что и подумать, Дионисий молча повернулся, зашагал вдоль улицы, размышляя: «Как же сие деется?» Несколько лет тому назад он, также в обличье монаха, был с почетом принят в этом доме. Его не знали куда усадить, чем накормить, и вдруг сейчас вот такие слова. Неужто случилось что-то неведомое ему, зачеркнувшее все его старые знакомства и связи? Кто теперь растолкует, объяснит ему все это?
Выйдя к небольшому земляному валу, за которым кучно роились крайние дома посада, Дионисий услышал вдруг негромкое:
— Эй, Божий человек. Постой-кось!..
Он поднял голову и, удивленный, остановился. К нему спешил привратник, который несколько минут назад так неприветливо встретил его. Сейчас лицо его выглядело неузнаваемым: приветливым и виноватым, будто его умыли живой водой. Он подошел, сдернул с головы шапку, низко поклонился.
— Ты уж прости, бога ради, за невежество мое, отче! Нельзя мне было давеча по-иному молвить с тобой на подворье нашем. Людишек лишних было предовольно…
— Бог простит, — ответил спокойно Дионисий и, глядя в глаза привратника, спросил: — Еще што?
— А то, что ныне за полночь хозяин наш придет к тебе на подворье Милентия-кузнеца с поклоном и с делом, обоих вас касающимся.
— Передай, буду ждать.
— Передам. Еще раз прости, отче.
— Шествуй с богом.
Подворье Милентия-кузнеца располагалось в одной из посадских улиц, хотя понятие «улица» как в посаде, так и вообще в Мангазее с полным правом можно было считать условным. Если в крепости, где жила мангазейская «вершина», пусть и мало, но все-таки считались с порядком при возведении подворий, то на посаде их строили, вернее, сбивали и лепили буквально из чего придется и как придется. И уж, конечно, где вздумается хозяину этого так называемого дома.
Милентий же кузнец был отменный, да еще и искусный во многих ремеслах, поэтому и на подворье его все было устроено с добротной хозяйской рачительностью. В самом же доме, с хитросплетениями коридоров, больших и малых прирубов, не зная расположения их можно было и заблудиться.
Все это было придумано и на совесть сработано кузнецом не зря, так как давало ему возможность соорудить в доме и несколько тайных небольших, но весьма удобных помещений для отдыха, длительных дружеских бесед, а ежели придется, то и для надежной обороны. Были и тайные запасные выходы из этого подворья, сказочного видом, но надежно продуманного и построенного мангазейским чудо-мастером и великим задумщиком — Милентием.
И вот в одной из таких тайных комнат встретились вновь, как бывало когда-то на Москве, два больших государевых человека, два боярина: Дмитрий Дмитриевич Белосельский, ныне инок Дионисий, и Михайло Игоревич Торутин — ныне торговый гость с Пинеги-реки прозванием Михайло Дударев. Человек он был заметный, умный, к новой жизненной ипостаси приспособился намного быстрее Дионисия. Если тот, спасая голову от плахи, уходил в новую для него жизнь лишившись всех своих нажитков и богатств, то Михайле удалось вывезти и надежно припрятать все, что было наиболее ценным в его доме и окрестных поместьях. Исчезнув на несколько лет из виду, по слухам, распущенным его приверженцами, он скрылся в иноземных краях, а на самом деле пребывал в одном из дальних монастырей, куда внес в свое время несколько крупных денежных вкладов. Объявился он немалое время спустя в Мангазее, уже в новом облике зажиточного пинежского купца.
В круговерти городской жизни, когда почти каждый день отсюда уходили и прибывали сюда новые люди: рыбаки, охотники, мореходцы государевой службы и те, что за свой страх и риск занимались приисканием новых земель, появление купца не прошло незамеченным.
— Грамоту дорожную и опасную воеводе казал?
— Казал.
— Што положено в казну и здешним служилым людям отдал?
— Отдал.
— Ну и иди себе с богом, торгуй, наживайся и для себя, и для мангазейской купецкой и прочей славы.
В гостевой светлице у стола, покрытого добротной самотканой скатертью, стояли два человека, стояли молча покуда, как бы приглядываясь друг к другу. Замысловатый бронзовый светильник в виде чудесной сказочной птицы, испускающей пламя из клюва, чадил сладковатым дымком, отбрасывал желтовато-багровые отсветы на лица.
— Ну, здрав будь, боярин Дмитрий.
— Здрав буди, боярин Михайло.
— Обнимемся, друже?
— Господи, да како же иначе?
Они обнялись, облобызались трижды, всплакнули даже на радостях. Беседа их далее не потекла, как следовало ожидать, душевно и спокойно. Многие их понятия и идеалы жизни были беспощадно разрушены, утеряна суть их, как и ощущение собственной значимости. Разве можно было сравнить жизнь людей, приближенных к царю, с нынешним их угасанием в бесчестности и безвестии?
— Брат Димитрий!
— Брат Михайло!
— Вишь, друже, и сказать нам ныне друг другу боле нечего. Все переговорено, переплакано. Я уж ныне ни о боярстве, ни о месте своем в жизни не печалюсь, едино честна горесть на сердце: оговорники-злодеи наши не дали честью и мечом Руси до конца послужить, како наши предки завсегда служили.
Произнеся это, Михайло горестно поник головою. Надолго в светлице воцарилось молчание. Вошел хозяин дома кузнец Милентий и вслед за ним жена его Авдотья, статная, видная, быстроглазая, принеся с собой холмогорской росписи подносы с закусками, винами, медами, поставили на стол, поклонились достойно и ушли. Михайло на правах человека, часто бывавшего в этом доме, стал угощать Дионисия.
— И запьем, брате, чашу, как, бывало, на Москве-матушке пивали. Ноне нам едино в жизни есть — душу сохранить от бесчестия, в вере до конца дней своих еще более укрепиться, како каждому православному русскому человеку и надлежит быть…
— Тако, друже, тако… А теперь поведай, што слышно о делах наших, ибо, возможно, я вскорости град сей надолго оставлю.
— Слухов немало ноне средь мангазейских дворов вьется, но главный в том, что и тебе, и княгине Манефе с сыном учинен большой розыск. Вовремя вы сумели с городу уйти, а то по следу вашему коч был пущен со стрельцами во главе с думным дворянином. Ну а грамоты о вас и у здешнего воеводы есть, так што на виду вам шибко бывати не надобно…
— Ну, спаси бог за беспокойство твое, ты у нас в краях здешних едина надежа.
— Покуль жив, в любом малом и большом деле помогу неотступно.
— Спаси бог! Выпьем?
— Выпьем, друже.
Они осушили две большие чары с медом и вновь долго смотрели друг на друга затуманенными от слез глазами. Не могли от волнения начать нужный разговор.
Хозяин же, кузнец Милентий, тут же воспользовался этим, принялся подносить новые яства и вина в кувшинах, хотя други-товарищи не притронулись ни к тому, ни к другому. Вздыхали часто, старались как могли приуменьшить горечь воспоминаний о минувшей жизни.
— Слово дайте молвить, отцы мои почтенные, — неожиданно вступил в беседу Милентий. — Всех дел ваших не ведаю, но об одном, што меня заботит более других, сказать хочу не откладывая: отцу Дионисию в Мангазею являться надобно тайно и только в ночную пору, не иначе.
— Бог сохранит, — перекрестился Дионисий.
— Бог Богом, — как бы в раздумье произнес Михайло Дударев, — а поостеречься тебе, отче, верно, не мешало бы… Я на обратный путь провожатых тебе дам до лесных краев, — наконец проговорил Михайло. — А в другой раз в град Мангазейский в одиночку штоб ни ногой, прошу тебя, отче.
— Ладно, ладно, охранители, оберегатели мои, — взгляд Дионисия потеплел в благодарной улыбке, — все сотворю как сказано, по-вашему. Вам же особый низкий поклон от игуменьи Марфы за благорасположение к делам обители нашей, за то, што щедро столь одариваете ее заботой сердечной и дарами разными.
Михайло и Милентий после слов этих встали, поклонились достойно, помолчали время малое, и лишь тогда Михайло проговорил:
— Обители этой, как видится мне, многие лета стоять и крепнуть. И пусть она наипервейшей станет в пределах югорских — так, нет, други?
Дионисий и Милентий молча склонили головы.
Крутогорбая отмель посада, окаймленная россыпями мельчайшей желто-коричневой гальки, была едва ли не самым бойким местом Мангазеи. Здесь стоянка судов: кочей, казачьих стругов, только что пришедших в Мангазею и тех, кому предстоял еще страдный путь на Енисей, Лену и в вовсе незнаемые полуночные края.
Здесь и торг: шалаши, лачуги, а то и добротно сбитые лавки российских и иноземных купцов. Рядом же, как говаривали в Мангазее, «самоедское торжище». Купцы-самоеды, селькупы, остяки разложили на траве рыбу — свежую, соленую, вяленую, задымленные оленьи и медвежьи бока, остроги, крючья и ножи из моржовой кости с затейливыми насечками и рисунками. Место тут людное, шумное, буйное, горластое, взрывающееся порой бранью, криками, а то и пальбой из пищали. Люди здесь, как волны в ветер, колышутся из стороны в сторону, удивляют мельканием, буйством красок, переливистым многоголосьем, а то и залихватскими песнями подвыпивших купцов и покупателей.
Здесь же среди других судов и два добротных груженых струга Игнатия. Уложено все порядком, место к месту: гвозди, скобы, топоры, пилы, инструмент подручный в мешках, от людей недобрых в случае чего защита. Тут же Дионисий и Игнатий и трое его молодцов, да три же монашки из молодых, те, что согласились Богу служить в обители новой под рукой игуменьи Марфы.
Еще раз окинув взглядом стоящие неподалеку струги и уже расположившихся там монахинь, Игнатий перекинулся несколькими словами со своими помощниками и лишь потом обратился к Дионисию:
— Все к делу спроворено. Отче, благослови в дорогу.
— С богом! Молодцы-то твои с нами?
— Да, помогут поначалу в обители, а уж потом вместе в град сей возвернемся.
Разговаривая, они направились было к стругам, но тут Игнатий почувствовал, что его кто-то крепко ухватил за рукав.
— Ох и торопкий ты есть! А ты повремени, повремени, — услышал он чей-то недобро звучащий голос и, повернувшись, почти лицом к лицу столкнулся с чуть полноватым, но крепким парнем в серой поддевке.
Ба, да это ж известный всей Мангазее первый воеводский служака, старший стражник — Федот Курбатов! Тот, что уже пытался недавно взять Игнатия у ворот. Федот тем временем, выпустив рукав Игнатия, картинно подбоченился, другой же рукой поигрывал концом своего кушака перед лицом Игнатия. Тот понял, что это был вызов и жест, означающий сейчас почти что безраздельную власть и над ним, и над всеми его спутниками. И это было близко к правде. Более десятка стражников в таких же серых кафтанах, как и их старший, стояли неподалеку, на гребне отмели. Стоило ему крикнуть, и они тут же схватили бы товарищей Игнатия и его самого… Что делать? Положение казалось безвыходным. Самые отчаянные мысли возникали в голове у Игнатия и тут же отметались им.
— Вот и погибель близка твоя, гилевщик проклятущий. Чего воззрился, аль не так сие?
— Так, так, про погибель ты молвил верно, — спокойно согласился Игнатий, — только вот чья она будет, моя аль твоя, тут подумать надобно…
— Это как же понимать?
— А вот эдак. Ты со своими псами еще не сподобился ухватить меня для пыток и казни, а я тебя в миг единый на тот свет спроважу. — Игнатий приоткрыл полу поддевки, и теперь можно было видеть за поясом его две ручные, иноземного дела пищали. — Вот и считай теперь… Ну крикнешь ты своим, ну ринутся они, яко псы голодные, на меня, но я-то ранее их сумею из пищали тебя побить… Меня, конечно, схватят, но ты к тому времени… вернее, душонка подлая твоя в аду уже будет…
По лицу стражника можно было понять, какие мысли обуревают его сейчас: «Вот он рядом, считай в руках самых, и ухватить не можно… А может, рискнуть?..» Он быстро, будто ненароком, глянул на Игнатия, лицо его яростно исказилось. Но Игнатий, спокойно улыбаясь, положил ладони на рукоятку пищали.
— Подумай, слуга воеводской. Бою тому я научен издавна.
— Пропади ты пропадом, проклятый! — выдавил сквозь зубы стражник.
— А дале к стругам пожалуй, — насмешливо проговорил Игнатий, — я со товарищами тебя не обижу, даже награда будет тебе.
В сутолоке и пестроте торжища сцена эта прошла незамеченной, мало ли что бывает… Встретились два человека, направились к стругам, вот и весь сказ… Да и струги эти отошли малозаметно. С утра до вечера судов здесь всяческих десятки перебывает.
День погожий, ветер попутный — чего еще надобно дорожному человеку? Распустили паруса, струги тут же набрали ход. Заворковала, забурлила вода у кормы, а берега будто поплыли в стороны и вдаль, то смыкаясь почти, то расходясь широкими плесами, чешуйчатыми серебристыми мелями, лесистыми островками-корабликами. Встречные суда или плоты тут редкость. Ну а чтобы обогнал кто — такого здесь отродясь не бывало. По берегам, куда ни глянь, непролазная чащоба: заросли камыша да круто заплетенные игривой весенней волной мохнатые плети ивняка, дичь, безлюдье…
И все же через несколько дней после того, как здесь прошли вверх по течению струги Игнатия, можно было увидеть на берегу человека, с трудом идущего через заросли кустов и россыпи камней. Хотя он был добротно и в меру одет, он успел местами разорвать свое одеянье и вымазаться в смоле и саже. Приглядевшись, любой мангазеец тут же узнал бы в нем старшину городской стражи — Федота Курбатова, которого увез недавно вверх по Тазу наиглавнейший мангазейский буян и гилевщик Игнатий Воротынской.
В данный момент на лице Курбатова кроме крайней усталости отражалось безразличие, что свойственно людям, которые за короткий срок пережили злость, отчаяние и безвыходность. Как результат — полная душевная опустошенность. Если бы рядом присутствовал сейчас человек, наделенный возможностью читать мысли других, то он с удивлением отметил бы, что мангазейский стражник в злоключениях, случившихся с ним, прежде всего винит себя.
«А ведь друзья и знакомцы издавна тебя разумным чтили, сам воевода не единожды одарял, да и к делам тайным, бывало, ставил. А тут промашка столь глупая вышла. Не сумел гилевщика заглавного — Игнашку ухватить. Опоил будто тот зельем каким, в миг единый опутал. И вот теперь плетись, как душа заблудшая, добирайся в Мангазею-град на посмешище людям добрым, а самое главное, о чем и помыслить страшно, на разбор-расправу к воеводе за глупость и недомыслие свое…
Ах, гилевщик, распрезлодей Игнашка! Слова-то какие молвил, в путь обратный отправляя, с подковыркой разбойной: „Ты, слуга воеводской, ноне в обиде не будешь. На-ка вот, держи. — И сунул за пазуху продолговатую, тяжко ощутимую кису с позвякивающими монетами. — Возвернешься в град, не говори о том, што мы вверх по Тазу отправились. А у меня людишки верные и на воеводском подворье есть. Все едино о словах твоих ведомо мне будет. О сем подумай. А зла я тебе не желаю. Служба твоя, всякому ведомо, хуже собачьей!“»
Шагал, спотыкаясь часто, мангазейской городовой стражи старшина Федот Курбатов, и сердце его до краев было переполнено горестью и унижением, которых не выскажешь, не доверишь никому, ибо горести человека малого — кому они нужны ноне на свете?
Глава 8
Среди мангазейских торговых гостей Сысой Мясоедов считался одним из первых. В облике его не было ничего примечательного: незаметен, неказист, преклонных годов; не молчун, но и лишнего никому не скажет, с людьми приветлив, какого бы звания они ни были. Не было в нем и пресловутой купеческой хватки: надо не надо, а барыш коли чуешь — хватай поболе. Дела он вел широко, вроде бы они все на виду были, хотя на самом деле об истинном лице Сысоя Мясоедова в городе знали два-три человека.
Так уж, видно, решила судьба, что одним из них был не кто иной, как набольший мангазейский гилевщик дворянский сын Игнатий Воротынской. Пожалуй, только он мог вот так нежданно-негаданно, как леший из подворотни, явиться в этот миг перед Сысоем Мясоедовым, когда тот благодушествовал один за огромным столом, щедро уставленным разнообразными питиями и яствами.
— Свят, свят, свят, — закрестился купец, увидев Игнатия, — да рази ж можно, разбойная ты душа, так вот людей добрых пугать?
Игнатий при этих словах рассмеялся, но как-то с подковыркой, ехидно даже, и это крайне не понравилось купцу.
— С чего это возвеселился ты столь, аль не дело молвил я?
— Это ты добрый человек? — продолжая все так же посмеиваться, спросил Игнатий.
— Ну, я…
— Гореть тебе, Сысой, в аду на большой сковородке за такую доброту…
Слова эти, как видно, крайне задели купца. Он вскинулся, покраснел.
— Я те не Сысой, а Сысой Нилыч, меня, бывало, тако сам воевода мангазейский величал.
— И воеводе на той сковороде место приготовлено — одного вы с ним поля ягода.
— Вон оно што! Да ты кто есть таков? Гилевщик, вор, смутьян, голова твоя за Разбойным приказом в Москве записана, по всей державе российской в розыске состоишь, да стоит мне кой-кому словцо шепнуть…
Опять засмеялся Игнатий, подошел к столу, уселся поудобней, налил и выпил залпом большую стопку меду.
— Пес ты, пес, Сысойка! Пустое брехать стал, ранее такого за тобой вроде бы не водилось. Я ежели и беру што-то, только у таких, как ты, и тебе подобных набольших злодеев, беру открыто: силой молодецкой, сабелькой честной. А из люда серого ни едина душа от меня не победовала, ты же, пес, — Сысой при этих словах вскинулся было, но Игнатий продолжал неотступно, — ты же, пес, грабишь всех подряд без разбору: правого, виноватого, богатого, бедного — и еще смеешь грозить мне… Слово еще сбрехнешь — и твои хоромы воровские, все лабазы, затынки и в городе, и окрест — на дым-пламень пойдут, хошь?
— Да Игнатушка, да соколик, да господь с тобой, — заюлил купец, — да рази ж я могу што супротив тебя, прости Христа ради, он всем прощал — нам велел!..
Игнатий вскочил, бросился к купцу, схватил за грудки, затряс так, что посыпались пуговицы кафтана.
— Не смей имя Господа всуе повторять, творения свои мерзки сим именем светлым прикрывая. Таки, как ты, самого Иуды хуже, ложью по самое горло напитавшись…
— Игнатушка, Игнатушка, — уже хрипел побелевший от страха купец, — смилуйся, николе боле не дерзну на такое!
Игнатий легко отшвырнул купца, и тот, как куль муки, ткнулся в стену. Немного погодя Игнатий уже без особой злобы окликнул его:
— Сядь за стол, облик людской прими, слушай: я отныне досмотр за тобой учиню, здесь, в Мангазее, аль на море, аль еще где наш люд гилевой все равно за тобой приглядывать будет да слушать, не болтаешь ли лишнего чего, а во всем остальном наш прежний сговор в силе.
Купец уже очухался, закивал головой.
— Теперь вот…
Игнатий достал из висящей у него на ремне кожаной сумки с серебряными заклепками небольшой сверток. Когда развернул полотняную тряпицу, то у купца тут же дыхание едва не перехватило. Такого узорочья давно не зрил купец Мясоедов.
— Остынь малость, — усмехнулся Игнатий, — вона лицом, лицом-то аж вспыхнул весь… Сие узорочье люди добрые на обитель собрали. Вели-ка позвать менялу Абрамса.
— Игнашенька! — заерзал на лавке купец. — Зачем тебе меняла, пошто тебе вручать ему таку благодать? В чем нужда, кака потреба у тебя? Все без денег предоставлю, а узорочье припрячь покуль аль мне на сохранение препоручи…
Известный мангазейский меняла, толмач и лекарь, крещеный еврей Абрамс не замедлил явиться. Достав толстое увеличительное стекло, он долго рассматривал разложенные на тряпице предметы, потом спросил, глянув на Игнатия:
— Ходу нет за ними?
— Нет, на обитель люди пожертвовали.
— Тебе верю, но придется идти ко мне в дом, таких денег у меня с собой нет.
— Ты уж, Абрамс, смотри, — будто бы с заботой, строго даже, вступил в разговор Сысой, — штоб не в обиде гость мой был.
— За все время жизни в городе, — сказал Абрамс, — на меня никто не обижался, я даю цену настоящую, и это тебе хорошо известно.
И действительно, цена, предложенная Абрамсом, не только удовлетворила, а даже удивила Игнатия. Мало того, Абрамс сам предложил ему:
— Хочешь, я заплачу тебе корабленниками? По словам побывавших в Мангазее уважаемых больших негоциантов, это сейчас самые весомые монеты в мире…
Когда они закончили в доме Абрамса все расчеты и уже прощались, Игнатий спросил:
— И все же скажи, Абрамс, ты всегда такой добрый или я чего-то не понял?
— Меняла не может быть добрым, он должен быть справедливым, брать за свою работу положенную плату, и тогда люди всегда будут идти к нему. А сегодня если я и прибавил тебе кое-што в цену, то от себя. Ты же сказал: деньги на обитель, для Бога значит, а я искренно поверил в Иисуса! Ты думаешь, легко было менять веру, я думал об этом не год, не два, а многие годы. Меня отговаривали, просили, били не раз, потом прокляли, как похоронили вроде, но я стоял на своем, мучился, голодал неделями, истязал себя и все ж нашел в себе силы и свершил желаемое — принял православную веру, ибо она справедливей, светлей и выше любой другой веры.
Горячность и взволнованность Абрамса, когда он произносил эти слова, так подействовали на Игнатия, что он растерянно и неловко простился и заспешил на посад к Милентию.
За все это время Игнатий и Абрамс, обговаривающие, а потом и производящие столь важное для них дело обмена ценностей, собранных на постройку островной обители, как-то не обращали внимания на присутствующего здесь же Сысоя, а между тем им нужно было бы и этим заняться. Как ни старался держать себя в руках мангазейский купец, его едва что не корежило от переполнявшего желания, да что там желания — дикого, необузданного взрыва страсти, охватившего и подчинившего себе всю его натуру: взять, отнять, отбить боем рассыпанное на старой тряпице богатство, все это пронизанное колдовскими отсветами и солнечными искрами узорочье и россыпь иноземных золотых монет. Это желание выворачивало наизнанку всю его душу.
Совсем малое время после ухода Игнатия и Абрамса пробыл дома купец. Прикидывая, отбрасывая и вновь лихорадочно перебирая в уме способы, которые помогли бы ему овладеть только что виденным богатством, он немедля накинул на плечи полушубок и, постоянно оглядываясь по сторонам, заспешил на окраину посада, где в землянках ютились его особо доверенные приказчики.
Неизвестно, с кем и о чем он там говорил, но уже через полчаса можно было видеть Мясоедова, пробирающегося среди землянок и лачуг посада в сопровождении двух рослых приказчиков.
К ночным тревогам, крикам и даже к пищальной стрельбе в Мангазее давно привыкли. Но в этот день поутру случилось, видно, что-то из ряда вон выходящее: уж больно рано наполнились народом, оживленным разговорами, а то и ожесточенными спорами, городские улицы, причем везде звучало имя Абрамса и постоянно повторяемые слова: «Завалинку и окно выломали, воевода со стрельцами в доме менялы разборы ведет…»
Сам Абрамс с перевязанной грудью, бледный до неузнаваемости, лежал на широкой аккуратной постели и с трудом, морщась от боли, отвечал на вопросы воеводы Домашина.
— …Да николи такого ранее не бывало. Сторожевые мужики у меня добрые: из стрельцов старых, народ уважительный, верный. Злодеев, што попытались ломиться ко мне, отбили достойно…
Состояние Абрамса, видно, не очень-то волновало воеводу, ему хотелось узнать другое.
— Пошто злодеи ночные столь бесстрашно и нагло ломились, ай богатства какие особы появились на мену у тебя?
— Да ни с какими богатствами особыми на мену ко мне уже давно не обращались, чего этих дурней по ночи понесло — понять не могу! — прямо, а главное, смело глядя в глаза воеводе, отвечал Абрамс.
— Ну-ну… — явно недоверчиво протянул воевода. — Темно дело сие, ох темно… Покопаемся, поузнаем, пошто и кто на таку отвагу разбойну решился… Лежи-полеживай, поправы тебе доброй, — кивнул он на прощание Абрамсу.
Поздно вечером с соболезнованиями и расспросами к городскому меняле явился Игнатий, да не один на этот раз, а с молодцами добрыми. Прямо с порога заявил:
— Много выпытывать не буду, одно спрошу: лица-то ты их зрил ли, ну этих, што ломились к тебе? Како, по-твоему, не воеводские ли прихлебники?
— Лиц не зрил. В огневой кутерьме, што учинили они, не до этого было. А што касаемо воеводских — на них не похоже.
— А купец Мясоедов?
— Нет, тот не дурак, так вот прямо не полезет, да и трусоват весьма.
Абрамс, неудобно повернувшись на постели, ахнул, схватился за грудь и, только помедлив и отдышавшись немного, спросил Игнатия:
— Ну, как твои содруги духовны — меной нашей довольны?
— Довольны, кланяются тебе за старание.
— Слава богу! — скромно произнес Абрамс. — Передай им, што и еще им радость вскоре будет. Днями в Мангазее должны появиться кочи вновь прибывающего сюда воеводы. Там и мне с верными людьми посылка добра есть. Должно там быть все необходимое для проведения службы в храме, и особенно ценные — византийской работы семисвечник, дикирий и трикирий. Пригодятся в новой обители…
— Еще раз низкий поклон за заботы благородны, поправы тебе наискорейшей.
— Слава господу! — склонил голову на грудь Абрамс.
Как выходило из всей вышеприведенной истории, лучше всех на день сегодняшний чувствовал себя Сысой Мясоедов. И недаром он вскоре пригласил на хлеб-соль купца Михайлу Дударева, которого это предложение не только удивило, но и насторожило. Он хорошо знал, что представляет собой Мясоедов, как и то, что он никогда и ничего не делает без личной выгоды. Конечно, они и раньше по многу раз встречались, говорили на ходу, обменивались торговыми и прочими новостями, но общих интересов у столь различных по характеру и взглядам людей не было да и не могло быть.
«Зачем я понадобился ему, да и вообще, о чем можно беседу вести с таким человеком?» — думал Дударев, подходя к мясоедовскому подворью, крикливому, громоздкому и неуклюжему, где многое казалось лишним и неприятным для глаз.
Это ощущение не покидало Дударева и в те минуты, когда слуги вели его по многочисленным переходам, минуя боковые покои, а затем распахнули двери в гостиную светлицу. Огромный стол был уставлен малыми и большими блюдами и подносами с закусками, сулеями, кувшинами и бутылями с русскими и иноземными винами, пивом, брагой, медом и квасом.
— Да, гостенек мой, гостенек дражайший, ай спасибо, што не побрезговал нашим убожеством, — соловьем разливался, слащаво улыбаясь, Мясоедов.
Фальшь, которая звучала в каждом слове этого человека, неприятно задела Дударева, но он сдержался, улыбнулся, натянуто поблагодарил.
Соблюдая гостевой чин, Мясоедов выпил за здравие гостя и тут же, будто вспомнив, о чем говорил в начале встречи, продолжил:
— Вот уж никак не думал, што соблаговолишь побывать у меня, да еще за столом гостевым…
— Это почему же? — стараясь, чтобы вопрос его прозвучал как можно спокойнее, спросил Дударев.
— Почему, почему…
Лицо Мясоедова являло сейчас саму невинность, но можно было догадаться, что за этим он скрывает что-то весьма значительное и оно готово вот-вот сорваться с его губ. Мясоедов чуть помедлил, словно собираясь с духом, глаза его засветились торжеством, и раздельно, подчеркивая каждое слово, он сказал:
— Ты-то ранее в боярском звании своем, поди, и не за такими столами сиживал, а мой стол тебе в унижение да в потерю есть….
К удивлению Мясоедова, Дударев воспринял эти слова спокойно и даже с усмешкой.
— Ну, вижу, постарался ты, раскопал, узнал обо мне кое-што, и што же из этого следует?
В голосе Дударева не звучало ни тревоги, ни волнения самого малого, и это вдруг озадачило и даже насторожило Мясоедова, и он неожиданно со злом выкрикнул:
— Гонор свой боярской да удаль прежнюю показать хошь? А што, ежели я сейчас вот к воеводе мангазейскому направлюсь: «Так, мол, и так, батюшка воевода, правишь ты нами, стараешься, а неведомо тебе, што в граде нашем, чужое имя присвоив, боярин опальный обретается…» Воевода тут, конечно, в сердцах ладонью об стол хлоп! Стрельцов к тебе, ан и в железах ты за запором крепким!
Вновь на лице Дударева не дрогнула ни одна черточка, наоборот, слова Сысоя будто прибавили ему уверенности, и он, уже издевательски усмехаясь, спросил:
— Судьбинушку мою горькую ты описал весьма прелюбопытно, но я никак в толк не возьму, от меня ты што хочешь?
— Во! — оживился Сысой. — Это уже не боярский, а купеческий разговор, чего хочу, чего хочу… Ну, во-первых, со дня сегодняшнего с половины торговлишку свою поведешь: половина дохода — твоя, половину — мне…
— Ух ты! А не многовато ли будет?
— Чего, чего многовато? Говорю это во-первых, а еще ты должен мне будешь…
— Ну хватит! — Дударев рывком поднялся из-за стола, и лицо его полыхнуло гневом. — А и верно о тебе сказывали недавно в светлице сей и за столом этим, што пес ты преподлый, Сысойка!
Лицо Сысоя мгновенно стало дряблым, пошло пятнами, и он, уже спотыкаясь на каждом слове, едва вымолвил:
— Како сие в светлице этой да за этим же столом? Никто мне слов таких здесь не говаривал…
— Неужто? А с гилевщиком наипервейшим кто здесь намедни меды-вина распивал? А кто такожды намедни гостю иноземному Симону Грандини соболей боле сотни продал, а соболя-то, между прочим, за государевым оброком значатся… Да коли я начну в час сей все твои злодеяния упоминать, то мне и ночи не хватит! Ну, — глядя презрительно, как на что-то непотребное, спросил Дударев, — так кому надобно к воеводе идти?
— А-а-а! — как помешанный, завыл и замотал головой Сысой. — Да што же это такое, господи боже мой! Опять на меня напасти сыплются! Ну виноват я, виноват — мой грех, так ведь повинную голову и топор не всякий сечет! До скончания века в должниках у тебя буду, не губи только, — протягивая руки к Дудареву, совсем по-собачьи заскулил Сысой.
Дударев отвернулся, плюнул в сердцах, направляясь к двери, но тут ему дорогу переступил Игнатий Воротынской в сопровождении двух здоровенных гилевщиков, почему-то радостно разулыбавшихся при виде Сысоя.
Все сняли шапки, а Игнатий, тоже улыбаясь, но мрачновато, уважительно обратился к Дудареву, будто он, а не Сысой был хозяином этого дома.
— Ты уж прости нас, што мы так вот бесчинно, не спросясь врываемся, беседу вашу с этим упырем прерывая. Дельце у нас к нему есть скороспелое, и уж коли ты здесь очутился, то милости просим побыть, послушать. Дельце то стоит того…
Все это время, пока говорил Игнатий, Сысой молчал, но это молчание стоило ему многого. Он весь трясся, будто в лихорадке, сжимая и разжимая пальцы, и вдруг, вытянув руку с трясущимися пальцами и указывая на Игнатия, истошно выкрикнул:
— Дьявол, дьявол ты! Опять явился душу мне терзать!
— Э, нет, ты мне это название не давай, это твое, твое имечко! Ты знаешь, — обратился Игнатий к Дудареву, — кое дельце за упырем сим водится? Это ведь он с двумя приказчиками своими ночью в дом Абрамса ломился, в жадности дьяволовой своей намереваясь узорочье и монеты разны забрать, кои православны люди на построение обители святой собирали.
— Да неужто? — изменившись лицом, испуганно переспросил Дударев. — Человек русский, крещеный — и деяние тако? Господи!..
— Содельники его по разбою, — указывая на Сысоя, продолжал Игнатий, — наказаны как надобно: на посадском стане высекли их батожьем на снегу в чем мать родила и, кресты нательные сорвав, так же вот нагишом и босыми в бега отпустили. А ну, — сказал угрюмо Игнатий пришедшим с ним гилевщикам, — теперича вы тут постарайтесь-ка во славу Божью!
— Не сметь, не сметь! — отчаянно завопил Сысой. — Я званья купеческого, меня на Москве люди большие знают!
— А, не простой злодей, а вблизи заслуг великих пристоящий? — презрительно протянул Игнатий. — А ну, сымай крест!
— Не посмеешь, я истый есть христианин-богомолец! — вновь возопил Сысой.
— Не был ты им никогда. Продал деяния веры великой православной, в грабительство святынь пущаясь!.. С богом, молодцы! Потрудитесь на деле правом, — обратился к гилевщикам Игнатий и, сорвав крест с Сысоя, ударил ногой в широко распахнувшуюся дверь светлицы.
В этот вечер так никто и не заступился за Сысоя. Несмотря на то что народу на улицах было предостаточно, вопли и крики о помощи оставались безответными. И пришлось ему испытать то, что испытали его приказчики — содельники по грабежу: голым и босым бежал Сысой по мангазейским улицам под издевательский хохот, свист и улюлюканье толпы.
Глава 9
Бухта Благополучия на Соловецких островах в Белом море была известна еще в начале ХV века, когда местные монахи Зосима и Савватий основали здесь обитель. Акт этот поначалу не привлек особого внимания, но весомость и значение православия, все громче заявляющего о себе, подсказали необходимость возведения здесь монастыря, могущего стать со временем не только центром, но и исходным пунктом для столь необходимого продвижения идей православия на восток и Крайний Север, именуемый пока стороной югорской, полной мглы, страхов и безверия.
Надо сказать, что раньше о сооружении такой обители, как Соловецкий монастырь, не могло быть и речи, так как не было умельца-строителя, дерзнувшего бы на такое дело. Но вот, к счастью, именно такой человек отыскался среди русских мастеров, именуемый в грамотах и прочих присущих к сему делу бумагах розмыслом Трифоном, чья более чем успешная деятельность, особенно в 1584–1594 годах, заложила основу будущего Соловецкого ставропигиального монастыря.
Крайне медленное сооружение его, являясь во многом недостатком, в то же время содействовало внедрению новых методов строительства подобных монастырей крепостного типа. Обладая талантом истинного зодчего, Трифон как бы уже видел в будущем мощные 9—10-метровые стены, толщиной не менее 4–6 метров, видел семь ворот и восемь стрельчатых башен. То есть все то, что вскоре стало явью и заставило говорить о себе многих иноземных купцов — приискателей новых земель и различных выглядчиков новых приобретений, появлявшихся на окраинах русского Беломорья.
Соловецкая обитель долгие годы была образцом для возводителей храмов, особенно в отдаленных, а то и вовсе диких местах не только на Руси, но и за ее пределами. Но вот пришло, потом стало все чаще заявлять о себе беспощадное время, смело вступившее в бой с ходами и вереницами тайных келий и боковых сходов-провалов, ведущих, как оказалось, в так называемый «этаж молчания» — секретное помещение, созданное по приказу из Москвы уже умирающим главным розмыслом Соловецкой обители, великим мастером Трифоном Пятиглавым. Так величали его к тому времени за великие знания и ум все окружающие его люди.
Все трудней становилась жизнь строителей-ремонтников подземелий Соловецкой обители. Рушились и воссоздавались, уже с другими входами и выходами, кельи, и постепенно в подземной многокелейной путанице потерялся бывший стройный порядок, хотя хозяевами здесь по-прежнему оставались монахи-схимники, взявшие под свою руку все управление и вообще все дела подземной обители.
Каждый очередной глава Соловецкого монастыря, архимандрит, назначаемый царем и патриархом, начинал свое правление с попытки приручить как-то или припугнуть схимников. Но все эти попытки кончались для архимандритов плачевно, ибо у схимников тех были среди прочих грамотнейшие по тем временам люди, кои время от времени выходили из подземных своих келий и, объявив среди монастырской братии «вселенское поругание», обрушивались на архимандрита и все остальное местное монастырское начальство, кое бледнело, краснело, но терпело.
Всем было известно, что за личности скрывались порой за личиной схимников, начиная с особ царской фамилии и прочих не менее значимых на Руси людей. Обо всем этом хорошо знали и в Москве, так как доносчиков в монастыре хватало. Но от вестей соловецких, как правило, отмахивались: «Ничего, им, отцам святым, свары не впервой, у них лбы-то поразбивают перед успокоением вечным!»
Расскажем здесь об одном событии из соловецкой жизни того времени, случившемся как раз в пору очередного «вселенского поругания».
Стенные дневные и особо ночные сторожевые монахи, каждый как на подбор — косая сажень в плечах, неся службу, нет-нет да и озирались пугливо, обходя прибрежные каменистые тропинки у самой воды, где в любую минуту могли появиться «схимниковы слуги» — служители страшных соловецких подземелий. Встреч с ними как могли избегали все прочие монастырские люди, а буде происходило такое, сдергивали с голов шапчонки и колпаки, отходили в сторону, опустив долу глаза…
И все же — будто нарочно — одна из таких встреч произошла у плоского песчаного мыса, где собирались самые искусные рыбари из окрестных деревень, они же — изготовители знаменитых в свое время соловецких «бегучих стругов», поставлявшихся верхнему соловецкому начальству.
Мастера как раз приноравливались, как половчей да побыстрей спустить на воду очередной красавец струг, как вдруг из-за ближайшей россыпи бурых камней показался запыхавшийся парень, рыбарь из местных умельцев. Он был крайне взволнован, кричал что-то, на ходу размахивая руками, а приблизившись, даже споткнулся и едва не ударился головой о готовый к спуску струг…
Старшина рыбарей — редких могучих статей старик Егорий, недовольно хмыкнув, как пушинку вознес парня над головой, встряхнул порядком, поставил перед собой, велел:
— А ну, пошто снуешься яко треска в поеме, излагай, в чем испуг твой?
— Испугаешься тут! — едва не вздрагивая на каждом слове, зачастил парень. — Я в поспехах к вам суетился, отче, — он склонился уважительно перед стариком, — гляжу — Господь всемилостивый! — камень куда как велик, а яко живой, вздрогнув, откатился к воде, и ход открылся, издревле слаженный…
— Схимники, — тут же догадался старик. — Много их?
— Ох, счесть-то их не осмелился, в черных куколях своих с золотистой оторочкой по краям како по воздуху плывут…
— Ну, — старик недовольно оттолкнул юношу, — несуразное несешь, парень, с перепугу! Здесь скоро будут?
— Да вот, вот они! — выкрикнул парень, то ли крестясь, то ли отмахиваясь от показавшихся из-за камней идущих парами схимников.
Все, что происходило потом, было необъяснимо. Четверо схимников, не открывая лиц, подошли к готовому к спуску стругу, уложили в него свернутый парус, весла, опорные крюки и клячи, пару мешков с сухарями и два бочонка-лагушка с пресной водой. Затем, подхватив за борта струг, спустили его на воду и споро, сразу видно, что не впервой, стали готовить его к предстоящему плаванию.
Все это время ни схимники, ни судодельцы-рыбари не произнесли ни слова. Рыбари, собравшись в кружок, ждали своей участи, стоя на коленях, низко опустив головы, как издревле полагалось и как велось в общении с «глухими», или «безответными», схимниками.
Схимники же все так же молча закончили снаряжение струга, погрузили в него четверых своих товарищей, отправив их, как видно, в дальнюю дорогу, и спокойно направились по берегу обратно к входу в монастырское подземелье. И только один из них, чуть помедлив, подошел к рыбарям и, вытащив из-за пазухи расшитый узорами кожаный кошель, протянул его старшине Егорию:
— Прими, Егорий, за труд ваш честной и за струг добрый, што мы ноне приобрели у вас для дел богоугодных. Здесь корабленники — аглицкие золотые, в обиде не будете, разделишь честно меж всеми, како и делал всегда в жизни твоей.
Егорий с трудом удержал кошель в пальцах и, не зная, как высказать благодарность, вовсе застеснявшись, спросил:
— За кого же нам молиться за дар столь щедрый?
— Вечная единая наша молитва за веру православную и Господа Бога нашего Иисуса Христа.
Егорий хотел сказать: аминь, но, когда поднял голову, схимник уже скрылся за камнями.
Для того чтобы полностью уяснить суть только что произошедшей сцены, необходимо последовать за тем схимником, который, передав старшине Егорию кошель с золотыми монетами, уже шагал по подземному ходу, скупо освещенному масляными светильниками у каждого поворота. В гнилостном, застоявшемся воздухе было трудно дышать. Схимник ускорил шаги, все чаще размахивая рукой у самого лица, пока не почувствовал ток свежего морского воздуха.
Коридор привел его в просторную округлую пещеру с довольно высоким потолком и вереницей странно зауженных дверей, служивших входами в кельи особо почитаемых носителей схимы, а по сути, тайных правителей тайного же высшего монастырского совета «навсегда умолкнувших».
Также над этими дверьми можно было увидеть массивные дубовые доски с искусно вырезанными символами триипостасного Бога. В те времена этот символ — всевидящее око в треугольнике — являлся главным и обязательным украшением при строительстве католических и православных храмов, с ним была связана целая серия специальных торжественных служб.
Несколько минут схимник, появившийся в округлой пещере, молча молился, не поднимая головы, затем сильно встряхнул ею, верхняя часть капюшона опала на плечи. И уже не какой-нибудь истощенный молитвою старец, а крепкий, добротных статей молодец, шагнув на небольшую площадку из мраморных плит у центральной кельи, необычно смело для этих мест возгласил:
— Господа персоны высшего тайного монастырского совета, прибегаю к вашей милости и, низко кланяясь, снисхождения прошу за беспокойство, я инок Елизарий, верный служитель Бога, святой православной веры и ваш навеки слуга покорный! Оповещаю вас, што мной днями доставлена из града богоспасаемого Москвы грамота верхнему архимандриту обители нашей Феоклисту. Сию грамоту я должен до заката солнца вручить ему, но перед тем тайно показав вам, господа персоны высшего тайного совета!
Елизарий вытащил из-за пазухи грамоту, наклеенную для бережения на толстую кожу, поднял перед собой. Тут же как по команде двери келий дрогнули, заскрежетали на разные голоса, и фигуры в полуистлевших одеяниях с большими матерчатыми крестами, бормоча что-то неразборчивое издали, стали старательно протискиваться в непомерно узкие щели дверей, так и оставшихся полузакрытыми, что также являло собой одно из монастырских правил: схимнику везде в жизни земной тесно и трудно в мелочи любой, легко лишь в молитвах к Господу!
Вечные келейники, кто согнувшись, а кто едва не ползком, опираясь на костыли, прочитывали грамоту, затем грозили неизвестно кому костылями и кулаками и протискивались, задыхаясь и отплевываясь, назад в свои кельи.
Елизарию не впервой доводилось видеть картину подобного «прочтения». Он, доверенный доставщик тайных грамот, выросший и воспитанный на самых строгих монастырских правилах, всегда считал, что все, что делается здесь, правильно и ни в коем случае не подлежат обсуждению или, спаси господи, порицанию. Но постепенно постоянное напряжение, опасения сказать или сделать что-нибудь не так привели его к мысли, что все его нынешнее существование похоже на путь, проложенный у самой кромки пропасти, и он может в любую минуту сорваться туда и закончить свою бесталанную жизнь.
Надобно сказать, что едва так не случилось, когда Елизарий задержался с доставкой одной из тайных грамот, и голова его чудом удержалась на плечах. Недаром глава тайного совета схимников Симеон, которого все в Соловецкой обители боялись больше, чем назначенного Москвой архимандрита Феоклиста, сказал тогда Елизарию:
— Разум у тебя в полном достатке и понимать должен, што таки промашки тебе не к лицу и могут быть у тебя только один раз! Помни это и николи не забывай!
«Забудешь тут», — вздрагивая малое время спустя, прошептал Елизарий, все еще не разгибаясь после низкого покорного монастырского поклона, каким он проводил главу тайного совета.
И вот сейчас, уже оставшись один в круглой пещере с узкими дверями, Елизарий провел ладонью по лицу, как бы мысленно смывая этим тяжелые для души воспоминания, встал, отряхивая кафтан, готовясь в предстоящую ему дорогу.
Вдруг он неожиданно услышал звук опавшей неподалеку каменистой россыпи. «Показалось…» — первым делом подумал Елизарий. Но ведь здесь, рядом с местом «навсегда умолкнувших», никто, кроме него, не ходил, это он знал, это ему внушали с самого раннего детства, и иначе быть тут никак не должно. «Господь милостивый, — ощущая противную мелкую дрожь во всем теле, едва не выкрикнул вслух Елизарий, — что ж все это значит?» Он тут же намерился вслух прочесть молитву, но губы дрожали, а зубы явно против воли странно постукивали. Елизарий постоял, прислушался и только собрался продолжить путь, как увидел совсем неподалеку на краю тропинки белокурого парнишку лет 10–11, в короткой куртке из козлиного меха, в таком же колпаке и сапогах-постолах.
Паренек был не к месту весел, вел себя вызывающе и явно хотел уж если не испугать, то основательно подразнить Елизария.
— Эй, ты! — кричал он. — А еще и одежду схимников нацепил, куды тебя несет, неведомку-незнайку! Глядите, глядите на него, бестолкового. Заблудился, ведь заблудился ты, такой здоровенный телепень.
Елизарий, все еще не пришедший толком в себя от столь неожиданной встречи, не зная, как быть ему далее, говорить что, растерянно поводил головой из стороны в сторону. Парнишка торжествующе выхватил из кармана плоский, с ладонь, камень, тут же разломил его надвое и, приплясывая и вскрикивая от возбуждения: «Хошь голубенького, хошь?» — принялся тереть половинки камня друг о друга.
Сдержанно сыпануло на голову беловатыми острыми искрами, раз, еще раз, и вдруг в руках парнишки вспыхнуло колдовское, иначе не скажешь, многоцветье нигде и никогда не виданных, на глазах тающих радужных цветов-всполохов с синевато-золотистыми шипами. Все быстрей и быстрей они закрутились перед глазами Елизария и вдруг ринулись, с такой силой ударили, пронзили его грудь, что он потерял сознание, провалился в черную бархатистую бескрайность…
Кому ведомо, спал Елизарий далее или нет? А может, по словам того чудесного отрока с его голубыми стрелами, и верно, заблудился среди буйства вихревых видений, потерял едва что не с детства знакомую тропку у главной пещеры «навсегда умолкнувших»… И это он, он, главный монастырский знаток сухопутных дорог вокруг монастыря и окрест?!
Позор, позор, что скажут на это вдохновенные смотрители — начальствующие схимы? Как теперь ему жить далее? Постой-постой, а может, он уже Богу душу отдал на Его суд Господень и теперь бродит в заоблачных замогильных дебрях, не зная, куды голову преклонить? А ну, дай, Господи, смелости, хоть самой малой …
В эту минуту ему вдруг будто бы опять послышался голос чудесного отрока, и тогда Елизарий, ужасаясь и весь дрожа, медленно открыл глаза.
…Он лежал у небольшого костра на высохшей нерпичьей шкуре, в каменном прибрежном распадке, а почти рядом, у дорожного масляного светильника, и верно, расположился отрок, которого Елизарий только что видел во сне. Отрок неторопливо вычитывал вслух слова из лежавшей перед ним старинной рукописной книги с большими бронзовыми застежками.
«…А на восьмидесятый день, идучи двумя кочами по погодью, узрели мы со стороны правой мыс невысок, белопесчаный, с россыпями камений зеленчатых, и воевода наш молвил: „Глядите и запоминайте, которы живы к порогу родному возвернутся, что были вы милостью Господней на грани земли российской, за которой дичь безверья и мрак существования — Югра немилостивая…“»
Отрок неожиданно оборвал чтение, перекрестился и, поняв, что Елизарий внимательно слушал его, спросил:
— Ну как, хватило разума, уяснил, о чем речь?
— Да уяснил уж, — недовольно ответствовал Елизарий, так как почувствовал в словах отрока некую насмешку, и, дивясь своей смелости, уже хмуро добавил: — Стародревнее писание это куды как знатного новгородского боярина Роговича, именем Гюрята. Я его читывал и уяснил с интересом великим еще в годы ранние, когда, будучи помоложе тебя, со старшими тако смело беседы не вел.
Слова Елизария ничуть не смутили отрока, мало того, он в ответ, совсем как взрослый человек, презрительно протянул:
— Ты старше меня летами, вижу, а в остальном всем я на две головы тебя повыше буду!
Елизарий удивился было, но тут же рассмеялся и, уже отринув страх недавний перед этим странным парнем и его колдовскими лучами-стрелами, назидательно проговорил:
— У нас, то есть мореходцев и рыбарей, похвальба праздна не в ходу, пустозвонами величают тех, кто без дела язык чешет!
Надо было видеть, какой румянец вспыхнул на щеках отрока и сколь уничтожающе он ну прямо-таки испепелил Елизария взглядом широко открытых глаз.
— И ты тако мне молвить решился? — дрожащим от гнева голосом воскликнул он. — Мне, носителю креста жемчужна! Да я тебя в беснование волн выброшу. Песком хлестучим дышать заставлю!
— Стой! — прозвучал в эту минуту чей-то хрипловатый, подрагивающий от волнения голос. — Это кто же тут упоминанье тако допускает, без смыслу и почтения должного, о кресте жемчужном? — И тут же из-за нагроможденных друг на друга каменных плит показался старшина рыбарей и челнодельцев Егорий.
Всегда сдержанный и немногословный, он не вышел, а выбежал к кромке пенных волн и, сразу поняв, кто виновник столь необычного здесь шума, схватил за плечо отрока, с силой пригнул его к земле.
— Ой, замолчи, замолчи, неразумный язык прикуси! Счастье твое, што годами ты еще юн, а то бы я тебя вервью челночной вдоволь попотчевал! А ежели слова сии до старца Симеона дойдут, тогда што сотворится?
Услышав имя Симеона, самого почитаемого, но и самого страшного в монастыре и для грешников, и для праведников «старшего из старших» схимников, отрок побледнел, бестолково замахал руками и бросился на колени перед Егорием.
— Деду, деду, прости, прости Христа ради! Любую испыту назначь за грех мой, но только не доводи до отца Симеона слов моих!..
— Испыту за грех? Ну что ж, будет тебе испыта, а сейчас изыди вон, к каменьям дальним, молись, покуль я не окликну тебя.
Отрок хотел сказать что-то, но губы его тряслись, и он бросился к камням, упал на песок, широко раскинув руки.
— Ай сколь пристрожил ты парня, — покачал головой Елизарий, — да еще испыту тяжкую ему посулил, стерпит ли он сие в годы свои?
— Ох, друже, ежели бы знал ты, сколь отрок этот за годы свои коротки терпел, ты б в изумление пришел, а ежели я добавлю, што ноне смерть неминучая за ним по следам ходит, изумлению твоему и вовсе конца не будет…
Елизарий долгим пронзительным взглядом посмотрел на рыбацкого старшину, будто бы захотел прочитать его мысли, далее, помедлив, проговорил:
— Монастырь есть монастырь, все здесь тайна, и хотя считается, што едина здесь у всех цель: Богу верней верного служить — службу ту каждый по-своему видит, особливо схимник. Слов нет, трижды достоин преклонения и почета человек, схиму принявший и отказавшийся от бытия житейского, но и он бывает не в силах отринуть в душе себялюбие да гордость. Вот, мол, я каков, достоин теперь едва што не с самим Господом Богом беседу вести, мир остальной добру и правилам жизни поучая.
— С чего ты от дел наших будничных да о столь великом разговор повел?
— А с того, што именно по наговорам и советам схимников таких пострадал столь достойный в краях наших человек, как воевода новгородской Аникей Пивашин. А теперь вот мы, просты люди монастырские, внука его спасти от гибели, ему грозящей, намерились…
— И этот внук — отрок сей? — догадался Елизарий, указывая на застывшего в молитве паренька у россыпи камней.
— Да, это внук воеводской Мегефий. Ранее, когда отец Симеон был благорасположен к паломникам и среди них к первому из них, князю Пивашину, он и князя самого и семью его приютил и скрыл надежно от царского гнева. Но как вышла между Симеоном и князем размолвка из-за внука сего, то настали для мальца черные дни. Симеону, видите ли, явился во сне вестник небесный и предсказал, што Мегефий наделен с детских лет благодатью Господней и быть ему пророком православным, достойным владеть и нести в края югорские, дикие крест жемчужный и икону пешего Георгия Победоносца — реликвии византийских праведников, предназначенные для паломников. Сам же князь Пивашин видел своего внука лишь воином — воеводой, ратоборцем именитым и знатным. И тогда Симеон предрек ему и внуку гибель скорую и неминучую…
— Ох, брате мой, — покачал головой Елизарий, — ты о таких деяниях наиважнейших разговор ведешь, кои по слову и месту вроде бы и близко нам не положены, откуль все это знаемо тебе?
— Откуда? Поведаю тебе о том. Есть дела монастырские, што равняют здесь нас с тобой. Ты — главный кормчий, проводник головной и старознатец дорог тайных у схимников верхних. Я такой же средь мелкого люда монастырского. И ты уж прости, отче Елизарий, скажу так не в обиду тебе: я ведь издавна у челнодельцев дела кормчие, дорожные постигал в краях иноземных. По делам тем побывал там довольно, речь многу иноземну постиг, хотя о том мало кто ведает на монастырском подворье.
Елизарий, услышав такое, вновь покачал головой, подумал малость малую, поклонился уважительно старшине рыбацкому:
— За сказанное ко мне столь доверительно благодарствую сердечно и понимаю теперь, пошто ты меня на остров сей вывез, дело, видать, из самых важных, како предложить мне хочешь, так?
— Так, — ответно поклонился Егорий. — Давай-ка присаживайся поближе, костерок наладим, горяченьким да сытным душу согреем. Беседушка у нас, чую, ой длинна да трудна будет…
По тому, как к месту да споро ладилось все в руках Егория, можно было с уверенностью сказать, что он издавна человек дорожный, много знающий и любая нужная в дорожном деле мелочь никогда не пройдет мимо его внимания. Вроде и времени минуло всего ничего, а они, расположившись на набросанных вокруг костра нерпичьих шкурах, уже плотно поели тут же сваренной Егорием тресковой ухи с обилием лука, перца и чуть осязаемым, но необходимым для такого блюда привкусом легко клубящегося над костром дымка.
Отобедали, и Егорий после приличествующего важному разговору молчания речь повел, особо внимательно поглядывая на собеседника:
— Итак, брат мой во Христе, ежели по монастырским канонам судить, то я ноне намерение имею накликать тебя на дело, которо иначе как греховным не назовешь. Без покаяний должных, без спросу, без благословений старших и иных начальствующих решил я принять на плечи свои груз непосильный…
— Мудрено и витиевато для рыбаря излагаешь, — подивился Елизарий. — Ну прямо-таки яко мудрец знатной! Ты попроще да покороче реки саму суть…
— Чтоб уразуметь сие, надобно издалека речь вести, однако слушай. Довелось мне однажды… а вернее, Бог, не иначе, допустил меня на разговор один. Будь все по-другому, я, конечно бы, разговор сей стороной обошел, но речь вели набольши соловецки люди о судьбе сего отрока, и я, затаившись в перекрытии чердачном, внимал им, трепеща и молитву творя. Помню как сейчас и лица, и речи, и особливо глаза собравшихся там набольших тайного совета схимников во главе с отцом Симеоном. Глянуть на любого из них и то страшно, а уж како речь поведут, ну поверь, морозом злым по коже берет…
Без сомнения, Егорий был наделен даром рассказчика, вел разговор так, будто все, о чем он говорил, не тогда, а вот сейчас перед глазами его было.
— Руками взмахнувший, будто собравшийся взлететь ввысь, отец Симеон, а перед ним — воин-красавец в наряде походном воинском, белесый до изумления, разбросавший кудри по плечам — новгородской воевода князь Аникей Пивашин. Нетерпеливо переступив да еще притопнув каблуком зеленых сафьяновых сапог, говорил он, надменно глядя Симеону в глаза:
— Я ни в единой малой малости ни долга воинского, ни веры православной не поругал. Ведомо тебе, што мы у самого преддверья Югры побывали, воинов своих, царствие им небесное, боле половины положили, сражаясь с ворогами земель русских, так нас ли укорами мелочными корить?
— Вот-вот! — воскликнул Симеон, с силой вонзив посох в прибрежный песок. — «Я», «мы» — только и слышно от тебя, поступиться ни в чем не хочешь. Даже внука свово единого в монастыре оставить не хочешь, а ведь и я, и многи старцы наши уже узрели в нем будущего поборника святости великой, а может, именно ему предсказано крест жемчужный великой византийской в незнаемы земли нести?
— Удостоится того — так и понесет, не уронит, не той породы и рода не того он, но только творить сие будет в уборе воинском, в панцире и кольчуге и с мечом в руке, како воину Христову да потомку князей новгородских положено быть! Вы его тут, я слышал, молениями не к месту и не к ладу извели, ахами, охами да предсказаниями, сути которых сами и не постигли толком…
И без того всегда отличавшийся редкой памятливостью, Егорий говорил, вспоминая, толково, понятно до крайности самой малой, и опять мелькало перед ним искаженное злобой лицо Симеона и презрительный напряженный взгляд князя Пивашина…
— Вот так оно все и было, — закончил Егорий свой рассказ.
Он смотрел на собеседника испытующе, готовясь задать вопрос, ответа на который ждал с видимым волнением.
Елизарий опередил его:
— Спрашивать будешь, как я посмотрю на все это? А по-божески посмотрю, чего уж тут измышлять лишнее — внук такого человека, как князь Пивашин, спасен должен быть и переправлен добрым людям.
— Именно так, ежели ты в этом деле рука об руку со мной пойдешь!
— Пойду, кой разговор тут быть может? Думаю, к нашему путевому челну меня с отроком доставишь, а там Божья воля да морюшко родимо… Сколь раз оно нас выручало, выручит и ноне… — Елизарий поднялся, отряхнул кафтан и неожиданно рассмеялся: — Ох, чую свару велику, опять господа старшего совета на две стороны разойдутся. Одни за изничтожение сего отрока ратовать будут, другие за то, штоб его ревнителем веры представить и святителем краев соловецких огласить… Опять забудут и те и другие, што бог — это добро и мы, люди Божьи, иными быть не можем!
— Низкий поклон тебе за слова сии, брат мой во Христе Елизарий! Значит, в путь?
— В путь! Челн главной, ходовой готов аль не?
Егорий, не дрогнув лицом, ответствовал по давно укоренившемуся обычаю:
— Господу Богу помолившись да в вере нашей православной утвердившись, вручаем души и животы свои морюшку родиму и, на милость его уповая, будемо им хранимы…
Егорий и Елизарий, трижды перекрестившись, подозвали Мегефия и, собрав нехитрый скарб, направились к лежащему у самой воды челну.
Глава 10
За семьдесят с лишним лет существования Мангазеи спокойных годов было всего ничего, а смут и прочих потрясений столько, что им давно и счет потеряли.
Надо же было случиться, что именно в такое время да к тому же после столь долгой неотступной дороги попал сюда думный дворянин Авксентьев. Дорожные злоключения нисколько не повлияли на его стремление довести до конца начатое дело и отыскать, схватить наконец этих богопротивцев Дионисия и Марфу, которые, как он полагал, должны быть именно в здешних краях.
Но разочарования постигли Авксентьева с первых же шагов пребывания в Мангазее. Свои тут, как видно, были правила, свое отношение к московским грамотам и делам.
Мангазейский воевода князь Федор Домашин и на грамоты-то эти глянул мельком, едва что не отмахнувшись.
— Э-э-э, мил человек, — недовольно морща тонкие злые губы на таком же тонком, болезненно неприятном лице, заявил он, — мы ноне свои розыскны дела забросили, куды уж нам за московски браться… Сам, сам уж со людишками своими расстарайся, а мне недосуг полный. Слышал уж, поди, што во граде нашем творится? Едва на посаде бунтование поутихло, гулевой люд из тундры да самоядь немирна с ними город едва приступом не взяли. Они и ноне не ушли, неподалеку табунятся…
— Так дело-то мое спехом надо творить, а то из Москвы от набольших людей недовольство получим…
— А ты ужо получил извещение московско аль тебе не довели писарские людишки наши? Прислана на имя твое грамота ругательна, где указуют, што не больно-то, мол, ты устремлен к делам государевым, ленью более обуян, тащишься яко вошь по луже, господи прости!
— Вошь по луже, гляди-кось! — несколько раз с обидой повторил про себя Авксентьев по дороге к дому, где они остановились со стрелецким пятидесятником Климом Егоровым. Застав его дома, он чуть ли не с порога заявил: — Ну, брат Климушко, штой-то мы оплошали с тобой, аж из самой Москвы нам добра выволочка пришла!
— Все про тех? — сразу догадался Клим.
— Ага, про них… И ты знаешь, вот убей меня, чую, где-то близко они… Климушка, што же делать, како же на тропку к ним заступить?
Клим Егоров оставил в свое время мореходское дело ради воинской государевой службы, к коей был привержен весьма и весьма. Все здесь нравилось, все было по душе, а к трудностям да гореваниям разным он привык еще с детства, так как в поморской жизни легкого почти николи не бывало. И все бы ничего, да вот к тому, что его вынуждал делать в последнее время Авксентьев, душа не лежала. Не дело воинского человека ходить, расспрашивать, вынюхивать. Бой бы какой, поход потрудней али ина кака воинска сшибка — это бы к месту, а ино, да такое, что Авксентьев столь настырно навязывает ему, вот уж не к месту, не к сердцу совсем.
— Так как же, Климушко? — вновь напомнил о своем Авксентьев. — Како же нам в деле сем поверней изловчиться?
Клим лениво, с тоской ругнулся про себя, вздохнул, проговорил, будто цедя слова:
— Ноне, Гордей Акимович, пойду-ко я на посад, в кабак тамошний, есть у меня ниточка мала, вкруг меня один молодец суетится, присматривается вроде, чую, сие не просто так… А вдруг он из тех, из Дионисьевых людей? Они ведь, поди, тоже в ходу, выведывать про нас што стараются…
— Верно размыслил, — похвалил Авксентьев, — поспешай в кабак посадской тот…
В кабаке, известно, шум, гам, дым коромыслом, споры до хрипоты, ругань, кто пытается петь, кто плачет, а кто спит, уронив голову на залитый вином и усыпанный объедками стол. Глядя на все это, Клим презрительно скривил губы, прошел на чистую половину, где поопрятней, получше и народ посдержанней: кормщики, люди дела морского, российские и иноземные, гости торговые, тож российских дальних пределов, годовальщики — стрельцы и казаки, пятидесятники, сотники, писарской и прочий чиновный люд. Столы здесь аккуратные, чистыми скатертями застелены.
Клим выпил кружку вина, со второй уселся за один из таких столов, огляделся.
Ну не диво ли это? Чуть наискосок, тоже с кружкой, сидел тот самый молодец, о котором он рассказывал совсем недавно Авксентьеву.
Увидев, что Клим глядит на него удивленно, молодец подвинулся, сказал так, словно они только что прервали разговор:
— Так, значит, я вкруг тебя похаживаю и присматриваюсь? Ишь ты!
«Наваждение аль чертовщина кака, — быстро подумал Клим, — мои слова ему ведомы, откуль же?» Он хотел сотворить молитву, но, увидев, что молодец глядит насмешливо, сдержался.
— Ты кто, знахарь, ведун, а может, нечистый какой? — Клим не знал, как ему держать себя с этим человеком, и поэтому, растерявшись, разозлился.
— Может, и ведун, про тебя и про твоего дворянина московского, уж во всяком случае, все ведомо. Ищите, тычетесь яко щенки слепые, а отец Дионисий и матушка Марфа давно уже на Енисее-реке пребывают, да ты ведь слышал об этом, опоздали, выглядчики московски…
— Брешешь! Мы ж, считай, по их следу сюды шли!
— Словеса выбирай, служака, брешете вы, лизоблюды да прихлебатели московских князей Сеньки Беклемишева да Петьки Боголюбского, штоб им пусто было!
— Да я тебя за эти слова на правеж, на дыбу!.. — вскочил из-за стола Клим, намериваясь кликнуть стрельцов, но молодец, не глядя на него, почесал пятерней затылок, и сейчас же по бокам Клима выросли два рослых, здоровенных парня, держа каждый руку за пазухой.
— Не успеешь крикнуть-то выручальщиков, — сказал молодец Климу, — как сам будешь ответ Господу держать на небеси…
Клим посмотрел на молодца, на так же настороженно глядящих на него парней, плюнул в сердцах и, схватив шапку, пулей вылетел из посадского кабака.
— Садитесь, други, — как ни в чем не бывало пригласил парней Игнатий, так как это именно он беседовал с Климом, — садитесь да испейте доброго винца-зеленца да меду-игрунца за здравие да за дела людей вольных не только в Мангазейском граде, а и по всей Югре-матушке.
Парни поклонились, стали поудобней усаживаться за стол.
— Прощенья прошу, — сказал Игнатий, — что нет сейчас минутки побыть, побеседовать с вами, но, однако ж, беседушка сия за мной, в Мангазее каждому ведомо, что слово мое всегда верно есть…
Парни еще раз уважительно склонили головы, и тут же Игнатий будто растворился, исчез в толпе кабацких гулеванов.
Как правило, он никогда не входил и не выходил из кабака через главную дверь. И на этот раз, пройдя просторную кухню с огромной русской печью, возле которой суетились в засаленных передниках бабы, Игнатий вышел через кладовой прируб и, минуя узкий коридор, очутился вскоре на улице.
По утвердившейся издавна привычке он быстро, с удвоенным вниманием огляделся вокруг и только собрался продолжить путь, как услышал за спиной насмешливое:
— Здрав буди, добрый молодец!
Он вмиг обернулся, готовый к отпору, к схватке, но тут же, увидев перед собой ладную большеглазую молодицу в турецкой шали и франтоватой душегрее, облегченно выкрикнул:
— Господи! Это ты, Ульянушка-свет, побойся бога так вот, яко нечистый дух, православный люд в испуг приводить!
Это была одна из самых бойких посадских молодиц, Ульяна, дочь опального казацкого сотника, казненного в свое время по царскому указу.
— Аль таким пугливым стал? — задиристо улыбнулась девушка. — То-то я смотрю, ты все по углам да по малолюдью ходишь…
Зная, что у Ульяны всегда имелось в запасе колючее слово, Игнатий тут же свел разговор к шутке:
— Ты пошто ноне нарядна столь, аки цвет лазоревый?
— К чему нарядна я столь ноне, пытаешь? А как же иначе мне такого молодца-удальца, как ты, встречать?
Насмешка, прозвучавшая в ее словах, явно пришлась по сердцу Игнатию, он легонько полуобнял Ульяну за плечи, шепнул, будто пугаясь:
— Увел, скрал бы тебя с любого подворья, Ульянушка, да ведь за тобой женишки-то, поди, чередой ходят?
— Ходят, не скрываю, а все не по нраву мне. А придет срок, я и сама кого хошь скраду, да хоть бы и тебя.
— Ух ты! И не побоишься?
— А не побоюсь, боязни мои ветром по морю да по тундрам гиблым давнехонько разнесло. Должники у нас едины с тобой: отребье воеводское да лизоблюды разнородны, губители отцов наших и иных христианских душ русских!
— Поклон тебе низкой за честну речь, — уже серьезно проговорил Игнатий, а Ульяна, как бы подхватив его тон, тут же спросила:
— Ну, перекинулся словцом с пятидесятником московским, што в дому нашем проживает?
— Перекинулся, еще раз хвала тебе, што упредила меня. Ты и дале, Ульянушка, словес мимо ушей не пропускай, што выведаешь — сразу к Милентию посыльного, сама не ходи, осторожиться тебе надобно…
— И ты мне таково толкуешь? Всем ведомо, сколь петель да капканов на тебя воевода понаставил.
— А мы изловчимся, впервой нам, што ль?
— Иди ужо… Изловчимся… — жалостливо сказала Ульяна.
Игнатий поклонился, подмигнул озорно и пошел вразвалочку, зорко оглядываясь по сторонам. Ульяна вздохнула тяжко, долго-долго смотрела ему вслед, и в больших глазах ее очень медленно, как бы нехотя таяла печаль.
В этот предвечерний час мангазейские улицы были немноголюдны: несколько торопливых прохожих, пара возвращающихся из тундры усталых оленьих упряжек, редкие цепочки сторожевых стрельцов, уходивших в ночные дозоры.
Ульяна сбавила шаг, намериваясь свернуть за угол, как тут же пред ней, перегородив путь, встал, игриво щурясь, известный недруг ее, а может и намного хуже того, наиглавнейший воеводский выглядчик — Федот Курбатов.
Сказать, что Ульяна ненавидела его — ничего не сказать, она просто задыхалась от ненависти, хотя была по натуре незлобивой, а иногда даже слишком доброй. Порой этот Федот был для нее вроде гнилого тумана в тундровых низинах, который всегда обходили не только охотники, но и олени. Каждую встречу с Федотом, даже мимолетную, случайную, долго помнила Ульяна, обязательно прикидывая, к чему она, что говорил, на что намекал Федот, что хотел вызнать-выпытать у нее.
Вот и ноне, едва нос свой из-за угла показал, как почти запел на разны голоса от радости безмерной:
— То-то я смотрю, посветлело сразу окрест и цвет лазоревый разлился в небеси — Ульянушка тута появилась…
«Случаем здесь он или ино как появился? — едва не воскликнула Ульяна. — Следил, поди, подглядывал за мной, сучья кость».
И, хорошо зная привычки и характер Федота, тут же первой, не чинясь, набросилась на него:
— Чего узнал, проведал, выглядел новенького? Я вот только что с дружком наилучшим твоим Игнатием беседушку вела, тоже словечки приветны расточал мне.
При упоминании имени Игнатия Федот даже изменился в лице, плюнул трижды ожесточенно через левое плечо, как было принято в Мангазее при обереге от колдовства и несчастий, и, буквально опалив взглядом Ульяну, рванул в сторону, спотыкаясь и нашептывая про себя все мыслимые и немыслимые проклятья.
Так сложилось в пределах мангазейских, что между этими двумя людьми, совершенно не похожими ни в чем друг на друга, шло постоянное состязание, вернее, скрытая пока, но ожесточенная до предела схватка за место и влияние во многих мангазейских делах.
Когда в партии высланных на вечное поселение «государевых супротивцев и злодельцев» появилась дочь казненного стрелецкого сотника Теребалова, Федот, как говорится, сразу же положил на нее глаз, мгновенно и, как ему казалось, вполне обоснованно решив, что сия молодица при ее уме, стати и жизненной ловкости будет со временем столь необходимой ему помощницей, а потом, глядишь, и супругой. К сожалению, планам этим не суждено было сбыться.
Более того, очень скоро Федоту стало известно о таких делах и знакомствах Ульяны, что он не только проклял день их первой встречи, но стал усиленно искать пути, чтобы убрать Ульяну с жизненной дороги. Но поздно, слишком поздно взялся он за это дело.
Дошло до того, что вчера ночью его разбудили пришлые, по всему видно, с дальних мест люди — рослые, злые. Они связали охранников, забрали приготовленную для отправки в Тобольск партию отборнейших соболей и голубых песцов и тут же принялись за Федота. Сдернув с него неплюй, принялись стегать его ремнями по голому телу, пинать, катать по полу, но неторопко, даже прерываясь на минуту-другую, так, будто эта неторопливость доставляла им особое удовольствие.
Федот, перемазанный землей и кровью, вскоре понял это и от обиды, попав впервые в жизни в такое изгальство, завыл едва что не по-волчьи. Но еще злее оказались слова вожака этих людей, несуразных размеров детины, что он перед уходом бросил Федоту:
— Добрей да человечней, знаю, и после этого не будешь, но поутишь слегка прыть-то! Службу свою подлую у воеводы неси, как и нес. Сие дело к нам не касаемо, но Ульяну в полном покое оставь отныне и вовеки! То наказ тебе от людей тундровых, вольных. — Он даже не пнул, а просто отбросил носком сапога стоявшего перед ним на коленях Федота и, ухмыляясь удовлетворенно, но не по-доброму, покинул сторожевую избу.
Пробежав пару улиц, не глядя на прохожих и на весь белый свет, Федот немного поостыл, принялся за себя. Самая отчаянная ругань показалась вдруг смешной, никчемной, унизительной даже для него, особенно в сегодняшний день, когда он готовился рассчитаться наконец по всем статьям с этой трижды адовой Улькой, так унизить ее, чтоб она рыдала, выла, каталась у его ног, вымаливая прощение, а он, будто не замечая этого, презрительно бы морщился и похохатывал, иногда спрашивая: «Ну, довольна, получила свое?»
Да, да, все это будет, обязательно будет, ох уж попляшет еще эта ведьма во плоти! Федот сжал кулаки и уверенно зашагал вдоль улицы по направлению к воеводской избе.
В этот же день к вечеру докладчики донесли ему о том, что в посадском кабаке Игнатий встречался с прибывшим из Москвы пятидесятником Климом Егоровым. «А не он ли тот, кто мне нужен?» — задумался Федот.
Постоянное брюзжание Авксентьева, пьяные жалобы на неудачно сложившуюся жизнь так осточертели Климу, что он стал более обычного прикладываться к рюмке да и службу нес спустя рукава: нечего, мол, стараться, да еще здесь, на краю землицы русской.
На Федота, когда он с кружкой вина подсел рядом, Клим глянул мельком и, прикрыв тяжкими веками безразличные, а скорее, пустые глаза, проговорил недовольно:
— Чего мостишься, аль иного места нет?
— Место-то есть, да там лишних не счесть, — присказкой ответил Федот и не торопясь продолжил: — Нам лишние ноне ни к чему, разговор я намерился повести с тобой тайный…
Клим покачал головой, насмешливо хмыкнул, и в глазах его появилось что-то похожее на интерес.
— Тайное… гляди-кось ты… А я, мил человек, от тайн разных устал, мне их на службе моей вот как хватает.
— Погодь ты, погодь, — заторопился Федот, — дело есть у меня к тебе.
— А, ну дерзай…
— Знаю о беседушке твоей с Игнашкой-гилевщиком, знаю, о чем речь вели, знаю, сколь лжив был тот проклятый Игнашка в словах своих!
— Ух ты, сколь ведомо тебе! А твой здесь каков интерес?
— Ты знаешь, кто я? — спросил Федот.
— Знаю, видел, как охаживал тебя воевода за службишку твою.
— Вот-вот, а все из-за преподлостей того Игнашки. Ведомо мне, как изловить его и как говорить заставить, а сие и тебе и мне на руку. Перво-наперво выпытаешь о ворогах опальных Дионисии и Марфе, да и о другом-прочем, что твоему дворянину Авксентьеву и нашему воеводе вот как надобно!
— Поздно схватился, и Дионисий и Марфа на Енисей-реку подались…
— Да брехня это! Путает, глаза отводит гилевщик тот. Здесь они, здесь где-то, в пределах мангазейских, сие мне доподлинно известно, тем паче что самого Дионисия днями на посаде видели, пробирался куды-то, старый бес, тайно.
— Да, вот это весть так весть! — Клим встрепенулся, повел плечами, будто сбрасывая с себя сонную одурь, предложил: — Давай-кось, мил человек, изопьем вина за наши дела предстоящие.
Они стукнули кружками по столу и осушили их одновременно.
…Надо сказать, что именно в этот час, случайно или по стечению обстоятельств, шла весьма неприятная беседа между мангазейским воеводою Домашиным и московским посланцем Авксентьевым. Воеводе никак не по душе были разглагольствования Авксентьева, но в новом указе еще и еще раз подтверждались его высокие полномочия в этом деле, и необузданному нравом князю Домашину приходилось скрепя сердце отговариваться.
— Ну што ты, ну што ты меня с делом этим проклятущим, словно медведя в берлоге, обступаешь? Ты сам уже которое время злодеев тех по лесам и тундрам ищешь, а толку? Ничуть!
Авксентьев в ответ лишь вздохнул тяжко, обидчиво поджав губы.
— То-то и оно, — глянув на него, продолжил воевода, — мы разговор с тобой уже в третий раз ведем, а все попусту выходит, прости господи, воздухов сотрясение! А я ведь упреждал тебя, тута не Москва, край ой какой разбойный…
— И што ж ты мне прикажешь? — неотступно продолжал разговор Авксентьев. — Восвояси убираться отсель, што ли?
— А это уж как бог на душу положит… Москва-то далече, што оттуда видать? А тут — ты сам ноне свидетель дел окрестных — дурню понятно, што у Дионисия с Марфой, ежели они взаправду где-то вблизи, содругов разбойных всяких да помощников ой как немало найдется, так што ухватить эту свору куда как непросто будет…
Авксентьев и раньше-то не отличался особой полнотой, а за последнее время исхудал заметно, нос заострился, отчего лицо выглядело почти хищным, тонкие губы всегда кривились теперь в неприятной ухмылке.
— Нет уж, князька, — внешне будто бы в шутку, а на деле со злой подковыркой проговорил Авксентьев, — ты уж прости меня, надоедливого, но я, како ты, о времени рассуждать не намерен. Костьми лягу, а найду, вздерну на дыбу для беседушки злодеев тех, без того мне дороги на Москву нет!
— Так-то оно так, — неопределенно заключил разговор воевода Домашин.
Глава 11
Шестнадцатый век принято считать веком расцвета Ганзы — великого торгового союза городов Балтийского и Северного морей и прилежащих к ним более мелких, но многочисленных поселений. Прибыли, постоянный рост богатств и политическое могущество Ганзы в первую очередь обеспечивал ее первостатейный по тем временам торговый и военный флот. Отлично вооруженные и крикливо украшенные специальной атрибутикой из флагов, вымпелов, больших и малых знаков, провожаемые в море молитвой, корабли всегда привлекали к себе внимание на морских путях и в портах, вызывая зависть многочисленных врагов и зевак.
Обычай провожать корабли Ганзы торжественными богослужениями вскоре дополнился появлением на мачтах судов образов святых, обеспечивающих своим присутствием добрый путь и счастливое возвращение кораблям.
Вскоре этот обычай утвердился и на российских судах среди рыбаков, купцов и особенно тех мореходцев-паломников, чьи парусники пробирались среди льдов таинственной Югры. Шли туда и самовольно, и по наказу игуменов прибрежных монастырей. Но на каждом, пусть и самом малом паруснике чуть пониже «дорожной» иконы обязательно был укреплен кипарисовый крест размером с ладонь, обычно с набором мелких сизовато-серебристых жемчужин, россыпи которых в то время щедро покрывали устья многих северных рек и ручьев.
Именно такой крест был укреплен на мачте струга, который ранним осенним днем вышел в море от одного из соловецких причалов с командой из шести человек во главе с уже знакомым нам схимником Елизарием. В свое время его необъяснимое исчезновение из Соловецкой обители вызвало немало толков, да и потом об этом долго не могли забыть.
Даже среди скромных монастырских насельников, особенно его отборнейших, как тогда говорили, «головных» молитвенников — монахов, принявших схиму, Елизарий был заметной фигурой, недаром он носил звание головного доверенного посыльщика, а попросту говоря, посла по самым важным делам, которых у тайного совета было немало.
Кроме того, Елизария всегда отличали за ум, за особую приверженность к богословским и иным наукам, за умение находить выход из самых каверзнейших положений, коими полна была жизнь в широко уже известной тогда на Руси Соловецкой обители.
Первым был Елизарий и в вопросах послушания: отличался здесь особой щепетильностью, и его постоянно ставили в пример молодым монахам. И вдруг этот Елизарий без разрешения и благословения, не говоря никому ни слова, покинул, как выяснилось позднее, обитель — будто растаял в морской дали. С тех пор ни о нем, ни о сбежавших с ним монахах никто ничего не слыхал.
Тут, думаю, будет уместным вернуться немного назад, чтобы рассказать о последнем вечере, проведенном Елизарием в рыбацком поселке на Соловках. В просторной рыбацкой избе, густо увешанной просыхающими сетями, сидели вкруг у камелька, щедро источающего жар, Елизарий, Егорий и обремененный долгими годами староста поселка Кондратий — знаменитый в прошлом рыбак и кормчий с несоответствующим возрасту взглядом по-молодому хитровато поблескивающих глаз. Последний и говорил, обращаясь к собеседникам, как-то по-особому, полнозвучно и убедительно, так что те лишь согласно кивали головами.
— Рыбари местные, особливо старики, просили довести до тебя, друже Елизарий, просьбицу их, из важных наиважнейшу. Позаботишься спросить почему? Отвечу. Потому што с малых лет на глазах ты у нас, честен, прям, в делах богоугодных и прочих — безупречен.
Елизарий насторожился, подобрался весь, спросил коротко:
— Што за просьбица?
— А ты не спеши, друже, ибо речь пойдет вначале о делах давних, можно сказать древних, когда спеху места не шибко-то давали, зато все выходило ладом да по-божески. Еще в пору владычества византийска явились однажды к царю тогдашнему мореходские смелые да умом возвеличившиеся люди. И молвили, што, дескать, донеслись до них вести о стране богатств неисчислимых, страхов и льда — Югории. И што просят они их в ту страну отпустить — увидеть, так сие или не так, и новым походом край свой византийской прославить.
Намерение таково пришлось царю по душе, похвалил он воинов своих, поход одобрил и еще одно повеление огласил:
— Понесете в Югорию силу нашу, но ведь сила без веры — ничто! Пусть патриарх словом своим пастырским укажет взять в поход внука моего Мегефия, который после завоевания Югории и по достижении им совершеннолетия станет царем и патриархом ее и вождем всего войска византийского!
— Вона куды дело пошло! — неожиданно, так словно его подтолкнул кто, воскликнул Елизарий и, как бы устыдившись этого, уже негромко осведомился: — А поход ихний в края югорские состоялся аль нет?
— Поход-то был, — раздумчиво ответил Кондратий, — и перед началом его царского внука Мегефия будущим царем югорским огласили, но…
— Што? — теперь еще более заинтересованно спросил Елизарий.
— А то, што судьба того похода до сих пор толком неизвестна. То ли в море бурей злой исхлестало их до конца, то ли пираты изничтожили византийцев, неизвестно.
— Так вот откуда у отрока нашего имечко Мегефий, — почти испуганно проговорил Елизарий. — А сколько шума-говора вкруг имени этого монастырскими и прочими людьми поднято…
— А ты думал, — усмехнулся Кондратий. — Отец Симеон, властолюбием греховным обуянный безмерно, будь он помоложе, сам бы с отроком сим в поход в земли югорски отправился, а так ему ходу нет. Ведомо нам стало, што он последнее время живет в раздумьях тяжких: с кем Мегефия в Югру посылать можно, как он там волю его, Симеона, исполнять будет?
— А верна, правильна ли та воля Симеонова? — осторожно осведомился Елизарий. — Неужто в обители нашей и в селениях, што окрест ее, доброго человека для дела сего не сыщется?
— А пошто искать его, — усмехнулся Кондратий, — коли вот он, рядышком? В начале разговора сего я о просьбе к тебе стариков наших речь повел, так вот, намерились они тебя просить, штоб доставил ты в Мангазейский град отрока Мегефия, штоб он там под присмотром твоим дело святое паломников наших православных продолжил. Так молви нам, подумав хорошенько, согласен ты аль нет?
Елизарий встал. Щеки его как пламенем полыхнули, хотел согласие свое высказать душевно, во весь голос, но, истово перекрестившись, лишь покорно склонил голову.
— Иного от тебя и не ждал, — едва слышно проговорил Кондратий, и по щекам его, щедро и безжалостно иссеченным всеми северными ветрами, одна за другой покатились слезы.
— Жизнь долгу да куды как трудну прожил я, — продолжал он малое время спустя. — И матушка-смертушка не раз в очи заглядывала, и ино изгальство жизненно терпел, но с верой Господней всегда неотступен был, то и выручало. Чую, и ты, человече, таких же кровей будешь. Ноне по обычаю святых паломников прежних дорожный план с дорожной же молитвой раскинем — и путь тебе добрый.
Старик подошел к висевшему в углу избы иноземной работы шкафу-посуднику, вытащил оттуда и поставил пред поздними гостями три иноземных же объемистых бокала.
Наполнил их вином, провозгласил по обычаю дорожный наказ:
Путь-дорога по землице Иль по пенной по водице Нас к удаче приведи, Много счастьица найди. Чтобы легче нам шагалось, Чтоб плылось да не качалось, Чтоб народ наш православный Был всегда с удачей славной!Они не торопясь опорожнили бокалы, пристукнули донцами по столу, поклонились Кондратию.
Тот поклонился ответно и произнес строго:
— И сказано есть: «Свято место и не бывает пусто». Сотворишь дело — благодатью осиян будешь. Доберешься с Божьей помощью в Мангазейской град — не спеши, осмотрись, а дале на посаде тамошнем стрелецку дочь-молодицу Ульяну найди, ее там каждый знает. Скажешь ей таки слова — неторопко, со значением: «Кланяется, мол, тебе тройным поклоном дед Кондратий, Соловецкой обители инок, просит нижайше под свою заботу взять и меня, и вот отрока сего…» Тут представишь ей Мегефия. Ульяна тут же спросить должна: «А на што, мол, мне вы, старый да малый, куды я вас дену-пристрою?» А ты в ответ ей тако молви: «А деть нас надобно далее, ужо под заботу матушки Марфы, игуменьи островной обители, зеленчатым каменьем вокруг изукрашенной…»
Кондратий задержался на минуту, чуть хмурясь, продолжил:
— С игуменьей будь уважителен, но строг. Она порядок ох как почитает и в словах, и в делах. О приезде и о заботах, тебе предстоящих, заранее извещена будет, так што беседа ваша сразу по должному пути, думаю, пойдет.
— Постараюсь уж, — хитровато усмехнулся Елизарий, — с особами разными куды повыше сей Марфы беседовать приходилось…
— Ох, смотри!.. Сия игуменья яко камень колдовской, прости господи, как подойти к ней, как дело начать позаботишься…
— Так мы с тобой, отче Кондратий, и так всю жизнь в заботах всяческих да опасках, и ничего, живы…
— Потому што в вере нашей великой православной сильны есть, а это главное для души человеческой.
— Это уж как водится, — улыбнулся Елизарий и тут же добавил: — Сколь все тайно сие и мудрено есть… Однако спокоен будь: ни в чем ни отступа, ни промаха малого не допущу!
— Знаю, друже, и верю тебе как себе самому в делах таких! — ответно вымолвил Кондратий. — Обнимемся на дорожку, брате! — И они крепко сцепили руки в братском объятии.
У головных соловецких причалов всегда выстаивало немало российских и иноземных судов, громоздились пирамиды бочек, мешков, тюков, выкладок пиленого леса, было шумно, пестрело в глазах от многолюдья, но порядок здесь, на побережье, принадлежащем монастырю, соблюдался строго. Хозяйничали тут сторожевые монахи — молодцы один к одному, и при оружии. Каждое подходящее или уходящее в море судно подвергалось строгой проверке.
Так было и в один из вечеров, когда к главной смотровой площадке с бревенчатой сторожевой башней подошел добротно слаженный струг с иконой Божьей Матери и небольшим крестом на щогле и белевшим новизной туго укатанным парусом на рее. Увидев подошедший струг, старший из сторожевых монахов торопливо, даже чуть испуганно перекрестился и, пробормотав: «Господь всемилостивый, отцы-схимники удостоили нас», заспешил навстречу.
Поневоле аль нет, но уважали здесь таких паломников, а более — что греха таить — побаивались. Бог их знает, молчунов этих вечных, что не глядят ни на кого, прячут глаза, молитвы шепчут.
Старший на струге, знакомец наш Елизарий, развернув дорожную грамоту с тремя сургучными печатями на гарусных шнурах, тоже не глядя, пробормотал что-то. Сторожевой монах поклонился трижды, и с этим незваные гости отбыли, неторопливо, но в лад налегая на весла, пряча лица за низко надвинутыми капюшонами тяжких схимнических одеяний.
Наверное, никому из пестрого, шумливого многолюдья монастырских причалов и в голову не пришло подумать о том, что грех, и не малый, а куда как большой по здешним понятиям, только что был совершен на путевом струге, уходящем к дальним, неизвестным покуль берегам Югры.
Дело в том, что в кормовой малой загородке струга за ворохом спальных оленьих шкур приткнулся, жадно глядя в смотровое оконце, Мегефий, который то плакал, то истово принимался нашептывать молитвы, и его еще детское сердце было переполнено сейчас неизбывной, совсем не детской тоской.
Если бы мог кто в это время видеть столь невеселую картину отхода струга от соловецких причалов, он бы, наверное, проникся тяжкой тоской и молчанием, будто бы повисшим над беспокойно урчащими волнами, и пожалел бы отрока Мегефия. Он еще продолжал тяжко всхлипывать, как вдруг в поле его зрения попал показавшийся из-за угловато торчавшего мыска небольшой, стремительно скользящий струг с тремя гребцами. Они были, видать, из молодых, гребли споро, в охотку, потому и казалось издали, что струг не просто плывет, а скользит меж волн, едва задевая их пенные верхушки.
Мегефий намерился было окликнуть своих гребцов, видят ли они струг попутный, но тот, еще ускорив свой бег, мелькнул уже за ближайшим барьером из камней и через минуту-другую вообще скрылся из вида.
Мегефий протер глаза, невольно перекрестился и, удивившись, подумал: «Что-то уж больно скор стружок этот, а может, показалось мне?»
Откинув оленью шкуру, он выбрался на кормовую площадку, где сидел у рулевого весла кормчий, и спросил его неуверенно:
— Попутных аль встречных судов не встречалось ли?
— Да нет, — сдергивая меховой колпак, уважительно, как и все остальные гребцы в разговорах с Мегефием, ответил кормчий. — День погожий — добро видится окрест.
«Видать, померещилось», — подумал Мегефий, окидывая взглядом переливчатую, в зеркальных отблесках даль моря и линию белопенных изгибов прибоя у каменной береговой гряды.
Достаточно ощутимый, но ровный попутный ветер наполнял парус. Укрепив весла, с интересом разглядывая уплывающий вдаль знакомый берег, каждый из схимников по-своему прощался с ним, неизвестно на который срок. Сидящий у носового фигурного форштевня Елизарий, увидев устроившегося в тени паруса Мегефия, подозвал его, кивнув на просмоленный брезент:
— Устраивайся ладком, друже, на морюшко полюбуемся, вон оно размахнулось уже сколь, да беседушку немудрену затеем. Согласен?
Голос Елизария звучал столь дружелюбно, что Мегефий, торопливо кивнув, тут же расположился рядом. Можно было предположить, что паренек то ли стесняется, то ли опасается чего. Он будто невзначай оглядывал лица гребцов, нет-нет да и прислушивался к их разговорам и, наконец, чуть склонившись к Елизарию, произнес вполголоса:
— Отче Егорий и старики рыбарски повелели мне на дорожку куды как настрожайше слушать тебя во всем неотступно, говоря, што и в море, и в мангазейском краю ты для меня и наставник первой, и заступа главна будешь…
— Ты, отроче, речь ведешь — другому взрослому впору будет. Годочек-то тебе какой?
— Одиннадцатый пошел. И прошу тебя покорно, отче Елизарий, за мало дитя не держи меня. Надобно будет што важнейше поверить — говори смело: пойму…
На лице Елизария появилась одобрительная улыбка.
— Добро. Ну вот давай с важнейших дел для нас и начнем. Главное, научись молчать поболе, а ежели што молвить намеришься, думай хорошенько. Разные люди на путях наших будут, и с добром, и с враждой, и с подвохом-злостью. Говори, мал, мол, еще, куды еду, куды везут меня — толком не знаю. Ко мне отправляй таковых любопытных.
— В таком разе будь без заботы, — строго проговорил Мегефий.
Он помолчал, и вдруг почти взрослый взгляд его растаял и тут же что-то подчеркнуто детское, просящее появилось в глазах.
Даже голос его дрогнул немного, когда он спросил Елизария:
— Отче, а единое, само малое можно полюбопытствовать мне?
— Дерзай! — все с той же одобрительной улыбкой поддержал его Елизарий.
— А как дед мой, воевода знатной Аникей Нилыч, здравствует ноне? Где он сам, где пути его проходят?
Лицо Елизария стало вдруг предельно строгим.
Придерживаясь рукой за борт струга, он встал, перекрестился достойно, не сказал — отчеканил будто в ответ:
— Достойнейший князь новгородской, воевода, в наших и иноземных пределах известной Аникей Нилыч Пивашин, по слухам, ноне в Югре, тропу русскую ведет, а так сие аль нет — то доподлинно узнаем в краях мангазейских…
— Ох, поскорей бы сие! — взволнованно произнес, почти выкрикнул Мегефий и, не сдерживаясь, горько, по-детски разрыдался, уже не стесняясь и не обращая внимания на гребцов, удивленно глядевших на него.
Глава 12
Примерно через неделю после прибытия Авксентьева в Мангазею об этом стало известно в обители игуменьи Марфы, а поведал о том не кто иной, как Викентий.
Появился он здесь нежданно-негаданно, переполошил, как водится, всех, и надо сказать, что появлению этому сопутствовали некоторые весьма интересные события.
С первых дней лесной жизни Аглая пристрастилась к прогулкам — начала все дальше и дальше уходить от обители, а когда вдоль и поперек исходила остров, где они жили, решила побывать и в соседних лесах.
Марфа эту затею не одобрила:
— Ох, душа непоседлива, куды еще несет тебя, каки таки грибы-ягоды?.. Ведь чащоба вкруг едина — зверье разно… Девичье ли дело там толкаться одной?
— Отпусти ее, мати Марфа, — неожиданно вступился Дионисий. — Пригляделся я к ней: ловка и в делах разных разумна. Лес, ежели по нему с толком ходить, не супротивник, а защитник доброму человеку. Ей жить здесь, добро основывать — пусть идет.
Твердо пообещав вернуться к вечеру, Аглая с небольшой продолговатой котомкой за плечами уселась в приготовленную ею лодку и, покинув остров, скрылась вскоре в камышах на противоположном берегу.
Даже нельзя себе представить, что бы подумала, а тем паче изрекла Марфа, узнав о том, что находится в котомке, которую прихватила с собой Аглая. Она оставила лодку в камышах, покрепче привязав ее к огромной коряге, и по песчаной косе вышла на прибрежную тропинку. Из рассказов Викентия она знала, что тропинка эта здесь одна-единственная среди окружающей чащобы и что именно по ней можно выйти к многоверстной прогалине, выводящей в свою очередь путника на дорогу к Мангазее.
«Подале, подале мне отойти надобно, — размышляла Аглая, — в лесу эхо прилипчивое: по деревьям, по вершинкам так и покатится вдоль, не дай бог, наши услышат…»
Она шла еще полчаса и наконец выбрала себе подходящее место. Прогалина здесь круто сворачивала влево, образуя узкую поляну, плотно окруженную высокими елями.
«Дядюшка, дядюшка, царствие тебе небесное, — думала Аглая, доставая из котомки ловко сработанную ручную пищаль и должный к ней огненный и иной запас: пули, порох, пыжи, шомпола-щетки. — Помню словеса-поучения твои, дядюшка, — продолжала размышлять Аглая, изготовив пищаль к бою. — „В сиротском твоем положении, когда ты при живом еще отце сирота, — говаривал ты не раз, — надеяться тебе не на кого, сама себе и оборона, и защита“. Вот и пригодилось твое стрелецкое поучение. Теперь, когда Викентий с Саввой в дальние пределы Югры намерились, неужто я от них отстану? Да ни в жизнь!..» Аглая еще раз осмотрела пищаль, тайно прихваченную ей у Викентия, и стала взглядом отыскивать цель — место на деревьях, где ее выстрел был бы заметен.
Можно назвать это как угодно: стечением обстоятельств, случаем, но именно в это время Аглая услышала неподалеку треск сучьев и чьи-то возбужденные голоса. Она тут же смахнула в котомку весь оружный запас и с пищалью наизготовку затаилась в кустах. Вскоре на поляне появились два человека. Один из них был уже знакомый нам старшина мангазейской городовой стражи Федот Курбатов. Другой, видимо, его помощник — шустрый быстроглазый детина с щедрым посевом веснушек на глуповатом лице. Он же и предложил, первым глянув на солнце, а потом и указывая на него:
— Вона оно еще где, родимое, и по всему выходит, што мы на полдня, не менее, опередили того гилевщика. Подкрепиться да отдохнуть малость бы надобно.
— Давай подкрепимся, — опускаясь на траву, сказал Федот и, устроившись поудобнее, спросил парня: — Знаю, што тебе сии места лесные добро знакомы, бродил ты тут с охотниками не раз, но пошто считаешь, будто тот гилевщик, первый Игнашкин друг и подручник, именно здесь пройти должен?
— А потому, што на сем многоверстье иных путей и не свидишь: справа по переду озеро, слева топи болотные с чащобой непролазной, только тут и пойдет, коль придется.
— Куды ж его несет поспешно столь? — растягивая в злобе слова, промолвил Федот. — Вот бы о чем поспрошать его надобно. Так не скажет, поди…
— Это у меня-то? — Помощник даже удивился, и на лице его промелькнуло что-то похожее на обиду. — Да меня сам мангазейский воевода князь Домашин не раз хвалил за умельство мое по делам расспросным да пытошным.
Упоминание имени воеводы тут же вызвало у Федота взрыв негодования.
— За мою-то верную беспорочную службу — и тако меня в руганье да позорище ввести!.. Ну упустил я того Игнашку-злодельца, всяко бывает, так неужто теперь я к службе государевой не гож?!
Он снова вспомнил, как распоследними словами ругал его воевода да кричал, размахивая у носа кулаками: «Последнее тебе дельце, адов сын. Иди лови где хошь Игнашку тово, и покуль не схватишь — штоб на глаза мне не попадался, вот и весь сказ!»
Даже вздрогнул невольно Федот, вспоминая этот разговор, и тут же вновь обратился к своему спутнику:
— Значит, будем здесь ждать, пущай по-твоему станется — словим, расспросим как следует, ну а там уж видно будет…
Весь этот разговор Аглая слышала полностью, так как место у нее за кустами было удобное да и расположились они совсем неподалеку.
«Кого это они имать собрались? — тревожно размышляла Аглая, не зная, как ей поступить далее. — Может, вернуться, предупредить наших в обители, а с другой стороны, может, здесь мое место? Тому, кого ждут злодеюки эти, может, и я снадоблюсь, помогу чем…»
Свежий ветер, раскачивающий ветви деревьев, к полудню сник, и в лесу неожиданно установилась редкая тишина, когда лишь где-то далеко-далеко едва слышно звучат то ли отголоски дальнего эха, то ли вовсе непонятные звуки вперемежку со скрипами, шорохами, раскатистыми потрескиваниями ломких сухих сучьев.
Человек, которого, затаившись, с нетерпением поджидали мангазейские стражники, появился неожиданно. Он шел не торопясь, беспечно посвистывая, закинув пищаль за плечи, размахивая на ходу зажатым в руке охотничьим колпаком и подставив солнцу копну пышных светло-соломенных волос.
«Викентий, господи! — тут же узнала его Аглая. — Куды же это он? Как же оберечь его, подсказать? Аль крикнуть погромче?»
Она просунула меж сучьев пищаль, но в этот момент произошло то, что было страшнее страшного для Аглаи. Федот, видать, был мастак в своем деле. Как тень возник он за спиной Викентия, играючи ударил его прикладом пищали по голове и, подхватив под руки, уложил на краю поляны.
Аглая никогда ранее не ощущала боли в сердце, да в ее годы это было бы смешным, а тут, как жалуются старики, подступило, будто тонкая игла сломалась в груди и концы ее уперлись ей в сердце так, что минуту-другую она и вздохнуть-то как следует не могла. Боль тут же ушла, но тревога усилилась. Раньше ей бы и в голову не пришло выстрелить в человека. Этому не было бы ни оправдания, ни названия, а теперь она, не раздумывая долго, решила: «Ежели еще раз злоделец этот Викентия тронет, я его приутишу…»
Увалень, коего Федот называл Семкой, быстро соорудил костер, подтащил крепко связанного уже по рукам и ногам Викентия и, поскольку тот пришел уже в себя, сказал ему с мрачноватой ухмылкой:
— Хороводиться нам с тобой, гилевщик проклятущий, часу нет. Скажешь без лжи, куды и пошто шел, леший с тобой, отпустим враз. А станешь лжу изъяснять, поджаривать будем шомполишками от пищалей. Зришь, вона шомполишки те в огне добела раскаляются. Не пробовал еще? Мясцо-то человечье от шомполишек тех так и расползатся.
Он рассмеялся, ехидно щуря глаза и довольно почмокивая губами. И тогда Викентий как мог приподнялся на связанных локтях и плюнул изо всех сил в его сияющие самодовольством глаза. Тем же ответил он и Федоту. Тот вскинулся, ругнулся забористо и, выхватив из огня раскаленный шомпол, только вознамерился провести им по груди Викентия, как из-за кустов ударил выстрел. Выпустив шомпол из рук, уже за свою грудь схватился Федот, зажимая набухшую кровью рану. Он еще успел крикнуть побелевшими губами: «Кто это, кто?!» — но тут же сник, упал на траву, безжизненно раскинув руки.
Семка, сидевший чуть в стороне, попытался было встать, но ноги отказывались повиноваться. Когда он наконец привстал и боязливо распрямился, из-за кустов вновь ударил выстрел и властный молодой голос приказал:
— Садись!
Пуля вырвала траву у самых ног Семки, и он, понимая, что невидимый и оттого вдвойне страшный стрелок мог бы шутя убить его, но пока требует лишь повиновения, тут же ткнулся в землю и уселся, втянув плечи.
Но, пожалуй, больше всех удивлен был случившимся Викентий. Удивление его достигло крайнего предела, когда он увидел, как из-за кустов показалась Аглая с короткой пищалью в руке.
— Господь всемилостивый! Чудо зрю али вправду сие есть перед глазами? — только и сказал он, пока Аглая развязывала его.
Держа пищаль под рукой, она ни на минуту не спускала глаз с тупо и непонимающе смотревших на нее мангазейских стражников.
…Разговор, который состоялся вечером того же дня в келье игуменьи Марфы, стоит того, чтобы привести его полностью. Марфа, сбоку от нее — Дионисий и чуть поодаль — Викентий расположились под иконами в чистом углу кельи. Сразу у порога, низко опустив голову, стояла на коленях Аглая. Четки ее, крепко зажатые в руке и касавшиеся пола, шевелились, постукивая, так как Аглая никак не могла унять дрожь, охватившую ее с самого начала «монастырского спроса».
Давно уже был опрошен Викентий, сказал свое слово Дионисий, и, наконец, подошло время держать ответ Аглае. Глядя на нее с неприступной холодностью, Марфа, спрашивая, не говорила, а цедила слова сквозь зубы.
— Како же ты, путь свой служению Господу посвятить намерившись, могла в человека стрелить? Богопротивно сие естеству и душе людской.
— В человека стрелить у меня рука бы николи не поднялась, а то не человек был: изверг-злопыхатель адов, — неуступчиво ответствовала Аглая.
— Матушка, я же говорил, толковал тебе, што и как, — попытался вступиться за Аглаю Викентий.
— А ты молчком сиди-посиживай, коли я спрос веду. Сам девку на тако дело вынудил. Охотник!.. Доброго охотника злодеи в лесу николи не схватят.
Викентий покраснел, привстал было от возмущения, но сдержался, смолчал.
— Вот я и говорю, — уже не глядя на него, продолжала Марфа. — Не ведаю, каку епитимью наложить на тебя. Или, может, совсем удалить от дел монастырских? Смирения не вижу в тебе. Кака ж монахиня из тебя получится в таком разе?
— Служить Господу по-разному можно, лишь бы от души, от сердца самого та служба исходила, — с заметной непокорностью и обидой отвечала Аглая. — А что касаемо вины моей, матушка, то не прими во грех, дозволь уж напомнить тебе, како ты сама, еще во миру будучи, злодеев неких из пищали извела во благо добру. Так уж и мой грех не суди мерой тяжкой, хоть и ее приму безропотно…
— Шествуй с богом покуль, — оборвала ее Марфа и, когда Аглая, поднявшись с колен и поклонившись присутствующим, вышла, повернулась к Дионисию: — Вижу, вижу, отче, сколь благоприятен ты к любимице своей, а то не дело…
— Так ведь умна, умна девка, — с гордостью ответил Дионисий, — умна и душой чиста, истая воительница за веру Господню!
— То неизвестно, — все еще хмурясь, произнесла Марфа, — будет аль нет воительницей истинной.
— Будет! — заключил разговор Дионисий. — Уж такие от свово не отступят, истинно реку, и в душе ты со мной согласна.
После ухода Аглаи в келье на некоторое время установилась тишина, так как каждый из присутствующих здесь по-своему переживал случившееся да и разговор на эту тему вроде бы был исчерпан.
Как бы подчеркивая это, Викентий не к месту покашлял и сказал, обращаясь к Марфе:
— Значится, о другом, не менее важном, я тебе, матушка, все поведал: и о думном дворянине том, што по наши души в Мангазею явился, и о том, што злодея того, стражника мангазейского, коего я покуль связанным недалече от озера держу, вновь намерен во град Мангазейский представить.
— Его уж отпускали однажды, а он вновь сюды явился. Явится и в третий раз!
— Э, нет. Воевода ему последнюю уступку дал, а теперь даст лишь кнута доброго. Забить, думаю, не забьет, а будет все равно держать при себе. Таковы исчадники ему вот как уж потребны.
— Тебе-то тут какова забота?
— Забота не забота, а прибыток, хоть и малый, тут есть, он ноне у меня на крепкой узде… Ведь стоит узнать воеводе, што он дважды опростоволосился, нас с Игнатием хватаючи, то исчаднику сему верна кончина будет.
— Смотри сам, — как-то неопределенно ответила Марфа.
Чем больше проходило времени со дня основания обители на острове, тем больше убеждались здешние паломники, что место они выбрали куда как удачное. Наиболее подходящего строевого леса — лиственницы — было тут более чем вдоволь. Да и камней от малых до валунов матерых, серебристой гальки и песка хватало. Дружно, на одном дыхании возвели фундаменты двух просторных домов с кельями, а как взялись за возведение стен, дело застопорилось.
Все знали, что у Марфы издавна были припрятаны два греческих многоцветных альбома с чертежами монастырских сооружений, но как их в дело пустить-приспособить — никто толком объяснить не мог.
Дионисий, знавший греческий язык, попробовал было разобраться в чертежах-рисунках и хитроумных объяснениях альбомов, но спустя малое время лишь развел в бессилии руками.
— Весьма мудрено, ох мудрено до чего же! — в сердцах воскликнул он. — Все вокруг да около, а главного смысла сего строения, основу его ухватить невозможно… Думаю, тут только один человек, ведомый нам, помочь может, это отец Арефий, возводитель храмов мангазейских, Троицкой крепостной церкви и храма на посаде.
— Прости, отче Дионисий, но я, грешным делом, уже подумывала об этом. Ноне все дела откладываем, надобно к отцу Арефию посла налаживать, и, думаю, в образе таковом никто лучше Игнатия нашего быть не может.
— Мати Марфа! — От неожиданности стоящий неподалеку Игнатий даже покраснел. — С таким делом… Да к такому человеку… Недостоин я есть.
— Достоин, достоин! — как можно более убедительно произнесла Марфа. — В честны руки вручаю дело сие, так аль нет? — обратилась она к Дионисию.
Тот только низко склонил голову.
Надобно заметить, что в Мангазею Арефий прибыл не так давно вместе с группой паломников. Пришел по обету, как он однажды упомянул в разговоре, и, пожалуй, это было единственное, что о нем знали, так как, несмотря на добрый покладистый нрав, был он не больно-то расположен к беседам, так или иначе затрагивающим его прошлое.
Отличался он весьма и весьма высокой по тем временам грамотностью: знал древнегреческий и латынь, а также иные заморские языки, был знаком с трудами стародревних философов и строителей.
Деньгами и прочими благами он не интересовался, жил просто, крайне бедно, питался тем, что приносили ему благодарные мангазейцы. Многие считали его едва ли не юродивым, а потому называли про себя «божьим человеком» и при встречах низко кланялись.
Арефий в таких случаях всегда краснел, можно сказать терялся, стараясь поскорее разминуться с встретившимся ему человеком, при этом на продолговатом, болезненно бледном лице его с голубыми глазами всегда появлялось страдальческое выражение.
Игнатий долго ломал голову над тем, как подступиться к Арефию, как уговорить его на поездку в будущую островную обитель, и, так ничего и не придумав стоящего, решил действовать напрямик.
Придя к Арефию, он после уважительного поклона заявил:
— Просьбица есть к тебе, отче Арефий, и от меня, и от богомольцев вновь возводимой обители, не столь уж далекой от Мангазеи: не дашь ли согласие потрудиться там во славу Божью? Сразу оповестить тебя хочу: богомольцы туда из дальних российских мест прибыли тайно, от гнева набольших государевых людей спасаючись, и воеводе мангазейскому они покуль неведомы. Так как, отче Арефий, надеяться мне на согласие твое или ино слово у тебя будет?
Размывчатая синева в глазах Арефия словно бы отошла куда-то на время, уступив место проникновенной проницательности взгляда.
— Дивно мне, — смущенно покашливая, проговорил он, — што ты, молодец, в заглавных мангазейских гилевщиках числящийся или называемый так, в хлопоты по делу Божьему пустился. Аль у тех богомольцев в обители островной никого иного нет?
Игнатия не только задели, но даже обидели эти слова.
— Пошто же ты, отче, не зная, за мной ничего доброго и мыслить не желаешь? Я ежели грешен в чем, то грех творю не для себя, а на пользу сирым малым людям, и то известно всем и друзьям, и недругам моим.
Арефий еще раз столь же проникновенно посмотрел в глаза Игнатия и неожиданно склонился в низком, едва что не в земном поклоне:
— Прости, брате Игнатий, прости за речения мои некместные. Я согласен, согласен, конечно же, чего тут размышлять излишне, дело то воистину Божье. У меня к тебе только един спрос малый есть: кто ты сам, из каких будешь, ежели не тайна сие?
По лицу Игнатия можно было понять, что вопрос этот не больно-то пришелся ему по душе, но он сдержался, ответил подчеркнуто спокойно:
— Буду я опальный дворянский сын Игнатий Воротынской. Доводилось, может, о фамилии нашей слышать?
— Как же, как же, — заторопился, виновато опуская глаза, Арефий, — слышали не раз, и в основном от людей добрых, кои на опалу деду вашему глядят как на зло преподлое. Тем паче что на Руси в опале сколь перебывало честнейших, достойных людей! К горю нашему, и сегодня таковых немало, помоги им Господи!
— Господи, помоги, — едва слышно повторил Игнатий и тут же спросил осторожно: — Завтра как, выйти сможем поутру?
— Сборы мои коротки: поторопимся — и в путь-дорогу. Так?
— Так, — низко склонил голову Игнатий.
Памятен Игнатию был и тот день, когда он привел Арефия в островную обитель и стал представлять его Марфе. Та приняла его достойно, приветливо повела беседу, но Арефий, видимо стесняясь новой для него обстановки, отвечал односложно, а то и невпопад. Но вдруг взгляд его задержался на висевшей в простенке иконе, найденной Дионисием и Викентием в разрушенной часовне.
Арефий приподнялся с колен, подошел было совсем близко к иконе, потом отступил, потоптался почему-то на месте, вновь сделал несколько неверных шагов вперед и тут же как подкошенный бросился на колени, припал лбом к полу, вздрагивая спиной то ли от боли какой, то ли от едва сдерживаемых рыданий.
— Отче Арефий, што это с тобой, — забеспокоилась Марфа, — аль недужен ты?
Арефий тут же затих на какое-то время, продолжая лишь изредка всхлипывать, и только потом уже поднялся, низко, виновато опустив голову, быстро вышел из кельи.
Почти сутки он ничего не ел, ни с кем не разговаривал, бродил как неприкаянный по острову, и Марфа велела не трогать, не беспокоить его, понимая, что с ним происходит что-то необычное и что надо дать ему время прийти в себя.
Так и получилось. Примерно через сутки он сам подошел к Марфе, низко поклонился ей и каким-то опустошенным, вялым голосом произнес:
— Прости, бога ради, за метания и безделие мое. Ноне же благослови на работу, ибо я присмотрел уже место, где храму головному обители нашей стояти.
— Пойдем в келью, обговорим все как надобно, — предложила Марфа.
— Нет-нет! — встрепенулся Арефий. — Недостоин я быти возле иконы той, столь благостного творения…
Слова эти удивили Марфу, но она, не подавая виду, повела разговор подчеркнуто спокойно:
— Может, ты и прав, отче, но я-то в этом деле пока ни начал, ни основ не ведаю. Ежели не секрет тут какой, то, может, расскажешь, что и как? Давай-ка вот присядем тут. — Она указала на ствол недавно срубленной лиственницы.
Некоторое время они молчали, и Марфа, видя, что Арефий опять заволновался, не зная, как начать разговор, произнесла:
— Ежели што не так, то отложим покуль?
— Нет, счас! Прости, матушка… По свету я ох немало годочков скитался в местностях разных и даже удостоился Гробу Господню поклониться… И везде, где ни носило меня, листу осеннему подобно, тщился я более всего иконы зрить. То дело с Божьей помощью велось в семействе нашем издавна, от прадедов еще. Была и у меня приверженность немалая к иконописному умению, и хвалили меня не раз знающие в этом люди за умение мое, но сам-то я со временем понял, што это не то, не то…
Пускай и лепота, и гладко все и красно, но души-то в иконах моих самая малость, а то и вовсе нет, нет ее, голубушки, не удостоил меня Господь хоть в малой доле ее к делу жизни моей приложить. С тех пор, как увижу творение которо, сему великому подобно, сердце мое будто ветром из пустынь дальних холодит, иссушает. Видно, Отцу небесному ведомо, сколь ценна, а правильнее сказать — бесценна, икона сия. Думаю, што, когда была она в государевом большом храме, о подлинном величии ее и там толком не знали.
О сем образе Георгия Победоносца я не раз слыхивал от умельцев дела иконописного, как и о том, што сподобился создать сие творение инок византийский именем Корнилий — мастер, коему равных не было да и не могло быть в мире христианском.
Больши и малы властелины наперебой старались залучить к себе Корнилия, взять его на службу, но он все посулы и даяния отвергал, за што и поплатился вскоре. Было ему всего три десятка лет, когда он исчез внезапно, пропал будто ветром его сдуло, и с тех пор о нем никто и никогда и слыхом не слыхивал…
Будучи в скитаниях своих в храме Никольском на Афоне, зрил я трактат греческого философа Ликия, который творения иконописны Корнилия — и в том числе сию икону — видел не единожды и описал, восхищаясь безмерно.
Тако же год спустя, уже в Иерусалиме, мнихи тамошни свели меня с аббатом латынянским Федерико Боллем, который в доме своем показал мне тож трактат, называемый «О цветах мудрости и творениях духа и рук человеческих», отпечатанный во граде Вероне. Создала же трактат тот настоятельница монастыря урсулинок — Джания Коро. В трактате рассуждала она тако: «Люди, отмеченные благодатью свыше, могут вознестись на толпой деяниями рук своих, яко сие доступно благостному создателю божественных ликов, великому мастеру живописцу Корнилию».
Порой, когда гляжу на творения его, одолевают меня грешные мысли: возможно ли иметь умение такое человеку простому, где грани таланта, считай неземного, которым щедро одарен он небом?
Арефий, окончив рассказ, вновь вздохнул и тут же промолвил, задумчиво глядя вдаль:
— Воздавая дань иконе сей, ни на миг единый забывать нельзя, што хранить ее надо не единожды, а трижды бережно. Не ныне, так потом, пусть через год-другой, проведают люди об этой иконе и потекут к ней ручьи народны, в которых окромя богомольцев истинных и стяжатели-завистники попадаться будут. Оберечь от них лик сей надобно, ох оберечь!..
— Правда твоя, отец Арефий, оберегем, и в том сумление не дер-жи, — строго поджав губы, проговорила Марфа.
Затем, поблагодарив Арефия, она будто замешкалась чуть, ожидая, что, может быть, он еще что-нибудь добавит к их разговору. Но Арефий лишь поклонился Марфе и пошел неторопко по лесу, время от времени ласково касаясь ладонями ветвей низко склонившихся берез.
Еще и еще раз с душевным трепетом и в молениях горячих благодарила Господа игуменья Марфа за то, что Он, не иначе, подсказал ей, чтоб приобщила к делу возведения островного храма инока Арефия. Недаром старые монахини, глядя на то, как трудится он и сколь добротно проявляются результаты этого труда, шептали: «Вот уж, истинно, силы небесные, считай, всегда рядом с нами…»
Чтобы отдыхал Арефий — никто не видел, всегда он был при деле. И самое главное, что умел он приобщить к делу этому всех, кто трудился рядом, будто владел секретом находить и пробуждать в душах людей скрытые до этого силы, когда каждый начинал понимать, что труд этот в радость людям и служить им будет на редкость долго.
Рядом с площадкой, где возводился храм, у подножья одной из самых высоких и могучих елей, соорудил себе Арефий нечто вроде временной мастерской. В первой половине ее был устроен маленький очаг и койка из искусно сплетенных ветвей ельника, во второй было два стола с листами чертежей, наброски деталей будущих строений, а по стенам — полки глиняных мисок и кувшинов с разведенными красками и наборами кистей и скребков. Здесь же, заботливо укрытые чистой холстиной, стояли несколько икон, к писанию которых Арефий возвращался время от времени.
Перед тем как положить на место первый камень фундамента будущего храма, Арефий отслужил молебен и, с разрешения игуменьи Марфы, представил ей и всем собравшимся на торжество тайно хранимый им до этого рисунок, где красочно, в щедром многоцветии предстало перед ними невиданное сооружение.
Храмом его можно было назвать только относительно: на главах его и особенно на ажурной, как бы невесомой многоступенчатой колокольне, почти утопая в резных деревянных кружевах, вздымались кресты; двери, окна, переходы поражали изгибами невиданных очертаний, вызывая удивление и трепет, а то и растерянность.
Растерянной выглядела и Марфа: так и эдак вглядываясь в творение Арефия, отступила назад, покачала головой и, со вздохом перекрестившись, промолвила:
— Надо же тако вот измыслить, отец Арефий! Не ведаю, што и молвить тебе, уж больно мудрено все и красочно беспредельно!
Высказывание это не только не смутило Арефия, а, видимо, пришлось ему по душе, потому что он тут же, как бы подхватив последние слова Марфы, воодушевленно воскликнул:
— Именно так, матушка, именно! Ведь храм православный, по разумению моему, не только прибежищем слезных молений, жалоб и просьб к Богу должен быть, а и местом, ежели надо, отдохновения душевного в радостном общении с благостью Господней.
Удивление Марфы после этих слов было столь велико, что она, побледнев, произнесла едва слышно:
— Твори с богом, коли так… — И пошла, спотыкаясь и низко опустив голову, будто вовсе не разбирала лежащей перед ней дороги.
Глава 13
Игнатий и Дионисий шли налегке, шагали, как говорится, в охотку по лесу средь буро-золотистой, начинающей опадать листвы, щедро подсвеченной лучами непривычно яркого и теплого в эту пору осеннего солнца. Может, оттого и город, открывшийся перед ними, когда они поднялись на косогор, выглядел веселым, светлым, будто умытым только что закончившимся кратким озорным дождем. Мангазея радовала взор хаотическим смешением красок, линий, массивными изломами крепостных стен на фоне празднично раскинувшегося разнотравья.
Видя это, Дионисий удивленно произнес:
— Сколь ни смотри, ни приглядывайся ко граду сему — всегда он взору людскому дивен есть: и добра-ласковости в нем хватает, и духа разбойного немало, и молитвенных, и бунташных дел скопление здесь, и народ ох как привержен — привычное многолюдье, зри-кось, еще боле возросло.
— Помню, ты молвил, што бывать тебе, отче, здесь и ранее доводилось?
— Доводилось… — неопределенно ответил Дионисий, — по делам разным — явно, а вот ноне тайно пробираюсь, яко тать в ночи…
— Таки слова от тебя, отче, слышать более чем странно, — заявил Игнатий.
— Мы ж ради дела доброго сюды пришли, может, обитель, к созданию которой нам руку предстоит приложить, со временем края мангазейские украсит и видом, и деяниями людей своих.
…Туманы, удивляющие многоступенчатой стойкой непроглядностью, что в тундре, что на побережье Мангазейского моря — дело обычное, но вот в самом граде Мангазейском с туманами и вовсе неладное творилось. Старики самоеды еще от прадедов своих толкуют об этом так: «Это дело рук Нглики — он тут себе место облюбовал: резвится, народ пугает, силу кажет, вот, мол, каков я!..» Русские люди, что вкруг живут, к сему свои суждения добавляют: «Раньше тако вот, нежданно, неслыханно, особливо в ночи лунны, когда всполохи свои плясы небесны творят, тут и предтуманью, и туманам самим раздолье…»
Предтуманье здесь первая статья. Ни дымка, ни пара от тундровых промерзших кочек да осыпей земли стылой, а вот ползут откуда ни возьмись в инее игольчатом тяжкие шуршащие струи поземки, щупают, будто примеряясь да выбирая место, откуль предтуманью начало вести…
И в этот вечер все так же было: на улицах тишь, безмолвье, воздух будто придавлен к земле, мороз малый, а дышать тяжко — в груди сей же час хлад влажный оседает… А вот за предтуманьем вслед, вместе с быстро бегущими тенями, и сам туман обозначился, да не просто пеленой там какой, а лентой широкой у земли, с жгутами тугими, перекрученными; то узоры плетут те жгуты замысловатые, то, распадаясь, многослойностью своей удивляют, то радугами встают, и все это на фоне пронизанного до самых глубин лунного, в серебристой изморози, неба.
От этой круговерти теней не только в глазах рябит, но и контуры домов и амбаров знакомых меняются ежеминутно. Где уж тут усмотреть: или отблеск мелькнул какой рядом, или человек проскользнул, прячась от чужого взора, а за ним, глядишь, и другой, и третий в лунной зыбкости.
В настороженной до предела тишине лишь изредка проскрипит снег под ногами крадущихся справа и слева людей да прошуршит, осыпаясь с крыш, сухой иней. И вдруг — как удар нежданной волны о звонкую каменную стену: крики, ругань, стоны, всхлипы — с пеной кровавой на губах, с хрипотой, со словами из глубин самых темных души, смысл которых не токмо что страшен, а дичью первородной обуян, так что едва не сбивает с ног.
Вот в такое предтуманье и произошло событие, грозившее не только изменить, перевернуть весь уклад привычной мангазейской жизни, но и, возможно, направить ее течение совсем по иному руслу. И, конечно же, никто в городе не мог предугадать, что главным возмутителем здесь выступит неведомо где обитавший до этого времени Федот Курбатов.
Недаром так искренне, что с ним бывало редко, удивился мангазейский воевода, когда ему доложили, что дозволения просит перед ним явиться бывший старшина городской стражи Федот Курбатов, выгнанный прежде с шумом и непотребной бранью самим воеводою.
— Федотка! — рассмеявшись и даже заморгав глазами, воскликнул воевода, тут же приподнялся с постели и, как бы размышляя вслух, докончил: — Битый, драный, за бороду тасканный, а явился, и это с его-то гонором! Сие неспроста, а ну, зови супостата сего!..
Ожидавший увидеть изничтоженного, смятого невзгодами и горькой судьбой Федота, воевода был поражен: и одет был тот на редкость изрядно, и повадкою, как и ранее, смелый да умелый, а самое главное, в лице его — ну ни малейшей черточки страха иль вины не примечалось.
«Каков выглядень, а? — еще более удивившись, ругнулся про себя воевода. — Альбо ендова с отравой — не менее того!»
Федот, чего с ним не бывало ранее, повел речь первым:
— Хоть и вверг ты меня, князь воевода, в разор и бесчестье, но я от слова свово неотступен есть: через неделю приволоку в светлицу твою и Игнашку, злодея бунташного, и Дионисия, злодея беглого!
— Зарекалась кума-мать в ночь у кума не бывать! — присказкой ответил воевода. — Я обещаний твоих вдосталь наслушался и сыт ими по горло! — презрительно скривил он губы.
— Приволоку, приволоку на сей раз! — побледнев и едва сдерживаясь, чтобы не выкрикнуть чего покрепче, повторил Федот и, решительно шагнув к воеводе, докончил: — А не будет того, сам на плаху лягу, сам!
— А ну, утишь, утишь нрав-то свой некместный! — опасливо отодвинулся от него воевода. — Если по-настоящему творить сговор весомый в деле сем, то поведай, с чем ты подошел к нему, какова готовность у тебя, чтоб нам не оступиться где… Игнашкин нрав распреподлый ведом тебе.
— Ну, ноне я супротив нрава того куды как крепок, и людишки подходящи готовы, ждут, и уплачено им немало, и обещано еще боле, ежели спроворят дельце шустро.
То ли особенное что послышалось воеводе в голосе Федота, то ли первый раз в жизни он по-настоящему поверил такому, прости господи, хмырю, лгуну и раззлодею, но только князь, многословной бранью обложив всех и вся, трижды плюнув по старой тундровой привычке, крикнул, едва не срывая голос:
— Сторожевого сотника ко мне! Дрыхнете всё, сучье племя!.. Ну, Федотка, гляди! Я смотровиков за тобой дюжину поставлю, ежели сглупишь хоть раз — в мелкий лоскут порубить велю, ты-то уж меня знаешь!..
— Да уж знаю, воевода князь, храни тебя Господь в оборении врагов государевых!..
Услышав слова Федота, воевода, внимательно посмотрев на него, ухмыльнулся недобро, хотел, видно, сказать что-то, но, вновь плюнув трижды, заспешил к дверям опочивальни.
И все же гилевщики Игнатия, всегда собранные, настороженные, готовые в любую секунду к малой и большой схватке, особенно находясь на улицах Мангазеи, чего-то недосмотрели аль по привычке на отчаянность свою понадеялись, но угодили-таки в западню-засаду, ловко устроенную Федотом Курбатовым.
Уж в каких переделках довелось побывать Игнатию — как говорится, по самой меже между жизнью и смертью ходил не единожды, а все вольным гулял по свету, а тут пришел наконец и его горький час. Только и успел крикнуть молодцам своим Игнатий: «Отца Дионисия берегите!» — как навалились скопом стражники, стрельцы и прочие псы воеводские во главе с Федоткой Курбатовым. Сбили с ног, упеленали, как оленя сноровистого, волосяным тынзяном да еще и рот перетянули.
Радость от выпавшей на их долю удачи была столь велика, что поначалу воевода Домашин и московский посланец Авксентьев почти и не говорили вовсе: облобызались трижды, будто похристосовались на Пасху, выпили по одной, другой и по третьей стопке меду и, поблагодарив отца небесного за доброе к ним расположение, направились в пытошную избу, куда уже были доставлены Дионисий, Игнатий и двое из семи оставшихся в живых их сотоварищей. Лишь Дионисию, посчитавшись, видно, с его саном, освободили руки, остальные же были крепко-накрепко связаны и едва переступали ногами, чтобы не упасть.
Воеводе и Авксентьеву подьячие угодливо подставили по малой ковровой лавке. Воевода, оглядев пленников, смачно плюнул им под ноги и презрительно произнес:
— Сколь вору ни воровать, а петли не миновать…
Дионисий промолчал, будто и не слышал этих слов. Игнатий же, по своей извечной привычке никому и ни в чем не уступать, дерзко осведомился:
— Это ты о себе, што ли, ведешь речь, воевода? Ведь во всей землице югорской большего вора, чем ты, не сыскать!..
Услышав такое, Авксентьев первым вскочил с лавки, затрясся, затопал ногами:
— На дыбу, на дыбу злодеюку немедля!
Воевода же, к удивлению всех присутствующих, на слова эти и внимания не обратил, будто они вовсе не тронули его. Помедлив, сказал лишь с ленивой ухмылкой Авксентьеву:
— Пошто, Гордей Акимович, душу гневом пустым изводишь? Было б из-за кого. Пущай рвань гилевская в последний разок позабавится… Мы с тобой завтра неторопко за дело пытошно возьмемся, и разговор у нас пойдет долгонькой, ой долгонькой.
Повернувшись к стоящему неподалеку Федоту, воевода велел:
— Смотри, сучий сын, на тебя весь досмотр караульный оставлю. Гилевщиков в дворовый прируб запереть, ни на секунду глаз с них не спускать. По двору караулы двойные пустите, а на улице, у ворот — засеку стрелецку поболе.
Не удостоив узников ни единым взглядом, воевода, пропустив вперед Авксентьева, покинул пытошную избу и направился к своему дому, сопровождаемый десятком стрельцов.
Разместив пленников в караульном прирубе и приковав их одной цепью к стене, Федот Курбатов не преминул на прощание поддеть Игнатия:
— Отыгрался, княжонок воровской, теперь уж навеки, теперь ужо иные игры пойдут на дыбе, над костерком да в три кнута!..
Игнатий даже не повернул головы в его сторону, зато почти всегда молчавший Дионисий неожиданно сказал:
— Сказано есть: не глумись и не пророчь беды другому, коли беда у самого за плечами стоит…
Федот хохотнул в ответ, вроде бы по-молодецки, кого, мол, пугаете, но тут же сник, смешался, и ощущение никогда не испытываемой доселе сердечной пустоты вдруг охватило его, будто волной прошлось по всему телу.
«Кто я таков есть, зачем живу, зачем и во имя чего творю тако?» — наверно, впервые подумал он, попробовав рассердиться на себя за слабость, но та же сердечная пустота вновь напомнила о себе, и он, уже кружа по двору и не зная, как избавиться от нее, со страхом шептал слова полузабытых с детства молитв.
…После обильных возлияний по поводу поимки гилевщиков воевода спал без задних ног. Разбудили его с непривычными для здешних покоев криками два стрелецких пятидесятника:
— Гиль, батюшка, гиль идет: вогулы с самоедами да с рванью посадской стеной лезут!
— Кака гиль, каки вогулы, разъерепень вас в душу?! — ругнулся все еще не пришедший в себя воевода, но пятидесятники вновь закричали, перебивая друг друга, и воевода будто подброшенный вскочил на ноги. — Цыц, треклятые, толком молвите.
Один из пятидесятников, давясь словами, сообщил, что стрелецкая охрана из пытошной избы перебита, гилевщики захватили и саму избу, и все постройки во дворе, ведут оттуда пищальный огонь почти беспрерывно по всякому, кто к избе той сунуться посмеет…
— А остальны стрельцы и слуги мои воеводски где?
— На них, на казаков да на весь люд православный, што в крепости и окрест, вогулы да самоеды тундровы налетели, воронью бесчисленну подобны, ну и гилевщики, само собой, тут же!
— А ну веди, где она, смута главна, — велел воевода и уже через несколько минут в воинском наряде, в сопровождении пятидесятников, казаков и бестолково мечущихся дворовых появился на красном крыльце воеводских хором.
Располагались они на взгорке у широко распахнутых ворот Ратиловской башни. Отсюда открывалась панорама речных откосов, лугов с зарослями камыша и выгнутых карликовых берез и полузасыпанных рвов — первых крепостных укреплений Мангазеи. Именно здесь, выделяясь бело-красными пятнистыми одеяниями, двигалась, растекаясь по сторонам, толпа вогулов. Ветер донес несколько пищальных залпов слева, с той стороны посада, где, чернея на фоне травы, перебегали фигурки стрельцов и охотников-годовальцев в серых меховых куртках и сапогах-вытяжках.
— Дворянин московский где? — крикнул воевода слугам. — Сюды штоб шел, мигом.
Но, как видно, тут же забыв об этом наказе, бросился по боковой дорожке к дворовому прирубу пытошной избы, на пороге которого лежало несколько окровавленных трупов стрельцов. На подворье уже сошлись вогулы и самоеды с копьями и ножами в руках, казаки, яростно размахивающие кривыми саблями, и стрельцы с пищалями.
Домашин, увидев, что двери и окна прируба выбиты и он пуст, яростно скрипнул зубами:
— Ах ты, невезение адово! Опять ушел гилевщик заглавный, да с монахом еще, доколе ж бывать такому?..
Из-за Троицкой церкви во главе с Авксентьевым и пятидесятником Егоровым высыпала большая толпа стрельцов.
— Ага! — закричал воевода Домашин. — Подмога! Сюды давай! Вогульску да ину дичь перво-наперво осадить надобно!
Стрельцы бросились к воеводе, но в это время затрещала и рухнула под напором тел изгородь пытошной избы, и то, что увидел за ней воевода, привело его в смятение: по пожухлому луговому разнотравью легко скользили многие десятки оленьих упряжек.
Нарты их были переполнены людьми в самых разнообразных, порой диковинного вида и покроя одеждах, а то и в невыделанных шкурах, и в добротных воинских панцирях и кольчугах. Вооружение их по тем временам можно было назвать первостатейным, вид у них был предельно устрашающим, да и выкрикивали они что-то несуразно-дикое, подбадривая, видно, этим друг друга перед боем.
«Тундрова гиль, охотники вольны препожаловали, — чувствуя, как льдистый холодок охватывает сердце, перекрестился воевода. — Спаси и помилуй нас, Господи, от гили таковой! Ежели они с городскими гилевщиками в один ряд пойдут, то нам несдобровать, да что там несдобровать: порешат, и вся недолга! От них и стрельцы побегут, глаза зажмурив, — злодеев поболе их в Югре не сыскать!»
Появился Авксентьев, размахивая руками, стал что-то кричать воеводе, но слов его не было слышно: почти беспрерывно палили из пищалей стрельцы, било в уши многоголосье воинственных кличей самоедов и вогулов, не отставали от них в криках и в разбойном свисте вольные тундровые охотники. Все, кто сошлись сейчас у пытошной избы, обезумев, наступали, отступали, бросались то в одну, то в другую сторону, яростно кружились на месте, увлажняя тундровые травяные ковры разводами новых кровавых узоров…
Гили, подобной нынешней, в Мангазее не случалось давно. Ну бунтовали, ну щерились да пыжились по-разному, в кулачных боях сходились улица на улицу, не раз отбивали набеги людишек дальних с моря и с тундры, так это все тут же и кончалось, а ноне скончания сего и не виделось.
Но самое главное, что пугало воеводу Домашина и думного дворянина Авксентьева, это то, что в действиях гилевщиков чувствовалась чья-то на редкость крепкая рука. Авксентьев сказал об этом воеводе:
— Слышь-ко, Федор Кузьмич, а ведь у гили нынешней един хозяин, считаю, што и ты о сем думал, не иначе.
— Ну думал, а толку-то, — неожиданно обозлился воевода. — Только в крепостных башнях стрельцы в осаде сидят, держатся, а так и храм Троицкой, и вся крепость у гилевщиков. Ютимся ноне на отшибе в посадских хибарах. На Москве о сем разведают — позору не оберешься. Скажут, это как же так, крепость швали разбойной да мужикам диким отдали? Што ж там за воители в Мангазее, распротуды их так и эдак?
Лицо воеводы Домашина, еще не старого человека, слезливо наморщилось.
— Уж я молился-молился, — вздохнул воевода, — легче не стало, хоть в петлю лезь…
— Узнать надо, кто гили голова! — продолжал свое Авксентьев. — Людишек в тундру послать, там ведь вольны охотники разны есть, ины и во вражде великой с гилевщиной мангазейской… Пообещать мзду поболе — пойдут под нашу руку, как пить дать пойдут!
— А што, и верно, и спроворим сие, — обрадовался воевода, — завтра же и пошлем.
Назавтра же, с утра, не успели этот замысел толком спроворить, воеводе новая забота подвалила. Он ублажал себя после сытного завтрака знаменитым мангазейским квасом, настоянным на морошке, колдовской траве «двулистник с переливами» и иных тайных травах, отчего неизъяснимая приятность разливалась по телу, а дышалось по-особенному легко.
— Да оставь ты, воевода, приятство квасное, — отвлек его быстро переступивший порог Авксентьев. — Выдь-ко на крылечко, полюбуйся, кто жалует к тебе…
Воевода, проворчав что-то про себя, вышел, недовольно хлопнув дверью, и обомлел. По дороге с иконой в руках важно вышагивал настоятель Троицкой церкви отец Мефодий. А за ним — подумать только! — шел главный возмутитель мангазейского спокойствия Игнатий Воротынской с вогульским и самоедским князьями Беляем и Хатанзеем. Вот уж, подлинно, небо показалось с овчинку воеводе! Трясущимися руками он схватился за рукоять широкого ножа на поясе, губы его побелели… Стрелецкие охотники и казачьи старшины окружили воеводу, ожидая его приказаний, но он все еще не мог прийти в себя от охватившей его злобы, а лишь повторял прерывисто, хрипло:
— В железа, в железа всех этих!
Подоспевший Авксентьев решительно одернул воеводу:
— Не дело молвишь, Федор Кузьмич, ты оглянись-ко по сторонам.
Пока Игнатий со спутниками подходили к воеводе, их уже окружило довольно плотное кольцо гилевщиков, хорошо вооруженных, хмуро помалкивающих до времени.
Отец Мефодий, высокий, благообразный, заметный этим издали, остановившись в нескольких шагах от воеводы, благословив его и всех стоявших вкруг, торжественно произнес:
— Сему образу Николы, святителя морского, еще первы поселенцы и люди воински на земле мангазейской поклонялись и решали дела и свары, подчас убойны, — миром. Вот и вы ныне распри свои тако решайте!
— Да штоб я да с гилевщиком с этим в уговоры пошел?! — взвился воевода Домашин.
— Тут нету гилевщиков, — властно и громко сказал Мефодий, — а есть люди выборные от общины мангазейской, образ сей святой сопровождающие: вот сын княжий Игнатий Воротынской, а вот князья: вогульской — Беляй да самоедской — Хатанзей. Вершите дело миром, по-доброму, мало, што ли, людей уложили у избы пытошной да окрест на лугах, иначе от церкви отлучу да гонцов поспешных в Москву самому патриарху отправлю, уж он-то сюды на вас быстро управу пришлет!
Слушая слова эти, воевода несколько раз менялся в лице: оно становилось то багровым, то бледным, то светло-малиновым. Потом с трудом, выдавив из себя слова, прохрипел, кивнув на Авксентьева:
— Вот он, он будет разборы в деле сем вести, а я здесь не знаток!
И тут же ринулся в дверь, едва не растянувшись на пороге.
В делах переговорных Авксентьев считался на Москве докой. И опыт был у него немалый, и природные ловкость и хватка, и мог он при случае так ущучить противника или просто спорщика иного, что тому ничего не оставалось, как чесать в затылке да отступать, нередко и с позором.
Потому и играючи, эдак по-ухарски садился сейчас Авксентьев за стол напротив Игнатия, и разговор повел так же, давая понять, что уступать наполовину в споре-то надо…
— Уступать надоть в таком разе, — уже настойчиво повторил он еще раз, — и тебе, и содругам твоим, — он указал на сидящих пообочь Игнатия вогульского и самоедского князей. — Я же воеводу малость поутишу, на том и порешим!
— Нет, не порешим! — подчеркнуто веско ответил Игнатий. — Пора пришла сего лихоимца да вора на правеж представить…
— Но-но! — набычился Авксентьев. — Думай, што и о ком речешь.
— А чего тут думать, вот они, его грамоты за год минувший, для Москвы сготовленные, а вот список его собственный, скрытной, што он в потайном ларце под полом в светлице своей держал. Узнаешь руку воеводову, манеру его да обычай знаки письменны и цифирны ставить?
Авксентьев в ответ лишь согласно склонил голову и спросил, отводя глаза:
— Так што в списке этом отличного от грамоты?
— А то, што каждая третья шкурка из рухляди мягкой: собольей, песцовой, лисьей и иной, государевой казне предназначенной, шла прямиком в руки воеводе Домашину. А то, што он сам в пользу свою налоги назначал, тебе ведомо, посланец московской? А то, што ране содержал и ныне содержит более сотни людишек тундровых, в железа закованных: вогулов, самоедов, селькупов и иных тож, налоги с них выбивая, ты слышал? Вот и суди: кто есть на свете вор, а кто, трижды вором будучи, средь добрых людей тож добрым считается.
Авксентьев растерянно молчал, не ведая, что и подумать, что сказать, и тогда Игнатий, поняв это, не то про себя, не то желая подсказать Авксентьеву, произнес веско:
— Другой бы на моем месте про воровство тако на Москву весть подал: за поношение и убыток казне царской один путь — на дыбу и на казнь прилюдну. И еще, тебе-то, как никому иному, ведомо, што на Москве с дельцем таким куда как высоко подняться можно. Ну и награда за это, думаю, немалой будет — пряма дорога к царю-батюшке, его, мол, интерес соблюли-защитили — слава!
Авксентьев почти что с испугом посмотрел на Игнатия.
— Молод столь, а хватка волчья! — протянул с удивлением.
— Так я в опале все больше средь волков жил — обучили, — дерзко ответил Игнатий.
— Искушение в твоих словах велико, — покачал головой Авксентьев, — мне бы молвить: «Изыди, сатана!», а я слушаю тебя…
— Имечко это боле к дружку твому воеводе подходит, вот уж кто сатана истинный!
— Ох, не знаю, не знаю! — горестно вздохнул Авксентьев. — В каку сторону податься… Постараюсь пока хоть в малой мере для согласья здешнего, а там видно будет.
— Старайся скорей, а то людишки кипенем кипят, и времечко таковое подходит, што их никакими словами не удержишь.
— Ох, знаю, знаю, спаси господи, — с испугом вымолвил Авксентьев.
Неожиданно дверь прируба, где шли переговоры, сотряслась от ударов, потом рывком распахнулась и на пороге встал, подбоченясь, воевода Домашин. По бокам его в мгновение ока выросли фигуры старшины Федота Курбатова, его подручного Сеньки Ката и еще двух стрелецких охотников. Все хмельные, с лицами, обезображенными ненавистью, выкрикивая что-то несуразное, размахивая ручными цепями, они бросились к столу, за которым сидели Авксентьев и Игнатий. Тут же раздался срывающийся на визг крик воеводы: «Хватай гилевщика, мразь, хватай»!
А в уже распахнутую дверь вместе с дикой руганью, ревом и переливчатым разбойным свистом тундровых молодцов ворвалась толпа, мечущаяся из стороны в сторону, в которой уже нельзя было понять, кто с кем и за что ведет столь отчаянную схватку.
Один из сопровождавших воеводу стрелецких сотников сумел все ж, изловчившись, не только набросить, но и затянуть цепь на шее Игнатия, но тому пришли на помощь туземные князья. Рослый, могучий Беляй вроде бы чуть взмахнул рукой, и сотник, тоже мужик в теле, легко взмыл над столом и, обрушившись всей тяжестью на скамью, сломал ее. Хатанзей, выхватив из деревянных, украшенных бисером ножен длинный широкий нож, с такой быстротой закружил им над головой, что все суетившиеся рядом невольно отпрянули в стороны. Также в сторону отлетел под напором заполнявших прируб все новых и новых тундровых гилевщиков и московский посланец Авксентьев, возмущенно выкрикивающий что-то и бестолково размахивающий руками.
А гилевщики, плотно окружив Игнатия, выхватили его из толпы, пробились, сшибая стрельцов, во двор, где уже стояла заранее приготовленная упряжка рослых белоснежных оленей. Игнатий и двое гилевщиков повалились в нарты. Погонщик взмахнул тюром, и застоявшиеся олени дружно рванулись вперед, оставляя позади еще ожесточеннее вспыхнувшую схватку мангазейских стрельцов и казаков с тундровыми гилевщиками и иным безначальным людом…
Коренные мангазейские жители нередко так говаривали о своем городе: «У нас помалу да в осторожну приглядку ничего не творится. Коль нагрешил где, так кайся да дела добры на глазах людских твори, чтоб видели все. Ну, а если в шумство ново да, упаси боже, в схватку воинску тебя опять бросит, то твори ее так, чтобы душу наизнанку вывернуть, а супостата добить, изничтожить. Чтоб все знали, сколь мангазейский люд волен да силен и в гульбе, и в забавах воинских…»
В этот раз, стараясь поскорее увезти Игнатия от места схватки, друзья его, гилевщики тундровы, перестарались. Вроде бы и придерживая, с ходу бросили его в нарты, да так, что Игнатий подвернул ногу и ходить мог теперь только опираясь на палку. Когда оленья упряжка миновала окраины Мангазеи и, затерявшись среди тундровых увалов, остановилась у полевого становища, первым, кто бросился навстречу Игнатию, был Дионисий…
— Друже, што с тобой? Аль поранение тебе вышло в заварухе этой, трижды неладной?
Он заботливо обнял Игнатия, расспросил его, волнуясь, что и как с ним было, и, бесцеремонно потеснив плотно окруживших их гилевщиков, прикрикнул непривычно строго:
— Потом, потом с беседушками-расспросами, люди добрые. А ну, ковыляй, друже Игнатий, в полог ближний, там ты нужен шибко, особливо сейчас.
Не прошло и минуты, как Игнатия устроили на расстеленной у костра оленьей шкуре. И он, уже спокойнее ведя речь, стал пристальней приглядываться к окружающим его людям, как бы для памяти называя их для себя: знатный мангазейский торговый гость Михайло Тарутин, это к месту — человек достойный, то же можно сказать и про кузнеца Милентия, да и про остальной народ, собравшийся здесь — все люди стоящие, мангазейцы бывалые, коренные, во главе с настоятелем крепостной церкви отцом Мефодием.
А вот рядышком с ним незнаема личность, кто-то в одеянии монашеском, но не очень-то на монаха смахивает…
Человек, о котором подумал так Игнатий, средних лет, высокий, чернявый, в движениях быстрый, но солидный, в этот момент тоже изучающе и дружелюбно посмотрел на Игнатия и сказал как говорят давнишнему приятелю:
— Душевно рад видеть тебя, Игнатий, особливо рад, што не согнулся ты в буйствах воинских да бытийных и што для деяний еще более значимых, которы вскорости предстоят тебе, ты вполне готов.
— На приветном слове благодарствую, человек добрый, но речь твоя мне покуль неясна да и ты сам незнаем мне есть.
Чернявый незнакомец, улыбаясь, подошел к Игнатию и, опустив руку ему на плечо, сказал:
— Служба моя, друже, такова, что я должен многих людей — и добрых, и вовсе негодных — на верном пригляде держать, дело требует сего, а во главе дела этого, направляя и благословляя его, стоит святитель наш достойнейший, дай ему Господи всегдашнего здравия и благоденствия, архиепископ Тобольский владыко Киприан.
Имя Киприана и многие деяния его к этому времени уже знали и в Мангазее, и далеко окрест. Все сидевшие у костра тут же поднялись, и уважительная тишина на время воцарилась в пологе.
Чернявый незнакомец благодарственно склонил голову и, немного помедлив, продолжил:
— А сам я есть новгородской дворянин Анисим Кручина, состоящий ноне на службе у владыки Киприана. Это по его велению я в Мангазею прибыл. А у вас тут вона кака крутель взялась!
— Како ты есть посыльной от столь большой особы, — вступил в разговор отец Мефодий, — то кланяемся с просьбицей к тебе: вразуми, бога ради, што и как нам дале творить, а то вишь, што наш воевода вместо перемирия малого учинил. Не ведаю, как и чем остепенить его ноне.
— А у меня есть средство на сей случай, — хитровато улыбнулся Кручина, — грамота куды как поучительна и строга от владыки Киприана воеводе здешнему князю Домашину, а такожды всем людям православным и протчим земли мангазейской. Грамоту сию велено мне огласить на площади городской и в храмах здешних. Потому, отче Мефодий, давай безотлагательно к воеводе направимся, еще князьков здешних вогульского да самоедского прихватим, ну и еще кого, кто в сем деле потребуется. Мир пущай самый худой, но нужен ноне Мангазее вот как! — И Кручина, как бы отчаявшись во всем происходящем, провел ребром ладони по шее.
— На том и порешим! — творя краткую молитву, заключил отец Мефодий и, обращаясь к Кручине, изменившимся голосом, строго, как воинский человек, сказал: — Тебе, посланец владыки, дело сие возглавить надобно немедля, сейчас.
— Верно! — подал голос Дионисий. — А мы с Викентием здесь, на стане, вас подождем, что-то нет у меня охоты в другой раз на воеводские беснования зрить…
И часу не минуло, как перед красным крыльцом воеводских хором остановилось несколько оленьих упряжек. Сразу можно было сказать, что народ прибыл бывалый, аккуратный, к дальним дорогам привычный, о чем можно было судить и по их ладно подобранным одеяниям, и по вооружению. У каждого за плечами было по иноземной короткой пищали, на поясах ладанки с пулями и порохом.
С двух передних упряжек степенно сошли и направились к крыльцу архиерейский посланец дворянин Кручина, а с ним отец Мефодий и князья местные Беляй с Хатанзеем, остальные приезжие, сняв с плеч пищали, взяли их на изготовку, стоя каждый у своих нарт.
Все это происходило на глазах толпившихся неподалеку стрельцов, казаков и сновавших поблизости слуг из дворни воеводы, удивленно взирающих на появление столь необычного обоза.
Не замедлил появиться на крыльце и сам, окруженный челядью, воевода Домашин. Вид приезжих тоже удивил и даже насторожил чем-то воеводу, но, не желая показывать этого, он по привычке откашлялся молодецки и, вскинув голову, почти прикрикнул:
— Это што за народ, откуль, зачем и куды?
— Я бы на твоем месте, воевода, не с вопросов начинал, — укоризненно и громко проговорил отец Мефодий, — так как перед тобой особа, требующая чести и приема достойного.
— Что за особа? — уже заметно сбавив тон, осведомился воевода.
— Первый секретарь епархии Сибирской — дворянин Анисим Евсеевич Кручина, прибывший по личному повелению владыки Киприана — архиепископа Тобольского и всея Сибири!
Воевода Домашин закашлялся, сдернул с головы шапку и, краснея, пробормотал:
— Прошу не гневаться, нежданно тако вышло… — Затем, вспомнив, что ему в таком разе положено говорить совсем иные слова, заторопился: — Како здравием владыко Киприан, святитель наш?
— Слава богу, здоровьем Господь его миловал, а тебе, князь воевода, шлет владыко благословение на дела богоугодные, желает здравствовать, како и всем православным и протчим людям земель мангазейских ближних и дальних.
Слова эти Кручина произнес намеренно громко, и они тут же разнеслись по толпе, вызывая благодарственные восклицания людей, непривычных к тому, что о них вспомнил сам тобольский святитель. Служитель принес Кручине продолговатый деревянный ларец, из которого тот извлек грамоту с двумя красными сургучными печатями и тут же передал ее воеводе.
— Это послание тебе, князь, от владыки, есть и вторая грамота, но о ней речь потом пойдет. Куды пройти прикажешь?
— А вот сюды, сюды! — заторопился воевода, предупредительно придерживая дверь, ведущую в гостиный прируб воеводских покоев.
По всему было видно, что неожиданный приезд епархиального секретаря основательно выбил из привычной колеи властолюбивого воеводу Домашина, заставил его, своенравного, почти всегда полупьяного, вконец разленившегося, бестолково суетиться и рассуждать не в лад с беседой, которую ему пришлось вести с епархиальным секретарем.
В поднявшейся вокруг общей суете воевода на минуту покинул прируб, чтобы, как сказал он, дать наказ о размещении их обоза. Он успел всего на пару минут подозвать к себе Федота Курбатова и, почти задыхаясь, прохрипел:
— Покуль мы тут гостевание разводить будем, всех людишек наших моим именем подымай. Тать Воротынской с монахом непотребным Дениской поблизости в стане полевом гилевщицком. Взять, взять их любой ценой! На этот раз уж само небушко должно помочь нам. — Он ткнулся бородой в ухо Федота, почти выкрикнул: — Твори обычаем большим: ни крови, ни греха не бойся — озолочу за сие!
— А ежели Авксентьев опять взъерепенится?
— Его тож в эту кучу, супротивники мои — значит, и государственны супротивники! Твори, ох твори немедля, Федотка! — ткнул он кулаком уже повернувшегося к выходу Федота, бледного до крайности и с полубезумными глазами, в которых поочередно мелькали страх и отчаянность.
Ко многому в жизни был безразличен воевода Домашин, но что касаемо гостевания, то здесь он всегда в первых ходил. О мангазейских пирах воеводы знали не только в городе, но и далеко окрест. Так было и ныне с епархиальным секретарем. Будто окунувшись в живую воду, вмиг отрезвившую его, Домашин покрикивал с шуткой, с приговором на слуг, на глазах уставивших стол оловянными и дубовыми подносами со всяческой жареной, вареной, сушеной живностью, разнокалиберными бутылями и кувшинами с настойками, винами, медами и прочим хмельным питием.
Как ни отговаривался Кручина, как ни ссылался на то, что надо бы сначала дело вершить, потом уж за стол садиться, воевода был неумолим, тост следовал за тостом, смена закусок за сменой, и, хотя Кручина не пил, а едва прихлебывал вино, он понял, что за всем этим угощением явно готовится что-то неладное, если не сказать похуже, для него, а главное, для всей его миссии.
В начале пира подавальщицы с блюдами и напитками появлялись у стола на редкость веселые и приветливые. Но вскоре лица их стали меняться, они на ходу тревожно шушукались друг с другом, постоянно оглядывались по сторонам, а потом стали появляться у стола уже и вовсе испуганные, спотыкаясь и сутулясь, с заметно дрожащими руками.
Также и шум какой-то дальний будто подбирался к порогу, выкрики и даже стрельба пищалей, и наконец шум этот, уже усиленный многократно, набатом ударил в распахнутые окна и двери.
На пороге у главного входа появились четверо воеводских стрельцов, несущих на окровавленном дорожном пологе тело безжизненно раскинувшегося дворянина Авксентьева. Голова его была наспех перевязана тряпицей, такие же тряпицы в кровяных пятнах были на обеих руках стрелецкого пятидесятника Клима Егорова, который, идя рядом, придерживал голову Авксентьева.
На секунду-другую все будто застыли, глядя — кто с удивлением и с испугом, а кто и с ужасом — на кровяной след, тянувшийся за пологом, на котором несли Авксентьева. Потом прозвучал хлесткий, как удар кнута, презрительный выкрик отца Мефодия, обращенный к воеводе:
— Все ж не вытерпел, натравил свору свою на людей добрых и к миру приверженных, нет же тебе отныне ни благословения моего, ни слова доброго ни в чем!
— Что ты, что ты, отец Мефодий! — заюлил, замахал руками воевода. — Я никоим краем не виновен тут!
Но его уже никто не слушал. Перевернув в спешке стол, гости воеводы, его слуги, сторожевые стрельцы во главе с Кручиной бросились к выходу, тут же окунувшись в беснование схватки, творившейся у крыльца.
Лишь в одном месте был здесь порядок: в углу у противоположной стены подворья по-прежнему стояли готовые в любую минуту рвануться в путь оленьи упряжки епархиального секретаря Кручины и по-прежнему, охраняя их, с пищалями наизготовку стояли его люди.
— Ай молодцы, молодцы ребята! — только и крикнул Кручина, бросаясь к ним.
С ловкостью, свойственной скорее молодому воину, чем человеку его лет, он тут же схватил приготовленные для боя две заряженные пищали и выпалил по очереди в воздух, вызвав гулкое, многоголосое эхо и сразу поутишив схватку у воеводского крыльца. Воспользовавшись этим, Кручина тут же сдернул с плеча продолговатую, в замысловатых восточных орнаментах сумку, выхватил из нее грамоту с печатями и высоко поднял над головой.
— Люди мангазейские и пришлый люд такожды! Шапки долой — к вам обращается святитель, архиепископ тобольский и всея Сибири владыко Киприан. А донести его слово доверено мне, первому епархиальному секретарю, дворянину Анисиму Евсееву Кручине…
Из толпы, вовсе поутихшей к этому времени и стоявшей уже с обнаженными головами, раздался нетерпеливый окрик:
— Видим, видим, куда как важна особа прибыла, ты нам своими словами растолкуй суть грамоты архиерейской, тако оно и скорей и вернее будет.
— А ежели своими, то приказано тут вам, опосля архиерейского благословения, свары враз прекратить и доверить споры-разборы с воеводой и бунташными людьми мне, и мир хоть бы и первейший наладить, и доложить о сем грамотой сверхспешной в Тобольск владыке Киприану. Такожды велено мне известить вас, что днями должен прибыть в Мангазею годовой обоз с годовальщиками же стрельцами и казаками и вновь назначенным вторым мангазейским воеводой князем Федором Уваровым.
Новость эта, как набирающий на ходу силу бурливый ручей, тут же раскатилась по толпе, вызвав оживленные выкрики, а то и споры, едва не доходившие порой до драки.
— Вот оно как выходит, нашего-то, считай, по шапке! Нет, такого не бывает, считай, еще злее да ухватливей воеводу пришлют, — раздавалось из толпы.
Лохматый, огненно-рыжий молодой монах мигом вскочил на пенек:
— Не надобно ни первого, ни второго, зачем нам воеводы нужны, сами от любого злодея отобьемся, а правит нами пущай владыко Киприан — истинный воин Христов и перед людьми, и перед Богом!..
— Так оно, так! — взорвалась криками толпа у воеводского крыльца.
В другой раз при словах таких воевода Домашин, может, и стерпел бы, но тут его, прости господи, будто нечистый под бок толкнул. Боязливо выглядывавший до этого из-за спины отца Мефодия, воевода вдруг оттолкнул его, шагнул вперед и крикнул, отчаянно задыхаясь:
— Это как, это как оно — воеводы не нужны? Бунт, сие бунт!..
Толпа тут же заколыхалась, зашумела, угрожающе надвинулась на все еще стоявшего на пеньке монаха, но в эту минуту на крыльце появился стрелецкий пятидесятник Клим Егоров, слуга московского посланца дворянина Авксентьева. Он подошел к верхним ступеням крыльца и бросил в толпу отрывисто и негромко, но так, что многие стоявшие вокруг люди вздрогнули:
— Кончился, кончился думный дворянин Гордей Акимович Авксентьев. а кончился от воеводского наговора да от твоей сабли, злодеюка, — указал он на стоящего неподалеку пьяно покачивающегося старшину городской стражи Федота Курбатова.
…Так биться, как бились стрелецкий пятидесятник Клим Егоров и старшина Федот Курбатов, могут люди, не только обуянные ненавистью, но буквально пропитанные ею до мозга костей. Более увертливый, невысокий Курбатов едва что не взлетал в воздух над могучим, не больно-то поворотливым Климом Егоровым, но зато удары Клима, достигни они хотя бы раз цели, могли бы мгновенно надвое рассечь противника. Они наступали и отступали друг от друга, часто притоптывая по высохшим доскам крыльца, будто отталкиваясь от них, и взмывали вверх, успевая при падении несколько раз волчком повернуться вокруг своей оси и тут же, собрав все силы, в который раз обрушиться на противника.
Наконец Клим во время одного из особо отчаянных выпадов противника почувствовал, что тот устает все более и более и скоро наступит минута, когда превосходство Клима в силе и выдержке скажется в полной мере.
— Сникни, вражина, саблю в землю! — крикнул, как бы глотнув свежего живительного ветра, Клим.
Лицо Курбатова искривила злобная гримаса, и тогда в мгновенном взмахе сабля Клима пробила насквозь его грудь.
— Теперь твоя очередь, душегуб! — крикнул Клим, направляясь к побледневшему до неузнаваемости и трясущемуся как в лихорадке воеводе Домашину, но дорогу стрелецкому пятидесятнику преступил отец Мефодий.
Сняв с себя старинный серебряный крест, он поднял его высоко над головой воеводы и почти громогласно воскликнул:
— А сего грешника я беру на епитрахиль, отныне он будет до великого разбора находиться под покровительством нашей православной церкви.
Сей древний православный обычай был хорошо известен многим бывалым стрельцам, казакам и иным мангазейцам. По их лицам можно было судить, как они, ожидавшие наказания ненавистного всем воеводы, были разочарованы, а то и попросту крайне обозлены таким оборотом дела. Но остановить Мефодия никто из толпы не посмел.
Отец Мефодий, по-прежнему держа крест над головой воеводы, повел его в сопровождении стрельцов, слуг и местных и дальних мангазейцев к Троицкому крепостному собору, а остальной народ, оживленно обсуждая произошедшие события, стал постепенно расходиться. У воеводского дома остались только тела убитых и раненых стрельцов, тундровых и городских гилевщиков, кучи окровавленной одежды и брошенное оружие.
Вскоре на площади у воеводских хором появились фигуры монахов-схимников, прибывших в Мангазею по обету и всегда берущих на себя заботы о раненых и убитых… Полная тревог, буйства, бесчисленных споров и разногласий, жизнь постепенно возвращалась к мирным началам.
Глава 14
Примерно через неделю после невиданной в этих местах большой гили, буквально потрясшей всю Мангазею, когда установилось некое зыбкое, ненадежное, но все же спокойствие, в одну из ночей новое событие подняло на ноги почти весь город. Дело в том, что здесь, у главных причалов, вернее у бревенчатой дороги, ведущей в крепость, второй месяц подряд стояло надежно укрепленное и находившееся под строгим присмотром стрельцов, неожиданное для этих мест судно явно иноземной постройки.
На первый взгляд оно казалось легким и стройным, с двумя высоко приподнятыми площадками на носу и корме, где меж бойниц красовались две медные, будто игрушечные, пушчонки с ядрами к ним в литых чугунных обоймах. Вдоль бортов, вместо навешанных рядами по обычаю того времени ручных щитов, темнели узкие, отлитые из железа съемные бойницы для гребцов, заметно утяжеляющие, как и мачта с парусом, укутанным и укрепленным до времени в кожаном чехле над самой водой, это чудное создание заморских умельцев.
Еще ранней весной, когда в Мангазею пробирался первый караван кочей с годовым запасом продовольственных и зелейных товаров, на ертаульных казаков, всегда шедших впереди каравана, напали некие чужеземцы, таившиеся до этого в каменных нагромождениях ближайшего мыса.
В начале схватки ярость чужеземцев, их воинское умение, пестрота одежд и невиданные доселе суда заставили потесниться казаков, но они быстро огляделись и, с ходу переняв манеру чужаков, так ударили по ним, что потопили вскорости три чужеземных судна. Четвертое, порубив в запале уже не сопротивлявшуюся команду, вытащили полузатопленным на берег.
Старшина ертаульных, седоусый казак, побывавший не только во многих прибрежных сражениях, но и в дальних иноземных походах и довольно знающий чужеземную речь, осмотрев трофейное суденышко, со знанием дела определил:
— Сие ганзейских купцов суденышко, именуемое «когг».
Далее казак споро разобрал и перевел слова, выгравированные на медной пластине, накрепко приделанной к мачтовому гнезду. На пластине этой значилось: «Сей походный когг, именем „Фрида-Августа“, имеет хозяином негоцианта Отто Пильца, коему в благорасположении Господнем отказано да не будет…»
— Вона как, — усмехнулся казак, и в словах его явно прозвучала обида. — По нашей тундре да по водице снуют, по-воровски шарятся, да еще им благорасположение Господне подавай…
Ертаульные тем временем распечатали щиты заборницы и стали вытаскивать на палубу по всем правилам сложенные и зашитые в промасленную мешковину кипы собольих шкурок.
— Товарец-то первосортный — редкого окрасу. За такой наши торговые гости враз бы бороды друг у друга повыдергали.
— А ну, сникните, делом наискорейше займитесь, вона кочи наши на подходе! — прикрикнул на ертаульных седоусый казак, склоняясь над очередной кипой с пушниной.
Торжественно встречающий в городе первый весенний караван кочей воевода Домашин сразу же оценил приведенное новое иноземное судно. Казаков похвалил всенародно и пожаловал бочонком доброго вина и тут же объявил, нисколько не смущаясь, что сей кораблик крайне надобен ему для больших государственных дел и походов и что он берет его под свою руку.
Казаки, с трудом скрывая обиду и недовольство, промолчали, и судно, вытащенное на берег, поступило в полное владение воеводы. Стрельцы, которым была доверена караульная служба у корабля, несли ее добротно, хоть между собой часто смеялись, мол, кому мы нужны здесь вместе с этим заморским суденышком, чай, так и сгинет оно тут, на песке, ветром да волнами источенное.
И вот был прохладный вечер, в меру погожий, когда дым берегового костра лениво клубился над самой водой, обволакивая кораблик с носа до кормы, и казалось, что вот-вот он подхватит его, понесет с собой уже с чужими и неведомыми людьми… И вдруг эти люди и взаправду появились — молча, без окрика там или присвиста какого разбойного накинулись на полусонных стрельцов, вмиг похватали их, связали, заткнули тряпичными кляпами рты, утащили подальше в кусты.
Сколько времени прошло — никто не считал, не прикидывал, пока служивые люди и народ остальной мангазейский, сбежавшись на шум, разбирались, что здесь произошло. Но вот забрезжил рассвет, а там и вовсе развиднелось, и тогда стоящий у самой воды казак выкрикнул неожиданно и тревожно:
— Гляди-кось, вот оно где его, голубца, тащили, — указывая на четкий, глубокий след, оставленный, по-видимому, килевым брусом иноземного суденышка.
Первым к этому казаку подбежал воевода Домашин, накинулся на него, размахивая руками, со злобной руганью, но казак лишь усмехнулся:
— Што жилы рвешь, воевода, проспали, видать, твои охранители-глядельщики, когда ины умельцы суденышко заморско тащили тут…
Воевода вновь было набросился на казака, но тут из-за кустов показались стрельцы, обнаружившие и теперь тащившие к воде крепко связанных караульщиков пропавшего судна.
— Ну вот, а ты, воевода, еще шумел на меня! — выкрикнул казак и, сдвинув на затылок шапку, пошел вдоль берега.
Служилые люди — стрелецкие и казачьи начальники — тоже никак не могли успокоиться. Каждый предлагал свое, как поскорее изловить ночных злодеев, покуда воевода не крикнул громко и властно:
— А ну, утишь сутырь! Перво слово сейчас едино: кто и куды кораблик насмелился угнать? Жду от вас мыслей дельных.
— Погоню немедля — водой и по берегу! — вступил в разговор стоящий рядом с воеводой московский пятидесятник Клим Егоров.
— Молодца! — похвалил его воевода. — Вот ты и снаряжай дельце сие: бери под начало стрельцов десятка два, струг получше — и с богом. Аль у нас на лиходельцев и управа истощилась?
Как от камня, брошенного в спокойную воду, долго расходятся круги по воде, так и суматоха, порожденная недавней гилью в Мангазее, хоть и затихая постепенно, все же долго была главной темой и случайных, и обстоятельных разговоров. Вечером того дня, когда так ловко был угнан иноземный кораблик воеводы, с соблюдением всех возможных мер предосторожности и под надежной охраной из гилевщиков в потайном прирубе кузнеца Милентия собралось несколько человек. Был здесь архиерейский посланец Анисим Кручина, а также отец Мефодий, отец Дионисий и Игнатий Воротынской. Изредка появлялся хмурый, озабоченный хозяин дома и, окинув взглядом сидящих за столом собеседников, тут же исчезал, словно желая показать, что он смотрит за всем и они могут спокойно, ни о чем не беспокоясь, заниматься своими делами. И все же умиротворения не слышалось в словах собравшихся, особенно тревожился отец Мефодий. Конечно, он старался держать себя в руках, но нет-нет да в речи его возникала несвойственная ему ранее нервозность.
— Пойми, Анисим Евсеевич, — толковал он Кручине, — и вы все поймите, сколь трудно, прямо невместно мне вот тута с вами речи вести. Душой, совестью понимаю — правы вы: нельзя более допускать безобразия такого и воеводского бесчестья в Мангазее, но, с другой стороны, пастырь я церкви нашей православной, а значит, должен государеву делу главной опорой быть, а я — с вами. Вы, конечно, не осудите, но как ни крути, а с бунташным людом я. Это как рассудить?
— И меня к гилевщикам относишь? — невесело усмехнулся Кручина.
— Да нет же, господи, не так молвил, — заспешил, краснея, Мефодий. — Но, с другой стороны…
— А с другой стороны, — перебил его Кручина, — у меня еще други важные дела есть. Грамоты я нонешнему воеводе вручил. Второму воеводе, што вот-вот нагрянет, вручить готов. А мне с молодцами моими да с оленьим обозом далее спешить надобно, к тем местам, где мангазейскому хладному морю ино хладное море волной хлопочет. Тама я должен с некими паломниками нашими встречу учинить, как мне поведал в Тобольске владыко Киприан.
— Дозволь полюбопытствовать, — спросил Дионисий, — ежели не секрет сие, докуль же путь предназначен паломников тех?
— Ох, друже! — сурово свел и без того нахмуренные брови Кручина. — Каки в краях тех предназначения быть могут — это так, к слову говорено было. Край-то крест-накрест льдами опоясанный, мгла там, снегов вечных засилье, льдов царствие да морозов нетерпимых. Ну, а ежели по-простому назвать, как поморы, издавна там бывавшие, звали, то есть сие Берег забытых ветров, а бывал кто далее его, то, брат, неизвестно, одно слово — Югра немилостивая…
Чуткая, настороженная, будто нарочно спрессованная неким волшебством тишина властвовала в предрассветных сумерках над островной обителью. Издревле так творилось здесь, да и кто посмел бы нарушить природный порядок в тысячеверстной бескрайности, в самом центре колдовского зеленчатого края, как называли его редкие обитатели ближайших мест?
Как мы уже говорили, бывали они здесь только в случае крайней необходимости, стараясь поскорее уйти отсюда, а в разговоре не упоминать об этом, чтобы не навлечь на себя вечных проклятий.
Утру, о котором идет речь, выпала роль стать надолго памятным, так как именно в это время раздалось здесь несколько гулких выстрелов, сразу взорвавших незыблемую до того тишину.
На тропинке, ведущей к ближним причалам, показалась запыхавшаяся, крайне взволнованная Аглая. Видя уже суетящихся вокруг людей, она еще издали крикнула, едва не срывая голос:
— Матушке Марфе, матушке Марфе скажите… Люди, чужие люди… и кораблик чужой сюда идет — подымайте всех!..
Через несколько минут она уже стояла возле Марфы и, отдышавшись, более обстоятельно излагала ей суть случившегося переполоха.
— Мы с иноками — Козьмой да Игнатом — обходили берег, как всегда пораньше, вокруг тихо, спокойно, на воде туман вязкой — полосами, и вдруг из тумана того он и выплывает…
Марфа удивленно глянула на Аглаю:
— Яснее реки, кто «он»?
— Да кораблик некий иноземный крадется, яко тать в нощи… А людей за бортами не видать… Мы за ним по кустам заспешили, а с кораблика и пальнули по нам… для проверки какой аль от испуга.
— А вы што?
— А мы — в ответ им, дескать, тута не больно-то гостям незваным рады…
— Ах, Аглая, Аглая, ты же послушница есть, а не какой-нибудь парень-гулеван с посада, да и дело, кое я доверила тебе — присмотр оружный за обителью, считай, воинской строгости требует…
— Я, матушка Марфа, от дела свово ни на шаг не отступила и не отступлю. Дозволь, я вернусь на берег, где сейчас Козьма с Игнатом за иноземщиной незваной присматривают.
— С богом! — махнула рукой Марфа. — Мы тута тож ко встрече изготовимся, а ты, што новое изведаешь, нас извести тут же!
Обратно к берегу Аглая бежала намного быстрей, чем только что к обители, и беспокойство ее росло с каждым шагом. «Как они там, што, — думала она о своих подручных. — Притихли штой-то… уж лучше шум бы какой да крик… скорей, скорей, вот незадача-то, прости господи!»
Вот последние кусты, плотно прикрывающие берег, вот тускло блеснула полоса воды и тяжкий волнистый туман над ней, а вот и углом вздыбившийся каменистый мыс, за которым…
— О господи! — неожиданно для себя воскликнула Аглая.
Иноземный кораблик стоял у берега! А на песке, рядом, свои — столь близкие ей люди: отец Дионисий, Викентий и Савва. Аглая тут же бросилась к ним и, то смеясь, то плача, принялась обнимать, целовать каждого, взволнованно выкрикивая что-то невразумительное, а они, как бы в лад с ней, тоже смеялись, размахивая руками.
— Будя, будя, — первым опомнился Дионисий, уже степенно проводя рукою по усам и бороде. — Ты, Аглая, ноне не просто послушница, а смотритель — охранитель порядков в обители, тако место у столь строгой игуменьи, как Марфа, заслужить нужно было…
Все вновь рассмеялись, а Викентий, хитровато морщась, сказал как бы невзначай:
— Тебе, Аглаюшка, парнем бы родиться нужно было: и ловка, и быстра, и воинским обычаям с детских лет обучена, а што касаемо стрельбы — тут уж што молвить…
Самый молчаливый в этой компании, Савва тоже сказал к месту свое слово:
— Была б нам всем ноне беда, не разгляди мы первыми в тумане Аглаю на берегу да не пригнись. Она, старательница, с двух выстрелов так по бойницам шибанула, што у меня едва душа в пятки не ушла.
— Прощеньица просим! — густо покраснев, пролепетала Аглая. — Я думала, иноземны разбойники на кораблике таком…
— Правильно думала, вот и весь сказ! — уже строго произнес Дионисий, почему-то с особым пристрастием оглядываясь вокруг. Он огляделся еще раз, и другой и, задержав взгляд на стоявшем чуть в стороне Савве, спросил: — Думаю, все окрест тихо, спокойно. Считаешь, можно Акинфия окликнуть?
— Да, отче, считаю! — ответил тот.
— Ну, тогда шумни чуть, как говорится, к делу.
Савва вложил два пальца в рот и залился таким отчаянным переливчатым свистом, которому мог бы позавидовать сам сказочный Соловей-разбойник. Тут же заколебалась, как от порыва ветра, неподвижная до этого густая стена камыша и на чистую воду выскользнул совсем небольшой челн. На веслах сидел и греб Акинфий, а на корме расположились не старый еще, видный лицом и фигурой монах-схимник, с ним маленький, закутанный в плотную накидку белокурый парнишка и, к полному удивлению Аглаи, самая отчаянная посадская гулеванка — Ульяна.
Увидев ее, Аглая потемнела лицом и растерянно осведомилась у Дионисия:
— Это што ж такое творится, эдакая особа — и в обители появиться насмелилась, как сие понимать?
— А ну, остынь, Аглая! — сердито прикрикнул Дионисий. — Сути дела не зная, не спеши в осужденья пускаться!
Меж тем Акинфий причалил струг, помог выйти на берег Ульяне, схимнику и белокурому пареньку, и тут, как по заказу, из-за кустов показалась Марфа. Для Марфы, с ее взглядами и понятиями, Ульяна была из разряда людей крайне ей чуждых. Конечно же, в эти минуты никто из стоящих на берегу не понимал так состояние Марфы, как Дионисий. Недаром он тут же решительно подошел к игуменье и столь же решительно заявил:
— В данном разе молодица сия сама долгожданна для нас: имеет она передать тебе весть наиважнейшу и наказ дорожный из соловецкой обители для паломников наших…
Слова Дионисия настолько удивили Марфу, что она, при всей ее выдержке и умении вести самые сложные разговоры с людьми, не то что опешила, но, во всяком случае, насторожилась крайне и как-то неуверенно приблизилась к Ульяне. Та, несмотря на сложность положения, и сейчас осталась сама собой: с обычной для нее беззаботной улыбкой, негромко, но с подчеркнутым значением произнесла предназначенные Марфе условные слова и тройной привет от соловецкого старца Кондратия. Затем, повернувшись, подозвала к себе белокурого паренька, насупленного почему-то и подчеркнуто хмурого.
— Вот, матушка Марфа, велено мне знакомство учинить тебе с сим отроком, а будет он княжич новгородской — внук воеводы наизнаменитого, князя Аникея Пивашина — именем Мегефий. — Она теперь уже строго и торжественно приказала Мегефию: — А ну, представься, како положено в случаях таких. Попроси благословения и добра для себя, для спутников твоих, а самое главное, для дела великого, доверенного тебе старцами обители соловецкой.
Мегефий, по-прежнему укутанный в тяжкую суконную накидку, тут же сбросил ее и предстал перед присутствующими в щегольском кафтане из серебристой рельефной парчи с лилово-золотистыми разводами, в зеленых сафьяновых сапожках с кистями. На боку у Мегефия висела цветной кожи сумка, вся в серебряных заклепках и кольцах, откуда он достал небольшой кипарисовый крест, окантованный по граням узорами из мелких, тускло поблескивающих жемчужин. Мегефий опустился на колени и, держа крест в обеих руках, протянул его Марфе.
— Се знак дорожный Господен из пределов византийских, пребывающий долгое время в обители соловецкой. Велено тебе, мати Марфа, вручить его паломникам, кои от обители твоей понесут его уже в пределы югорски, прославляя умением своим мореходским, мужеством достойным и делами добрыми веру нашу святую православную и подвижников ее!
Марфа, волнуясь, приняла крест, подняла с колен Мегефия, крепко обняла и расцеловала его и, уже радостно возбужденная, обратилась к окружающим ее людям:
— День сегодня будний, а душа поет, яко в праздник великий!.. Спасибо вам, што вы радость столь дорогую в нашу обитель доставили. Кланяюсь и прошу всех за мной проследовать. Откушаем чем бог послал и совет со всеми братьями и сестрами держать будем: яко нам жить далее, а главное, поскорее паломников в путь снарядить…
— Постараемся… — кратко ответил за всех Дионисий.
Хоть и приучились, давно привыкли паломники к сборам быстрым да без суеты излишней, а тут им пришлось, что называется, туго. Буквально вслед за их прибытием в островную обитель из Мангазеи двое слуг с двумя посланцами-гилевщиками от Игнатия прибыли.
Вести были крайне тревожными. Игнатий сообщал, что в Мангазее появились ертаульные казаки следующего в город второго воеводы князя Федора Уварова, ведут себя нагло, смеются едва ли не в глаза первому воеводе Домашину: дескать, ты ноне будешь здесь лишним, так как истинный воевода через пару недель будет в городе порядки новы свои наводить… Чует Игнатий: новая, еще большая смута в городе заварится, и кому будет здесь прибыток, кому убыток, одному богу известно.
Познакомив с письмом Игнатия Марфу, Дионисий удрученно произнес:
— Вот оно, матушка, како выходит: мы, грешные, все боле о делах своих да о прибытках-убытках заботу имели, а о главном в бытии нашем, для чего в края мангазейские прибыли, — выходит, забыли. Забыли о словах благословенного владыки Киприана, о первейшем наказе его: елико возможно торить тропу паломническу и на море, и на суше, правду веры нашей православной нести в края незнаемые народов диких, ни головы, ни живота свово не жалея для дел этаких.
— Кланяюсь тебе, отче, за слова сии, — взволнованно ответила Марфа. — А дале вот што: единого человека — отца Арефия только и не тревожить, не отрывать от дел его, все остальные — в помощь тебе! Вскорости молебен дорожный отслужим и проводим как требуется паломников наших.
Марфа внимательно посмотрела на Дионисия и, видя, что он еще что-то хочет сказать, протянула к нему руку.
— Ладно все это у тебя выходит, мати Марфа, — то ли осуждающе, то ли хваля, сказал Дионисий. — Про кораблик-то, про когг иностранный молчишь, а я, грешным делом, подумал, што ты поругаешь нас, мол, опять грех сотворили…
— Грех греху разница, — резонно, даже спокойно как-то ответила Марфа. — Чем коггу тому забавой для воеводы служить, лучше вы пойдете на нем в моря хладны для дел достойных, тако будет?
— Тако, тако, — заторопился Дионисий. — А ну, братья и сестры, за работу, с богом, други, с богом!
Будто некий дух согласия сошел на Марфу, чему немало дивились ближние к ней люди. Обычно несговорчивая, не принимающая замечаний и советов, сейчас она внимательно выслушивала все, что говорилось ей, и даже не стала возражать, когда, перечисляя тех, кто пойдет на когге, Дионисий, замешкавшись на секунду, назвал Аглаю.
— Ей пару таких же, как она, пищальников — иноков Козьму и Игнатия — хотя бы до устья Таза взять надобно. Ежели с боем нам прорываться выйдет — сия троица наидобрейшей защитой будет. Огненного боя искусники знатны, иначе не скажешь…
Видимо, уже окончательно смирившись со всем происходящим и понимая, что это необходимо, Марфа прикрыла глаза рукой, но было заметно, что губы ее в эту минуту шепчут что-то взволнованно. В таком положении она оставалась минуту-другую, до тех пор пока не справилась с волнением.
— На щеглу-то не забудьте крест православный укрепить — пусть щегла крестовой будет. Штобы все встречные на реке и на море знали, што идет кораблик лишь видом заморской, а следуют на нем новы хозяева — православны паломники.
— Спасибо за совет, матушка, — поклонился Дионисий. — Сие сотворим в первую очередь.
По прибытии в островную обитель Ульяна и Мегефий как-то быстро здесь освоились, осмотрелись и беседы, если приходилось, вели просто-запросто, будто знали хорошо всех этих людей, их привычки, взгляды и особый жизненный настрой, утвердившийся в обители. Один Елизарий держался отчужденно, сторонился собеседников и только на третий день, как раз во время разговора Марфы и Дионисия, о котором мы рассказывали выше, подошел к ним, поклонился особым монастырским обычаем, глуховато, будто придерживая слова, произнес:
— Не судите меня, мати Марфа и отче Дионисий, за доглядки мои пристальны, што я учинил вам. То воля не моя, а отцов Кондратия и Егория веление. Вижу, семена их на добру почву упадут, дело святое, начатое ими, сотворено будет. Вам неведомо, што в те дни, покуль мы, ожидая встречи с вами, в Мангазее проживали, у меня в гостях много разного народа перебывало. Шли яко к схимнику — иноку обители Соловецкой, взыскуя чести и правды, шли и бездельники городски — нелепостей болтатели. Шли и поистине страшны люди, доглядчики судов монастырских, — считай, почти все им ведомо о каждом православном. Уже выпытали откуль-то нелюди эти, што готовите вы кочи в югорску сторону и намерились туды же везти отрока Мегефия. Еще и смеялись при этом: мол, царя нового югорска возвести на трон вознамерились…
— Спаси, Господи, люди твоя! — едва что не в голос выкрикнула Марфа. — Како же оборониться от зла подступающа?!
— Едина оборона тут, — ответил Елизарий. — Бери, отче Дионисий, под опеку наикрепчайшу отрока Мегефия, отныне главно дело — доставить его целым и невредимым к мысу Дровяному, где ждут-встретят вас достойны люди — укажут и помогут во всем, как вам дальше быть в дороге предстоящей, нетореной. Не знаю, греховны аль справедливы мои мысли здесь, но думается иногда, што все дело это с Мегефием может большой, истинной правдой обернуться: а вдруг, и верно, появится на землице нашей православной добрый царь Мегефий, и мы к сему свое малое приложим старание…
Дионисий изумленно посмотрел на Елизария, покачал головой:
— Ну, друже, сколь высоко взлетел ты в мыслях своих: мне тако мыслить и близко в голову бы не пришло.
— Малые мы люди для деяний таких, тем паче находясь в облике монашеском.
— А сие здесь ни при чем, главное в вере нашей святой православной — крепким быть, а мыслить человеку — монах он аль не монах — не возбраняется…
Марфа, молчавшая все время, пока шел этот разговор, недовольно покосилась на монахов:
— Ну, я пойду, пожалуй, а вы, филозофы, тута без меня истины взыскуйте.
И она направилась вверх по тропинке, а Елизарий, посмотрев ей вслед, сказал:
— Вовремя ушла мать Марфа, ибо мне еще, отче Дионисий, кой-чего только для твоих ушей сказать надобно. Есть у меня во граде Мангазейском люди добры, верны и не раз со мной рядом в перипетиях житейских побывавшие. Так вот, они поведали, што за нами след, начиная от обители Соловецкой, остался, ну, весь путь в Мангазею под присмотром, да куда как умелым, мы были… Никак не хочет старец Симеон из рук своих отрока Мегефия отпущать, а руки у старца сего куды как длинны, не иначе как в первы царедворцы царя будущего молодого метит. И в пути до мыса Дровяного, и далее к берегам югорским смотреть да смотреть надобно, всем паломникам особливо наказать, ну и Мегефию как-то попроще, помягче, што ли, объяснить…
— Да я пробовал с Мегефием сим толкования различны вести, — сказал Дионисий. — Отрок трудный, ершистый… Видать, содельники отца Симеона в обители соловецкой изрядно голову забили мусором разным отроку сему: успел он и чванством, и понятиями ложными наполниться. С другой стороны, добрых кровей он и основа жизненна в нем крепка. Должен выправиться.
— На мудрость твою полагаюсь, отче, — сказал Елизарий.
— До мудрости нам далеко, тут хоть бы путь добрый наладить… Раз тако дело выходит, пойду еще раз с Мегефием словцом-другим перекинусь.
— Вот и ладно, — заключил Елизарий.
Он долго бродил по острову и даже задремал на некоторое время у воды, устроившись в распадке между двух каменных плит. Осенний, все еще напоенный летним теплом ветер приятно овевал лицо, наполняя душу резким, почти забытым за последнее время покоем, и казалось, что и далее этот покой воцарится в его жизни, отлетят тревоги и все пойдет ладно, беззаботно, возможно, совсем тихо…
Елизарий, совсем разнежившись, лениво потянулся, открыл глаза и похолодел от страха. Здоровенный детина, неуклюжий видом и движениями, в замусоленном рваном кафтане, склонился над ним, поигрывая перед его глазами хорошо отточенным, чуть изогнутым обоюдоострым ножом. Елизарий готов был поручиться, что никогда не встречал его и вообще видит впервые, но детина, улыбаясь паскудно, промолвил:
— Здрав буди, Елизарушка, — и тут же приставил нож к его горлу. — Един миг тебе на словеса отпущаю, молви кратко, быстро: куды намерились царевича Мегефия везти и кто за главного у вас будет? Правду изречешь — тут же отпущу. Небылицы начнешь плести — с белым светом прощайся…
Более всего в речи этой Елизария удивили слова «царевич Мегефий».
— Како же это, кто Мегефия в царевичи записал? — спросил он, бесстрашно глядя в глаза детине.
Тот, не меняя своей паскудной улыбки, легко ткнул ножом в шею Елизария. Этого последнему было достаточно. Отроческие годы ли вдруг напомнили о себе или почти забытая молодость, как шальная волна, хлестнула пенной верхушкой, однако он, когда-то первый среди первых кулачных бойцов на соловецком рыбацком побережье, вдруг почувствовал такой прилив сил и так, развернувшись, резанул с плеча детину, что тот перевернулся через голову и плашмя растянулся на песке.
Лежал он долго и неподвижно. Наконец Елизарий ткнул его в бок носком сапога, спросил:
— Жив аль нет, крещена душа?
Здоровяк зашевелился, перекатился набок и сел у камней, медленно приходя в себя и усиленно моргая. Несмотря на свое полуобморочное состояние, он разобрал только что сказанные Елизарием слова и так отозвался на них:
— Вот уж верно, што душа крещена, но только во второй раз: впервой в купели меня окрестили, во второй раз отче Елизарий постарался — приложился так, што я чуть на тот свет не сподобился попасть.
— А ты не греши, не пугай попусту людей православных! — сердито бросил ему Елизарий. — Пойдем-ка на беседушку душевну к матушке Марфе.
— Это как — душевну? — испуганно переспросил детина. — Игуменья ваша, известно, строга шибко есть, уж сделай милость — я тебе истинно все поведаю, без игуменьи сей!
— Иди, иди, ишь пуглив сколь есть, а когда за нож держался — иным был?
— Иду, иду, — сразу сник детина и, поминутно оглядываясь на идущего вслед Елизария, быстро зашагал по тропе к постройкам островной обители.
Даже Елизарий, постоянно находившийся в гуще главных монастырских дел, был поражен тем, что поведал им на допросе пойманный им детина именем Кузьма, являющийся на самом деле не мангазейским бродягой, а особо доверенным монахом-соглядатаем старца Симеона. Оказывается, тайна исчезновения Елизария была быстро раскрыта и по его с Мегефием пути были пущены, как тогда говорили, «люди с тройным оком» под началом Кузьмы.
Тому Кузьме старцем Симеоном было сказано следующее: «Должен ты отныне знать не только каждый шаг, но и каждый вздох Елизария и отрока Мегефия, пригляд за ними должен быть и в день ясной, и в ночь темну, всегда и везде, каждый миг единой. Огнем ли, ножом ли Елизария наизнанку выверни. С кем и чего намерился творить дале, вызнаешь, и боле он мне ни для каких дел не нужен. А вот Мегефия-отрока ты мне ухвати, выкради, вымоли, отбей как хошь, любым манером — за то наипервейшим слугой у меня будешь, ни в чем не обижен и всегда на первом месте; дело свое твори смело, грех за него на себя беру. Отмолю ужо деяниями благостными…»
Когда был окончен допрос Кузьмы, он, видя по лицам стоявших вокруг Елизария, Дионисия и Марфы, что ему не ждать от них пощады, повинно упал на колени, заскулил, захлюпал, как малое дитя, носом, замолился, громко выкрикивая слова молитвы. Марфа резко отвернулась, вслед за ней отвернулся Дионисий, и лишь Елизарий остался непреклонным: глаза его, будто инеем подернутые, смотрели непривычно холодно.
— Пойдем, — только и сказал он Кузьме, — не я казню, грех довел тебя до кончины такой…
Марфа с Дионисием уже вышли на поляну, когда позади раздался крик — страшный от отчаянья и безысходности. Эхо его еще долго блуждало в кустах, пока его не приглушили лежащие вокруг болотные топи…
На берегу Таза на окраине Мангазеи как-то вечером у сторожевого костра собрался народ бывалый и солидный. Между новичков, впервые попавших в Мангазею, заметно выделялись годовальщики — стрельцы и казаки, что были здесь по второму, а то и по третьему разу. Те знали и повидали такое, о чем на Руси расскажи вот эдак к случаю, так мало кто и поверит.
Когда посудачили о городских событиях — мелкоте разной, годовальщик-первогодок из казаков — рыжий, вихрастый и, видать, неуема-спорщик, — сдернув франтоватую шапку, поклонился старым казакам, чтоб те растолковали бы главный говор, идущий ноне в Мангазее — о кораблике, что то ли угнан был, а то ли пропал чудом, неведомо как.
Вопрос этот вызвал всеобщий интерес. Кто рассмеялся, кто хмыкнул, а нашлись и такие, что отвернулись, поплевали трижды через левое плечо да, хмурясь, поплотней надвинули шапки на головы. Тут же послышалось со всех сторон:
— Дело темное, нагадал, видно, насудачил кто-то такую невтемятицу…
— Да уж, судить-рядить тут голова гулом пойдет…
— Нечистый тута потрудился, вот и весь сказ.
— Истинно так. И в верхах реки до зеленых камней, и на низовье искали дотошно казачки — нету ни следочка, ни щепочки, сгинул иноземный кораблик, людей честных да и воеводу нашего, грешника, подразнив достаточно!
Все рассмеялись, но как-то нехотя, невесело, а молчавший все это время самый старый из казаков ворчливо заметил:
— Невместно к ночи да таки разговоры. Мы тут тож со старыми казаками об этом судачили и решили, что и впрямь здесь было колдовство — дьявольско наущение и кораблика-то никакого на самом деле не было, а струг незнаемо чей за кораблик принимали.
Говор вновь, как волна, прошел меж сидящих у костра мангазейцев, и на некоторое время воцарилась тишина. Лишь, шурша в каменистых россыпях, поплескивала вода, изредка доносились сонные всхлипы, стонущие дальние протяжные вздохи, а то и вовсе ни на что не похожие звуки, которыми всегда полон дальний, дремлющий в забытьи лес.
И — надо же было случиться такому! Именно в эти минуты, да еще после столь необычного, по-своему пугающего разговора, произошло событие, о котором долго судачили и не забывали не только в Мангазее, но и далеко окрест ее. Из-за ближайшего поворота реки, где у правого крутого берега уже скапливались и начинали расползаться плотные, туго перевитые полосы тумана, показался тот самый иноземный кораблик.
Люди будто потеряли на какое-то время дар речи, некоторые испуганно крестились, другие хватались за оружие, кто-то выкрикнул, срывая голос:
— К воеводе, к воеводе посыльного, быстро!
Но вся эта суета, вспыхнув, тут же стихла сама собой, потому что, выйдя полностью на какое-то время из тумана, кораблик явился перед стоящими на берегу в своем новом, еще более пугающем обличии. На палубе не было ни одного человека, не было никого и у рулевых весел, хотя бортовые весла вздымались и мерно опускались в воду и судно ходко шло вниз по течению.
Годовальщик-казак, тот самый, что недавно просил стариков растолковать ему подробно слухи о кораблике этом самом, вдруг вскочил на ноги, выхватил саблю и, размахивая ею, закричал, пересыпая свой крик яростной бранью:
— Стой, нечистая сила, стой, тебе говорят! Выходи на честный бой, без ухищрений своих дьяволовых!
Но на палубе проходящего корабля по-прежнему не было ни одного человека. Да и сам кораблик, пройдя мангазейские причалы, скрылся вскоре в тумане, вновь подступившем из-за поворота реки.
Теперь на пути к морю коггу с паломниками Дионисия должно было преодолеть еще одно, но весьма существенное препятствие — сторожевую засеку мангазейцев в устье Таза, сооруженную на левобережном ступенчатом мысу. На вершине его меж камней стояла довольно высокая бревенчатая сторожевая башня, откуда отлично просматривалась и тундра, и уходящая за горизонт безбрежная даль залива с россыпями гребенчатых песчаных мелей и каменистых многоверстных островов.
Когда до мыса оставалось не более двух-трех верст, Дионисий велел остановиться. Тут же развели малодымный костер из берегового сушняка и принялись варить кашу.
Дионисий, подозвав всех поближе, сказал, улыбаясь подчеркнуто благодушно:
— На пустой желудок, как еще в старину молвили, и бой не в бой — подкрепа нужна!
— Это так, отче, это к делу, — подхватил Акинфий, — но и о самом бое слово твое хотелось бы услышать.
— Э, брате, нет… Море вот оно, рядышком, а на море да на кораблике теперь хозяин и воинской человек наибольший — ты…
— Да невместно как-то, — оговорился, чуть краснея, Акинфий.
— Все, все, — прервал его Дионисий. — Выкладывай, како здесь мыслишь!
— Ну, раз так оно, вникайте… Народу сторожевого здесь, думаю, десяток-другой, не более. Не знаем мы, успели или нет сюды на оленьих упряжках из Мангазеи прибежать, но все равно идти надобно напролом, как в городе у причалов творили. За греби сядем пониже обычного, на запасны доски; удивляться береговые начнут — думаю, прорвемся.
— А ежели реку цепью али сетями раза в три перекроют да в упор бить начнут, тогда как? — пытливо глядя в глаза Акинфию, спросил Дионисий.
— Тогда пусть за дело берется воительница наша. — Акинфий поклонился Аглае. — Без убойства, конечно, но пугнуть надобно по-настоящему, остальным же сидеть не показываться, чтоб не ведали, сколько нас здесь есть.
— Тогда с богом! — сказал Дионисий. — Отобедаем и вперед!
Как только когг стал подходить к сторожевой башне, на площадке ее показалась одна голова в казачьей шапке, затем другая и тут же над бревенчатой оградой встали два казака с пищалями в руках.
— Эй, народ! — звонко выкрикнул один из них, побойчей, видно, да помоложе. — А ну, правь к берегу, кажи грамоту на выход из реки да другу грамоту на морской ход!
Он помедлил немного и, видя, что когг продолжает движение, а на палубе его по-прежнему нет ни одного человека, уже забеспокоясь, взял наизготовку пищаль.
— А ну, где вы там, што, оглохли или как — вот как стрелю сейчас!..
Он хотел было и взаправду ударить по коггу, но в неуловимо короткий момент, когда стал подносить приклад к плечу, с борта раздался выстрел и пуля, точно ударив в приклад, отбросила пищаль далеко в сторону. То же случилось и со вторым казаком, и оба они бросились к лестнице, торопясь подобрать выбитое из рук оружие.
С берега больше не стреляли и никто ни о чем больше не спрашивал, хотя за оградой башни из заостренных бревен мелькали головы суетившихся там людей. Внизу у причала не было ни сетей, ни цепей, и когг, благополучно миновав последнюю каменистую отмель устья, тут же принялся кланяться встречным окатистым волнам залива. Ветер был попутный. Под руководством Акинфия на обеих мачтах тут же подняли паруса, и вскоре устье Таза с его отмелями и островами, а потом и сторожевая башня растаяли в переливах дымчатой синевы у горизонта.
Когг мангазейских паломников шел легко, не останавливаясь. Погода была благоприятной, небо ясным, ветер попутным. Залив все ширился, берега показывались временами синевато-туманными полосами и тут же исчезали за горизонтом. Бескрайняя водная гладь на глазах меняла окраску, и уже не блекло-серые, а зеленовато-синие пенистые морские волны сердито поплескивали в борт судна.
На четвертые сутки, когда шли вдоль берега с цепью продолговатых приплюснутых холмов и ветер разогнал остатки ночного тумана, на отмели у самой воды показались две оленьи упряжки.
— Эй, охотник, ты у нас самой зоркой, это по твоей части! — окликнул Дионисий стоящего у кормовых весел Викентия. — Как считаешь, это воеводски люди за нами вдогон идут али гилевщики тундровы интересуются?
Викентий некоторое время присматривался к догоняющим их упряжкам, потом уверенно заявил:
— Сие не то и не другое. Это упряжка тобольского епархиального секретаря… да и сам он там, вона шестом нам машет!
— Скажи пожалуйста, сколь зорок ты, и шест разглядел! — удивился Дионисий и велел: — А ну, к берегу правь, не ведаю, зачем мы епархиальному секретарю надобны, но нам-то он нужен…
И вновь был вечер, теперь уже у несуразно дыбившегося мыса, где устроили себе временный стан спутники Анисима Кручины. И через многие сотни лет этот мыс, названный Дровяным — из-за веками копившегося здесь леса-плавника, — все так же выполнял отведенную ему природой роль: как бы отделял воды бывшего Мангазейского моря от моря, названного впоследствии Карским. Здесь в огромном своенравном круговороте дальних и ближних течений вскипали, буйствовали и плавно разливались в переплетениях удивительнейших пенных узоров волны, несущие дыхание самых холодных морей земли.
Паломников Дионисия на мысе Дровяном принимали и угощали по-братски, и особенно старался в этом сам епархиальный секретарь Анисим Евсеевич Кручина. Не кичился должностью высокой! Он больше слушал, чем говорил, но успевал при этом и пошутить к месту, и посмеяться. И лишь после ужина, помедлив немного, сказал негромко, как бы невзначай, Дионисию:
— Давай-ко, отче, малость в сторону отойдем, пришло времечко кой-каким словцом заветным перекинуться, а лучше того надобно бы нам до вершины мыса добраться.
— Пойдем, коль надобно, — согласился Дионисий.
На вершине, где поблескивали причудливыми изломами камни, был укреплен свежевытесанный массивный крест, а небольшая площадка перед ним была усыпана крупнозернистым морским песком. На кресте была надежно укреплена толстая дубовая доска, на которой аккуратной вязью значилось: «Здесь покоится знатный воевода, искатель земель новых и путей нехоженых, новгородский князь Аникей Нилыч Пивашин, мир праху его и царствие небесное отныне и вовеки».
Кручина, обнажив голову, достойно, как это делают в храме на богослужении, повторил, почти выпевая, означенные на кресте слова, потом, повернувшись к стоявшим чуть поодаль паломникам, уже обычным голосом произнес:
— Склоним голову перед памятью сего истинно православного человека, коего жизнь и деяния самым добрым примером останутся в сердцах людских.
Как тени предзакатного солнца быстро сменяют друг друга, так и выражения лица Мегефия менялись одно за другим, когда он растерянно или скорее испуганно слушал то, что говорил о его любимом деде епархиальный секретарь Кручина. «Деда, деда!» — заунывно, с пронзительной болью выпевал будто кто-то в его сердце, и боль эта росла, ширилась, и казалось, конца ей не будет до конца его жизни. Мегефий вскрикнул, упал на колени и, захлебываясь слезами, обхватил подножье креста. Кручине стоило немалых усилий разжать его руки, но он все ж сделал это и, поставив на ноги Мегефия, ласково, но твердо обнял его, прижал к себе.
— Гляди, отроче, и помни, что первым желанием твоего славного деда было видеть тебя воином честным и прямым в делах больших благородных и малых житейских. Старайся, чтобы имя и звание твое люди с улыбкой доброй произносили, тогда и глаз у тебя всегда будет зоркий, и удар против ворогов крепкий, и пути большие в жизни пройдешь не спотыкаясь.
Что-то дрогнуло вдруг в голосе Кручины, и дальнейшие его слова зазвучали еще убедительней. Казалось, будто стояли сейчас паломники не на вершине Дровяного мыса, а у стен Тобольской крепости и сам владыко пресветлый Киприан, провожая их в путь, говорил:
— Благославляю вас, чада мои, на путь паломнической, страдной, со многими препонами и угрозами смерти неминуемой, преодолеть который вы должны неотступно и крест — символ веры православной поставить на грани земель, покуль неведомых человеку русскому…
Еще следуя в Мангазею, выполняя наказ Киприана, Кручина отправил на мыс Дровяной две оленьи упряжки с тобольскими казаками. Им было велено обустроиться по-походному на мысу том и вести строгое и неусыпное наблюдение за морем, особенно за восточным его побережьем, откуда по предварительной договоренности должны были прийти кочи воеводы Аникея Пивашина со товарищи.
Ждали их на мысу Дровяном долго и безрезультатно, а когда уже минули все сроки, в одно туманное утро волны вынесли на песок полузатопленный струг с израненным, исхудавшим до невозможности человеком в обрывках почерневшей от копоти одежды. Казаки, приглядевшись, с трудом узнали в нем воеводу Пивашина, бросились к нему на помощь, но были тут же остановлены хлестким воеводским словцом. Он, с трудом разжав пальцы, отбросил весло и, едва шевеля губами, попросил ковш дорожной браги, которую пил судорожно, даже захлебываясь, а по обросшему пегой щетиной лицу щедро катились крупные слезы.
— На берег его надобно, на берег! — зашумели казаки. — Осмотреть толком, перевязать раны да в баньке попарить страдальца!
Но Пивашин, привалившись плечом к борту, выкрикнул не то просяще, не то отчаянно:
— Не трожь! — и тут же впал в забытье.
Бывалые казаки пытались по-своему привести его в чувство: трясли за плечи, раскурив трубку, дули дымом в ноздри, но он, бессмысленно вращая глазами, лишь мотал из стороны в сторону головой и безуспешно пытался что-то объяснить, рассказать. И оттого, что это не удавалось ему, вновь принимался плакать, совсем по-детски. Когда его все же перенесли на берег и устроили на песке, подложив под голову свернутый кафтан, воевода вдруг вздрогнул, схватился за грудь и впервые осмысленно посмотрел на обступивших его казаков.
— Братцы, говорить трудно, отхожу, видно, на суд Божий, — непрерывно покусывая губы, с трудом произнес он. — Владыке Киприану передайте… дале Берега забытых ветров не пропустили нас идоловы служители… Полегли мои други-содруги на берегу этом, трижды проклятом, лишь мы с есаулом к ночи сумели кое-как отбиться, ушли на струге пораненные, благо ночь скоро прикрыла нас… Как могли дело воинско вершили… Пущай владыко не судит нас строго, ибо мы вере нашей православной и земле родимой до скончания свово верны были, а дале перед Господом Богом отвечать будем…
Неожиданно с берега ударило ветром, будто владыку вод здешних побеспокоили некстати и он в отместку стеганул кнутом по волнам, те тут же взъярились, и пошла обычная для этих мест кутерьма — предвестница скорых и безжалостных в своем бесновании ветров.
Кручина прервал рассказ, задумался, но тут же, вспомнив, для чего они пришли сюда, пытливо, оценивающе оглядел паломников.
— Тут у нас неподалеку, до времени в утайке, стоят два добрых коча, снаряженных в путь дальний на смену воителям воеводы Пивашина, царствие им небесное и вечный покой, — почти торжественно произнес вновь Кручина. — Люди мои, тобольски стрельцы, в дорогу готовы, но тут тако дело выходит…
— Тако выходит, — прервал его Дионисий, — что господин епархиальный секретарь по предварительному договору с владыкой Киприаном, зная о нашей давешней просьбе, разрешает нам отбыть к Берегу забытых ветров и там дело свое паломническо править и налаживать, како совесть и честь христианская требует.
— Ну а служители идольски и прочие, в безверье проживающие, на пути встанут, с ними как? — чуть улыбаясь, но испытующе спросил Кручина.
— Поглядим. Зря на рожон не полезем, но и в уступу зряшну не пойдем: кораблик у нас добрый, народ бывалый. Вам, господин епархиальный секретарь, молебен дорожный служить, тако я реку, братья? — обратился он к паломникам.
— Тако! Так! — будто сговорившись, в едином порыве воскликнули те и, перекрестившись и сняв шапки, по старинному обычаю покрутили их над головой и стали высоко подбрасывать в воздух.
Глава 15
Считай два месяца с лишним минуло с той поры, как, покинув воды Мангазейского моря, паломники во главе с Дионисием отправились далее на восток.
Погода ничем особым себя не проявляла, будто исподволь копила силы и буйствования бескрайние к осени, чтобы потешить спесь да вволю разгуляться потом, по-настоящему пройтись по своим владениям на страх редким здесь людям: охотникам, пришлым бродягам да терпящим безмерные невзгоды мореходцам. Вот и выходило, что разобраться им, кому здесь трудней трудного, никак не получалось.
Слева на тысячи верст хляби водицы морской студеной и льды без конца и края. Справа тоже тысячеверстье, но сухопутное — просторов тундровых, окаймленных да изрезанных болотными топями, щедрыми россыпями рек, озер, многовековыми провалами-затонами ядовито-изумрудной травы, и так вплоть до застоявшегося в лилово-сизых туманах непроходимого таежного многолесья.
У Дионисия с Акинфием каждое утро вошло в привычку просыпаться раньше всех и, устроившись на носу когга или на камнях у берега, если останавливались на ночевку, разглядывая открывающуюся перед ними местность, прикидывать, что им предстоит сделать в течение дня, да обсуждать сделанное вчера.
В это утро попутный западный ветер нехотя перекатывал длинные пологие волны. Над туго выгнутым полотняным парусом когга задиристо гомонили чайки.
— Расшумелись, гляди-ко!.. — осуждающе протянул Акинфий. — Вокруг-то вон оно спокойствие сколь благодатно.
Остатки ночного тумана хитро закрученными лентами тянулись к берегу, пропадали среди нагромождений покрытых мхом и водорослями камней. За галечными россыпями, уже среди скальных наслоений, начиналась тайга сизовато-синей, без просветов и полян, стеной, уходящей к горизонту.
Глянув на лицо Акинфия, Дионисий приветливо улыбнулся:
— Ну, старатель морской, молви, молви, вижу, что поведать штой-то намерился.
— Да уж, намерился, а како излагать намеренье мое — не придумаю.
— Вот как? — удивился Дионисий. — А ты сразу, не медли.
— Не прими шутейно аль еще подобно как слова мои, отче. Я об этом деле еще намедни молвить хотел. Блазнится мне, что пригляд за нами с берега идет. Будто бы людишки каки все высматривают: куды мы идем да как у нас на кораблике все проистекает.
Слова Акинфия Дионисий воспринял серьезно:
— Верю зоркости и глазу твоему морскому, молодец, кормщик. Я, брат, тоже, грешным делом, людишек неких в береговом кустарнике замечал…
— Слава те господи! — перекрестился Акинфий. — Значится, все верно, не блазнились мне людишки сии. И како нам теперь дале быть?
— Свой пригляд добрый сотворим безотрывно, а путь продолжим. Сии людишки, думаю, все едино объявятся нам, а с добром аль со сварой какой полезут — поглядим…
Слова Дионисия подтвердились, но не сразу, а примерно через неделю. Как раз столько потребовалось времени, чтобы когг в середине редкого для здешних мест погожего дня вышел к берегу просторной округлой бухты. Решили отдохнуть здесь, переночевать, осмотреться как следует, тем паче что от берега начиналась будто бы нарочно приготовленная самой природой дорога, вернее — довольно широкая тропа. Проходила она меж усыпанных иглами остролистых кустов и вела далее по лесной прогалине к скалам, затаившимся в плотном синевато-буром тумане.
На берег сошли втроем: Дионисий, Викентий и Савва.
Акинфию же с Аглаей и Мегефием было велено отойти подале от берега и встать на якорь, кой заменял на когге окованный длинными шипами камень на ивовом канате. Ждать было велено не более трех суток. Ежели по истечении данного срока спутники их не вернутся, то следовать к противоположному берегу бухты и уже там ожидать своих товарищей.
Чем выше поднимались по тропе паломники, тем плотнее охватывали ее намертво сцепившиеся ветвями молодые синевато-серебристые ели, опутанные белесыми волокнами высохших лишайников.
— Гляди-кось, отче, — постоянно оглядываясь с тревогою по сторонам, сказал Викентий, — сия зловеща путаница волокон — будто сеть адова на деревьях, как бы нам самим в сети этой не запутаться…
— Бог не без милости, молодец не без счастья, — улыбаясь, произнес Дионисий, — а оно, родимое, покуль нас не оставляло.
— Ну, ежели так… — нехотя согласился Викентий.
Тропа стала еще уже, деревья почти сомкнулись, но вдруг за камнями слева пробились солнечные блики, осветили все кругом искрящимся многоцветьем лучей. Открылась широкая поляна, за ней многоверстная каменистая долина, дальние края которой подпирали основания скал, взметнувшихся к высоким облакам на пронзительно бледном небе.
Но самое удивительное ожидало паломников справа, совсем рядом. Здесь на каменистом пригорке полукругом расположилась группа людей в странных пестрых одеждах. По бокам стояли несколько рослых воинов, вооруженных луками, копьями и широкими большими ножами в деревянных ножнах.
Меховые одеяния, как и высокие меховые же сапоги их, были сшиты из аспидно-черных, поблескивающих инеем шкур неведомых зверей, и лишь на груди виднелись парами пришитые короткие ярко-желтые меховые ленты.
Почти так же была одета и стоявшая в центре полукруга молодая женщина — с той только разницей, что ее одежда светилась полосами многоцветного бисера и, хорошо подогнанная, подчеркивала гибкость и подвижность фигуры.
Дионисий, желая подойти поближе, сделал было несколько шагов, направляясь к этой женщине, но она, предостерегающе вскинув руку, заставила его остановиться.
Далее произошло то, чего Дионисий менее всего ожидал: женщина, откинув широкий капюшон меховой куртки, тряхнула головой, отчего ее волосы цвета меди рассыпались по плечам, и глубоким грудным голосом спросила, подчеркнуто правильно произнося русские слова:
— Ведомо ль тебе, куды ты попал, на чьей земле стоишь, путник?
Дионисий от этих слов, произнесенных столь уверенно и неожиданно, даже попятился чуть, но лицо женщины ни в чем не изменилось, когда она, повторив свой вопрос, добавила:
— Понятно ли реку я?
В эту минуту Дионисий готов был поручиться, что в глазах ее промелькнуло что-то поистине колдовское, и он, мысленно перекрестившись, торопливо сказал:
— Понятно, по-хозяйски речешь пытания свои.
— А я и есть если не хозяйка, то подруга первая ее в местах здешних.
— И как же именем аль прозванием будет хозяйка сия? — уже избавившись от смущения, блюдя вежество, спросил Дионисий.
— Вы, российские люди, называли и называете ее доныне «бабой златой», мы же величаем ее Златой владетельницей всего света, матерью наших и всех других народов мира — Энин Буга.
— И что же, ваши люди только слышали о сей владетельнице или видели ее? — осторожно, сам побаиваясь своего вопроса, спросил Дионисий.
— Покуль, до времен лучших, ее видеть нельзя, отдыхает она здесь неподалеку, в горах Бырранга, вон они, видишь?
Женщина указала на гряду полузасыпанных снегом остробоких скал, вершины которых терялись в низко нависших багрово-синих облаках.
Некоторое время Дионисий пристально разглядывал представшую пред ним картину диких гор, узких ущелий и зияющих провалов меж ними, затем неторопливо, боясь вымолвить не то слово, осведомился:
— Нам како дорога будет? Мы в краях ваших впервой, ничего здесь не порушили, никого не обидели, пропустите нас дале аль как?
Медноволосая женщина, так ее называл теперь про себя Дионисий, подошла к стоявшему ближе всех воину — высокому, сутулому, но все еще могучему старику, что-то проговорила ему, указывая на паломников, но старик даже и не взглянул на них, лишь согласно кивнул головой.
— Это великий шаман Тывгунай, — пояснила медноволосая. — Он готов передать Золотой владетельнице вашу жертву, которую вы обязаны приготовить к утру.
— Жертву? — на этот раз почти растерялся Дионисий. — Каку таку жертву? У нас ни злата, ни серебра, ни узорочья нет! Мы ж паломники, не с богатствами, а со словом Божьим плывем…
— Потому вас и пропускаем, — строго сказала медноволосая, — но жертву все равно надо… Почет Златой владетельнице — первое дело! Иначе в распадке без голов очутитесь. Здесь неподалеку, у жертвенного камня, таких, стрелами побитых, много валяется — помыслите о сем.
«Помыслить», конечно, Дионисию во время этого разговора хотелось о многом — десятки вопросов так и рвались с языка: кто она в действительности, эта медноволосая, так похожая на русскую женщину? Верно ли у нее такая власть в этих местах? Можно ли верить, что путь паломников после принесения жертвы будет безопасным и они смогут продолжать плавание? Ах, как хотелось спросить об этом — не из праздного любопытства, а из-за тревоги об их дальнейшей судьбе, но Дионисия словно что-то удерживало, и он лишь согласно склонил голову.
У пригорка, возле глубокого залива, где стоял когг паломников, в эту ночь долго горел костер. После вечерней молитвы, которой паломники обязательно заканчивали день, вновь все собрались у костра, выжидательно поглядывая на Дионисия, и он, помолчав некоторое время, сказал:
— Ждете, что молвить буду? А тут, по нашему положению, молва одна: думаю пушной откуп учинить, вот содруг наш Акинфий знает, что сие издавна у поморов ведется.
— Верно, отче, верно, знаю! — обрадовался было Акинфий, но тут же разом нахмурился: — Для откупа сего, ох, особа какая, прелестна глазу, шкурка нужна.
— Такова найдется, — коротко сказал Дионисий и тут же спросил, оглядев собеседников: — Односоветно и единомысленно решаем аль как?
— Да так, так! — вступил в разговор Викентий. — А с другой стороны, сумление есть… Слышал я еще в Печерских устьях от бывалых поморов, что те дикарски люди, что вкруг той бабы златой вьются да служат ей, злобой напитаны к пришельцам так, како и в мире не бывало.
— Ты к чему тако молвишь? — спросила помалкивавшая до этого Аглая.
— А к тому, что шкуркой, пусть и прелестной без меры, вряд ли тут откуп сотворишь.
— А вот неправда твоя, Векша, — недовольно перебил его Дионисий. — Здешни люди, самы дикарски, цену пушному довольству ой как знают: бывали таки случаи — единой шкуркой большие дела вершили…
Неожиданно со стороны гор вырвался на просторы бухты холодный, почти морозный ветер. Как хлыстом стеганул по волнам — и они пошли вкруг мелкой россыпью, обдав сидящих у костра паломников ледяными брызгами. Все поежились, но с места никто не встал, ожидая, видно, от Дионисия продолжения разговора, но тот только махнул рукой — идите, мол, и стал неторопливо сгребать угли к середине костра.
Утро было ненастным. Из-за гор, низко прижимаясь к лесистым склонам, наползали сизо-синие дождевые облака, за которыми тянулись полосы тумана. Видно, поэтому и проглядели паломники, как их обступили воины в черных меховых одеждах с ярко-желтыми короткими полосами-лентами на груди.
Как и вчера, возглавлял воинов шаман Тывгунай с двумя помощниками, а рядом стояла медноволосая женщина, так удивившая вчера Дионисия своей русской речью. Только сегодня она была, как и остальные воины, в одеянии из черных шкур, а на груди ее посверкивал выкованный из красновато-желтого металла знак, похожий на летящую стрелу. Да и сама теперь выглядела иначе, чем при первой встрече.
Ее будто обдуло колдовским ветром, когда она, зло прищуриваясь и нервно покусывая губы, подошла совсем близко к паломникам и, глядя прямо в глаза Дионисию, требовательно выкрикнула: «Дай!» — протянув, вернее, почти выбросив руку к его лицу.
Дионисий на это холодно, даже презрительно усмехнулся, достал из небольшого заплечного мешка мягкий сверток, легким движением руки развернул его. Перед глазами стоявших на берегу людей предстало то, что называли чудом югорских земель. Это была шкурка матерого соболя. Сквозь блестящую, местами серебристо-серую ость, приковывая взоры, проглядывал пышный дымчато-бурый подшерсток, будто освещенный изнутри каким-то особым волшебным светом. При каждом движении меха по нему пробегали волны радужно проблескивающих оттенков.
Медноволосая бережно приняла шкурку из рук Дионисия и, держа ее перед собой, возвратилась к шаману. Теперь уж он в сопровождении своих помощников и всех воинов понес ее к капищу золотой бабы, притоптывая, кружась на ходу и выпевая заклинания.
Сколько самых сердечных и горячих похвальных слов, наверное, услышал бы Дионисий от своих друзей и спутников за ум и предусмотрительность, останься они одни у когга после ухода шамана и воинов. Но здесь по-прежнему стояла медноволосая, и по всему было видно, что она не торопится последовать за своими товарищами. Сейчас она выглядела совсем иначе, чем при своем появлении: на редкость усталое, болезненно поблекшее лицо ее наводило на мысль, что она хочет сообщить что-то паломникам, но раздумывает.
— Пусть уйдут твои люди! — наконец проговорила она, обращаясь к Дионисию, и голос ее при этом прозвучал как-то бесцветно и прерывисто. — Пусть уйдут вон за тот камень к вашему костру, а мы поговорим…
Когда спутники Дионисия скрылись из виду, медноволосая подошла еще ближе к монаху и, легко сбросив через голову кухлянку, обнажила грудь, на которой на серебристой цепочке висел оправленный в серебро кипарисовый крест размером с ладонь. Всего мог ожидать Дионисий от этой странной женщины, но то, что затем он услышал от нее, поразило его безмерно. Она опустилась на колени и, протягивая руки к нему, с каким-то невидимым душевным трепетом произнесла:
— Отче, отче, благослови меня, я крещена в веру православну в потаенном таежном скиту. Имя мне дадено при крещении — Митродора. Крестила меня, царствие ей небесное, матушка моя Измарагда, ныне за здравие людей живущих молитвы у престола Господня приносящая.
Показалось Дионисию, что в глазах удивительной женщины появились при этих словах и скорбь, и щедрые слезы, тут же уступившие место еще не видимому, но приближающемуся удивительному жару, готовому испепелить и саму Митродору, и Дионисия, и вообще всех, кто находился сейчас поблизости.
Как бы почувствовав это, Дионисий произнес взволнованно:
— Благословение в вере православной есть не только посох и опора душевная всем, кто взял на себя смелость идти сквозь преграды и терния велики, но и поддержка постоянна в делах молитвенных и иных, что добром основаны и закреплены были.
— Так оно, так, отче!.. — все еще стоя на коленях, повторила Митродора. — Именно такого благословения душа и вся суть моя жаждет, ибо чую, что пришел мой срок, время пришло волю матушки моей, царствие ей небесное, исполнить.
— Подвиг малый единый за веру нашу православну свершишь, тогда и жизнь будет тебе в жизнь, и в глаза людям добрым сможешь глядеть смело. Поразила ты меня в само сердце, дочерь, и словом, и делом твоим. Да благословит тебя Бог на деяния, ведущие к прославлению веры нашей православной, отныне и вовеки!
Всего на несколько секунд застыла, будто и не дыша вовсе, Митродора, припав к руке Дионисия. И уже иной, как бы окропленная живой водою, вскочила на ноги, вся — порыв, движение, горячо заговорила:
— Отче, земной поклон тебе, что словеса мои принял. Ноне в вечер празднество жертвоприношения будут творить злодельцы здешни — и, считай, им не до тебя. А ты и содруги твои лишь на утро в жертву бабе златой назначены.
От вести такой Дионисий отступил было назад, перекрестился быстро, но тут же, упрямо наклонив голову, вернулся на прежнее место.
— Ну, добра душа, а какой нам твой совет будет? — спросил он у Митродоры, пристально глядя на нее.
— Подошла мне пора уже быть в стойбище. Тывгунай камлания шамански свои готовит, и мне надобно будет рядом стоять. Последний клин в доске жертвенной забивать мне.
— А нам как же? — настаивал Дионисий.
— Уходите немедля! — совсем непохожим, напряженным донельзя голосом вымолвила Митродора. — Ветер, слава богу, попутный, так вот вдоль бережка и держитесь до пестрого мыса, он там один, не пройдете мимо. За ним бухта и каменные груды вокруг, станете там. Ночью я подойду, и тогда наладим беседушку многосоветну, ну а ежели случится незадача какая и не выйдет мне вас повидать, заместо меня явится едина моя наивернейшая подруга и сестра названая, котору тож матерь моя крестила. Видом, статью своей ладна да пригожа, волос длинен и бел, как снежница весенняя в горах, назовется именем своим, так вот и повторит, мол, Суровея я, Суровея — ей верьте во всем. Ни сама ни в чем не оступится, ни вам, ежели придется, оступиться не даст…
— Значит, в путь? — почему-то тяжко вздохнув, произнес Дионисий, когда паломники, уже спустив когг на воду, стояли рядом, придерживая его за борта.
— А все-таки, отче, ты не совсем поморской человек, — думая, видимо, о чем-то своем, неожиданно быстро произнесла Митродора.
— С чего ты взяла? — удивился Дионисий.
— Ты ж впервой в местах здешних и даже не спросил, што сие за место, како именем оно?
— Права ты, настоящий корабельщик спросил бы в перву голову. Так што сие за место?
— Место знаменито уже три сотни лет, а может, и боле, зовется Берегом ветров забытых, а подпирают берег сей колдовски горы Бырранга, где могила тайная бабы златой.
— Вот оно где, гнездовье Велиала, — быстро перекрестившись, сказал Дионисий, — истинно, место подходяще деяниям своим дьявольским выбрал.
— Однако на этом молва наша покончена. С богом, люди добры! — Митродора низко поклонилась паломникам и, чтобы те не увидели слез на ее щеках, быстро повернулась и зашагала к кустарникам, где ее уже ожидали две женщины-туземки в черных одеждах.
Казалось бы, всего насмотрелся Дионисий за свою жизнь, давно отучился обижаться и удивляться. А этой ночью наслушался такого, что, казалось, всю душу ему перевернуло и во многом заставило смотреть на мир иными глазами.
Началось все с прибытия Митродоры, когда в стремительно скользящем охотничьем челноке она вырвалась из хаоса пестрых прибрежных глыб и, судорожно глотая поданную ей Дионисием воду, попыталась что-то сказать, размахивая руками, а в глазах ее, будто далекое зарево, металась ненависть и страх.
— Я опередила, опередила их! — кое-как справившись с охватившим ее волнением, гордо воскликнула Митродора. — Опередила лучших воинов шамана Тывгуная, которые по его приказу попытались схватить меня! Скоро они, покрытые позором, — как же, женщина их опередила! — будут здесь. Не прими в поношение, отче, послушай доброго совета. Эти высшие слуги Тывгуная — его помощники и рабы Золотой владетельницы страшны только на земле, на берегу. Моря они боятся, здесь они никто — хуже детей малых. Самая малая волна для них — начало большого страха.
— Поклон тебе за слова разумные, — поклонился Дионисий Митродоре. — Ты как в деле сем? — тут же спросил он Акинфия.
— Чую в Митродоре моряцкого склада человека, рассудила как надобно, — согласно склонил голову Акинфий и, подумав, добавил: — Носовую щеглу ставить побыстрей надобно. Ветер куда как подручный, попутный. Когг наш заметно ходу прибавит!
— Тогда в путь, с богом! — совсем по-молодецки воскликнул Дионисий и, повернувшись лицом к морю, торжественно и широко осенил его крестным знаменьем.
Привычные к морскому делу паломники с установкой второй щеглы управились быстро. Прибрежный ветер, словно заблудившись, пометался, щедро осыпал когг тугой россыпью брызг, наполнил, выгнул паруса и, подхватив суденышко, понес его, все убыстряя ход, в открытое море.
И надо же было случиться такому, что именно в эти минуты дрогнула, стала расползаться угольная гряда облаков у горизонта, а на северной стороне неба затеплился бледно-призрачный белый свет, именуемый поморами отбелью. Затем появились россыпи лучистых розовых оттенков, называемые зорниками; багровея на ходу, вслед кинулись, задышали, отталкивая друг друга, млечные полосы — столбы, как бы стараясь выказать неземную силу необозримого небесного многоцветья…
Молчавшая все это время Аглая неожиданно восторженно воскликнула, не отводя глаз от неба:
— Господи, каки пазори чудны, к добру это нам, братья, к добру!..
— Дай бог, — сдержанно поддержал ее Акинфий и, обратившись с доброй улыбкой теперь уже к Митродоре, спросил: — Ну, отчаянна душа, доводилось тебе бывать в сих водах ранее?
— Да на три-четыре поприща вперед бывало, а далее не случалось. Места здесь что на море, что на берегу чужие, колдовские. Слышала стороной, что людишек — и православных, и дикарских — полегло здесь немало, а отчего сие, почему — одному богу известно, берег-то здешний и ветра его недаром забытыми зовутся. Забыли их, значится, на свете Божьем, вот тут и творится разное…
Исподволь, вначале даже запинаясь и не сразу находя нужные слова, начала Митродора свою речь и вдруг через время малое, полуоткинувшись на борт когга, вполголоса запела, смотря отрешенно вдаль и будто забыв обо всем на свете.
Это была старинная поморская песня, издавна нареченная «отвальной», и паломники, вслушиваясь в слова ее, вспоминали самое-самое заветное, что было в их поморской походной жизни.
Митродоре пришло на ум, как она в первый раз ступила на Берег забытых ветров. Тогда коч их волна выбросила далеко на каменистую россыпь. Добро, была бы это у них одна незадача, а тут вслед волны выбросили еще две большие эвенские ладьи, из которых как горох посыпались воины в черных меховых одеждах.
Паломники на кочах, хотя и были в монашеских одеяниях, с ловкостью, свойственной бывалым воинам, размахивая короткими мечами, ринулись навстречу преследователям. Сшиблись, закружились, то наступая, то отступая по отмели. Полетели стрелы, ожесточенные выкрики слились в пронзительный, разрывающий душу вой…
Мать, схватив Митродору на руки, пригибаясь, бросилась к кустам. Отец (а видела его тогда Митродора последний раз в жизни), разгоряченный боем, с двумя короткими мечами в руках, только и успел крикнуть жене: «Девку уноси!» — как на него набросились сразу трое воинов, и все они закружились в ожесточенной схватке, будто подхваченные внезапно налетевшим вихрем.
Далее как ни называй жизнь — хорошей аль плохой, а все она выходила у Митродоры невместной: детство и юность в потаенном скиту, гибель матери при переправе через таежную реку и, наконец, чужой, будто из забытой сказки, мир. Чужие, дикие люди, которые теперь почему-то постоянно окружали ее, их непонятный говор, а когда она наконец научилась его понимать — удивление, испуг, а временами и ужас, от которого по ночам боишься лишний раз открыть глаза, а то и готова насмелиться головой в таежный омут…
Поначалу не понимала, дивилась Митродора: чего это дикарские люди здешние так возятся с ней? И в чуме из белоснежных оленьих шкур ее держат, и носит она одежды из редких по красоте собольих и горностаевых спинок, расшитых россыпями невиданного радужного бисера, и каждое обращение к ней — с поклоном низким и с подарками…
И вот пришел день, когда к Митродоре явился сам Тывгунай с тремя младшими шаманами и они устроили поклонение Энин Буга — матери тысячи народов.
Больше двух десятков лет прошло с той поры, а Митродора видит, помнит все до малой малости. Чудеса, наваждение дьявольское, прости господи, творилось тогда в чуме ее. По слову, повинуясь каждому жесту руки Тывгуная, возникали перед ней в чуме и медленно плыли по воздуху диковинные продолговатые огоньки, сплетавшиеся в длинные многоцветные ленты и исчезавшие в колеблющихся облачках тумана, чтобы тут же уступить место картинам вздыбленного штормом моря, по пенным верхушкам волн которого скользили призрачные женские лица со злобно-насмешливыми глазами…
В многоцветье этих появляющихся и тут же исчезающих образов, линий, радужных всполохов наконец возникло и утвердилось редкой красоты женское лицо с бронзовым отливом щек, с вознесенными в капризном изгибе бровями, чуть подергивавшимися от мерцания странного пугающего взгляда.
— Вот, вот она! — что было силы выкрикнул Тывгунай, указывая на лицо этой женщины, и тут же, словно подброшенный скрытой в нем тайной силой, неожиданно высоко прыгнул вверх, успев при этом перевернуться через голову, и, упав на колени перед Митродорой, схватил ее за руку, забормотал что-то судорожно, будто вымаливая прощение за неведомые ей грехи.
— Што ты сказать хочешь, не пойму! — выкрикнула Митродора, словно тоже напитавшись без меры волнением Тывгуная.
— Отныне ты и вся твоя жизнь принадлежат ей! — взвыл Тывгунай, указывая в сторону все еще колеблющегося перед ними женского лица. — Ей, Золотой владетельнице… Великое камлание показало: ты ее сестра! Мы долго ждали, искали тебя, и недаром великий певун Чекулдай пел про сегодняшний день: «Она найдется — выйдет из морской пены и льда, будет властвовать бок о бок с Золотой владетельницей — переймет ее силу и власть. Ай славные дни, ай великие дни придут в Дулин Бугу, в среднюю землю, в лучшую землю мира».
Когда позже все это она рассказывала Дионисию, он, всегда предельно сдержанный, удивленно покачивал головой:
— Да, светла душа, в испыту велику судьбинушка тебя бросала тако, што иной добрый молодец и то напрочь согнулся б от сего, а ты, девица красна, сие перешагнула — слава тебе за то!
— В батюшку я свово! — гордо вскинула голову Митродора, и густые локоны медно-золотистых волос осыпали ее плечи. — Мы из рода куды как древнего — дворян новгородских Пивашиных. А батюшка мой, Аникей Нилыч Пивашин, и на берегу, и в морях хладных всегда первым воином был, и знали его люди как воеводу и приискателя землиц неведомых далеко за путями-дорогами новгородскими.
— Тогда и дивиться нечего, — подтвердил Дионисий, — што они столь привержены тебе: для идольского действа люди чуда златого достойну свиту подбирают. Стало известно мне, еще в Мангазее довели-растолковали, што в приближенных бабы златой есть персоны вовсе не дикарской стати и, хоть тоже в шкурах ходят, по сути они иноземцы — выглядчики, послухи ганзейски. Видать, добро пригляделись к тебе, Митродорушка, и, конечно, знают, што ты истинно дочь самого Аникея Пивашина, и планы на тебя дальнейши у них есть…
— Эта мысль мне тоже не раз в голову приходила, — заявила Митродора.
— Што о мыслях разных толковать, — задумчиво проговорил Дионисий. — Мы здесь, видно, в крепко сделанный капкан попали. Мне еще в Печерских устьях говорили, што в горах здешних, где могила бабы златой, охранное племя самоедов черных стоит, а главенствуют над ними люди дики здешни, зовомые эвенки — потомки древних жителей Югры.
Дионисий вздохнул тяжело, повернулся к Митродоре и, благословив ее, стал рассказывать о том, как погиб ее отец. Митродора на какое-то время будто окаменела, потом бросилась к Дионисию и, прижавшись к его груди, зашлась в рыданиях.
Старец, видя, что плач Митродоры привлек внимание других паломников, сделал всем знак не подходить и, помолчав, думая о своем, тихо, но твердо сказал:
— Ты, Митродорушка, о происхождении своем, о предках помолчи пока. Скоро поймешь почему.
Меж тем день и вовсе распогодился.
Голубизна и без того высокого неба засеребрилась на глазах, поднимаясь еще выше, пока у горизонта не обозначилась вереница облаков и солнечных долин над возникшей из моря цепью крутых скал.
Здесь уже начиналось призрачное царство заснеженных гор, опускающихся к воде широкими террасами. Постепенно понижаясь, они расходились у взбитых пеной приплесков каменистыми отмелями и заливами, а напротив, в глубине этого горного узорочья, уже надвигались круто выгнутые бока матерых многовековых льдин, чем-то похожих на звенья гигантского браслета, разорванного и брошенного здесь на века под беснованиями волн и ветра.
Акинфий, который не отходил ни на минуту от рулевого весла, вдруг тревожно вскрикнул:
— Зрите-ко со стороны левой!
Когг, обогнув невысокий мысок, входил сейчас в широкую протоку, и то, что увидели здесь паломники, заставило их тут же броситься к веслам…
Левый берег протоки был густо уставлен упряжками рослых беговых оленей с небольшими, особой крепости нартами, на которых прочно устроились хорошо вооруженные воины в черных меховых одеяниях с желтыми лоскутами на кухлянках.
— Ух ты! Сколь недобрых воителей нам судьбинушка посылает! — окинув внимательным взглядом охотников, громко проговорил Викентий. — Это ж служители-охранители логова бабы златой! Само зловредно племя в тундровых да таежных местах. Приглядитесь-ка к упряжкам с толком — олешки добры, но путь сюды отмерили немалый из мест, полагаю, наших, мангазейских…
— Ну уж, Векша, друг, — возразил было Дионисий, — с чего бы это мангазейски упряжки сюды гнать, своих, што ль, мало?
— Мало не мало, за нами вслед, в догляд шли они по берегам от мыса Дровяного — не иначе. Да и сами упряжки на наш обской манер устроены: три оленя рядом, четвертый отдельно слева, и вожжа, по-самоедски — нгава иня, прикреплена к его уздечке слева, тако только на Оби да за Обью запрягают.
Берега протоки, по которой шел сейчас когг, заметно сужались, и уже явственно раскатывались над водой насмешливые, а больше озлобленные выкрики воинов и охотников, встречающих когг руганью, а то и стрелами, все чаще пролетавшими над палубой судна.
Видя, что лицо Дионисия становится все более озабоченным, Митродора, намереваясь ободрить его, сказала:
— Здесь впереди через два-три поприща выход из протоки — бывала тут, знаю, — однако вряд ли выпустят нас добром, бой будет…
Подошедшая к ним Аглая, услышав эти слова, горестно воскликнула:
— Аль согрешили мы, аль еще неладно што, но только не идет чинно да благостно паломничество наше. Нам бы молитвы творить в местах нехоженых да часовни ставить, како отче владыко Киприан да мать игуменья Марфа наказывали нам, а мы вместо того все в воинских делах да шумствах пребываем, благости истинной преграду чиним…
— Светла ты разумом, Аглаюшка, а ноне речешь не то. Грехам любым места нет в душе православной, но и такое самое малое деяние веры — и то зачтется тебе добром и укрепишься ты терпением долгим!
Уже виделся выход из протоки, уже заметно посветлели лица паломников, когда судьба преподнесла им еще одно горькое испытание. На удивительно ровной косе, где крупнозернистый песок слепил глаза сказочным разноцветьем, было вкопано гладко оструганное бревно. К бревну была накрепко привязана молодая женщина с заломленными назад руками, а ее удивительно длинные белые косы кольцами захлестывали шею и заметно окровавленную голову.
Дионисий едва успел перехватить Митродору, когда та с криком: «Суровеюшка!» — готова была прыгнуть за борт на выручку белокосой пленнице.
— Пусти, ох пусти, отче, — билась Митродора в руках Дионисия, — то перва моя душа-выручайница, подруга сердечна, сестрица Сурове- юшка!
Охотники на оленьих упряжках и пешие воины на обоих берегах протоки медленно двинулись к воде, озлобленно выкрикивая угрозы и выпевая племенные призывы к скорому бою.
В эти минуты раздался хлесткий, как удар бича, выкрик Викентия:
— Отче, видно, пришло время все ж огни заморски в дело пускать: так запросто нам от сего многолюдья вражьего не отбиться. Благослови, отче! — И, видя, что Дионисий колеблется, добавил: — Грех велик, знаю, но ведь не от молодечества пустого аль похвальбы пустяшной сотворим тако…
Дионисий в явной растерянности, что с ним бывало редко, шагнул к борту, споткнулся даже и, видимо, согласившись уже в душе с Викентием, все же спросил:
— Иного ничего так и не измыслил?
— Нет, отче, время теряем зазря, — уже совсем тревожно ответил Викентий, — решайся, решайся, отче.
У Дионисия, видно, уже не осталось сил произнести нужное слово — он, тяжко вздохнув, молча благословил Викентия заметно подрагивающей рукой.
Через минуту Аглая, Викентий и Савва суетились уже на носовой площадке судна, укрепляя в зажимах медные пушчонки, аккуратно закатывая в их дула заряды, а за ними еще бережнее опуская туда странные трубки из листовой меди, на которых виднелась красноватая вязь цифр.
Трубки эти гилевщики нашли в тот день, когда прибыли на угнанном от мангазейских причалов когге в островную обитель игуменьи Марфы. Когда принялись тщательно осматривать и выстукивать его наружную и внутреннюю обшивку в поисках секретов и мест потаенных, которые, как утверждал Викентий, обязательно бывают на таких судах, то им вскоре повезло и они вытащили на свет божий обшитые промасленной холстиной небольшие деревянные ящики с медными трубками.
Издавна бытовало на Руси присловье о том, что воинское дело уж никак не для сословья бабского, а вот у паломников Дионисия как раз наоборот получалось. Перво слово тут всегда за Аглаей было. Ах, дядюшка родимый, царствие небесное душеньке твоей!.. Когда-то и плакала Аглая от него немало, и обид пересчитать не могла, а в жизни мудро слово да уменье воинско его ох как пригодилось!
В тот раз, когда в ящике потаенном медные трубки нашли и принялись судачить, что сие да к чему, Аглая, победно глянув на спорящих паломников, сказала:
— Все речение ваше здесь, добры молодцы, пустословье одно, и к делу его никак не приставишь.
— Ух ты! — насмешливо воскликнул Викентий. — Воительница наша, Аглая-свет, а ты свое к делу речение здесь яви — поучи нас, неразумных…
— И поучу! — нахмурилась Аглая. — Трубки, сим подобные, я не раз видела, будучи в учении у Федора Евсеича, дядюшки свово, и не только видела, а и знаю, как их в деле воинском применить.
— Аглаюшка, чем более знаю тебя, тем боле в удивление вхожу. И како же именуется диво воинско сие?
— Именуется оно греческий огонь, или дыханье ада, о деле этом у дядюшки мово были и книги две: одна знаменитого ружейного мастера испанца Диего Уффано «Трактат об артиллерии», а другая книга русская — «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки».
Видя, что Аглая понимает суть дела, и явно задетый этим, Викентий, уже более внимательно оглядев трубки, задержал взгляд на выписанных столь искусно столбиках цифр и вдруг, как бы найдя для себя спасительную мысль, хитровато прищурившись, спросил Аглаю:
— Ну а эта цифирь здесь к чему, како ей место есть?
— Да господи боже мой! — почти рассердилась Аглая. — Еще в расспросы пущается! Эта цифирь толкует о том, к чему кака трубка предназначена и на каку дальность бить ею можно!
Не к месту тогда было, рассердись он аль в споры пустись с Аглаей. Он рассмеялся, вроде бы превращая весь разговор в шутку, и церемонно поклонился ей.
— То-то! — тоже улыбаясь, протянула Аглая. — За мной, значит, будете числить огневое умельство?
— А то! — воскликнул Викентий. — Да на всех побережьях морских такого мастера, как ты, Аглаюшка, не сыскать!
Аглая вместо ответа вроде бы легко толкнула в грудь Викентия, но не схватись он тогда за борт — купаться бы ему в воде…
Помнил Викентий и то, как замахал руками Дионисий, когда ему рассказали о находке таинственных трубок и возможности применить их в случае крайности какой.
— Нет, нет и нет! — взволнованно восклицал Дионисий. — Те трубки с огнем наверняка дьяволовы придумки, ухищрения адовы. Воину русскому, каков бы он ни был, тако оружество не к лицу!
В который раз вновь подивился Викентий выдержке и умному спокойствию Аглаи. К этому времени воины на берегах взялись за паломников, что называется, основательно. Если бы не откидные щиты на носовой площадке, Аглаю и ее товарищей давно бы поразили стрелами густо наседающие охранители золотой бабы. Аглая, будто совсем не замечая этого, еще раз проверила и подкрутила железные кольца на медных трубках и аккуратно закатила два заряда в правую и левую пушчонки.
— А ну! — протянула Аглая руку к Викентию, и он подал ей, выхватив из походного тигля, заранее раскаленный железный прут.
Она поднесла его к затравочному отверстию пушчонки, та ударила искрами, дымом, и два оранжево-огненных шара понеслись к берегу. Пронзительный свист огласил окрестности. Тут же, пересиливая его, громом раскатились два взрыва, и неподалеку от столба с привязанной к нему пленницей один за другим взметнулись к небу два песчаных веерообразных облака.
Минуты не прошло, как вновь прогремели орудия Аглаи, и, когда улеглась немного песчаная буря, взметенная взрывами, стало видно, что охотники, побросав луки, стрелы и копья, уже далеко убежали от места взрывов. Этим не преминул воспользоваться Акинфий: направив когг к берегу, он бросился не раздумывая к столбу с пленницей, срезал петли аркана, распутал косы, накрученные на ее горле, и, взвалив на плечо бесчувственную, еле дышавшую Суровею, в считаные минуты донес ее до судна и бережно опустил на палубу.
Паломники, не ожидая команды, бросились к веслам. Судно развернулось, взяло ход, и вскоре и протока, и высокий песчаный берег, где паломникам довелось столько пережить за это короткое время, стали медленно терять очертания, тая в синеватой дымке, уже по-настоящему распахнувшей величественную даль моря.
Глава 16
Редкая для столь поздней осенней поры погода на этот раз благоприятствовала плаванию паломников. Море, казалось, напрочь забыло о многодневных, редкой силы и настырности ветрах, подолгу свирепствующих в этих местах, и щедро излучало сейчас покой и тепло, лениво перекатывая плоские, едва заметные волны. Видимость была отличной, в какую сторону ни посмотри, поэтому горизонт распахнул, не скупясь, изумрудно-серебристые дали, тщательно скрываемые до этого в туманных кладовых.
Паломники уже начали привыкать к однообразию морских пейзажей, поэтому никто, кроме любопытствующего Акинфия, не обратил поначалу внимания на коричнево-серебристую точку, поблескивающую средь волн.
— Чего это там глаз слепит? — проворчал Акинфий, но уже через десяток-другой минут уверенно проговорил: — Ей-богу, лодка там аль стружок малый… И как это на щепке такой в морску даль забрались?
Слова Акинфия вскоре подтвердились. К борту судна паломников ходко подошел до смешного маленький стружок. Сидящие в нем два молодых паренька, видом русские, в добротно выделанной и сшитой одежде из меховых шкур, ловко сбросили паруса и, приняв причальную вервь от паломников, неторопливо повели соответствующий месту разговор.
— Добрым людям — путь добрый, — медленно выговаривая слова, произнес один из парней, чернявый, быстроглазый, старающийся держать себя посерьезней. — Я зовусь Корнилий, сотоварищ мой вот этот — Фома. Мы из поселка, што неподалеку отсель. Так вот, старики наши с поклоном и просьбицей малой к вам обращаются — пожаловать к нам просят…
— Пожаловать… — протянул Дионисий, испытующе глядя на парня, и, помедлив какое-то время, спросил: — А откель вам известно, што мы за народ такой? Ноне часто случается, што под обличьем людей добрых, хоть бы и паломников, немало злоискателей разных бродит…
Хотя черноглазый парень и смотрел на Дионисия с большим уважением, сразу признав его старшинство на судне, он при этих словах хитровато, совсем по-мальчишески ухмыльнулся:
— Так вы ж, добры люди, у нас на строгом пригляде были почитай от самого Дровяного мыса, и за то на нас в обиде не будьте. В нашем нонешнем житии пригляд зоркой да береженье ежечасно вот как нужно!
— Вот те на! — удивился Дионисий. — А от кого ж вы бережетесь столь? Аль у вас в бытии и сторожи доброй нет?
— Тут в ином дело видится, — уже строго поджимая губы, ответил черноглазый парень. — Пустынны море здешнее и земли ближни и дальни, а страх да невзгоды чуть ли не за каждым кустом таятся. Кто тут только воровским обычаем не был, шарил загребущими руками, богатства больши да малы выискивая, — и народишко разноплеменный, совсем дикой, и разбойнички — гулеваны вольные, российские и иноземные, и бродяги разны страхолюдны — таки, што неведомо, как и сказать и подумать о них. Но сама наиглавнейша беда земель здешних, зло и страх несусветный — это племя ызык, охранители царства бабы златой, што в горах тутошних то ли схоронена, то ли живой еще прячется до времени.
— Да ведомо нам про бабу ту, разговоров здесь да придумок пустопорожних девать некуды — по всем берегам да пределам морским годами, видно, судачат, зря языки чешут, пустобрехи!
— Ой, не скажи, отче, — сразу как-то насупился, отвечая Дионисию, парень. — Земли тут по бумагам царским — русские, а на самом деле хозяйка здесь над всем баба злата и в перву руку воинство ее проклятое — ызык. Вот побываете у нас, вам старики здешни о делах тутошних поведают — так вы в удивление придете, не иначе…
— Так пошто ж вы поселились тута? Аль иных просторов вокруг вам мало?
— А вот о сем тоже не доверено мне толковать с вами — ждут, говорю, вас шибко на берегу старики, вот с ними толкование главно и учините.
Чтобы уяснить, что это было за толкование и к чему оно привело, надобно прежде всего продолжить рассказ о Мегефии.
Все началось с испыты, назначенной ему в свое время отцом Дионисием. Еще в островной обители игуменьи Марфы Елизарий сделал Мегефию неожиданный подарок.
— Вот што, отроче, — начал однажды неторопливый разговор Елизарий. — Мне, выходит, во граде Мангазейском оставаться, тебе в морски дороги пущаться. Назначенную тебе отцом Дионисием испыту молчания каждодневного нести будешь до тех пор, покуль он не снимет ее. Ему верь, как и мне, каждо слово его — закон святой для тебя, не мене того! Я же к испыте твоей подспорье должное приготовил…
Говоря это, Елизарий достал из кармана узенький, невзрачный видом футляр палисандрового дерева, открыл его — и вдруг по стенам и потолку прируба, вспыхнув, разбежались солнечные блики-лучики, хотя солнце еще и не заглядывало сюда.
— В сих четках работы мастеров афинских красных и синих зерен поровну. Тебе, испыту твою исполняя, зерна четок вот каким манером раскладывать надобно: добры дела творишь — откладывай красны зерна, греховны дела синими зернами отмечай. В конце дня каждого считай, каку пользу ты сотворил и сколь ее, с тем и живи отныне.
На когге Мегефий жил обособленно, испыту держал крепко: не подходил ни к кому, бесед ни с кем не вел, да и остальные спутники сторонились его.
Когда когг подошел к причалу поселка, паломники, спускавшиеся с палубы, вызвали всеобщий интерес на берегу, где толпились, переговаривались, переходили с места на место русичи-охотники, вызванные и собранные здесь, как впоследствии выяснилось, с дальних и ближних промысловых угодий.
Борт когга был совсем близко от причала, когда к Митродоре подошел Дионисий.
— Вот што, Митродорушка, красна девица, — почему-то особенно душевно и ласково проговорил он, — весть хочу подать тебе — то ли радостну, то ли печальну, уж не знаю, как и сказать.
Услышав слова Дионисия, Митродора насторожилась, ответила приглушенно:
— Слушаю, отче…
— Сейчас тут встречать начнут гостенечка нашего, Мегефия, слова будут говорить разны, куды как удивительны для тебя. Ты все сие бестрепетно принимай, а не поймешь чего, потом я тебе растолкую. Главно восприми, што Мегефий — родной племянник твой, сын брата твово Дмитрия убиенного…
— Как это племянник, как это так? — едва не заикаясь и побледнев, вскрикнула Митродора.
— Да вот уж так, — ответил ей Дионисий и, полуобняв на миг за плечи, пошел на другой конец палубы, где из кормовой пристройки когга уже появился Мегефий.
Митродора тут же было бросилась к нему, глядя почти безумными в эту минуту глазами на племянника, но споткнулась и, схватившись за сердце, остановилась у борта.
Рослый для своих лет, в кафтане и сапожках из серебристой парчи и в шапке из редкого густо-коричневого соболя, Мегефий был похож на щедро разукрашенную ожившую игрушку.
Полупоселок-полукрепость вольных российских людей стояла здесь более века, неподвластная ни царю, ни воеводам, но свято чтившая каноны православной веры и имевшая прочные связи с Соловецкой обителью. Это оттуда пришло и укрепилось здесь то ли поверье, то ли легенда, а то ли и правдивый слух, что рано или поздно вернется сюда ранешняя жизнь, тепло прошлых лет, достаток и удача в охоте и иных делах. И все это благодаря сказочному мальчику-королю с именем чудным — Мегефий, который придет из далеких западных краев.
И вот это произошло, произошло! — верили и не верили глазам своим люди поселка, до которых дошел слух о том, с Берега забытых ветров наконец приплыл мальчик-король. Вот и суди после этого, где правда есть, а где ложь. А король-то — вот он, шествует вдоль бережка, шагает неторопливо, но уверенно под удивленные, а то и восторженные выкрики толпы рыбаков, охотников, таежных бродяг, монахов и поселковых женщин, пытающихся прорваться к нему, приложиться к королевской руке.
Хорошо, что дорогу ему прокладывали паломники с когга, а то бы Мегефий до вечера не добрался до поселковой церкви, где окрестные старшины во главе с Дионисием порешили отслужить праздничный благодарственный молебен в честь прибытия столь важной особы.
А народ в поселке все прибывал и прибывал, и к вечеру вдоль прибрежной линии пылал уже не десяток, а добрая сотня костров, вокруг которых шумели, разглагольствовали и русские, и разные иноплеменные люди, поднятые с насиженных привычных мест вестью о молодом короле.
Вечером, неодобрительно глядя на это многолюдье, Дионисий говорил паломникам:
— Ох, не по душе мне это, ну не по душе! За сим шумом и не поймешь толком, што вокруг творится. Каки-то людишки посторонние к нам и делам здешним приглядываются, вокруг снуют. Двух я выглядел, знаю точно — соловецки мнихи они, и с печерских устьев народишко — слуги-выглядчики воеводски есть. Беспокойство велико у меня и за эвенских людей здешних, и особливо за ызык — проклятое племя хранителей бабы златой. Ранее, бывало, они первыми здесь были, а счас они где? Выжидают чего-то, таятся, ведь с уверенностью полной можно сказать, што по добру они нас не выпустят: и Митродора им наша нужна, и Мегефий — того более…
— Измыслить тут што-то надобно, — предложил Акинфий, — штоб по-настоящему пугнуть свору сию ызыческу. Отсюда, у Еловой гряды, берег круто уходит вправо, а нам путь един — в открыто море, от берега подале. Ну, потреплет нас, побьет малость на волне разгульной — ничего! Мы ведь морскому делу да волнишке морской теперь привычны есть.
— Ызык, конечно, вдогонку не пойдут, но людишек, которы душой послабже да потрусливей, приспособить сюды могут, — заявил Савва.
Почти всю ночь прогомонивший народ не успокоился и к утру. Когда не больно-то холодный, но резкий ветер разогнал густую пелену тумана, открылась пугающая взор картина. Большая поляна у мостков, где все еще табунился вчерашний народ, была окружена стоящими почти плечо в плечо молодыми рослыми охотниками племени ызык в черных меховых одеждах с желтыми поясами на груди.
Чуть подале, на пригорке, также в окружении охранителей золотой бабы, сидел на камне великий шаман тогдашних эвенков и не менее великий воин могучий старик Тывгунай. Его продолговатое лицо казалось застывшим, а глаза не мигая смотрели на море, где уже начинали раскатываться в пенных охвостьях узкие злые волны, предвестники надвигающегося шторма.
Только когда умолкли последние из суетившихся, все еще что-то выкрикивающих людей и установилась тишина, Тывгунай встал, разогнулся и, ударив в бубен, начал петь. В песне своей он обвинял местных жителей — потомков эвенкуров — в том, что они забыли о законах тундры и леса и пропустили к Берегу забытых ветров большую ладью русских, плюющихся огнем. Мало того, на этой же ладье русские привезли сюда потомка древних королей — Мегефия, который не явился на поклон к могиле Золотой владетельницы. Теперь духи ее требуют, чтобы ладья русских была вытащена на берег и сожжена, а сами русские во главе с маленьким королем Мегефием явились сегодня ночью к ее жертвеннику и каялись и умоляли ее простить их за поношение. И если это не будет сотворено, то утром предстоящего дня их души отлетят в черное капище грозного бога эвенков и самоедов — Илибэм Берти.
Тывгунай медленно, как бы стараясь запомнить лица стоявших людей, оглядел толпу и вдруг, наполняясь злобой, закричал, затрясся в припадке, как он проделывал это всегда, заканчивая свои заклинания.
— Вы глупы, как выползающие на ломкий острый лед тюлени. Вы тупы, как осыпающиеся от ржавчины острия охотничьих ножей. Вам ли устоять против грозных воителей, стерегущих покой золотой владетельницы? Знаете, как решили они наказать вас, если вы откажетесь выполнить их волю? Все женщины вашего селения от мала до велика будут тут же сожжены, и это будет большая жертва Золотой владетельнице. Идите и собирайте совет стариков, решайте, жить или умереть сегодня ночью вашим женщинам. Всем, вы слышите, всем!
Грозно сведя брови, выкрикнул это Тывгунай и, опираясь на плечи тут же подхвативших его охотников, стал спускаться с пригорка.
Казалось бы, паломники немедленно должны были бы что-то предпринять, по крайней мере начать переговоры с Тывгунаем, но палуба когга оставалась безлюдной. Усиливающийся ветер, вздымая толчею волн у берега, все отчаяннее высвистывал свои разбойничьи мотивы.
Так продолжалось недолго: двери, ведущие в кормовую надстройку когга, вдруг распахнулись, и на пороге появился Мегефий, который затем в сопровождении Митродоры и Аглаи сошел на берег и направился к каменной гряде, где, ожидая дальнейшего развития событий, расположился Тывгунай.
Надобно сказать, что в свое время Тывгунай был широко известен в югорской стороне: вначале он прославился как на редкость удачливый и смелый охотник, умнейший вождь и создатель непобедимого воинства эвенков, на многие годы утвердивших свою власть на большой территории нынешнего Таймыра. Затем он стал главным шаманом почти всего Севера, недаром о подвигах его поют и рассказывают до сих пор в легендах не только старики, но и многие молодые охотники в Эвенкии, несказанно завидуя такой громкой долголетней славе.
И вот получилось так, что этот выдающийся по-своему человек оказался перед лицом совсем юного мальчишки, с которым ему предстоял, видимо, далеко не легкий разговор. Конечно, Тывгунай не верил во все эти россказни о Мегефии, о его королевском происхождении, о том, что он способен творить чудеса, но в то же время он сразу почувствовал, что перед ним не совсем обычный отрок. Чужие, словно по ошибке данные природой мальчику, редкой пронзительности глаза Мегефия против воли заставили Тывгуная в самом начале разговора зябко повести плечами.
«Совсем как Нглика, ну прямо Нглика мальчишка этот! — встревоженно подумал Тывгунай. — Да и вид у него и у баб этих, что с ним, тоже как наваждение Нглики!» Подумав так об одежде Мегефия и его спутниц, Тывгунай был прав: парчовый кафтан с серебристо-лиловым отсветом, обшитый по вороту и обшлагам жемчугом, такие же сапожки и шапка и бархатные, с меховыми шлейфами, платья женщин так и били в глаза невиданными здесь пестротой и богатством.
Но более всего Тывгуная поразил тон и задиристая наглость Мегефия, когда тот, подперев левой рукой бок и отставив ногу, проговорил, презрительно оттопыривая губы:
— Плохо встречаешь нас, воин Тывгунай, а я тебе привез большое слово старшины тайного совета схимников Соловецкой обители отца Симеона.
Эти слова не только озадачили, но и испугали Тывгуная. Никто на побережье не знал и не должен был знать о его отношениях с главой соловецких монахов. Дошло бы это до местных людей — все от мала до велика, в лесах и на море тут же бы отвернулись от Тывгуная. Постоянные стычки с русскими сделали их врагами, и никто из эвенков нигде и никогда не забывал об этом. Тывгунай решил, что самое лучшее сейчас для него — это немедленно заткнуть рты паломникам. Но так как сделать это невозможно, то нужно поскорее отправить их далее, даже если и воспротивятся шаманы ызык.
— Большое слово привез ты мне, но я не могу его принять, — сказал Тывгунай, — это может сделать только Золотая владетельница или ее служители — шаманы после большого камлания.
Он внимательно оглядел окрестности, прошелся взглядом по рядам ызык, напряженно ожидающим начала расправы с русскими, и, подойдя совсем близко к Мегефию, сказал напряженно, будто не своим голосом:
— Уходи немедля, если хочешь сохранить свою голову на плечах, уходи, смерть твоя рядом…
— Не грози мне, шаман, я не боюсь ни тебя, ни твоих ызык, и пусть я юн еще и мал ростом, но моя сила намного сильней твоей!
Тывгунай до того был поражен наглой заносчивостью мальчишки, что некоторое время изумленно глядел на него, не зная, что сказать, что предпринять, и вдруг давний страх перед чудесами, вроде бы давно забытый, неожиданно напомнил о себе. Он поежился, растерянно потоптался на месте и, стыдясь сам себя, трусливо подумал: «А вдруг этот бодливый олененок и вправду королевского рода и с детства научен управлять злом и разными колдовскими штуками?»
Мегефий тем временем выкрикнул что-то на совсем непонятном Тывгунаю языке, взмахнул раз и другой руками, и из этих рук полетели, радужно посверкивая, широкие голубые стрелы, заклубился иссиня-черный дым и во все стороны, разбрасывая тысячи зеркальных брызг, поплыло, переливаясь, голубовато-багровое зарево. И ызык, известные по всем северным землям непобедимые, бесстрашные воины ызык, хранители Золотой владетельницы, побросав луки, копья и ножи, позорно бежали от всполохов голубого огня. Долго не умолкал их отчаянный вой и судорожные выкрики…
Несмотря на решительный вид и твердую поступь Мегефия, можно было заметить, что и его «общение с духами» крайне утомило. И все же он сумел уже на ходу, проходя мимо невольно отшатнувшегося Тывгуная, крикнуть ему:
— Видел, видел силу мою?
Затем он, выхватив из-за пазухи две голубоватые каменные плитки, стукнул их одну о другую. Вновь взметнулись кверху и заплясали окрест клубы голубоватого дыма, и под их суматошное мерцание выбежавший навстречу Акинфий помог Мегефию со спутницами подняться на борт когга.
Сбросили пеньковую вервь, и ветер, тут же подхвативший кораблик, резко положил его на левый, потом на правый борт и, собравшись с силами, швырнул когг на пенный гребень набегающей волны.
Теперь на пустынном берегу, где, словно состязаясь, набирали силу песчаные вихри, стоял один-единственный человек — Тывгунай. Он смотрел вслед уходящему кораблю паломников, и на лице его все еще лежали тени недавнего страха, тени многих сомнений, которых он не мог ни объяснить, ни отогнать, ни изничтожить, и все это, как виделось Тывгунаю, будет преследовать теперь его до конца жизни.
А ведь были же и у него минуты и дни, когда он побеждал не только в сражениях с иноплеменными людьми, но и в длительных спорах с их шаманами и вождями. Особенно запомнилась Тывгунаю встреча в татарском улусе под русским городом Тобольском, где большой русский шаман Киприан собрал на совет вождей и шаманов всех дальних и ближних племен и селений.
Этот Киприан, присланный в югорские земли самим царем, говорил тогда удивительные слова: «Люди тундры и леса! Вот вы не любите русский народ, считаете его своим врагом, а почему? А потому, что живете среди постоянных войн, вечной зависти и погони за богатством и самое главное — без веры.
Вы скажете мне, что у вас есть свои деревянные и каменные идолы-боги, но они хоть раз помогли вам в чем-нибудь, дали вам хоть малое облегчение или заметное успокоение в душе? Нет, они не могут этого сделать, потому что в них не было и не могло быть ничего святого, они лишь безгласный камень и гниющее на глазах дерево. Я же несу вам вечную благодать самого большого и великого бога на небе и на земле, и светлое всемогущее имя этого бога — Иисус Христос!
Вы можете сейчас не поверить мне, и даже слова мои могут показаться вам обманными, но пройдет время — и вы убедитесь, что в этих словах только правда, без которой не может жить человек на земле, будь он русский, самоед или тунгус.
Православная вера Иисуса Христа — самая сильная и справедливая вера, примите ее, поверьте великому учению Иисуса Христа, и святость и благодать его осияют вас, наполнят души и сердца ваши светлой радостью и силой, и вы сможете с полным правом называть себя самыми справедливыми и честными людьми земли!»
Среди прочих своих достоинств Тывгунай отличался еще и редкой способностью запоминать слова собеседника и при случае без труда повторять их. Именно это он и проделал сейчас, хотя набирающий силу ветер бил и хлестал в лицо и говорить можно было только с большим трудом.
К этому времени когг паломников уже скрылся за пеленой водной пыли в бесновании вспененных волн. Тывгунай посмотрел в последний раз на море и, сутулясь, пошел вдоль побережья, твердо решив бросить на время все дела и заботы и обязательно встретиться с Киприаном, как бы далеко ни был тот от этих мест.
«Мне нужен, нужен этот человек! — на ходу упрямо повторял Тывгунай. — Пусть скажет мне в глаза еще раз: верно ли, что так велик, могущественен и справедлив его бог Христос. Скажет открыто, от всей своей души и без трусливой лжи сомнения в глазах, и тогда я поверю ему, поверю на всю жизнь!»
К этому времени ветер набрал уже такую силу, что порывам его не могли противостоять ни вросшие в песок деревья, ни россыпи источенных волнами камней. Линия прибоя, вскипая фонтанами ошалело мечущихся больших пенных брызг, словно собравшись на завоевание суши, уже наступала на скальные наслоения берега. Тывгунай, падая и перекатываясь по песку, кое-как шел, время от времени повторяя имя Киприана и кивая приветственно головой ему, будто бы и Киприан шел, спешил сейчас ему навстречу.
Эпилог
С того времени, о котором шла речь в нашем повествовании, минуло более ста лет. На земле многое изменилось: пришли и громко заявили о себе новые люди, ушли в небытие старые веяния и законы, и лишь одно осталось незыблемым — вечное стремление человека к поискам и открытиям неизведанных земель, будь то на суше или на бурунных путях вечного и великого моря. Теперь уже и российский флаг все чаще можно было увидеть на гафелях кораблей, прокладывающих курс в тех местах, которые не так давно именовались дикими, полными тайн и необъяснимых загадок.
В послепетровскую эпоху русские корабли выходили в океаны и пересекали границы далеких неизведанных морей. Как-то один из фрегатов, обогнув Таймырский полуостров, встал у его восточного берега, неподалеку от бухты, названной впоследствии бухтой Марии Прончищевой, для пополнения запасов пресной воды.
Моряки фрегата, занятые подготовкой ночных костров, не сразу заметили человека, неторопливо шагающего вдоль полосы прибоя. Когда он приблизился к кострам, то можно было видеть, что он давно уже в пути, устал изрядно и крайне обносился. Рваный, в заплатах суконный зипун, облезлая заячья шапка-ушанка, стоптанные лапти составляли его немудреный наряд. Длинная клочковатая борода и такие же усы не могли скрыть крайнюю изможденность его лица.
Остановившись у костров и отвесив общий поклон, он тут же вытащил из висевшей на груди кожаной сумки небольшой кипарисовый крест, обложенный по граням раковинами, и, сдернув с головы ушанку, запел.
Вернее, пением это можно было назвать только относительно. Он как бы вел неспешный, им же самим сочиненный рассказ, в котором отнюдь не жаловался на судьбу или дорожные трудности и не просил ничего для себя, кроме крепости духа и возможности вот так, с молитвой Господней и добрым здоровьем, продолжать свой путь.
Стоящий среди матросов один из офицеров фрегата со вниманием вслушивался в слова странника, но, видимо, так и не вникнув в их суть, недовольно морщась, спросил:
— Ты всегда так непонятно говоришь? Растолкуй-ка нам, кто ты есть, издалека ли сам и почему в одиночку бродишь по столь диким местам?
— Я есть монастырский человек обители Соловецкой Феоклист, звания паломника удостоенный для свершения забот богоугодных. В пути я почитай пятый год подряд. Так вот, с молитовкой, и шагаю, и летом, и зимой, без перерыву…
Вскоре этого удивительного паломника окружала уже вся команда фрегата во главе с капитаном. Тот, выслушав пришельца, удивленно оглядев его, спросил:
— Пятый год, говоришь, ты в пути? Это кто ж и зачем тебя на этот путь направил?
— Никто меня не направлял, а благословил в паломничество, покуда до воды великой океанской не дойду, сам святитель Тобольский — Киприан.
— Господи! Если так и было, то это же чуть не сотня лет прошла… — проговорил капитан. — Теперь такое странствие скорее на наказание похоже: одному такой путь! Ныне науки кругом в путь пошли — науки!
Паломник Феоклист, якобы соглашаясь, склонил голову, но, как показал последующий разговор, это был только жест вежливости.
— Науки — это хорошо, это тоже промысел Божий, — вежливо проговорил он, обращаясь к капитану, — но и взор толкового русского человека ох как много значит… Время пройдет, многое на земле изменится, но деяния и поучения таких людей, как святитель Киприан, долго еще звучать будут, призывая к добру и к свету, на землях православных. Не хотел я говорить, однако, думаю, сказать надобно: я вот в пути паломническом двух братьев и племянников потерял. Люди мы не военные, а пришлось и нам, да не единожды, с людьми иноплеменными да лихими, разбойными биться, а бились мы за веру православную, за то, чтоб ей дорога была далее и далее, аж до пределов океанских без помех всяческих!.. Вот и выходит, что слово Божье да благословение святителя Киприана нести сквозь бедования и горести людские и есть проявление высот души человеческой.
— Прости, отец, прости великодушно! — как-то непривычно спотыкаясь в речи, смущенно вымолвил капитан. — Прости и благослови нас, отче. Помолись за нас, а мы за тебя и путь твой дальний молиться будем.
…Закончив молитву, матросы и офицеры фрегата тут же обступили странника, стали предлагать ему корабельные сухари, сушеную оленину на дорогу, но тот, растроганно поблагодарив их, благословил, позвал приложиться к его скромному кресту и отправился далее.
Моряки долго смотрели ему вслед, пока затянувшееся молчание не нарушил капитан:
— Вот теперь посудите сами: сколько уже лет нет на земле Киприана, а слова его живут, люди их помнят, повторяют, в пример добрый приводят, значит, верно, наполнены они силой неизбывной, что всегда рядом с верой истинной живет.
— И всегда жить будет! — добавил один из старых матросов, поклонившись в ту сторону, где уже скрылась фигура странника.


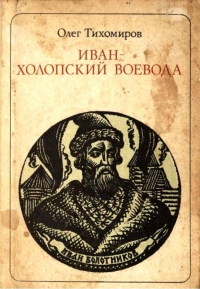

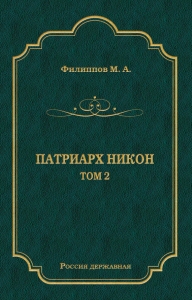

Комментарии к книге «Наследники Киприана», Виктор Петрович Рожков
Всего 0 комментариев